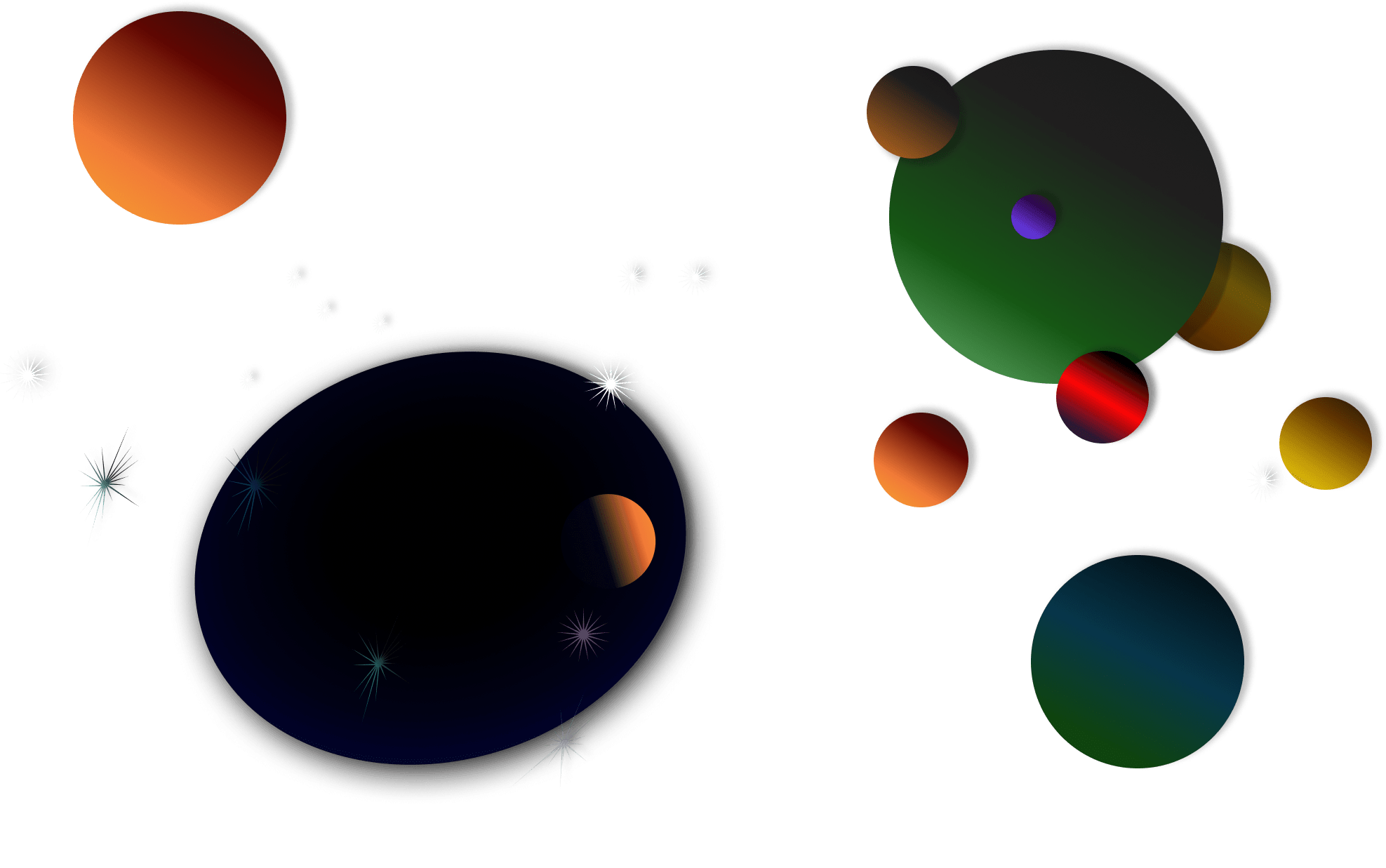Содержание

А. Мухин
Ч.А.Д.А.
– Aaa!!! O… Кха-кха!..
Мириады микроскопических игл пронзали его мышцы – каждое волоконце, каждое сухожилие. Малейшее движение причиняло обморочную боль. Пот струился рекой, подтекал под вялое тело, распластанное на полу. Сознание выключилось, как электрическая лампочка, освободив пространство черному ледяному вакууму: даже мысли доставляли физическое страдание.
Ho вот неукротимый смерч агонии начал понемногу стихать. Бредовая слабость и спокойствие растеклись по измученному организму. Но Энрике Хостеса это мало обнадеживало, ибо он знал, – долго ему все-равно не продержаться…
Новый штурм не заставил себя долго ждать. Томительная тяжесть пульсировала в пронизанных болью висках. Ломота в суставах сковывала движения. Глотание вызывало отвратительное жжение в обезвоженном рту.
Боль становилась невыносимой.
Опутанный слепящей пеленой страдания, Хостес напряженно соображал, – что же предпринять для собственного спасения. Инъекция! За пятьдесят миллиграммов он был готов отдать последнее, что у него оставалось, он был бы счастлив продать душу дьяволу, лишь бы заполучить заветную ампулу – крохотную стекляшку, явившуюся теперь пред ним в горячечном бреду Христом-Спасителем. Эта стекляшка – только она, и ничто больше – еще поборолась бы за его жизнь. Лишь посредством чуда спасительная ампула могла сейчас очутиться у него в руках. Хостес сознавал это, и ему ничего более не оставалось, как покориться судьбе.
Значит, он должен умереть. Ну что ж, неисповедимы… Умереть?! О, небо! В двадцать восемь лет! Но он не хотел, он еще так мало пожил… да что же это, он еще и не начинал жить вовсе! Что он видел в своей непутевой жизни, кроме грязных шприцев, окровавленных бинтов и наркотических кошмаров? Ничего!! Он не хотел умирать, он хотел жить, жить другой жизнью!..
Хоровод страшных, обжигающих мыслей пронесся в голове Хостеса, и среди них – самая чудовищная и невообразимая… Каков будет конец?
Память подсказывала, что он умрет не менее мучительной смертью, чем та, которая постигла Эльзу, всего неделю назад. И все та же память, познавшая скорбь, но не знавшая жалости, нарисовала Хостесу ее предсмертный портрет: длинные каштановые пряди, разметавшиеся по влажной от пота подушке, – поблекшие голубые глаза, глубоко запавшие и смотревшие с душераздирающей тоской и болью, – полуоткрытые запекшиеся губы, с которых, как последние капли высыхающего источника, слетали слабые, полные мук и страдания, стоны. Вытянувшееся, помертвевшее белое лицо Эльзы все еще стояло перед глазами Энрике Хостеса во всей своей устрашающей натуральности.
Бедная маленькая Эльза! Вина за ее смерть тяжелой печатью лежит на его совести. Те несчастные пятьдесят миллиграммов, которые он тогда не задумываясь скормил своей ненасытной крови, спасли бы ее, если не окончательно, то во всяком случае на ближайшие сутки.
Пятьдесят миллиграммов… Как мог он тогда так безрассудно поступить – отдать свою девушку в лапы смерти? Пятьдесят миллиграммов… И вот, та же история приключилась теперь и с ним. Почтальон всегда звонит дважды. Видно, бог отверг молитву, которую Хостес исступленно шептал на похоронах, когда гроб Эльзы медленно опускали в могилу – Бог не простил ему грех, который искупляется только лишь смертью. О, Боже, не ты ль учил нас прощать? О, Боже, где ж Твое милосердие?
Взрыв уничтожающей боли во всем теле разорвал цепь размышлений Хостеса. Он жалобно вскрикнул и судорожно скорчился на грязном полу в полумраке своей неприглядной, давно запущенной квартиры. Лоснящееся от пота, осунувшееся лицо с едва прикрытыми опухшими веками упиралось в пыльный ковер. Курчавые волосы цвета вороного крыла свалялись в бесформенную сальную массу. Когда-то крепко сложенная фигура лежала теперь, словно срубленное и иссохшее дерево. Летний защитный костюм, сохранившийся у Хостеса еще со Вьетнама, до нитки пропитался нездоровым липким потом.
Поток бесконтрольных, подгоняемых только болью, мыслей шумел по единственному руслу – жить оставались совсем немного. Если бы хоть одна ампула…
Наркоман с трудом разлепил веки. Сумеречные очертания скудного интерьера поплыли перед его глазами. Хостес напрягся, и его изможденное, пронизанное мелкой дрожью, тело с усилием приподнялось с полу. Ему удалось сделать пару шагов, но голову закружило, как посланный на орбиту спутник, и его начало рвать омерзительной смесью слюны, желчи и крови – желудок Хостеса пустовал уже около суток. Пол под ногами закачался, словно корабельная палуба, и с тяжелым стоном наркоман упал липом прямо в собственную кровавую рвотину.
В его голове грянула какофония немыслимых оглушающих звуков, перед расширенными глазами поплыли несусветные образы, напрочь лишенные логики и не поддающиеся описанию. Хостес уже ощущал себя наполовину мертвым. Закованный в лед панического страха, в предсмертной агонии его организм начал быстро сдавать. Отовсюду доносился страшный шум. Происходило что-то невероятные. Господи-Иисусе, неужели все так умирают? Хостес слышал не то человеческие, не то звериные вопли, визги, ржание, лязг железа, глухие удары, разрывание ткани, звон стекла, грохот камней, рев моторов… И через всю дьявольскую симфонию стержневым соло шла такая неистовая боль, какую Хостес никогда в жизни, даже во время плечевого ранения под Да-Нангом, не испытывал.
– Aaa!!! O… Kха-ха!..
Ему казалось, что в него впились сотня рук и тысяча зубов, разрывавших его на части, сто тысяч желтых горящих глаз пялились на него из темноты, и при этом безумный рев, визг и ржание не смолкали. Затем эти огни превратились в светящийся факел в форме буквы «ч». О, Боже, как не хотелось умирать! В расцвете сил! От «ч» отпочковался огненный отросток «а». Хостес ощущал вокруг себя беспрерывное хаотическое движение, но не видел в чернильном мраке ничего, кроме светящихся потусторонних образов. К двум первым буквам присоединилась «д», а затем еще одна «а». Четыре огненных глаза глядели из иглы на Хостеса: Ч А Д А.
Последние остатки рассудка быстро догорали тусклым пламенем в его исстрадавшемся мозгу, прекратившем наконец всякое сопротивление смерти…
Неожиданно все смолкло.
С немалой долей изумления и страха Хостес обнаружил себя твердо стоящим на каменном полу какого-то полутемного холла, не ярко освещенного настенными неоновыми трубками. В длину зал имел футов пятьдесят и в ширину – пятнадцать. Высокие боковые стены сумрачного коридора выложены большими квадратными плитами черного мрамора. Вся обстановка этого помещения дышала торжественностью и тайной. Хостесу стало на душе значительно легче, когда он вдруг приметил на стенах рекламные щиты с хорошо знакомыми эмблемами «Кока-колы», «Мальборо» и «Дженерал моторс». Значит, он не умер? Значит он вовсе не на том свете? Но, боже правый…
Удивление Хостеса росло.
Он находился в самом центре таинственного зала. Несмотря на отсутствие прямой угрозы Хостеса охватил страх. Сзади него из густой темноты вырисовывались очертания выхода. По-видимому эта была громоздкая, как в средневековом замке, резная дубовая дверь. Ничего не понимая, Хостес вновь уставился вперед.
В другом конце темного коридора он увидел весьма ярко освещенное откуда-то сверху не то застекленное бюро, не то кафедру. Позади этого сооружения из стекла и пластика крепилось световое табло:
ЧАСТНОЕ ЭКСКУРСИОННОЕ БЮРО «ПЕРГАТОРИ-ХАУС»
ВСЕ ВИДЫ ОСТРЫХ ОЩУЩЕНИЙ – К ВАШИМ УСЛУГАМ!
НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!
Прочтя это, Хостес даже не потрудился запомнить нижеследовавшие адрес и номера телефонов и факсов – вывеска ошеломила его до кончиков волос. Никогда раньше не приходилось ему слышать об экскурсионной конторе с таким эпатирующим названием[1].
Неуверенной поступью Хостес двинулся на свет. В застекленном боксе он видел движущуюся фигуру. Поборов страх, он делал шаг за шагом невзирая на неожиданную слабость в коленках. Хостес приблизился к полукруглому окошку в стекле, и у него отлегло от сердца.
За стеклом, в пневматическом кресле, вполоборота к посетителю сидела изящная девушка в форменном черном костюме. Хостес мог видеть только профиль с восхитительного личика с легким загаром, обрамленного невесомыми белокурыми завитушками, которые эффектно выбивались из-под шпилек, невидимых в бравурной фантазии парикмахера.
Девушка была всецело погружена в работу – перед ней располагались какие-то датчики, счетчики, клавиатура печатного устройства, экран дисплея, ряды кнопок, всюду валялись папки с подшитыми в них бумагами, и поэтому она абсолютно не обращала внимания на Хостеса, который неслышно подкрался слева к окошку для клиентов. Еще несколько секунд молодой человек с улыбкой наблюдал за движениями ее сосредоточенных, прелестных глаз, излучавших голубое сияние гордой и неприступной красоты, – смотрел на крохотный розовый кончик се язычка, прижатый жемчужными зубками – очевидный знак крайнего умственного напряжения у кокетливых пташек, – блуждал мечтательным взором по сладкой линии ее нежных губ и, наконец с неохотой произнес:
– Простите, мэм…
Девушка слегка вздрогнула, но затем, резко развернувшись в кресле, приветливо улыбнулась очередному клиенту.
Ужас перекосил лицо Хостеса, и он отшатнулся, словно от жала змеи.
Правая часть лица девушки была нещадно изуродована: три вспухших пунцовых рубца тянулись от виска через выдранный с мясом глаз и сходились в уголке рта, оттянутом к подбородку, что оставляло на обезображенном лице вечную печать безумной злобы. Влажный оскал жемчужных клыков блеснул в неоновом свете.
Хостес судорожно сглотнул слюну и во все глаза уставился в страшное лицо девушки-урода, которая казалась к тому же весьма шокированной взглядом молодого посетителя. Если сказать, что тот был разочарован, то это значит – не сказать ничего. Хостес в ту минуту почему-то подумал о луне, показывающей нам лишь одно полушарие, и никому не дано увидеть другое…
– Чем могу служить, сэр?
Физическое увечье, как порванные меха аккордеона, нещадно искажало высокий девичий голос. Девушка глядела на Хостеса, и в выражении левой половины ее одноокого лица бурлил целый коктейль из напускной приветливости, отчуждения, любопытства и уязвленного себялюбия. Правая же часть лишь нагнетала вызревавший в Хостесе страх.
– Я… – наконец с усилием прохрипел он.
– Что с вами, сэр? Неужели я вас напугала? Простите, сэр, по мне кажется, что если вы не разделяете новых веяний в моде, то совсем не обязательно разыгрывать дешевую сцену испуга. Это пошло и смешно! – и в ее голосе звенели нотки негодования.
– Я не понимаю…
– Разумеется, тройной рубец многие еще не воспринимают всерьез, но на самых престижных подиумах мира он уже завоевал первые места!
Девушка откинула голову назад; белокурая волна, прорвав плотину из шпилек, хлынула на ее изящные круглые плечи. «Будь я проклят, если она распорола лицо не для того, чтобы больше нравиться парням! Теперь она считает себя мисс Америкой! Она помешанная! Проклятье, где же я?!» – сбивчиво рассуждал Хостес, разглядывая окружающую его обстановку.
Только теперь, присмотревшись внимательней, увидел он свисавшие со стен гирлянды… из двенадцатиперстных кишок. В глубине прозрачного бокса, в каменной нише, в хрустальной ампуле пульсировало человеческое сердце, качавшее по гофрированным прозрачным трубкам черную жижу, ничем не похожую на кровь. Рядом с нишей, на деревянной полочке возвышалась круглая болванка с натянутым на нее свежим окровавленным скальпом, снаружи выскобленным бритвой до синевы. Блуждающий взгляд Хостеса остановился на красочной обложке «Плейбоя», бой! Во Вьетнаме во время коротких передышек между артобстрелами он был для Хостеса чуть ли ни единственным утешителем, наряду с местной водкой, марихуаной и картами… На обложке красовалась гибкая стройная девица со взлохмаченной ядовито-зеленой прической и большими манящими глазами, подведенными в тон волосам. У нее были аппетитные выпуклые бедра, впавший смуглый живот с улыбчатой ямкой пупка, словно готовые лопнуть воздушные шарики упругие налитые груди, карамельное глазастое личико, обещающее горячую усладу и… о, Господи! у этой милашки был напрочь отрезан нос! Тонкая паутинка шрамов белой снежинкой упала на кофейного цвета кожу, на то самое место, где у нормального человека по идее должен быть нос, а не два продолговатых розовых отверстия!
Хостеса мутило. Он не знал, куда спрятать глаза, чтобы не наткнуться на что-нибудь мерзкое, отвратительное.
Изрубцованная девушка, смотревшая своим единственным глазом с интересом и недоверием на посетителя, снова подала голос, выражавший на этот раз нарочитую сдержанность.
– Так что же вы хотели в нашем бюро, сэр?
– Но я, видите ли…
– К несчастью, посещение Акаддамы невозможно, сэр, – нетерпеливо прервала Хостеса девушка-урод. – Эта линия по техническим причинам не функционирует. Увы, и замок графа Дракулы закрыт на реставрацию. Наша фирма приносит вам свои извинения, сэр…
– Но я, видите лин…
– Простите, мисс… – решительно вклинился Хостес, глядя на фотовизитку, пришпиленную к правому лацкану ее воротничка, – …мисс Хейт, но я не могу понять того, что вы мне тут говорите. Я сам из Сакраменто…
– А, Сакраменто! – оживилась мисс Хейт, и улыбка на ее лице разделилась на проявления искренней отрадности и неисчерпаемой злобы. – Ведь это в Калифорнии, не так ли?.. Кстати, вы можете звать меня просто Грэйс.
– Очень приятно, – выдавил Хостес, а про себя подумал: «Черт побери, где же еще быть Сакраменто, как не в Калифорнии?!»
– Должно быть, вы баптист, как большинство нынешних американцев? Вы знаете, все баптисты, которых я оформляла, почему-то горели желанием побывать в Вальхалле, у древних скандинавов. Но тут я снова должна вас огорчить. – Тон ее голоса изменился, – последние двенадцать мест в Вальхаллу заняты туристической группой из Окленда, которая прибудет с минуты на минуту.
– О, дьявол, какая Вальхалла?! Я ни черта не понимаю! – завопил незадачливый посетитель, начинающий догадываться, что с ним затеяли какую-то дурацкую игру. – Я из Сакраменто! Меня зовут Энрике Хостес!..
– Так вы мексиканец, испанская кровь! – воскликнула Грэйс Хейт и оглядела клиента с ног до головы. – Как же я сразу не догадалась?.. Впрочем, наконец-то вы соизволили представиться, пусть и в несколько грубоватой форме, – с досадой заметила девушка-урод. – Вне всякого сомнения, вы католик. Вы верите в преисподнюю? Если да, то вам подойдет только одно. У нас еще осталось несколько свободных мест в Четвертом Астральном Департаменте Ада.
– Что-о-о?! – заорал мексиканец, выпучив глаза.
Девушка в испуге отпрянула.
– Послушайте, мистер Хостес, я вас что-то не понимаю. Вам невозможно угодить. Я выбрала для вас наилучшее из того, что пока еще свободно. В отличие от вышеназванных департаментов, Ч.А.Д.А. - универсальная астральная система свободных ассоциаций из вашего личного жизненного опыта. Если в Акелдаме или, скажем, в Вальхалле навязывается конкретная историческая эпоха и атмосфера того времени, то в Ч.А.Д.А. все зависит только от вашей фантазни, воображения и опыта, накопленного вами за прожитые годы. Поверьте мне, мистер Хостес, там вас ждут самые острые, самые невероятные приключения, которые запомнятся вам на всю жизнь, хотя экскурсия длится всего шесть часов.
Она ласково, если можно так выразиться, улыбнулась Хостесу и затем проворно защелкала пальцами по клавиатуре компьютера. Мексиканец непонимающими взглядами следил за ее манипуляциями.
– С вас четыреста семьдесят пять долларов, мистер Хостес, – выдохнула наконец Грэйс Хейт.
И в этот миг Хостес вдруг просиял, – возник шанс избавиться от приставаний этой сумасшедшей.
– Но у меня нет денег! – радостно воскликнул он, сунув руку в карман. – Всего доброго, мисс Хейт!..
И ему пришлось в смятении заглохнуть. В его руке шуршали благополучно извлеченные из кармана пять новеньких стодолларовых билетов.
– А вы шутник, мистер Хостес, – криво улыбнулась Грэйс Хейт своей страшной улыбкой. – Зачем, спрашивается, вы бы пришли сюда без денег?
Это ее последнее замечание окончательно пригвоздило Хостеса, беззвучно раскрывавшего рот, как выброшенная на берег рыба. Шальным взглядом смотрел он на деньги, как если бы они материализовались из воздуха. Вот и настал тот час, когда его терпение иссякло. Глупая комедия явно затянулась. В жилах мексиканца журчала не вода, да и парень он был с детства не промах. Хостеса переполнял гнев. Его лицо сделалось почти таким же страшным, как и у его собеседницы.
«Вот так придурок! – размышляла тем временем Грэйс Хейт, с беспокойством поглядывая на клиента. – Интересно, какие номера он мог бы отколоть в постели?»
– Что все это значит?! – крикнул вдруг Хостес грудным басом и, как тигр в клетке, кинулся вплотную к стеклу отделявшему его от рубцованного лица.
Смуглая физиономия Хостеса побагровела, а выпученные глаза негодующе впились в перепугавшуюся Грэйс Хейт, в первый миг пронзительно вскрикнувшую.
– Объясните мне, мать вашу, куда я попал!!! – орал Хостес, сотрясая ладонями стекло, но дрожащая и всхлипывающая Грэйс Хейт внезапно ткнула пальцем в черную кнопку на приборном пульте и одновременно выхватила из рук Хостеса через окошко деньги.
– Убирайся скорее в свою преисподнюю, сукин псих! – плаксиво крикнула ему вслед девушка-урод.
Хостес очнулся от пронзительной жгучей боли в левом глазу. Первым, что пришло ему в голову, было воспоминание об одной газетной заметке, в которой говорилось о последствиях длительного абстинентного синдрома, наркотического «голода»: обмороках, умопомрачительных галлюцинациях и смертельных исходах. Восхитившись своею живучестью, Хостес приоткрыл глаза (боль в левом не угасала), намереваясь встать, позвать Эльзу и намекнуть ей о чашечке кофе. Стоп! Но ведь Эльза… Да, Хостес не первый раз за эту неделю приходил в сознание после очередной «отключки» с привычной мыслью о своей девушке. Он до сих пор не мог поверить в то, что ее больше не существует…
Открыв глаза, Хостес был уже готов смириться с очередным «осмыслением» ее кончины, но, рассчитывая увидеть, по крайней мере, знакомую обстановку своей квартиры, он вдруг уперся взглядом в огромного черного ворона, устроившегося на его груди и собиравшегося было снова клюнуть левый глаз своей бездыханной жертвы. Хостес готов был увидеть все, что угодно, но только не это. Вскрикнув от неожиданности, он вскочил на ноги, и страшная птица взмыла ввысь, напоследок хлопнув его по щеке черным крылом. «Дева Мария, куда меня занесло?!» – прошептал мексиканец, изумленно озираясь по сторонам.
Он стоял на мощеной булыжником мокрой дороге, которая от влаги блестела в ночи лунным глянцем. Бледное сияние ночного светила брезжило сквозь густой туман испарений; сизая муть поднималась ввысь из черного леса мертвых низкорослых деревьев. Эти уродливые пигмеи, словно молчаливые стражники, с обеих сторон обступали лунную дорогу, и далекий, обезумевший от тоски по свободе и раздолью ветер зловеще завывал в черной паутине их корявых ветвей.
Хостесу стало не по себе от пришедшей ему на ум догадки: накачавшись крэком или, как говорят в Калифорнии, – «белой молнией», он утащился за пределы города, к черту на рога, где вокруг только лес и ни единой души. Такое случилось с ним впервые. Он начал напряженно обдумывать план выхода из этой ужасной ситуации, но ничего пока не приходило в голову. Потом он вдруг решил, что не худо было бы вспомнить, какое положение занимало его тело, когда он очнулся, – чтобы точно определить, в каком направлении он до этого шел и затем пойти в обратном. Но ведь он, Хостес, в дурмане мог петлять из стороны в сторону и рухнуть в совершенно произвольной позе. Ничего не оставалось делать, как идти вперед, куда глаза глядят – во всяком случае, был шанс набрести на чье-нибудь жилье, благо, что у задуревшего Хостеса не хватило бы сил углубиться далеко от города.
Хостес в темпе зашагал по каменистой дороге, подгоняемый ночной прохладой и страхом неизвестности. В воздухе улавливался запах сырости и гнили. Хостес вспомнил, – точно такой же запах витал над кладбищем, когда хоронили Эльзу. Его Эльзу. Боже, еще неделю назад она весело смеялась, покуривая «Кэмел» мелкими затяжками, пуская короткие струйки дыма, и игриво поглядывая на своего парня. Всего неделю назад! Сердце Хостеса сжалось в тоске…
Потом он вспомнил недавний кошмар, порождение «белой молнии», и вновь увидел вызывающее мурашки лицо мисс Хейт, гирлянды кишечника, обложку «Плейбоя», вновь услышал невнятные слова об экскурсии в ад… В ту минуту Хостес не придал этим видениям большого значения, расценив их как новое пополнение и без того богатой коллекции виденных им «глюков», – и целиком переключился в мыслях на текущий момент.
Ухабистая дорога изнуряла его. Мексиканец легкомысленно полагал, что на Земле уже давно заасфальтирован последний квадратный метр. Подступавший нескончаемый лес со временем стал давить на покалеченную наркотиками психику. Предполагаемый конец пути терялся где-то во мраке. Сочившиеся снизу испарения застилали глаза. Лишь бледно-размытое в тумане пятно луны над головой как могло освещало путь. Прошло около получаса, когда Хостес, задыхавшийся в тяжелом влажном воздухе, наконец догадался взглянуть на свои кварцевые часы, показывавшие двадцать минут первого.
Неожиданно ему привиделось, будто из тумана медленно проявился, как фотоизображение, темный силуэт, похожий на человеческий… Точно, – человек в черном монашеском балахоне; одеяние целиком скрывало невысокую фигуру. Под большим черным, как и ряса, капюшоном лица не было видно. Сразу и не определишь: мужчина это или женщина. Таинственная фигура двигалась навстречу. Сперва Хостесу стало как-то не по себе – ведь не каждую ночь оказываешься в лесу, да еще и, как выясняется, не в одиночестве, – но, рассмотрев по-подробнее шедшее ему навстречу существо, Хостес осмелился надеяться на свое физическое превосходство перед возможным противником. Мало того, он даже решился первым завязать знакомство.
– Эй! – крикнул он страннику, но голос предательски «пустил петуха»; фигура продолжала двигаться прямо на него, словно и не слыша оклика. Хостес почувствовал, как у него затряслись поджилки.
– Остановись же! – придав голосу несуществующей уверенности, снова воззвал он к человеку-призраку, который ни на йоту не изменил свою будто закодированную траекторию.
В глазах Хостеса уже читался страх.
Фигура находилась почти совсем рядом. Можно было даже разглядеть доселе скрытое лицо, оказавшееся женским, – лицо молодой, довольно приятной, но чрезвычайно печальной женщины. Ее веки и уголки маленького рта были скорбно опущены. Впавшие щеки имели землистый оттенок.
– Простите, мэм, далеко ли отсюда до города? – как можно непринужденнее промямлил Хостес.
Слова наконец возымели действие. Молодая женщина внезапно вскинула голову и взглянула прямо в лицо вопрошавшего. Боже, до чего знакомыми, скорее даже, близкими показались Хостесу эти глаза! И тут он помертвел – о, нет… не может быть! Эльза?! Кошмарный ли это сон или фантастическая быль, но в первую минуту в его голове закружились иные мысли, – мысли о своей вине перед девушкой. Ему хотелось провалиться на месте. На задворках своего подсознания он хотел себя убедить, что это всего лишь дурной сон, потому что если б это была реальность… «Мама мия, я должен тотчас проснуться!» – в трансе прошептал он онемевшими губами.
Но чуда-пробуждения не произошло.
Эльза смотрела невидящими, страдальческими голубыми глазами как бы сквозь Хостеса, слово они, Хостес и Эльза, две неразрывные половинки одного сердца, находясь в одной точке пространства, в то же время принадлежали разным астральным мирам, и никакая сила не способна их соединить.
Видение воскресшей возлюбленной было мучительно для Хостеса. Угасшая голубизна ланьих глаз и полупрозрачная бледность безжизненного лица – все эти, хотя и увядшие, но бесконечно дорогие черты будоражили, дразнили, вырывали из могилы страсть Энрике Хостеса, которую он похоронил в себе с памятью о коротком счастье. Энрике дрожал всем телом, глядя на девушку, сжимая себе горло, чтоб не разрыдаться.
– Эльза!!!
О, чудо! По лицу Эльзы прошла лучистая волна озарения. В ее глазах, узревших Энрике, родился первозданный исполненный страстью блеск. Печальная трогательная улыбка расцвела на ее бескровных губах, ставших затем живыми и чувственными. На бледных щеках пробился слабый румянец.
Ее внезапное волнение перекинулось и на Хостеса.
Окутанные зыбким туманом, две человеческие фигуры, мужская и женская, застыли друг перед другом посреди бесконечной дороги, которую с обеих сторон обступал непроходимый лес, царство тьмы и холодного страха. И лишь пугающая своим равнодушием, как лик самой смерти, мертвенно-бледная луна высоко в черном небе скупо разбавляла лживым светом сгустившийся над влюбленными мрак.
– Энрике!
– Эльза!
Они бросились друг другу в объятия. Хостес ощущал в своих дрожащих от волнения руках легкую, хрупкую фигурку любимой девушки. В его душе чувство внезапного счастья соседствовало со страхом перед сверхъестественным.
– Эльза… Бедная моя маленькая Эльза… Боже мой, я ведь думал что ты…
– Дорогой мой, смерти не существует. – Прервала его Эльза горячим шепотом. – Теперь ты сам в этом убедился.
– О, Эльза, я всегда любил тебя… да что там: я тебя боготворил! – Из уст Хостеса, страстно целовавших мягкие, порозовевшие губы Эльзы, хлынул поток восторженных, но неискренних и бессмысленных признаний. – Я наслаждался тобой и желал тебе всяческих благ….
– Благими намерениями выстлана дорога в ад. – Эльза перекрыла кран бессвязному лицемерию.
Хостес в страхе заглох и вопрошающе уставился в холодные ясные глаза девушки. Очнувшись от мимолетного смятения, он нетерпеливым жестом откинул капюшон с ее головы и прижал Эльзу к своей груди. Его ладонь ласково перебирала шелковистые каштановые волосы девушки.
– Бедная моя маленькая Эльза, – успокаивающе шептал он горячими губами, утопавшими в се волнистых локонах, – никогда я не прощу себе те пятьдесят миллиграммов… Ведь тогда они были тебе нужнее, чем мне.
– Надеюсь, полста капель пошли тебе на пользу, амиго?
Ее голос резко изменился – Хостес это отчетливо почувствовал.
Он прямо взглянул в лицо Эльзы, но его оцепеневший взор провалился в пустые черные глазницы черепа, тусклого и шершавого, со следами сухожилий, ободранной кожи и запекшейся крови. Безобразные костяные челюсти с кривыми желтыми зубами разомкнулись, и оттуда донесся хриплый, сдавленный голос:
– Что, Энрике? Такой я тебе уже не нравлюсь?
В пароксизме ужаса он смог лишь испустить из пересохшего горла звук, похожий на блеяние овцы. Хостес пытался вырваться, но костлявые фаланги пальцев впились мертвой хваткой в его плечи.
– Конечно, былая красота оставила дурной отпечаток на моей внешности, – и Эльза засмеялась; волнистые локоны, обрамлявшие ее истлевший череп, мелко затряслись, – но когда ты, мексиканский ублюдок, посадил меня на иглу, ты подумал тогда о моей красоте, физической и душевной? Вонючая сволочь, ты методично убивал меня в течение полутора лет и в итоге – таки добился своего!! – хриплый голос покойницы сорвался на пронзительный визг.
К перекошенному лицу Хостеса приближались черные, крошащиеся по краям глазницы. Вмятая носовая трещина и кровавый частокол гнилых зубов были уже в нескольких дюймах от глаз Хостеса, пропитанных страхом. В темных глазницах черепа несчастный прочел мрачное послание неукротимой ненависти.
Внезапно из обеих глазниц вырвались, словно скользкие щупальца, – две шипящие змеи. Их разинутые острозубые пасти дышали яростью. Маленькие глаза-бусинки горели в темноте злобными зелеными огнями.
Взвыв от неописуемого страха, Хостес с размаху ударил по Эльзиному черепу; раздался хруст. После короткой борьбы ему удалось отшвырнуть чудовище – волнистый каштановый парик остался в бессознательно сжатой руке. С нервной брезгливостью, будто это была дохлая крыса, Хостес отшвырнул его прочь.
И тут обе змеи выскочили из проломленного черепа и обернулись парой огромных летучих мышей с получеловеческими, полукозлиными головами.
Хостес не верил своим глазам. Не успел он раскрыть рот, как летучие монстры кинулись на него. С безумным воплем бросился он бежать. Неотступные взмахи черных крыльев над головой лишали его рассудка. «Пресвятая дева, Мария, помоги! Куда бежать?»
И, словно в ответ на мольбу, неожиданная идея осенила Хостеса. Единственный шанс – это лес. Чаща выглядела достаточно густой, чтобы скрыть беглеца от страшенных крылатых фурий, круживших над его головой.
Хостес резко свернул с дороги. Захлебываясь дыханием, он не разбирая пути летел сквозь лабиринт сухих колючих ветвей, хлеставших его по лицу; его ноги запинались о поваленные стволы, деревьев; он падал, получая ссадины и ушибы, и размазывал по лицу кровь вперемешку с грязью, но обострившаяся в нем жажда жизни была неистребима.
Хостес сбавил темп, поскольку до его слуха больше не доносилось звуков хлопающих в воздухе крыльев. Небо представляло собой сплошную чернь, пронзенную единственной звездой, которая отливала то голубым, то розовым сиянием. Хостес не знал, что та звезда называлась Алголь, олицетворение зла…
Хостес запнулся и по инерции перелетел через что-то большое, холодное и скользкое. Целый рой жужжащих мух поднялся в воздух. В лунном свете беглец разглядел препятствие. В сухом буреломе валялся полуобглоданный разлагающийся труп лошади. В блестящих при луне и склизких потрохах копошилось не меньше тысячи мясных червей. В воздухе витали тошнотворные миазмы трупной гнили. Хостес отошел в сторону. Вопреки обуревавшему его голоду его жестоко вырвало.
Обессилевший беглец заставил себя еще раз взглянуть на отвратное зрелище. Лошадиная туша была почти целиком опутана длинными ветвями. Острые кривые сучья прошили брюхо и голову животного. Стволы близрастущих деревьев согнуты над трупом, и большие и малые ветви обвиты вокруг шеи и конечностей лошади. У кого могло хватить фантазии на такую изощренную жестокую шутку, от которой веяло натуральным безумием ее автора? Может быть, это дело рук летающих демонов, что преследовали его до самого леса?..
Потрясенный, Хостес поспешил скорее убраться по- дальше от места кровавой расправы.
Тягостные переживания наполняли его; он просто не находил в себе сил осмыслить все происходящее. Привычный каждодневный быт вывернулся наизнанку, превратился в леденящую кровь фантасмагорию, конца которой не предвиделось. Алисе в ее Зазеркалье и не снилось ничего подобного. Клубящаяся адским безумием псевдореальность, в которую он каким-то образом попал, способна соперничать с самым страшным, самым немыслимым кошмаром, который только мог ему привидеться в горячечной дремоте.
Хостес вымученно сморщил лоб, пытаясь вспомнить, как он тут очутился. Что было до этого? Что? А, вот… кажется… Да. Вытянутый, затемненный зал с черными мраморными стенами… тусклый янтарный свет с невидимого потолка… в конце зала – неоновая вывеска: «Частное экскурсионное бюро „Прегатори-Хаус“. Все виды острых ощущений – к Вашим услугам! Не упустите свой шанс!» Так… а что дальше? Исковерканное рубцами одноглазое лицо красавицы Грэйс Хейт… Проклятье, неужели все это происходило наяву?! То страшилище, кажется, что-то говорило про экскурсию в ад… «Минуту, как я тогда это воспринял? – прервал Хостес свои собственные размышления; он был хотя и прилежным христианином, но в ад верил в границах разумного, – безусловно не поверил! Тогда я еще подумал, что в „Пергатори-Хаус“ собрались одни предприимчивые шарлатаны, которые вытягивают деньги из кошельков доверчивых калифорнийцев…» Пять стодолларовых банкнот… из пустого кармана! Хостес искривился, словно раскусил перчинку, и потер пальцами виски. Последние события напоминали ему истории, которые он слышал в детстве (когда еще жил с матерью в Росарито, в Мексике) в канун Дня Всех Святых. Путешествие в преисподнюю – невероятно! Хотя и звучит заманчиво… но лучше наблюдать со стороны. «Проклятье! Я никого не просил засылать меня в ад!..» – Хостес в ярости закусил губу, – «Стоп! Какой к чертям ад?! Будь я самим Папой Римским, я бы еще подумал – верить ли мне в эту галиматью! Скорее, весь этот гнусный фарс – новый вид индустрии развлечений, какой-нибудь голограммный павильон, в котором за определенную плату можно развлекаться в течение… Да, именно так: шестичасовая экскурсия в преисподнюю… Проклятье!»
Хостес автоматически взглянул на часы. Стрелки показывали половину второго ночи. Несчастный путник вспомнил, – когда он впервые потрудился определить время, было двадцать минут первого, а очнулся он приблизительно полтора часа ранее. Значит, он оказался здесь в полночь или около того, и выберется отсюда не раньше шести утра. Впереди – четыре с половиной часа безумия, четыре с половиной часа «острых ощущений». С легкой руки неведомых ему хозяев «Пергатори-Хаус»…
Вдруг Хостес услышал хруст ветвей, и его нутро похолодело. Что опять за новости?..
Сквозь бурелом к нему продвигалось грузное лохматое животное размером примерно с медведя. Животное двигалось на двух задних лапах, передними очищая себе дорогу. Когда тварь наполовину вылезла из кустов и предстала перед глазами Хостеса, то оказалась, вроде бы, самым настоящим медведем, только выглядел он не на шутку странно, если не дико: его покрывала тускло-зеленая шерсть и глаза у него были большие, как блюдца, и желтые. Словно фары, рассекали они тьму золотистыми лучами.
Ну, как вам это нравится, спрашивал себя Хостес, между тем побелевший, как полотно. Он медленно прикрыл рот ладонью, сдерживая крик. Как канатоходец, потерявший равновесие, Энрике балансировал над пропастью безумия.
К нему пробирался – он это уяснил в первое же мгновение – не кто иной, как Хуанито, в детстве его самый любимый плюшевый медведь, подаренный матушкой, когда Энрике исполнилось десять лет. Сейчас Энрике и сам не знал, что больше привлекало его в этой несуразной игрушке: несусветная зеленая расцветка медвежьей шерсти или бестолковая лупоглазая мордашка, – но тогда, в то далекое время, мальчику он так понравился, что сразу получил от него такое ласковое прозвище. Почти год мальчуган не расставался с любимой игрушкой, души не чаял в мишке, но как-то раз…
– Привет, Энрике! – проревел Хуанито, останавливаясь в нескольких ярдах от своего бывшего хозяина, значительно возмужавшего за многие годы.
При свете луны Хостес мог в деталях рассмотреть верхнюю часть неуклюжей фигуры медведя, возвышавшуюся над дикими зарослями. Левый бок существа был освещен наиболее ярко; зеленая шерсть – грязная, свалявшаяся, с налипшими на нее жухлыми листьями и кусками засохшей глины – своим видом оскорбляла взор. Массивные лапы Хуанито устремлялись к Хостесу, словно медведь хотел его обнять. Взгляд неестественных глаз-фар метался, рассекая тьму: Хуанито вертел головой из стороны в сторону, будто силился отвязаться от назойливой мухи. Два длинных золотистых луча, параллельно источавшихся из его глаз, вертелись в сумасшедшем твисте, как включенные фары кружащегося на льду автомобиля, который ночью на полной скорости ворвался на городской каток… Безумные вращения головой не прекращались.
В страхе следя за метавшимися в темноте огнями, Хостес ждал любого поворота событий.
– Здравствуй, Хуанито, – пробормотал он наконец.
Не успел он произнести эти слова, как желтые огни резко остановили свой танец – фары глядели Хостесу в глаза.
Несчастный скиталец съежился. Ему очень не хотелось верить в то, что с ним здесь происходило. Его мысли самопроизвольно возвращались к растерзанной лошади. Хостес невольно попытался представить себе того, кому могло прийти в голову проделать тот варварский трюк, притянув вдобавок ближайшие ветви и опутав ими распоротую тушу. Взгляд Хостеса как бы невзначай остановился на тяжеловесных передних лапах Хуанито, и мексиканец ощутил на своем лбу холодные бусинки пота; он пожалел о том, что посмел взглянуть на когти фантастического чудовища. Все становилось яснее ясного. Безобразная, пошлая игрушка, вырванная из далекого детства и по воле дьявола выросшая до натуральных размеров, теперь, в этой слепящей ночной мгле, с вызовом и жестокостью в горящих глазах преграждала Хостесу путь.
– Столько лет не виделись, верно? – снова прозвучал из мрака чудной, игрушечный голос.
– Еще бы…
Хостес видел себя в палате для буйнопомешанных, разговаривающим с собственной галлюцинацией.
– Я помню, ты был хорошим парнишкой, Энрике, – продолжал Хуанито, тяжело хрипя и шумно ворочаясь в зарослях; его громадная фигура с горящими, как прожекторы, глазами внушала ужас своею гиперболической противоестественностью. – Ты ведь тогда меня шибко любил, заботился обо мне. Ты всю ночь не мог уснуть, если не брал меня к себе в постель. Ты так забавно кормил меня завтраком – своею похлебкой из чили…
Хуанито смолк так неожиданно, что Хостес почуял неладное. Он с тревогой вглядывался в бестолково-тупую лупоглазую морду медведя, тщетно пытаясь проникнуть в глубины неведомой ему потусторонней субстанции.
Тем временем подул проснувшийся в зарослях ветер, тоскливо взвывший где-то поблизости. Голые ветви величественно зашумели – весь лес пришел в движение под грозными порывами. Хостес тотчас подумал, что в этом было что-то не то.
– Что же ты замолчал, Хуанито? – в голосе Энрике прослеживалась дрожь назревавшего страха.
– Как-то раз, – вновь заговорил медведь, – ты захотел узнать, что у меня внутри…
Яростный порыв пронизывающего ветра приглушил его слова и чуть не сбил Хостеса с ног. Сухие листья закружились над головой мексиканца в диком языческом хороводе.
– Тебе, Энрике, захотелось выяснить, – повысив голос, продолжал Хуанито, – сделан ли я из плоти и крови или набит тряпичными обрезками, как утверждала твоя почтенная матушка…
Хостес медленно раскрыл рот и помертвел от ужаса.
– К чему ты клонишь, мерзкая груда рыбьего меха?! – беспомощно выкрикнул он, прекрасно понимая к чему Хуанито подводил беседу.
Мексиканец начал дрожать, как осиновый лист, неумело пряча свой страх под напускным негодованием и грубостью.
Взбесившийся ураганный ветер подхватил в воздух целую кучу прошлогодней листвы и мелкого хвороста. Деревья гнулись под свирепыми порывами. Тесно переплетенные между собой ветви бессильно трепетали, отданные на произвол разнуздавшейся воздушной стихии; они раскачивались во все стороны и стлались по земле, словно молили о пощаде. Хостес задыхался и едва удерживался на ногах под яростным натиском ветра.
– Разве ты теперь уже не испытываешь желания узнать, что же у меня внутри? – ревел Хуанито, силясь перекричать стон ветра и поднимаясь на задних лапах во весь свой гигантский рост. – Может статься, я действительно фарширован тряпьем, как рождественская индейка – яблоками?
Под аккомпанемент леденящих душу стенаний урагана длинные корявые ветви принялись ловко обвивать лапы и туловище Хуанито. Острые сучья безжалостно впивались в зверя, ревевшего от боли. Окружавшие его деревья алчно склоняли над ним свои ветви-щупальца; кривые шершавые стволы изгибались теперь на любой лад, словно исполняли фигуры ритуального танца. Глядя на это светопреставление, Хостес будто врос ногами в землю.
– Так что же у меня внутри – ты случайно не знаешь, дружок? – надрывался Хуанито, истекая кровью.
Осатаневшие деревья сдирали с него шкуру. Бестолковая плюшевая морда медведя оставалась при этом непроницаемой, словно бы толстые сучья и не разрывали Хуанито на части. Исступленный медвежий рев (единственное внешнее проявление страдания Хуанито), – пронзительное завывание ветра, – щекочущий нервы хруст костей и сухожилий, – хлесткий свист гибких, как кнуты, ветвей, рассекавших воздух, – извивающиеся во мраке, словно гигантские земляные черви, узловатые стволы деревьев – слыша и видя весь этот кошмар. Хостес на пределе голосовых связок закричал, зажмурив глаза и зажав ладонями уши. Ему хотелось исчезнуть, умереть, распылится в пространстве – что угодно, только бы покинуть эту кровавую обитель безумия.
Огромная крючкообразная ветка сразмаху вцепилась Хуанито в горло, и из распоротой артерии выхлестнулась дымящаяся в ночной прохладе кровь. Протяжный вой медведя сорвался на сдавленное харканье. Через пару секунд зеленая медвежья голова подскочила в воздухе, как футбольный мяч, и упала к ногам трясущегося всем телом Хостеса. Из разомкнувшейся звериной пасти вылилось немного крови, затем послышался голос:
– Видать, не права была твоя милая матушка… А ты знаешь, дружок, мне просто не передать всего того, что я испытываю при виде собственных потрохов…
Медвежья голова улыбнулась, а между тем выпотрошенная и обезглавленная туша, из горла которой бил кровавый фонтан, стала не спеша приближаться к Хостесу, сломив атаку взбесившихся деревьев, увешанных, как рождественские елки, кусками мяса, шкуры и увитых серпантином медвежьего кишечника. Потенциальная жертва попятилась назад.
– Слушай-ка, Энрике, – вновь заговорила оторванная голова, – а из чего сделан ты? Из опилок, тряпичных лоскутьев или из плоти и крови? Давай посмотрим?
У Хостеса потемнело в глазах. Он смутно различал потянувшиеся к нему со всех сторон длинные, страшные ветви. Тонкий гибкий сучок молодого деревца нечаянно коснулся его правой руки. Хостес вскрикнул и бросился бежать. Остервеневшие ветки хватали его за ноги, рвали на нем одежду, царапали кожу, но он все бежал и бежал, не оглядываясь назад и не сбавляя скорости.
– Куда же ты, Энрике? – услышал он уже издалека насмешливый, игрушечный голос растерзанного в клочья Хуанито. – Подожди, дружок, когда-нибудь ты поймешь: страдание – есть истинное наслаждение!
Не чуя под собой ног, Хостес рвался сквозь ветвистый бурелом, как затравленная псами лисица. В уголках его рта скопилась белая пена; он задыхался.
Лес перед ним начал постепенно расступаться, и вскоре беглец с неуверенной радостью различил впереди слабый просвет.
Не прошло и пяти минут, как Хостес смог удостовериться в том, что то было не мираж: перед ним простиралась широкая и ровная асфальтированная трасса. Автобан разрезал надвое лесистую местность, выступавшую черными пятнами в мглисто-серых красках ночи. Несмотря на темень Хостесу удалось с удовлетворением отметить, что лес поредел, это открытие заронило в него слабую надежду встретить на пути чье-нибудь жилье или, что наиболее желательно, – в ближайшее время добраться до города. Мексиканец в своем упрямстве не желал отступаться от своего убеждения, что все происходящее с ним – лишь результат работы галографической техники «Пергатори-Хаус». Когда-то он читал о чем-то подобном в одном научном журнале.
Как и в прошлый раз, Хостес оказался перед дилеммой: в какую сторону держать курс. Оба направления автострады терялись в сумеречных безлюдных перелесках и рощицах, – ничто не предвещало близости человека. Как и прежде, Хостес положился на милость судьбы и направился наобум, прямо по шоссе. С неудовольствием и беспокойством он заметил, что местность была абсолютно незнакомой. Этот лес и прямая, как линейка, дорога вряд ли могли находится где-то в окрестностях Сакраменто. Да и сам ландшафт не казался типичным для пустынного и холмистого калифорнийского побережья. Такие равнинные чащобы больше подходят центральным или восточным штатам. Правда, даже в тех лесах очень мало шансов повстречать ожившего мертвеца, говорящего плюшевого медведя из мяса и костей, крылатых дьяволов, деревьев-живодеров… «Проклятье! Неужели эта одноглазая сука Хейт в самом деле отправила меня в путешествие по рукотворной преисподней, – твердил себе Хостес, – по всем этим идиотским павильонам кошмарных голограмм?.. Неужели все это правда?!»
Хостес взглянул на часы, обратив циферблат к лунному свету. Десять минут четвертого. Значит, он находится здесь более трех часов. За плечами – половина экскурсии. Что ж, это отрадно. Дожить бы до шести утра!
Скиталец шел по обочине, время от времени спотыкаясь о придорожные камни и ветки. Вероятно, автомобильное движение здесь не самое оживленное, раз считается позволительным содержать дорогу в таком ужасном виде, да к тому же еще и совершенно не заботиться об ее освещении. «Господи, неужели меня занесло в Россию?» – усмехнулся про себя Хостес, вспомнив статью из «Уорлд Траффик» о качестве автомобильных дорог в СССР, – а между тем ситуация складывалась нешуточная: Хостес все еще не мог определить, где, в какой климатической зоне он находится, «где угодно, но только не в Калифорнии, – рассуждал он, – здесь даже туман только ночью, а к рассвету рассеивается, хотя по идее все должно быть как раз наоборот!»
И действительно, удушливый туман к этому часу почти полностью растворился в воздухе, который уже пропитался бодрящей предрассветной свежестью. Дул легкий прохладный ветерок, но холода Хостес не испытывал. В сумрачных зарослях вдруг залился пересмешник, его голос не спутаешь ни с одной другой птичьей песней – стало быть, это все еще Америка? – смекнул вконец запутавшийся скиталец. Природа тяжело пробуждалась от ночного сна. Вскоре голоса птиц стали доноситься из леса все чаще, вживляя долгожданное спокойствие и крепнувшую надежду в покалеченную ужасами душу. Погруженный в свой думы, Хостес бессмысленно глядел себе под ноги и со следующим шагом натолкнулся на что-то теплое и мягкое, большим белесым пятном выступившее из темноты. Расширенные от изумления глаза Хостеса уперлись взглядом в сморщенный белый халат, изрядно забрызганный кровью – пальцы случайно попали в ее мокрую прохладу, и несчастного внезапно окатил страх. Он попытался вырваться и убежать, но пухлые волосатые руки, в одной из которых сверкнул окровавленный скальпель, небрежно прижали свою добычу к толстой, дурнопахнущей туше.
– Рад тебя видеть, Энрике! – Сиплое бормотание над самым ухом защекотало Хостесу нервы. – Я долго ждал, когда ты окажешься здесь.
Хостес заставил себя поднять глаза и увидел лоснящуюся жиром физиономию толстяка Стэйнби, врача-реаниматора из крупной частной клиники Сан-Франциско. Последние полтора года мексиканец покупал у него внутривенные препараты наркотического действия и старый добрый крэк, «белую молнию». Хостес с Эльзой регулярно пользовались услугами Стэйнби. Однажды доктор умер от обширного инфаркта, в тот самый момент, когда Хостес передавал ему деньги за зелье. Наркомана это так потрясло, что он едва нашел выход из квартиры, забыв даже забрать свои деньги из толстой холодеющей руки… И вот Стэйнби, с виду живой и невредимый… как он может быть голографическим призраком, если он осязаем?! Пресвятая дева!!!
– Ты молодец, амиго! – посмеивался Стэйнби, потрясая тройным подбородком и сжимая в объятиях сравнительно хлипкую фигуру своего бывшего клиента. – Ради десяти ампул ты готов следовать за своим благодетелем хоть в саму преисподнюю!
Хостес тщетно силился вырваться; толстые ручищи реаниматора с силой удерживали его. Окровавленный скальпель назойливо маячил перед носом наркомана.
– Отпусти меня, Стэйнби!
– Зачем, же, малыш? Разве тебе не нужно твое традиционное лекарство? Ведь сегодня доктор Стэйнби выдаст его тебе без «зеленого» рецепта!
И Стэйнби отрывисто полоснул лезвием по запястью Хостеса. Тот вскрикнул от острой жгучей боли и ощутил на пальцах теплую липкую влагу. С отчаянием смотрел он в заплывшие салом щелки насмешливых глаз своего мучителя, занесшего над ним оружие. Обезумев от подступившего ужаса, Хостес отбивался с бешеным рвением куропатки, попавшей в крепкую лисью пасть: он судорожно вцепился в правую руку Стайнби, но страшный скальпель неумолимо приближался к его горлу. Хостес мысленно распрощался с жизнью.
– Еще чуть-чуть, амиго… – кряхтел толстяк, зверски скалясь вставными зубами, – …и ты поблагодаришь доктора Стэйнби за доставленное удовольствие. Ты знаешь, что такое «колумбийский галстук»? Нет? Ну, так сейчас узнаешь! Я вот только полосну тебе горло, от уха до уха, и через дыру вытащу наружу твой поганый язык, который повиснет у тебя на шее, ну прямо как настоящий галстук!..
Еще секунда – и крышка. Хостес видел свои переполненные смертельным страхом глаза в отражении никелированного скальпеля. Сознавая всю безвыходность своего положения, Хостес с жутким воплем отчаяния изо всех сил двинул своего опешившего палача ногой в пах и понял, – безвыходных положений не бывает. Взвизгнув от невыносимой боли, Стэйнби весь обмяк, а Хостес, вырвавшись из ослабевших тисков, бросился наутек по бесконечному полотну дороги.
– Надеюсь, мы еще встретимся, Энрике! – услышал он вдогонку сиплый крик Стэйнби.
Неожиданно мрак стал рассеиваться. Хостес подумал, что уже наступает рассвет, но он ошибался. В действительности он всего-навсего приближался к освещенному участку дороги, чему в душе обрадовался. Он увидел вдалеке какие-то сооружения, похожие на фонарные столбы. Вероятно, свет проистекал именно от них. Два ряда высоких и крепких деревянных жердей протянулись по обе стороны дороги.
Оказавшись на расстоянии, достаточном, чтобы подробно рассмотреть открывшийся ему вид, Хостес обмер от внезапного страха.
Его взору предстали два ряда скрипевших на ветру виселиц…
Черные силуэты трупов раскачивались под порывами ветра. При приближении живого человека целая туча воронья с пронзительным скрипучим карканьем, от которого мурашки пробежали по коже, взметнулась в небо. Шаг за шагом Хостес в состоянии, близком к помешательству, разглядывал потемневшие и иссохшие, с выклеванными глазами, лица висельников. Перед каждой виселицей был воткнут колышек с дощечкой, на которой виднелось имя покойного. У Хостеса перехватило дыхание: все имена на табличках были вьетнамские. Да и, приглядевшись внимательней к трупам, без труда можно было в них узнать тех вьетнамских крестьян, которых Хостес со своим взводом казнил лишь за то, что у тех не оказалось провизии для пятнадцати американских солдат, чудом уцелевших и пробившихся к своим из окружения. Картина пережитого кошмара с живостью предстала перед глазами бывшего сержанта Хостеса… Но что это? Трупы ни в чем не повинных вьетнамцев материализовались здесь, перед глазами Хостеса, – вернулись из смутного прошлого, чтобы и после своей гибели не давать покоя их палачу. С высоты эшафота они обличающе смотрели на него пустыми, проклеванными вороньем глазницами и словно бы говорили: «Ну что, Энрике, – теперь твоя очередь!» Хостес внутренне содрогнулся от этой своей догадки-фантазии, но, как выяснилось, содрогнулся не зря, потому что на одной из последних дощечек он ясно прочел: «Энрике Хостес».
Мексиканец остолбенел и через некоторое время вновь прочел надпись. «Энрике Хостес. 28 лет. Холост. Сакраменто, штат Калифорния. Учетный номер СН 76431-5В». Он с опаской взглянул наверх. Пустая пеньковая петля заманчиво болталась над его головой. Колени Хостеса сами собой подогнулись, и он медленно, как тающее мороженое, опустился на землю. Откуда-то слева послышался тихий, сдавленный смешок. Потом справа… Многоголосый, шепеляво-беззубый смех становился все громче. Мертвецы корчились на своих веревках от безудержного хохота, а деревянные виселицы вторили им издевательским, но к тому же и зловещим скрипом.
– Чего загрустил, Энрике? – раздавалось со всех сторон. – Уютное местечко мы для тебя приберегли?
Хостес в ужасе озирался по сторонам. Частокол виселиц позади него – он прошел его за полчаса: восемьдесят виселиц было воздвигнуто в далекой вьетнамской деревне – от первой до последней пришел в движение. Облаченные в грязное тряпье фигуры дергались, извивались, размахивали костлявыми конечностями.
Вдруг пеньковые веревки одна за другой стали рваться, и висельники посыпались, как перезревшие осенние яблоки. Ожившие мертвецы медленно двинулись на Хостеса. Разъедаемый смертельным страхом, он попятился прочь. Только теперь он обнаружил источник привлекшего его света. Виселицы освещались мощными прожекторами, чьи белые лучи до боли слепили глаза. Невзирая на эту преграду, Хостес бросился прямо на свет, жмурясь и прикрывая глаза руками, – это был его единственный шанс, больше бежать было некуда. На последнем дыхании тащился он вперед, – бежать уже не хватало сил. Боковым зрением Хостес видел разношерстную ораву смердящих гниль, мертвецов, с невнятным ропотом подступавших к нему сзади.
По мере движения угол ослепляющих лучей отклонился (дорога здесь слегка поворачивала влево), и двигаться стало несколько легче.
С замиранием сердца Хостес ощущал, как сокращалось расстояние, отделявшее его от зомби. Он уже слышал их тяжелое хриплое дыхание и чувствовал могильный холод, веявший от них. Хостес торопливо шептал молитву, – он рос в очень набожной семье. Краем глаза он приметил дорожный щит и прочел буквально следующее: «Четвертый Астральный Департамент Ада (Ч.А.Д.А.) – 3 мили. Транзитный проезд всех видов транспорта запрещен!» Текст слегка позабавил его. Что тут говорить? – Энрике Хостес, убежденный католик, представлял себе ад несколько иначе. Вывод напрашивался сам собой – одноглазая уродка из «Пергатори-Хаус» устроила ему развлечение в одном из игровых пространств фирмы. Эти прохвосты, которые, судя по всему, научились даже читать мысли клиентов (а иначе откуда им было знать про Эльзу, про Хуанито, про повешенных вьетнамских крестьян?), даже не потрудились выяснить, находит ли Хостес эту игру приятной…
Но что это?! На расстоянии длиной в бейсбольную площадку мигали красные и синие огни полицейской машины. Не может этого быть! Спасение? Хозяева «Пергатори-Хаус» за решеткой, а имущество фирмы конфисковано? Полицейский «форд» стоял поперек шоссе, будто перекрывал кому-то движение. К приоткрытой водительской дверце прислонился фараон; в темноте горел огонек его сигареты, а лицо его попеременно вспыхивало то синими, то красными отблесками полицейской «мигалки». При виде бегущего навстречу Хостеса он встрепенулся и замахал руками. Хостес из последних сил рванулся вперед. За спиной он слышал мерный гулкий топот десятков ног. Еще минута и костлявая клешня зомби ляжет ему на плечо.
Будто опомнившись, полицейский сел за руль и, развернув машину, дал задний ход, одновременно отпирая правой рукой дверцу «форда». У Хостеса не возникало сомнений в том, что перед ним обычный полицейский автомобиль: такую мигалку на колесах всегда можно было встретить на любой калифорнийской дороге. И лишь когда от машины его отделяло не больше нескольких футов, он с изумлением уставился на правый борт «форда», где красовалась причудливая эмблема в виде перевернутого распятия, обвитого змеей в форме буквы S и подпись снизу: «Христовы Змеи[2] Силы безопасности Ч.А.Д.А.» Далее – адрес и номер телефона. Полученная информация изрядно шокировала Хостеса, который впрочем, постепенно начинал свыкаться со всем, что его окружало. Но времени на раздумья не оставалось – зомби были уже буквально в двух шагах от своей жертвы, – и он пулей влетел в машину, сорвавшуюся с места, не успел Хостес захлопнуть за собой дверцу. Корпус «форда» содрогнулся под двумя-тремя гулкими ударами мертвецов, опоздавших лишь на долю секунды.
Хостес бездумно глядел сквозь стекло в тускло высвеченную фарами дальнего света бесконечную полосу асфальта, проносившуюся под брюхом машины с невиданной скоростью. Стрелка спидометра конвульсивно дрожала на отметке 90. Фосфорный циферблат в приборной доске показывал время: до четырех утра оставалось три минуты. Еще бы каких-нибудь пару часов!.. Хостес уже видел себя подающим судебный иск в миллион долларов…
Он облизнул сухие губы и посмотрел влево. Фигура полицейского – мексиканец не мог заставить себя называть этого типа «Христовой Змеей» – высвечивалась в полумраке бледно-изумрудными бликами от приборной панели. Пожевывая затухающую сигарету, фараон не спускал глаз с дороги, словно и не замечал своего соседа справа.
Хостес робко поглядывал на полицейского – раньше он их жутко ненавидел! – как на Святого Георга, спасшего его от нечисти, хотя бесстрастная сосредоточенность этого «ангела-хранителя» озадачивала и вселяла в Хостеса беспокойство. «Какие такие Христовы Змеи?! Это что – одно из условий этой идиотской игры?» – соображал он, пытаясь успокоить себя единственной утешительной мыслью, что фараон – первое существо в этом злосчастном Ч.А.Д.А., которое не стремится, во всяком случае, на первых порах, «посмотреть, что у него внутри», пустить ему горлом кровь и наградить «колумбийским галстуком» или, на худой конец, вздернуть его на виселице, как например те задушевные, с выклеванным глазами, вьетнамские ребята, с которыми пришлось расстаться минуту назад.
– Простите, сэр… – осмелился Хостес подать голос. – Тысяча извинений, сэр, вы не будете так любезны пояснить мне, куда мы направляемся?
Фараон выплюнул окурок за окно и взглянул на мексиканца с деланным выражением удивления на копченом, небритом лице.
– Слушай, приятель, – с терпеливой улыбкой приступил к разъяснению полицейский, – если наша малышка Грэйс по твоей милости в испуге ошиблась на пару делений, это еще не означает, что «Пергатори-Хаус» не выполнит, как следует, твой вонючий заказ!
Речитативом выдавив из себя, как джем из тюбика, эту тираду, фараон уставился на Хостеса выжидающе, а тот на него – с отвисшей челюстью.
– Вы сказали: «ошиблась на пару делений»?
– Ты что, приятель, только со второго раза улавливаешь? – нетерпеливо рявкнул фараон, – Грэйс, бедная девочка, она со страху чуть не выпала из своих трусиков, когда ты на нее наорал! – так она сама сказала…
– А что у нее такое с лицом?
Что?
Да нет, ничего… – осекся Хостес, вспомнив, что ему еще и не такое приходилось видеть.
– Немудрено ей было чуток ошибиться! – продолжал возмущенный фараон, потянувшись за новой сигаретой. – Так что, ты, приятель, и не надейся на компенсацию. Впрочем, ты, говорят, все-равно не заполнил страховой полис…
– Да постойте же вы! – не удержался Хостес. – Плевать мне на вашу компенсацию! Лучше объясните, как я сюда попал!
Фараон в изумлении быстро заморгал глазами.
– Что ты имеешь в виду, приятель?
– Во-первых, я вам никакой не «приятель», а во-вторых… Пять часов назад я наслаждался «белой молнией» в своей собственной квартире, – Хостес умолчал о том, что с ним происходило в действительности, – и вдруг ни с того ни сего оказался в этом вонючем «Пергатори-Хаус»…
По лицу полицейского прошла тень. Казалось, что-то начинало для него проясняться.
– Тебя оформили на шесть часов в Ч.А.Д.А. так? – спросил он с беспокойством.
– Так.
– Боюсь, тебе уже отсюда не выбраться… – фараон отвел глаза, – Кому же ты мог насолить… приятель? – подумав, добавил он и поглядел на Хостеса с тоской и сочувствием.
– Я что-то не вникну, о чем вы? – Хостес растерянно всматривался в собеседника; фараон притормозил у обочины.
– О чем? Да все о том же!
По глазам полицейского было ясно, что он знал нечто, о чем предпочитал не говорить, но через минуту продолжил:
– Понимаешь, в «Пергатори-Хаус» обращаются взбесившиеся от лишних денег калифорнийцы, любители острых ощущений. Ты, как я погляжу, не из их компании. К тому же, если я правильно понял, ты очутился здесь не по своей воле?
– Безусловно.
– Люди, изъявившие желание совершить путешествие в «преисподнюю», как у вас называют наше измерение, потом благополучно возвращаются назад, и в их памяти начисто стирается все, что с ними здесь происходило. Тебя же притащили сюда насильно. Вероятно, ты кому-то здесь нужен и потому вряд ли вернешься обратно. Ты должен исчезнуть.
Хостес почувствовал, как к горлу подступила тошнота.
– Значит, это все не новый павильон Диснейленда?
– Лично мне не до шуток, дружище. Это Четвертый Астральный Департамент Ада! Понимаешь? Другое измерение! Владение Сатаны! Лучше подумай, кому ты мешал в своем мире, и кто мог тебя сюда засадить… Хотя… Вряд ли тебе это поможет.
Хостес уже дрожал, в пароксизме страха глядя на полицейского. До сего момента он расценивал все происходящее, как жутковато-забавный калейдоскоп голограмм и с нетерпением ждал его завершения. Но все оказалось гораздо сложнее: на карту была поставлена его жизнь. Невероятных усилий стоило ему взять себя в руки.
– Как вас зовут? – наконец, вымолвил мексиканец.
– А тебе зачем? Впрочем… Бартоломью. Клифф Бартоломью.
– Я Энрике Хостес.
– Знаю. Меня прислали встретить тебя, поскольку, как я уже говорил, благодаря Грэйс Хейт ты попал не совсем туда, куда следовало…
– А куда именно?
– В нейтральную Зону. Там сейчас бесчинствует Хаос, и от этого можно ждать, чего угодно. Не успеешь о чем-то крепко подумать, что-то вспомнить, как то, о чем думал, тут же материализуется…
Хостес был ошарашен.
– Да, насчет Грэйс Хейт, – продолжал Бартоломью. – Крошка была искренне напугана твоей реакцией и, я полагаю, не знала о сговоре против тебя. Она просто выполняла инструкции…
– Чьи? – не удержался Хостес.
– А вот этого я тебе не скажу. – Осадил его Бартоломью. – Я пока еще дорожу своей головой.
– Как ты сюда попал, Клифф?
Бартоломью лишь тяжело посмотрел на Хостеса и тотчас спрятал глаза. С мрачным видом полицейский включил зажигание, – машина тронулась по шоссе, быстро набирая скорость.
– Вот что я подумал, Энрике, – вновь заговорил Бартоломью, когда фары высветили вдалеке какое-то громоздкое сооружение, похожее на пограничную заставу. – Тебя должны уничтожить в ближайшие два часа. Если ты продержишься это время – хотя, увы, нет почти никаких шансов! – то останешься жив. Дело в том, что они смогли тебя заманить только лишь в качестве клиента «Пергатори-Хаус», а механизм обслуживания в этой нашей фирме незыблем, так как базируется полностью на сложнейшей компьютерной системе, работу которой невозможно ни остановить, ни изменить. Все идет, словно как по конвейеру. Полная информация о клиенте с указанием времени экскурсии и департамента, в котором та проводится, поступает в регистрационный блок данных, в так называемый Генеральный Компьютер, напрямую подключенный к трансастральным лифтам. Так что, теоретически, в шесть утра ты должен вылететь отсюда, как пробка из бутылки, но кое-кто постарается сделать так, чтобы этого не произошло. Уверен, – ты кому-то нужен здесь. Иначе бы тебя сюда не затащили… Работе компьютера помешать невозможно. Значит, тебя должны прикончить в течение этих двух часов.
– Но для чего могла понадобиться вся эта суета с перемещениями в иное астральное поле? Только для того, чтоб меня укокошить? У нас в Калифорнии с этим делом куда проще…
– Пойми, – нетерпеливо перебил его Бартоломью. Уничтожат твою физическую оболочку! Для того, чтоб душа твоя осталась здесь навечно!
Хостес похолодел. Когда-то в воскресной школе подобные проповеди он воспринимал хотя и всерьез, но не думал, что все могло бы так обернуться.
Форд приближался к чему-то вроде пограничного кордона: фанерные будки, колючая проволока, прожекторы… Вот опустился полосатый шлагбаум. Место напомнило Хостесу контрольно-пропускной пункт американо-мексиканской границы; он сохранил в памяти события двадцатилетней давности: изможденная невыносимой жизнью пожилая мексиканка, окруженная скудным скарбом старых пожитков и оравой чернявых сорванцов, ее детей, подает в дрожащей огрубелой руке замасленные документы розовощекому и надменно-респектабельному пограничному чину…
На дороге в луч прожектора попали два человеческих силуэта с автоматами наперевес. Чуть позади кордона Хостес разглядел в предрассветных сумерках огромные кованые ворота, врезанные в сплошную каменную стену футов десять высотой. За стеной сияли огни города, пробуждавшегося от ночного сна.
Свет лился и с неонового щита, укрепленного над воротами. Люминесцентные трубки замысловато свиты в надпись: «Четвертый Астральный Департамент Ада (Ч.А.Д.А.)», и чуть ниже: «Оставь надежду, всяк сюда входящий!» Если бы Хостесу довелось читать «Божественную комедию» Данте, он бы смог уяснить, что стоит за этой сентенцией, но даже будучи несведущим в мировой литературе, мексиканец остался под глубоким впечатлением от этих слов.
Подруливая к шлагбауму, Бартоломью косо взглянул на прикручинившегося Хостеса и с неохотой обронил:
– Я так полагаю, ты балуешься крэком?
– Верно. Как ты догадался?
– Ты же сам как-то об этом заикнулся… Так вот, именно в этом ключ к выявлению твоего недруга.
Хостес с недоумением поглядел на Бартоломью, затем с таким же выражением уставился в пространство и после минутной паузы изумленно прошептал:
– Стэйнби?!
– А вот этого я тебе не говорил! – Бартоломью неотрывно смотрел на дорогу.
– Эта жирная сволочь полтора года скармливал мне фенамин, ЛСД и прочую дрянь! Но что ему от меня нужно?
Бартоломью равнодушно пожал плечами.
– Давно он здесь?
– Приблизительно месяца два-три.
Вроде бы сходится. Толстяк Стэйнби откинул копыта в начале февраля – прошло уже более двух месяцев. Хостес лихорадочно тер виски, дыхание его участилось. Что нужно этому уроду? Конечно. Стэйнби знал об Энрике все, и ему не составило большого труда ввести информацию в компьютер и по трансастральному лифту заполучить пленника в Ч.Д.Д.А. Но чего Стэйнби хотел от него здесь, в аду, после своей смерти?
Тем временем автомобиль остановился у шлагбаума. Два автоматчика приблизились к ветровому стеклу.
– Кто такой?
– Энрике Хостес, из Сакраменто. Экскурсия в Ч.А.Д.А. с полуночи до шести утра, – нехотя отвечал Бартоломью. – Парень заплутал малость. Пришлось подобрать.
Полицейский передал одному из охранников розовую бумажку; тот оторвал от нее, вероятно, нечто вроде купона въездной визы, поставил штамп и передал остаток Хостесу.
– Милости просим, мистер Хостес!
На розовом документе тиснеными золотыми буквами красовалась надпись: «Добро пожаловать в преисподнюю!» Далее следовало время экскурсии и данные Хостеса. Внизу – гербовая печать «Пергатори-Хаус» с неразборчивой подписью и свежий штамп контрольно-пропускного пункта Ч.А.Д.А. -Скажите, а чья это подпись? – поинтересовался Хостес.
– Сатаны, – бросил охранник в ответ.
Бартоломью улыбнулся, а у Хостеса потемнело в глазах, – мать воспитала его ревностным христианином.
– Все это чушь собачья, – быстро зашептал Бартоломью на ухо Хостесу, прежде чем тот вылез из машины. – Не верь тому, что говорит этот недоумок. Подпись принадлежит Стэйнби. Тебе придется с ним повстречаться за то время, что у тебя осталось. Главное, парень, как-нибудь доживи до шести утра…
– Мы ждем вас, мистер Хостес.
Не чуя под собой ног, с затуманенной головой Хостес в сопровождении охранников проследовал к воротам.
Стальные засовы захлопнулись за спиной вновь прибывшего. В голове Хостеса царил полнейший кавардак, и единственной здравой мыслью оказалось обостренное желание есть. Казалось бы, не о том следовало думать человеку, узнавшему, что он умрет в ближайшие два часа. Но, трезво рассудив, что если он сию же минуту не утолит голод, то умрет гораздо раньше, Хостес принялся с волнением озираться по сторонам в надежде обнаружить хоть какое-нибудь заведение, в котором бы его желудок получил то, что ему по праву полагалось.
Занимался рассвет. На востоке над крышами домов проглядывал мягкий румянец восходящего солнца. Далекий ветер гнал по светлевшему небу черные, продолговатые, похожие на бразильские сигары, тучи.
От кованых ворот вдаль уходила асфальтированная аллея, с обеих сторон окаймленная аккуратно подстриженным декоративным кустарником, служившим естественной изгородью для многочисленных одноэтажных коттеджей, – кирпичные домишки, расположившиеся по всей длине дороги, напоминали кубики из детского строительного конструктора, если смотреть на них с высоты птичьего полета. Так почему-то – подумалось Хостесу. Еще ему пришла на ум мысль, что такие коттеджи – обычная картина в любом калифорнийском пригороде. Чуть далее виднелись солидные жилые массивы из стекла и бетона, эти гиганты, сплоченные воедино, казались сплошной сияющей рекламой пестрое многоцветье неоновых огней, приглашающих либо в ресторан, отель или супермаркет, либо в казино или ночной клуб, напоминало застывший в небе красочный фейерверк. Хостес неожиданно увидел перед собой Сакраменто…
На перекрестке, в нескольких ярдах от того места, где стоял Хостес, обнаружилось невзрачное пятиэтажное здание, на полуподвальном уровне которого виднелся подъезд с тускло, но призывно горевшим розоватым огоньком: «Бар». Хостес направился на свет не раздумывая, – ноющая боль в желудке нарастала.
В закусочной не наблюдалось ни единого посетителя – в такой ранний час это было вполне закономерно. Уютный, почти интимный полумрак обволакивал помещение. Все столы были нагружены перевернутыми стульями; картина красноречиво говорила сама за себя: «Разве не ясно? В такой неурочный час мы никого не обслуживаем!» Обнадеживала лишь одна деталь всей этой малоприветливой обстановки: бармен за стойкой, методично протиравший полотенцем высокие стаканы из газового стекла. Складывалось впечатление, будто он заблаговременно узнал о грядущем приходе посетителя и тотчас примчался ни свет ни заря на свое рабочее место.
Это предположение чем-то настораживало Хостеса. Человеку за стойкой на вид было лет под пятьдесят. Седые волосы почти полностью покинули его лысеющее темя. В уголках острых, недобрых глаз собрались морщины. Бледные тонкие губы плотно сжимались в мимолетной садистской ухмылке. Перед барменом было установлено некое устройство, похожее на монитор компьютера. Стена за спиной уставлена стеллажами бутылок и пивных банок всех форм и расцветок.
Когда Хостес приблизился к стойке, кровь отхлынула от его лица. Только теперь он заметил, что губы бармена туго сшиты белой капроновой нитью. Но, моментально вспомнив одноглазую Грэйс Хейт, Хостес расслабился – в Ч.А.Д.А. на все станешь смотреть сквозь пальцы. Тем не менее возникла еще одна неразрешимая проблема: как общаться с этим немым калекой?
Словно прочитав мысли Хостеса, бармен в тот же миг протянул руку к печатному устройству, и его костлявые пальцы защелкали по клавишам. На экране компьютера, обращенном к посетителю, высветилась бледно-изумрудная надпись: «Что будете заказывать, сэр?»
Хостес съежился от холода нескрываемого равнодушия и неприязни, исходившего из пронзительных глаз бармена.
– Э-э… бифштекс, хрустящий картофель и бельгийское шипучее с «прицепом».
– «Поясните, что значит – с прицепом?»
– Я хотел сказать бельгийское пиво и, чуть позднее, – двойной виски.
Пока выполнялся заказ Хостес успел взглянуть на часы. Без двадцати минут пять. Как быстро летит время! Сердце Энрике бешено колотилось. Но, поразмыслив, Хостес убедился, что ничего примечательного или необычного в скорости движения часовых стрелок не существовало. Пока он, Хостес, выуживал сведения из Бартоломью, притормозившего свой форд на обочине, – пока они оба добирались до контрольно-пропускного пункта, поражавшего своим сходством с американо-мексиканским кордоном, – пока Хостес терпеливо переносил все формальности въезда в Ч.А.Д.А., и с интересом изучал розовое приглашение в преисподнюю, – вполне могло пролететь сорок минут. И даже больше…
«Интересно, сколько мне еще осталось ждать Стэйнби? – рассуждал Хостес, тщательно пережевывая бифштекс и с опаской поглядывая на немого бармена, пялившегося на единственного посетителя гипнотизирующим взглядом удава. – Когда же толстяк, наконец соблаговолит снизойти для того, чтоб меня укокошить?»
Привычным жестом Хостес сунул руку в задний карман брюк, но на этот раз фокус не получился. Чем расплачиваться?
Бармен явно читал его мысли и при этом даже обходился без пресловутого «хрустального шара»: не успел посетитель подумать о своем финансовом затруднении, как на дисплее засветились слова: «Стоимость всех услуг входит в стоимость экскурсии».
Хостес приободрился.
– В таком случае, как насчет «прицепа», то есть, – стакана виски?
На автостоянке, у самого входа в бар, притормозила машина; мотор глухо урчал в предрассветной тишине. Из машины, по-видимому, никто не собирался выходить…
Хостес сглотнул слюну, встал из-за стола и на ватных ногах подошел к стойке, то и дело нервно поглядывая на входную дверь.
Бармен взял чистый стакан, и его руки скрылись за стойкой. Пронзительный взгляд неотрывно следил за посетителем.
На улице продолжала урчать невидимая машина, к несчастью, в баре не было окон.
Под пристальным взглядом немого бармена, готовившего напиток, Хостес почувствовал, как по спине стекает холодный, щекочущий кожу, пот.
Из-под стойки вырвалась правая рука немого, сжимавшая 44-й калибр. Не теряя ни секунды, привычным, заученным еще во Вьетнаме, движением Хостес впился пальцами в запястье бармена и со всей силой обрушил его руку локтем об острый угол стойки. Треск хрящей и выстрел в пространство последовали один за другим. Пуля в щепки разнесла спинку стула, на котором минуту назад сидел Хостес. Ни единого звука не вырвалось из зашитого рта, лишь переполненные обморочным страданием глаза выражали лютую ненависть. Хостес слету перехватил пистолет, выскользнувший из обмякшей руки бармена, и мгновенно направил оружие на входную дверь. С улицы все еще доносился рокот двигателя. Какого хрена они медлят?! Хостес перевел взгляд на своего застывшего противника.
– …И последний вопрос, ублюдок. Кто заштопал твою поганую пасть?
Белые пальцы бармена вяло заползали по клавишам: «…Твою мать!»
– Ах ты, сукин сын!
Хостес съездил рукояткой пистолета по плешивому темени бармена и в два кошачьих прыжка очутился у двери, сжимая наготове оружие. Судорожное дыхание выдавало страх мексиканца, боровшегося за свою жизнь. За порогом невидимый глазом автомобиль сдавленно рокотал с включенным зажиганием.
Хостес шумно выдохнул и смахнул градины пота со лба.
Под ударом его ноги дверь отлетела в сторону, и холодная сталь пистолета уперлась в ветровое стекло вишневого «феррари».
Машина была пуста!
Смекнув о вероятной засаде, Хостес панически развернулся – вокруг ни души. Расширенные от нервного страха глаза оглядывали окрестности. Словно все вымерло. Не медля более ни секунды, Хостес прыгнул за руль (ключи болтались в замке зажигания) и дал газу.
«Феррари» летел почти на предельной скорости по направлению к сиявшим вдалеке огням. Хостес не преследовал определенной цели, если не считать необходимости хоть чем-то заполнить остававшееся время. Кроме того, где-то в подсознании отложилось вроде бы неуместное ощущение праздника, виной которому был шикарный и дорогостоящий спортивный автомобиль – Хостесу еще ни разу не приходилось сидеть за рулем «феррари».
Но сейчас он никак не мог отдышаться после пережитого; его сердце колотилось, как молот по наковальне, – медленно и тяжеловесно. Чтобы успокоиться, он врубил радиоприемник. Играл старинный блюз Мадди Уотерса. Хостес не любил блюз, предпочитая диско, но сейчас эта музыка действовала на него умиротворяюще. Он попытался собраться с мыслями, чтобы худо-бедно проанализировать свое незавидное положение.
Внезапно музыка прекратилась, и приемник принялся выплевывать трескучие радиопомехи. Хостес сморщился.
Потом в секундной тишине из динамика донесся сиплый голос:
– Халло, Энрике! С тобой говорит Стэйнби…
«Наконец-то ты нарисовался, хренов окорок!» – ничему не удивляясь, подумал Хостес.
– Дружище, ты должен умереть, – резанул Стэйнби почти жалостливым голосом. – Ты должен стать таким как я, амиго! Ведь ты оказался единственным свидетелем моей смерти, хотя главное не в этом. Главное в том, что вернувшись, ты расскажешь всем о том, куда я попал, после того, как священник сказал «аминь» над моим гробом.
– Мне известно, Стэйнби, что по возвращении обратно у экскурсантов стираются в памяти все впечатления о Ч.А.Д.А.
– Как ты это пронюхал?
– Земля слухами полнится…
– Бартоломью?
– Он здесь ни при чем.
– При чем. Я с ним сделаю то же, что и с Симмонсом.
– С Симмонсом?
– Бармен, которому ты сломал руку.
На секунду Хостес онемел. Теперь он понял, – каждый его шаг известен Стэйнби.
– Зачем я тебе нужен? – твердо и напрямик спросил Хостес.
– Я же сказал. Мне не хотелось бы, чтоб ты распространялся в своем мире обо всем увиденном здесь. Дело в том, что по оплошности Грэйс Хейт, – она очень пуглива! – ты избежал ментального анализа. Нам не известна твоя психическая конституция, и по возвращении тебя из Ч.А.Д.А. мы не будем знать, на какой участок твоего мозга следует воздействовать…
– Не пудри мне мозги этой терминологической дребеденью. Я тебе не верю. В чем истинная причина?
– Ну что ж… – после паузы молвил его преследователь, – помимо этого есть и другая, приватная причина. Вообщем, я выполняю поручение одного очень хорошо тебе известного лица.
Хостес насторожился.
– Я имею в виду Эльзу, – выдержав еще одну очень эффектную паузу, продолжал бывший реаниматор. – Эта девушка все еще любит тебя, даже после своей смерти она не хочет с тобой расставаться. Кроме того, Эльза просто хочет облегчить твою участь, хочет сократить срок твоих земных страданий. И, клянусь дьяволом, я помогу ей в этом!
– О каких страданиях ты говоришь?
– О муках совести, например… Скажи-ка мне, Энрике, последнее время Эльза часом не тянула к тебе руки в ночных кошмарах? Признайся, ведь она снилась тебе!
Хостес промолчал, Стэйнби задел самое сокровенное в его душе и, хуже всего, – он был прав.
– Я не успокоюсь, пока не уничтожу тебя физически, – продолжал бывший реаниматор. – Я хочу, чтобы твоя душа, подобно моей, осталась здесь навечно и в страдании нашла себе успокоение. Вот тогда мы с тобой будем квиты, амиго! Ха-ха!
– Не обожгись, Стэйнби.
– Я сделаю это! Сделаю это, Энрике! Ради Эльзы и ради тебя же самого! Засажу твою душу в Ч.А.Д.А., заморожу ее в кровавую вечность, насыщенную неописуемыми кошмарами, – в них она обретет свой покой, ибо – запомни это, амиго! – истинное наслаждение это страдание! Тебе, Энрике, при жизни следовало верить не в христианскую галиматью о всепрощении и тому подобном дерьме (ох, как постаралась твоя набожная матушка!), – а в ад. В Ад! Но не в тот, о котором талдычат продажные телепроповедники и священники. Я здесь уже со многим пообвыкся и кое-что понял. Ад – это не мрачная ледяная пещера, в которой грешники жарятся на медленном огне; забудь это, дружище! Ад – это лишь совокупность субъективных впечатлений, которые вырабатывает и испытывает душа, попадая после смерти плоти в иную астральную плоскость. Эти впечатления негативно обусловлены, они безобразны, чудовищны и являются преувеличенным отображением темных сторон земной жизни человека. Ад глубоко индивидуален. Каждый видит его таким каким он может его видеть, в единственной доступной его пониманию ипостаси. Все зависит от той эпохи и обстановки, в которой пребывал человек при жизни. К примеру ты, Энрике, увидел Ч.А.Д.А., как стандартный калифорнийский сити, правда, приукрашенный твоею фантазией, как это бывает во сне. Другие, скажем, русские, видят ад похожим на московские трущобы или на снежную сибирскую тайгу, шотландцы – на хмурые вересковые болота… Ощущения ужаса, вины, расплаты также берутся из прожитой земной жизни; не бывает же безгрешных людей. Как говорят, у каждой семьи есть свой скелет в подвале. Таким образом, ад имеет нравственно-психологическую направленность на поддержание в душе постоянных ощущений вины и раскаяния, которые обволакивают душу, держат ее за горло, топят ее в ею же созданном кошмаре. Окружающее бытие превращается в хищного зверя, готового растерзать свою жертву, вкрапляя в ее самоуничтожительные фантазии образы тех, кому эта жертва собственных грехов причинила при жизни зло. Теперь ты понимаешь, Энрике, что встречи с загубленной тобою Эльзой, с вьетнамскими крестьянами, которых ты отправил на виселицу, с беднягой Хуанито – все эти встречи, эти наваждения, происходили в твоем подсознании, в твоем болезненном воображении, – равно как и все, что с тобой было и еще будет. Впрочем, в широком смысле, вся наша жизнь – только игра воображения, долгий-долгий сон, принимаемый нами за чистую монету.
– Довольно, Стэйнби, – подвел черту Хостес. – Я не нуждаюсь в твоих проповедях. Все понятно: ты хочешь прикончить меня, чтобы засадить здесь мою душу – навсегда.
– Я лишь хочу ускорить твое неизбежное причастие к Ч.А.Д.А. рано или поздно это все-равно произойдет (за свою короткую жизнь ты совершил немало грехов, и их жертвы жаждут встречи с тобою здесь). Я хочу избавить тебя – того же желает твоя милая подруга жизни – от бессмысленных угрызений совести, от еженочных кошмаров, в которых Эльза тянет к тебе исколотые руки – когда-нибудь ты не вынесешь этого, покончишь с собой и, тем самым, вступишь в наш мир (самоубийцы – желанные гости В Ч.А.Д.А.). Зачем так долго ждать и мучить себя? Когда ты примешь смерть и причастишься к Ч.А.Д.А., совесть перестанет мучить тебя, твои грехи сгинут, твой кошмар прекратиться. Из жертвы на Земле – здесь ты превратишься в экзекутора: твой дух высвободится и уже не будет страдать от совершаемых тобою черных дел; у тебя появится неограниченная свобода выбора любого порока, какой ты ни пожелаешь. Ты нам нужен, Энрике!
– Неубедительно, Стэйнби. А вот у меня найдется веский довод: просто-напросто я хочу жить и буду бороться за свою жизнь до конца! Я не Фауст, а ты не Люцифер. В моем распоряжении еще пятьдесят минут, если, конечно, ты не вывел из строя компьютер.
– О, если бы это было в моей власти!.. Но ты все-равно обречен, и – можешь мне поверить – в этом твое спасение. Твое мнение здесь никого не интересует. Ты надеешься выжить, но надежда хороша к завтраку, к ужину от нее не остается и крошки… Посмотрим, что ты скажешь, когда смерть заглянет тебе в глаза. Ты должен умереть, Энрике, и ты умрешь. Гарантирую. Потом, после кончины, ты еще будешь благодарить меня за то, что я избавил тебя от земного ада. Да-да. Энрике! Если разобраться, то настоящий ад, он на Земле. Здесь же, в Ч.А.Д.А., твоя грешная душа после смерти станет воистину свободной…
– Никогда раньше не представлял тебя в роли приходского священника, Стэйнби, – неуверенно пошутил Хостес. – Давай лучше прекратим этот разговор. Мое последнее слово: нет. Лови меня, если хочешь – у тебя еще есть время. Через сорок семь минут срабатывает компьютерная система, и я вылетаю из трансастрального лифта прямо к себе под теплый душ… Скажи-ка лучше, что такое «Пергатори-Хаус».
– Ладно. Скоро я навсегда заткну тебе рот, поэтому могу поведать и эту тайну. Это экскурсионное бюро, которое я основал… после смерти; оно записано на несуществующее лицо. Другими словами, подставная фирма – единственное связующее звено между мной и тем миром, в котором я жил. Все, кто там служат – из Ч.А.Д.А.
– Значит, эта нечисть пробралась и на Землю?
– Хм… Посланцы Ч.А.Д.А. есть всюду. В офисе «Пергатори-Хаус» находится засекреченный вход в параллельный мир, по которому переправляют туристов. Через него-то ты и попал сюда, с помощью Грэйс. Но, как ты понимаешь, если есть вход, то он же и выход. Аналогичным способом мы посылаем своих вербовщиков через «окно» в нашем офисе.
– Боже правый, чего вы добиваетесь?!
– Наши возможности пока ограничены. Сейчас мы располагаем одним-единственным «окном» которое может выпускать не более двух наших агентов в год, разумеется, по земному времяисчислению.
– Какова их задача?
– Вербовать сторонников Ч.А.Д.А.
– Ты хочешь сказать: убивать людей и отбирать у них души?!
– Грубо говоря, – да. Но мы не всех аннигилируем. Ведь есть еще целая категория «путешественников», приносящих мне – вернее, моей семье – стабильный доход. Они остаются в живых, хотя забывают обо всем, что с ними здесь происходило… Ты, Энрике, как я уже говорил, не входишь в их число. А суть деятельности «Пергатори-Хаус» заключается в организации для калифорнийских толстосумов увлекательных экскурсий в Ч.А.Д.А. и другие департаменты (Грэйс Хейт тебе их перечисляла), а доходы от этого предприятия попадают на счет моих жены и сына. Причем, я так искусно запутал свои финансовые операции, что из «Пергатори-Хаус» деньги проходят еще пять подставных контор и банков (при этом между первым и третьим звеном отсутствует всякая связь), прежде чем попадают на счет моей семьи.
Хостес присвистнул, глядя на дорогу, разговор с радиоприемником успокаивал его нервы.
– Даже после смерти ты в своем амплуа! – не удержался мексиканец от замечания. – Да, вот еще что. Я не совсем понимаю: если я тебе так шибко понадобился, то почему ты просто не прислал за мной своего «вербовщика»? По-моему, это так утомительно – делать из меня какого-то экскурсанта, а потом уже, высунув язык, охотиться за мной в Ч.А.Д.А., имея в распоряжении всего шесть часов.
На некоторое время голос в динамике смолк, словно Стэйнби подбирал подходящий ответ. Затем опять послышался знакомый отдышливый сип:
– Во-первых, не я лично посылаю вербовщиков. Во-вторых, не я решаю, кого именно следует вербовать. И, в третьих, следующий вербовщик будет направлен лишь через год.
Хостес не знал, что все утверждения, кроме последнего, были ложью.
– Закономерный вопрос: кто вами руководит?
– В вашем измерении его называют Сатаной.
– А кто будет следующим вербовщиком?
– Надеюсь, ты.
Хостес побледнел.
– Ну уж нет!
– Ха-ха! Рано или поздно мы навербуем себе столько людей, что на Земле не останется ни одного живого человека. Настанет конец света, но не тот, о котором писал ваш Иоанн Богослов, ибо из этого армагеддона мы выйдем победителями!
– Ты сумасшедший, Стэйнби! Скажи, психов тоже принимают в Ч.А.Д.А.? Ты сам должен понимать, что все это – дерьмо собачье, что ты мне тут наплел. Вам не уничтожить все человечество, и для начала я докажу, что тебе не уничтожить меня!
– Идиот!!! Тебе все-равно не выбраться отсюда живым! Все, что было до этого, можешь расценивать, как игру кошки с мышкой, перед тем как ее съесть. Теперь – тебе конец!
Голос смолк, и снова заиграл печальный блюз. Хостес задумался. Чувство обреченности отравляло его мысли. «В ближайшее время он должен меня убить. Это может произойти в любую минуту. Господи Иисусе!..» Хостес ошалело посмотрел на баранку, и от ужасного предчувствия, переросшего в панику, лоб его покрылся испариной. Еще минуту он пребывал в оцепенении, пытаясь размышлять и взвешивать все «за» и «против», как затем молниеносно, словно от электрического разряда, вылетел из несущейся на предельной скорости машины и кувырком хлопнулся в придорожные кусты.
Пять секунд спустя прогрохотал мощный взрыв. Столб золотого пламени, словно солнечный протуберанец, взметнулся в небо, истекая клубами густого черного дыма. Вишневый «феррари» разбросало по окрестностям в радиусе полмили. Хостес лежал в кустах и плакал, нервно вытирая слезы трясущейся рукой. Ему так хотелось жить! Жить. «Стэйнби, отпусти меня!»
Выбравшись на полосу дороги, Хостес с опаской огляделся по сторонам. Уже почти совсем рассвело. Бледно-лиловое небо на востоке светилось розовым заревом.
Он посмотрел на часы. В его активе оставалось двадцать пять минут. Должно быть, в кустах он пролежал минут десять-пятнадцать, пока не оправился после перенесенного шока. Странно. За это время Стэйнби мог бы уже появиться, понимая, что план с машиной не удался. А вдруг он решил, что Хостеса разорвало вместе с злосчастным «феррари»? Исключено. Мексиканец уже раз убедился, – каждый его шаг известен его преследователю. Пора рвать когти.
Хостес с облегчением удостоверился в том, что пистолет, отобранный у безротого бармена, по-прежнему за поясом. Кто знает, возможно, еще придется им воспользоваться.
Беглец устало брел по шоссе. В полутора милях в лучах восходящего солнца виднелся город, если можно так было назвать этот монолит из стекла, бетона и стали. В загадочно-пурпурных бликах рассвета сияли удивительные и страшные конструкции, созданные безумной фантазией адского зодчего.
От города Хостеса отделял мертвый пустырь, ровный, как доска, кое-где оживленный чахлым кустарником и небольшими группами безлистных сухих деревьев. Казалось, жизнь напрочь покинула эту зловещую местность. Хостес ничего не мог понять: «феррари» нес его к городским огням, а в результате он очутился на богом забытом отшибе, много дальше от города, чем тот злополучный бар. Пространственно-временной континуум перевернут с ног на голову, подумал Хостес, вспомнив странный ночной туман, рассеивающийся к рассвету.
Купол гнетущего безмолвия разбился под неожиданно пронзительным ревом мотора. Хостес вздрогнул и резко обернулся. Прямо на него стремительно летел бежевый автофургон; из-под сумасшедших колес вырывались словно из пасти дракона, бурые клубы придорожной пыли. Капот и фары напоминали свирепую морду какого-то хищного зверя. Хостес готов был поклясться, что минуту назад за его спиной на шоссе было пусто. С невероятной скоростью мчался взбесившийся автофургон за своей добычей, застывшей под гипнозом ужаса на дороге, словно кролик под взглядом удава.
На этот раз – крышка, думал Хостес, против такой зверюги не попрешь: все-равно достанет. Расстояние неумолимо сокращалось. Хостес попятился, завороженно оглядываясь на свою смерть и неспеша переходя на легкий бег. Вскоре он уже бежал настолько быстро, насколько мог. Его легкие хрипели и шипели, как порванные мехи аккордеона; слюна хлопьями слетала с пылающих губ, исступленно шептавших молитву; соленый пот застилал глаза – как хотелось жить! Жить!
За спиной завывал двигатель сумасшедшей коломбины; сквозь рев мотора едва слышно прорывался гнетущий сиплый хохот палача. Стэйнби тщательно готовил эту торжественную минуту – минуту посвящения Хостеса в братство Ч.А.Д.А. Но вдруг произошла досадная заминка.
Как это часто бывает, Хостеса осенило в решающую минуту. Он вспомнил о своем оружии. Выхватив 44-тый калибр, беглец сходу, как в ковбойском вестерне, пустил от бедра две пули по передним колесам автофургона. Машину завалило вперед и резко развернуло на девяносто градусов, после чего Стэйнби, вероятно, успел нажать на тормоза и затем заглушить мотор.
Хостес в изнеможении повалился на асфальт и позволил себе секундную передышку. Измученный взгляд скользнул по наручным часам: оставалось пятнадцать минут.
Тяжело дыша, он напряженно вглядывался в замершую поблизости коломбину. Указательный палец правой руки нетерпеливо поглаживал спусковой крючок пистолета, снятого с предохранителя.
Наконец водительская дверца со скрежетом отворилась, и из кабины вывалилась аморфная туша в белом, крапленом кровью, хирургическом халате. Солнечные лучи стальным отблеском полыхнули в правой руке Стэйнби. По всей видимости, – скальпель. Тучная фигура реаниматора неспеша направилась к своему «пациенту».
Хостес с усилием поднял пистолет и прицелился. Хлопнул выстрел.
Макушка Стэйнби отлетела на несколько футов и, шлепнувшись на землю, превратилась в кашу; из черепа выплеснулся комок густой крови. Стэйнби покачнулся. Серовато-розовый мозг медленно сползал по его щеке. В бесовских глазах-щелочках и на толстых губах неистовствовала презрительная усмешка.
От этой усмешки Хостес оцепенел. Пистолет выпал из его обмякшей руки. Сердце на пару секунд остановилось и потом застучало с устрашающей силой.
– Я не могу умереть дважды, амиго. – И Стэйнби безудержно захохотал; его живот мелко затрясся, как наполненный вином бурдюк.
Лицо его и халат стали багряными от сочившейся из черепа крови. Реаниматор спрятал скальпель в карман халата, повернулся к Хостесу спиной и, подойдя к фургону, открыл заднюю дверцу.
Целая свора голодных черных доберманов с горящими злобой глазами вырвалась на свободу. Хохот Стэйнби зазвучал еще более дико и неистово. Кровожадные псы-убийцы устремились к своей жертве, во все стороны брызгая пеной.
Слабо простонав при виде страшной перспективы. Хостес вскочил на ноги и бросился бежать, мало сознавая безнадежность своего положения; он уже давно ни о чем не мог думать; ноги несли его сами по себе, неведомо куда. Его ноги подкашивались. Предательская, тошная слабость затягивала его тело прямиком в острозубые, вымаранные пеной, пасти бешеных псов. Холодный рассудок был уже давно раздавлен животным инстинктом самосохранения – все возможные мысли Хостеса сузились до обостренно-пульсирующего желания выжить. Ему было нестерпимо страшно думать о смерти. Ему так хотелось жить! Жить!
Жаждущая крови стая голодных псов уже настигала спою добычу, как вдруг Хостес увидел прямо по курсу высокое, как мачта, но сухое и почерневшее дерево. Угловатые голые ветви свисали до самой земли. Страх перед чудовищной смертью загнал беглеца чуть ли не до самой середины огромного ствола. С яростным лаем и брызгая пеной, бешеные псы бессильно кидались на невозмутимую кору дерева, глядя вверх на Хостеса маленькими ненавистными глазенками.
С высоты дерева Хостес увидел быстро приближавшегося Стэйнби. Мексиканец отрешенно глядел на его огромный желеобразный живот, трясущийся от бега под пропитанной кровью тканью халата. Страшная дыра, зиявшая а его черепе и сверкавшая на солнце кровавым глянцем, вызывала тошноту. Красное от подсыхающей крови лицо реаниматора выглядело омерзительно и устрашающе. Неутоленная жажда убийства искрилась в его глазах.
Внезапно Хостес услышал доносящийся снизу гулкий рокот, по звучанию подобный горному обвалу. Он посмотрел вниз, и его побелевшее лицо превратилось в мертвую маску неизмеримого ужаса.
Всего лишь в нескольких дюймах от основания дерева, на котором спасался Хостес, земную поверхность прорезала кривая трещина, источавшая клубы молочного дыма или, может быть, пара.
Псы под деревом сразу съежились, потеряв тем самым свой устрашающий облик, заскулили и в страхе прижались друг к другу.
Трещина стремительно расширялась, открывая исступленному взору бездонное дымящееся земное чрево. Запах стоял такой, словно перед пылающей мартеновской печью. И действительно, сквозь завесу дыма из подземного пространства потянуло огненным жаром от сверкавших красно-рыжих языков пламени. Придержав дыхание, Хостес завороженным взглядом провожал посыпавшихся, как горох, в пылающую бездну псов, издававших на прощанье отчаянные пронзительные визги.
– Давай, прыгай им вслед, Энрике, прыгай!
Несчастный вздрогнул от резкого голоса под деревом. Стэйнби, задрав голову, с надеждой смотрел на свою жертву.
– Прыгай, и твоя душа станет навеки свободной от мерзких человеческих увечий типа совести, добродетели или милосердия. Ты станешь таким же, как я: жестоким, беспощадным, а главное, – счастливым и бессмертным! Ты освободишься от нужды каяться за свои земные грехи!
– Спасибо, Стэйнби, – дрожащим голосом пролепетал Хостес. – Я, конечно, ценю твое желание оказать мне хорошую услугу. Но у нас с тобой разные понятия о благе. Я предпочитаю греховную жизнь на Земле кошмарному существованию в Ч.А.Д.А.
– Прыгай, амиго! – рычал Стэйнби. – Я все-равно доберусь до тебя!
Впившись в колючие ветви руками, Хостес зависал над огнедышащей пропастью. Цепенея от смертельного страха, он смотрел на то, как Стэйнби, перейдя от слов к делу, принялся неуклюже взбираться на дерево, беспрерывно бормоча толстыми влажными губами: «Я доберусь до тебя, сукин сын!» Хостес машинально пополз все выше и выше, но Стэйнби, невзирая на свой вес, не отставал. Хостес был уже почти на самой верхушке дерева, но Стэйнби находился всего лишь в двух-трех футах от его ног. Со своей высоты Хостес глянул вниз и у него перехватило дыхание; голова закружилась; влажные от пота ладони впились в шершавую кору дерева.
Глубоко внизу под Хостесом клокотало огненное месиво.
Сердце упало в пятки от мощного пронзительного треска. По всей вероятности, центр тяжести под грузом двух человек, один из которых весил за двоих, сместился на верхушку дерева, в две секунды треснувшего по середине и выгнувшегося над пропастью дугой, словно горный веревочный мост.
В этот миг Хостесу показалось, что он теряет сознание. В глазах все потемнело. Руки, будто они жили сами по себе, намертво вцепились в ветви дерева.
Огненный жар и едкий запах привели Хостеса в чувство. С ужасом он увидел, как языки пламени колышутся вблизи его ботинок. Давящий на нервы хруст дерева хотя и уменьшился, но не стихал полностью – дюйм за дюймом Хостес рывками опускался все ниже и ниже. Если ствол окончательно обломится, думал он, тогда – крышка!
– Прыгай, амиго, сукин ты сын! – сипло завывал сзади Стэйнби, норовя ухватиться за его брючину. – Какая тебе разница? Ведь ты окажешься там через несколько секунд!
Хостес инстинктивно бросил взгляд на свои часы. Если продержаться еще четыре минуты, то…
Страшный хруст оборвал его мысли. Исступленно ухватившись за спасительный ствол дерева, Хостес полетел обнимку с ним вниз. Мексиканец зажмурил глаза, мысленно прощаясь с жизнью. Теперь ничто не может предотвратить моей гибели, обреченно подумал он.
Но внезапно его руки почувствовали тяжелый резкий удар дерева во что-то твердое. От сотрясения Хостес чуть не выпустил ствол из рук. Открыв глаза, он понял, что сломившееся дерево своею верхушкой воткнулось в противоположный край огненного котлована и, благодаря этой новой опоре, слом ствола посередине прекратился.
Хостес моментально уяснил, что судьба бросила ему последний шанс на спасение, но… на обетованном берегу огнедышащей преисподней из сизого дымового занавеса выступил новый, неясноразличимый персонаж… Хостес прищурился от едкой гари (ствол дерева и ветви уже трещали в бесноватых языках рыжего пламени) и, приглядевшись, чуть не сорвался в пекло: на краю пропасти, подобно зловещей Жнице с косой, его ждала Эльза, отвратный почерневший скелет, укутанный в трепещущий на ветру траурный плащ. Шалый оскал страшного проломленного черепа был как никогда чудовищен.
– Прыгай, Энрике! – умолял его сзади Стэйнби, как и Хостес, чудом удержавшийся при сотрясении. – Взгляни на жертву своей наркотической похоти! Вот она – твоя Эльза! Посмотри, что ты с ней сделал! Посадив на иглу, ты в один прекрасный день лишил ее спасительной инъекции, все равно, что вырвал кусок хлеба из рук умирающего от голода – ты отобрал у нее шанс выжить. Теперь она здесь, твоя Эльза; она простит тебя, если ты вернешься к ней. Вернись к ней, Энрике, она призывает тебя к себе, она все еще любит тебя! Прыгни в огонь и ты вновь обретешь покой в объятиях твоей любимой Эльзы!
– Нет!
– Прыгни, и Эльза простит тебе все!
– Нет!!!
– Если ты не сделаешь этого, то ее призрак будет мучить тебя всю твою жизнь!
– Нет!!! – на пределе голосовых связок заорал Хостес, и слезы отчаяния брызнули из его глаз.
– Прыгай!!!
Вдруг Стэйнби ухватился левой рукой за его брючину, которая тотчас треснула по шву. Реаниматор сделал неверный шаг. Он потерял под ногами опору и завис над пропастью, одной рукой вцепившись в брючину Хостеса, другой – в готовую хрустнуть ветку. Хостесу нужно было лишь отвести ногу в сторону, чтобы Стэйнби с пронзительно-сипящим воплем сорвался в клокочущую огненную лаву.
– Пока, ублюдок, – процедил сквозь зубы Хостес.
Черный силуэт Эльзы отрешенно наблюдал за всем происходящим.
Хостес, не спуская с нее глаз, торопливо пополз, кашляя от дыма и истекая потом от струившегося снизу жара.
До конца всего этого кошмара оставалось чуть больше полутора минут.
– Бедная моя маленькая Эльза! – двуличным лицемерием заклинал ее Хостес, осторожно приближаясь к краю бездны и с отвращением и ужасом глядя в ее пустые черные глазницы. – Я безмерно виноват пред тобой. Эти пятьдесят миллиграммов… они, безусловно, спасли бы тебя… но… Прости меня, дорогая! – В его расширенных, трусливых глазах отражалось подземное пламя; по искаженному лицу гулял овечий страх. – Прости! Вспомни, сколько мелких шалостей ты мне прощала, когда мы с тобой были вместе…
Кутаясь в черный траур плаща, призрак оставался невозмутимым.
Хостес вскарабкался на заветную земную твердь, и в ту же секунду горящие обломки дерева канули в кипящую лаву. Внезапно он увидел за спиной Эльзы мчащегося к ним со всех ног Бартоломью, – он вынырнул из дыма в двух шагах от них. О, боже! Его рот был грубо заштопан белой капроновой ниткой! Так Стэйнби наказывал за длинный язык. В глазах Бартоломью пылали мольба и отчаяние.
Эльза, проследив за изменившимся взглядом Хостеса, обернулась назад. При виде устремившегося к ней Бартоломью она вдруг выхватила из-под полы своего траурного плаща широкий тесак, багряным отблеском пылающей лавы полыхнувший в ее руке. Она занесла свое смертоносное оружие над головой Хостеса, но в тот же миг рухнула под тяжестью навалившегося на нее безротого Бартоломью. Началась непродолжительная борьба.
Костлявая бестия изловчилась и с силой пнула Хостеса в лоб.
Тот сорвался с края пропасти и с нечеловеческим воплем отчаяния и ужаса полетел в кипящую огнедышащую лаву. На последней секунде пятого часа утра.
Хостес тяжело разлепил налитые свинцом веки и, осторожно вращая белками глаз, рассмотрел окружавшую его обстановку.
Он увидел блестевшую стерильной чистотой белоснежную палату, посреди которой, изголовьем к стене, располагалась его койка. Рядом белый пластиковый секретер с ночником. Поблизости, сидя на стуле и откинувшись на спинку, дремала молоденькая медсестра – у нее имелись оба глаза, и напрочь отсутствовали всякие шрамы. Над головой Хостеса взгромоздилась капельница вживлявшая в его вену глюкозу или сустаген. Тут же располагались аппарат для электрошока и другие медицинские приборы, при виде которых легко можно было догадаться, – пациент очнулся в реанимационной.
Хостес слабо застонал; молоденькая медсестра вздрогнула и тотчас выбежала из палаты. Хостес с усилием повернул голову к окну. Утренний солнечный свет ложился на стены нежно-розовыми бликами.
Дверь отворилась, и в палату вошли врач с жидкой светлой бородкой и смеющимися голубыми глазами и все та же медсестра, стройная полногрудая девица с большими карими глазами и оливковой кожей. Непослушная вьющаяся челка цвета вороного крыла выбивалась из-под накрахмаленной белой косынки. Хостесу сделали электрокардиограмму и измерили давление, после чего доктор, по-видимому, остался доволен: его блестящие голубые глазки стали еще веселее. Он с улыбкой посмотрел на Хостеса и проговорил:
– С днем рождения вас, мистер Хостес! Вы перенесли клиническую смерть. Наркотики до добра не доводят…
– Где я, док? – слабо пробормотал пациент.
– В госпитале Святого Мартина.
– Так значит, я жив?!
– Можете не сомневаться! Вас привезли без сознания и сразу отправили в реанимационную. К сожалению, вам-таки пришлось побывать на том свете в течение восьми минут…
– Восьми минут?! – воскликнул Хостес и тут же, откинувшись на подушку, потерял сознание.
Доктор удивленно вскинул брови.
– А ты рассчитывал на большее, амиго? – послышался сиплый голос.
Через пару месяцев Хостеса с направлением на лечение от наркомании выпустили из больницы. Госпиталь Святого Мартина существовал на пожертвования местного прихода, а так же на спонсорские взносы дорожно-строительной компании, поэтому лечение обошлось Хостесу бесплатно.
В последний день пребывания в больнице он получил свою одежду и вещи: выстиранный и отутюженный костюм, ботинки, кварцевые часы и какую-то мятую розовую бумажку.
Пока Хостес переодевался, его одолевали тягостные размышления. Эти размышления за два месяца пребывания в больнице не раз приходили ему в голову. Чем все «это» могло быть? Сном? Галлюцинациями? видениями потустороннего мира? Примечательно, что сверхъестественность виденного сочеталась с обыденностью некоторых образов: рекламные щиты «кока-колы» и «мальборо», пограничный кордон, бар с бифштексом и бельгийским пивом… Нет, это был всего навсего бредовый сон, сгусток субъективных впечатлений… Но… Стэйнби, кажется, именно так и определял реальную преисподнюю! Хостес поежился. Неужели все перенесшие клиническую смерть испытывали подобные кошмары? «…Другие, скажем, русские, видят ад похожим на московские трущобы или на снежную сибирскую тайгу, шотландцы – на хмурые вересковые болота… Ощущения ужаса, вины, расплаты так же берутся из прожитой земной жизни; не бывает же безгрешных людей. Как говорят, у каждой семьи есть свой скелет в подвале…»
Хостесу стало страшно, он узнал этот отдышливый сиплый голос.
Он добрался до дома на такси, вбежал на третий этаж и вставил ключ в дверной замок.
Войдя в квартиру, он увидел полное запущение: пыль толщиной в дюйм покрывала старый ковер, фланелевая накидка на диване скомкана, грязный пол усеян окурками и бумажными стаканчиками из-под пепси. В углу валялся торшер с разбитой лампой. Журнальный столик со сломанной ножкой опрокинут…
Душевная пустота и уныние охватили Хостеса. Он подумал об Эльзе. Как ее не хватало сейчас, в эту минуту!
«…ее призрак будет мучить тебя всю твою жизнь!»
Силясь избавиться от наваждения, Хостес устало повалился на диван. Сунув руку ненароком в карман, он с недоумением извлек оттуда клочок мятой розовой бумаги. Расправив его на колене, он прочитал: «Добро пожаловать в преисподнюю! Имя: Энрике Хостес. Возраст: 28 лет. Национальность: мексиканец. Место жительства: Сакраменто, штат Калифорния. Время экскурсии: шесть часов. Место экскурсии: Ч.А.Д.А.» В нижней части документа Хостес разобрал печать «Пергатори-Хаус» с подписью Стэйнби и пограничный штамп КПП Ч.А.Д.А.
Бессмысленным взглядом Хостес уставился в пространство. Бумажка валялась рядом, на пыльном ковре. Значит, правда? Все происходило на самом деле? Только благодаря бедняге Бартоломью удалось ему в последнюю секунду спастись… Что побудило этого фараона помогать ему? Что с ним теперь? А Стэйнби? Что сталось с ним… Мысль о таинственной экскурсионной конторе обожгла Хостеса. Вероятно, «Пергатори-Хаус» находится где-то в Сакраменто. «Нужно заявить в полицию, – соображал мексиканец. – Но, Боже правый, что полиция сделает всем силам ада? Да и кто мне поверит? К тому же я, если я раскрою рот, эта нечисть снова попытается меня убрать…»
Вконец запутавшись, Хостес глубоко вздохнул и направился в ванную. Пока журчала горячая вода, он в конце концов пришел к выводу, что не следует рассказывать кому бы то ни было об истории, приключившейся с ним… во время клинической смерти. Ха! Раньше он бы счел шизофреником любого, кто решился бы поведать ему что-либо подобное. И вот, судьба пошутила над его скептицизмом. Кто бы мог подумать!..
Хостес перекрыл водопроводный кран и включил радиоприемник. Неизвестно почему, он любил слушать радио, принимая ванну. Передавали выпуск новостей. Скинув одежду, Хостес погрузил свое измученное тело в теплую прозрачную лазурь с выступавшими над ее поверхностью айсбергами мыльной пены.
Новости сменились музыкой. Заиграл печальный блюз Мадди Уотерса.
Хостесу тогда вяло подумалось, что он где-то уже слышал эту мелодию. Дурное предчувствие змеей вползло в ленивые, распаренные мысли Хостеса. Он вспомнил, где слышал эту музыку – в салоне вишневого «феррари».
Намыленная губка шлепнулась в помутневшую голубую воду.
«Глупости! – быстро успокоил себя Хостес, внутренне насмехаясь над своею суеверностью. – Я у себя дома, ничего не может со мной здесь произойти.» И он принялся неторопливо плескаться в воде, насвистывая в такт медленному блюзу и лениво оглядывая тесный интерьер своей купальни.
Его взгляд нечаянно остановился на гладильной доске, всунутой в щель между ванной и стиральной машиной. Доска была сложена вдвое и защелкнута на замок, но Хостес знал надежность этой расшатанной задвижки и упругость пружины. Хлопанье внезапно раскрывавшейся гладильной доски, похожее на выстрел, не раз будило его по ночам, и он неоднократно говорил Эльзе выбросить этот агрегат на свалку…
Воспоминания о прошлом вновь причинили Хостесу боль. Чувство вины за гибель Эльзы не покидало его. Может быть, Стэйнби и был прав, когда заклинал его прыгнуть в тот кипящий адский котел. Возможно, это в самом деле избавило бы его от мук совести…
Тем временем Хостесу показалось, что вода в ванне стала нестерпимо горячей и, выругавшись, он принялся в раздражении крутить кран.
Блюз прекратился, и из радиоприемника послышался тихий, вкрадчивый голос: «Доброе утро! В эфире – радиостанция Ч.А.Д.А. Сейчас пять часов тридцать минут…»
– Нет!!! – истошно закричал Хостес, затыкая уши.
Он взглянул на свои кварцевые часы, повешенные за ремешок на стенном крючке: половина шестого утра!
С поверхности воды поднимался густой удушливый пар. Тело Хостеса побагровело.
– Нет!!! – снова издал он звериный вопль и, потянувшись рукой, опрокинул приемник на пол; радиоголос смолк.
Следующим его намерением было поскорее выскочить из закипавшей воды, но раздался похожий на выстрел знакомый хлопок, когда-то будивший Хостеса по ночам… Сорвалась защелка, и в мгновение ока раскрывшаяся гладильная доска больно вмялась в горло Хостеса, пригвоздив его к изголовью ванны. Он попытался сдвинуть ее руками, но, вероятно, алюминиевые ножки намертво зацепились за что-то в щели между бортом ванны и стиральной машиной.
Это была ловушка.
Вода в ванне начинала пузыриться; истошно вопя, Хостес судорожно бил по воде красными дымящимися ногами, и обжигающие брызги летели на пол и на кафельные стены. Горячий молочно-белый туман застилал глаза. С мокрого, лупящегося штукатуркой потолка пошел дождь из конденсированного пара.
Волдырящаяся багровая кожа стала белеть и омертвевшими пластами отделяться от мяса.
Хриплый рев был еще слышен на протяжении трех минут, без остановки.
Затем все стихло. Неожиданная тишина прерывалась лишь едва различимым бульканьем капавшей с потолка воды.
Послышался легкий скрип приоткрываемой двери.
Когда туман расселялся, взорам вошедших предстала купальня с остывавшим в ней бульоном из человеческого мяса с янтарно-золотистыми пятнами расплавленного жира. Стянутый хрящами и сухожилиями скелет покоился на дне, а разварившееся белое мясо с коричневыми хлопьями свернувшейся крови всплыло на поверхность. Над водой, прижатая ребром гладильной доски, виднелась иссине-красная, распухшая от воды, голова Хостеса. Водянистые глаза в ужасе распахнуты; зубы и десны обнажены в чудовищном оскале; под носом и в ушах скопилась густая кровь. В воздухе стоял тошнотворный, жирно-приторный горячий запах.
Широкая мясистая физиономия пристально всматривалась в остекленевшие глаза Хостеса.
– Я же предупреждал тебя, Энрике, – послышался сиплый голос, – все это было лишь игрой кошки с мышкой перед тем, как ее съесть. Да, тебе сперва повезло: в последнюю секунду тебе удалось вырваться и ты очнулся в госпитале Святого Мартина. Но как ты, амиго, мог позабыть о том, что этим учреждением заведует мой единственный сын Томми. Припоминаешь? Жиденькая светлая бороденка и смеющиеся голубые глазки. Ввести тебе в вену восемьсот миллиграммов фенамина было для него парой пустяков. Даже для слона это смертельная доза. Когда ты очнулся тебе сказали, что ты был без сознания, а на самом деле ты уже тогда был мертвецом в Четвертом Астральном Департаменте Ада. Оставалась лишь небольшая формальность: ритуал посвящения. Ты выдержал его с честью. Поздравляю тебя, Энрике. Ты вернулся к нам, и к своей ненаглядной Эльзе…
Эльза появилась из-за спины Стэйнби и соблазнительно улыбнулась Хостесу. Ее большие ланьи глаза блестели, алые губы обнажили жемчужно-белые зубы, а на щеке появился едва заметный розовый румянец.
– Ты наш, Энрике, – продолжал Стэйнби. – Ты будешь нам преданно служить. Можешь считать, что ты посвящен в братство Ч.А.Д.А.
Багровая водянистая голова Хостеса повернулась и посмотрела на Стэйнби – глаза в глаза:
– Да, сэр.
Эльза одарила Хостеса благодарной улыбкой.
Виктор Потапов
Любимый напиток – кровь!
Костя шел темным арбатским переулком. Был прохладный апрельский вечер, мостовая блестела после дождя, впереди были весна и лето и надежды, которые они несли с собой. Проходя мимо темной подворотни, он последний раз глубоко затянулся и швырнул в нее бычок. Реакция на этот тривиальный поступок была ошеломляющей.
Из мрака прыгнули четверо. Они окружили Константина прежде, чем он успел закрыть разинутый от удивления рот, и набросились на него. На голову и плечи посыпались жестокие удары. Костя пытался отражать их, но это плохо получалось у него.
Вот кулак угодил ему прямо в лицо, ослепив на какое-то время. Послышался презрительный возглас, разбудивший в нем ярость.
– Слюнтяй!
Открыв глаза, он увидел прямо перед собой ухмыляющуюся рожу и ударил по кривящемуся рту. Костя почувствовал, как под костяшками пальцев хрустят кости носа, крошатся зубы. Бандит отшатнулся, упал и откатился к стене.
И сразу же трое остальных кинулись в атаку, пытаясь схватить за горло, рвали ногтями, хотели сбить с ног. Неимоверным усилием, применив полузабытый прием, он высвободился. На мгновенье трое, обескураженные неудачей, отступили, потом набросились вновь. Один оказался намного впереди остальных. Костя схватил его за поднятую для удара руку, завел ее за плечо, подставил бедро, напрягся и швырнул бандита на остальных. Он полетел вверх тормашками и врезался теменем в край тротуара. Раздался костяной стук, мгновенье тело стояло на голове, затем упало и осталось недвижимым.
Длинные пальцы схватили Константина за ноги и потянули в сторону. Падая, он увидел перед собой лицо, вернее, кровавую маску на месте лица, лица первого бандита, которого он ударил. Руки отпустили его ноги и вцепились в глотку. Указательным и средним пальцем Константин что было силы ткнул в рожу, целясь в глаза. Бандит взвыл, и душившие его пальцы разжались. Костя приподнялся, бандит глянул на него пустыми окровавленными глазницами и опрокинулся навзничь.
Когда Константин сумел встать, третий из нападающих уже несся на него с ножом в руке. Костя, наклонив голову, бросился навстречу. Перехватил руку, сжимавшую нож, дернул ее назад и с удовлетворением услышал щелчок сломанной кости. Бандит заорал и покатился по асфальту.
Четвертый не стал испытывать судьбу и пустился наутек. Вскоре он скрылся во тьме. Настала тишина, прерываемая только стонами бандита со сломанной рукой. Костя тяжело дыша, отирал пот и кровь с лица. Сердце бешено колотилось.
Внезапно из подворотни появилась фигура и направилась к нему. Константин занял боевую позицию, глаза его скользнули по мостовой, ища бандитский нож.
– Спасибо, – раздался низкий женский голос. – Вы спасли меня.
Фигура приблизилась. Костя напрягся.
– Не бойтесь. Я – та жертва, из-за которой пострадали вы.
– Что им было надо?
– Ограбить или изнасиловать… – ответила женщина как-то очень равнодушно. – Вы помешали им, испугали наверное. Я вам безмерно благодарна.
– Ну хорошо, – Костя наконец увидел нож и быстро нагнулся. – Пойдемте, я провожу вас до метро. Не ровен час…
– Нет, они не осмелятся больше.
– И все же пойдемте.
– Да, благодарю вас.
Женщина подошла к нему, и Костя увидел в неярком свете фонаря молодое симпатичное лицо, обрамленное темными волосами.
Они быстро пошли по мокрой мостовой в сторону Арбата. Константин напрягался всякий раз, как они миновали черные пасти подворотен, закоулки, растворенные двери подъездов. Но к счастью, все обошлось. Пятнадцать минут спустя они были уже возле Смоленского гастронома.
Внезапно женщина замедлила шаг.
– В чем дело? – спросил Костя, останавливаясь.
Она порывисто прильнула к его груди и тихо заплакала. Он понял, что спокойствие ее было только видимостью.
– Не надо, – сказал он и погладил ее по волосам.
Женщина послушно затихла и взглянула на него. Константин смотрел в ее глаза и не мог отвести взгляда, так она была красива.
– Красивым девушкам нельзя бродить по темным переулкам.
Она усмехнулась невесело.
– А некрасивым можно?..
– Пойдемте, – он взял ее под руку и потянул вперед. – Уже поздно. И не дай Бог, они все же осмелятся…
– Поздно… – повторила она задумчиво. – Какое это имеет значение! Мне некуда идти, я ушла из дома.
– И решила, как кошка, заночевать в подворотне или на чердаке?
– Не злитесь, я невольно стала причиной… – она махнула рукой, мол, что объяснять и так все ясно.
– Я ехала к подруге, а ее нет дома.
– Тогда, как в плохом романе, мне остается пригласить вас к себе.
– Пригласите, я не откажусь.
Константин достал сигареты, закурил. Минуты две они стояли молча. Блестела брусчатка, омытая дождем, дома перебрасывались эхом автомобилей, мчащихся по Садовому кольцу, мимо, болтая и смеясь, проходили кампании.
«Весна началась раньше, чем я ожидал, – подумал Константин. – Хотя, посмотрим…»
– Хорошо, – сказал он, бросая сигарету. – Пойдемте. Можете называть меня Костей.
– А вы меня Еленой.
Костя вошел в комнату и поставил поднос с бутербродами и салатом на стол. Елена стояла у окна. Он вернулся на кухню, захватил бутылку коньяка для себя и ликера для гостьи. Она по-прежнему стояла у окна. Из бара хозяин достал рюмки и бокалы. Когда он ставил их на стол, они тихо зазвенели. Елена обернулась, глаза ее были закрыты. Костя подошел и положил ладони ей на груди. Она, не раскрывая глаз, нашла его лицо, повернула к себе и прижалась губами к его губам. Потом, прервав поцелуй, шагнула к дивану и легла на спину. Костя встал рядом на колени и несколько мгновений пристально глядел на гостью. Потом расстегнул блузку и обнажил груди. Бюстгальтера не было. Накрыв одну грудь ладонью, он ощутил, какая она нежная, и стал ласкать большим пальцем сосок. Потом положил руку на колено, чуть ниже края поднявшейся высоко юбки. Ноги Елены слегка раздвинулись, и его рука скользнула выше на внутреннюю сторону бедра. Костя удивился – чулок или колготок на ней тоже не было. Была гладкая, жаркая и упругая плоть.
Его охватил трепет. Руки действовали теперь сами, преодолевая рубеж за рубежом. Скользнули в узкие тонкие трусики и пальцы окунулись в густую горячую влагу. Волна крови ударила Косте в голову и он стал быстро раздеваться.
Опустошив чашку кофе, Константин закурил. Елена делала бутерброды. Она стояла спиной к нему. Он глядел на нее, чувствуя, как поднимается желание при виде ее прямых плеч, узкой талии, тяжелых бедер. Она прекрасно знала, что он рядом и смотрит на нее, но виду не подавала.
Потом она все же снизошла до брошенного через плечо взгляда.
– Привет! А я уже думала, ты собрался спать до обеда.
Подойдя со спины, Костя обнял ее за груди и прижал к себе, целуя в затылок.
– Эй! Эй! Яичница подгорит! – Елена попыталась освободиться, но тут же изменила свое намерение. Повернулась лицом, она прижалась к Константину и впилась жадным поцелуем в губы. Ее тело тесно прижалось к его телу, пальцы взъерошили волосы на затылке.
Днем оба они продолжали крутиться по заведенному распорядку. А вечерами начиналась НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ. Константин так и не узнал, откуда явилась Елена и что за ссора заставила ее оставить родной дом. Иногда он задумывался над этим, и душу его наполняла тревога, но надолго захватить его ей не удавалось. Для этого не было времени. Дни заполняла работа в банке, вечера и ночи – Елена. Почему-то ему особенно нравились утренние полчаса перед тем, как они поднимались. Если у него возникало желание, она с охотой отдавалась ему, хотя призналась сама, что утренний секс – не ее стихия. Ей сначала надо «раскачаться», выпить кофе и так далее. Ну а потом… видно будет.
Часто они просто лежали в постели, слушая щебет птиц, шум заводящихся во дворе автомобилей, другие многочисленные голоса города.
Константин всегда наблюдал за ритуалом елениного вставания. Она спускала с кровати длинную ногу, приоткрывая потайное местечко, и, искоса глянув на него, вскакивала. Ее тяжелые груди подпрыгивали и застывали, вызывающе смотря вперед. Потягиваясь Елена выгибалась, как кошка, натягивалась струной – превращалась в нечто волшебное – составленное из летящих линий и нежных округлостей. В такие моменты все в ней доставляло наслаждение. Потом она брала халатик, и он скрывал ее прелести. Последними, качнувшись, исчезали королевские груди с большими розовыми сосками. Впрочем Константин не унывал от того, что все это великолепие скрывалось от его взора. Он знал, что в любой момент может лицезреть его и обладать им.
Двенадцать дней минули безмятежно и прекрасно. Потом начались сны. Первый Костя запомнил до мельчайших подробностей и тут же ночью пересказал Елене.
– Я был сильно пьян. Держась за стену с трудом добрел до двери нашего номера в гостинице и остановился, поджидая тебя.
Минуты растянулись в вечность, меня мутило и клонило в сон. Но ты все не шла, и я начал злиться. Потом достал сигарету, но никак не мог найти зажигалку. Постояв еще немного в надежде, что мимо пройдет кто-нибудь и даст мне прикурить, я, чертыхаясь, сунул сигарету в карман и отпер дверь.
Задержавшись в дверях, я стал размышлять. Если я лягу, то мгновенно вырублюсь. Если запру дверь, ты не дозовешься меня, а если нет, есть все шансы проснуться ограбленным. Надо выйти на балкон и подышать воздухом, принял я решение и, пройдя в комнату, включил свет.
В кресле у окна сидел человек. Точнее говоря, он спал, уютно свернувшись клубком. Лицо его скрывалось в тени, зато хорошо был виден дорогой, прекрасно сшитый костюм.
Подойдя к нему, я хлопнул незнакомца по плечу.
– Эй, парень, ты забрел в чужой номер.
Незнакомец не отреагировал.
– Эй, парень… – начал я снова и понял, что продолжать глупо. Он не мог забрести в наш номер, ведь в только что сам отпер дверь ключом.
Тревога охватила меня, и я сжал в кулаке ключ с грушей. Левой потянул незнакомца за плечо. Он медленно перекатился в кресле, и на меня глянуло темное отвратительное лицо. Сине-зеленые глаза трупа, приплюснутый обезьяний нос, остроконечные уши, вспухший язык, торчащий между черными губами.
Лицо зашевелилось, закривлялось, обезьянья лапа вцепилась в мой рукав.
Дико закричав, я бросился к выходу, но в двери опять стоял он. Я замер не зная, что делать. В это время лицо его начало оплывать, из глаз и рта потекли струйки крови. Вскинув руки, чудовище с ревом бросилось на меня.
Каким-то чудом мне удалось увернуться. Я бежал и бежал, зная, что преследователь не отстает. Потом я оказался в каком-то ужасном месте, склепе, наверное. В дальнем углу находилась статуя черного человека-козла, над плечами его горели факелы, а у ног навалены были трупы – свежие и полусгнившие. Когда я вбежал в склеп, дверь за мной захлопнулась. Некоторое время я стоял остолбенело, пораженный увиденным и мерзким запахом, забивавшим ноздри и глотку. Я отчетливо видел ближайший из трупов. Он лежал здесь, видимо, давно, кожа на нем приобрела темно-синюю окраску и влажно блестела, вздувшиеся вены напоминали прутья. Внезапно тело шевельнулось и начало сползать вниз, как мягкая тягучая масса. Оно упало на бок, повернувшись ко мне своим отвратительным ликом. Трупные газы вырвались с шипением через разверзнутый рот наружу, и мертвец издал стон, от которого у меня волосы встали дыбом. Мне показалось, что покойник сейчас восстанет и бросится на меня. И веки вечные я буду вдыхать этот гнусный запах – испарения бездонной преисподней. Все закружилось перед глазами; мне померещилось еще, что статуя человека-козла поднялась со своего трона, что она издевательски смеется надо мной. И провалился в беспамятство.
Когда очнулся, я увидел тебя.
Елена поцеловала Костю, прижала к своим чудесным грудям, и ему сразу стало легче.
– Это – кошмар, дорогой, всего лишь кошмар. Больше их не будет.
Следующий вечер они провели в одном из арбатских кафе. Костя получил «должок», чтобы вместить его, потребовалась целая сумка. Вот и прекрасно, они пили шампанское, не отказывали себе ни в чем, много смеялись и танцевали.
Едва дав сбросить у порога туфли, Константин подхватил Елену на руки и понес в спальню. Она протестовала и отбивалась, требуя отпустить ее вначале в ванную, но он не слушал. Овладел ею яростно, даже жестоко. Она как-будто этого и хотела – обхватила его за талию, сильно прижимая к себе, призывая войти глубже, так глубоко, чтобы не осталось ни мысли, ни памяти, одно только наслаждение. В конце она закричала громко, царапая ему спину ногтями.
Костя отвалился довольный, мокрый и удовлетворенный.
– Теперь можешь идти в ванну.
Елена провела пальцами по его потному лбу, влажным волосам и соскочила с постели. Костя проводил ее взглядом.
«Чудесное тело», – в который раз скользнула у него мысль. Он улыбнулся, зная, что скоро она превратится в желание.
Елена вошла неторопливо, давая ему разглядеть себя всю, смугловатую и прекрасную с алмазными капельками воды на грудях и бедрах. Остановилась у кровати, слегка расставив ноги. Она знала, ему нравится заглядывать между них. Одного такого взгляда Косте было достаточно, чтобы загореться. На этот раз она не ошиблась. Стояла и, улыбаясь, смотрела, как растет его желание. Затем прыгнула на постель и легла грудью ему между ног. Потом подсунула под нее руку и стал ласкать его. Костя закрыл глаза, целиком отдаваясь ощущениям. Нежные пальцы охватывали его возбужденную плоть, потом их сменили губы, язык…
После она оседлала его, и они ускакали в такую даль, из которой вернулись лишь долгое время спустя. Вскоре Костя заснул.
Елена поднялась на локте и некоторое время прислушивалась к его ровному дыханию. Потом бесшумно выскользнула из постели и прошла в соседнюю комнату. Порывшись в сумке с вещами, которую она принесла на следующий день после знаменательной встречи в арбатских переулках, женщина достала из нее большую черную свечу. Она была изготовлена из трупного жира. Вернувшись в спальню, Елена поставила свечу на серебряный поднос, а его – на туалетный столик, и зажгла. Необычный кроваво-красный язычок тусклого пламени загорелся во тьме. В окно заглянула луна. В ее призрачном свете было видно, как вокруг огненного язычка собирается облако черного дыма. Он не поднимался вверх, как положено, а клубился подле свечи, распухая и распухая. Елена пристально смотрела на огонь, ее тонкие руки, дрожа, приближались к облаку с боков, словно преодолевая какое-то сопротивление, сжимали и мяли его. Они летали в диком танце, вонзались, поглаживали, подталкивали, лепили. Это было страшное и завораживающее зрелище – обнаженная красавица, облитая лунным светом, на фоне черной, как смоль тучи дыма, сквозь которую просвечивал багровый глаз пламени. Ее тело изгибалось и корчилось, подчиняясь колдовскому танцу рук, груди подпрыгивали и спадали сладкой тяжестью, касаясь сосками облака.
Елена откинулась со стоном и повернулась лицом к окну. О, как страшен и дик был ее лик. Чудесные зеленые глаза превратились в красные угли, раскаленным металлом светились длинные когти, выросшие на пальцах, алым пламенем горели соски.
Елена взмахнула руками, и облако, заволновавшись, стало быстро приобретать форму свернувшейся в кольцо, готовящейся к атаке змеи. Колдунья сделала правой ногой шаг вперед и одновременно выбросила руки по направлению к постели. Змея развернулась пружиной и бросилась на безмятежно посапывающего Костю. Она впилась в его губы и ноздри и стала втягиваться в них, как червяк. Несколько мгновений, и ее не стало. Костя даже не пошевелился.
Свеча вспыхнула ярким светом и рассыпалась в пепел, распространяя по комнате мерзкий запах склепа. Елена быстро подошла к окну и распахнула его. Могильный смрад унесся в ночь, не оставив следа. Колдунья взяла поднос с пеплом и вытряхнула за окно. Дунула на серебряную гладь, сметая последние черные крупинки, и подставила ее лунному свету. В чистой полированной поверхности отразилось ее ужасное лицо: глаза-угли с вертикальными змеиными зрачками, тонкие острые клыки, придавившие нижнюю губу.
Елена усмехнулась и, закрыв окно, пошла к постели. Положив поднос на туалетный столик, она легла под одеяло и прижалась к Косте. Он обхватил женщину за талию и что-то забормотал во сне. Елена снова усмехнулась – тихо и удовлетворенно.
Как вскоре выяснилось, Елена оказалась неправа – за первым кошмаром последовали новые, и чем дальше, тем страшнее. Несколько ночей Костя являлся в мертвецкую, доставал из сумки скальпель и ножницы и начинал резать трупы. Болезненное любопытство влекло его – он хотел узнать, что там под саваном, затем, что там под этой сине-белой кожей.
Он брал мертвеца за руку и держал, чтобы ощутить проникающий ужасом в самое сердце холод. Давясь от тошноты, он вдыхал запах тления.
Потом приступал к делу. Он резал кожу, и под ней открывалось что-то жирное и мягкое темно-желтого цвета. Это был человеческий жир. Он сильнее нажимал на нож, и ему открывались темно-красные валики. Это было человечье мясо.
«Что я делаю?» – задавал он себе вопрос. Но в этом диком сне на него не было ответа. Был только приказ продолжать работу.
Вонзив скальпель в живот очередного трупа, Костя сделал длинный разрез. Во вскрытой полости было темно. Он наклонился ниже, отложив скальпель и взял в руки кишки. Они были холодны, скользки и подвижны. Они походили на бледно-серую с перламутровым отливом змею. Константин стал вытягивать кишки наружу, они тянулись бесконечной лентой, ложась на мраморный стол, спадая с него, как вареные макаронины. Внутри кишок ощущалось что-то – то мягкое, то твердое. Желая узнать, что там внутри, Костя разрезал кишку в нескольких местах. Запах, ударивший в нос был ужасен. Его стошнило прямо в разверстую брюшину покойника.
Неожиданно кишки стали лопаться и зловонная жижа начала быстро заполнять живот мертвеца, течь по столу и по полу. Костя отшатнулся, намереваясь бежать, но это ему не удалось. Чьи-то стальные руки схватили его за шею и стали клонить голову вниз. Зловонная жижа забулькала, будто закипевшая в котле похлебка. Она была все ближе, ближе… Костя закричал, – дико, отчаянно. И погрузился лицом в жижу. Задыхаясь он пытался вздохнуть, но вместо воздуха в его ноздри, рот, легкие проникала эта мерзость – смесь разложившейся плоти, остатков непереваренной покойником пищи, кала, его собственной блевотины.
С мучительным криком вырвавшись из сна, он сел на кровати, судорожно вдыхая воздух. Подбородок и грудь сто были заляпаны рвотой.
– Дорогой, что с тобой?! – Елена испуганно схватила Костю за руку, но тут же выпустила ее, испачкавшись. – Тебе плохо, ты так страшно кричал. Пойди, умойся. Я накапаю тебе валерианки с валокордином.
Вымывшись, Костя вернулся в спальню и лег на постель, бессильно откинув голову. Елена положила ему свою теплую ладонь на грудь, стала поглаживать ее круговыми движениями, чтобы помочь успокоиться после пережитого ужаса. Потом сказала:
– Дорогой, тебе надо подлечиться. Иначе ЭТО отравит нашу жизнь. Я так переживаю за тебя.
– Да, – эхом отозвался Константин, перед его глазами стояла распоротая брюшина мертвеца, наполненная зловонной жижей. Он судорожно сглотнул.
– Ну прекрати, – Елена шлепнула его ладонью по груди. – Я знаю лекарство, которое тебе поможет. Прекрасный транквилизатор. Маме подруга достает из четвертого главного управления. Больше нигде не делают. Все будет нормально, только станешь ощущать некоторую заторможенность, сонливость.
– Давай, что угодно, иначе я сойду с ума, – сказал он тихо, пряча лицо у нее на груди.
Елена оказалась права, лекарство помогло быстро и эффективно, на вторые сутки после начала приема кошмары оставили Костю. Девять дней он наслаждался спокойным здоровым сном, а на десятый впервые за месяц остался один. Елене пришлось отправиться в командировку. К счастью, недолгую, всего на сутки.
День съела работа, но вечер оставался совершенно пустым. И чем ближе Костя подходил к дому, тем беспокойнее становился. Он боялся остаться один в квартире, страшился, что кошмары вернутся. Костя долго курил на углу, ноги не шли в сторону дома. Тщетно взывал он к воле и мужеству, их словно украли у него. Наконец, сдавшись, он решил заглянуть в бар. Выпивка всегда помогает.
Там, в баре, он и познакомился с Ниной.
Он не помнил, как они оказались у него в квартире, помнил только, как первый раз робко поцеловал ее лицо. Аромат, исходивший от ее волос, потряс его, от ее мягкого прикосновения перехватило горло.
– Нина! – прошептал он. – Нина!
Губы ее отыскали его губы и прижались к ним, безумное вино жизни пробежало по жилам, в сладком огне поцелуя забылось все. Все невостребованные нежность и страсть, припасенные для Елены, выплеснулись наружу. Костя ощутил ответное волнение девушки, ее упругую грудь. Она вновь поцеловала его: волосы ее пахли цветами, груди вызывали мучительную сладкую боль во всем теле. Он сжал ее сильные бедра и притиснул к себе. Она не сопротивлялась, спокойно позволяя снимать с себя одежду и ласкать самые интимные места тела.
Нагота Нины была безупречна, совершенна во всех ее роскошных и изящных изгибах. Удивительные карие глаза смотрели на Костю с мольбой. О чем они молили?..
– Костя… – позвала она. Я еще никогда…
Он закрыл ей ладонью рот и, подняв на руки, отнес на кровать. Там медленно и любовно стал готовить к упоительному слиянию.
Утром от Нины остался один только запах – запах цветов. Костя смущенно думал о происшедшем, как он посмотрит в глаза Елене?.. Какое-то наваждение, помутнение рассудка… Хорошо, что они не стали обмениваться телефонами. Правда, Нина знает, где он живет… Нет, она не осмелится позвонить. Раз она так странно исчезла, значит она не хочет, чтобы они больше встречались. Зачем тогда… Может быть, ей представлялось, что именно так надлежит расставаться с невинностью…
Идя на работу, он увидел в соседнем дворе машины милиции и «скорой помощи». Костя подошел, прислушался к разговорам. Маньяк убил девушку: изнасиловал и перерезал горло. Сейчас вынесут.
Костя протиснулся поближе к подъезду, возле которого толпились люди. Показались санитары с носилками. Под простыней угадывалось тело. Толпа жадно качнулась вперед. Милиционер, оттесняя людей, задел простыню и она сползла, открыв белое лицо. Костя взглянул в него, в застывшие ужасом глаза, затем на растерзанное, словно бешенным псом, горло, и потерял сознание.
Очнулся он на лавочке во дворе. Рядом хлопотали женщины, раздраженно переминался с ноги на ногу милиционер.
– Ну что, пришли в себя? – спросил он холодно, увидев, что Костя открыл глаза.
– Да, – прошептал тот.
– Сами дойдете? Или в больницу поедем?
– Нет! Нет! – Костя вспомнил о Нине, лежавшей под простыней. – Мне уже лучше. Посижу и пойду на работу.
– Ну глядите… Нечего на такие вещи глазеть, вообще-то.
– Да, да, конечно…
На работу Костя конечно не пошел. Приняв двойную дозу Елениного лекарства, позвонил в отдел и сказался больным. Костя не стал выдумывать невероятную, но простую историю, а рассказал все как есть. Он услышал, как начальник передает его слова женщинам, а те охают в ужасе, и терпеливо ждал, когда все закончится. Повесив трубку, Костя направился к бару, но на полпути остановился. Острое желание выпить исчезло. Он вызвал в своем воображении картины вчерашней ночи и сегодняшнего утра, но они оставили его странно равнодушным.
– Это – лекарство, – сказал он себе и лег на постель. Весь окружающий мир был ему совершенно безразличен.
После обеда явилась Елена. Он обрадовался ей, счастливо улыбался, чуть-чуть удивляясь тому, как легко забыл обо всем. Ведь это было совсем недавно. Недавно… но забылось, как сон. Костя смотрел в лучистые, изумрудные глаза Елены, целовал ее яркие губы, обнимал полное страсти тело, обладал ею и ВЧЕРА, СЕГОДНЯ УТРОМ уплывали куда-то вдаль, пока совсем не исчезли из его жизни и памяти.
Сжигаемая злостью, Лариса пнула ногой дверь в ванную комнату. Вино из бокала плеснуло ей на руку. Она выпила залпом и поставила бокал на край умывальника. Он опять посмел не придти! Это уже второй раз! Трахается сейчас наверное с какой-то молодой дурой! Кобель несчастный!
Да черт с ним, в конце концов! Найдем другого. Плохо, что сейчас никого нет под рукой. А-а, нет мужика, напьюсь! Приму сейчас ванну и напьюсь, надев пеньюар. Напьюсь перед зеркалом. А вместо мужика у меня будут эти штучки из магазина «Интим». Если бы у него был такой, его можно было бы на выставке показывать. А вибратор вообще, она давно заметила, много нежнее его пальцев. Вечно с заусенцами, царапается…
Лариса подошла к окну. Жарко! Распахнула створки и вдохнула холодный воздух. Облокотилась о подоконник и, задумавшись, долго смотрела во двор. Потом неожиданно вздрогнула и отпрянула от окна. Во дворе под деревом кто-то стоял и наблюдал за ней. Не просто стоял, а именно наблюдал и именно за ней.
А может быть это ОН?.. Лариса вновь подошла к окну и вгляделась в темноту. Однако, хоть она и жила невысоко – на втором этаже – различить могла только силуэт, прислонившегося к стволу дерева человека.
«Нет, это определенно ОН», – сказала она себе. Щеки ее вспыхнули, горло перехватило, сладкая волна прокатилась по телу и ударила в низ живота.
«Ну ладно, сейчас он у меня прибежит, как миленький, и будет просить прощенья на коленях, а потом… А потом я его измочалю». – Лариса представила, как она это будет делать и захихикала. Затем стала расстегивать блузку.
Повесив ее на вешалку, она вдруг задумалась. Глянув в окно, прикинула и убедилась, что ее будет видно только в том случае, если она встанет на табурет, а табурет поставит возле самого окна. Так она и сделала. Но прежде затворила створки.
На ней был белый прозрачный, как паутинка, бюстгальтер, соскочивший с ее пышных грудей, когда она расстегнула застежку. Выгнувшись, как кошка. Лариса медленно и нежно провела ладонями по грудям, сжала их, оттянула пальцами соски. Стала щипать их – это всегда возбуждало ее, быстро и сильно. Рывком расстегнула молнию на юбке и та легко соскользнула с бедер. Лариса оглядела себя с удовольствием – она была сама себе желанна. Что же должен был чувствовать ОН, глядящий на это прекрасное, вызывающее тело. Он должен чувствовать желание, вину и злость на себя за то, что поступил так глупо.
Эта мысль чуть не свела Ларису с ума. Она сбросила трусики, такие же прозрачные, как бюстгальтер и скользнула пальцами в ложбинку между ног…
Наблюдавшему за ней человеку было плохо. Его трясло, как в лихорадке, пот стекал по лбу и щекам, словно он стоял у открытой раскаленной печи. Он беспокойно поводил головой и тихо скулил будто щенок. Вот он оттолкнулся от дерева, намереваясь бежать, но чья-то рука, появившаяся из-за ствола удержала его и вложила в ладонь чашу с жидкостью. Он жадно осушил ее тремя глотками и отбросил в сторону. Смутная тень отделилась от ствола, подняла чашу и вновь исчезла.
Не прошло и минуты, как мужчина успокоился: глаза его остекленели, зубы оскалились, по подбородку потекла слюна.
Самка… бесстыжая самка… ласкает себя, извиваясь от похоти у него на глазах. Как животное во время случки, волосы разметались по плечам, груди трепыхаются из стороны в сторону. Ему казалось, что он слышит даже какие-то звуки. Они манили его – это был зов самки, жаждущей оргазма.
Мужчина не понимал, что звуки срываются с его собственных губ.
Как сомнамбула прошел он через двор и вошел в подъезд.
Услышав звонок в дверь, Лариса довольно рассмеялась и неторопливо слезла с табурета. Совершено обнаженная она прошла в прихожую и рывком распахнула входную дверь. За ней стоял совершенно незнакомый мужчина. Женщина отшатнулась и запнувшись о ковер упала.
Мужчина – это был Костя – увидел ее соблазнительные полные ляжки, темную полоску волос между ними и замычал, подобно раненому животному. Затем бросился на Ларису и схватил ее за горло. Женщина оказалась сильной и отчаянно сопротивлялась, что разъяряло его еще пуще. Он лежал на обнаженном животе, между широко расставленных ног, груди прыгали перед его глазами.
Костю трясло, он горел, а его мужская плоть стояла, как у жеребца, огонь пылал в ней, огонь, требовавший вонзиться между этих белых ног в мягкую желанную плоть.
Наконец ему удалось сжать горло женщины так сильно, что она стала задыхаться, и сопротивление ее ослабло. Его руки впились в груди, которые она ласкала в ванной. О, как они были упруги и нежны. Ему хотелось сжать их так сильно, чтобы они лопнули, как налитые соком ягоды.
Женщина завизжала от боли, но Костя мгновенно оборвал крик ударом кулака. Еще один удар и еще – он чувствовал, как зубы крошатся под костяшками пальцев, как лопаются губы, становясь мокрыми и липкими, и понял вдруг, что ему желанны эти мокрость и липкость, но не здесь, а там – внизу. Костя расстегнул брюки и вошел в НЕЕ резким толчком. Сделав всего несколько движений, он застонал и забился в экстазе.
Насилуя хозяйку квартиры, он не заметил, как отворилась входная дверь, и закутанная в черное фигура, встала позади него. Он ощутил лишь мутную темную волну, захлестнувшую все его существо. Руки его обхватили плечи Ларисы, поползли вверх и сомкнулись на горле. Женщина забилась в смертельных объятьях, и этот танец вызвал в нем новый взрыв возбуждения. Душа жертву, он стал яростно насиловать ее.
Черная фигура за его спиной корчилась, словно ведьма на костре.
Некоторое время спустя Костя поднялся тяжело дыша и застыл, бессмысленно глядя на распростертую у его ног жертву.
Черная фигура вытянула вперед руки – блеснули перламутром острые кривые ногти. Тонкие женские пальцы шевелились, как паучьи лапы, перебирающие паутину. Не прикасаясь к Косте, эти руки делали такие движенья, как-будто толкали его вперед. Он посмотрел влево, вправо, склонился над Ларисой, схватил ее за длинные светлые волосы и потянул. Намокшие в крови, они выскользнули у него из пальцев. Костя сердито заворчал и намотал волосы на кулак. Другой рукой ухватился за подбородок и поволок тело вглубь квартиры, оставляя позади широкий кровавый след.
Фигура в черном опустилась на колени и припала к луже крови. Послышался звук, который издает собака, жадно лакающая воду. Вскоре он прекратился. Фигура поднялась во весь рост и из-под капюшона, скрывавшего лицо, прозвучало слово: «Мало». Фигура двинулась следом за Костей и обнаружила его в просторной кухне. Он стоял посреди нее и явно не знал, что ему делать дальше.
Черная фигура вновь стала делать пассы у его затылка. Костя встрепенулся и направился к столу подле мойки. Выдвинув ящик, он достал из него большой разделочный нож. Встав на колени возле тела, он рывком поднял мертвую голову за волосы и вонзил лезвие в шею. Кровь брызнула ему в лицо, полилась на пол. Еще удар и еще – ручеек крови превратился в поток.
Мыча и скрежеща зубами, Костя слепо тыкал ножом в тело, кромсая его на части. Особенно яростно он трудился над интимными местами. Отрезал груди и бросил за спину. Черная фигура на лету подхватила их и впилась, урча, зубами в теплое мясо.
Костя срезал мясо с ягодиц, ляжек, долго ковырял ножом между ног, пока то, чем жила Лариса, не превратилось в огромную кровавую дыру.
Фигура в черном тоже постепенно теряла контроль над собой. Впала в экстаз, пожирая мясо, слизывая с пола кровь. Капюшон сполз с ее головы и открыл лицо Елены. Но узнать ее сразу было непросто, так сильно и страшно изменились ее черты. Вертикальные змеиные зрачки перечеркнули красные, как угли, глаза, щеки приобрели желтовато-синюшный оттенок, острые клыки вылезли из-под верхней губы.
– Пошел вон! – рявкнула Елена, подползая к очередной луже крови и начиная лакать ее длинным узким языком. Затем она подобралась к телу и начала вылизывать те ужасные кровоточащие места, по которым прошелся ножом Костя.
– Не туда! – крикнула Елена, увидев, что он идет к входной двери. – В ванную! Сначала вымоешься! Потом домой!
Костя послушно изменил направление.
Он медленно приходил в себя. Затуманенным взором посмотрел налево, направо, вниз. Он был распят у стены пещеры или какого-то старинного подземелья. Руки и ноги зажаты в стальные кольца. Чуть поодаль по бокам потрескивали факелы, освещая стоявшую прямо перед ним Елену. Сейчас она была в своем истинном обличьи вампира. Ее огненные глаза светились во мраке. Она была обнажена: на лбу, грудях, лобке, бедрах – колдовские знаки, начерченные кровью. Руки по локоть затянуты в черные перчатки, оставлявшие открытыми когти.
Увидев, что Костя очнулся, она подошла к нему и взяла за подбородок. Он дернул в испуге голову: то, что казалось ему перчатками, в действительности было засохшей кровью. Она обмакнула в нее руки по локоть и дала ей засохнуть.
– Ну вот и все, – сказала она низким, страшным голосом.
– Ты убьешь меня.
Елена захохотала, обнажив клыки.
– Я?! Не-ет!
Приблизив свое лицо почти вплотную к его лицу, она некоторое время смотрела Косте в глаза. Он, как загипнотизированный, глядел в черные щели зрачков, на окровавленные клыки, на трупную кожу.
«Это – сон!» – мелькнула мысль-надежда.
– Нет, это не сон, – сказала Елена. – Скоро ты поймешь это. Перед смертью ты узнаешь все. Рассказывать правду – мое правило.
Я выбрала тебя не потому, что в тебе было что-то особенное. Нет! Таких, как ты, миллионы. Мне было в общем-то все равно. Кого-то надо было выбирать, начинался новый цикл. Чтобы жить мне необходима кровь. Две-три жертвы не более. Лишнего мне не надо, – Елена рассмеялась. – Ты когда-нибудь слышал о толстых вампирах? – Она засмеялась опять.
– Тем вечером именно ты шел по переулку, и это решило твою судьбу. Мои слуги накинулись на тебя, та спас меня, и я стала твоей любовницей. Все, что было между нами, БЫЛО. Это было чудесно, не правда ли?.. – Елена взяла Костю за подбородок когтями и посмотрела ему в глаза. Он пытался вырываться, но когти больно впились в кожу, и Костя сдался. Елена отпустила его и отошла на несколько шагов, так чтобы он видел ее всю. Она приняла соблазнительную позу: расставила ноги, словно приглашая взять ее, выпятила грудь. И несмотря на весь ужас происходящего Костя ощутил, как быстро в нем растет желание.
– О! – Елена потрогала его. – Умный мальчик, ты еще будешь моим, – и стала жадно ласкать его. Потом так же жадно и жестоко взяла его, вонзила клыки в плечи и грудь, раздирая ребра когтями. Ее низкий гортанный смех разносился по подземелью.
– У каждого приговоренного есть право на последнее желание. Ты его не высказал, но показал. Я его исполнила. С удовольствием, как и раньше. Пойми, я не предавала тебя и не готовила в жертву. Тебя выбрала судьба. Что касается меня, то все предопределено помимо моей воли. Я только следую неписанным законам. Остаться молодой, жить дальше я могу только напившись крови девственницы, только что отдавшейся мужчине. Нина была ею. Я долго искала ее, околдовывала, привораживала к тебе. Это было очень нелегко, потому что у нее был молодой человек, в которого Нина была романтически влюблена. Я пробудила в ней желание и заставила видеть в тебе его. Я наводила на тебя страх, чтобы ты не шел домой. Я направила тебя в бар.
Когда главное удалось, мне нужна была еще одна жертва. Не для молодости, для силы. Лариса, ах да ты же не знаешь, как ее звали. – Елена посмотрела Косте в глаза. – Ты не знаешь, что ты сделал недавно. – Она подошла к нему, и ее нечеловеческий взгляд прожег его насквозь, проник в самую душу.
Тьма взорвалась разноцветными картинками, и Константин вспомнил ВСЕ. В ужасе он задергался, пытаясь вырвать стальные кольца из стены, закричал мучительно и отчаянно, не в силах высвободиться, не в силах перенести того, что ему открыла память.
– Да, там было много крови, – сказала с удовлетворением Елена, пристально наблюдавшая за Костей. – Но давай, пока забудем обо всем этом – Она провела рукой перед Костиным лбом и он успокоился. Подробности кровавой бойни в квартире Ларисы потускнели и стерлись в его воображении. Только лихорадочный стук сердца и прерывистое дыхание напоминали еще некоторое время о них.
– Сны… Ты, наверное, хочешь знать их тайну? Да, сны были важнее всего. Пока ты не стал видеть их, я не предпринимала ничего. Потому что только по снам могла определить твою судьбу. Если бы твоя душа была чиста и приверженна Добру, мне пришлось бы отступиться. Я осталась бы в твоей памяти лишь очередным, может быть сильным увлечением. Если бы ты был готов стать слугой того, чье имя не называют, все было бы просто. Ночью я бы прокусила тебе шею и выпила твою кровь. Утром ты бы проснулся уже одним из нас – вечно молодым и истинным моим любовником. Между нами не было бы больше тайн, у нас было общее настоящее и будущее, так долго, как мы пожелали бы. Но, как большинство, ты оказался ни тем и ни сем. Ты годишься лишь на роль искупительной жертвы.
Сны показали, ко мне тебя тянет сильнее, чем к добру. Ты сдался, не заметив этого. Сны – это начало твоего падения в ад. Это не страхи, а то, что ждет тебя вскоре.
Я отдам тебя мертвецам. Вот им!
Елена запрокинула голову и издала хриплый вой. Как только он стих, во тьме послышались шаркающие шаги. Волосы у Кости встали дыбом.
Из тьмы выступили пять фигур. Мутные глаза, почерневшие губы, свинцово-серая плоть. Подземелье наполнил трупный смрад.
Зомби подошли к Елене и стали рядом.
– Прости, дорогой, но я должна откупиться, чтобы остаться в живых. Моя жизнь нелегка, я хожу по тонкой проволоке над огненной пропастью. В любой миг карающий меч может сбросить меня вниз. Чтобы удержаться, я должна переложить грех на другого – на них и на тебя. Они не против, потому что они исчадья ада. Их грехи так велики, что еще один им будет не в тягость. Ты – против, но ты не можешь сопротивляться. У меня с зомби старинный договор. Я отдаюсь им и отдаю живого, за эти подарки они принимают на себя мой очередной грех, и я могу спокойно продолжать жить. Время настало! – воскликнула Елена.
Рука одного мертвеца стиснула ее грудь, другого – поползла по бедру. Ведьма опустилась на пол, и мертвецы покрыли ее отвратительной копошащейся массой. Костя мог видеть только ее ноги, упиравшиеся в пол, слышать стоны, испытывавшей оргазм женщины, и довольное хрюканье зомби.
Не выдержав, он завыл. Он выл и выл, как испортившаяся сирена, но никто не обращал на него внимания до тех пор, пока не пришел его черед. Когда мертвецы удовлетворили свою похоть, Елена поднялась и, не произнося ни слова, покинула подземелье. Тогда тусклые глаза обратились к Косте.
Он уже был мертв и не мог услышать, как с хрустом ломаются хрящи и рвутся сухожилия его ног и рук, не мог ощутить, как они выкручиваются и разламываются в суставах. Он не мог закричать, когда мертвецы вырывали его сердце и легкие, выковыривали глаза, пожирали мозг и печень.
Твари злобно дрались за свою долю и уходили, ворча, каждая в свой угол, чтобы пожрать там доставшийся ей кусок окровавленной плоти. Не прошло и часа, как они обглодали тело Константина до костей, а их бросили в угол в общую кучу, где перемешались остатки таких же как он жертв-убийц. Бросили на потребу крысам и чертям.
Елена была в это время уже далеко. Какое-то время она будет жить тихо, ничем не выделяясь среди людей. Какое-то время, пока не услышит зов и не выйдет на охоту за своим любимым напитком – КРОВЬЮ.
Михаил Орлов
Изгнание дьявола
В Гейдельберге в 1446 г. сожгли несколько ведьм; в следующем году ревностный инквизитор, спаливший этих ведьм, к своему несказанному удовлетворению захватил и ту старую ведьму, которая была совратительницей и учительницей тех ведьм. Однако, все это были лишь первые шаги; преследование ведьм еще не было введено в правильную систему, потому что, например, в том же 1447 г. изловили колдунью, злодейства которой были блистательно изобличены, а между тем, вместо того, чтобы ее сжечь, ее только выслали из пределов области, где она злодействовала.
Во Франции около того же времени шла оживленная травля ведьм в Тулузе, Здесь инквизиторы осудили и сожгли множество ведьм, изловленных в Дофинэ и Гаскони. Когда именно произошли эти процессы и сколько в них попало жертв фанатического недоумения, об этом записи не осталось; но остался другой след от этих процессов, о котором упоминает испанский историограф инквизиции, Алонсо де-Спина. Он посетил Тулузу и видел на стенах местной инквизиции множество картин, написанных по рассказам ведьм, т. е. по показаниям, данным ими на суде. Картины эти изображают сцены шабашей, поклонения дьяволу, представленному в виде козла, и т. п. Есть указания, что в то же самое время, когда неистовствовали тулузские отцы-инквизиторы, их южно-французские и северно-итальянские братья тоже не коснели в праздности; так, в Комо шли многочисленные процессы ведьм. Светские властители старались не отстать от духовенства; бретанский герцог Артур ІІІ после своей смерти (+1457) удостоился известности, как ревнитель веры, спаливший наибольшее число ведьм и колдунов в Бретани, Франции и Пуато, – своего рода рекорд, как выражаются нынешние спортсмены.
Таким образом можно считать, что во второй половине ХV столетия ведьмовство по всей Западной Европе приняло эпидемический характер. Появились целые поколения ведьм, ведьмовские роды и семьи. Так, из одного процесса, веденного в Нормандии в 1455 году, явствует, что в одной из тамошних общин, Торси, обнаружена была семья, давшая в течение 40 лет подряд несколько поколений ведьм и колдунов. Родоначальником этой дьявольской семьи был некто Югенен; он сам, его жена и потомки – все были колдуны и ведьмы. Очень долгое время о подвигах этой семьи местное население не доводило до сведения инквизиции, предпочитая расправляться с ведьмами самосудом. Дело обычно шло таким порядком. Какой-нибудь мужичок высказывает подозрение, что в гибели павшей у него скотины виноват упомянутый Югенен или его жена. Эта баба, жена Югенена, Жанна, встретив жену мужика, у которого пал скот, говорит ей: «Напрасно твой муж на меня клеплет, что я извела вашу скотину; скажи ему, что это ему так не пройдет». И в ту же ночь эта баба вдруг внезапно заболевает так, что возникает опасение за ее жизнь. Тогда ее муж идет к Югенену и объявляет ему и его жене, что если его баба умрет, то он вздует их обоих так, что они свету не взвидят. И на другой же день его жена выздоравливает. Понятно, что, владея таким прекрасным средством к обузданию злодейства ведьм, крестьяне не спешили доносить на них Инквизиции.
Мы уже не раз упоминали о том, что служило главным толчком для распространения ведьмовства. Его блестящий успех и эпидемические размеры зависели, главным образом, от широкой его популяризации самим духовенством. Инквизиция, истребляя ведьм, тем самым открыто и публично, во всеуслышание, признавала их, т. е. утверждала, что человек, буде на то явилась его добрая воля, может без всякого затруднения войти в сношения с дьяволом и получать от него сверхъестественную мощь, власть, силу, и средства творить чудеса. Что же удивительного, что такая перспектива соблазняла множество народа. Иному нищему мужику, бабе, поденщику было и лестно, и в то же время выгодно сделаться, т. е. прослыть колдуном или ведьмой; он становился предметом боязни, его старались задобрить, к его услугам прибегали в болезнях, продажах, при разделке с недругами, при затруднениях по любовной части, и все это хорошо оплачивалось. А народ обращался к колдунам с величайшей охотой во всяком таком случае, где, по его представлению, пахло чертовщиной, зная, что духовенство в этих случаях далеко не располагает всегда и во всех случаях действительными средствами для борьбы со злом.
В этом смысле мощным толчком к развитию эпидемии ведьмовства можно считать, например, папские буллы против ведьм, вроде опубликованной папой Иннокентием VIII в декабре 1484 г. В этой булле («Summis desiderantis»; папские буллы, по принятому обычаю озаглавливаются и обозначаются первыми словами их текста) папа сокрушается о том, что колдовство и ведьмовство распространились повсюду, а особенно в Германии, и, главное, подробнейше перечислены все злодейства ведьм: шабаши, поклонение дьяволу, напуск ведьмами бурь, засух и т. д. По этой одной булле народ мог всесторонне ознакомиться со всей областью ведьмовства, а главное, убеждался в том, что сам наместник Христов нисколько не сомневается во всем этом, открыто признает полную возможность и реальность всего этого. После подобного папского послания уже становилось невозможно даже и голос поднимать в опровержение ведьмовства. Вооружившись этой буллой, ревнители благочестия, инквизиторы Шпренгер и Инститорис начали без стеснения хозяйничать по всей Германии, возводя на костры тысячи жертв. В одном лишь крошечном городке Равенсбурге Шпренгер, по его собственным словам, сжег сорок восемь ведьм.
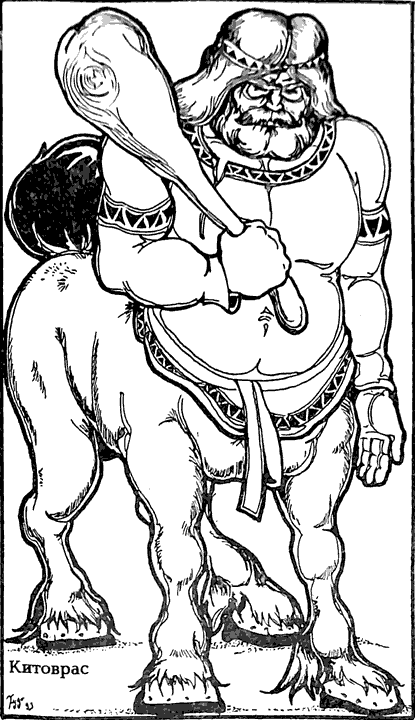
Под крылом могучей защиты папы инквизиторы орудовали без удержа. Надо было обладать величайшим гражданским мужеством, чтобы выступать против них, становясь на защиту их жертв. В числе таких борцов надо, между прочим, отметить «муниципального оратора» (существовала такая должность), адвоката и врача, славившегося своей ученостью, Корнелия Агриппы. Он пытался было вырвать из когтей инквизитора Николая Савена, орудовавшего в Меце, одну несчастную женщину, обвинявшуюся в колдовстве. Но инквизиция живо осадила его усердие. В то время уже было установлено твердым правилом, что каждый, так или иначе вступавшийся за еретика, колдуна, ведьму, вообще за подсудимого инквизиции, считался сообщником и пособником и рисковал даже вполне разделить участь подсудимого. Этого отчасти не миновал и Агриппа; его, положим, на костре не сожгли, но он все же лишился должности и даже должен был покинуть Мец.
Едва ли не единственный случай заступничества за ведьм со стороны светских властей представляет пример Венеции. Около того времени, к которому относится наш рассказ, т. е. в ХV-ХVI ст., в Венеции уже утвердилась ее олигархическая республика, с советом Десяти во главе. В это время римская курия усердно хлопотала о насаждении ведьмовства в северной Италии. Позволяем себе так выразиться, потому что папы своими вечными натравливаниями на ведьм самых ярых старателей-инквизиторов, которых они снабжали почти безграничными полномочиями, успели, наконец, убедить ломбардское население в полнейшей реальности ведьмовства, так что, благодаря этим благочестивым стараниям, Ломбардия сделалась настоящей областью ведьм. Инквизиция работала, что называется, не покладая рук, отправляя на костры сотни жертв. В Брешии в 1510 г. сожгли 140 колдунов и ведьм, в Комо, в 1514 году, – 300. И вот, в 1518 году правительство республики было извещено о том, что в Валькамонике инквизитор уже сжег 70 ведьм, да столько же у него их сидит в тюрьме, в ожидании суда, да сверх того уже заподозрено еще 5.000 человек, т. е. почти четверть всего населения той местности. Сенат и совет были прямо-таки встревожены этой компанией истребления граждан республики и вступились за жертвы. Инквизитор сейчас же нажаловался папе, и тот сделал совету Десяти строгое внушение – не соваться, куда не спрашивают. А так как совет не очень испугался этой острастки, то папа (Лев Х) в феврале 1521 г. дал инквизиторам полномочне отлучать от церкви, гуртом и по одиночке, смотря по ходу дел, всех и каждого, кто будет заступаться за ведьм и вообще «мешать» инквизиции. Но и булла папская не проняла совета Десяти. В марте он преспокойно издал особый наказ для судопроизводства по делам о колдовстве, причем мимоходом отменил все уже состоявшиеся решения по этим делам. На угрозы же папского легата совет твердо и спокойно отвечал, что население Валькамоники так бедно и невежественно, так не твердо в истинной вере, что ему гораздо нужнее хорошие проповедники, нежели преследователи, судьи и палачи.
«Богомил, высший над жрецы словян, вельми претя люду покоритися», говорится в Иоакимовской летописи. Эти слова относятся ко времени св. Владимира, когда жрецы старой веры яростно боролись за свое господство над духом народа и возбуждали его против новой веры. А она ревниво хранилась в недрах старозаветных семей, передавалась еще долгое время детям и внукам, да и теперь еще сколько можно насчитать от нее хотя и не ясных остатков!
Волхвы, колдуны, ведуньи в нашей старой вере, надо полагать, играли едва ли не более выдающуюся роль, чем жрецы Перуна, Волоса, Хорса и прочих чинов нашего прародительского Олимпа. К каким богам обращались эти кудесники, какими силами они орудовали, это покрыто мраком неизвестности. Но народ веровал в эти силы и мало-помалу с течением времени, держась за старых богов и не желая с ними расстаться, он перепутал свои представления о них с представлениями христианскими, и отсюда пошло то характеристическое название двоеверов, которое было приложено к нашим предкам старинными ревнителями благочестия. Духовенство хорошо сознавало ложность положения и в своих проповедях, посланиях, как видно по дошедшим до нас письменным свидетельствам, боролось против старого суеверия, а особенно против волхвов, кудесников и ведуней. Митрополит Иоанн, живший в XII веке, Кирилл Туровский, митрополиты Фотий и Даниил, «Кормчая Книга», «Домострой», «Стоглав», громят волхвов и веру в них народа, грозят за обращение к ним церковными карами, настаивают на том, чтобы все прибегающие к кудесникам не допускались к причастию. В «Кормчей Книге» прямо упоминается о том, что люди обращаются к волхвам («следуют поганым обычаям») в чаянии «увидеть от них некая неизреченная». Надо полагать, что волхвы, чуя в духовенстие врагов и преследователей, обращались к попам со взятками, и, быть может, иных и соблазняли, потому что в одном из тогдашних поучений духовенству говорится о том, чтобы священнослужители не принимали приношений от волхва, потворника, жреца. В указе, изданном в 1552 году, повелевается «кликать по торгам, чтоб к волхвам, чародеям и звездочетам не ходили», и ослушникам угрожали опалою и духовным запрещением… «А если бы, – говорится в одной патриаршей грамоте XVI века, – в котором месте или селе будет чаровница или ворожка, сосуды диавольские, или волшебница, да истребится от церкви, и тех, которые диаволом прельстившиеся до чаровниц и до ворожок ходят, отлучайтеся». В одном из рукописных сборников XVI века Афанасьев нашел в перечислении разных грехов следующие пункты: «грех есть стрячи веровавши (т. е. верить в злые встречи) – опитемьи 6 недель, поклонов по 100 на день; грех есь в чох веровати или в полаз – опитемья 15 дней, по 100 поклонов на день; грех есть к волхвам ходити, вопрошать или в дом проводити, или чары деявше – опетимья 40 дней; грех есть чары деявше каковы либо в питии… грех есть носивше наузы какие-либо» и т. д. За все эти грехи, как видно, была назначена определенная эпитемия: по стольку-то поклонов в день, столько-то дней подряд. К великой чести нашего духовенства надо сказать, что у него колдуны отделывались куда дешевле, чем у западно-европейского. В том самом XVI веке, когда в Европе пылали костры, на которых горели живьем сотни ведьм, наши смирные пастыри заставляли только своих грешников бить покаянные поклоны.
Конечно, как и всякая благая проповедь, все эти увещания действовали на народ туго, слабо и медленно; такова участь добра и истины на сем свете. Народ шел к своим колдунам, не взирая ни на какие громы духовенства и эпитемии. Главное, чем привлекал ведун – это было его высокое целительное искусство. Духовенство твердило, что волхвы служат сатане и исцеляют его силою; народ же, с его непосредственным пониманием вещей, очевидно, шел к цели прямолинейно; ему надо было добиться исцеления, а откуда оно исходило – это представлялось ему как бы излишним умствованием. «Сатана исцеляет тело, но губит душу», твердило духовенство. Но народ в душе и о ее загробных судьбах имел понятие смутное и неопределенное, тело же грешное предъявляло свои требования со всей ясностью действительности.
Афанасьев приводит интересные выписки из «Слова о злых дусех», приписываемого св. Кириллу. Святитель громит тех, кто при болезнях обращается к ведувам: «О, горе нам, прельщенным бесом и скверными бабами (т. е. колдуньями), идем во дно адово с проклятыми бабами!» В послании к новгородцам митрополита Фотия, писанном в 1410 году, он предписывает духовенству: «також учите их дабы… лихих баб не принимали, ни узлов, ни примоявленья, ни зелья, ни вороженья и елика такова… и где такие бабы находятся, учите их, чтобы перестали и каялись бы, а не имут слушати – не благословляйте их». Приводим эти поучения русского пастыря ХV века, чтобы опять-таки отметить глубокую разницу между нашим духовенством с его удивительной для того времени терпимостью, и духовенством Западной Европы проповедовавшим беспощадное истребление. Для наших патриархов, митрополитов и прочих представителей высшего духовенства ведун, ведьма – были люди заблуждающиеся, суеверы, которых надлежало вразумить и склонить к покаянию, а для западно-европейского папы, прелата, епископа они были прямо адовым исчадием, которое подлежало истреблению.
В Сильвестровском «Домострое» мы находим довольно полное перечисление всех ходячих суеверий его времени из области демонизма. Почтенный автор этого в своем роде знаменитого трактата к дамскому полу, как известно, очень не благоволит, что, разумеется, и отзывается на сделанной им характеристике русской женщины, его современницы. «Издетска начнет она, – говорит Сильвестр, – у проклятых баб обавничества (чародейство, от обавать, – нынешнее обаять, обаяние) навыкать и сретичества искать, и вопрошать будет многих, како б ей замуж выйти, и как бы ей мужа обавити на первом ложе и в первой бане; и взыщет (будет искать) обавников и обавниц, и волшебств сатанинских, и над ествою будет шепты ухищряти и под нос подсыпать, и в возглавие и в постель вшивать, и в порты резающи, и над челом втыкаючи и всякие прилучившиеся к тому промышляти, и кореньем и травами примешати, и всем над мужем чарует».
Троицко-Сергиевский монастырь из своей области старался изгнать всяких кудесников. Входившие с ними в сношения штрафовать денежными взысками, а кудесников предписывалось «бив да ограбив, выбити из волости вон».
В то время в народе распространилось немало списков так называемых отреченных книг, все это были переводы с греческого, частью с латинского. Читатели, вероятно, слыхали о некоторых из этих книг, но едва ли многие знакомы с их содержанием. Поэтому мы приведем здесь характеристики некоторых из этих книг, сделанные тогдашними ревнителями благочестия, которые видели в них что-то дьявольское и увещевали публику «бегать этих книг, аки Содома и Гоморры», а если попадутся в руки, то не медля сжигать. К любимейшим из этих книг относились те, в которых трактовалась наука о звездах; к таким книгам относятся «Зодий» (иначе «Мартолой», «Остролог»), «Рафли», «Аристотелевы врата». Зодиев два: «Звездочетец – 12 звезд» и «Шестидневец». Это сборники чисто астрологические, в которых повествуется о знаках Зодиака, о прохождении через них солнца и о влиянии всех этих обстоятельств на новорожденных младенцев и вообще на судьбу людей; по этой книге составлялись всякого рода предсказания, между прочим, и об общественных делах и событиях – войне и мире, голоде, урожае, и т. п. Мы уже видели, как относилось к астрологии европейское духовенство; что касается нашего русского, то оно тоже считало пользование такими книгами безумием: «в них же безумнии люди верующе волхвуют, ищуще дний рождения своего, санов получения и урока житию». В «Рафлях» тоже трактуется о влиянии светил на жизнь и судьбу людей. В «Стоглаве» упоминается о том, что люди, затевавшие судебные дела, часто обращались к ведунам и «чародейники от бесовских научений пособие им творят, кудесы бьют (очень темное выражение; кажется, намек на ворожбу с бубном, наподобие сибирских шаманов; слово куд, по-видимому, значило чорт) и в „Аристотелевы Врата“ и „Рафли“ смотрят и по планетам гадают, и на те чарования надеятся поклепца и ябедник, не мирятся и крест целуют и на поли бьются». Аристотелевы врата – это просто перевод очень знаменитой древней латинской книги «Secreta Secretorum», по преданию будто бы написанной Аристотелем; вратами в ней называются ее подразделения, главы или части. Она трактует о разных тайных науках, между прочим, и об астрологии, медицине, физиогномике, а также содержит разные нравственные правила и рассуждения. В книгах «Громовник» и «Молниянник» заключаются рассуждения и предсказания о погоде, урожае, повальных болезнях, войне и мире, бурях и землетрясениях. Были еще книги: «Мысленник» (трактат о создании мира), «Коледник» (сборник примет о погоде), «Волхвовник» (тоже сборник примет), «Сновидец», «Путник» (трактат о добрых и злых встречах), «Зелейник» (описание целебных трав) и разные другие.
Как мы уже заметили, все эти книги духовенство объявило «еретическими писаниями» и предавало пользующихся ими проклятию. Любопытно, между прочим, что книги эти иногда назывались «болгарскими баснями», из чего следует заключить, что эти книги проникли к нам через Болгарию. И видно, что русский народ крепко их полюбил, вероятно, потому, что то, что в них содержалось, совпадало с его старыми верованиями, или потому, что в них дело шло о таких вещах, которые народ издревле считал важными и нужными.
Страстная приверженность народа к старой вере во всех этих ее проявлениях, вроде колдовства и магических книг, само собою разумеется, раздражала духовенство. Сначала оно метало в еретиков только словесные громы и молнии, а потом понемногу стало требовать и суровых мер. Дела о колдовстве вообще были предоставлены ведению духовенства с самого начала, т. е. с момента обращения Руси в христианство. В церковном уставе, писанном еще при Владимире, сказано, что духовный суд ведает – «ветьство, зелейничество, потворы, чародеяние, волхвования»; и за все эти преступления, как и в Западной Европе, полагалось сожжение на костре. У нас никогда не было, положим, такого ужасающе торжественного аутода-фе, как в Испании, но об отдельных случаях костровой расправы в летописях упоминается. Так, в 1227 году в Новгороде «изжгоша волхвов четыре». В Никоновской летописи, где описан этот случай, упоминается, между прочим, о том, что бояре заступались за волхвов, но, к сожалению, не разъясняются причины этого заступничества.
В 1411 году в Пскове началась моровая язва, чума, обходившая тогда всю Европу. Надо думать, что обезумевший народ, как это неизменно случается при эпидемиях даже и в наши дни, видел в море злую проделку колдунов или ведьм. Раз такая мысль явилась виноватых найти не затруднились, и вот искупительницами общественного бедствия явились двенадцать «вещих жонок», т. е. ведьм, которых псковичи сожгли живьем. При Иоание Грозном было подтверждено узаконение о сжигании чародеев; царь, как известно, ужасно их боялся. По делам XVII века видно, однако, что сожигание применялось в то время уже редко: колдунов и колдуней ссылали в отдаленные места, в монастырь, но не жгли, хотя сожжение признавалось все-таки законною карою чародеев; так в грамоте царя Феодора об учреждения в Москве славяно-греко-латинской академии говорится, что если в академии окажутся учителя, ведающие магию, то вместе с их учениками они «яко чародеи без всякого милосердия да сожгутся». В то же время начальству академии строго предписывалось смотреть за тем, чтоб никто из духовных или мирян не держал у себя отреченных книг «волшебных, чародейных, гадательных и всяких от церкви возбраняемых книг и писаний, и по оным не действовал и иных тому не учил». А у кого такие книги найдутся, тем угрожало сожжение вместе с этими книгами и притом «без всякого милосердия». Надо думать, что эта манера казни чародеев у нас, и вероятно, на западе, совпадала с народным прочно укоренившимся воззрением, что для них, этих слуг сатаны, только такая казнь и действительна, подобно тому, как упыря только и можно было, по тому же народному верованию, унять, пронзив его сердце осиновым колом. Народные сказки и поэмы воспевают именно всегда такую казнь колдунов. У Сахарова приведена одна древняя песня, в которой описывается девица-чародейка и расправа с нею. Эта девица наловила змей и сварила из них зелье, чтоб сгубить своего брата. Добрый молодец, однако, вовремя распознал ее умысел и затем распорядился с нею таким манером:
Снимал он с сестры буйну голову.
И он брал со костра дрова,
Он клал дрова середи двора.
Как сжег ее тело белое
Что до самого до пепела.
Он рассеял прах по чисту полю,
Заказал всем тужить плакати.
Разница во взглядах народа и духовенства на колдунов состояла в том, что духовенство видело в них слуг дьяволовых, и потому его вражда к ним была, так сказать, постоянная, тогда как народ и обычное мирное время относился к колдунам либо с почтительным страхом, либо с явным уважением, озлоблялся же на них лишь в годины лютых бедствий, если самые эти бедствия решался приписывать им. Народ был беспощаден к колдуну или ведьме, как похитителям дождя, напускателям бурь, града, болезней, по ценил их, как целителей, ворожей и т. п. Духовенству же было безразлично, что творит чародей.
Суеверие одинаково царило в те времена и в убогой курной избе мужика, и во дворце царя. Множество дел возникало из-за порчи, напущенной на самого наря или кого-нибудь из семьи его и ближних. Так, когда в 1467 году скончалась супруга Иоанна III, то ее тело «разошлося», т. е. вспухло, вздулось; этого довольно обычного явления посмертного отека было достаточно для того, чтобы мгновенно начались толки о том, что царица скончалась не доброю смертью, что ее отравили. И немедленно начался строгий розыск, которым и было обнаружено, что одна из придворных дам, Наталья Полуектова, брала пояс великой княгини и посылала его к какой-то бабе. И надо полагать, порешили на том, что пояс был околдован, потому что Иоани «восполеся» (распалился гневом) на Полуектовых и шесть лет не допускал их на «свои пресветлые очи». Впоследствии он женился на греческой царевне Софии; у него с нею тоже вышло нехорошо. Она вошла в сношения с какими-то бабами, приносившими к ней зелья. Баб этих, по приказу великого князя, нашли, обыскали и затем утопили, и после того великий князь «нача жити с нею (т. е. женою) в брежении» (т. е. с недоверием). София так потом и укрепила за собою прозвище чародейки греческой. Жена Василия Ивановича Соломония, бывшая бесплодною, прибегала к колдовству, чтобы одолеть свое бесплодие. Она тщательно разузнавала о московских колдунах и колдуньях и поручила своему ближнему человеку Ивану Сабурову разыскивать их и приводить. Так, между прочим, была к ней доставлена некая рязанка Степанида, которая, осмотрев ее, объявила, что детей у ней не будет. Но за всем тем вещая баба дала княгине разные наставления, как сделать, чтобы муж ее любил. Подробности этих наставлений мы упускаем, хотя они старательно перечислены в следственном деле по поводу развода князя с бесплодною женою, которую он в конце концов заточил в монастырь. Ему хотелось иметь наследника, а между тем, он прожил с Соломониею двадцать лет, так что когда с ней развелся и женился вновь, уже будучи не молодым, то кончил тем, что и сам прибег к колдовству. Об этом упоминает в своих записках знаменитый князь Курбский. «Сам стари будучи, – пишет он про Василия, – он искал чаровников презлых отовсюду да помогут ему к плодотворению. О чаровниках оных так печешася, посылающе по ним тамо и овамо, аж до Корелы и оттуда провожаху их к нему, советников сатанинских, и за помощью их от прескверных семян, по произволению презлому, а не по естеству, от Бога вложенному, уродилися ему два сына: един таковой прелютый и кровопийца (Иван Грозный), а другой без ума и без памяти и бессловесен». И далее Курбский обращается с поучительными увещаниями к «христианским родам», предостерегая их против «презлых чаровников и баб, смывателей и шептуней… общующе с диаволом и призывающе его на помощь». Курбский горячился не только из вражды к царю Ивану, которого он этими словами, видимо, хочет больно уязвить, приписывая ему чуть не дьявольское происхождение a la Роберт Дьявол; он горячится частью и за собственный счет. Дело в том, что, убежав в Литву, он там женился на пожилой вдове Марии Козинской; она, чтобы упрочить за собою расположение мужа, прибегала к колдовству, у ней в сундуке были найдены разные волшебные снадобья; песок, волосы и прочее, данные ей какой-то старухой-ведуньей.
Громадный московский пожар 1547 года при Иване Грозном, при котором погибло в пламени до 2.000 человек, был народом немедленно приписан чародейству. Обвинили тогда бояр Глинских, родственников Ивана по матери. Обвинение это, вероятно, главным образом обосновалось на той ненависти, какую народ питал к злым Глинским за их грабежи и всякого рода насилия и беззакония. Когда, по поручению царя, бояре в Кремле спросили народ: кто спалил Москву, громадная толпа закричала, что пожар произвели Глинские, и именно княгиня Анна с детьми, что с этой целью княгиня вынимала сердца человеческие, клала их в воду, и той водой, разьезжая по городу, кропила во все стороны, оттого город весь и выгорел. Один из Глинских князь Юрий был тогда же схвачен народом в церкви, убит и выволочен на торговую площадь, где тогда совершались казни.

При кончине царицы Анастасии, жены Грозного, обвинили в ее смерти ближних людей царя, Сильвестра и Адашева, которые будто бы очаровали царицу. Бояре тогда советовали Ивану не допускать к себе Сильвестра и Адашева, убеждая его, что «аще припустишь их к себе на очи, очаруют тебя и детей твоих, обанжут тя паки и покорят аки в неволю себе». Эти изветы произвели свое действие, потому что Иван был страшно суеверен и колдовство верил едва ли не в той же мере, как и любой изувер из той толпы, которая расправлялась с Глинскими. Когда славный воитель князь Воротынский был обвинен в сношениях с ведьмами, Иван нимало не задумался предать его жесточайшим истязаниям. Князя связанного привели к царю, и тот говорил ему:
– Се на тя свидетельствует слуга твой, иже ми еси хотел очаровать и добывал еси на меня баб шепчущих.
– Не научихся, о царю, – отвечал знаменитый воин, – и не навыкох от прародителей своих чаровать и в бесовство верить, но Бога единаго хвалити. А сей клеветник мой есть раб и утече от меня, окравши мя; не подобает ти сему верить и ни свидетельства от таковаго приимати, яко от злодея и от предателя моего, лжеклеветущаго на мя.
Но этим оправданиям лютый царь не внял. Воротынского положили привязанного на бревно и начали с обеих сторон палить огнем, причем сам Иван подгребал к его телу угли своим историческим костылем. Князя замучили до смерти; он скончался по дороге в Белозерск, куда его сослали.
О безграничном суеверии Грозного особенно в последние годы жизни свидетельствуют и жившие при нем в Москве иноземцы. Так, Горсей рассказывает, что когда в 1584 году явилась комета, то царь, в то время сильно хворавший, вышел на крыльцо дворца, долго смотрел на комету, потом сильно побледнел и сказал: «Вот знамение моей смерти». Мучимый этой мыслью, что комета явилась как знамение его смерти, он прибег к колдовству. Тогда колдунами славился север России, Архангельская губерния и особенно ее части, прилегающие к Лапландии. Мы уже упоминали, что лопари и в Западной Европе считались могучими колдунами. Царь и распорядился, чтобы ему доставили из этой местности самых дошлых ведунов. По его приказу местные власти принялись деятельно разыскивать и хватать нужных царю специалистов, отдавая предпочтение женскому полу; колдуньи лопарские, очевидно, ценились много выние колдунов. Насбирали таким манером шестьдесят баб, набивших руку в волшебном деле, и всех их представили в Москву. Здесь их, конечно, засадили в надежное место и держали под крепким караулом. Один из ближних людей царя, Бельский, ежедневно посещал их и опрашивал, а потом их предвещания сообщал Ивану Васильевичу. И вот колдуньи все в один голос объявили, что небесные светила неблагоприятны царю и что 18-го марта надлежит ожидать его смерти. Лютый царь был приведен в ярость этим предсказанием и повелел, дождавшись 18-го марта, в самый этот день всех колдуней сжечь живьем. Утром в этот день Бельский было уже и заявился к ним, чтобы распорядиться, но ведьмы весьма резонно представили ему (как авгуры Цезарю), что день еще только начался, а не кончился. И в самом деле царь, собираясь играть в шахматы, вдруг почувствовал себя нехорошо, упал в обморок и скоро скончался.
Тот же Грозный приблизил к себе голландского врача Бомелия, который в летописи назван «лютым волхвом»; его ненавидели все окружающие царя, были уверены, что своими чарами злой немец внушил царю «свирепство» ко всему русскому и любовь к немцам; объяснялось это тем, что немцы путем гаданий и волхвований дознались, что им предстоит быть разоренными до тла русским царем, и вот, чтобы отклонить от себя такую участь, и прислали на Русь своего волхва.
Самая формула присяги царю в древней Руси является превосходною и яркою картиною тогдашних воззрений на колдовство. У Афанасьева приведена следующая выписка из наказа, рассылавшегося при отобрании присяги по всем городам. Подданные обязывались этой присягой: «…лиха государю, царице и их детям не хотети, не мыслити и не делати ни которою хитростью ни в евстве, ни в питье, ни в платье, ни в ином в чем никакого лиха не учинити, и зелья лихаго и коренья не давати и не испортити; да и людей своих с ведомством да со всяким лихим зельем и с кореньем не посылати, а ведунов и ведуний не добывати на государево лихо, и их, государей, на следу всяким ведомским мечтанием не испортити, ни ведомством по ветру никакого лиха не посылати и следу не выимати».
Борис Годунов отовсюду созывал ведунов и их «волшебством и прелестью» добился того, что царь Федор привязался к нему всем сердцем. Те же ведуны ему предсказали, по известию, записанному в Морозовской летописи, что он будет царем, только недолго – семь лет.
После убиения царевича Дмитрия дознались, что у Битяговского была какая-то юродивая баба, которая иногда ходила к царице и забавляла ее своими идиотскими штуками; царица потом велела эту бабу отыскать, в полном убеждении, что она «портила» царевича, и убить. Битяговский тоже погиб, в главным образом под тем предлогом, что «добывал на государя и государыню ведунов, чтобы их испортить».
Очень громкое колдовское дело времен царя Федора – это отравление крымского царевича Мурат-Гирея. Летопись передает все это происшествие, очевидно, по ходячим слухам и разговорам, потому что весь рассказ о нем дышит народной верой в колдовство и вампиризм. Началось дело с того, что в 1591 году «басурмане», враги царевича, прислали из Крыма в Астрахань, где тогда жил Мурат-Гирей, ведунов, которые и испортили его. Царевич захворал и встревоженные приближенные призвали к нему лекаря-арапа. Осмотрев больного, лекарь прямо объявил, что болезнь царевича напускная, то есть происшедшая от порчи, а потому и вылечить ее никакими лекарствами нет возможности, а надо сыскать тех колдунов, которыми порча напущена и заставить их снять порчу. За поимку колдунов взялся сам же лекарь-арап. Он просто-напросто отправился по юртам, (то есть по калмыцким становищам), наловил там каких-то людей, которых считал колдунами, правел их в город и принялся пытать. Колдуны с пытки сказали ему, что «буде кровь их не замерзла», то им можно пособить. «Кровь не замерзла», – значит еще не свернулась. Арапский эскулап проявил себя человеком сведущим и опытным. Он устроил всеобщее кровопускание, то есть и колдунам, и всем порченным – самому царевичу и тем из его приближенных, которых постигла та же немочь, что его. Кровопускание у больных нам понятно; имелось в виду определить, у кого из них кровь замерзла, у кого не замерзла. Так, у царевича Мурат-Гирея и его жены кровь уже оказалась замерзшею и их спасти было невозможно; у других же больных она еще не замерзла и их спасли тем, что «той кровью помажут которого татарина или татарку и он жив станет». Но какой «той кровью»? Кровью колдунов? Должно быть, так, но в тексте летописи это выражено неясно. Конечно, обо всем этом дали знать в Москву и оттуда вышел приказ: ведунов пытать накрепко, по чьему умышлению царевича и царицу и татар испортили, а потом всех. их пережечь. В Астрахань командировали для производства суда и расправы боярина Пушкина. Это был очень распорядительный муж, но как он ни старался, он не добился от колдунов полезных разоблачений. На выручку ему пришел все тот же лекарь-арап. Он посоветовал вложить колдунам в зубы конские удила, подвесить их за руки и хлестать кнутьями не по телу, а по стене против них. И колдуны сейчас же стали делать признания. Потом их сожгли, притом и сжиганием заведовал опять-таки тот же арап, который, вероятно, уверил начальство, что колдунов надо сжигать с соблюдением особой сноровки. Предосторожности, им принятые, были, очевидно, не лишни, потому что сожжение сопровождалось особыми странными явлениями; так, когда костры запылали, к месту пожарища слетелось несметное множество сорок и ворон, которые тотчас исчезли, как только костры сгорели.
В этом деле немало поучительного. Прежде всего видно, что колдуны морочили начальство. Оно распорядилось хлестать их прямо по телу, а колдуны совершали отвод глаз, и удары падали мимо; по этому колдуны никакой боли не чувствовали, а потому и признаний не делали, молчали. Арап же, проникнув в их ухищрение, велел бить по стене, и тогда удары падали прямо на них, у них и развязались языки. И под пыткой колдуны признались, что портили царевича, царицу и татар и пили из них, из сонных, кровь. Таким образом эти колдуны зарекомендовали себя отчасти и вампирами.
В XV–XVII столетиях на Руси легко было обвинить кого требовалось в измене, а главное заставить поверить своему извету; для этого надо было только донести на него, что он покушается волшебными средствами навести вред государеву здоровью. При Борисе Годунове такой извет был сделан на одного из бояр Романовых, Александра Никитича. На него был зол его дворовый человек Бартенев. Он повидался с ближним человеком Бориса, его дворецким, и вызвался совершить над своими господами, «что царь повелит сделать». Дворецкий донес об этом Годунову, а тот, весьма обрадованный (он не любил Романовых), обещал Бартеневу щедрую награду – «многое жалованье». Тогда Бартенев насбирал каких-то кореньев и спрятал их в кладовой у своего боярина. Потом к нему, конечно, нагрянули с обыском. Коренья нашли, Романова и его братьев арестовали, пытали и сослали.
Иногда возникало подозрение в колдовском злоумышлении соседних государств, стремившихся якобы ввести в Россию порчу посредством товаров, которые обычно шли из этого государства. Так, при Михаиле Федоровиче одно время было запрещено покупать хмель от литовцев, и притом под страхов смертной казни; распоряжение это было вызвано сообщением русских лазутчиков, которые выведали, что на Литве есть баба-ведунья, которая околдовывает какими-то наговорами хмель, вывозимый в Россию, чтобы нагнать туда мор. Это происшествие, очевидно, произвело впечатление, потому что в том же году последовало еще другое распоряжение в том же смысле; в Верхотурье изловили попа, у которого нашли несколько коробов какого-то таинственного коренья. На допросе поп показал, что эти коренья ему передал казак Степанко Козьи-Ноги. Почему эти коренья призваны были «воровскими», об этом история умалчивает; очевидно, на бедного попа кто-то донес по злобе и доносу ваяли по привычке, по принятому обыкновению.
Духовенство таки частенько попадалось в то время в подобных «воровских» делах. Еще в XIV веке поймали попа, пробиравшегося с колдовским кореньем из орды; у этого был целый мешок «злых я лютых зелий». В 1628 году судили дьячка Семейку, схваченного в Нижнем, он держал у себя отреченные книги, а именно «Рафли» и еще какой-то заговор «к борьбе», т. е. для защиты от ран и смерти в бою. Дьячка сослали в монастырь, заковали и лишили причастья впредь до особого разрешения патриарха. В 1660 г. был сделан донос на дьячка Харитонова. Этот ходил по полям, собирал травы и коренья, совершал какие-то волхвования на свадьбах, принимал у себя «жены с младенцами», сочинял или списывал откуда-то заговоры от ран и на «умиление сердца сердитых людей». Правительство видимо не очень-то было уверено в нашем духовенстве, потому что, например, в записке об отреченных книгах прямо говорится: «Судь же между божественными писаньями ложная писания, насеяно от еретик на пакость невежам-попам в диаконам: льстивые зборникы сельские и худые номаканонцы по молитвенником у сельских у нерассудных попов, лживые молитвы, врачевальные, о трасяницах (лихорадках), о нежитех (нечистых) и о недузех, и грамоты трясанския пишут на просфирах и на яблоцех, болести ради; все убо то невежди деют и держут у себя от отец и прадед и в том безумии гинут». Выше мы видели подобное же предостережение в наказе об учреждении славяно-греко-российской академии.
Бунт Стеньки Разина очень приподнял дух суеверия; в то время колдунов усердно искали и, конечно, находили. Жители взбунтовавшегося г. Темникова вышли навстречу царскому войску с крестным ходом, ваялись, просили прощения, и в качестве искупительных жертв, якобы заводчиков смуты, выдали воеводе Долгорукому двух попов да какую-то старуху, которая, по показанию жителей, собрала отряд и, командуя им, чинила бесчинства в городе и окрестностях; вместе с самой воинственной старицею преподнесли начальству «воровские заговорные письма и коренья». Воевода, как водится, сейчас же и попов, и старицу подверг жесточайшей пытке. Старица, подпаленная на огне, показала, что она арзамасская уроженка, зовут ее Аленой, была замужем, овдовела. По смерти мужа она постриглась, а затем странствовала, занимаясь «воровством» (это слово, щедро пестрящее столбцы старинных дел, имело широкий смысл в обозначало не исключительно кражу, а всякого рода преступную деятельность) и душегубством. Попав в Темников, она, но ее словам, действительно насбирала шайку воровских людей, стояла на воеводском дворе вместе с атаманом Сидоровым и его обучала ведовству. Попы были повешены, а старицу сожгли, признав колдуньей.
Затем, в ту же эпоху Стенькина бунта, совершена расправа в Астрахани с Кормушкой Семеновым, у которого нашли тетрадку с заговорами; его тоже сожгли, как явного и обличенного колдуна.
В те жестокие времена уголовное следствие обычно сопровождалось зверскими истязаниями обвиняемых, причем, несомненно, много злополучных попало в колдуны и колдуньи просто-напросто потому, что истязали, выпытывали у них признание. Так, в 1674 году в Тотьме сожгли бабу Федосью, обвиненную в напуске порчи; она призналась на пытке во всем, в чем ее обвиняли и в чем заставляли признаться; но перед самой казнью она твердо заявила, что никого никогда не портила, а поклепала на себя, не стерпя пытки. Неудивительно также, что при царившем тогда суеверии несчастные жертвы правосудия не задумываясь прибегали к чарам, чтобы обеспечить за собой нечувствительность к истязаниям. В 1648 году попался в какой-то уголовщине некий устюжанин Ивашко-солдат; во время следствия у него в обуви под пяткой нашли камешек, и когда его спросили о назначении этого предмета, он повинился, что сидевший с ним в остроге разбойник учил его ведовству, а именно способам «оттерпеться» от пытки; для этого надлежало взять какой-нибудь предмет и наговорить на него слова: «Небо лубяно и земля лубяна, и как в земле мертвые не слышат ничего, так бы и такой-то (имя) не слыхал жесточи и пытки». Этот волшебный предмет надо было скрыть на себе и держать во время пытки.
Волшебные узлы или наузы играли большую роль в делах о колдовстве. Так, в 1680 году иноземец Зинка Ларионов донес на нескольких человек, обвиняя их в том, что они пользуются «лихими кореньями»; в качестве вещественного доказательства он представил нательный медный крест, на котором был навязан узелок, а в том узелке заключались какие-то кусочки, как будто бы корешки и травы. Один из оговоренных, Васильев, признал крест за свой; его пригласили объяснить, что и с какой целью вложено было в узелок при кресте, и он показал, что в узелке завязан корень «девясильной» и трава, растущая на огородах, название которой ему было неизвестно; держал же он эти снадобья в качестве средства против лихорадки; «лихого» же в этом, по его словам, ничего не было. То же самое показал и другой оговоренный Зинкой, Паутов: корень помогает против «сердешныя скорби», трава – от лихорадки, а «лихого в том ничего нет». Однако, всю эту публику подвергли пытке, да потом еще вздули батогами, дабы «впредь было неповадно» пьянствовать (эта черта, значит, тоже выступила в деле) и носить на себе коренья.
Очень курьезное дело вышло в Ошмянах в 1636 году. Жид-арендатор Гошко Ескевич позвал в гости некоего Юрку Войтюлевича, про которого ходил слух, что он колдун и «чарами своими шкодит». Юрка вздумал и с Гошком сыграть штуку: взял чарку водки, примешал туда какого-то зелья и подал ее Гошку, приглашая его выпить. Жидок, зная опасную репутацию Юрки, затрясся по всем суставам и пролил вино. Тогда Юрка погрозил ему, что, мол, это тебе даром не пройдет. Гошко перед всеми присутствующими завопил, что Юрка колдун, что вот он теперь грозится, и чтобы все знали и помнили, что если после того что-нибудь случится с ним или его женой, или детьми, то произойдет это от колдовства Юрки; а тот смеялся и издевался над жидом. В эту минуту в хату вошел сын Юрки, маленький мальчик. Жида осенило внезапное вдохновение; он вспомнил ходячее верование, что если колдуна в то время, как он что-либо злоумышляет, хорошенько поколотить в присутствии его детей, то чары будут разрушены. Вспомнив это, Гошко налетел на Юрку и начал его бить. Их кое-как разняли, и Юрка ушел домой. Но случилось, что как раз в тот же день вечером сын Гошка захворал, и хворь так его иссушила, что от него остались кожа да кости. Гошко, нимало не сомневаясь, подал жалобу на Юрку, обвиняя его в напуске болезни на его сына. Чем кончилось дело – неизвестно, потому что от него только и осталась одна эта жалоба Гошка, записанная в городскую книгу Ошмян.
В городе Полоцке в 1643 году был процесс о волшебстве, о котором осталась подробная запись. Здесь главным героем выступил некто Василий Брыкун, великий маг и волшебник. Обвиняли его несколько человек полоцких мещан, которым он наговорил разных бед своим волшебством. К одному из них Янушу, Брыкун пришел на Пасхе и начал делать какие-то насечки на стенах; при этом он грозил жене хозяина, что она сгинет, и та в самом деле скоро умерла, «нарекаючи на Брыкуна», т. е. обвиняя его в своей смерти. Другой обыватель, Павлович, поссорился с Брыкуном, и тот ему сказал, что он сгинет со всем своим имуществом и впадет в нищету, и все это сбылось в том же году. Затем, тоже, вероятно, поссорившись, Брыкун крепко насолил Ивану Быку; у этого, по предсказанию Брыкуна, двое сыновей скрылись неведомо куда, а жена разлюбила и его, и детей, и все бегала из дому в лес. Однажды Бык, встретив Брыкуна около своих ворот, где были сложены дрова, начал его укорять в своих несчастиях. Тогда Брыкун сказал ему, что не только жену и детей он от него отбил, но, коли захочет, то вот и эти самые дрова тоже полетят прочь. И дрова в ту же минуту взлетели с земли вверх на три сажени. Такое же семейное несчастье и разоренье Брыкун предсказал Кондратовичу; и в тот же день вечером у Кондратовича пала корова, а потом в течение года пало десятка три коней, коров и свиней, и сам он угодил в тюрьму. А колдун при каждой беде издевался над ним: «Знай-де меня!» Кожемяка Аникей прохворал от неведомой болезни целый год и, умирая, твердил, что «ни от кого другого идет на тот свет, как от Брыкуна». Тот, кто об этом передал Брыкуну, внезапно захворал и едва не умер, так что к Брыкуну же ходили кланяться и просить, чтобы «отходил» погибающего.
Когда началось но жалобам этих потерпевших следствие над Брыкуном, то обнаружилась еще, кроме этих, целая толпа потерпевших от злого колдуна. Он напускал болезни и смерть; погибшие от его колдовства «пухли» после смерти, их раздувало. Он портил пищевые продукты, напитки; в одном доме скислось пиво, заготовленное к свадьбе, и виновником тому был Брыкун; пиво вылили свиньям, они от него подохли. Один предприимчивый полоцкий донжуан где-то на пирушке обнял жену Брыкуна. Тот крикнул ему: «Облапь ты лучше печку!», и бедный ухаживатель за чужими женами сейчас же полез в печку и просидел в ней около трубы три часа. Иные от чар Брыкуна впадали в припадок вроде падучей, их бросало оземь; другие блуждали по лесу и едва не погибли. Некий пан Саковский прислал на Брыкуна письменный донос. Брыкун просил у него денег взаймы, пан отказал, я тогда озлобленный колдун пригрозил ему: «Раздашь, мол, свои деньги людям, назад не вернешь!». И так оно и случилось: ни один должник не отдал пану долга.
Процесс Брыкуна по внешней обстановке резко отличался от инквизиционных процессов ведьм и колдунов. У Брыкуна был адвокат, которому было предоставлено свободно говорить все, что он найдет нужным, в защиту своего клиента. И он сказал очень дельную и разумную речь. Он перебрал все показания потерпевших и довязывал, что в их бедствиях нет никакого разумного основания винить Брыкуна. Так, один из них, что повсюду нахватал денег в долг и не заплатил, и был засажен кредиторами в тюрьму; что же в этом необычайного и причем тут волшебство Брыкуна? Бык, жаловавшийся на ссоры и несогласия в своей семье приписывавший их Брыкуну, по-настоящему, сам в них виноват, потому что обладает несносным характером и таковым же обладает его жена. Павлович обвиняет Брыкуна в своей нищете, он вовсе никогда и не был богат, а каким был пять лет тому назад, когда прибыл в Полоцк, таким остался и до процесса. Все это было хорошо, верно и убедительно сказано, но скверно было то, что при обыске у Брыкуна нашли узелки с песком и перцем; и сам Брыкун, когда у него эта злодейская вещь была обнаружена, не сдержал своего волнения в весь задрожал. Его пытали огнем и дыбой, но он ни в чем не признался. Но доказательство было налицо. Песок и перец – пытка и костер. Таковы были нравы и понятия. Брыкун не захотел дожить до костра; ему удалось перерезать себе горло. Его труп вывезли в поле и сожгли.

В 1606 году двое пермских обывателей подали жалобы – один на крестьянина Талева, другой – на горожанина Ведерника; обоих их жалобщики обвиняли в том, что они напустили икоту на разных людей. Напуск икоты считается чисто волшебным злодейством. Народ крепко в это верует и поднесь. Нам хорошо помнится, что несколько лет тому назад один из врачей юго-западного края наблюдал эпидемию икоты в одной деревне и описал этот случай во «Враче»; тогда народ тоже говорил о порче. Та же самая история, очевидно, была и в Персии, с той, однако же, непременной разницей, что тогда и разговоры о порче были много убедительнее, да и на властей предержащих эти разговоры производили совсем не столь слабое впечатление, как на нынешних.
Поэтому, как только поступили доносы, обоих ведунов, наславших порчу, Талева и Ведерника, нимало не сомневаясь, арестовали и подвергни пытке. Несчастные кудесники подали жалобу в Москву на поклеп и незаслуженное истязание. Разумеется, было валено произвести на месте повальный обыск. Местные жители должны были засвидетельствовать, действительно ли эти люди, т. е. Талев и Ведерник, напускают порчу. Было оговорено, что если-де никакого поклепа на них не будет, то они должны быть отпущены на свободу.
Такого рода дела много раз возникали и впоследствии, и даже не дальше как в минувшем столетии. Так, в городе Пинеге дело о напускной икоте разбиралось с 1815 году. Именно некто Михайло Чукарев обвинялся в порче икотой своей двоюродной сестры Афимьи Лобановой. В прошении, поданном пострадавшей, Чукарев форменно обвинялся, как напуститель порчи, и потерпевшая заявляла, что он вселил в нее злого духа, который непрестанно ее мучит. Интересно, что на допросе Чукарев признался в своем злодействе, откровенно заявив, что действительно порча им напущена на Афимью, но что сам он этого делать не умел, а научил его крестьянин Федор Крапивин. Самое волшебство совершается так. Надо взять соль и, снявши с себя шейный крест, нашептывать на соль следующую заклинательную формулу: «Пристаньте к человеку (имя) скорби-икоты, трясите и мучьте его до скончания века; как будет сохнуть соль сия, так сохни и тот человек. Отступите от меня, дьяволы, а приступите к нему». Снаряженную таким манером соль надо высыпать куда-нибудь в такое место, где тот человек будет проходить, и наступив на эту соль, обреченный непременно заполучит икоту. Пинежский суд взглянул на это дело серьезно. Чукарев был приговорен к 35 ударам кнутом и к публичному церковному покаянию. На севере существует предание, что есть особые девки-икотницы, в которых вселяются 100 бесов, и все эти бесы у них гложут живот.
Как мы уже говорили раньше, многие болезни приписываются нечистой силе и разным демоническим существам самой фантастической натуры. Такое происхождение приписывается и кликушеству, т. е. разновидностям падучей и истерики. Как известно, кликуши во время припадка называют по имени (выкликают) тех, кто напустил на них злого духа, их истязающего. Появление кликуш в значительном числе и в настоящее время производит большое впечатление на народ, а в старину это являлось настоящим общественным бедствием, потому что их выкрикивания принимались за чистую монету и сопровождались свирепым судебным преследованием тех, кого они обвиняли. Вследствие этого завелся обычай фальшивого кликушества, т. е. такого, при котором совершенно здоровая баба выкликала на кого-нибудь из мести, зная, что этому человеку несдобровать, что его схватят, будут судить, подвергнут страшным истязаниям и даже казнят. Из кликушества извлекалась еще и другая выгода. Разные корыстолюбивые лица из тогдашней администрации, воеводы, дьяки и т. п., нарочно подичали разных баб притворяться порченными и при этом выкликать разных местных богатеев, которых можно было после того обобрать. В 1669 г. в г. Шуе разыгралось очень громкое дело в этом роде. Там объявился некто Григорий Трофимов, на которого поступили жалобы, что он портит людей и что его надо за это «в срубе сжечь». В ответ на запрос, присланный из Москвы, от шуян поступило подробное донесение о злодействах этого Трофимова и других лиц: «В прошлых и нынешних годах, – говорилось в этом челобитье, – приезжают в Шую, к чудотворному образу Пресвятой Богородицы Смоленския, со многих городов и уездов всяких чинов люди молитися – мужеский и женский пол и девич, а привозят с собой всяких чинов людей, различными скорбьми одержимых и которые приезжие люди и шуян посадских людей жены и дети одержимы от нечистых духов, страждущие, в божественную литургию мечтаются всякими различными кознодействы и кличут в порче своей стороны на уездных людей, что-де их портят тот и тот человек. И в прошлом году страдало от нечистого духа шуянина, посадского человека Ивашкова, жена Маурина, Иринка Федорова, а кликала в порче своей на Федьку Якимова, и по твоему, великого государя, указу, то тое Ивашкова жены выкличке, Федька Якимов взят в Суздаль и кончился злою смертью (т. е. был замучен пыткой), а ныне та Иринка и уездные люди, страждущие от нечистых духов, кличут в корчах на иных шуян – на Ивашку Телегина с товарищи». В заключение злополучные шуяне выражают в своей челобитной опасение, «чтобы нам всем шуянам, посадским людишкам, в том не погибнуть и в опале не быть, а кто тех страждущих, скорбных людей портит, про то мы не ведаем».
Вслед за тем из той же Шуи раздались другие жалобы, и так дело тянулось около 16 лет подряд. Дело происходило при Петре Великим, которому, наконец, надоели эти жалобы. В 1715 году он велел хватать всех кликуш и производить следствие, действительно ли они больны или нарочно напускают на себя порчу. В объяснение такого распоряжения в указе царя был приведен любопытный случай, бывший в Петербурге в 1714 г. Некая Варвара Логинова, жена плотника, начала выкликать, что ее испортили. Но когда ее схватили и подвергли допросу, то она сейчас же и призналась, что кричала нарочно. Была она где-то в гостях вместе со своим деверем. Публика, как водится, перепилась, поднялась ссора и деверя жестоко избили. Варвара была добрая родственница, горячо приняла к сердцу обиду, нанесенную деверю, и решила отмстить за него. С этой целью она и начала выкликать на тех, кто его бил, обвиняя их в том, что они ее испортили.
Такими случаями ложного обвинения пестреют старые судебные дела. Так в 1770 г. в Вологодской губернии, в Яренском уезде, несколько баб и девок притворились кликушами и обвинили в своей порче разных людей, с которыми им надо было свести разные личные счеты. Само собой разумеется, что всех оговоренных немедленно похватали и подвергли пытке. Все они под плетьми признались, повинились и объявили себя чародеями и чародейками. Показания их были тщательно записаны. Одна из них обстоятельно рассказала, как именно она напускала порчу. Она вошла в сношения с дьяволом и получила от него каких-то червей, которых и пускала по ветру в тех, кого надлежало испортить. Судьи праведные пожелали в качестве поличного и для приобщения к делу иметь этих червей, и баба их доставила. Судьи препроводили червей в сенат; когда этих червей рассмотрели ученые, то они оказались личинками обыкновенных мух. Огорченный таким невежеством судей сенат всех их отрешил от должности, а кликуш за ложные обвинения приговорил к наказанию плетьми, причем кстати предписал, чтобы и впредь таким изветам веры не давать, а кликуш наказывать.
В старые времена, особенно же в промежуток с XIV по XVII столетие, редкая царская свадьба обходилась без того, чтобы кого-нибудь не подозревали в чародействе и в покушении испортить новобрачных. Когда в 1345 г. скончалась первая супруга великого князя Симеона Гордого, то он вступил во второй брак с дочерью Смоленского князя – Евпраксией. Но прожил он с нею всего несколько месяцев, а потом отослал обратно к отцу, под тем предлогом, что она была испорчена. Самый характер порчи на картинном старинно-русском языке обозначен в родословной книге словами: «Ляжет с великим князем, и она ему покажется мертвец». История третьей жены Ивана Грозного, Марфы Собакиной, хорошо известна. Она захворала какой-то таинственной болезнью еще будучи невестой, начала чахнуть и сохнуть и через две недели после свадьбы умерла. Разумеется, это было приписано порче. Очень неблагополучен был первый брак Михаила Феодоровича. Его первая невеста, Мария Хлопова, обкушалась сладким и так себя расстроила, что царь от нее отказался и женился на Марии Долгоруковой. Она очень скоро после свадьбы умерла и в летописи тщательно отмечено, что она была испорчена. Точно также была, по общему мнению, испорчена и первая невеста царя Алексея Михайловича, Всеволожская. По одним сказаниям ее испортили еще в родительском доме из зависти, что она попала в царские невесты; по другому сказанию, ей перед самым венчанием так крепко скрутили волосы, что она упала в обморок. Тогда порешили что она страдает падучей болезнью. Дело, значит, приняло такой оборот, что ее отец, который не мог не знать о болезни дочери, скрыл это и не предуведомил даря. За это его отдули кнутом и вместе с дочерью сослали в Сибирь. Впоследствии царь узнал всю правду и постарался вознаградить свою бывшую невесту, назначив ей щедрое содержание.
Немудрено, что во время царских свадеб всегда принимались строжайшие меры, чтобы уберечь новобрачных от колдовства; да, впрочем, и вся последующая жизнь царской семьи тоже зорко оберегалась, о чем лучше всего свидетельствуют возникшие дела о чародействе. Из отчетов об этих делах видно, что в XVII столетии в Москве жило немало баб-ворожеек и колдуний, имевших весьма обширную практику; к ним обращались жены бояр и служилых людей с просьбой снабдить каким-нибудь средством для устранения разных семейных неурядиц. Бабы и давали средства, отвечавшие всякой личной потребности: для смягчения свирепой ревности супруга, для укрощения его гнева, для изведения недругов, для обеспечения доброго успеха в любовных интригах и т. д. Однажды в 1635 г. какая-то мастерица, призванная во дворец, обронила платок, а в платке том оказался завернутым какой-то корешок. Началось старательнейшее следствие. Мастерицу нашли. На вопрос, откуда она взяла корень и к чему он служит, и, главное, зачем она с этим корнем ходит во дворец, баба показала, что корень этот не лихой, а лечебный, и что носит она его при себе от сердечной боли. Мастерица была женщина замужняя к весьма страдала от холодности мужа. Она жаловалась на это одной бабе-ведунье, и та дала ей этот корешок и велела, положив его на зеркальное стекло и глядясь в зеркало, приговаривать: «Как люди в зеркало смотрятся, так бы муж смотрел на жену, да не насмотрелся бы». Этим объяснениям, однако, не вняли; и мастерицу, и ту художницу, которая ее снабдила корешком, обеих крепко пытали и затем отправили в ссылку.
Другая баба, тоже мастерица, которую обвиняли в том, что она сыпала порошок на след царицы, на допросе показывала, что ходила она к бабе-ворожейке, искуснице, которая умеет людей привораживать и у мужей к женам ревность отымает. Эта баба дала ей соль и мыло, на которых что-то нашептывала. Соль она велела давать мужу с едой, а мылом самой умываться, и уверяла, что от этого муж станет совершенно равнодушен к ее поведению и не будет ее ревновать, хотя бы она явно ему изменяла. Формула наговора на соль была следующая: «Как соль в естве любят, так бы муж жену любил»; а на мыло «Сколь мыло борзо моется, столь бы скоро муж полюбил, а какова рубашка на теле бела, столь бы муж был светел».
Однажды по поводу одного из подобных дел собрали со всей Москвы целую кучу чародеек и веем им учинили строжайший допрос, касавшийся главным образом техники их мастерства. Из показаний волшебниц явствовало, что они умели готовить снадобья и лечебные, и на всякого рода житейские случаи.
Собственно говоря, все их волшебство ограничивалось тем, что они нашептывали на разные предметы, которые и служили потом волшебными снадобьями. Так, например, против лихорадки и сердечной тоски они давали вино, уксус, чеснок; от грыжи – громовую стрелку и медвежий ноготь; на эти предметы наливали воду и заставляли больных пить ее, причем приговаривали: «Как старой жене детей не раживать, так бы у раба (имя) грыжи не было». При пропаже ворожеи гадали по сердцу, т. е. выслушивали сердцебиение у потерпевшего. Помогали они также купцам, если у них залежался товар; им давали мед, на который нашептывалась формула: «Как пчелы ярые роятся да слетаются, так бы к торговым людям покупатели сходились».
В этих делах, между прочим, мы находим любопытные известия о том, каким способами расправлялись с изобличенными чародеями. Самой снисходительной карой была, как кажется, ссылка в Якутск и Енисейск. Местным властям предписывалось, в случае поимки волшебников, содержать их в местах заключения с особенной строгостью, сажать их в отдельные камеры, приковывать к стене на цепь и, главное, ни в каком случае не впускать к ним ни одного постороннего. Любопытно еще, что к чародеям иногда применялась особая исключительная казнь: их истомляли жаждой, т. е. не давали им пить. По-видимому, эта казнь имела какую-то связь с поверьем о том, что колдуны обладают способностью уходить в воду и в ней скрываться. В приговоре, постановленном по делу некоего Максима Мельника, предписывалось не давать ему воды, потому «что он, Максим, многажды уходил в воду».
При царе Феодоре Алексеевиче разбиралось довольно громкое дело Артамона Матвеева, любимца покойного царя Алексея Михайловича. Врагов у всемогущего боярина, конечно, было множество, и чтобы его одолеть, они не придумали ничего лучшего, как обвинить его в колдовстве. Это было нетрудно сделать, так как боярин очень охотно сближался с иностранцами, а к иностранцам в древней Руси относились всегда подозрительно. Вдобавок Матвеев был большой любитель просвещения. У него были книги, и своего сына-мальчика он обучал греческому и латинскому языкам; учителем мальчика был переводчик посольского приказа Спафарий. У Матвеева были книги, да вдобавок еще иностранные, были разные врачебные снадобья, инструменты, снаряды. По одной уже этой внешней обстановке он имел вид заправского волшебника. При Михаиле Феодоровиче был случай, когда у одного немца-живописца нашли человеческий череп и за одно это едва не сожгли его, сочтя за колдуна. У другого немца-доктора нашли сушеных змей, и т. к., по несчастию, это случилось во время народной смуты, то толпа без церемонии и расправилась с несчастным немцем. Таким образом и с Матвеевым было очень легко сладить на этой почве. Бояре, его враги, вошли в сношения с его домашними; в числе их нашлось двое сговорчивых людей: лекарь Давыдко Берлов и карло (т. е. карлик) Захарка. Подкупленные добровольцы и донесли на Матвеева, что он с доктором Стефаном и учителем своего сына Спафарием, запершись в отдельной комнате читали «черную книгу», и в это время им явилась делая толпа чертей. Донос возымел свое действие. Матвеев был лишен боярского звания и сослан в Пустозерский острог, а его имения были отобраны в казну. Опальный боярин несколько раз писал в Москву к царю, к патриарху и к разным знатным лицам. Но его оправданиям никто не верил. В книге Афанасьева приводится отрывок, взятый из его челобитной к царю, по которому можно судить, что эти доносы с обвинением в колдовстве были самым обыденным явлением на Руси в XVI и XVII столетиях. «При великом государе Михаиле Феодоровиче, – пишет Матвеев, – такожде ненависти ради подкинули письмо воровское на боярина Милославского, будто он имеет у себя перстень волшебный думного дьяка Грамотина, и по тому воровскому письму немного не пришел в конечное разорение; был за приставом многое время, животы пересмотреваны и запечатаны были и ничего не найдено и за свою невинность освобожден. А при великом государе Алексее Михайловиче такожде завистию и ненавистию извет был составной же и наученой о волшестве на боярина Стрешнева и за тот извет страдал невинно, честь была отнята и сослан был на Вологду. Да и на многих, великий государь, таких воровских писем было, а на иных и в смертном страху были. А и я, холоп твой, от ненавидящих и завидяших при отце же твоем государеве, великом государе, не много не пострадал: такожде воры, составя письмо воровское, подметное кинули в гранови-ых сенях и хотели учинить Божией воле и отца твоего государева намерению и к супружеству – второму браку препону, а написали в письме коренья».
Известный наперсник царевны Софьи, князь Василий Голицын. хотя и считался просвещеннейшим человеком в свое время, однако же, но словам князя Щербатова: «гадателей призывал и на месяц смотрел о познании судьбы своей». В одном из своих писем к Шакловитому Голицын, говоря о малороссах, между прочим, роняет такого рода слова: «И то, чаю, ведали они по чарованию некоему». Тот же Голицын в 1679 г. подал жалобу на Бунакова за то, что он «вынимал княжой след». Голицын совещался с колдунами по поводу своих отношений к Софье. Он, конечно, опасался ее охлаждения к нему и, чтобы удержать ее любовь, прибегал к чарам. Какой-то знахарь давал ему травы, которые надо было примешивать к пище царевны «для прилюбления». Но интереснее всего то, что предусмотрительный боярин, заполучив от кудесника эти травы, самого кудесника поспешил сжечь на костре, чтобы тот впоследствии на него не донес. Сама царевна Софья тоже обращалась и: колдунам. У нее был по этой части особый ближний человек Медведев, который сам занимался астрологией, гадал по звездам и считался великим знатоком по волшебной части. Разыскав какого-нибудь колдуна, Софья прежде всего отсылала его к Медведеву, а тот уже давал свой отзыв, заслуживает ли колдун доверия или нет. Софья больше всего доверялась некоему Дмитрию Силину. Это был лекарь, которого вызвали из Польши лечить царя Ивана Алексеевича. Он и жил вместе с Медведевым, и тот убедился в его солидных познаниях в астрологии и медицине. Силин лечил многих в Москве, между прочим, и Голицына. Диагноз, поставленный князю, был очень любопытен: ощупав у пациента живот, Силин объявил ему, что князь «любит чужбину, а жены своей не любит». Медведев осторожно осведомил Силина о том, что Софья хочет выйти замуж за Голицына, а его, Медведева, сделать патриархом; он просил Силина посмотреть по солнцу, сбудется ли это? Для исследования солнца Силин поднимался на Ивана Великого и вывел из своих наблюдений, что «у государей венцы на главах, а у Голицына венец мотается на груди и на спине, как он стоял темен и ходил колесом, царевна была печальна и смутна, Медведев был темен, а Шакловитый повесил голову». После торжества Петра Медведев советовался с колдуном Васькой Иконником, который уверял, что в его власти состоит сам сатана, и что если царевна даст ему 5 тысяч рублей, то все останется по-прежнему. Однако, ему не поверили.
В это же время, т. е. в период вражды Петра с Софьей, обвинение в колдовстве пало па престарелого стольника Безобразова. На старика донесли его же собственные люди, предварительно его обворовавшие и затем бежавшие от него. Они показали на Безобразова, что он был в сношениях с опальным Шакловитым и со всех сторон созывал к себе колдунов и ворожеек. Эти ведуны ворожили на костях, на деньгах и на воде, стараясь вызнать относительно царя Петра и его матери, можно ли поднять против них бунт и будет ли он успешен. Один из волхвов, Дорошко, «накупился у Безобразова напустить по ветру тоску на царя и царицу, чтобы они сделались к нему добры и поворотили бы егок. Москве». Безобразов будто бы снабдил Дорошку вином и разными другими припасами и отправил его в Москву, а в провожатые дал ему человека, который мог указать ему царя и царицу, ибо Дорошко не знал их в лицо. Жена Безобразова взяла семь старых полотняных лоскутков и велела написать на них имена царя и царицы. Она вставила эти лоскутки в восковые свечи вместо светилен и разослала по церквам, приказав зажечь их перед иконами и наблюдать, чтобы они сгорели до конца. Разумеется, всю эту компанию, т. е. самого Безобразова, его жену, Дорошку и всех других колдунов схватили и представили в Москву, и учинили им строжайший допрос, конечно, с пыткой, при содействии которой все они признались во всем, в чем было угодно их обвинять судьям. Из протоколов допроса видно, что все преступление этих злополучных людей состояло в том, что они с помощью разных вздорных обрядностей старались вернуть Безобразову расположение царя и царицы. Расправа со всей этой толпой была жестокая. Безобразову отрубили голову, жену его сослали в монастырь, все их имущество отобрали в казну, двух колдунов сожгли живьем, а остальных нещадно отодрали кнутьями и сослали в Сибирь с женами и детьми.

Петр Великий весьма круто принялся за реформы, во искоренить суеверия, касающиеся колдовства, ему не удалось. Правда и что, что в XVII столетии даже в самых просвещенных странах Западной Европы ведьм и колдунов целыми толпами жгли на кострах, и это продолжалось до самого конца XVIII столетия. Да и сам Петр едва ли был вполне свободен от суеверий своего времени. Эго отчасти отразилось и на законодательстве. Так, в воинском уставе, изданном в 1716 г., между прочим, предписывается: «Если кто из воинов будет чернокнижник, ружья заговорщик и богохульный чародей, такого наказывать шпицрутенами и заключением в оковы, или сожжением». В примечании к этой статье сказано, что сожжение определяется чернокнижником, входящим б связь с дьяволом. Тех, у кого находили волшебные заговоры или гадательные тетрадки, или кого изобличали в переписке этих тетрадок, подвергали жестокому телесному наказанию, а самые тетрадки посылались на просмотр к ректору славяно-греко-латинской академии. В 1626 г. ректору этой академии, Гедеону, было поручено увещать и вразумлять иеродьякона Аверкия и дворового человека Данилова; у первого были найдены какие-то волшебные письма, второй же обвинялся прямо и непосредственно в сношениях с дьяволом, который будто бы внушил ему похитить золотую ризу с образа Богоматери. В упомянутой академии читался чуть ли не отдельный курс демонологии, в котором подробно объяснялись всевозможные виды волшебства. В дошедших до нас рукописных лекциях академии 1706 г. имеется особый отдел, озаглавленный «De contractibus diabolicis», т. е. о договоре с дьяволом. По словам неизвестного автора записок, колдуны могут с корнем вырывать могучие деревья, переносить с места на место целые нивы, превращаться во что угодно, делаться невидимыми и т. д. Еще долгое время спустя после Петра Великого то и дело поднимались дела, которые наглядно свидетельствуют о том, до какой степени живуче в народе ходячее представление о колдунах и о чародействе. Так, например, в 1750 г. в Тобольске, в местной консистории, разбиралось дело сержанта Тулубьева, которого обвиняли в любовном колдовстве. Сущность дела заключалась в следующем. Тулубьев жил в Тюмени и стоял на квартире у некоей Екатерины Тверитиной. У Тверитиной была дочь Ирина, с которой Тулубьев вступил в связь. Прожив с ней некоторое время, Тулубьев насильно выдал ее замуж за своего дворового человека Дунаева. Но жить с мужем он ей не дозволил, а требовал, чтобы она продолжала сожительствовать с ним, а для того, чтобы закрепить за собой любовь Ирины, он совершил такого рода волшебную обрядность. На третий день после венчания он позвал любовницу в баню. Там он взял два ломтя хлеба и этим хлебом обтирал испарину с себя и с Ирины. Потом он смял этот хлеб с воском, золой, солью и волосами, сделал из этого месива два колобка и что-то над ними шептал, причем формулу нашептывания вычитывал из книги. После того Тулубьев совершал еще и другие обряды. Так, например, он срезывал стружки с углов дома и собирал грязь с тележного колеса. То и другое, т. е. стружки и грязь, он размешивал с теплой банной водой и, дав смеси постоять, поил этой водой свою любовницу. Затем он настаивал на вине порох и росной ладан и этим снадобьем тоже доил Ирину. Шептал что-то над воском и серой и велел Ирине налепить эту серу воском на шейный крест и носить. Сам он всегда носил при себе волосы Ирины и на них тоже нашептывал что-то. Какими энергичными средствами Тулубьев так приворожил к себе любовницу, что она без него жить не могла. И когда он уходил со двора, то она бегала за ним и часто с тоски рвала на себе волосы и платье. Консистория, рассмотрев это дело, порешила: «Тулубьева лишить сержантского звания и сослать на покаяние в монастырь, Ирину же освободить от всякой ответственности, понеже она навращена к тому по злодеянию Тулубьева, чародейством его и присушкой, а не по свободной воле».
Сколько можем припомнить, последняя крупная расправа с колдуньей произошла в Тихвинском уезде, Новгородской губернии, в первой половине семидесятых годов прошлого столетия. Дело происходило в одной из глухих деревенев уезда. Одинокая старуха-бобылка, Аграфена Тихонова, возбудила против себя мрачные подозрения своих однодеревенцев. В деревне обнаружились порченые бабы-кликуши, порча которых приписывалась нелюдимке Аграфене. Возбуждение против нее все более и более росло и назревало, а в один прекрасный день разразилось страшной катастрофой. Толпа мужиков окружила хибарку несчастной старушонки, наглухо заперла дверь и окна а сожгла дом вместе с колдуньей.
Демонизм в последние столетия
Средним векам, само собой разумеется, не удалось разделаться с ведьмами и колдунами, сколько их ни жгли на кострах, ни с одержимыми, сколько их ни отчитывали. Таким образом колдовство и всякого рода дьявольщина и были переданы по наследству Средними веками последующим столетиям и с полным благополучием дошли до наших дней. Прежде чем перейти к демонизму новейших времен, т. е. процветавшему в минувшем XIX веке, мы ради исторической связи рассказа сообщим в этой вступительной главе о самых выдающихся делах XVI и последующих столетий. Наибольший интерес за это время возбуждали дела не о колдовстве и ведьмовстве, а об одержимости нечистым духом. Интересно еще заметить, что такой одержимости подвергались чаще всего лица духовные, а в особенности – монашки. Самые громкие происшествия этого рода разыгрывались в монастырях, и здесь иногда принимали форму настоящей заразы – эпидемии.
В 1599 г. в местности нынешнего Юрского департамента проживала некая Антида Колас. Эта была замужняя женщина, про которую все время ходили какие-то скверные толки, которые мало-помалу усиливались и оформлялись и, наконец, народной молвой были сведены к тому, что Антида завела себе друга из пекла, т. е. инкуба. Взялись за ее мужа, и тот с полной откровенностью подтвердил, что ему этот секрет супруги был давно известен и что если он до сих пор молчал, то лишь разделяя общий обычай всех рогоносцев, которые, разумеется, молчат о своих семейных злоключениях. Топа решили подвернуть подозрительную даму тщательному освидетельствованию, которое и было произведено хирургом Мильером. Осмотр Антиды дал обстоятельства подавляющие, с тогдашней точки зрения: у нее по самой середине живота оказалась глубокая впадина, которая ей не причиняла никакого страдания, ни затруднения. Сделана же была эта впадина ее возлюбленным Лизаботом. В виду такого собственного признания участь злополучной жертвы лукавого коротко и ясно определялась: ее сожгли живьем.
В восьмидесятых годах XVI столетия в Куломье (департамент Сены и Марны) жил один башмачник – Абель Деларю. Он чем-то возбудил против себя подозрение, и мало-помалу за ним утвердилась репутация колдуна. В 1582 г. состоялся брак между двумя местными обывателями, Жаном Мо и Фарой Флерио. Брачная жизнь молодых что-то не заладилась, и народная молва, не задумываясь, приписала их порчу Абелю Деларю. Молва окрепла и, разумеется, дошла до местных властей, которые к этим вещам в те времена прислушивались чрезвычайно внимательно. Деларю был схвачен и подвергнут допросу, который видимо его смутил. Ответы он давал уклончивые, сбивчивые и этим усиливал подозрения. Его засадили в тюрьму, и, посидев в ней некоторое время, Деларю получил вкус к откровенности и начал давать показания из области своего прошлого и настоящего. Оказалось, что в молодости его отдали в монастырь. Там с ним однажды очень сурово обошелся заведовавший послушниками монах Калье. Обиженный им мальчуган затаил страшную ненависть в душе, которая осталась у него до самого выхода из монастыря. Покидая его, Деларю дал себе клятву отмстить ненавистному Калье. Но прежде всего, по выходе из монастыря, он очутился в чрезвычайно затруднительном положении, не звал, куда идти, где преклонить голову. В сей крайности он рассудил, что ему не остается иного покровительства и прибежища, кроме дьявола, к которому он и обратился, прося его как-нибудь устроить его судьбу. Дьявол не заставил себя ждать. Он предстал перед своим молельщиком, приняв вид высочайшего мужчины с чрезвычайно страшным лицом, грязным телом и мерзким запахом. Прежде всего он объявил Абелю свое имя – Ригу. Всмотревшись в него, Абель заметил, что у него вместо живота и коленей были человеческие лица. самого страшного вида; ноги же у него были коровьи. Он в первое же свидание дал слово Абелю, что устроит его участь, и назначил ему свидание на другой же день в одном пустынном месте. На другой день дьявол Ригу аккуратно явился на условное место и отвел Абеля к одному пастуху по имени Пьер. Этот пастух был колдун, и дьявол поручил ему обучение Абеля. Несколько времени спустя дьявол позвал Абеля с собой на шабаш, который должен был состояться накануне Рождества. Сборы на чертовские игрища, по показанию Деларю, происходили в таком порядке. В тот день пастух Пьер устроил так, чтобы жены его всю ночь не было дома. Своего ученика Абеля он уложил спать в 7 ч., но Абелю не спалось, и он видел все, что делал старый пастух; тот возился с какой-то старой метлой; это был громадный пук прутьев, объемистый и длинный, без палки. Около 11 ч. ночи Абель услыхал какой-то сильный шум. Пастух-колдун подошел к нему и сказал, что сейчас надо отправляться. При этом старик помазал себе под мышками какой-то мазью и велел Абелю сделать так же. После того пастух сел верхом на приготовленную метлу, а Абель поместился сзади него. В этот момент вдруг появился демон Ригу, подхватил метлу с седоками и в мгновение ока вынес ее через печь и трубу на воздух. Ночь была очень темная, но дьявол, который мчался впереди метлы, освещал путь, держа в руке зажженный факел. Куда они мчались Абель не мог распознать и только видел под собой на мгновение промелькнувший знакомый монастырь. Чертовский поезд опустился где-то на поле, среди густой травы. Тут уже было многочисленное сборище, среди которого у Абеля оказались знакомые. Ригу потребовал, чтобы очистили место для вновь прибывших, и после того сам превратился в большого черного козла и принялся, испуская рев, кружиться по свободному месту, очищенному гостями шабаша. Все гости тоже принялись танцевать, держась задом к козлу. Проплясав некоторое время, козел остановился, оперся на согнутые передние лапы, и вдруг из его тела вылетело множество зернышек, величиной в булавочную головку. Падая на землю, эти зернышки превращались в порошок, сильно пахнувший серой и жженым порохом. После того самый старый человек в собрании опустился на колени, подполз на коленях к козлу и воздал ему обрядовое лобзание тем особенным странным манером, о котором мы уже много раз упоминали. Все присутствовавшие на шабаше колдуны и ведьмы имели в руках флаги; в них они собирали и завершали упомянутый волшебный порошок. К козлу один за другим подходили все гости. Когда дошла очередь до Абеля, козел спросил его человеческим голосом, чего Абель от него хочет. Мальчик отвечал, что он хочет научиться делать наузы на погибель своих недругов. Дьявольское козлище сказало ему, что он этому искусству может научаться от пастуха Пьера. Абель у этого пастуха и обучился колдовству. В своих показаниях он между прочим упомянул, что однажды его взяло раскаяние, он захотел вновь обратиться к Богу и с этой целью совершил богомольное странствование в монастырь, причем дьявол по дороге едва его не утопил. Этим упоминанием о своем покаянии Абель, очевидно, имел в виду облегчить свою участь; но мудрые судьи проникли в его уловку и не поверили ему. 23-го июля 1582 г. Абель Деларю был торжественно сожжен живьем на рыночной площади Куломье.
В июне 1586 г. в Пикардии была повешена некая Мария Мартен. Это была девица, занимавшаяся колдовством. Свои злодейства она вела в величайшем секрете, так что очень долгое время на нее никто ничего не мог и подумать; а между тем впоследствии оказалось, что целый ряд очень крупных общественных и семейных бедствий, которыми была удручена та несчастная община, где она жила, проистекли от ее волшебных злодейств. Она напускала болезни на людей и на скот; иногда по ее милости заболевала целая семья. На скот она напускала совершенно непостижимые болезни, от которых животные валились десятками. Мало-помалу, однако же, народная молва добралась до нее. Людям удалось себя убедить в том, что все бедствия происходят от нее. На нее донесли и ее арестовали. При осмотре ее тела, который в этом случае всегда производился тщательнейшим образом, на ней был найден оттиск огромной кошачьей лапы. Этот оттиск, конечно, и был принят за несомненную печать дьявола. Марию судили, и она без особой настойчивости со стороны судей признала себя колдуньей. Главной составной частью ее волшебных снадобий служил порошок из костей мертвецов. Само собой разумеется, что она состояла в интимной связи с дьяволом, которому имя было Цербер. Кстати сказать, благодаря показаниям ведьм и колдунов, еще средневековые демонологи составили длинный список чертей, обычно являвшихся людям. И т. к. ведьмы обыкновенно подробно описывали наружность своих чертей, то во многих старинных книгах можно найти изображение этих демонов. Нам удалось видеть изображение, например, этого самого Цербера, который пристроился к Марии Мартен. Это была фигурка, не лишенная комизма. Он изображался в виде птицы, одетой в старинный дворянский костюм: панталоны в обтяжку, жилет, жабо, кафтан с большими отворотами рукавов и клапанами карманов. Из панталон выставляются тощие курьи ноги с длинными пальцами и когтями; сзади, из-под фалд кафтана, торчит широкий хвост, вроде воробьиного; сбоку шпага. Но голова у этой птичьей фигуры не птичья, а собачья, похожая на пуделиную; на голове длинный остроконечный колпак с изображением какой-то морды. Этот чертик, по показаниям Марии Мартен, часто являлся ей и беседовал с ней. Движимая желанием угодить своему адскому другу, Мария перестала ходить в церковь и совершала надругательства над причастием. Она усердно посещала шабаши. На одном из них председательствовал ее сердечный друг Цербер, в том самом виде и туалете, как мы его описали. Он держал в лапах список всех друживших с ним ведьм и делал им перекличку.
В Австрии в замке Штаремберг в 1574 году дьявол внезапно овладел никоей Вероникой Штейнер. Тотчас же вызвали из Вены опытного отчитывателя одержимых, иезуита Бребантина. Прежде всего этот специалист установил несомненную наличность одержимости (о ее признаках мы подробно говорили в первом отделе в V главе). После того иезуит начал ее отчитывать, и его экзорцизмы оказали быстрое действие. Из Вероники вышли четыре беса, ознаменовавшие свой выход самыми несомненными признаками, а именно адски неприличным запахом, от которого присутствовавшим сделалось дурно. Опытный бесогон, однако, по каким-то хорошо ему известным признакам заключил, что одержимая еще не вполне очистилась, что в ней застряла еще целая куча чертей. Он дал демонам приказ, чтобы каждый из них, выходя из тела Вероники, тушил свечу, которых было зажжено множество на время церемонии. Внутри тела одержимой вдруг поднялся страшный шум; ее тело и грудь чудовищно вспучились, руки и ноги окоченели. Потом ее всю свернуло в клубок и она перестала видеть и слышать. Демоны туго поддавались заклинаниям, выходили из одержимой по одному через большие промежутки времени, так что все заклинание длилось шесть часов подряд, и каждый демон, выступая из тела одержимой, тушил свечу, как ему было приказано.
Всех упорнее оказался последний демон. Он выделывал с телом одержимой удивительные вещи. например, подкидывал ее вверх на несколько футов с такой силой, что пятеро здоровых мужчин не могли ее удержать, Перед своим выходом из тела Вероники демон швырнул два камня, из которых один упал во двор замка, а другой в часовню. По его выходе Вероника мгновенно погрузилась в глубокий обморок, от которого потом очнулась вполне здоровой и освободившеюся от своих чертей.
Около того же времени, когда было происшествие с Штейнер, на другом конце Европы, во Фландрии, разразилось дело о колдовстве, прошумевшее на всю Европу. Здесь обнаружили целую банду колдуний, во главе которых стояли Мария Стайнс, Симона Дурлэ и Дидим. Самые важные существенные показания дала последняя из них. Она оказалась особой настолько откровенной, что для исторжения из нее признаний не пришлось даже прибегать к пытке, Эго была усердная посетительница шабашей, во время которых она вступала в связь с мужчинами, с женщинами, с чертями и со зверями. По ее словам, на шабаш часто доставлялись причастные облатки, и ведьмы топтали их ногами. Сверх того, по ее показанию, ведьмы на шабашах поедали мясо невинных младенцев. Подробности ее любовных утех с дьяволом добросовестно записаны в протоколе суда, но не могут быть достоянием печати. О похищении младенцев она рассказывала, как о самой обыкновенной вещи, причем мимоходом упоминала о том, что часть этих младенцев поедалась на шабашах, а часть поступала в распоряжение жидов, которые употребляли их кровь да совершения своих обрядностей. Сама Дидим уворовала и продала жидам восемь младенцев. Во время одного из шабашей она видела самого Вельзевула. Обычно этот демон изображается голым. Тело у него человеческое, сильно волосатое, но вместо ног утиные лапы с перепонками. У него длинный, толстый хвост с большой кистью на конце; физиономия человечья с большим ртом и страшными выпученными глазами. На голове тонкие длинные рога, как у венгерского быка. За спиной крылья, напоминающие сложенные крылья летучей мыши, с резко выдающимися ребрами и острыми когтями на сгибах. Но по показанию Дидим, на шабаш он явился в костюме доминиканского монаха. Один из присутствовавших старых колдунов принес ему жертву: зарезал перед ним младенца, а прочие гости в это время носились вокруг в бешеном танце. После того Вельзевул снял с себя свой доминиканский плащ и передал его своим гостям, которые его поочередно ненадолго накидывали себе на плечи, причем строили разные смешные и неприличные гримасы, в виде надругательства над духовным облачением. Монахов на шабашах обычно ругали самыми последними словами. В конце концов, однако, Дидим увидела, что все эти откровенности ведут ее прямехонько на костер. Она ужаснулась и начала отпираться от сделанных показаний; сама, дескать, не могу понять, что побудило меня взводить на себя такие ужасы; пробовала она также уверить своих судей, что ей просто захотелось поиздеваться над ними. Но, разумеется, эти уловки уже не могли ее спасти от костра.
История одержимой Николь из Вервена, которую мы теперь расскажем, в свое время пользовалась такой известностью, что о ней писали даже особые книги; одна из них, между прочим, написана Бульвезом, а другая позже – его аббатом Леканю.
Эта Николь, носившая девическую фамилию Обри, была выдана замуж за портного, вервенского жителя. В ноябре 1563 года, в то время, когда она молилась на могиле своего дедушки, человека, который умер без покаяния, ей показалось, что тень ее дедушки выступила яз могилы. Привидение имело вид человека, окутанного саваном. Оно заговорило человеческим голосом и просило Николь отслужить несколько обеден за упокой его души, пребывающей в чистилище. Это ее так ужаснуло, что она даже расхворалась с испуга. Призвали врачей, и те, осмотрев ее, убедились, что в ее болезни есть что-то сомнительное. Можно было допустить, что болезнь началась вполне натурально, но затем, видимо, осложнилась вмешательством нечистого. Посему врачи посоветовали обратиться к сведущим, опытным духовным лицам. Духовные в свою очередь были призваны к больной, и один из них сейчас же распознал, что больная одержима дьяволом. Засевший в ней дьявол, когда духовенство вступило с ним в переговоры путем экзорцизмов, объявил себя душой того самого дедушки, на могиле которого Николь молилась. Однако опытные заклинатели по особым признакам различили, что это ложь и что в Николь вселился подлинный бес; потом распознали, что в ней сидит даже не один бес, а, по всей вероятности, несколько.
Изгнание бесов было поручено монаху-якобинцу Петру Деламотту. Он живо узнал имя главного беса, засевшего в Николь; это был сам Вельзевул.
– Как тебя зовут? – спрашивал бесогон.
– Вельзевул, царь демонов после Люцифера, – отвечал дух.
– Ты один?
– Нет.
– Сколько же с тобой других?

– Сегодня нас двадцать, но завтра будет больше, ибо я вижу, что нам нужно собраться в большом числе, чтобы бороться с вами.
Николь и ее окружающим были предписаны пост и всяческие умерщвления плоти. Один ревностный монах во время закаливания распорядился даже подвергнуть себя бичеванию в виде умилостивительной жертвы. Между тем, одержимая корчилась и делала прыжки вверх, превыше сил самого отчаянного гимнаста. Но когда ей дали причастие, она успокоилась.
Какой-то простоватый патер при виде такого благодетельного эффекта причастия возликовал от восторга и вскричал:
– O, maitre Gonin (простонародное уничижительное прозвище дьявола), ты побежден!
Но как только гостия была переварена, черти снова принялись за несчастную Николь и начали с того, что привели ее в состояние полной неподвижности. Один из демонов, по имени Бальтазо, подхватил ее и едва не уволок ее неведомо куда. Вскоре явилось двадцать девять демонов, которых, как надо заключить, воочию видели окружающие одержимую, потому что в книгах, посвященных этой истории, описывается внешний вид демонов. Они были черные, величиной с барана, с когтями, как у кошки. Началась эпическая борьба монахов-бесогонов с этой толпой адских чудищ. И борьба эта была далеко не легкая. Одержимость Николь началась в 1563 г., а окончательно изгнать из вея всех бесов удалось лишь в 1566 г., да и то не сразу, потому что сначала вышло только 26 дьяволов, остальные же объявили, что они выйдут только в том случае, если против них выступит епископ лаонский Жан Дюбур. Пришлось везти Николь в Лаон, и там епископ самолично изгонял из нее остальных бесов. Церемония происходила публично в местном кафедральном соборе, на эстраде, специально для этого выстроенной. Аббат Леканю, вышеупомянутый автор одной из книг, посвященных этому делу, пишет, что при изгнании бесов присутствовало много протестантов, которые были так потрясены совершившимся на их глазах чудом, что обратились в католическую веру.
Чудо это состояло в том, что епископ изгнал трех последних бесов: Астарота, Цербера и Вельзевула. Астарот вышел изо рта одержимой в виде свиньи, Цербер в виде собаки, а Вельзевул в виде громадного вола. Вельзевул исчез из глаз в клубах густого дама при громовых ударах. Злополучная Николь долго оставалась полумертвой, но епископ отчитал ее, сотворив над нею молитву святого Бернарда.
В 1662 г. распространился слух о том, что в женском монастыре урсулинок, находящемся в Огзонне, близ Дижоны, с монахинями творятся чрезвычайно страдные вещи, явно свидетельствующие об их одержимости, и что эта история продолжается в монастыре уже добрых 10 лет. Когда об этом было доведено до сведения парижского правительства, оно командировало для расследования дела на месте архиепископа тулузского, трех епископов и пять докторов медицины.
По прибытии на место эта комиссия навела справки об одержимых монахинях, и их оказалось восемнадцать, разного возраста. различного общественного положения. Изгнание из них бесов продолжалось целых две недели. Епископ шалонский, как делопроизводитель этой комиссии, составил и послал подробный отчет в Париж. В этом отчете, между прочим, перечислены те сверхъестественные дары, которыми демоны оделили одержимых ими монашек.
Все эти девицы оказались понимающими иностранные языки, так что заклинатели могли совершенно свободно объясняться с ними по-латыни.
Все они свободно читали мысли и в точности выполняли отданные им мысленно приказания.
Они могли предсказывать будущие события и обнаруживали знание самых секретных вещей, в особенности касавшихся других монахинь; равным образом и епископам-заклинателям они тоже сообщали самые сокровенные их тайны.
Ко всякого рода священным предметам они проявляли явный ужас и при виде их впадали в страшнейшие корчи. В виду причастия они кричали, выли, катались по полу. Когда им клали на язык гостию, то они неестественно высовывали язык изо рта. Когда к ним приближали мощи, они впадали в ярость.
Демонов, которые ими овладели, можно было заставлять делать разные сверхъестественные вещи, как, например, останавливать пульс попеременно то на правой, то на левой руке, по желанию заклинателя. У одной из одержимых, сестры Жамен, по команде заклинателя шея вздувалась самым чудовищным образом. Другая монашка Лазара Аривэ держала в руке горячий уголь и на коже у ней не обнаруживалось ожога.
У многих одержимых обнаруживалась нечувствительность, граничащая с чудесным. Монахине Денизе затыкали под ноготь булавку, и она не проявляла никаких признаков боли; при этом по команде заклинателя кровь начинала либо обильно течь из-под ногтя, либо мгновенно останавливалась.
У Огзонских монахинь, как и у многих других одержимых, обнаруживалось извержение со рвотой разных необычайных предметов: кусков воска, камешков, костей, волос и т. д. Монахиня Девиза после трехчасового отсчитывания извергла живую жабу, величиной в ладонь.
Демоны, оставляя тело одержимых, должны были по приказанию заклинателей обозначать свой выход каким-нибудь заметным знаком; так, демон, выходивший из Денизы, в самый момент выхода разбил стекло. Другие одержимые в минуту освобождения от демона извергали со рвотой куски сукна и других материй, на которых оказывались написанными красными буквами имена Богоматери и святых, которых призывали во время экзорцизмов. Одна из монахинь, отчитанная в день святого Григория, извергла кусок сукна, оправленный в медный кружок, на котором было награвировано имя Gregorius.
По временам, при исхождении чертей, такие надписи появлялись на стенах, на облачениях и т. д.
Одна из одержимых, сестра Борту, по повелению заклинателя, должна была совершить поклонение Святому Причастию, т. е. по католическому обряду, распростереться ниц по полу, раскинув крестообразно руки. Но сидевший в ней дьявол устроил так, что она прикасалась к полу только одной маковкой живота, а голова, руки и ноги были подняты на воздух. Другая монахиня при таком же требовании согнулась в кольцо, так что у ней подошвы прикоснулись ко лбу. Иные упирались в пол теменем и подошвами и в таком изогнутом виде передвигались по полу. Иные не имели сил сотворить крестное знамение рукой и, припав ртом к полу, делали попытки совершить крестные знамения языком.
Некоторые из одержимых во время бешеных корчей, которые ими овладевали, со всего размаха ударялись головой в стены, но у них на голове от этого удара не оставалось никакого следа.
Все эти явления были тщательно записаны и торжественно подтверждены членами комиссии, епископами и учеными врачами. Да мы и не имеем никакой возможности не верить этим явлениям и отрицать их, потому что любой современный опытный психиатр или невропат видывал еще и не такие вещи.
Другая известная монастырская эпидемия одержимости разразилась в 1564 г. в Кельне, в Назаретском монастыре. Здесь черти бесчинствовали, как и в Огзоне, несколько лет подряд, жестоко истязая несчастных монахинь. Всего прискорбнее в этих истязаниях было то, что дьявол не щадил приличий и подвергал своих несчастных жертв таким корчам, подробности которых невозможно описать. В числе лиц, исследовавших кельнских одержимых, участвовал, между прочим, известнейший тогдашний ученый Иоганн Вир. Он первый тогда объявил, по исследовании одержимых, что нет никаких сомнений в участии дьявола во всех этих ужасах. К сожалению, повторяем еще раз, мы не имеем возможности входить в подробности кельнских происшествий, потому что они выходят из предела всякой цензурной терпимости.
Около 1620 г. в Нанси был довольно громкий случай одержимости, жертвой которого сделалась вдова местного дворянина Елизавета Рамфен. После смерти мужа эта благочестивая дама решила поступить в монастырь, но как раз в это время с ней началась какая-то таинственная болезнь. Врачи, тщетно пробившись с вей некоторое время, увидели, что они имеют дело не с больной, а с одержимой, и уступили свое место опытным заклинателям. Но и эти очень долго не могли добиться ни малейшего успеха; очевидно, засевший в нее дьявол был опытный ратоборец. Первый монах, который за нее взялся, прибег к извержению рвоты, По опыту было известно, что если принудить одержимого к рвоте, то он очень часто извергает такие предметы, в которых и кроется самая суть; это те колдовские вещи, проглотив которые, одержимый вместе с ними проглатывает беса, который после того в нем и располагается. Елизавета Рамфен по приказу заклинателя извергала немало разных вещей, но это ее не спасло; очевидно, суть была не в том, что было извергнуто, а в том, что еще оставалось в ней. Первого заклинателя сменил второй. Этот добился только, что демон, овладевший Елизаветой, объявил свое имя. Его звали Персен или Персин (Persin).
Видя неспешность первых старателей, епископ тульский призвал новых мастеров. Экзорцизмы произносились на разных языках: латинском, греческом и даже еврейском. Дело выходило очень громкое и привлекло к себе всеобщее внимание. На экзорцизмах присутствовали герцоги лотарингские Эрик и Карл, епископы, знаменитейшие ученые, богословы и доктора парижской Сорбонны. Подробное описание всего этого дела составил Пишар, придворный медик герцогов лотарингских. «Эта дама, – говорит он в своих записках, – с трудом разбирала и понимала латынь в своем молитвеннике, а между тем, во время экзорцизмов свободно давала ответы на латинском, греческом и еврейском языках, а сверх того сама еще от себя говорила фразы по-немецки, по-итальянски и по-английски. Когда однажды кто-то из бесогонов, обращаясь к ней с вопросом на латинском языке, поставил слово вместо родительного в винительном падеже, то ученый дьявол Персен, сидевший в одержимой, сейчас же поставил монаху на вид его ошибку». По словам того же Пишара, Елизавета Рамфен иногда пускалась в рассуждения, обличавшие глубочайшую ученость и начитанность, так что ставила в тупик окружавших ее ученых мужей.
С точки зрения физиологической Елизавета Рамфен ничем не отличалась от других одержимых, проявляя сверхъестественные силу, проворство и ловкость. Она, например, порхала до деревьям, как белка. Иногда ее подкидывало на значительную высоту, так что весьма сальные люди не могли ее удерживать и она их увлекала за собой. Ученый медик очень подробно опоясывает внешний вид одержимой, черты ее лица, все ее движения, корчи членов, волосы, поднимавшиеся дыбом. Ее горло приобрело поразительное фонетическое совершенство, благодаря которому она могла до неотличимости верно подражать крикам всевозможных животных. По временам ее всю вдруг раздувало с такой силой, что, казалось, она лопнет; однако, вслед за тем, по команде заклинателя, она быстро приходила в нормальное состояние. По временам она становилась вся черная, и в это время ее глаза так страшно горели, что на нее нельзя было смотреть без ужаса. При некоторых бурных движениях не хватало силы восьми здоровых людей, чтобы сдержать ее. Иногда дьявол побуждал ее наносить побои окружающим. Однажды, например, она схватила за бороду одного из герцогов лотарингских и заставила его сделать несколько шагов. Будучи от природы особой очень стыдливой и богобоязненной, она в состоянии одержимости произносила страшные ругательства и самые неприличные слова.
Произведя тщательное расследование этого случая, хитроумные судьи того времени отыскали даже и причину бесноватости злополучной Елизаветы Рамфен. Дело в том, что когда она овдовела, то за нее сватался один врач, по имени Пуаро. Елизавета ему отказала, и он, желая ей отомстить, прибег к помощи дьявола. Он и напустил на нее порчу. Разумеется, когда это было дознано и надлежащим образом доказано, Пуаро, как явный колдун, был сожжен на костре.
Упомянем еще о знаменитом деле Магдалины Баван. Эта Баван была привратницей в монастыре Лувье. Однажды заметили, что в монастыре с некоторого времени с монахинями начало делаться что-то неладное. По некоторым догадкам заключили, что корнем зла является упомянутая привратница Магдалина. Сочтя Магдалину за одержимую, начали ее отчитывать, но тут мимоходом дознались, что на Магдалину порча была напущена монастырским духовником Матюреном Пикаром. Но когда всплыла эта история, Матюрен был уже покойник. Труп его, как подобало, вырыли, совершили над ним отлучение от церкви, а затем выбросили на съедение диким зверям. Между тем, Магдалина на допросе показала, что ее соблазнил и водил на шабаши один колдун, с которым она познакомилась в Руане. Некоторые подробности ее показаний у нас уже были описаны в первой главе о шабашах. Она до такой степени освоилась с дьявольщиной, что демоны постоянно являлись к ней по ночам в ее келью, под видом больших черных кошек. Магдалина Баван принесла на суде искреннее раскаяние в своих злодействах, и это спасло ее от костра. Ее приговорили к вечному заключению в каком-то подземелье на хлебе и воде.
Теперь переходим к наиболее интересному делу, разыгравшемуся на почве демонизма в XVII столетии, именно к процессу Урбана Грандье.
Урбан Грандье родился в Ровере около Саблэ (в департаменте Сарты) в 1590 г. В 1617 г. он был уже священником в городе Лудене. Это был очень ученый и талантливый человек, получивший прекрасное образование в иезуитской коллегии в Бордо. Один из его современников характеризует его в своих записках как человека с важной и величественной осанкой, придававшею ему надменный вид. Он принадлежал к числу выдающихся ораторов своего времени. Эти два таланта: ученость и дар проповедничества, быстро выдвинули его вперед и вместе с тем сообщили его характеру значительную дозу самонадеянности. Он был молод, и, как это часто бывает, успех вскружил ему голову. Во время своих проповедей он без малейшего стеснения позволял себе самые ядовитые выходки против монахов некоторых ему ненавистных орденов: капуцинов, кармелитов и др. Очень ловко вставлял он в свои ядовитые обличения множество намеков на разные темные дела и грешки высших духовных лиц. Благодаря таким приемам, жители Лудена мало-помалу отбивались от других городских приходов и устремлялись на проведи к Урбану Грандье. Но само собой разумеется, что этим же способом он нажил себе и множество врагов. Однако, как ни привлекал Грандье сердца и души своим словом, его дела и поступки были далеко небезупречны. Так, например, он оказался большим охотником ухаживать за девочками-подростками. У него был близкий друг – королевский прокурор Тренкан. Урбан соблазнил его дочь, совсем молоденькую девочку, и имел от нее ребенка. Злополучный прокурор, потерпевший такое бесчестие, разумеется, сделался смертельным врагом Урбана. Кроме того, весь город знал, что Грандье состоит в связи с одной из дочерей королевского советника Рене де Бру. В этом последнем случае всего хуже было то, что мать этой девочки, Магдалины де Бру, перед своей смертью вверила лицемеру-духовнику свою юную дочку, прося его быть духовным руководителем девочки. Грандье без труда увлек свою духовную дочь, и она влюбилась в него. Но девочку брало сомнение, что, вступая в связь с духовным липом, она совершит смертный грех. Чтобы сломить ее сопротивление, Урбан прибег к великой скверности, а именно обвенчался со своей юной возлюбленной, причем одновременно сыграл двойственную роль жениха и священника; разумеется, церемонию эту он устроил ночью и в большом секрете. Но т. к. и после того Магдалина продолжала терзаться угрызениями совести, то он очень ловко убедил ее в том, что безбрачие духовенства не есть церковный догмат, а простой обычай, нарушение которого отнюдь не составляет смертного греха. А чтобы еще больше укрепить ее в этом убеждении и, главное, доказать ей, что он говорит все это не для нее лишь одной, чтобы только ее успокоить, а готов то же самое повторить перед всем светом, он написал особую книгу против безбрачия духовенства. Рукопись этого интересного трактата и сейчас хранится в одной из парижских библиотек.
В 1626 г. в Лудене был основан женский урсулииский монастырь. Первоначально в нем было всего 8 монахинь. Они явились в Луден из Пуатье без всяких средств и первое время жили подаяниями. Но потом над ними сжалились благочестивые люди и кое-как понемножку их устроили. Тогда они наняли себе небольшой дом и стали принимать девочек на воспитание. Скоро их настоятельница, во внимание к ее усердию, была переведена куда-то в другой монастырь игуменьей, а ее место заняла сестра Анна Дезанж. Это была женщина хорошего происхождения. Она еще девочкой поступила послушницей в урсулинский монастырь в Пуатье, затем постриглась, а потом перебралась в Луден в компании с семью другими монашками. Под ее настоятельством луденский монастырек начал процветать. Число монахинь с восьми поднялось до семнадцати. Все монашки, за исключением одной, Серафимы Аршэ, были девушки знатного происхождения.
До 1631 г. священником в монастыре был аббат Муссо. Но в указанном году он умер и монахиням опять надо было отыскать себе нового священника. И вот тут-то, в числе кандидатов на это вакантное место, и выступил Урбан Грандье. В его деле упоминается о том, что им руководили самые черные намерения; его, очевидно, соблазняла перспектива духовного сближения с этой толпой молодых девушек и женщин знатного происхождения. Но как мы уже сказали, его репутация была очень подсалена, а потому неудивительно, что он был забракован и ему предпочли патера Миньона. А у него как раз с этим Миньоном были какие-то бесконечные личные счеты и ссоры. Скоро эта неприязнь перешла в открытую схватку между Миньоном и Грандье. Дело дошло до епископского суда. Епископ оказался на стороне Миньона, но Грандье апеллировал к архиепископскому суду, и местный (бордосский) архиепископ решил дело в его пользу. Главным источником их вражды между собой являлось беспутное поведение Грандье, на которое сурово-нравственный Миньон жестоко нападал. Вражда страшно обострилась во время кандидатуры в священники к урсулин-кам. Когда представился Грандье, ни одна из монахинь не пожелала даже и говорить с ним, тогда как аббата Миньона они приняли очень охотно. И вот, чтобы отомстить торжествующему недругу, Грандье, по общему убеждению его судей и современников, и решился прибегнуть к колдовству, которому его обучил один из его родственников. Он намеревался с помощью колдовства соблазнить нескольких монахинь и вступить с ними в преступную связь, в том расчете, что когда скандал обнаружится, то, разумеется, грех будет приписан аббату Миньону, как единственному мужчине, состоявшему в постоянных и близких сношениях с монахинями.
Волшебный прием, к которому прибегнул Грандье, принадлежал к числу самых обычных: он подкинул монахиням наузу, т. е. заговоренную вещь. По всей вероятности, подойдя к ограде их обители, он перекинул эту вещь через ограду в сад и спокойно ушел. Предмет же, им подкинутый, была в высшей степени невинная вещь, не могшая внушить никаких подозрений: небольшая розовая ветка, с несколькими цветами. Монахини, гуляя по саду, подняли ветку и, конечно, нюхали благовонные цветы; но в цветах этих уже сидели бесы, надо полагать, целым стадом. Эти бесы и вселились во всех, кто нюхал розы. Прежде других восчувствовала в себе присутствие злого духа сама мать-игуменья, упомянутая Анна Дезанж. Вслед за ней порча обнаружилась у двух сестер Ногаре, потом нехорошо почувствовала себя г-жа Сазильи, весьма важная дама, родственница самого кардинала Ришелье; потом та же участь постигла сестру Сент-Аньес, дочь маркиза Делямотт-Бораеэ, и ее двух послушниц. В конце концов во всем монастыре не осталось и пяти монашек, свободных от чар.
Но что, собственно, делалось с околдованными монашками, – об этом мы можем осведомиться из дела. Все одержимые вдруг прониклись пламенной любовной страстью к Урбану Грандье и всем им он стал являться, нашептывая самые коварные речи и совращая в смертный грех. Разумеется, монашки, как и подобает, изо всех сил боролись против одолевавшего их соблазна, и, как это было тщательно засвидетельствовано, ни одна из них не дошла до фактического грехопадения. Это было самым несомненным образом установлено вовремя экзорцизмов, когда сами демоны, сидевшие в монашках, на вопросы заклинателей так прямо и отвечали, что ни одному из них не удалось ввести свою жертву в действительный грех, не взирая ни на какие ухищрения. Следует еще заметить, что кроме монахинь роковая розовая ветка побывала в руках у девиц, случайно бывших в это время в монастыре. В числе их особенно жестоко поплатилась Елизавета Бланшар.

Луденское дело было много раз описано с величайшими подробностями, и мы не имеем никакой возможности все это передать в нашей книге. Нам придется взять только наиболее выдающиеся факты, которые потом сделались достоянием демонологии. На основании показаний одержимых, т. е., другими словами, самих бесов, которые в них сидели (потому что во время одержимости за человека отвечает на вопросы овладевший им бес), удалось установить имена этих бесов, их происхождение, их внешность, их местонахождение внутри человека и т. д.
Так, например, игуменья монастыря Анна Дезанж была одержима семьо дьяволами: Асмодеем, Амоном, Грезилем, Левиафаном, Бегемотом, Баламом и Изакароном. Уделим некоторое внимание этим любопытным жильцам адовым. Заметим прежде всего, что по учению церкви дьяволы суть не кто иной, как. павшие ангелы. Но, быв раньше ангелами, они должны были принадлежать к одному из девяти чинов ангелов. Во время экзорцизмов бесы на вопросы заклинателей а объявляли не только свои имена, но также и те ангельские чины, к которым он принадлежали до своего падения. Так, Асмодей оказался происходящим из чина Престолов. Мы имеем возможность описать его наружность по изображениям в старых демонологиях. Он являлся в виде голого человека с тремя головами: человеческой посередине, бараньею слева, и бычачьею справа; на человеческой голове у него была корона; ноги у него были утиные или гусиные, обыкновенного демонского фасона. Он являлся верхом на каком-то чудовище, вроде медведя, но с гривой и с очень длинным, толстым хвостом, как у крокодила. Асмодея удалось заклинаниями выгнать из игуменьи раньше других бесов. Мы уже не раз упоминали о том, что заклинатели заставляли демонов в тот момент, когда они выходили из тела одержимого, обозначать свой выход какими-нибудь внешними знаками. Так Асмодей, при выходе из своей жертвы-игуменьи, должен был оставить отверстие у ней в боку. что и было им исполнено.
Вслед за Асмодеем вышел Амон. Этот бес являлся в виде чудовища с мордой, похожей на тюленью, и с телом, тоже напоминающим тюленье, и с извитым кольцами, не то змеиным, не то крокодильим, хвостом. Глаза у него были громадные, как у филина. К передней половине тела у него были две лапы вроде собачьих, но с длинными когтями; это было двуногое чудовище. Он объявил себя принадлежащим к чину Властей. Знаком исхождения из тела Амона было также отверстие на боку у игуменьи.
Третий вышедший из игуменьи демон был Грезиль, из чина Престолов. О его внешности не можем сообщить сведений. Вышел же он из игуменьи тоже через бок, оставив на нем отверстие.
Четвертый демон был Левиафан, происходивший из чина Серафимов. Он изображался стоящим на большой морской раковине посреди воды. У него была громадная голова какой-то чудовищной рыбы, с широко раскрытой пастью, большими рыбьими глазами, вся утыканная острыми рыбьими остями; по бокам головы высились два тонких бычачьих рога. Одет он был в какой-то странный костюм, напоминающий старинный адмиральский мундир. С левого бока у него болталась шпага, а в левой руке он держал Нептунов трезубец. Левиафан обозначил свою квартиру в теле одержимой: он сидел у ней во лбу и, выступая из нее, оставил на самой середине лба след своего выхода в виде кровавого креста.
Пятый бес был Бегемот, происходивший из чина Престолов. Пребывание его было во чреве игуменьи, а в знак своего выхода из нее он должен был подбросить ее на аршин вверх. Этот бес изображался в виде чудовища со слоновой головой, с хоботом и клыками. Руки у него были человеческого фасона, а громаднейший живот, коротенький хвостик и толстые задние лапы, как у бегемота, напоминали о носимом им имени.
Шестой демон Балам приписал себя к чину Властей. Внешность его нам неизвестна. У игуменьи он имел пребывание под вторым ребром с правого бока. Его выход из тела обозначился тем, что на левой руке у игуменьи появилось начертание его имени, которое, по предсказанию демона, должно было остаться у нее неизгладимым на всю жизнь.
Последний демон Изакарон, происходивший из чина Властей, сидел в правом боку под последним ребром и при выходе оставил свой знак в виде глубокой царапины на большом пальце левой руки игуменьи.
У сестры Луизы Барбезьер были обнаружены два демона: Эазас и Карон. Первый из них приписал себя к чину Господств; поселился он у монахини под сердцем. При оставлении тела ее, он должен был поднять ее на 3 фута кверху. Карон причислил себя к чину Сил. Пребывал он в середине лба. Выходя из одержимой, он должен был принять вид двух снопов пламени, исходящих из уст одержимой, и, кроме того, разбить одно из стекол в церковном окне.
Родной сестрой вышеупомянутой монахини, Жанной, завладел один только демон, именно Цербер, о котором мы уже раньше упоминали. Он объявил себя принадлежащим к чину Властей, поселился под сердцем; знаком его выхода было поднятие монашки на аршин вверх.
В злополучной сестре Кларе Сазильи вселилось восемь демонов: Забулон, Нефтали, Бесконечный, Элими, Враг Девы, Поллютион, Веррин и Похоть. Первый из них был из чина Престолов, вселился во лбу и при выходе из одержимой должен был начертать на ее лбу имя, которое должно было остаться неизгладимым на всю жизнь. Нефтали, из чина Престолов, избрал своею резиденциею правую руку одержимой, а в знак выхода из ее тела должен был перенести кафедру из церкви на вершину башни луденского замка. Дьявол, назвавший себя Бесконечным, в то же время назвался Урбаном Грандье, – откровение, вероятно, немало способствовавшее погибели злополучного героя нашего повествования. Он вселился в правом боку монахини под вторым ребром и в знак своего исхождения из тела должен был подбросить монашку на пять футов кверху. Элими, из чина Сил, вселился возле желудка; исходя из своей жертвы, он должен был прободать тело жертвы против места своего пребывания и высунуться оттуда в виде летучего змия. Враг Девы отнес себя к чину Херувимов и вселился под шеей, а в знак выхода должен был прободать правую руку жертвы так, как будто бы она была проткнута насквозь пальцем. Шестой демон Полдлютион, принадлежавший, как и предыдущий, к чину Херувимов, поселился в левом плече и при выходе должен был пронзить ногу одержимой. Седьмой демон Веррин, из чина Престолов, поселился в левом виске и должен был там оставаться всю ее жизнь так, что отчитать от него жертву не было никакой возможности. Последний демон Похоть, из чина Херувимов, поселился в правом виске; этот на выходе должен был пронзить левую ногу монашки.
Изабелла Бланшар подверглась нападению шести демонов. Один из них – Астарот – поселился у девицы под правой мышкой. Изображение этого демона очень напоминает изображение Асмодея, которого мы выше описали, только голова у него одна, человечья, и ноги также человечьи. Под левой мышкой у Изабеллы поместился сам Вельзевул. Третий демон, назвавший себя Углем Нечисти, поселился на левом бедре, четвертый, Лев Ада, под пупом. Пятый, Перу, под сердцем. Шестой, Мару, – под левой грудью.
Полагаем, что дальнейшее систематическое перечисление было бы утомительно для читателей, и потому заимствуем лишь самые курьезные вещи из добросовестного списка одержимых и их демонов, составленного лицами, производившими следствие. Магдалина Белиар объявила, что у нее в желудке находится три листка розы, а Марта Тибо, что у ней в желудке капля воды; у той и у другой эти вещи стереглись демонами. У некоторых одержимых черти не избирали определенного местожительства, а странствовали по всему телу. Знаком исхождения некоторых демонов заклинатели избрали очень курьезные признаки. Так, например, один из демонов, изгнанных из сестры Агнессы, должен был сдернуть камилавку с головы королевского комиссара Лобардемона, присутствовавшего при экзорцизмах, и держать ее над головой этого сановника все время, пока будут петь Miserere, и т. д.
Такова была армия демонов, напавшая на луденских урсулинок, которые все в один голос обвиняли Урбана Грандье в том, что это он напустил на них порчу.
С весны 1632 г. в городе уже ходили слухи о том, что с монашками творится нечто неладное. Они, например, вскакивали по ночам с постели и, как лунатики, бродили по дому и даже лазали по крышам. По ночам им являлись также разные привидения. Один из этих призраков говорил молодой монашенке самые неприличные вещи. Иных в ночное время кто-то жестоко бил, и от этих побоев оставались у них на теле явные знаки. Некоторые монашки чуяли, что к ним и днем, и ночью все кто-то прикасается, и эти прикосновения причиняли им величайший ужас.
Аббат Миньон, узнав об этих таинственных явлениях, был очень встревожен или, что, пожалуй, будет вернее, очень обрадован, потому что все это происшествие давало ему в руки могучее оружие для поражения своего смертельного врага и ненавистника Урбана Грандье. Сам он немедленно стал, конечно, на ту точку зрения, что на его монашек напущена порча, что они одержимы дьяволом; на это указывали все внешние признаки. Он, однако, сделал вид, что не решается подозревать своего лютого врага в таком злодействе. В то же время, не желая брать единолично на себя всю ответственность в таком щекотливом деле, он прибег в содействию некоего патера Барре, который славился своей ученостью и высочайшими добродетелями. По общему совету они решили приступить к экзорцизмам, и открыли свою благочестивую компанию, начав с матери-игуменьи. Однако, их первые попытки не увенчались ни малейшим успехом. Они начали ее отчитывать 2-го октября, но лишь 5-го октября, во время третьего сеанса, обнаружилось некоторое действие: одержимая впала в судороги и дьявол ответил на вопрос, назвав свое имя. Когда же ему повелели оставить ее в покое, то он вместо послушания подверг несчастную страшной встряске, во время которой она выла и скрежетала зубами.
6-го октября взялись за Клару Сазильи. Дьявол, засевший в ней, недолго поломавшись, объявил свое имя – Забулон. Продолжая отсчитывание, патеры спросили у дьявола: по какому договору, т. е. с кем заключенному, демон вошел в монастырь? Одержимая отвечала, что 1-го октября, когда она легла в постель, около нее было пять монашек и одна из них читала какую-то духовную книгу. Одержимая лежала вся укрывшись одеялом и вдруг почувствовала, что ее правую руку, бывшую под одеялом, кто-то схватил, разогнул на ней пальцы, что-то положил на ладонь и зажал руку. Испуганная монахиня вскричала и протянула руку сестрам. Те раскрыли ей руку и нашли в ней три колючки боярышника. Монашки, которые видели эти колючки, сказывали, что они были деляной в обыкновенную булавку и толщиной в чулочную спицу. Колючки эти не были брошены, сохранились и были переданы аббату Миньову. Он не знал, что с ними и делать, и собрал целый совет из духовных лиц, чтобы решить этот важный вопрос. Долго совещались и порешили, что колючки эти должны быть ввержены в огонь самой игуменьей. По-видимому, монашки полагали, что с сожжением этих дьявольских колючек и сама нечистая сила удалится из монастыря, но вышло как раз наоборот. С этого момента все монашки буквально перебесились и целыми днями кричали, изрыгая хулы на всякую святыню и площадную брань.
Между тем, слухи обо всем, что происходит в монастыре, уже успели распространиться по всему городу, и аббат Миньон счел необходимым известить об этом гражданские власти. Местный судья и так называемый гражданский лейтенант (lieutenant civil) явились в монастырь, дабы быть личными свидетелями тех странных явлений, которые совершались с монашками. Свой визит начальство сделало 11-го октября. Аббат Миньон ввел их в одну из монастырских келий, где на койках лежали две одержимые: настоятельница и еще другая монашка. Вокруг их одров стояли монахи-кармелиты и монашенки; тут же был хирург Маннури. При входе властей, сестрой Жанной тотчас овладел припадок. Она заметалась по-простели и начала с неподражаемым совершенством хрюкать по-поросячьи. Потом она вся скорчилась на кровати, сжала зубы и впала в онемелое состояние. Тогда аббат Миньон вложил ей в рот большой и указательный пальцы и начал читать экзорцизмы. Затем по просьбе судьи аббат стал ей задавать вопросы на латинском языке, на которые одержимая отвечала также по латыни. Само собой разумеется, что эти вопросы обращались прямо к дьяволу и он же давал ответы устами одержимой. Приводим здесь эту курьезную беседу между аббатом и чертом.
– Зачем вошел ты в тело этой девицы? – спрашивал аббат.
– По злобе, – отвечал демон.
– Каким путем?
– Через цветы.
– Какие?
– Розы.
– Кто их прислал?
– Урбан.
– Скажи его фамилию?
– Грандье.
– Скажи, кто он?
– Священник.
– Какой церкви?
– Святого Петра.
– Кто дал ему цветы?
– Дьявол.
В следующие дни судья и другие городские чины неизменно присутствовали при всех экзорцизмах. 31-го октября игуменья впала в особенно сильный припадок судорог и бешенства. Изо рта у ней била клубами пена. Экзорцизмы читал вышеупомянутый патер Барре. Заклинатель спросил демона, когда он выйдет из одержимой, и тот отвечал: «Завтра утром». На вопрос же заклинателя, почему он упрямится и не хочет выйти тотчас, дьявол отвечал бессвязными латинскими словами: «Pactum, sacerdos, finis»… После того одержимую вновь ужасно встрясло, а затем она успокоилась и с улыбкой сказала патеру Барре: «Теперь во мне больше нет сатаны».
Тем временем Урбан Грандье. видя, что он выдвинут на сцену в качестве главного зачинщика во всем этом деле, повял, под какую страшную угрозу он попал, и постарался отвести от своей головы нависшую над нею грозу. Он поспешил подать жалобу, что его оклеветали. У него были сильные друзья, и с их помощью ему удалось на время потушить дело. Его главным заступником оказался митрополит, монсеньор де Сурди. Он оправдал Грандье и запретил патеру Миньону производить дальнейшие экзорцизмы в монастыре, поручив их впредь патеру Барре, в помощники которому он командировал двух опытных заклинателей, монахов Леске и Го. Сверх того последовало запрещение кому бы то ни было другому вмешиваться в это дело.
А между тем, демоны, вселившиеся в монашек, продолжали свое дело; главное, на вопрос о том, кто именно их послал на одержимых, они продолжали упорно указывать на Урбана Грандье. Может, конечно, показаться диковинным, с какой сами черти изобличали своего верного слугу, подводя его под костер. Но таково уже было общее тогдашнее убеждение; силой заклинаний дьявола можно было принудить ко всему, сломить всякое его упорство. Благочестивые экзорцисты ужасались чудовищному греху, в который впал Урбан, служитель алтаря, но, припоминая его грешную и полную соблазнов жизнь, только покачивали главами; все, дескать, может статься, коли человек так дурно ведет себя. Надо полагать, что духовенство, производившее экзорцизмы, под влиянием недружившего с Грандье патера Миньона постепенно распространяло в народе слухи о том, что творится в монастыре и о чем поговаривают дьяволы, засевшие в монашках. Городское начальство дружило с Грандье и готово было затушить дело, но народная молва все росла и росла и стала громко требовать возмездия служителю алтаря, предавшемуся дьяволам. Вести о луденских происшествиях дошли, наконец, и до Парижа, а затем и до короля.
Король Людовик XIII, быть может, отнесся бы к делу осторожно, но на него, очевидно, оказал давление всемогущий кардинал Ришелье. Временщик имел свои причины недолюбливать Грандье. Молодой, самонадеянный и дерзкий патер написал на него ядовитый пасквиль. Из переписки, захваченной у Грандье, его авторство, раньше только подозревавшееся, окончательно было установлено. Не трудно догадаться, что раздраженный Ришелье отнесся к своему обидчику без всякой пощады. Вероятно, воздействию кардинала и должно быть приписано то внимание, с которым король отнесся к этому делу. Он командировал в Луден тамошнего провинциального интенданта Лобардемона и снабдил его широчайшими полномочиями на расследование и ведение дела. Лобардемон взялся за свое поручение тем с большим усердием, что одна из наиболее пострадавших урсулинок, а именно сама игуменья, доводилась ему родственницей. Притом же он был горячим и преданным почитателем Ришелье и, зная кое-что насчет вышеупомянутого памфлета, решил хорошенечко взяться за Урбана, чтобы основательно разведать, между прочим, и об этом, т. е. об его авторстве.
Тем временем проявления одержимости сначала немного утихли, а потом, среди лета 1633 года, вновь бурно возобновились, а главное, на этот раз не уместились в одном монастыре урсулинок, а распространились и в городе. Зараза понемногу проникла даже в окрестности города, и всюду появились девицы, проявлявшие более или менее внушительные признаки одержимости. Две из этих одержимых были отчитаны патером Барре в присутствии Лобардемона, который таким образом запасся добрым фактическим материалом, очень ему пригодившимся. Он нарочно после того съездил в Париж, представился королю, доложил ему о веем и получил новые неограниченные полномочия на расследование и ведение дела.
В декабре 1633 г. Лобардемон вернулся с этими полномочиями в Луден, Первым делом он арестовал Грандье, отправив его сначала в Анжер, а потом приспособил для его содержания особое помещение в Лудене. Были, конечно, относительно такого особенного арестанта приняты и особые меры охраны; окна в его тюрьме заклали кирпичами, а дверь заделали прочнейшею железной решеткой; делалось это, разумеется, из опасения, что дьяволы могут явиться к нему на выручку и вызволить его из тюрьмы; в этом отношении тогдашние власти проявляли высокую наивность.
Пока Грандье отсиживал в своей тюрьме, взялись за одержимых и начали их отчитывать. Как мы уже сказали, число этих невинных жертв лукавого значительно умножилось, и их порешили рассадить отдельно по разным домам в городе под надзором надежных лиц. Созвали целую комиссию врачей, чтобы изучать явления, обнаруживаемые одержимыми во время острых припадков беснования; к ним прикомандировали аптекаря и хирурга. Черто-гонов-монахов сначала назначили двух, но потом скоро увидали, что им двум не справиться, и присоединили к ним четырех помощников.
Демоны каждый день все подбавляли да подбавляли разные новые интересные показания. Все это надо было проверить путем очных ставок одержимых с Урбаном. Тот сначала отказался отвечать на какие бы то ни было обвинения, но потом постепенно разговорился. Чрезвычайно важной обличительной статьей колдуна, как мы уже упоминали еще в первом отделе, служили «печати дьявола», т. е. особые знаки на теле колдуна, чаще всего анестезированные места, т. е. такие, где не ощущалось боли. И вот дьяволы устами своих жертв показали, что на теле Урбана они наложили несколько таких печатей; консилиум врачей проверял эти дьявольские изветы, и, увы, они оправдались; у Урбана нашлось четыре нечувствительных участка на теле. «In diabus natibus circa anum et duobus testiculis», сказано в протоколе освидетельствования. Этим устранялись все сомнения в колдовской профессии Грандье.
Приступили к дьяволу Асмодею (сидевшему в игуменье Анне Дезанж) и настаивали, чтобы он сказал, как и когда был им заключен договор с Урбаном Грандье. Добросовестный бес, не желавший выдавать своего верного слугу, сначала начисто отказывался отвечать на эти вопросы; но на него поприналегли с экзорцизмами и приндили его доставить копию с договора, заключенного им с Грандье. Копия была передана одержимой следственной комиссии. Любопытно бы знать, чье изделие представлял собой этот документ, но, конечно, протоколы судилища об этом умалчивают. Приводим курьеза ради дословный перевод этого документа:

«Господин и владыко, признаю вас за своего бога и обещаю служить вам покуда живу, и от сей поры отрицаюся от всех других и от Иисуса Христа, и Марии, и от всех святых небесных, и от апостолической римско-католической церкви, и от всех деяний и молитв ее, которые могут быть совершаемы ради меня, и обещаю поклоняться вам и служить вам не менее трех раз ежедневно, и причинять сколь возможно более зла, и привлекать к совершению зла всех, кого мне будет возможно, и от чистого сердца отрицаюся от миропомазания и крещения, и от всей благодати Иисуса Христа, и в случае, если восхочу обратиться, даю вам власть над моим телом и душой, и жизнью, как будто я получил ее от вас, и навек вам ее уступаю, не имея намерения в том раскаиваться.
Подписано кровью: „Урбан Грандье“».
Через несколько времени тот же Асмодей передал судьям через одержимую новый документ. Он указывает, какими знаками на теле одержимых будет отмечен выход из их тела его самого и других демонов. Документ был подписан его именем.
Проверка этого документа на деле представляла большой интерес и была произведена в одной из городских церквей с особой торжественностью, в присутствии целой толпы горожан, с трепетным любопытством следивших за происходившим на их глазах чудом. Асмодей в своем документе точно указал, какие знаки появятся на теле у одержимой (Анны Дезанж), – мы выше уже упоминали об этих знаках. Церемония началась с предварительной экспертизы. Врачи осмотрели одержимую и удостоверились, что у нее на теле, в указанных Асмодеем местах, нет никаких знаков. После того заклинатель, отец Лактанций, начал экзорцизмы. Одержимая сделала какой-то неимоверный и сверхъестественный изгиб тела, потом распрямилась, и тогда на ее руке, на одежде и на теле оказалась кровь. Врачи вновь ее осмотрели и нашли на ее теле такие самые надрезы, какие были обозначены в бумаге Асмодея. Каким путем убедились в том, что не она сама оцарапала себя во время своих корчей – об этом история умалчивает.
После всех этих предварительных испытаний было решено поставить Урбана публично на очную ставку со всеми одержимыми. Эта ставка состоялась 23-го июня, в церкви, в присутствии местного епископа Лобардемона и многочисленной публики.
Урбану прочитали показания, сделанные на него одержимыми, т. е. их демонами. Главным пунктом явились указания на те снадобья, которые служили средствами волшебства. Одно из них, по показанию демона Левиафана, было составлено: из частиц мяса, взятого из сердца невинного младенца, зарезанного во время шабаша, происходившего в Орлеане в 1631 году; из золы сожженной причастной облатки и из крови и еще некоего вещества, взятых от Урбана Грандье. С помощью этого снадобья Левиафан, по его показанию, и внедрился в тело одержимой; но как именно это снадобье было употреблено в дело? Вероятно, предполагалось, что Урбан натер этой смесью свою предательскую розовую ветку. Наверное не можем сказать. Другое снадобье было выделано из зерен апельсинных и гранатных, и с его помощью в одержимую внедрился Асмодей.
Все это было прочитано Урбану, и от него потребовали объяснений. Он спокойно отвечал, что не имеет понятия о таких снадобьях, никогда их не делал, не знает, как и зачем, они делаются и употребляются, что с дьяволом он не входил никогда ни в какое общение и вообще не может уразуметь, о чем, собственно, ему говорят и чего от него хотят. Ответ его записали, а Грандье его подписал. После этого ввели одержимых.
Увидя Урбана, все его предполагаемые жертвы изъявили свою радость веселыми восклицаниями, делали ему дружеские знаки и называли своим «господином». Очевидно, это делали за одержимых демоны. Значит, они так прямо и выдавали своего слугу и друга верного его лютым врагам?.. Но не будем комментировать, а будем просто излагать дело по протоколам суда.
Настал самый торжественный момент очной ставки. Один из заклинателей обратился к народу с увещанием «вознести сердца со всеусердием ко Господу и принять благословение владыки епископа», Епископ благословил предстоявших. Тогда тот же заклинатель возвестил, что церковь обязана придти на помощь к несчастным одержимым и помощью установленных молитв изгнать из них бесов. Вслед за тем, обращаясь к Урбану Грандье, оратор сказал, что так как он, Урбан, сам облечен священным саном, то и должен с своей стороны, буде на то последует изволение епископа, прочитать над одержимыми эти молитвы, если он в их одержимости, как он уверяет, нимало не повинен и к ней не причастен. Это был ловкий маневр; Урбану предписывали изгонять им же самим напущенных бесов. Епископ немедленно изъявил свое изволение, а оратор-заклинатель передал Урбану столу (епитрахиль).
Но как только он возложил на себя священное облачение, демоны, устами одержимых, все в один голос возопили: «Ты отрекся от этого!». Не смущаясь этими воплями, Грандье принял из рук монаха требник и, поклонившись земно епископу, просил его благословения начать экзорцизмы. Когда епископ дал свое благословение и хор провел обычное в этих случаях песнопение («Veni Creator»), Грандье спросил у епископа, кого он должен отчитывать? Епископ указал ему на толпу одержимых дев. Грандье на это заметил, что коль скоро церковь верит в одержимость, то и он должен в нее верить; но что он сомневается, можно ли человека сделать одержимым насильно, помимо его воли, без его на то желания. Тогда со всех сторон поднялись крики о том, что Урбан еретик, потому что отрицает положения неоспоримые, принятые церковью, одобренные Сорбонной. Грандье возразил, что он не выдает своего мнения за окончательное, что он только сомневается и что сомнение не есть ересь, ибо ересь есть упорство в своем мнении, противном церковному учению. Если же он теперь и решился высказать это сомнение то только затем, чтоб из уст епископа услышать, что он неправ, что его опасения напрасны и что он, совершая экзорцизмы, не совершит ничего противного учению церкви.
По окончании этих переговоров к Урбану подвели одержимую сестру Екатерину. Это была женщина или девица простого звания, совсем необразованная; избрали ее именно потому, что она несомненно не звала не только латинского языка, но и вообще ничего не ведала. Грандье начал читать заклинание, но на первых же словах слукавил. Текст требника: «Praecipio aut impero», т. е. «повелеваю и приказываю», а он произнес: «Cogor vos», т. е. «я вынужден повелеть вам». Епископ, разумеется, немедленно его остановил, сказав, что церковь не должна говорить в таком тоне с демонами. Грандье, впрочем, и без того не мог дальше говорить, потому что все одержимые подняли ужасающий крик самого возмутительного содержания. Одна из них, сестра Клара, бросилась с бранью на Грандье; он оставил первую одержимую, Екатерину и стал отчитывать Клару. При этом он просил позволения говорить с ней по-гречески, т. к. считалось, что настоящие одержимые говорят на всех языках. Ему это разрешили, но демон устами игуменьи крикнул ему, что он обманщик и изменник, что по договору, заключенному с ним, он не имел права задавать вопросы по-гречески. Но сестра Клара перебила настоятельницу и крикнула Урбану, что он может говорить на каком угодно языке и ему ответят. Урбана этот окрик смутил чрезвычайно, и он замолчал. А между тем одержимые продолжали в один голос вопить, стараясь вырваться из рук своих стражников и броситься на Урбана; они кричали ему, что напрасно он отпирается, что это он их всех испортил, он единственная причина их страданий; они умоляли, чтобы их пустили к нему, отдали его им на расправу, чтоб они могли свернуть ему шею.
Урбан в великом (и понятном) смущении смотрел на эту беснующуюся толпу молодых женщин. Ничего другого он сделать не мог, как только свидетельствовать о своей невинности и призывать имя Божие в свою защиту. Потом, обращаясь к епископу, он просил, чтоб было разрешено демонам, если он действительно виноват, сделать с ним что-нибудь, положить на нем какой-нибудь знак, не дозволяя только одержимым непосредственно к нему прикасаться; этим путем, дескать, и авторитет церкви будет возвеличен, и он, если виновен, будет изобличен и посрамлен. Но на это не согласились, ссылаясь на то, что демоны могут причинить ему, за его отступничество от них, жестокие страдания, увечья, смерть, и ответственность за это падет на духовенство, позволившее им распорядиться с колдуном; опасались также, чтобы вместо возвеличения не вышло посрамления церкви, потому что демоны злы и коварны, и мало ли что они могут выдумать.
Распорядились унять демонов, т. е. одержимых, чтобы они не шумели. Потом привнесли жаровню с углями и кинули в огонь все наузы, которые были отобраны у одержимых. При этом беснования одержимых возобновились с удвоенной силой; их корчило, сводило, вспучивало, они неистово вопили и выкрикивали невозможные слова, приводя в неописуемый ужас всех присутствовавших в храме. Все демоны наперебой, устами одержимых, изобличали Урбана, напоминали ему, где и когда он с ними впервые встречался, о чем шла речь между ними, на чем поладили, какой договор заключали, какие зелья ему были вручены и т. д., и т. д. Грандье повторял только, что он нечего не понимает и ничего не знает. Курьезно было то, что, осыпая Грандье неистовой бранью, одержимые в то же время называли его своим владыкой, господином. Грандье по этому поводу заметил, что он им не господин и не слуга и что невозможно понять, почему они, величая его владыкой, в то же время собираются его уязвить. Многие монашки, сорвав с себя башмаки, кидали их в голову Урбану. При этой глупой выходке он не мог сдержать своего врожденного едкого юмора и сказал: «Ну, черти сами себя начали расковывать!». Вся эта безобразная сцена кончилась тем, что Урбана увели обратно в его тюрьму.
Суд, вооружившись всеми данными, добытыми следствием, извлеченными из показаний демонов во время заклинаний и при очной ставке, рассмотрел дело Грандье и признал его вполне изобличенным в колдовстве, сношениях с дьяволом и в ереси. Дело рассматривалось сорок дней, и, по словам одного из его историографов, судьи убедились, что дьяволы «не сказали против него (т. е. Грандье) ничего такого, что не было правдой». 18-го октября 1634 года состоялся приговор, по которому Урбан Грандье был приговорен к сожжению на костре.
Грандье принял свою ужасную участь с замечательной твердостью. Человек, несмотря на его весьма скверные нравы и поведение, был, очевидно, сильный духом, мужественный и, по-видимому, стоявший духовно много выше своих современников. Он спокойно рассудил, что дело его пропащее, что отстоять себя, т. е. доказать всем этим людям, судившим его, что они нелепо и слепо заблуждаются, он не в силах и что ему надо без разговоров покориться. Сохранилось предание, что за два часа до смерти он спокойно напевал какую-то песенку.
После приговора Грандье увещали выдать сообщников, обещая за это смягчение кары. Он отвечал, что у него никаких сообщников нет. Кто-то из заклинателей произнес ему в назидание чувствительнейшую речь, которая исторгла слезы у всех присутствовавших; один только Урбан нимало не был тронут этой речью. На месте казни духовник-капуцин протянул ему крест, Грандье отвернулся от него. Его уговаривали исповедаться, он сказал, что недавно исповедовался. Палач, накинув ему на шею веревку, хотел его задушить, прежде чем его опалит огнем костра, но веревка перегорела, и Урбан упал в огонь. Как раз в эту минуту заклинатель читал экзорцизмы над одной из одержимых, сестрой Кларой. Демон, сидевший в ней, когда Урбан упал в огонь, вскричал: «Мой бедный владыка Грандье горит!». В ту минуту, когда Урбан готовился испустить дух, демоны забеспокоилась; их потом спрашивали о причине этого волнения, и они сказали, что в ту минуту очень боялись, как бы добыча не ускользнула из их рук, потому что Мадонна просила Бога помиловать Урбана.
На другой день кто-то из демонов в обычной беседе с отчитывателем сказал, что вчера они огромной толпой, демонов двести, волокли Урбана в ад. Видано, что они очень ценили свою добычу.
– Ты лжешь, – сказал ему заклинатель, – Урбан обратился ко Господу.
– Ты сам лжешь, – возразил демон, – он вовсе не покаялся, из гордости, и притом не признался, что он колдун.
– Но в минуту смерти он призывал Создателя.
– Скажи лучше, что он призывал сатану; а доказательством, что он не покаялся, служит то, что он вовсе не призывал имени Божьего и не пожелал принять святой воды. – И при этих словах демон, очевидно, обращаясь ко всем присутствовавшим при заклинании, воскликнул: Милостивые государи, убедительно вас прошу будьте гордецами; вы увидите, как мы с ними обращаемся в аду.
Смерть Грандье не прервала эпидемии, и с одержимыми было много еще возни. Первое время демоны сообщали заклинателям любопытные вести о загробной судьбе Урбана Грандье. Заклинатели заметили, что в то время многие демоны, раньше являвшиеся и заседавшие в одержимых, после казни героя этой истории куда-то запропастились. Заклинатель Сюрен, автор большой книги о луденском мракобесии, полюбопытствовал узнать, что поделывают эти черти, исчезнувшие со сцены, и спросил об этом у «дежурного» демона, оказавшегося налицо во время экзорцизма.
– Они все ушли в ад поздравить с прибытием нашего бывшего владыку, а теперь слугу Грандье, – ответил демон.
Другой демон, на вопрос о том, что делают черти в аду и почему так долго не появляются, отвечал:
– Они воздают Урбану награду за добрые его услуги.
Упомянутый Сюрен, как важный участник этого дела, передает множество подробностей. Они касаются по большей части физиологических явлений, наблюдавшихся у одержимых; но мы уже много раз указывали на эти явления и говорили, в чем они заключались. Поэтому заимствуем из повествования Сюрена лишь выдающиеся по своей курьезности вещи.
Его чрезвычайно поражал дар языковедения, появлявшийся у одержимых, а в особенности другой, еще более удивительный дар, именно глубокое понимание тончайших богословских вопросов; на эти темы демоны беседовали с Сюреном целые часы. Однажды, например, девон Изакарон очень толково объяснял Сюрену, какими путями и способами он совращает людей. С этой целью демон ловко вводит людей в блуд; по этой части он, Изакарон, и еще Асмодей, числятся первыми виртуозами и специалистами. Изакарон, например, чрезвычайно ловко соблазнил какого-то святейшего пустынножителя, который всю свою долгую жизнь незапятнанно практиковал благочестие; а между тем, стоило только ловкому дьяволу подкинуть ему на дороге женский башмак да надушенный платок, праведник не устоял; он неотступно вдыхал в себя аромат этого платка три дня подряд, а дьявол тем временем вливал в его сердце яд греха. Через три дня дьявол явился к праведнику, приняв вид обольстительной женщины, и слабый человек пал. Правда, павший праведник сумел обуздать себя и покаяться; он выкопал глубокую яму и зарылся в все по самую шею, и все время смотрел на небо и молил о прощении, и был прощен.
– Как же ты попал в особые мастера по части соблазна, – спросил его заклинатель, – коли тебе не удалось окончательно погубить душу этого праведника?
– Но я показал, на что я способен, – возразил дьявол. – И сатана привял это в уважение.
Благочестивому Сюрену удалось выяснить личные черты и специальности нескольких демонов. Так, Бегемот оказался демоном страшно упорным. Сюрен бился с ним три года подряд. Бегемот – демон сквернословия, побуждающий людей ругаться и божиться. Он сам рассказывал Сюрену, что, возвращаясь в себе домой, т. е. в ад, он обычно еще издали начинает трубить и что, когда злополучные грешники слышат его трубу, они приходят в трепет, потому что во всем аду нет более жестокого палача.
«Однажды, – повествует Сюрен, – когда я имел дело во время заклинания с этим демоном, он вдруг вошел в чрезмерную ярость, какой мне не случалось видеть. Я подумал было, что он сдается и хочет покинуть тело одержимой. Я повелел ему объяснить мне причину его ярости. Он мне призвался, что ему другой демон только что передал самую раздражающую новость. Дело в том, что в одном городе, в Лангедоке, жил-был некий человек (демон сообщил Сюрену название города и имя того человека, но Сюрен их не опубликовал), которого демон похоти ввел в соблазн и довел до падения. Грешник настолько созрел, что надо было нимало не медля предоставить ему даму; и вот роль такой особы принял на себя Бегемот. Грешник, как водится, пал, и Бегемот во образе соблазнительницы уже сожительствовал с ним восемнадцать годов, считая, что душа грешника давным-давно уже сделалась его законной добычею. И вдруг Господь сжалился над грешником и послал ему опасную болезнь; страх близкой смерти побудил грешника принести покаяние; оно было принято, и грешник скончался осененный благодатью и ускользнул из когтей дьявола. Вот эта-то неудача и повергла Бегемота в ярость». Как умилительно эта наивная история совпадает с наивных благочестием автора-монаха!
Сюрен подробно рассказывает, как об особо поразительном чуде, об «обращении», т. е. о переходе из гугенотства в католичество, некоего Кериолэ под влиянием луденских событий.
Кериолэ был советник британского парламента. Это был не только гугенот, но сверх того муж весьма непотребных нравов; он и в Луден-то явился, чтобы соблазнить какую-то даму, тоже гугенотку. И вот по прибытии в город он совсем случайно, из простого любопытства, попал в одну из церквей, где шли в то время экзорцизмы; ему просто хотелось позабавиться над католическими монахами-бесогонами. Экзорцизмы ему понравились и он после того еще два раза зашел посмотреть на них. Но на третий визит демон обратил на него внимание. Он очень хорошо звал, что небо заинтересовано в том, чтоб Кериолэ обратился, т. е. переменил свое гугенотство на католичество. Здесь ясно выступает на сцену католический фанатизм нашего автора, Сюрена, который, само собой разумеется, должен был полагать, что гугенотство есть злая ересь, в которую совращает людей дьявол. В этот момент заклинатель как раз повелевал демону оставить одержимую. Дьявол, т. е. одержимая, говорившая его слова, указывая пальцем на Кериолэ, сказал заклинателю:
– А почем ты знаешь, что я остаюсь здесь не затем, чтобы обратить этого человека?
Тогда пригласили Кериолэ подойти поближе, и он сам обратился демону с тремя вопросами. Сначала он спросил: кто охранил его от удара молнии, которая полтора года тому назад упала около самой его кровати? Дьявол на это отвечал: «Без заступничества Святой Девы и херувима, твоего ангела-хранителя, я в то время унес бы тебя».
На второй вопрос: кто хранил его от выстрела, который был в него направлен и пробил его одежду, дьявол отвечал опять-таки, что и на этот раз Кериолэ был охранен своим херувимом. Третий вопрос Кериолэ был о том, из-за каких причин он должен был оставить Картезианский монастырь, в который он поступил? Демон почему-то долго колебался отвечать на этот вопрос и, наконец, сказал, что в то время Кериолэ был одержим разными греховными нечистотами, а Господь не хотел, чтобы человек столь нечистый пребывал в святом месте.
Все эти разоблачения дьявола произвели на Кериолэ такое потрясающее впечатление, что он тут же и нимало не медля обратился в истинную веру, т. е. в католичество, и с тех пор жил, как святой.
Мы, кажется, уже имели случай заметить, что Сюрену пришлось особенно иного похлопотать над изгнанием бесов из настоятельницы монастыря Дезанж. В ней было несколько демонов, и некоторые из них оказались чрезвычайно упорными.
Тотчас по прибытии Сюрена в Луден прежние заклинатели уведомили его о том, что каждый демон, покидая тело одержимой, должен был подавать тот или иной знак в тот самый момент, когда он оставлял тело. Мы об этом уже говорили. Эти чудеса, кстати сказать, служили едва ли не главной приманкой, которая собирала на экзорцизмы целые толпы народа.
Перед изгнанием демона Забулона, происходившим в первый день Рождества, была совершена торжественная процессия в церковь Луденского замка, в сопровождении большой толпы народа. По прибытии в храм толпа монахов некоторое время возносила молитвы и пела гимны. Потом начались экзорцизмы и тянулись с полудня до пяти часов вечера, но без всякого результата. Выходило, что демон, раньше давший обещание в тот день оставить одержимую, бессовестно надул монахов.

Тут еще кстати явилось неожиданное осложнение дела. Демоны, сидевшие в настоятельнице, еще задолго перед тем утверждали, что она находится в интересном положении. Это, конечно, была лишь дьявольская ложь, с явной целью осрамить невинную девицу. Однако, чтобы придать этой лжи внешность правды, демоны так распорядились с особой настоятельницы, привели ее в такой вид, что можно было и в саном деле кое-что заподозрить. Но в Новый год демон торжественно объявил, что Богоматерь повелела ему удалить из утробы настоятельницы го, что причиняло ей ложное положение. И в самом деле, во время экзорцизмов одержимая в течение двух часов извергала рвотой какую-то жидкость, с удалением которой устранились и двусмысленные признаки ее подозрительной полноты.
Сюрен указывает на то, что одержимая первое время относилась к нему, как к человеку новому и незнакомому, с недоверием; но постепенно убедившись в его святости, открыла перед ним свое сердце. Сидевший в ней девон Изакарон пришел от этого в большую ярость, и с этого момента между ним и заклинателем началась отчаянная борьба. «Мы говорили друг другу сотни вещей, – пишет наивный Сюрен, – и бросили друг другу вызов, и объявили бой без всякой пощады». Само собой разумеется, что демон говорил устами одержимой. Чаще всего эти бурные разговоры происходили по вечерам и притом, когда заклинатель с одержимой были одни, с глазу на глаз. Часто говорили они в одно время наперебой. «Я не щадил его, – говорит Сюрен, – но и он тоже не щадил меня». При этом Сюрен откровенно сознается, что он сам на себе испытывал некоторые признаки одержимости, а впоследствии с ним начались даже настоящие припадки, вроде тех, какие бывали у одержимых.
Дьяволы не всегда бывали все вместе; напротив, чаще всего в одержимой сидел кто-нибудь один из них, «дежурил», как выражается Сюрен, и с этим дежурным, которым чаще других бывал Изакарон, Сюрену и приходилось беседовать.
Изакарон был демон весьма упорный. Во время экзорцизмов он бурно корчил тело одержимой. Видно было, что по временам демоны могут приобретать чрезвычайную власть над одержимыми, а отсюда Сюрен заключал, что и те чары, посредством которых колдуны напускают демонов на людей, в свою очередь должны обладать огромной силой. Сюрену захотелось поближе ознакомиться с этим предметом и он спросил у демона, откуда берется этот прилив власти нечистого над одержимыми. Демон ему объяснил, в чем заключалась штука. Трое колдунов – один в Париже и двое в Лудене – за неделю перед тем во время причащения скрыли во рту облатки и унесли их с собой с целью передать их демонам. Но черти не смели к ним притрагиваться и передавали их то одному, то другому из этих колдунов. В ту минуту, когда шел этот разговор, облатки хранились у парижского колдуна. К этому демон добавил, что в скором времени всех трех колдунов изловят и сожгут. Тогда Сюрен распалился ревностью во что бы то ни стало добыть эти облатки, чтобы вырвать их из рук нечестивцев. Он повелел Нзакарову немедленно отправиться в Париж и принять на себя все заботы о том, чтобы эти облатки остались в полной сохранности. «Трудно поверить, – говорит по этому случаю благочестивый Сюрен, – до каких пределов простирается власть заклинателя, действующего во имя церкви на дьявола». Так, например, в описываемом случае Изакарон никак не мог уклониться от данного ему поручения и должен был волей-неволей мчаться в Париж выручать облатки. Но Сюрену показалось этого мало. Он послал вслед за Изакароном еще другого демона, Балама, и повелел ему во что бы то ни стало добыть эти облатки в нимало не медля доставить в Луден. Хотя Сюрен только что перед тем уверил своих почитателей, что власть заклинателей над демонами безгранична, однако, на этот раз демон Балам самым решительным образом отказался повиноваться, и что ему не говорил Сюрен, дьявол не поддался на его увещания и не исполнил его приказаний.
Между тем Сюрен, все более и более распалявшийся религиозной ревностью, решился хотя бы пожертвовать своей жизнью, только бы выручить от нечестивцев эти причастные облатки. После полудня он снова приступил к экзорцизмам и был удивлен тем, что все демоны отсутствовали и дежурил один только Бегемот. Через несколько времени возвратились сначала Изакарон, бывший в страшном бешенстве, которое по обыкновению выразилось в том, что он подверг тело одержимой ужасной встряске, а вслед за ним пожаловал и Балам. Этот последний «появился на лице одержимой», как выражается Сюрен. Но чем именно обозначилось это появление, не умеем сказать. Сюрен сейчас же спросил его, исполнил ли он, что ему было приказано. Демон отвечал утвердительно и сказал, что принес с собой облатки, и при этом прибавил, что ему никогда еще не случалось носить столь тяжкого груза. Нашел же он их где-то под тюфяком, куда их спрятала какая-то ведьма. Сюрен его спросил, куда он девал облатки. Демон почему-то долго упрямился и не говорил, но, наконец, быль вынужден сказать, что положил их на алтарь. Сюрен приказал ему в точности обозначить место, где были положены облатки. Тогда рука одержимой поднялась и протянулась к дарохранительнице (надо думать, что алтарь стоял около одержимой), затем опустилась к ее нижней части и здесь взяла свернутую бумажку, которую с трепетом подала заклинателю. Сюрен в свою очередь преклонил колени и с благоговением принял из ее рук этот сверточек. Развернув бумажку, он нашел в ней все три облатки, о которых говорил демон. Не довольствуясь этим, Сюрен приказал демону преклониться перед причастием, и тот был вынужден это исполнить. Само собой разумеется, что за него это исполнила одерживая и сделала это с таким благоговейным видом, что все присутствовавшие были тронуты до слез.
Успехи, одержанные Сюреном над демонами, привели их главного владыку и царя Левиафана в страшное раздражение. Он видел, что его власть рушится, и объявил Сюрену открытую войну. Тогда все демоны гурьбой накинулись на злополучного монаха и подвергли его страшным истязаниям. Прежде всего они одолели его плотскими желаниями, которые достигли такой страшной силы, что без заступничества Провидения он не мог бы устоять против соблазна и наверное бы впал в грех. Так он сам откровенно признается в своей книге, добавляя при этом, что бунт его грешной плоти продолжался целый год. Случалось в это время, что, произнося экзорцизмы, он вдруг останавливался, совершенно забывая, что хотел сказать; дьяволы в эти минуты отшибали у него соображение и память. Так иногда стоял он над одержимыми по нескольку минут в полном беспамятстве, мучаясь в то же время головокружением, тошнотой и болями в сердце.
Сюрен сам говорит, что то, что случилось с ним, представляло очень редкое явление, так как заклинатели никогда не подвергаются одержимости. Объясняет же он свой особенный случай именно своим особенным усердием, тем, что он уже чересчур донял демонов. И вот тогда-то, по его мнению, Левиафану и было разрешено свыше подвергнуть Сюрена публичному беснованию. Началось это на Святой неделе в 1635 году. Однажды, в присутствии множества монахов и светских сановников во главе с самим Лобардемоном, у Сюрена приключился сильный припадок. Начались сперва судороги сердца, после которых он повалился на пол, и его начало корчить, как настоящего одержимого. При этом он, как подобает одержимому, выкрикивал неистовые словеса, приводя в ужас всех присутствующих. Его схватили и крепко держали, а он все вырывал свои руки и старался укусить их. Он то бросался на колени, то вновь вскакивал и иногда делал чудовищные прыжки вверх. Само собой разумеется, что при такой удивительной оказии его самого пришлось отчитывать, в, по счастью, овладевший им демон оказался уступчивым. Для всех присутствующих было ясно, что Сюрена мучил тот самый демон, который сидел в одержимой, в то время отчитываемой. Об этом надо было заключать из того, что одержимая вдруг успокоилась и в тот же момент Сюрен стал бесноваться.
Герцог Гастон Орлеанский, брат короля Людовика XIII, из любопытства совершил путешествие в Луден, чтобы посмотреть, что там творится. Как раз в это время одна из одержимых, сестра Агнесса, была истязаема демоном Асмодеем. Экзорцизмы производил иезуит Котеро. Демон был в раздраженном настроении. Он со страшной силой качал голову одержимой взад и вперед, причем ее зубы стучали, как молотки по наковальне, а из горла вырывались дикие, прерывистые звуки. Лицо ее сделалось неузнаваемым, взгляд выражал дикое бешенство. Язык страшно распух и высунулся изо рта. Все это время в ней орудовал демон Асмодей, но вслед за ним выступил на сцену другой демон, Берит, и мгновенно переделал всю физиономию одержимой. Она сделалась веселой, смеющейся, совершенно утратила свое ужасное выражение и стала, наоборот, привлекательной. Вслед за Беритом ее физиономией завладели два новых демона: Ахаф и Ахаос, и каждый из них опять-таки переделал физиономию одержимой по-своему. Но заклинатель прекратил всю эту игру демонов, приказав оставаться в ней одному Асмодею. Физиономия одержимой вновь переделалась на первый лад, – признак, что демоны беспрекословно повиновались заклинателю. На тот этим не удовольствовался и принудил еще Асмодея совершить поклонение Святым Таинствам. Демон, разумеется, не сразу повиновался такому жестокому требованию: но сила солому ломит, и тело одержимой через несколько времени распростерлось на полу. Однако же, в знак своего крайнего неудовольствия, демон подверг жестоким корчам это злополучное тело, которым он овладел. Одержимая испускала ужасные крики, стоны, скрежет, принимала самые невероятные позы, повергавшие в ужас всех присутствовавших. Когда, наконец, одержимая успокоилась, присутствовавший при этом принц Гастон спросил ее, помнит ли она все, что с ней сейчас произошло; она отвечала, что помнит кое-что, но не все. Что касается до ответов, которые она давала, то она их слышала так, как будто бы их проговорил кто-то другой.
Но всего интереснее, по напряженности проявлений, было изгнание демонов из Елизаветы Бланшар. Мы выше уже упоминали об этой здополучной девице. Она не была монашка; она случайно была в монастыре в то время, когда на него были напущены чары, и заразилась ими попутно с монашками. Ей овладело шесть демонов, которые ее истязали больше, чем всех других одержимых. Особенно доставалось ей от Астарота. Заклинания над ней совершал не Сюрен, а другой монах Пьер-Тома. Один из экзорцизмов совершался в присутствии принца Гастона. Заклинатель повелел демону приблизиться к себе. Одержимая тотчас пала на пол в судорогах, охвативших все ее тело; ее лицо мгновенно изменило свой вид, вздулось и побледнело; язык привял необычайные размеры. В таком состоянии она подползла в ногам заклинателя. Монах склонился и приложил ей к губам причастную облатку, причем повелел демону охранять гостию от всякого нечистого соприкосновения. Немедленно вслед за этим демон бросил одержимую на пол, вновь начал ее корчить, выражая ее неистовыми движениями всю свою ярость по поводу присутствия причастной облатки на устах у одержимой. При этом, между прочим, Елизавета выделывала движение, о котором мы не раз упоминали раньше, а именно изгибалась так, что упиралась в пол только носками ног и носом. В это время за ней глядели в оба, опасаясь, что демон прикоснется гостией к полу или даже сбросит ее на пол. И, однако же, того не случалось. Гостия опускалась так, что между нею и полом оставался промежуток не более, как в лист бумаги толщиной (так сказано в протоколе), но все-таки гостия к полу не прикоснулась. Тогда демон начал, конечно, устами одержимой, изо всех сил дуть, чтобы этим дуновением сшибить гостию, но и это ему не удавалось. Между тем, как можно судить и надо заключить из записей очевидцев этого происшествия, правда, довольно сбивчивых, гостия держалась только одним прикосновением к губам одержимой. Можно было думать, что она прилипла к ним. Ее сняли и осмотрели, и оказалось, что на ней не было ни малейших следов прилипания. Следовательно, надо заключить, что гостия держалась на устах одержимой каким-то чудесным способом.
Принц пожелал видеть всех демонов, бывших в одержимой, т. е. узнать, какими признаками каждый из них проявляется. Заклинатель сейчас же распорядился, и на физиономии одержимой поочередно появились все ее демоны, причем каждый из них изменял ее черты по-своему. Астарот проявился еще иначе. Когда его вызвали по очереди, то у одержимой с правой стороны под мышкой мгновенно вздулся огромный волдырь, в котором ясно прощупывалось биение пульса. Но Астароту приказали удалиться из этого места, и он спустился по правой руке, всю ее подергивая судорогой, до оконечностей пальцев. После того одержимую заставили принять причастную облатку и дали запить ее водой. Затем тщательно удостоверились в том, что облатка была действительно проглочена. Сомнения же по этой части возникли из-за того, что демон употреблял все усилия, чтобы воспротивиться принятию причастия, т. е. его проглатыванию, сжимая судорогой горло одержимой. Пригласили присутствовавшего при экзорцизме врача произвести осмотр рта одержимой; врач осмотрел рот, даже ощупал его пальцем и затем доложил, что гостия, несомненно, проглочена, а не скрыта во рту. Тогда заклинатель повелел демону чтобы он вернул проглоченную гостию. И вслед за этой командой гостия вновь появилась на языке у одержимой. Ее заставили проделать это движение три раза подряд. Зачем это требовалось и почему это проглатывание а отрывание считалось каким-то чудом, невозможно понять.
Принц Гастон был донельзя поражен всем, что совершилось в его присутствии. Но он пожелал еще больших чудес. Он знал, что одержимые способны читать мысли и исполнять мысленно данные им приказания, и пожелал сделать такой опыт с Елизаветой Бланшар. Он задумал про себя, что должна была сделать одержимая, а заклинатель только сказал демону: «Obedias admentem principis», т. е.: «Повинуйся мысли принца», отнюдь, конечно, не обозначая, в чем заключалась сама мысль. Демон, т. е. одержимая, бросил страшный взгляд на принца, выражавший раздражение на то, что он должен повиноваться, затем одержимая поверглась на колени, подползла к одному из монахов и поцеловала у него правую руку. Восхищенный принц сейчас же во всеуслышание засвидетельствовал, что таково именно и было его желание.
Затем в Луденском деле еще особенно ясно выступила любопытная черта одержимости, именно стигматизация, т. е. проявление знаков на теле. Как мы много раз упоминали, заклинатели приказывали демонам, чтобы каждый из них, выходя из тела одержимой, обозначал свой выход особым признаком, который ему заранее предписывали. В числе этих признаков были и печати, т. е. особые знаки на теле. Так, демон Левиафан должен был, оставляя тело игуменьи, которая была им одержима, наложить у вей на лбу кровавый крест. Этот крест и появился немедленно по выходе демона. Первоначально он имел такой вид, как будто бы на лбу игуменьи были сделаны два надреза или две глубокие царапины, из которых вытекала свежая алая кровь. В одном из отчетов о Луденском деле этот крест был начертан, чтобы показать его фигуру и величину; его две ветви были почти одной величавы, около 1,5 дюймов в длину. У той же игуменьи другие демоны, исходя из тела, оставили другие видимые знаки. Так, на левой руке у нее остались сделанные демоном надписи крупными латинскими буквами: «Iesus», «Marie», «Joseph» и «Francois de Salles». Все эти знаки оставались на теле у настоятельницы иного лет подряд.
Теперь мы приступаем к характеристике демонизма, который свирепствовал в последние столетия, т. е. в XVIII и XIX. Здесь нам руководителем будет французский врач Батайль, накисавший громадную книгу в двух томах под заглавием «Le Diable au XIX siecle» («Дьявол в XIX столетии»). Прежде всего считаем не лишним сказать несколько слов о происхождении этой книги, пользуясь для этого пространным предисловием Батайля.
Дело в том, что Батайль служил врачом на судне, совершавшем рейсы между Марселем и азиатским востоком. Во время своих беспрестанных плаваний он часто встречал одного итальянца по имени Карбучча. Этот итальянец был купец, производивший торговлю с восточной Азией, которую он часто посещал по своим делам. Часто встречаясь с ним, Батайль крепко с ним подружился.
В одно из своих плаваний Батайль встретил своего друга в чрезвычайно подавленном состоянии. Гак как перед тем он очень долго не видал его, то и заключил, что почтенный коммерсант, по всей вероятности, потерпел какую-нибудь крупную неудачу в своих делах, вследствие чего и повесил нос, что, конечно, было вполне естественно. Он немедленно приступил к Карбучча с расспросами, приготовляясь услыхать от него повесть о его торговых злоключениях. Карбучча не заставил себя долго упрашивать и, по-видимому, сам рад был излить свое наболевшее сердце перед другом. Но только его злоключения, вопреки ожиданиям Батайля, оказались совсем не коммерческого свойства.
Во время своих многочисленных странствований по торговым делам Карбучча не раз встречался с людьми, интересовавшимися оккультизмом, т. е. тайными науками. Беседы с этими людьми всегда казались итальянцу очень интересными, и он мало-помалу увлекся тайными науками; а тут как раз случай свел его у себя на родине, в Неаполе, с неким Пейиной, который носил очень громкий титул «владыки, великого командора и генерала, великого Гиерофанта верховного святилища древнего и первоначального восточного учения Мемфиса и Мизраима». В более удобопонятных выражениях это долговязое величание обозначало, что Пейзина был облечен каким-то важным саном в той отрасли масонства, которая себя именует древнеегипетской. Разговорившись с этим Пейзиной, Карбучча изъявил желание поближе ознакомиться с масонством. Пейзина сейчас же предупредительно выступил навстречу его желаниям. Но он ему объяснил, что если прямо и просто поступить в масоны, то придется проходить по всей лестнице масонского чиноначалия. Высших чинов он добьется во всяком случае не скоро, а пока он будет в низших чинах, масоны будут с ним не очень-то откровенны. И, следовательно, этим путем он будет подвигаться вперед очень медленно.
– Но есть другой путь, – продолжал Пейзина, и на вопрос Карбучча, какой это путь, неаполитанец откровенно спросил его: – Есть у вас металл?
– Что такое? – переспросил в недоумении Карбучча.
– Я спрашиваю, есть ли у вас металл? – повторил Пейзина, и так как недоумение Карбучча не прекращались, то он уже без всяких иносказаний разъяснил: – Это будет вам стоить двести франков… Вы понимаете?
На этот раз Карбучча, конечно, понял. Они живо сторговались, вот Карбучча во мгновение ока сделался «великим командором храма». Таким образом, им непосредственно был получен один из высших масонских чинов. Разумеется, Пейзина выдал ему и диплом на этот чин. Сей документ открывал перед ним двери всех масонских святилищ, и впечатлительный, жадный до всего таинственного итальянец начал с жаром пользоваться своим правом проникновения во всякие святилища для изучения всяких тайностей.
Сперва все виденное им у масонов не возбуждало в нем никаких подозрений. Но он был прежде всего добрый католик, и мало-помалу в его сознание проскользнул вопрос: согласуется ли все это с учением католической церкви? Очень долгое время он находил успокоение своим сомнениям, но скоро с ним вышел один случай, который, так сказать, перевернул его всего вверх дном. Вот как он сам рассказывал об этом случае Батайлю, дословно записавшему его рассказ.
Во время последнего путешествия в Калькутту Карбучча посетил тамошнее масонское общество так называемых Ре-Теургистов-Оптиматов. Он и раньше посещал это общество, но на этот раз сам Великий Мастер и все подвластные ему чипы встретили гостя с особой торжественностью. За несколько дней перед тем был получен от Альберта Пайка, знаменитого основателя американского палладизма (о нем речь еще впереди), особый чин служения при магических церемониях. По этому случаю калькуттские масоны как раз во время прибытия Карбучча приготовлялись к особому торжественному заседанию, во время которого присланное Пайком заклинание предполагалось впервые испытать. Дело, однако, останавливалось за неприбытием каких-то чрезвычайно существенных принадлежностей, которые с минуты на минуту ожидались из Китая. Что это были за вещи, Карбучча не знал. Он мог только понять, что ожидаемая посылка могла быть добыта только в Китае и что туда за ней был командирован один из калькуттских насовав Шекльтон.
Скоро прибыл и давно ожидаемый Шекльтон со своею драгоценной кладью. Ящик был вскрыт, и Карбучча не без содрогания увидел внутри его три человеческих черепа. Ему сейчас же объяснили, что это черепа трех католических миссионеров, недавно убитых в Китае. Извлекши из ящика черепа, Великий Мастер обратился к братии с такими словами:

– Братья! Наш брат Шекльтон вполне и в точности выполнил почетное поручение, которое мы ему дали. Он виделся с вашими братьями, китайскими приверженцами кабалистического масонства, и при их содействии добыл эти три черепа, которые вы видите. Это черепа монахов из миссии Куан-Си, которых ваши китайские братья самолично казнили, предварительно предав их ужаснейшим истязаниям, хотя, в сожалению, эти истязания и были недостаточны для этих гнусных проповедников римского суеверия. После того эти черепа были посланы к местному тао-таю (губернатору) для того, чтобы подвергнуть их известному вам поруганию. Ваш брат тао-тай любезно уступил нам их. И вот тут его печать, которая устраняет всякие сомнения в подлинности этих черепов.
Весь этот спич Великий Мастер произнес самым веселым голосом и при этом предъявил присутствующим листок рисовой бумаги, на котором была оттиснута печать – императорский дракон с пятью когтями, печать, которую в Китае могут употреблять одни только высшие сановники.
Видя эти ужасные предметы и слушая эти не менее ужасные речи, Карбучча готов был провалиться сквозь землю, но отступать было уже поздно; тут он впервые понял, какое тяжкое бремя взвалил он на свою благочестивую католическую душу, ввязавшись в это масонство. Но делать было нечего и на этот раз надо было испить чашу до дна.
Между тем, черепа торжественно возложили на стол. Церемониймейстер ложи разместил присутствующих около этого стола в виде треугольника, острый угол которого был обращен к восточной стороне зала. Тогда Великий Мастер взял в руки кинжал, вышел из рядов, подошел к столу и, ударяя кинжалом каждый череп, произносил: «Да будет проклят Адонаи! Да будет благословенно имя Люцифера!».
После этих восклицаний для злополучного Карбучча исчезли последние искры сомнений в том, что он находится среди поклонников дьявола. И ему под угрозой лютой смерти предстояло принимать участие во всем, что они собирались делать.
Вслед за Великим Мастером удары кинжалом по черепам и те же восклицания проделали и издали один за другим все присутствующие, а в том числе, разумеется, и Карбучча. Черепа превратились в груду осколков. Их собрали и бросили в пламя жаровни, которая была поставлена перед статуей Бафомета, украшавшей восточный угол зала. Об этом Бафомете речь впереди.
После сожжения черепов все огни в зале были потушены, и только в руках особого чина, так называемого Великого Эксперта, остался светоч, с которым он поместился около Великого Мастера, приготовившегося читать заклинание, присланное Пайком. О содержании этого заклинания Карбучча ничего не говорит. Он замечает только, что оно заканчивалось какими-то непостижимыми словами Бог весть какого языка, но кажется, что еврейского.
Когда Великий Мастер дочитал до конца заклинания, он, согласно принятому церемониалу, распростер руки в направлении статуи Бафомета, и его примеру последовали все другие. В этот момент в зале, в котором все двери и окна были наглухо заперты, вдруг пронесся бурный ветер. Глубоко под землею раздался ужасающий рев. Факел, единственный, какой оставался горящим, сам собой потух, и в зале воцарилась полная тьма. Раздались страшный треск и грохот. Пол под ногами присутствующих явственно встряхивался, словно весь дом готов был развалиться. Карбучча и ожидал какой-нибудь катастрофы в этом роде каждую секунду. Но ничего такого не случилось. Раздался оглушительный удар грома, и в тот же момент весь зал был залит ослепительно ярким светом, словно в нем зажгли миллион свечей. Но этот свет нисколько не походил на электрический, да и вообще не походил ни на что раньше виденное вашим итальянцем. Было что-то особенное и неописуемое в этом внезапно вспыхнувшем свете.
Как только появился этот свет, взгляды всех присутствующих обратились к востоку. Там, перед статуей Бафомета, стояло кресло Великого Мастера. Сам Великий Мастер стоял слева от своего сиденья, спиной к присутствовавшим.
И вот через пять или шесть секунд после того, как зал осветился, на кресле Великого Мастера мгновенно появился некто. Карбучча с особенной настойчивостью утверждает что появление было вполне мгновенное. Это не был призрак, который сначала появляется в виде туманного сияния и затем лишь мало-помалу постепенно принимает формы. Нет, Карбучча ясно видел, как на кресле вдруг и без всякой предварительной подготовки явилась человеческая фигура. Ее появление было в полном смысле слова моментальное.
Великий Мастер тотчас опустился на колени перед этой фигурой, а за ним и все другие. Карбучча уверяет, что он все время смотрел вниз, не осмеливаясь поднять глаза и направить взгляд в сторону востока.
Прошло несколько секунд, показавшихся нашему герой веками. После того Карбучча услыхал голос, говоривший:
– Встаньте, дети мои; садитесь и не бойтесь ничего.
Все повиновались и расселись по своим местам. Тут только Карбучча решился, наконец, рассмотреть внимательно явленную фигуру. Он и раньше видал на собраниях масонов и всяких оккультистов, на которые ему открывал широкий доступ его диплом, явления всевозможных духов и привидений. Но то и были лишь призраки, туманные, неясные, неосязаемые, которые легко можно было истолковать, как фокусы, проделанные посредством волшебного фонаря.
Тут же перед ним было совсем иное. Он видел перед собой ясную, законченную, вполне реальную форму. Это была фигура человека совершенно обнаженного и облитого ярким сиянием. Он подумал было, что это живой человек, на которого направлен сноп электрического или друмондова света. Но такое толкование не выдерживало критики. Искусственный свет исходит из одной точки и оставляет чрезвычайно яркий след в воздухе. Видно, что свет выходить из малого светоча и от него веерообразно расходится в том направлении, по которому его пустили. Тут же было совсем не то. Не видно было никакого постороннего света, падавшего на появившуюся фигуру. Напротив, ясно было видно, что свет исходил из самой фигуры и от нее распространялся во все стороны в виде сияния. В этом не осталось никакого сомнения, когда фигура поднялась на ноги и пошла. Эта был сам сатана Люцифер.
Всегда ли он появляется в таком виде – этого Карбучча не звал. На этот раз он видел перед собой совершенно обнаженного мужчину, которому на вид можно было дать 35–38 лет. Это был человек высокого роста, без усов и без бороды; он был худощав, хотя вовсе не тощ. Лицо у него было красивое, с тонкими чертами, с выражением достоинства. Во взгляде просвечивала какая-то грусть. Углы губ были слегка сморщены меланхолической улыбкой. Как уже сказано, он был совершенно обнажен, и его тело, стройное, как у Аполлона, было ослепительно белое с легким розовым оттенком.
Он заговорил на чистейшем английском языке, и чарующий звук его голоса, по словам Карбучча, навсегда остался у него в памяти.
Он говорил:
– Дети мои! Тяжела борьба против моего вечного врага. Но мужайтесь и никогда не поддавайтесь отчаянию. Окончательная победа за нами. Я счастлив, сознавая, что меня любят в этом убежище куда проникают только люди, достойные меня. И я тоже люблю вас. Я буду защищать вас против ваших недругов. Я пошлю вам успех во всех ваших делах. Я приуготовляю вам безграничные и бесчисленные радости в тот день, когда вы исполните ваше дело на сей земле и воссоединитесь со мной. Избранники мои бесчисленны. Звезды, блещущие на тверди небесной, светила, которые вы видите и которых не видите, не так многочисленны, как те фаланги, которые меня окружают во славе моего вечного господства. Итак, трудитесь, трудитесь беспрестанно ради освобождения рода человеческого от суеверия. Благословляю труды ваши. Никогда не забывайте награды, которая вам обещана. Особенно же не бойтесь смерти, которая будет для вас только вступлением в непреходящее блаженство царства моего. Размножайтесь в сем мире и любите меня всегда, как я люблю вас, о дети мои возлюбленные!
Произнеся этот патетический спич, сатана подошел к Великому Мастеру, некоторое время смотрел ему прямо в глаза, потом от него перешел к другим высшим чинам ложи, их тоже осчастливил своим пристальным взглядом, а затеи начал обход всех остальных присутствовавших в зале. Сначала все было полаялись с мест, но он сделал знак рукой, приглашая публику оставаться на местах. Он внимательно смотрел в глаза каждому из присутствовавших, как бы изучая каждого из своих новых избранников.
Подойдя к Карбучча, он остановился перед ним и, быть может, признав в нем совсем нового и даже постороннего человека, стал смотреть ему в глаза с особенным вниманием, как бы стремясь проникнуть своим взглядом в самую глубь его души. Карбучча подумал даже, что во взгляде сатаны при его исследовании мелькнуло некоторое недоверие. Карбучча помнил, что, остановясь около его соседа, сидевшего рядом с ним и раньше его удостоенного внимания, сатана улыбнулся ему. Рассматривая же Карбучча, он уже не только не улыбнулся, а наоборот, слегка нахмурил брови. «Я отдал бы десять лет своей жизни, – говорил Карбучча, – за то, чтобы в эту минуту быть от Калькутты за пять тысяч верст». Но сатана недолго протомил его и перешел к его соседу.
Обойдя все собрание, он выступил на середину зала, быстро обвел глазами всю публику и затем приблизился к соседу Карбучча сидевшему слева от него, к тому соседу, которому он раньше приветливо улыбнулся. Это был тог самый Шекльтон, который привез черепа миссионеров из Китая. Подойдя вновь к Шекльтону, Люцифер сказал ему:
– Дай мне руки!
Шевльтон протянул ему руки, и Люцифер взял их в свои. Шекльтон весь вздрогнул от этого прикосновения, словно его ударило электрическим разрядом, и испустил нечеловеческий крик. В то же мгновение Люцифер исчез и весь зал вновь погрузился в полный мрак.
Зажгли огни и осветили зал. Все взоры обратились на Шекльтона. Он сидел неподвижно на своем кресле, с откинутой назад головой и чрезмерно выпученными глазами. Он был мертв.
Тогда Великий Мастер, в виде надгробного напутствия умершему произнес:
– Слава бессмертная брату нашему Шекльтону, избраннику нашего всемогущего божества!
Карбучча лишился чувств и не помнил, чем окончилось заседание. Он очнулся где-то уже в другой комнате, куда его вынесли и привели в чувство.
С этой поры Карбучча впал в мрачное отчаяние, опасаясь за участь своей грешной души. Ему оставался единственный шанс спасения – полное покаяние в искупление своего греха. И вот в этом-то состоянии его и повстречал доктор Батайль.
Он в свою очередь был глубочайше потрясен чудесными приключениями Карбучча, рассказ которого не дал ему спать всю ночь. Он обдумывал все слышанное на тысячу ладов, и его душа доброго католика была глубоко потрясена этой властью сатаны над грешным миром. Ему непременно хотелось сделать с своей стороны что-нибудь, совершить какой-нибудь подвиг благочестия, который бы засвидетельствовал о его усердии. Долго и упорно размышляя над этим, он, наконец, в привял решение самолично исследовать демонизм на всем свете и во всех его проявлениях, затем все это подробно описать и издать в виде поучения всему христианскому миру. Таким образом лежащая перед нами книга его и является результатом и памятником его благочестивого подвига.
Карбучча своими рассказами и воспоминаниями оказал Батайлю чрезвычайно существенное содействие. Благодаря ему, Батайль знал, куда, как и к кому надо обращаться для того, чтобы проникнуть во всякие святилища оккультизма и изучить на деле и на месте всякого рода демонопоклонство. Всего драгоценнее был, конечно, адрес того самого Пейзины, неаполитанского масона, который оказался таким покладистым поставщиком дипломов на высшие масонские чины и звания. Батайль, разумеется, прежде всего и направился в Неаполь. Он без труда отыскал Пейзину и живо свел с ним дружбу. При своих беседах с неаполитанцем он не преминул блеснуть своими познаниями по части оккультизма, добытыми от Карбучча. Пейзина видел в нем, что называется, своего человека, что, конечно, еще более способствовало их сближению. Коротко говоря, истратив всего лишь пятьсот франков, Батайль был произведен в чин масонского «верховного великого мастера» асі Угіаш, т. е. пожизненно.
Предприняв свое исследование, Батайль прежде всего отправился в Индию, и его первая встреча с демонопоклонниками произошла на острове Цейлоне. Вот как он описывает эту встречу.
Он сидел на веранде гостиницы, когда перед ним появилась толпа туземных фокусников, обычно промышляющих вокруг приезжих европейцев. Всех их было семеро. В середине их группы держался их главарь, который и показывал разные штуки; другие же, видимо, только помогали и прислуживали ему. Этот главный маг сразу обратил на себя внимание Батайля своей замечательной внешностью. Это был старец, отличавшийся почти неимоверной худобой. Одет он был в какие-то лохмотья, сквозь которые виднелась его черная, грязная, туго обтягивавшая кости кожа. Кидались в глаза его чрезвычайно длинные руки и ноги, походившие на лапы зверя и оканчивавшиеся тоже как у зверя, скорее когтями, чем ногтями. Видно было, что к его густым всклокоченным седым волосам ни разу в жизни не прикасались ножницы. Глаза его горели, как раскаленные угли. Он обладал громадным ртом, чуть не до ушей. Сквозь постоянно раскрытые губы виднелись зубы, совершенно целые, исправные и белые, как снег, что особенно изумляло в этом чудном старце. Он обладал особенным магнетическим взглядом, который невольно притягивал к себе глаза тех, на кого он смотрел.
Батайль заметил, что старик, проделывая свои штуки, то и дело посматривает на него и при этом как-то особенно играет глазами, как бы усиливаясь привлечь на себя внимание Батайля. Пока Батайль старался разъяснить себе значение этой игры, он вдруг услыхал позади себя какой-то шорох. Обернувшись назад, он увидал около себя одного из служителей гостиницы, который в ту же минуту наклонился к нему и произнес:
– Сата хочет с вами говорить. Он знает, кто вы. Его воля сестра вашей волн. Он вас поведет.
Батайль был ошеломлен. Он первый раз в жизни видел этого Сату, очень хорошо помнил, что старый фокусник ее двигался с места и никак не мог вступить в сношения с тем служителем, который говорил с Батайлем. Значить, между ними были какие-то таинственные условные пути сношений.
Между тем, бродячая труппа кончила свое представление и собиралась уходить. Батайль смотрел на старого фокусника не отводя глаз. И вот он видит, что старик, уже уходивший с веранды, вдруг обернулся, взглянул на Батайля, положил левую руку на сердце, а правую руку опустил книзу, причем все пальцы на этой руке были загнуты, кроме указательного, который был вытянут книзу и как бы указывал на землю. Старик осторожно, но явственно подмигнул глазом, очевидно, делая этим приглашение Батайлю следовать за ним.
Вспомним, что Батайль имел доброго наставника в деле оккультизма, Карбучча передал ему до мелочей все, что касается обычной обрядности всевозможных тайных обществ. Потому и жесты старого фокусника были для него совершенно ясны. Это положение рук – одна на сердце, а другая указательным пальцем в землю – указывало, что старик принадлежит к секте демонопоклонников. Одного этого знака было бы достаточно для того, чтобы Батайль за ним последовал, если бы он сам тоже был демонопоклонник. Но старик не был в этом уверен, и потому на всякий случай подмигнул еще глазом, т. е. употребил знак, каждому понятный. Батайль тотчас решил следовать за ним и ответил ему утвердительным кивком. Старик со своими спутниками спокойно спустился с веранды и отправился по улице. Батайль пошел вслед за ними. Когда он приблизился к старику, тот приветствовал его по обычной манере индусов, положив левую руку на голову и склонившись чуть не до земли. Затем он обратился в Батайлю с вопросом на ломаном французском языке:
– Ты доктор корабля?
– Да, – ответил Батайль.
– Тогда ты идешь смотреть больную Махмах, умрет или нет?
Батайль ответил согласием. Старик предупредил его, что идти надо далеко. Батайль отвечал, что это ему все равно. Старик вновь предупредил, что платы за визит он не получит. Т. к. Батайль и перед этим не отступил, то старик подозвал носилки, Батайль уселся в них, в все двинулись в путь. Путешествовали они весьма продолжительное время, часа два, очутились за городом, продрались сквозь чашу первобытного леса и, наконец, прошли на какую-то лужайку, посреди которой стояла одинокая хижинка. Здесь шествие остановилось. На пороге хижины сидела обезьяна, на земле, около нее, лежала и спала, свернувшись, очковая змея, а вверху, на перекладине двери, висела, по обыкновению вниз головой, громадная летучая мышь. Сата издал какой-то особенный гортанный звук, и эти три странных стража хижины сейчас посторонились и пропустив пришедших. При этом обезьяна раскрыла рот и довольно отчетливо произнесла приветствие на туземном языке. Очевидно, Батайль принял за обезьяну туземца, который, вероятно, по внешности мало отличался от обезьяны.
Батайль признается откровенно, что он был не очень-то спокоен духом. Все это таинственное путешествие, вкупе с обезьяной, разговаривавшею на человеческом языке, изрядно расстроило ему нервы. Сата заметил это и на своем ломаном французском языке сказал Батайлю несколько успокоительных слов.
Когда все вошли в хижину, Батайль увидал, что эта постройка вовсе не представляла собой жилого места, а нечто вроде сруба над колодцем, который зиял под ногами. Очевидно, в бездну этого кладезя теперь в предстояло спуститься. Он вновь заколебался и спросил старика, куда он ведет его.
– Недалеко, недалеко, – проговорил старик. – Там, там, внизу. Там большой покой мертвых. Там Махмах. Ты будешь смотреть, умрет или не умрет.
Но Батайль все не мог успокоиться и стал задавать старику вопросы: кто он такой, зачем его привел, почему не пригласил английского врача, и т. д. Сата объяснил ему, что англичане «проклятые», и что настанет день, когда «дух» прогонит их из Индии. При этом он объяснил, на вопрос Батайля, что верит в «духа», что «дух» является в нему, говорит с ним; далее, что ему, Сате, известно, что Батайль тоже друг «духа», а следовательно, и друг ему, Сате. На дальнейшие вопросы Батайля он ничего не отвечал, а только приглашал его идти вперед. Иди, дескать, и сам все увидишь. Батайль, наконец, решился. Старик первый спустился в отверстие таинственного колодца. Батайль последовал за ним. Спускались по ступеням, которых Батайль насчитал около шестидесяти. Лестница эта вела в обширное подземелье, освещенное лампой с кокосовым маслом, которое сейчас же дало о себе знать своим удручающим запахом.
На большой куче кокосовых листьев, составлявших что-то вроде возвышенного ложа, лежала скорчившись старая женщина. Батайль подошел в ней и внимательно рассмотрел ее. Это было что-то, чему он и имени не мог придумать. Перед ним лежал иссохший скелет, обтянутый кожей. Старуха едва дышала, с трудом и со свистом. Ее глаза потухли. Батайль, как врач, не имел даже надобности исследовать больную. Для него было сразу видно, что не только дни но и часы ее сочтены. Этот приговор врача, вероятно, был написан на его лице, потому что Сата сейчас же спокойно спросил его:
– Кончено?.. Умрет?.. – И не дождавшись ответа Батайля, он с тем же спокойствием скрестил руки, покачал головой и прибавил: – Сто пятьдесят два!.. Вот сколько ей годов!
На вопросы Батайля старик разъяснил ему, что Махмах прожила ровно сто лет в этом подземелье, ни на минуту не оставляя его, и что окрестные жители, очень ее почитавшие, постоянно ее навещали. По объяснению Саты, Махмах была факир и служила хранительницей этого подземелья, которое считалось священным местом. «Дух», которого беспрестанно поминал Сата, постоянно посещал старуху. На вопрос, как зовут этого духа, Сата отвечал: Люциф. Батайль теперь знал наверное, что он попал к настоящим поклонникам дьявола, у которых сатана обычно носит название Люцифер и Люциф. Батайль находился, значит, в святилище этих странных сектантов. Эго побудило его с величайшим любопытством осмотреться вокруг.
Подземелье, в которое его привели, имело сажени три в длину и ширину. В стенах виднелись отверстия, которые, очевидно, вели в другие отделения подземелья. С низкого потолка свешивалась лампа; она была медная, с одиннадцатью светильниками. Одиннадцать – число священное у демонопоклонников. При мутном свете этой лампы Батайль различил в стенах несколько ниш, служивших, по-видимому, алтарями; но внутри их ничего не было видно.

Между тем, Сата и другие, кто были подземелье, окружили ложе Махмах и опустились на колени. Во входное отверстие подземелья один за другим проскальзывали новые пришельцы, которых, очевидно, успели известить о смерти старухи. Все они вступал в подземелье, как тени, и, беззвучно подойдя к ложу, становились на колени. Все хранили мертвое молчание.
Старуха хрипло дышала. При малейшем движении слышен был глухой стук ее костей. По временам она совсем затихала и оставалась неподвижной, но потом опять ее дыхание возобновлялось, сопровождаемое все тем же страшным присвистом. Батайль с любопытством врача следил за ее агонией, потому что за всю свою практику он никогда ничего подобного не видал. Это была, как он выражается, сухая агония, без малейшей испарины. Он знал, что душа этой женщины давно принадлежит сатане, и спрашивал себя, остался ли в этом угасающем существе хоть какой-нибудь след божественного духа.
Между тем, старуха вновь затихла. Батайль было решил, что на этот раз дело кончено, но, в его изумлению и ужасу, старуха вдруг медленно приподнялась, села, а затем, словно в ней распрямилась какая-то пружина, она встала на ноги и широко открыла глаза. Батайль невольно отпрянул назад. Перед ним словно призрак появился, потому что в этой страшной фигуре не оставалось ничего человеческого.
Старуха протянула руку по направлению вглубь подземелья, в его дальний угол, остававшийся во мраке. При этом жесте старик, Сата и все присутствующие поднялись и стали зажигать кто лампы, а кто куски смолистого дерева, груды которого лежали в подземелье. Все двигались тихо, на цыпочках, словно тени. В подземелье оказалось всего одиннадцать ламп, каждая с одиннадцатью светильниками. Когда все их зажгли, подземелье ярко осветилось, и тогда Батайль увидел, наконец, его главную святыню.
В отдаленном углу подземелья было устроено нечто вроде большого алтаря, и на нем была поставлена чудовищная статуя. Это и был тот самый Бафомет, о котором Батайлю говорил Карбучча, как о необходимой принадлежности каждого святилища демонопоклонников. Батайль рассмотрел статую во всех подробностях.
Бафомет изображается в виде козла, только оконечность морды, а в особенности ноздри, скорее имеют такую форму, как у быка, а не как у козла. На голове два громадных рога, а посредине, между ними, помещается нечто вроде факела, пламя которого сделано из какого-то красного самосветящегося вещества. На лбу идола помещена звезда из посеребренного металла, с пятью лучами. Верхняя часть тела имеет человеческую форму, с женской грудью. Правая рука согнута так, что умазывает на белый рог луны, изображенный на соседней стене, левой же опущенной рукой Бафомет указывает на другой рог доны, черный. Живот идола покрыт чем-то подобным щиту, состоящим из зеленых чешуй. В атом щите укреплен крест, а на перекресте его – распустившаяся роза. Затем нижняя часть тела закрыта драпировкой, как бы юбкой, из ярко-красной материи. Из-под нее выглядывают козлиные ноги идола. Позади у него приделаны большие крылья, с белыми и черными перьями. Ноги идола опираются на большой шар, на котором спереди что-то начертано. Тут виден и трезубец Нептуна, и что-то вроде китайского иероглифа, и еще какие-то линии вроде молний или стрел. Эта сфера, по словам Батайля. обозначающая земной шар, снизу вся обвита телом громадной змеи, голова которой, с разверстой пастью, приподнята спереди шара и обращена к статуе. Справа от этой центральной фигуры стоит колонна, увенчанная на вершине треугольником, в котором находится изображение глаза. Колонна обвита змеей. Треугольник окружен сиянием из широких лучей. Слева от средней фигуры изображен змей, поставленный на согнутом хвосте. Тело его выгнуто в виде буквы «З»; голова обращена к статуе. Позади головы, по-видимому, изображение солнца – большой круг с таким же сиянием, как около треугольника, поставленного справа. Таково это изображение божества оккультистов, по словам Батайля, повсюду одинаковое, т. к. он созерцал его в таком же точно виде по всей Индии, в Китае, в Париже, в Риме, в Южной Америке и т. д.
Батайль не отрываясь рассматривал это странное божество, а тем временем индусы, бывшие в подземелье, снова опустились на колени, образовав круг. Старуха кое-как дотащилась по земле до середины этого круга. В то же время на сцену выступили новые странные действующие лица. Прежде всего явилась черная кошка с обрубленным хвостом, которая вошла в круг публики. Потом откуда-то выползла очковая змея; она направилась к статуе Бафомета и обвилась вокруг его козлиных ног. За ней явилась обезьяна, усевшаяся слева от алтаря. Наконец, появилась и большая летучая мышь, висевшая раньше дверях хижинки; теперь она повисла на потолке подземелья.
Батайль стоял в стороне, поодаль, чтобы окидывать взором всю сцену. Он видел, что один из индусов, сопровождавших Сату в гостиницу, подал Сате масонскую перевязь, совершенно такую, какая была получена самим Батайлем от Пейзины. Сата передал перевязь Батайлю, приглашая его ею препоясаться. Взяв перевязь в руки, Батайль, к несказанному своему изумлению, увидел, что это его собственная перевязь, полученная от Пейзины. Но как она попала в руки фокусникам? Она лежала в его номере, спрятанная в чемодане. Кто ухитрился ее оттуда выкрасть? Очевидно, либо сами фокусники, либо кто-нибудь из служителей гостиницы, состоявших с ними в тесных сношениях. Сата, хорошо ловимая его изумление, поспешил его успокоить на своем ломаном языке:
– Ты хороший. Ты друг, мы никогда у тебя не будем воровать. Дух хранит тебя! Ты друг, ты никому не скажешь.
Узнав по этой перевязи, что Батайль масон, Сата был совершенно спокоен на его счет, был уверен, что Батайль не выдаст их тайны. Ему нужен был врач для исследования умиравшей Махмах. В числе местных врачей-англичан не было ни одного оккультиста, и потому он, узнав по украденной его людьми перевязи, что Батайль масон, и решил обратиться к нему, как к своему человеку. Батайль тут же имел случай убедиться в том, что верховные сановники всяких тайных обществ находятся между собой в постоянном общении. Сам Сата был, очевидно, важным чином среди демонопоклонников. Как только Батайль возложил на себя масонскую перевязь, Сата шепнул ему условный пароль масонов: «Изида». Батайль ответил ему словом: «Озирис». Этот обмен условными словами немедленно сделал их братьями.
Теперь Батайль задавал себе вопрос: что будет дальше со старухой Махмах? Ясное дело, что она сейчас умрет, и тогда все эти люди, ее поклонники, приступят к ее погребению. Как оно будет происходить? Это было очень любопытно.
Сата еще раз обратился к Батайлю с вопросом:
– Махмах кончена, выздороветь нельзя?
Батайль отвечал, что на выздоровление старухи нет никакой надежды, что она умрет до вечера. Тогда Сата молча отошел от него, приблизился к индусам и что-то говорил им. Выслушав его, люди вложили вокруг старухи груду смолистого дерева и зажгли его. Двери подземелья были открыты, и образовалась довольно сильная тяга воздуха, но все-таки от огня и дыма сделалось жарко и душно. А индусы все подбрасывали в костер кусни дерева, между которыми были, очевидно, дорогие благовонные породы, потому что дым имел приятный запах и понемногу заглушал тяжелый смрад кокосового масла, который раньше царил в подземелье.
Костер был сложен так, что в первое время пламя не касалось старухи, а только окружало ее со всех сторон. Умирающая сделала, нечеловеческое усилие, поднялась на ноги и стояла, окруженная пламенем костра. Потом она вытянула руки и стала медленно и плавно. кружиться. Тогда все присутствующие запели гимн демонопоклонников. Сата продиктовал Батайлю этот гимн на туземном языке, и Батайль его записал и приводит в своей книге. Вот точный перевод этого гимна:
«Став людьми с добродетельным духом, мы перенесемся через гористую область удручающего истребления; мы переедем через пустыню сгруженного гнева на колеснице терпения, располагающего к покаянию; мы будем держать путь через лес любви и через плодородную почву хищения; и на минуту остановившись на опустошенном берегу забвения, мы достигнем океана верховной цели – Люцифера».
Нельзя сказать, чтобы это песнопение блистало смыслом, но в нем, конечно, есть своего рода дикая поэзия. Батайль и сам сначала ничего не понимал в туманных и даже как бы бессмысленных выражениях этого гимна, но уверяет, что впоследствии вполне уразумел их.
По окончании пения гимна Сата взял в руки горящее полено и очертил им в воздухе круг перед статуей Бафомета. Старуха продолжала медленно кружиться среди огня. Публика опять что-то запела тихими гнусливыми голосами. Темп пения постепенно учащался, а вместе с тем и старуха кружилась все быстрее и быстрее. После каждого пропетого куплета пение на минуту приостанавливалось, и публика во время этих перерывов подгребала огонь все ближе и ближе к центру круга, т. е. к старухе. Батайль с ужасом смотрел на это медленное поджаривание полумертвой старой грешницы.
Вдруг Махмах испустила дикий и резкий крик и остановилась, повернувшись лицом к Бафомету. В то же время присутствующие грянули во весь голос свой чертовский гимн, вооружились железными вилами и начали со всех сторон подгребать к старухе раскаленные угли и пылающие головни. Она все еще стояла совершенно неподвижно среди этого круга огня. Бывшие на ней клочки одежды быстро сгорали один за другим. Ее кожа вея почернела от огня и дыма, а ужасная седая голова отсвечивала ярким красным светом от пламени костра. Батайль понять не мог, какими силами она все еще продолжала держаться на ногах среди этих снопов пламени. Но она держалась стоя до последнего издыхания. Она вдруг вся опустилась книзу и исчезла в огне.
Пение сейчас же прекратилось, и вся публика, собравшаяся в подземелье, в один голос испустила торжественный и радостный клич. Все принялись сгребать жар в одну кучу и подкидывать топливо. Костер быстро разгорелся, пламя смолистого дерева приняло громадные размеры, в подземелье настала ужасающая духота. Через несколько минут сожжение кончилось; от старухи остался лишь белый порошок ее костей. Батайль, раньше присутствовавший при сжигании трупов, был поражен этой артистической быстротой сжигания.
Когда все было кончено, Сата подошел к статуе Бафомета и громким голосом трижды воскликнул:
– Inri!.. Inri!.. Inri!..
И в ответ ему из догорающего костра раздался глухой голос, проговоривший четыре латинских слова:
– Igne Natura Renovatur Integra.
Эта дьявольская фраза, как можно судить по начальным буквам слов (I.N.R.I.) представляет собой явную пародию на надкрестную надпись. Приведенные же латинские слова означают: «Огнем вся природа обновляется».
Когда все было кончено и Батайль выбрался из подземелья, к нему подошел Сата, горячо поблагодарил его и затем, отведя в сторону, сказал ему:
– Ты великий масон, великий… Но ты не знаешь Люцифа. Ты не факир. – И затем, подавая Батайлю какую-то вещицу из зеленоватой бронзы, он прибавил: – Возьми, ты, друг, возьми лангам Люцифа. Тебя с ним пустят везде: Индия, факиры, Китай, везде, везде… Ты друг хороший, хороший…
Амулет, врученный Сатой Батайлю, в самом деле представлял собой лингам, но особенный, крылатый. Что такое лингам, этого мы объяснять читателям не решаемся. Это священный предмет, носимый почитателями бога Шивы. Но о внешнем виде этого предмета рекомендуем осведомиться у любого знатока индусской религии. Батайль был чрезвычайно доволен этим подарком. Теперь у него, кроме масонского диплома, был еще и священный талисман демонопоклонников.
Следующее приключение Батайля, т. е. его новая встреча с демонопоклонниками, произошло в Пондишери. Читатели, без сомнения, помнят, что у французов в Индостане есть небольшая колония, с городком, носящим вышеприведенное название. Батайль слыхал, что около Пондишери существует храм каких-то сектантов, вероучение которых заключает в себе черты поклонения демону. Ему хотелось видеть этот храм, но не хотелось узнавать о нем от европейцев. Поэтому он обратился к одному из местных жителей-французов с просьбой указать ему кого-нибудь из туземцев, кто мог бы руководить ям при осмотре местных древностей. Батайль прикинулся простым археологом, интересующимся постройками, храмами, памятниками, нравами и обычаями и вообще всякой стариной. Француз сейчас же любезно познакомил его с великим знатоком местных древностей, старым индусом, носившим необычайно долговязое имя: Раммасамипунотамбипаледобачи. Батайль в своем рассказе постоянно сокращает это имя на первых трех-четырех слогах.
Этот Рамасса… (и т. д.) был почтенного вида старец, черный, как вакса, с густейшими седыми волосами и окладистой седой бородой. Батайля поразила в нем одна черта сходства с вышеописанным Сатой. У него, как и у того старца, рук напоминали птичьи лапы с когтями, так что Батайлю невольно пришла в голову догадка: не является ли эта черта общею приметой демонопоклонников-индусов?
Батайль переговорил со стариком и живо с ним поладил. Они наняли носилки, уселись в них и оправились. Старик было начал что-то рассказывать, но Батайль перебил его и постарался сразу установить на надлежащей точке, т. е. объяснил, что его интересует только то, что прямо в непосредственно относится до местных туземных религиозных сект: что он желает видеть храмы, святилища, святые, и проклятые небом места, и т. д.
Рамасса устремил на него испытующий взгляд, тряхнул головой и сказал:
– Я знаю, понял, сейчас отправимся.
Он отдал какое-то краткое приказание носильщикам, и те прибавили шагу. Скоро они выбрались из города, и тогда Рамасса… вдруг спросил Батайля:
– Сколько вам лет?
– Одиннадцать, – отвечал Батайль.
Мы уже упоминали о том, что одиннадцать – священное число у демонопоклонников. Давая такой ответ, Батайль соображал, что если его проводник демонопоклонник, то он поймет, что Батайль его собрат, и тогда оставить всякие церемонии и покажет Батайлю все, что тому было желательно видеть. Однако старик оказался не особенно доверчивым и, предосторожности ради, сделал Батайлю подробный допрос. Так как дело было секретное, то он сошел со своих носилок, подошел к носилкам Батайля и говорил тихо.
– Откуда вы пришли? – спросил он.
– Из вечного пламени, – отвечал Батайль, припоминая наставления своего учителя по части демонизма, Карбучча.
– Куда вы идете? – продолжал Рамасса…
– В вечное пламя.
Рамасса был, очевидно, в значительной мере успокоен такими ответами, потону что вслед за ними перешел с Батайлем «на ты».
– Стало быть, ты его знаешь, отца?
– Знаю и горжусь этим.
– Кто ты?
– Мой отец тот, кто все может. Я ничего не могу без него. Я лишь приемный сын его.
Тогда старик протянул ему руку, согнув пальцы в крючок. Батайль сделал то же самое, и они соединили свои руки этими крючками.
– Какой час труда твоего? – продолжал спрашивать старик.
– Три часа после полудня.
– Как откроются перед тобой двери святилища?
– Когда я произнесу священное слово.
– Скажи его.
– Баал-Зебуб.
В то же время Батайль вынул из кармана крылатый лингам, врученный ему Сатой, и показал его старику. Тот низко поклонился и пробормотал:
– Сын господина моего, ты мой господин.
Старик снова уселся на носилки, и на этот раз уже сам Батайль распорядился, чтобы он проводил его в храм пондишерийских демонопоклонников. Туда они и направились. По дороге старик сообщил Батайлю, что в то время в Пондишери гостил один из влиятельнейших американских масонов и демонопоклонников Джон Кембелль. Рамасса послал к этому Кембеллю встречного индуса предупредить его о прибытии гостя.
Мы не будем подробно описывать все те церемонии, с которыми Батайль был допущен в таинственный храм демонопоклонников Церемония состояла все в тех же вопросах и ответах, в обмене условными словами. Будем продолжать рассказ Батайля с того момента, когда он уже проник в самое святилище. Это было подземелье какого-то обширного, давно уже заброшенного индусского храма. Оглядевшись вокруг, Батайль увидел ужасы неимоверные. Оказалось, что это святилище служило, между прочим, местом заключения факиров-самоистязателей. С потолка свешивались фигуры, возбуждавшие невольное содрогание. Это были живые люди, подвешенные к потолку за руки. Разумеется, все они пришли в состояние скелетов, обтянутых кожей. Висели они с полной неподвижностью, не издавая ни стона, ни звука. Иные из них лишь по временам тихо, тихо поворачивались, быть может, от скручивания и раскручивания веревок, на которых были повешены.
Но еще ужаснее было зрелище замурованных факиров. Дело в том, что в стенах святилища были сделаны 33 ниши: одиннадцать на западной стороне, одиннадцать на южной и одиннадцать на северной. Эти ниши имели самую разнообразную форму. Двадцать ниш были пусты, остальные же тринадцать были заняты. В первое мгновение могло показаться, что в них были вставлены статуи каких-нибудь туземных божеств. Но Батайль скоро убедился, что это были не статуи, а живые люди. Т. к. фигуры ниш были разные, то и позы этих людей были тоже различны. Они были вставлены, втиснуты в эти ниши, совершенно подобно тому, как ювелиры вставляют в футляры браслеты, брошки, кубки и т. д. Только разница в том, что у ювелиров футляр делается по вещи, а тут было наоборот: человеческое тело приспособлялось к нише и принимало ее форму.
Само собой разумеется, что в святилище, как и у всех других демонопоклонников, находилась статуя Бафомета. Великим Мастером этой адской масонской ложи был престарелый факир, который отнесся к Батайлю с большим вниманием, как к почетному гостю. Видя, что Батайль заинтересован, если можно так выразиться, до ужаса зрелищем факиров-самоистязателей, он счел нужным дать ему кое-какие объяснения. Оказалось, что многие из них далеко не новички в этом святилище. Так, например, один из них висел тут будто бы уже десять лет, а другой оставался замурованным двадцать пять лет. Отнюдь не ручаясь за достоверность этих цифр, мы можем, однако, сказать, что такие самоистязания – самая обыкновенная вещь в Индии Всем этим добровольным мученикам каждый день давали есть и пить, разумеется, лишь в таком количестве, чтобы они не умерли с голода. Что же касается до продуктов их пищеварения, то невыносимый смрад, царивший в святилище, явно свидетельствовал о том, что этот вопрос никого и ни малейшим образом не занимал.
Дальнейшая церемония открылась речью Кембелля, который заклинал публику оставаться верной своей древней прародительской вере, а главное, не слушать католических миссионеров.
Когда был окончен этот спич, Великий Мастер объявил, что сейчас будет приступлено к вызыванию духа. В качестве вежливого хозяина, он обратился к своему гостю Батайлю с вопросом: какого духа желает он видеть? Батайль отвечал, что ему все равно. Тогда Кембелль предложил вызвать Баал-Зебуба.
Потушили все огни, кроме одного. Церемониймейстеры раздали присутствовавшим бронзовые пентаграммы, которые у всех оккультистов носят название «Соломоновой Печати», и еще другой формы металлические знаки, тоже звездообразные, носящие название «микрокосм». Пентаграмма надевается на шею, а микрокосм держат на правой руке. Затем и последний факел был потушен, а для освещения принесли особую лампу причудливой формы, с девятью огнями, расположенными группами, по три в каждой. Это была особая волшебная лампа, употребляемая при заклинаниях. Ее поставили на предназначенный для этого столик с пятью углами. Принесли также другие инструменты и принадлежности для вызывания духов. Явилась на сцену какая-то палочка, похожая на шпагу; ее принял в руки Великий Мастер. Принесли шпагу, которую предложили Батайлю, но он скромно отклонил от себя эту честь, и шпага была передана Кембеллю. Принесли еще треножник и поставили его по середине святилища. На этом треножнике и должен был появиться вызываемый дух. Затем начались заклинания.

Прежде всего Великий Мастер сделал воззвание к четырем элементам: воздуху, огню, воде и земле. Он дунул на все четыре стороны, и это обозначало воззвание к воздуху. Воззвание к воде состояло в том, что он простер руки над сосудом с водой, который держал Кембелль, при этом в воду были брошены щепоть соли и щепоть золы. Потом он поднес Кембеллю жаровню с углями, на которые Кембелль бросил щепоть соли, ладана, белой смолы и камфары: это была жертва огню. А в виде жертвы земле Великий Мастер побрызгал водой вокруг жертвенника.
Во время этих церемоний присутствовавшие стояли неподвижно, вытянув руки, в которых держали микрокосмы, направляя их острый угол к треножнику, на котором ожидалось появление духа. Великий Мастер начал читать заклинания на латинском языке, и Батайль был поражен его правильным и твердым произношением. Этот индус владел латынью, как европейский доктор.
После заклинаний начали читать какие-то особые воззвания, причем Великий Мастер и Кембелль чередовались между собой. Они читались на местном языке. Батайль потом попросил продиктовать ему эти заиливания и перевести их на французский язык. Впоследствии он убедился в том, что текст этих воззваний остается слово в слово один и тот же, в какой бы местности и на каком бы языке их ни произносили. Очевидно, текст этот принят всеми демонопоклонниками. Мы не будем приводить здесь полного перевода, а приведем только начало первого воззвания. Вот оно:
«Дух света, дух премудрости, дыхание которого дает и воспроизводит образ всего сущего; ты, перед лицом которого жизнь существ лишь преходящая тень; ты, воздымающий облака и шествующий на крыле ветров; ты, дыханием которого населяются бесконечные пространства; ты, дыхание которого возвращает в тебя все, что от тебя исходит; ты, бесконечное движение в вечной нерушимости, будь благословен!».
В таком роде были все четыре воззвания или молитвы, как их называет Батайль. Поочередно читая их, Великий Мастер и Кембелль все время стояли около самого треножника; их окружали со всех сторон остальные присутствовавшие, образуя цепь.
Великий Мастер, державший в руках волшебный жезл, сделал им ЗЗ удара о треножник, приостанавливаясь на некоторое время после каждых одиннадцати ударов, т. е. после одиннадцатого и двадцать второго. Потом тем же жезлом он начертил на полу волшебную пентаграмму, «Печать Соломона». Покончив с этим, он громким голосом произнес те слова, которые оккультистами называются «Общим Заклинанием» или «Заклинанием Четырех». Это заклинание и представляет собой главную формулу вызывания духов. Первая половина этой формулы произносится обязательно на латинском языке, где бы и кем бы ни произносилось заклинание; вторая же половина произносится на местном языке. Курьеза ради, приводим полный текст этого заклинания. Вот его первая латинская половина:
«Caput mortuum, imperet tibi Dominus per vivum et devotum serpentem!.. Cherub, imperet tibi Dominus per Adam Jot-Chavah!.. Aquila errans, imperet tibi Dominus per alas tauri!.. Serpens, imperet tibi Dominus Tetragrammaton per angelum et leonem!..
Raphael! Gabriel! Mikael! Adonai!
Lucifer! Baal-Zebub! Moloch! Astaroth!
Fluat udor per spiritum Eloim! Manet terra per Adam Jot-Chavah! Fiat firmamentum per Jahuvehu Zebaoth! Fiat indicium per ignem in virtute Mikael!».
Далее идет текст на местном языке:
«Ангел с мертвыми очами, слушай и повинуйся сей святой воде (при этих словах Великий Мастер опрокидывает тот сосуд с кодой, в который перед тем бросали соль и воду). Крылатый вол, работай или возвратись в землю, если не хочешь, чтобы я приколол тебя этой шпагой (при этом Великий Мастер хватает шпагу и машет ею по воздуху). Скованный цепью орел, повинуйся этому знаку или обратись вспять перед сим дуновением (Великий Мастер очерчивает своим жезлом знак пентаграммы в воздухе и дует перед собой). Змея ползучая, приблизься к моим стопам или подвергнись пытке священным огнем и испарись в благовониях, которые мы на нем сжигаем (Великий Мастер бросает в жаровню несколько зерен ладана и мешает угли концом шпаги). Да возвратится вода в воду! Да палит огонь! Да движется воздух! Да падет земля на землю! Силой пентаграммы, утренней звезды, Люцифер! И во имя тетраграммы, которая вписана в середине светлого креста! Аминь».
В то время, как Великий Мастер выкликивает имена Рафаила, Гавриила, Михаила и Адонаи (в латинской половине текста), он делает жест, выражающий отвращение, как бы отталкивая от себя тех, кого он называл. Наоборот, при именах Люцифера, Баал-Зебуба, Молоха и Астарота он проделывал кабалистический жест любви, прижимая к своей груди ладони с разведенными пальцами. Заметим здесь кстати, мимоходом, что Баал-Зебуб то же, что Вельзевул. Произнеся последнее слово «аминь», Великий Мастер до последней возможности возвысил голос и три раза выкликнул имя вызываемого духа:
– Баал-Зебуб!.. Баал-Зебуб!.. Баал-Зебуб!..
Это был самый патетический момент церемонии. Вся публика, с донельзя приподнятыми нервами, стояла вокруг, храня полное безмолвие. Все взоры были обращены, само собой разумеется, к треножнику, на котором должен был мгновенно появиться вызываемый дух. Но, увы, треножник оставался пуст, на нем ровно ничего не появилось.
Великий Мастер вновь проговорил заклинание сначала до конца и на этот раз выкрикнул имя Вельзевула уже не трижды, а девять раз. Треножник по-прежнему блистал своей пустотой.
Великий Мастер и Кембелль, видимо, крепко обескураженные, обменялись многозначительным взглядом. Тогда Великий Мастер, обращаясь к присутствовавшим, возопил:
– Ко мне, братья! Прибегнем к великому заклинанию!
Присутствовавшие схватили факелы и зажгли их от огня волшебной лампы. Потом все они выстроились и совершили ход вокруг святилища, причем каждый из них медленно кружился. Разумеется, и Батайлю пришлось принять участие в этом кружении. Проходя перед нишами замурованных факиров, Великий Мастер приостанавливался, кланялся добровольцам-мученикам и просил их молиться об успехе вызывания. В ответ на эту просьбу факиры немедленно начали бормотать заклинания своими замогильными голосами.
Совершив ход вокруг святилища, все вновь встали около треножника и ждали. Но треножник все оставался пустым.
– Призыв духа должен быть сделан самым святым из наших факиров! – воскликнул Великий Мастер.
По этой команде несколько человек направились к двери, находившейся в стене, слева от алтаря Бафомета. Эта дверь была в глубокой тени, и Батайль раньше ее не заметил.
Дверь была открыта. Она вела в крошечную мрачную каморку, из которой так и хлынул невыносимый смрад гнили. На полу этой каморки лежала человеческая фигура. Когда отворили дверь, узник приподнялся и сел.
– Мак-Бенак! – громко воскликнул Великий Мастер.
Вероятно, таково было имя существа, жившего в каморке. На туземном языке эти слова «Мак-Бенак» означают буквально: «Плоть, покинь кости». Этими же словами называется и само святилище. Среди масонов оно известно под названием «Храма тления».
Между тем, Батайль всмотрелся в человека, теперь сидевшего на поду каморки, и, не взирая на свой врачебный навык, был решительно до полусмерти испуган его видом. Все тело этого человека было изъедено крысами; ноги его представляли одну сплошную язву; они гноились, их, видимо, уже начал пожирать процесс омертвения тканей, они были в полном разложении и от них несло трупным смрадом. Но всего ужаснее было лицо этого человека. Окружность одного из глаз была объедена крысами. Глазное яблоко выпало из своей впадины и, держась на какой-то жилке, висело около самого рта. Но лицо было не только спокойно, а хранило даже выражение какого-то блаженства.
Великий Мастер выступил вперед, поклонился этому полутрупу и сказал ему на местном языке:
– Трижды святой факир, мы тщетно призываем Баал-Зебуба. Он не является. Приди к нам на помощь со своим святым словом!
Факир понял, чего от него хотят. Он открыл рот, чтобы заговорить, но вывалившийся глаз всовывался ему в рот и не давал говорить. Он отодвинул его рукой и своим неописуемым голосом прохрипел:
– Баал-Зебуб!.. Баал-Зебуб!.. Баал-Зебуб!..
На его голос отозвались такими же замогильными голосами все замурованные и повешенные факиры, и в святилище несколько секунд раздавались эти страшные призывные крики:
– Баал-Зебуб!.. Баал-Зебуб!.. Баал-Зебуб!..
А призываемый дух все не появлялся.
Между тем, еще в ту минуту, когда Великий Мастер объявил, что вызывание будет совершаться по обряду великого заклинания, два церемониймейстера спустились вниз в подземелье. Один из них скоро вернулся, неся жаровню, наполненную пылающими углями. За ним шла женщина. Жаровню поставили неподалеку от треножника.
Тогда Великий Мастер обратился к пришедшей женщине со словами:
– Женщина, делай свое дело!
Женщина с полным спокойствием, с выражением покорного равнодушия на лице, подвинулась к жаровне и опустила руку в груду пылающих углей. Она, не моргнув глазом, смотрела на свою горящую руку и вдыхала дым и смрад горящего тела, которые поднимались от жаровни.
Тем временем вернулся другой церемониймейстер, спускавшийся в подземелье. Он влек белого козла. Он подвел животное к самой статуе Бафомета, Вокруг него поставили четыре черных свечи. Несколько человек вооружились ножами и прежде всего зверски исполосовали несчастное животное, видимо стараясь причинить ему как можно больше страданий. После того козлу вскрыли живот. Великий Мастер погрузил руку в разрез, вырвал из животного внутренности и, изрыгая самые энергичные хулы против Адонаи, возложил эти окровавленные куски тела на ступени алтаря Бафомета.
Но и эта жертва имела одинаковую участь со всеми прежними попытками: Баал-Зебуб не являлся.
Тогда, по словам Батайля, разыгралась последняя неимоверная сцена заклинаний.
Двое здоровых индусов выделились из толпы, наклонились над полом святилища, ухватились за что-то, и вдруг оказалось, что в этом месте пола была громадная, тяжелая подъемная плита, прикрывавшая ход в подземелье. Когда плита эта была приподнята, снизу хлынула вонь, от которой Батайль едва не лишился чувств. Там внизу, в этой смрадной норе, валялось восемь человек, буквально заживо сгнивших. Эти восемь еще проявляли некоторые признаки жизни. Но рядом с ними лежали другие, уже мертвые, окончательно сгнившие. Были и такие, от которых оставались одни только скелеты. Вся эта полуживая, полумертвая масса была перемешана с грудами червей, которые копошись в ней, как они обычно копошатся в падали.
– Мак-Бенак, Мак-Бенак! – кричал Великий Мастер в каком-то экстазе, наводившем ужас.
Из ямы выволокли нескольких факиров, которые оставались еще живы, их отнесли к подножию статуи Бафомета и там посадили. Взглянув на них поближе, Батайль, как врач, только подивился, каким чудом они все еще оставались живы. Их тело находилось в полном разложении; у многих вся кожа и мускулы были изъедены насквозь, до самых костей, белые поверхности которых страшно зияли сквозь прогнившие места. К этим полусгнившим останкам не было возможности даже применить имени человеческого существа.
В святилище оказались еще другие подземелья, внутри которых тоже валялись такие же полумертвецы, пожираемые червями. Потому-то это святилище и называлось «Храмом тления». В сущности, весь храм представлял собой сплошное адское кладбище.
Один из церемониймейстеров взял в руки туземную флейту и начал в нее насвистывать, со странными переходами звуков. Эти звуки были призывным сигналом. Как только они раздались, сейчас же из невидимых щелей святилища стали выползать змеи, громадные пауки с волосатыми лапами и гнусного вида жабы.
– Танкам! Танкам! – вдруг возопил Великий Мастер.
«Танкам» на туземном языке означает «человеческое жертвоприношение». Когда раздалось это слово, трое индусов схватили одного из полусгнивших факиров и взвалили его на алтарь Бафомета. Великий мастер вооружился особенным серповидным ножом и, вновь разразившись неистовой хулой против Адонаи, перерезал горло у жертвы. Хлынула кровь; Великий Мастер погрузил в нее руку и обрызгал ею статую Бафомета.
Гады, выползшие из своих нор, все приблизились к алтарю. Змеи вытянулись торчмя на своих хвостах и, надув щеки, издавали свист; жабы в свою очередь издавали какие-то противные звуки. Великий Мастер что-то бормотал на туземном языке, вероятно, молитвы сатане, как полагает Батайль. Голоса замурованных и повешенных факиров тоже примешивались к этому адскому хору. Зарезанный козел все еще изредка вздрагивал ногами. А около треножника все еще стояла та женщина, равнодушно глядя на свою совсем обуглившуюся руку, которую она так и не снимала с углей все время.
Тогда под мрачными сводами святилища еще раз раздался громкий голос Великого Мастера:
– Баал-Зебуб!.. Баал-Зебуб!.. Баал-Зебуб!..
Но и после всех совершенных ужасов, которые, казалось бы, должны были умилить лютое сердце демона, он все также упрямился и не хотел явиться перед своими верными слугами.
Сеанс окончательно не удался.
Кембелль нагнулся к уху Батайля и объяснил ему, отчего, по его мнению, могла зависеть неудача. Дело в том, что лишь сам сатана Люцифер обладает даром вездесущности, т. е. может появляться одновременно в разных местах. Другие же, второстепенные демоны, к числу которых принадлежит и Баал-Зебуб, лишены этого дара. Надо было заключить, что в то время, когда его вызывали, он был занят, т. е. присутствовал где-нибудь в другом месте, а потому и не мог явиться на призыв, несмотря на все усердие верующих.
Все рассказанное, без сомнения, весьма страшно и, пожалуй, возможно в этой удивительной стране Индии, где живые люди кидаются толпами под колеса Джагернаутского божества. Но тем не менее, всю эту историю, со всеми ее драматическими подробностями, нам приходится оставить на ответственности почтеннейшего г-на Батайля.
Объявления
РЕДАКЦИЯ ВЫСЫЛАЕТ
Фантастический боевик «Западня»
ц. 300 р.
Редакция высылает:
ТАЛИСМАН-ОБЕРЕГ
от всех видов сглаза, порчи, психозомбирования, демонизации и психоэнергетического вампиризма. Оберег кодирован, обладает положительным зарядом и создает защитное поле.
Цена – 2000 р.
Почтовые переводы высылать по адресу:
111123, Москва, а/я 40, Петухову Ю.Д.
РЕДАКЦИЯ ВЫСЫЛАЕТ
Библиотека приключений и фантастики «МЕТАГАЛАКТИКА» в пяти книгах.
Фантастические и приключенческие романы и повести.
Цена – 3500 р.
Книги
«Одержимые дьяволом». Мистика 500 р.
«Красный карлик». Эротическая повесть ужасов. 1000 р.
«Классификатор инопланетных пришельцев». НЛО и НЛО-навты. 1000 р.
«Прорицание о грядущем». Подробное описание всех событий, которые произойдут до 2000 года. В 2х книгах. 1000 р.
Почтовые переводы высылать по адресу
редакции: 111123, Москва, а/я 40, Петухов Ю.Д.
Фирменный киоск журнала
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ, ФАНТАСТИКА»
ул. Новослобоская, 24
проезд м. Менделеевская
м. Новослободская
Самые низкие цены
Внимание – ФЭН – Внимание
А ты подписался на лучший в России толстый журнал
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ. ФАНТАСТИКА»?!
Индекс 70956
Подписка на II-ое полугодие 1994 года – с 1 апреля по 15 мая!!!
На любой почте!!!
Наш супержурнал, не имеющий аналогов в России, с каждым полугодием становится толще, лучше, интереснее. Конкуренции с нами не выдерживает ни одно из фэн-изданий! ПФ – уверенно лидирует, не имея себе равных. Им зачитываются люди от 12 до 80 лет. Почему? Потому что ПФ – это до безумия интересно и увлекательно!
СПЕШИТЕ НА ПОЧТУ И ВЫПИСЫВАЙТЕ
толстый журнал книжного формата
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ, ФАНТАСТИКА»
РЕДАКЦИЯ ВЫСЫЛАЕТ:
тома серийной библиотеки
«Приключения, фантастика»:
«Бойня» – 2000 р.
«Измена» (историко-приключенческий эротический роман) – 2000 р.
«Чудовище», «Западня», «Прокол», «Сатанинское зелье», «Бродяга» – по 1500 р.
Историко-мифологическое исследование о 12-ти тысячелетней истории россов
«ДОРОГАМИ БОГОВ»
Предназначается для специалистов историков и всех, увлекающихся древней историей, мифологией, этногенезом и вопросами происхождения Русского Народа. Публикуются данные, скрываемые официальной наукой.
Цена – 2000 р.
Почтовые переводы высылать в адрес редакции:
111123, Москва, а/я 40, Петухову Ю.Д.
Отправка заказа – немедленно!
Принимается подписка на собрание сочинений ЮРИЯ ПЕТУХОВА в восьми томах
в собрание входят:
роман-эпопея «Звездная месть» в пяти томах
«Ангел Возмездия», «Бунт Вурдалаков», «Погружение во мрак», «Вторжение из ада», «Карающий меч»
фантастические романы «Проклятый», «Власть Ирода», «Колдовские Чары» и др.
Объем каждого тома – 720 стр.
Твердый черный бумвиниловый переплет с золотым тиснением, суперобложки, блок сшитый, 40 иллюстраций в каждом томе, цветные форзацы.
Стоимость подписки – 5000 р. (стоимость первого тома и залог за последний том)
Первый том с абонементом высылаются сразу по получении почтового перевода. Полный выпуск расчитан на полтора года.
Почтовые переводы направлять по адресу редакции:
111123, Москва, а/я 40, Петухову Ю.Д.
Любителям аномальных явлений, таинственных загадок, мистики, ужасов и фантастики редакция высылает: подборку избранных номеров ежемесячника «Голос Вселенной» с сенсационными материалами «Вампиры и оборотни. Хроника преступлений и злодеяний.» «Полтора года в аду. Записки воскресшего». «Инопланетные пришельцы на Земле. Тайны НЛО.», «Убийцы из Космоса», «Тотальное психо-зомбирование», «Зверолюди», «Людоеды», «Самозащита от нечистой силы» и др.
Кроме того в ежемесячниках – фантастические романы, повести и рассказы ужасов, с иллюстрациями!
Цена подборки – 2000 р.
Деньги высылать почтовым переводом по адресу редакции:
111123, Москва, а/я 40, Петухову Ю.Д.
Отправка – немедленно.
Реализаторы-оптовики могут заказать партии «Голоса Вселенной» из расчета 1 экз. – 100 р.
Выходные данные
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Перепечатка только с разрешения редакции.
Розничная цена свободная.
Peг. номер – ЛР 060423 Мининформпечати РФ.
Адрес редакции: 111123, Москва, а/я 40.
Учредитель, издатель, главный редактор, директор – Петухов Юрий Дмитриевич.
Формат 84x108/32. Тираж 22 тыс. экз. Заказ – 650
Подписано в печать 01.01.1994 г. Печ. л. 6.
Отпечатано в Московской типографии 13.
107005. Москва. Денисовский пер. 30.
Индекс 73074
ISSN 0135-552X
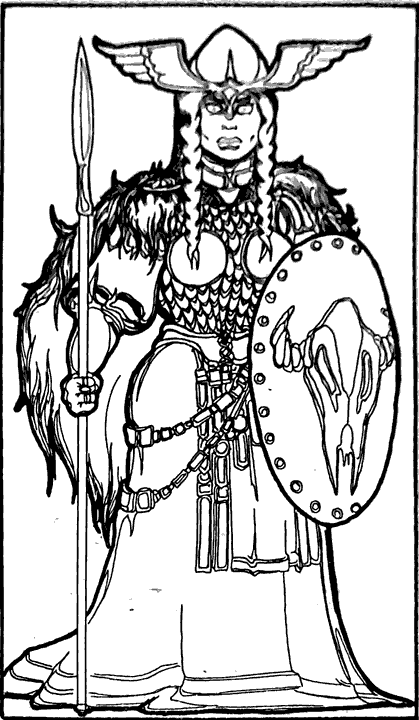

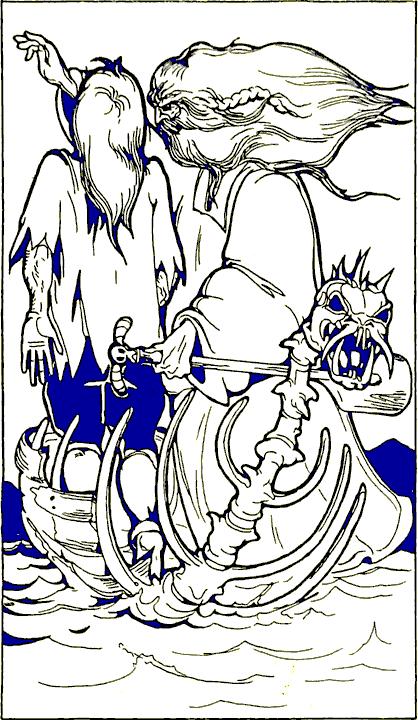
1
Purgatory – чистилище (англ.)
2
Snake – змея (англ.)