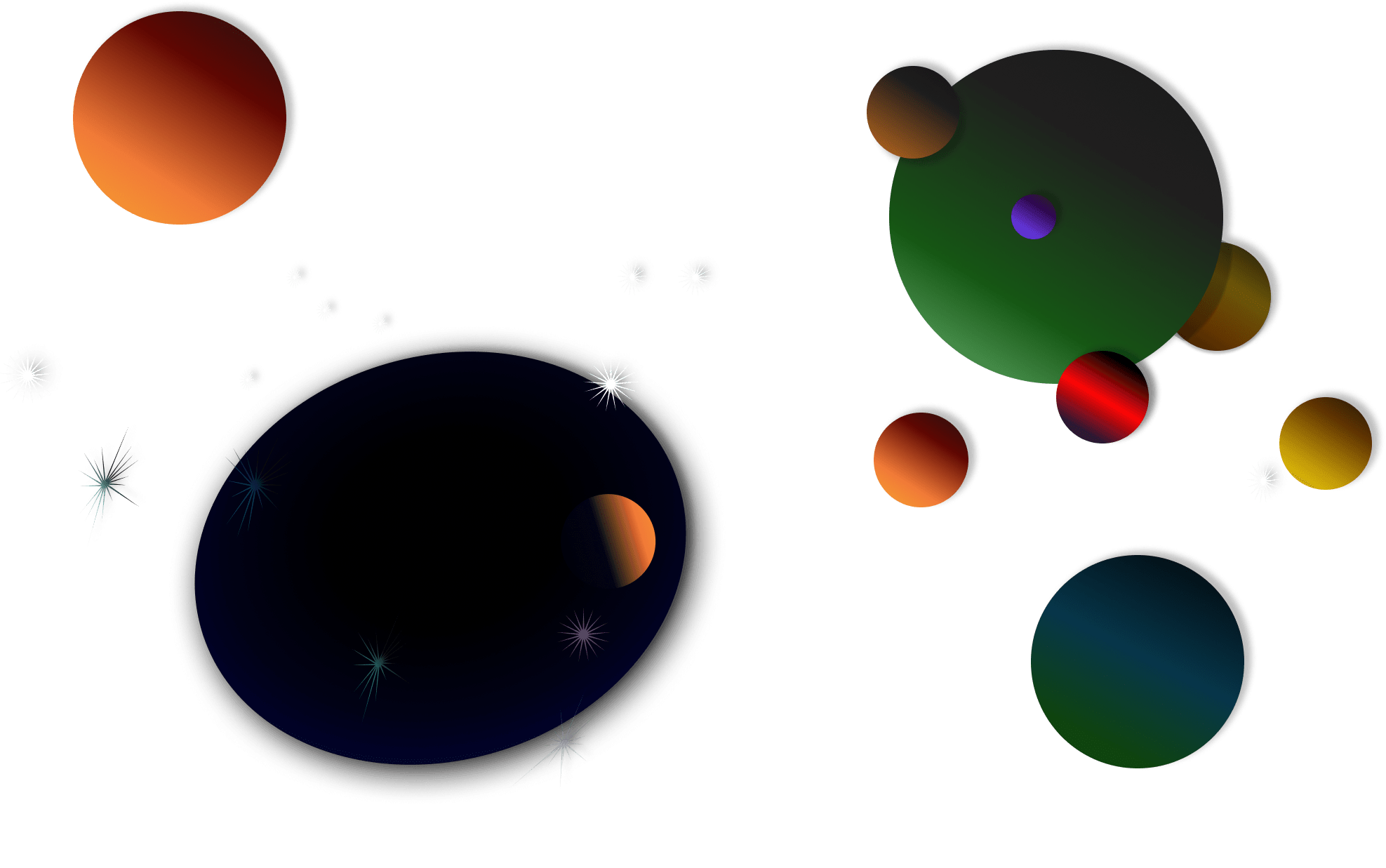Содержание
Андрей Толкачев
Обитель Сатаны
И БЕЗ КАПЛИ ЯДА, ТОЛЬКО СИЛОЙ ЗАКЛИНАНИЯ ОНИ УНИЧТОЖАЮТ ДУШИ.
Он едва открыл глаза, как ощутил тяжелый приступ удушья. В мутном скользящем пространстве он различал замедленные колебания водорослей. Где-то над ним неистово бушевал океан.
Несколько судорожных движений, и головой он пробил последний водяной пласт и яростно заработал руками, вытягивая шею под давлением ослепляющего света. Скованный от напряжения рот совершил глоток леденящего пара.
Грудное хрипение донеслось до его пробудившегося слуха – так он дышал, вцепившись в тело безучастного океана. «Христиан! Христиан!» – он выкрикнул свое имя. Но не прошло и мгновения, как его крик утонул в реве разбушевавшейся стихии. Зачем он звал самого себя? Может, душа призвала тело к спасению… Может, он не погибнет? И судьба его избежит своего последнего приюта в море?
В это время погружалась в морские глубины потерпевшая крушение шхуна Христиана…
Христиан не заметил тонущего судна. Он плыл в направлении странных очертаний земли. Наверное, спасение в любых очертаниях кажется странным.
Музыка! Величественная, трогательная мелодия органа проливалась нежным течением через пороги воскресшего чувствования Христиана.
Прежде чем плыть дальше, ему пришлось содрать с ног ботинки и восстановить дыхание. Но, возобновив гребки руками, облегчения он не ощутил.
Под сурово нависшим небом кричали чайки. С высоты полета птиц, среди морского брожения виднелся крохотный побелевший комок. Волосы Христиана покрылись инеем.
Берег! Его причудливые очертания сохраняли в себе холодность и недоступность, и Христиан понимал – плывет он все медленнее, и силы на исходе. Но вот круговороты пены обнажили под собой торчащие горные обломки. И берег, усыпанный камнями, показался ближе.
Христиан наткнулся на почерневший деревянный крест, будто вырванный из могилы, стал взбираться на него, но не удержался – усталость проглатывала последние усилия. Он плыл, как в оковах, минуя скопления деревянных щеп, ошметков тряпья и бесчисленных растений.
Выходя из воды он упал, и прибрежные волны его выволокли на сушу. Конечности его оцепенели, в дыхательные пути попала вода. Он кашлял, сжимая в кулаках песок, пытаясь отползти подальше от моря…
Недолго продолжалось забытье. Стоя на ногах, он несколько раз приближал руки к лицу и одергивал их, пытаясь избавить глаза от световой рези. С лица посыпались песчинки.
Не снимая прилипшей к телу одежды, Христиан отправился на поиски людей и крова. Он вспомнил все, что не касалось его морского бедствия. Оставалось загадкой, куда он плыл и с какой целью. «Я на чужом берегу. Без единой монеты. Кто со мной пошутил?»
День торопливо угасал, так и не сумев найти среди туч малейших прощелин для солнца. От окружавшей пустоты Христиану казалось, что он уменьшился в размерах, хотя ему грех было жаловаться на свой рост.
Хвойный лес встретил его тишиной: ни птиц, ни зверей, ни их следов, ни шелеста листьев на диких кустарниках. В лесной глубине, над травой, поднимались испарения. Христиана мучила жажда. Изможденное тело ныло. Оно обмякло и готово было свалиться грузным мешком у ближайшего пристанища.
Христиан добрался до песчаного бугра и прилег под розовыми цветками кизильника. Заснуть он не смог – из-под плеча поползла земля. Повернув голову, он обнаружил под собой могильный холм с увядшими цветами. Христиан пошевелил смятую траву – она не поднялась Почва оказалась слишком рыхлой. Знак незримой опасности таила в себе эта умиротворенность. На могилах были камни. Кругом царило запустение. «Не по-христиански они схоронены. Прочь, скверна! Здесь собирается нечисть, а не люди… Господи, услышь мой голос. Господи! Молю тебя: наставь и укрепи меня. Поклоняюсь тебе и взываю. Не дай пропасть… Не дай…»
Осеняя себя крестным знамением и читая молитвы, Христиан покидал кладбище…
Море притаилось в преддверии шторма. В тяжелых лапах кедровника потрескивал застоявшийся воздух. Христиан отряхнулся, одновременно пятясь назад. Потом он побежал, избирательно наступая на землю, чтобы не поранить обнаженные до колен ноги. Его спину обдало холодом. Позади кто-то преследовал его.
Вырвавшись на просторный берег, он остановился, перевел дыхание и побрел по хрустящему песку, словно освободившись из неведомых пут.
«Скорее померещилось… Прости меня и сохрани…»
Христиан шел по побережью, и волны облизывали ступни его ног. Одежда на теле высохла, затвердела, незастегнутые рукава рубахи беспомощно болтались на руках, как и изодранные штанины. Волосы свисали на лоб неубранными прядями, из-за этого приходилось щурить глаза. Христиан чуть успокоился от своего нелепого происшествия. Он теперь походил на отшельника и, несмотря на свой вид, рассчитывал на помощь тех, кого ему удастся отыскать.
За узким перешейком показался берег, крутой и рыжеватый. Христиан решил перебраться на тот берег. Увязая в холодном иле, он шел водою, пока дно не провалилось под ногами. Тогда он поплыл, устало разгребая воду.
На пути к берегу ему пришлось нырять под скопище гнилых бревен. Дно было полностью покрыто водорослями. Их молчаливое настороженное колебание приковывало к себе внимание Христиана, и он осторожно прогибался над каждым отростком водного растения.
В светлеющей расщелине между бревнами Христиан вынырнул, набрал воздуха и вновь погрузился с головой. На дне белело пятно, и при ближайшем рассмотрении взгляд Христиана столкнулся со зрелищем привязанного к столбу человеческого трупа, руки которого, окутанные рваной материей, оставались расставленными по сторонам. Лицо и тело обезображены были настолько, что представляли собой сплошное бесформенное месиво.
За морем догорал закат… Христиан лежал у воды, не в силах сдерживать приступы рвоты, накатывавшие на него один за другим. Его трясло в сильном ознобе.
…Тень, дрожащая на бревенчатой стене. К ней приблизилось несколько надутых силуэтов – все слилось воедино, размазываясь вязким пенистым слоем по бревнам. Стена с хрустом сползала, из нее торчали пальцы, пучки шерсти или волос. Огромная тень растянулась, распалась на куски. И оторвались от стены причудливые человеческие фигурки, совершая движения, самые нелепые, в пространстве тусклого свечения.
К огню, пылавшему на алтаре, тащили бьющееся в судороге тело. Другое, также полуобнаженное, покоилось на возвышении из высеченного камня. У противоположной стены скопилось множество теней. Они отрезали от туши животного куски сырого мяса и натирали им пол.
Лица всех исполнителей скрывались за капюшонами их желтых и черных одеяний. Обряд совершался в полной тишине, изредка прерываемый чьим-то нервным шепотом.
Свидетель приподнялся со своего ложа – это был Христиан, дотронулся до шершавой стены и прислонился к ней. Теперь он отчетливо расслышал треск и шипение угольев, догорающих на треножнике. Ему захотелось ледяной воды, во рту держался привкус горьких кореньев. Он оглянулся на звериные шкуры, на свою одежду, свисающую балахоном с плеч, потрогал щеки и подбородок, потемневшие от щетины. Он быстро привык к острой боли между лопатками, сдержав равновесие на ослабевших ватных ногах, двинулся к кучке людей.
Те, что склонились над лежащим телом, оглянулись. Христиан увидел в их руках острые спицы. Тело, над которым они орудовали, истекало кровью. Христиан приблизился к алтарю, на котором, в окружении венков, лежала юная женщина. Рядом стояла чаша с кровью.
«Ее уже убили. Убьют меня. Так пусть я раньше сгину, чем этот мученик».
И Христиан ринулся к кровяному месиву, рядом с которым он стоял еще мгновенье назад, и схватившись за бечевку, он рванул ее на себя. Человек-жертва закричал и вскинул руки, и застыл с мертвенно-бледным лицом на каменном полу. Длинные цепкие пальцы множества рук вонзились в тело Христиана. Он сделал решительное усилие освободиться, превозмогая боль от рвущейся собственной кожи под ногтями убийц. Его немедленно отпустили. Все бросились на колени, завизжав в диком экстазе и забормотали невнятные слова.
…В узком сумрачном проходе он опустился на холодный пол. Он страшился любого прикосновения к телу бесчувственных пальцев.
Как быстро остывало раскаленное тело. Малейшее движение приносило колкую боль. Здесь, в коридоре, сменились те запахи, что душили его прежде, и он задышал всей грудью. Покоя! Покоя и прохлады жаждала его плоть.
Невнятные фразы донеслись до его слуха:
– Мой друг, я помогу Вам. Что с Вами сотворили эти нелюди. Они дождутся своей кары. У-у-у, потерпите.
Чьи-то руки довольно нежно отрывали его от пола, и бархатный льстивый голос шуршал над ушами, и приносил извинения, и бормотал мягкие слова. Христиан тупо смотрел на маячивший в темноте фонарь, в котором тускнел оранжевый огонек.
– Клара! Прошу Вас, поскорее… Да не мешкайтесь, несите…
Ко рту Христиана поднесли чашу, наполненную до краев темной жидкостью, и он отпил почти до дна, не осознавая, почему так доверился незнакомцу.
– Клара!
Сильные мужские руки подхватили Христиана и понесли сквозь череду мелькающих комнат. Христиан различал их по оттенкам света, фрагментам отдельных частей интерьера.
Между тем, на море разыгралась непогода. Небо заволокло тучами. И порывистый дождь крупными каплями рассыпался по волнам и побережью. У привязанной лодки лежало два трупа, завернутых в белую парусину. Набегавший ветер нещадно трепал куски материи, и приоткрылись ноги у одного из трупов, на них виднелись узлы серых лент.
Вторые сутки Христиан был в бреду. Его посещал один-единственный навязчивый сон, где он спасался от ведьмы. Он несколько раз открывал глаза и видел призрак девушки, сидящей в углу. Девушка обнимала колени и немеркнущим взором глядела в его сторону, Христиан вновь закрывал глаза и проваливался в сон…
Человеку, взошедшему на плато Пальхеррен, прежде чем созерцать морской простор, пришлось бы невольно содрогнуться у края пропасти, в глубине которой шипели бурные потоки. Человеку, взошедшему на вершину Пальхеррен, на сей раз не пришлось отвлекаться – он был занят установкой мольберта.
Мастер тщательно готовился к работе, подбирая под ноги «нежные» камни, как он их называл. Его облачение выглядело странным и старомодным, особенно широкий плащ из грубой толстой ткани и сапоги с тупыми носками. Роскошная широкополая шляпа была приспущена на глаза, под ними расплывались два темных пятна, придававшие взгляду холодность и отрешенность. Из-под шляпы, почти до плеч, свисали седые пряди волос, они прикрывали уши, и от них, к печально сложенным губам, вели глубокие морщины.
Все признаки подчеркивали в своем обладателе неординарную и даже волевую натуру.
Граф Генрих фон Зольбах, наследник старинного рода, некогда знатного и процветающего, стоял и смешивал краски. Ему предстояло нанести их на холст. Граф щурил глаза, словно скрывая их от света. Он не смотрел на море, раскалывающееся о камни, он не смотрел на побережье, усеянное чайками, на прохладные снежные предгорья. Ему не хотелось смотреть никуда, кроме немых изображений, уютно притаившихся за облаками его фантазии. Граф поднялся на гору Пальхеррен, быть может, ради того, чтобы поставить ногу на ершистый осколок скалы, в направлении морских горизонтов, и запечатлеть на холсте очередную блажь своего капризного таланта.
Вдали – в размытом тумане, появлялись очертания корабля с высокой кормой. Очертания, плавно переходящие в контуры величественно-неприступного замка.
Христиан проснулся под вечер. Он встал с постели, жадными глотками выпил воды из кувшина. Вода пролилась ему на грудь. Он сжал плечи, постанывая от обострившейся боли между лопаток. До него донеслись запахи обгоревшего мяса.
Христиан закрыл ладонями лицо: щеки впали, а выросшая щетина помягчела, стала шелковистее. Все остатки воды пришлось вылить на спину, но легче не стало.
«Я в плену у масонов… Содрали мой крест – значит знают, что я христианин. Отчего тогда не убили? Кто помешал? Со спины будто содрали шкуру и после уложили в постель…»
Христиан стоял у окна и рассматривал одежду, приготовленную, по-видимому, для него.
«Комната слишком высока. Прыгать и бежать. Но куда? Значит… Значит ждать… Представлюсь хозяину. Объяснюсь. Не все потеряно. Боже! Угораздило меня.»
Дверь оказалась заперта. Христиан опустился на пол, поджав колени и памятуя о том, как наяву или во сне он увидел в углу комнаты, сидящую вот так же, юную девушку.
У него наступил озноб. Закутавшись одеялом, он рассеянно смотрел в окно. Оставалось лишь смиренно ждать кого-нибудь.
…Граф пробирался по камням, завалившим часть берега. У выпирающего отвеса скалы граф присел и принялся раскапывать тайник. Через некоторое время граф извлек оттуда небольшой сверток. Прислонившись к отвесу, граф наблюдал, как люди в серых хитонах шли по берегу с телами умерших на плечах. Морской ветер яростно трепал одежды идущих.
Ночью Христиан проснулся от далеких звуков, донесшихся до него сквозь сон. Тот тонкий голос, что ему удалось различить… Как он сильно напомнил детство и материнское: «у-лю-лю, у-лю-лю».
Прочь, наваждение! Христиан не верил своим глазам, и все смотрел в проклятый угол, и до боли тер веки, убеждая себя, что там нет никого. И читал он молитвы, запинался, пропуская слова. Незаметно голос стих, но в углу оставался силуэт девушки. Тогда Христиан отбросил одеяло, босиком прошел по комнате, туда, где была она. Поводив руками перед собой, он ничего не коснулся, и напрасно хватал воздух напряженными пальцами. Тщетными оказались его старания – призрак себя не обнаружил, призрак молчал…
Христиан осенил себя крестным знамением, прошептал слова молитвы. Он выглянул за дверь, нежданно оказавшуюся открытой. Выйти было страшно. И опять защемило в спине. Христиан прикусил язык, в молчании сдерживая приступ боли.
За окном вдруг промелькнула трепетная фигура девушки. Христиан прильнул лицом к окну, вбирая в себя накопившуюся в стеклах прохладу. Он высматривал в прилегающих к дому поляне и высоченных соснах малейшие признаки той, что вновь ускользнула от него.
Вот качнул веткой потревоженный куст, и, может, вслед за этим случится еще что-нибудь…
Христиан напрасно простоял у окна. На небе таяли звездные россыпи, и оно насыщалось синевой и уже не казалось таким отдаленным. Из причудливых ночных фигур вырисовывались очертания деревьев и кустарников. Христиан забылся в беспокойном сне. И он нашел девушку, и заключил ее в свои объятия, и прижался к ней всем телом, почувствовав обвораживающий запах крови.
Между тем Юнна, которая привиделась Христиану, безмятежно спала в своей крохотной комнатке под мягким свечением луны. На кружевах шелкового покрывала девичьей постели потухали и зажигались мизерные кристаллики серебристого света.
Граф спустился на завтрак позднее обычного. Он торопливо занял свое место во главе длинного дубового стола, и как всегда, на левую половину его лица упала струйка света. Напротив графа сидела девушка. В романтичном платье с закрытой шеей, она смотрелась неотразимо. Это была Юнна. Девушка имела обыкновение, по утрам, одеваться нарядно и несколько вычурно. Но, как ни странно, ее грациозная фигура, изысканные манеры и живой, проникновенный взгляд соответствовали утреннему стилю одежды.
При входе в залу стояли два охранника. У деревянного панно со сценами охоты величественно восседал черный дог и внимательно следил за жестами хозяев.
– Юнна, – нарушил молчание граф. – Гранатовое вино просто влюбилось в Вас. Вы отведали его, и вино приобрело превосходный вкус.
Как обворожительно она рассматривала графа! Не замечая его слов и интонаций. Она подносила к губам серебряный кубок с вином, затем опускала и подносила снова. Ее розовое платье при свечении, проникающем сквозь мозаичные стекла, переливалось радужными оттенками света.
Граф оживился от собственных фраз, морщины его лица разгладились, но взгляд глубоко сидящих глаз оставался все тем же холодным и отрешенным.
– Моя прекрасная Юнна, каждая встреча с Вами для меня событие и знак надежды. Я неустанно готов повторять: – Вы и Ваша сестра, вы так похожи… Я любил ее, – граф смутился, потупив взгляд, но продолжал, – простите мои капризы. Я вдохновляюсь Вами. Вот и сегодня, едва забрезжил рассвет, я созерцал Ваш образ среди диких зарослей шиповника. На Вас я приметил дырявую шкуру пантеры. Вы забыли одеться перед тем, как присниться мне…
– Граф…
– Я сожалею, наш гость не сможет позавтракать с нами. Он недостаточно здоров и может к вечеру поправится. К нему приставлена служанка, она мне сообщает все его пожелания. Смею верить, он будет Вами очарован. Не спешите с ответом… Мне его не дождаться. Вы промолчите.
После возникшей неловкой паузы Юнна заговорила:
– А мне приснилась апельсиновая роща. Ее залило море. Затем посыпался снег большими хлопьями. Над сугробами порхали бабочки, голубые и розовые.
В комнату бесшумно проследовал мальчик. Высокий и сутулый, с выпирающими вперед плечами, бледностью на лице, он будто вышел с того света. Граф прекратил свой очередной монолог и пригласил мальчика за стол. Мозаичный свет раскрасил одежду мальчика, разорванную и висевшую на нем лохмотьями. Мальчик отвлеченно поводил пальцами по щекам и произнес гортанным голосом:
– Я гулял под звездами, одна из них упала… Я искал и не нашел…
Юнна отвернулась от брата и с обожанием взглянула на графа.
– Гюстав! Гюстав! – позвал граф мальчика. – Как много звезд ты встретил в эту ночь? У? Наш усердный звездочет… Да не стесняйся. Садись и ешь свои любимые баклажаны. Прожарены по твоему вкусу.
Христиан проснулся под вечер. Ему захотелось поскорее покинуть свое обиталище, но попытка выбить дверь ни к чему не привели.
Связка из простынных полос зависла высоко над землей в узком оконном проеме. Еще Христиан опасался, что кто-то услышал звон разбитого стекла. Провозившись у окна и, в конце концов, привязав свое изобретение к ножке стола, он заметил, что комнату наполнили сумерки. Прыгать он не решился – слишком неизвестен ему был тот путь, по которому он собирался спастись.
Тем временем, за окружающими стенами, все явственнее слышались шорохи и далекие, едва уловимые, завывания. Христиан потянул на себя кровать, но тщетно. Он подлез снизу и усилием плеч оторвал кровать от пола, и сдвинул ее в сторону входа. Свинцовая всеохватывающая тяжесть внезапно навалилась на его утомленное тело. Он сжал со скрежетом зубы, отекшая рука безжизненно повисла на колене.
С внешней стороны давление на дверь усилилось, она прогибалась как древесная сырая кора. Христиан спрятал в ладонях лицо, и так он сидел неподвижно еще долгое время. На его спине обнажился рисунок перевернутой звезды, два неровных отростка которой заползли на лопатки.
Звонкие мелодии клавесина безмятежно и трепетно проливались по комнатам. Многочисленные двери были раскрыты, и пламя свечей в канделябрах сиюминутно колыхалось от невидимых дуновений.
В последнее время музыка все реже посещала этот дом. Играть умела только Юнна. Она садилась за инструмент долго приготовляясь, поправляя завязки на платье, оглядываясь на окружающие предметы. Ее тонкие растопыренные пальцы будто завязли в воздухе как в вате, перед тем как она легко извлекла их оттуда и притронулась к клавишам.
Чей-то сосредоточенный взгляд остановился на туфельке, повисшей на ноге девушки, заскользил по блестевшему полу, вдоль тонкой тени, повис на широкой бархатной ленте, свисавшей с миниатюрного столика. Луговые цветы, ваза с переспевшими фруктами и теплые оттенки света на стенах, вот все, что создавало комнатный уют и неосознаваемое очарование происходящего. Меж тем за дверью, куда заглянула Юнна, никого не оказалось.
…Христиан в который уже раз пытался закричать, но не мог собраться с духом. А за окном висело безжизненное тело, но Христиан неустанно твердил себе о наваждении. Висящее тело, завернутое в белые простыни, оставалось там же, где появилось, и с наступлением сумерек оно не исчезло. Христиан вплотную подошел к окну. Прикоснуться он не решился. Под мощным напором снаружи, на петлях, пошатнулась дверь. Христиан в ужасе прокричал проклятия, он сжал кулаки, готовясь к смерти. Случайно захрустело под ногами распятие Христа. Оно распалось на осколки. Дверь приоткрылась. Христиан, успевший опуститься на колени, вскочил, прижался к стене – столь неожиданным и мерзким оказалось существо, представшее перед ним. То был его двойник, с вытянутыми вперед дрожащими кистями рук, и прижатыми к животу локтями. Призрак совершал резкие хаотичные движения головой, глаза были открыты до предела и едва не вываливались из глазниц, изо рта торчал клок волос. Все остальное прикрывал черный балахон. Христиан лицезрел собственный фантом, обезображенный и ослепший.
Предательски скрипел под ногами пол. Христиан сдвинулся в угол, остановился и прижался затылком к стене. Он пытался смириться со своим бессилием. Он повернулся к призраку спиной… Сколько прошло времени Христиан не знал – комната была пуста, дверь распахнута, а он сам лежал у стены. Христиан также не знал, случилась ли с ним галлюцинация или… Или! Он начинал понимать, что любые его догадки лишь запутывают его еще больше. Как будто мокрые пятна оставались на полу, у косяка валялся клок шерсти. Христиан поддел его носком сапога. Он, крадучись, вышел из своего заточения. В ближайшей комнате, с роскошным убранством, он заглянул под занавес и юркнул в дверь, едва выделявшуюся в стене. Через комнату перебежала жирная крыса, с бантом на хвосте.
Предрассветный лес затаился. Христиан семенил тяжелыми шагами. Лениво шуршала сонная трава. Не поворачивая головы, он озирался по сторонам. Его дыхание сопровождалось хриплыми грудными звуками. «Труп над окном… и труп, входящий в двери – не могло такого быть. Я устал. Я выдохся, но в здравом уме. Меня истязали там, где я пришел в сознание. Что сотворили со мной неизвестно. Некому показать спину, она ноет нестерпимо…»
Синел притаившийся лес. Намокшая трава липла и обволакивала сапоги. Пальцам в сапогах было тесно. Пришлось избавиться от обуви и идти босиком. Тело почувствовало прохладу, по рукам пробежала дрожь. Христиан закатал до колен намокшие от росы подштанники. Наконец, он простер руки в стороны, поверив в свое избавление. Ему показалось, что вся его кожа насыщается этим ароматом утренних трав, этой свежестью. Он умывался росой, слизывая ее языком с потрескавшихся губ. Он катался, как неуклюжий медведь в густых, буйных зарослях, хрустящих от обильного сока. В глазах поплыли розовые, сиреневые, бирюзовые, малиновые шарики, они вкатывались в одно, разраставшееся пятно, через прозрачную ткань которого Христиану открылась чудная картина. В подвенечном розоватом платье шла девушка. За ней высокий тощий пес и мальчик с сутулой фигурой. Лица были трудно различимы, но так непринужденно и легко, так отрешенно они шествовали неизвестно куда, что Христиану захотелось прыгать вокруг них с восторженными криками, беситься, кувыркаться, играть на свирели, строить гримасы хоть самому дьяволу. Христиан, не переставая наблюдать, отползал к кустам.
Под розовыми цветками кизильника появилась заячья морда, затем показался зверек во весь рост, постоял на задних лапах и скрылся из виду.
У моря Христиан принялся передвигать крупные камни, нагромождать их один на другой – хотелось согреться, но ночное белье не сдерживало тепла. Утомившись, Христиан сидел, обняв колени, и всматривался в очертания далекого уплывающего замка.
Вернувшись в дом, Христиан никого не встретил. Он на цыпочках поднялся по лестнице, ведущей в верхние комнаты, но в свою заходить не стал. Неловко переминаясь с ноги на ногу, он окрикнул старуху, но та не отозвалась. Он пошел за ней, на ходу приглаживая вихрастые волосы и вдруг потерял из вида. В суете он опрокинул выстроенные в ряд глиняные горшки.
«Убранство как у масонов – нет ни распятий, ни икон.» Христиан случайно столкнулся с молоденькой служанкой веселого нрава и привлекательной внешности. Ее звали Гертруда.
Они сидели вдвоем за фасадом дома, среди клевера и ромашек. Солнце ярко светило, легкий ветерок изредка набегал. Гертруда кормила Христиана, поднося на ладонях хлеб и сыр к его губам. Она с восхищением следила за его жадными глазами. При каждой его оплошности девушка задорно смеялась. Она вдруг решила угощать его прямо из своего маленького ротика. Христиан, не мешкая, откликнулся на это предложение. В разговоре Христиан выяснил, что граф, хозяин дома всецело поглощен писанием своих картин. Это длится обычно по несколько дней. Жизнь в доме замирает. Слуги выполняют домашние обязанности. Юнна и Гюстав, брат и сестра пропавшей графской жены, заняты садом, лесом и морем. Там они проводят свое время.
Гертруда отыскала Христиану старый камзол с блестками и вышитыми узорами. Порывшись в сундуке еще, они извлекла оттуда сиреневые шелковые панталоны. Христиан впервые улыбнулся за время своего пребывания на острове. Да, это оказался остров, Гертруде незачем было лукавить. Громкий голос окликнул ее. В дверях стоял чернобородый гигант. Властно взявшись широкой ладонью за кольцо в двери, он в упор смотрел на девушку. Гертруда виновато опустила глаза и прошептала: «охранник графа». Она успела взглянуть на Христиана и от него не ускользнула просьба ее глаз оставаться перед охранником смиренным и покорным. Христиан наклонился вперед и пошел к выходу, поравнявшись с охранником, он с разворота ударил последнего кулаком в лицо. Столь неожиданным и дерзким оказался выпад Христиана, что гигант свалился с ног. Не мешкая ни секунды, Христиан склонился над лежащим и ловкими ударами в живот сбил его дыхание. С сожалением Христиан обнаружил, что охранник не вооружен и значит он, как победитель – без трофеев. Без единого звука Христиан бросился к Гертруде, зажав ее рот, он выволок девушку из комнаты, принялся трясти ее за плечи и вопрошал:
– Кто твои хозяева? Кто они?! За что мучили людей? Вчера или позавчера. Не помню. Быстрее! Отвечай! Отвечай же!
Гертруда преданно смотрела на Христиана и ревела.
– Ночью я видел оборотня. Ты – ты знаешь на кого он походил? На меня. Со мной в жизни не случалось такого. Я не знал отца никогда, я рано лишился матери. Я испытал страх и ужас, но раскаялся за грехи свои и сомнения. Господь хранит меня, и никто… слышишь, никто не своротит меня с праведной дороги. Меня не запугает здесь никто, пусть он хоть дьяволом обернется.
Носком ноги Христиан подпирал дверь, в которую бился охранник. Немного выговорившись, Христиан разжал свои пальцы на плечах девушки, она перестала плакать и, раскрыв свой ротик, так и смотрела на Христиана.
– Добрые люди здесь живут, добрый человек… Граф… Родственники жены… его… Гюстав и Юнна… еще прислуга…
– А его жена?
– Жена пропала, – снова захныкала Гертруда. – С ней в последнее время творилось что-то неладное… Но Юнна похожа на свою сестру, как две капли воды. Мне кажется Юнна сможет заменить ее, жену, для графа. И граф любит ее также.
Христиан уходил по бордовому коридору, облаченный в новый наряд, выданный ему Гертрудой. Вослед ему смотрел охранник, сжимавший в ярости кулаки. Не оборачиваясь, Христиан проговорил:
– Так он собирается жениться на Юнне. Сегодня вечером моя постель, да и я сам, будут ждать тебя.
При знакомстве граф без лишних церемоний протянул руку Христиану. Хозяин дома принес свои извинения за те неудобства, которые гость, должно быть, испытал, оказавшись в столь необычной обстановке.
– Покойно ли Вы отдыхали? – интересовался граф.
– Покойно, – отвечал гость.
В продолжении беседы граф так и не обмолвился о своем грозном охраннике, угодившем в столь щекотливое положение.
Христиану это льстило. Он почувствовал себя на высоте, и немедля затронул тему своего возвращения на материк. Граф охотно рассказал о судне, которое непременно, в ясную погоду, доставит Христиана до места. Но судно не придет, пока управляющий не раздобудет холсты, заказанные графом. Поэтому граф пользуется случаем и приглашает Христиана погостить хоть самую малость. Граф уверил гостя в том, что свое время здесь он проведет не бесполезно.
«Каким ветром меня занесло в эти края?» – задался в очередной раз назойливым вопросом Христиан, уставившись тупо на пса.
Со слов графа оказалось, что пытки, так поразившие воображение Христиана, были лишь закаливанием воли и жизнелюбия у графских слуг. Христиана туда занесли но причине его беспамятства. Там его и подлечили, о чем он пока не догадывался. Незаметно граф пустился в рассуждения о радости и, главное, вдохновении, охватившем его в связи с пребыванием здесь нежданного гостя. Христиан обратил внимание на манеры графа, изысканные и доброжелательные. Собеседник был разборчив и в меру сентиментален. Оставалось неясным, причастен ли граф к ночным ужасам в доме. «Не настолько же он глуп, чтобы не догадываться о таких вещах. Скорее притворяется и проверяет гостя. Да-да, он меня прощупывает. Он любитель острых ощущений, как и я.»
Граф предложил Христиану переодеться в новый белый костюм, сапоги и кепка пришлись как нельзя кстати. Христиан уже успел почувствовать повышенную влажность и несносные порывистые ветры на этом острове. Граф расщедрился и подарил Христиану бритвенный прибор и миниатюрный флакончик с маслом из бальзамина.
Стояла тишина. Над морем навис туман. Легкий плеск волн будто усиливал беззвучие. В тумане появлялись начальные контуры замка, и таяли, и появлялись вновь. Наконец, мокрый нос шхуны выполз из помутневших паров, а за ним и вся шхуна. Зашевелились черные застывшие плащи, и на берег, растаптывая волны, вышло трое людей. Поблизости от них белая простынь зацепилась за кол, торчащий из песка. Сюда они стали переносить корзины, укрытые парусиной.
Под вечер гостеприимный хозяин повел Христиана в свою мастерскую. От прежней внешности Христиана остались лишь непослушные вьющиеся волосы, да и те были аккуратно уложены.
– Взгляните, Христиан. Натуральная пурпуровая зала, – граф чопорно, не без видимого восхищения сбрасывал с картин покрывала.
– Творений моих кладбище, – проговорил он как-то грустно.
И граф зажигал свечи, и изображения на картинах светились яркими красками. Граф стал похож на чародея, из-под взмаха руки которого все вокруг наполнялось жизнью. Сюжеты мистики на многочисленных полотнах граф попытался объяснить, но объяснения не получалось.
– Здесь слепки немой музыки… – пояснял граф.
– Но…
– Духи, странствующие духи витают под немую музыку, – от удавшейся, наконец, фразы граф невольно улыбнулся и отвернул голову в стеснении. – А на этом полотне от Вас не ускользнет греховно-красный, рубиновый цвет, затмивший пастельные тона дальнего плана… Здесь, у пространства, я одолжил скромный кусок для изображения жертвенного крика. А звезды! Взгляните, Христиан, как горсть изумрудов, едва не высыпаются из мизерного фрагмента ночи, едва удерживаются…
Христиан приоткрыл завесу. Пахнуло пылью. Картину пришлось протереть. Она была написана в синевато-фосфоресцирующих тонах.
В каменной нише – серый череп, с редкими засохшими ошметками кожи. Над черепом склонилась изящная головка девушки. Она благоговейно смотрит на пламя свечи у черепа, и робко высунула язычок. На ней просторное одеяние, такое же, что и на привидевшейся Христиану девушке в лесу. Картинный образ, бесспорно несущий свой сокровенный смысл, увлек Христиана, который теперь безотрывно смотрел и не мог оторваться от таинственной девичьей улыбки. Из уха девушки струилась темная жидкость, и наполнялась капля, повисшая на ее тонком подбородке.
Христиан задернул занавес.
– Прошу покорно меня простить, но девушку, изображенную на картине, зовут Юнна. Вы ее так себе представляете?
– А Вы?
– Позвольте…
– Перед Вами не Юнна, мой милый гость.
– А кто же?
– Ее сестра.
– Но почему она не среди благородного пейзажа… В лесу, у моря, в…
– Остановитесь. Вам скоро станет многое понятно. Христиан рассматривал уже другие холсты.
Во множестве картин мне чудится запах мертвечины. Я не знаток живописи, но… всякую ничтожность доводить до совершенства. Граф с затаенной грустью наблюдал за Христианом, крепко сцепив пальцы перед собой. Вдруг, после длительной паузы раздался его голос.
– Я подчинен одному глубокому замыслу, беспощадному для тварей земных, но посвященному небесному духу. Наша жизнь чудовищно скучна, однообразна. Что может вызволить из нее? Смерть… Да. Банально. Но смерть. Почему бы не заняться ею еще при жизни? А? Каждый человеческий жест у меня обретает свой символ, пусть ужасный, но вечный. Мерзости я нарисую крылья ангела, и все бросятся молиться ему, ангелу, закрывая глаза на то, из чего же он явился, из какого тлена воспарил. Людской мир, погрязший в безумствах, не оценит моего порыва. Но там! Он нужен мертвым, лишь они ценители искусства. Я хочу разговаривать с мертвыми. Их дух не подвержен жизненной суете и дрязгам, и слезам… Мой дух мертв. Он исчез для всех, ему стало тесно в гробу, называемой жизнью.
Так неожиданно патетично прозвучали слова, сказанные графом, что Христиан был несколько ошарашен и не знал, как продолжать этот разговор.
– Кстати, с Вашим появлением, Христиан, возобновились стоны любви. Выбирается из преисподней затаившийся дьявол. Ну-ну, я шучу, – граф улыбнулся и заглянул Христиану в глаза, будто выискивая там соринку. – Он, наконец, сможет целоваться кровью. Вам бы поберечься. А?!
– Вы бредите, граф.
– А далекий чертог. Разве не чудится он Вам?
– Где?
– В морском тумане. И запеленутые души умерших. Их уносят слуги к сатанинскому алтарю, а после служат мессы.
Христиан припомнил виденный им накануне мираж замка.
– Вы говорите… – промолвил Христиан.
– Прошу великодушно Вашего прощения, – перебил его граф. – Я должен заняться неотложными делами.
– Да, а как зовут Вашего пса? Я несколько раз столкнулся с ним…
– О-о! Пес не имеет имени. Он отзывается на взгляд. Слов не признает. Я провожу Вас наверх, а то заблудитесь в потемках. И пожалуйста, внимательно смотрите под ноги – здесь полно крыс.
…Они вышли на берег. Передвигаться было тяжело. Намокшие плащи, высокие сапоги, перегруженные корзины, и, наконец, неимоверная усталость после длительного пребывания в море.
Шхуну затащили подальше к прибрежным зарослям, накрыли ветками папоротника. Захватив корзину с небольшой частью улова, рыбаки углубились в лес…
– Руди! Руди!
– Не отставай, Стефан.
– Мне почудилось – за мной… женщина стояла.
– Что ты плетешь? Стефан? О девках будешь думать, когда вернемся домой.
Стефан шел последним по тропе и непрестанно озирался по сторонам. Разумом он понимал, что незачем их преследовать какой-то женщине, но зрение его никогда не подводило.
– Ну вот. Теперь он совсем отстал. – Руди оглянулся назад и остановился, ожидая друга. – Франц! Погоди-ка, умерь шаг.
– Ты не знаешь Стефана? Догонит.
– Да постой же, Франц. Мы в чужом лесу. Лучше держаться ближе друг к другу.
Начинало смеркаться. Рыбаки присели закурить. Стефана все не было. Руди встревожился не на шутку и уже собрался было идти на поиски, как на повороте появился Стефан. Ни о чем не переговариваясь, рыбаки двинулись в путь.
Стефан опять шел последним, едва поспевая за друзьями. Он стеснялся попроситься вперед. Наконец, схитрил:
– Руди! Меня так и тянет свернуть еще разок, да поискать тут девок.
– Ты спятил! Стефан. Чего тебе неймется?
– Пусти. Пойду в середине, чтоб черт не баламутил.
Трещали дрова в запылавшем костре. На лицах рыбаков играли озорные блики пламени. В котле закипала вода. Лишь вопль ночной птицы, долетавший откуда-то издалека, нарушал покой рыбаков.
– О-ёй! – вдруг скривился толстяк Франц.
– Ты что, толстяк, червя проглотил? – поинтересовался Руди.
Тут они оба расхохотались громко. Не угадав причину нежданного веселья своих компаньонов, Стефан кисло улыбнулся, тем раззадорив смеющихся еще больше. Оказалось, на его голову села бабочка. Стефан смущенно засуетился. Утеревшись грязным рукавом, он оставил след сажи на щеке, чем вызвал очередной взрыв хохота насмешников.
После сытного ужина Руди поднялся за хворостом. Его остановил Стефан, который собирался отойти – облегчить свой живот. Довольный Руди скинул сапог Развалившись, как ленивый кот, у розовых углей, отдающих жаром, он с умилением почесал грудь.
…В кромешной тьме Стефан на ощупь подбирал сухие ветки. Он отличал их от сырых по характерному треску. Со стороны костра послышалась песня – это был знак, служивший безошибочным ориентиром при возвращении Стефана. Он улыбнулся, промурлыкав себе под нос слова любимой песни и продолжал поиски дров.
– Опять Стефан застрял в лесу. Его за смертью посылать, – проворчал толстяк Франц.
В ответ зашуршали листья, и показалось лицо Руди, готовившего место для ночлега.
– Дружище, если ты надумал выпить вина – так и скажи. Придет Стефан – присоединится, он не станет серчать, что пьем без него, поверь моему слову Проще мне высидеть на углях, чем ему заблудиться. Не ворчи попусту. Ладно?
Стефан уже возвращался, когда песня стихла. Затаив дыхание, как завороженный, он прислушался к шорохам ночного леса, тяжелая ноша за плечами будто полегчала. Неведомая сердцу тревога посетила его. Ноги, упругие и гибкие как прутья ивы, запутывались в ползучих травах. Стефан изготовился бежать, пригнулся, рванул вперед, но безуспешно – легкость тела оказалась обманчива. Он сбросил дрова, расправил плечи. Два-три шага, и ноги онемели. Затылком он почувствовал притяжение чужого существа. Оглядываться было страшно и, скорее, опасно. Стефан потерял дорогу обратно, и мысли его скопились вокруг одного: как уберечься от навязчивого кошмара. Стефан так и стоял растерянный, не в состоянии что-либо предпринять. Покрытое черным саваном, безмолвное существо нарочито медленно удалялось от Стефана.
Сквозь сон Юнне послышался одинокий крик со стороны леса. Через некоторое время крик повторился. Это скорее был зов. От постели к двери вели девичьи следы босых ног. Юнна подошла к окну, сжимая в страхе края ночной рубашки.
Услышанный голос не принадлежал никому из домашних. Кто-то чужой бродил по владениям графа. Юнну бросило в дрожь. Она укуталась в одеяло, затем подскочила к двери, заскрипела ключом в замке, отворила и позвала служанку. Та немедленно явилась, с заспанным лицом и взлохмаченными волосами.
– Гертруда, может, граф еще не уходил в спальню… Вот… Передай ему. В лесу кричали. Ты разве сама не слышала? Не слышала?! – Юнна не без удивления взглянула на Гертруду и продолжала. – Пусть граф поднимет слуг. Так нельзя оставлять. Пусть зажгут факелы. Сходи… Постой! И сразу возвращайся ко мне – я жду тебя.
Гертруда вынесла плед, укрыла им напуганную хозяйку и удалилась.
Юнна так и оставалась стоять в коридоре, пока не вернулась служанка.
– Я стучала, госпожа, в его покои, еще опускалась в мастерскую. Граф не отзывается. Я через дверь ему передала, что Вы велели.
– Да где же он? – спросила Юнна, отрешенно глядя перед собой.
– Не беспокойтесь, госпожа, я крикнула Янека. Он будет стоять под Вашей дверью, до утра.
– Да, еще. Передай Янеку, чтобы присмотрел за дверьми комнаты нашего гостя. Его никто не должен тревожить. А ты пробудешь со мной, пока не начнет светать.
Гертруда прикусила губки. Ее ночное посещение Христиана откладывалось.
Из последних сил Стефан ступал ногами по вязкой почве. Мучимый своим наваждением он все шел и шел, не ведая куда. Стучала кровь в висках, и вдруг она излилась горячей струей по телу, и обожгла спину.
– Смерть моя? – Стефан вопрошал. – За что наказание? Погибель такая.
Стефан отчетливо представил себя мертвым и истерзанным и не страшился он этой мысли.
Черный тонкий силуэт скользнул поблизости. Мертвенно-бледная личина предстала глазам Стефана. Он схватился руками за голову и судорожно раскрывал рот, как рыба, выброшенная на берег. Спазмы сдавили горло.
Ему дано было еще раз ощутить свою связь с этим миром. Он очнулся, когда хлюпающие звуки, совсем рядом, донеслись до него. Он узрел сатану, и он услышал, как выплескивается кровь из его чрева. Разжались пальцы в мучительном жесте и задрожали как жабры. Стефан напряг ноги, отталкиваясь от земли, перевернулся, стал на колени, но в голове помутилось, и он упал на бок, сберегая живот.
Резкий обрыв, и Стефан, ослабевший от кровоточащих ран, рухнул с него, разрывая одежду.
Он хрипло, надрывно дышал, дышал взахлеб – спазмы отпустили. Лишь пена скапливалась на губах. Он успел рассмотреть звездное небо сквозь торчащие верхушки елей. В то мгновение он собрался с силами выбраться из под обрыва. Он услышал запах земли и потянулся всем телом. Как страстно он рвался к спасению! Насмешница-жизнь отталкивала его от себя. И вдруг, в судорожной предсмертной паузе, когда остановились, утихли все звуки – из отдаленных лесных глубин просочилась рыбацкая песня. Но было поздно. Стефана уже не стало. Его глаза улыбались звездам, тем самым, по которым он всегда определял дорогу домой и возвращался.
…Руди зацепился сапогом за корягу и, выворачивая ногу, порвал плащ. Чертыхаясь, он двинулся дальше, прошел мимо растерзанного трупа, всматриваясь сосредоточенно в темные причудливые силуэты под звездным небом. У колючего барбариса он сделал последнюю передышку, прокричал на всякий случай имя Стефана и, не дождавшись ни единого отзвука, отправился к костру.
Он медленно возвращался, стегая кнутом по травяной гуще, оглядываясь на вспорхнувшую птицу, тучную, сонную. Тяжело похлопав крыльями, птица растаяла во мраке. Он заметил корягу, об которую чуть не свернул себе шею, порыскал вокруг в поисках оторванного клочка плащевой ткани. Но бесполезно – клочок будто провалился сквозь землю.
Затухающий костер. Франц не подбрасывает дрова. Он сидит, смиренно обняв корзину, накрывшись с головой черной накидкой. Руди знает, как его разбудить, да еще напугать до смерти. Руди подкрадется сзади и заорет, что есть мочи в ухо толстяку. Вот будет потеха. Толстяк зафыркает, отдуваясь от сна, захлопает глазами. А Стефан? Бедняга Стефан. Куда его черти понесли? Верно, забрел на огонек к доброй хозяйке и заночевал, оставив своих друзей мерзнуть в холодном лесу.
Руди ухмыльнулся сам себе. Ах Стефан! Тебе всегда удавалось схватить удачу, да не за хвост, а целиком. Руди встал за спиной Франца. Тот не шелохнулся. Руди разгреб сапогом землю и встал вплотную. Он крикнул в ухо толстяку. Да так звонко, что будто вздрогнул, зашевелился лес. А Франц все сидел, недвижим и непричастен ни к чему.
Ночь. Мерцающая луна. На скованных мраком деревьях под резким порывом ветра прошелестела листва. Живое неровное дыхание слышалось в комнате после того, как шелест утих. Юнна безмятежно спала. Глубоко погрузились в сон ее вьющиеся волосы. Белые простыни застыли и сделались похожими на мраморные изваяния. Под лунным светом зашевелилась медлительная тень, и пламя догорающих свечей затрепыхалось и едва не погасло.
Христиану не спалось в эту ночь, и он делал записи в своем новом дневнике. Он наслаждался скрежетом пера по желтоватым листам, но больше всего его согревала мысль о веселой служанке. Вот-вот она постучит в дверь и смущенно и стыдливо опустит глаза, когда он ей откроет. Он тревожно прислушивается к тишине и слышит медленно ползущее время.
…На зеленой скатерти толстая книга в старинном переплете. Книга раскрыта. Ее хрупкие шуршащие страницы все медленнее накрывают одна другую. Каждый лист, разворачиваясь от страницы к странице, создает колебания сумерек, плывущих по пространству комнаты. Христиан склонился над столом, прижавшись плотно щекой к листу. Открытые его глаза, безразличные ко всему окружающему, будто смотрели внутрь себя. По листу, тонкой струйкой, поползла кровь и закапала на пол, образуя лужицу молочного цвета. Христиан вздрагивает, рука тянется к полу, дрожащие пальцы касаются напольных досок. Он ищет перо, упавшее под стол.
Не снимая одежды, он укрывается одеялом, пряча лицо между подушками.
…Затекающими водой, полуразрушенными проходами подземелья Христиан спасается от своего преследователя. Под ногами вязкая топкая земля, лужи, отражающие случайные блики мерцающего света. В ближайшей расщелине промелькнуло лицо того, кто вот-вот настигнет Христиана и растерзает его, как загнанного зверя. Христиан мечется в плену мокрых стен, чернеющих дыр и ярких картин, наставленных всюду. Картины морщатся и сворачиваются кусками мяса. Преследователь с лицом утопленника, застрявшего у берега, подобрался ближе, но попыток напасть на Христина не делает. Христиан рвется наверх, ноги проваливаются в расщелину, наполненную водой… Он рухнул в изнеможении на пол своей комнаты, прижимая, запирая дверь, а подводный мертвец стоял рядом.
Христиан проснулся, с его лица струился пот, легкие с трудом справлялись с застоявшимся воздухом. Было душно и смрадно, как после большого числа людей. Прошедший сон навеял мысль об одном странном совпадении: морской утопленник и призрак, явившийся в первую ночь, имели некоторое сходство с Христианом.
Ночь – хранительница кошмаров, уступала свое место рассвету. В этой ночи остались навсегда Стефан и толстяк Франц. Лишь побелевшая под изморозью трава свидетельствовала об ушедшей ночи.
Руди брел тихой тенью по широкой поляне. В остывающей памяти вспыхивали и угасали фрагменты его брожения по лесу и возвращения к костру:
…медленно колышется трава таволга. Руди обходит заросли шиповника и, заметив спящего Франца, цепляет ладонью макушку кустарника, и кричит, и подкрадывается, и смахивает накидку с Франца… Там, под накидкой, кровяное месиво. Руди медленно, но огромными шагами отходит от кострища, не в силах осознать то, что он видел. Кому понадобилось такое злодейское убийство. Спасся ли Стефан? Где он?
Старый дом. Руди стучал все громче – никто не отзывался. Он впал в отчаяние. Он позабыл, где лодка, и один он не выберется на ней. Он слишком много пережил этой ночью, чтобы сдерживать присутствие духа. Который раз он проходил под стенами, когда обнаружил свежий след ботинок.
– Стефан! Это след Стефана… Где ж тебя носит?
В траве след терялся. Но Руди уже был уверен, что скоро отыщет Стефана.
Руди хорошо помнил, как пристрастен Стефан к ношению на обуви разных набивок. На каменном полу сапоги Стефана обычно так звенели, что люди, которым случалось оказаться рядом в ту минуту, поднимали глаза вверх, ожидая увидеть колокольчик. Подковка, вдруг оторвавшаяся от подошвы Стефана, вызывала в нем порыв досады. Как он сетовал на нерадивого сапожника! Какие слова он выискивал, чтобы окрестить виновника ими раз и навсегда!
Руди встал на четвереньки и рассмотрел все вмятины на земле. Ничто так и не подсказало ему – были ли на подошвах подковки. Но Руди очень хотел верить, что прошел здесь Стефан. Стефан, и никто другой.
– Стефан! Стефан! Стефан! – прокричал Руди.
Руди вновь принялся тарабанить в дверь. В доме послышалось шевеление, наконец, заскрежетали замки и засовы. В дверях стоял высокий человек, который тут же молча удалился в глубину дома. Руди последовал за ним, и, удивляясь торопливости этого человека, затараторил:
– А Стефан, Стефан то где? Здесь? А? Да спит у Вас… Где ж ему быть… Добрая, видно, хозяйка? Лодки – селедки… О! А ты… Э-э-э. Куда ты? Да куда подевали моего обормота?
Руди оказался один в зале… Человек просто пропал за ширмой. «Глухой, наверное.» Прикинул Руди объяснение такой странности.
Христиан завел Гертруду под лестницу. Хоть одна в доме родственная душа, думал он. В ее глазах затаился невостребованный восторг. Христиан ей пришелся по нраву. Как ей захотелось прикосновения его крепких мускулов, жестких шершавых ладоней.
Он приблизил ее к себе резко. Она поддалась, безнадежно опуская руки. В углу дремал Руди. Ни Христиан, ни Гертруда не заметили его.
Снаряжение был подготовлено: пара лопат, кирка, топор, моток веревки. Христиан собирался помочь Руди похоронить друга и подготовить лодку к отплытию. Сочувствуя в душе своей Руди, Христиан не мог не радоваться столь удачно подвернувшемуся случаю бежать с острова. Возвращаться после погребения они не собирались и потому Христиан поцеловал Гертруду, всем видом показывая, что он не прощается с ней. По-прежнему оставалась загадкой пропажа Стефана. Не было сомнений – это он подходил к дому и вернулся в лес. Руди спешил с ним на встречу.
Христиана остановила служанка графа и передала приглашение Юнны подняться к ней в комнату. Христиан заколебался, не зная, что ответить.
– Господин хочет поговорить с госпожой позже? – спрашивала служанка.
Из дома послышалась музыка, играли на клавесине. Скрипнула одна из оконных створок. В окне показалась Юнна. Ее было видно по пояс.
– Христиан! – крикнула она. – Я Вас прошу немедленно ко мне явиться. Что у Вас в руках? Копать землю – дело слуг, а не господ. Вы… – Она вдруг смутилась. – Мне хочется поговорить с Вами.
Руди подошел к Христиану и попросил его остаться. Встретиться они решили позже, на берегу. Руди поднял на плечо инструменты и отправился в путь.
Через какое-то время, в отдалении, еще видна была его фигура. И Христиан, подошедший к окну, провожал его взглядом. И во взгляде этом была тоска.
Служанка носила к погребам горшки, когда Христиан вышел от Юнны. Из разговора с ней он не понял ничего, он не знал, зачем она его звала.
Руди не поверил своим глазам. Но впереди качнулись ветви и мелькнула фигура мужчины. Руди притаился, подождал – никаких новых примет идущего человека не появилось. Руди обшарил близлежащие кусты и снова показались очертания знакомой фигуры. Будто Стефан стоял отвернувшись. Руди попятился назад, страх обуял его. Нет, не Стефан был перед ним. Зачем такому подвижному, суетливому Стефану стоять здесь, в лесу? Он наверняка, со слезами на глазах роет могилу Францу
– Дружище! А! А я тебя не узнаю… – пробормотал Руди, оказавшись за спиной Стефана. – И молчит! И не оборачивается! А! Да ты слышишь? Не смотри так. Стефан!
Руди повел Стефана, удерживая его за рукав.
С кострища стлался легкий дымок. Но Франца не оказалось на месте, его труп исчез. Руди внимательно осмотрел местность, разгреб тлеющие угли, стал топтать их сапогом и выкрикивать ничего не значащие слова. Стефан безучастно наблюдал за Руди.
Руди вдруг вспомнил о Стефане и подозрительно посмотрел на него.
– Ты приходил? Ты приходил! – Руди сорвал голос, слова выползали с хриплым шумом, обрывисто, почти полушепотом.
Руди не увидел, как Стефан занес над его головой лопату, и лишь случайный наклон головы спас его от верной гибели. В ярости искривилось лицо Стефана, лопата выпала из его рук, и он этого не заметил, как не заметил бросившегося в траву Руди.
Руди шагнул раз, другой. Правую ногу пронзила острая боль. Руди остановился. Ухватившись за тонкий ствол дерева, он оторвал ногу от земли, пошевелил носком, но облегчения не наступило.
Скрипели от ветра верхушки вязов. С наступлением темноты усилился ветер, и теперь он неистово раскачивал и тряс ветки, листья, высокую траву Руди хромал на поврежденную ногу, опираясь на выломанный кол. Неподалеку, вытаращив глаза, бродил безумный Стефан. Руди увидел могильные камни и обессиленный опустился на землю.
Непогода сохранилась и утром. Густые клочья туч перепутались, скомкались и не предвещали ни малейшего просвета. Склонив голову под сильным ветром, Юнна отвязывала лодку. Ее платье, промокшее насквозь, сковало движения, и она распорола платье ножом от самых колен до бедер.
Справившись с цепью, она бросила мешок с вещами на дно лодки и принялась выталкивать судно навстречу волнам. Ее шляпа, слетевшая раньше с головы, носимая неугомонным ветром, отправилась в одиночное странствование по берегу и очень напоминала свою взволнованную хозяйку. Шляпа пронеслась у ног графа. Но он не обратил на нее внимания, он смотрел в сторону Юнны. Ее лодка съехала в штормящее море. Тем временем граф проследовал мимо, он направлялся к скале Свиданий. Юнна, наконец, заметила его удаляющуюся фигуру. Графа всегда можно было распознать по характерной для него походке. Передвигался он осторожно, стремился держать спину строго прямо, словно от наклона, либо неловкого движения в нем что-то хрупнет.
…Море швыряло пустую лодку на перекатах волн… Юнна уходила в глубь острова… Она наткнулась на рыбацкую шхуну, под увядшим папоротником. Она попала под сосредоточенный взгляд незнакомца, укрывшегося среди крупнолистных трав.
…Юнна оказалась в неизвестном ей оазисе, где толстые змеевидные ветви деревьев и вьюнов переплелись, и цепляли, и прилипали ко всему, что попадало в их логово. Юнна пробиралась через заросли крушины, ноги вязли в бесчисленных сплетениях растений. Ею овладела усталость. Побег не удался. Сама стихия была против. Последняя размолвка с графом подтолкнула ее на эти шаги. Теперь оставалось смиренно ждать своего часа. Юнна не сомневалась, что он наступит. Вспоминая последние поступки графа, она так и не находила объяснения его дерзости и развязности, особенно усилившихся с появлением гостя. Пленница растений, она сделала передышку У кучи лежалого сена. Ее мысли прервались шуршанием чего-то за спиной. Она обернулась и увидела брата, подошедшего вплотную. Гюстав натужно улыбнулся и сразу погрустнел, не отрывая от нее взгляда своих пытливых выпуклых глаз.
– Откуда ты здесь? – спросила Юнна, натягивая на колени мокрое платье.
– Я падаль сволок в яму.
– А? Туда, где у тебя поют мертвые птицы? – с иронией спросила девушка.
Мальчик смутился.
– Труп оказался очень тяжелым, я с ним намучился.
– Ну-ка! Подойди ближе… Ай! Да чем от тебя несет? Не говори. Я догадываюсь. Отвернись.
Юнна поднялась на ноги, натянула платье до бедра и увидела большой синяк. Прихрамывая, она последовала за братом.
– Ты не хочешь оставаться на трупах? – поинтересовался Гюстав.
– Какие трупы? – Юнна взглянула на затылок брата, опасаясь очередного приступа безумия.
– Ты лежала на трупах цветов, – объяснил Гюстав.
– Ты мне надоел. Молчи, не хочу тебя слушать.
Гюстав повел Юнну ему одному известною тропой. Они часто бродили такими тропами вместе с собакой по ночам, когда все вокруг освещалось обворожительным лунным сиянием.
Мальчик шел и разговаривал сам с собой. До слуха девушки доносились обрывочные фразы: «Они мне нравятся… Я их возьму в надзвездные селенья… Я к ним подойду… Они мне нравятся…»
В подземелье, где на сырых стенах отблескивал свет, граф со свечой в руках опускался по каменным ступеням. Обойдя выпирающий угол, он приподнял пламя над собой, и осветился ряд гробов, обшитых красным бархатом. Граф нарочито встревожено приблизился к одному из них и приоткрыл крышку. На его лице появилась гримаса соболезнования. Граф вальяжно покачал кистью своей руки, и опустил ее, и взялся за днище гроба. Другой рукой крышку он не отпускал, и осколок света упал на сомкнутые кисти рук покойника, одну из которых обрамлял плетеный браслет из травы – ползуна. Граф посмотрел на тень, гротескно наплывшую на стену. Тень заняла большую часть стены и едва не достигала потолка. Это была тень от гроба.
Под ногами заскрежетал комок извести, толстая крыса опасливо заползла за ближайший подрамник с того места, где она наблюдала за происходящим.
Граф осветил палитру с приготовленными красками. Пламя свечи заволновалось и вдруг погасло от случайного дуновения. Довольно быстро граф нащупал в темноте ровную плоскость, поставил свечу и зажег ее снова. Он вернулся ко гробу и принялся поправлять на камзоле покойника образовавшиеся складки. Одна из множества теней на стене отделилась от прочих. На пальцы графа легла широкая ладонь с браслетом, как у лежащего покойпика.
– Прошу простить, если помешал Вам, граф.
– А? Кто Вы? – граф, как слепец, закатил глаза и заговорил дрогнувшим голосом. – Нет, не-э-эт, не Вы. Не Ваш голос. Кто?
– Покойник.
Граф склонился над гробом, над тем, что он считал трупом и обомлел – там лежал манекен с маской по подобию лица того, о ком он думал.
– Осечка, граф. Вам потребовался очередной покойник, а получили Вы их два. Причем таких разных: молчуна, за которым Вы так заботливо ухаживаете и болтуна, который не прочь поухаживать за Вами… в искусстве убивать тоже нужен талант.
– Постойте… Постойте же! То был не я. Уверен, кто-то незримый, но властный правил моей рукой, моей волей. И не дал, не дал Вас погубить… Он был в костюме шута… Как же незримый – я, я его видел. Теперь Вам не скрыться от него, как и мне. Значит скоро он избавится от меня. – Граф бормотал еще невнятные слова и повернулся, протянул руки, и содрал с головы пришельца колпак – открылось лицо Христиана.
– Ну-ну, остановите свой бред. Я не убивать Вас пришел. Я понимаю, и у мастера, даже такого… бывают просчеты. Куда подевалось Ваше мужественное лицо? Да, этому лицо хотелось видеть меня в гробу, но что поделать.
– Ничего-ничего, – поспешил ответить граф. – Вы нас покинете, а кукла, лежащая здесь, будет напоминать о Вас.
– Как мило. Я и не подумал. Какая трогательная развязка этой истории. Ни меня, ни рыбака в лесу, ни свою жену убивали не Вы. Да и если имели причастность, то лишь из благородных намерений, допустим, во благо сотворения картин, и куколок, и кладбища…
– Ваша правда, – граф сложил пальцы на груди. – Я соблюдаю ритуалы смерти и я слуга искусства смерти. Я ее рисую, и только. Полагаю, достаточно нескольких капель святой водицы, чтоб смыть свершаемый мной… А чем замоете Вы свою вину?
– Вы знаете мои грехи?
– Отчего не знать, они похожи на мои… Спешу объяснить. Мы с Вами, любезный Христиан, на службе у одного господина. У одного.
– Так Вы шутите…
– Да-да… Вот жаль охранника, побитого Вами намедни. Он умер. От тяжких болей.
– Вы лжете. Я не участник Ваших игрищ. Меня туда не затянуть. Я не коллекционирую трупы, как Вы. – Христиан повысил тон и уверенно продолжил: – Родственники Вашей жены, Юнна и Гюстав, служанка, рыбак, что ушел утром хоронить своих друзей и не вернулся. Они должны остаться живы. Любое несчастье – и я обвиню Вас. Мои действия кому-то покажутся жестокими, но они будут праведными. Вы безбожник, граф. Со мной Вам не удастся сладить.
– Ты обвинишь меня. Ты?!
– Следите за словами граф. Я редко прощаю ложь и наговоры. Теперь о деле…
– Подождите… – у графа началась одышка. Он заметно волновался.
– Простите мои слабости. Я попытаюсь объяснить. Да, в гробах трупы. Я берегу умерших…
– Не своей смертью, – перебил его Христиан.
Глаза графа внезапно оживились, он заговорил быстро, увлеченно:
– Нет-нет. Они сами хотели того… Я избавил их от страданий. Кем они были, слепки грязи и воды. Я избавил их от всякой мерзости, предав телесные ничтожества искусству… Мне не достает вдохновения, и я раздираю человеческую плоть, чтобы сотворить чудо, – граф, утомленный беседой, непроизвольно начал оседать на пол, передавая свечу Христиану. Но он продолжал свою речь теперь шепотом: – Раздеру, поверьте… Завидую цветам… Они всегда напоены манной небесной. Они в солнечном блаженстве, а я в сумраке…
Граф сошел с лица и помрачнел.
– Вы еле говорите. Вам дурно? Воды?
– …Оставьте. Я болен не больше Вашего.
Христиан взял в руки миниатюрную куколку и разглядывал ее.
– О! Граф! Да Вы и рукоделец. Какая точная работа. Узнаю Гюстава. Даже волосы… Не с его ли головы? Хм… Братца нашли… Где-то должна быть сестрица…
Христиан извлек еще одну куколку неизвестного ему человека. Хотя она что-то ему напомнила, эта фигурка, проколотая портняжной иглой. Христиан вдруг вышел из минутного забытья, и до него донесся ослабевший голос графа, звавшего его.
– Христиан, – повторил граф. – Ты близок мне. Моя обязанность поведать тебе одну историю, посвятить тебя. Если я утаю, суд… суд мучительный свершится надо мной. Знай, ты обогрет священными камнями, они действуют на нас обоих… Ведь ты же видел мираж над морем. Сознайся – видел. То знак… И ты хранитель камней. Они захоронены у склепа моей первой жены.
– Я не имею отношения к Вашим ценностям. Меня не нужно впутывать ни во что. Ваши родственники… Они пусть занимаются Вашим завещанием.
Христиан умолк, но скрыть своего оживления он не смог. Он покраснел слишком густо, даже немного повредил голову куколки, которая все еще оставалась в его ладонях. Христиан в очередной раз заговорил о деталях своего отплытия на материк. Граф отрешенно продолжал тему захоронений…
Островной лес замирал по ночам, как завороженный. Ни единого вздоха одинокого зверя, ни единого шелеста листьев.
На край могильного креста стелился мягкий фосфоресцирующий свет. Старое кладбище укуталось в паутину лунного свечения. И безмолвные души умерших покинули берлоги забвения и сна, воспаряя над самой травой и совершая трепетные танцы на могилах. Беспокойные души обрели пусть зыбкий, но блаженный приют под луной. Они доверились откровенностям луны и знаку зверя, что поднял их.
Почуяв в воздухе тревогу, в отдалении, завыли волки. То была малая стая, забредшая в эти края. И вой ее продолжался недолго.
Души умерших, завершив полночный танцевальный ритуал, вернулись к своей гниющей плоти и, соединившись с нею, они отправились в путь. Замедленно и бесшумно двигалась эта процессия заложников смерти, подвластных некой силе, что так могущественно и незримо призвала их и вела за собой в непроницаемом холодном тумане.
Тревожный гул, донесшийся из леса, разбудил Христиана. В этом гуле Христиан как будто различил чьи-то вскрики, прерываемые стенаниями. Он оглянулся. Его дверь теперь запиралась на засов. Из окна видна была лишь синяя лесная полоса. На поляне между домом и деревьями никого не было. Христиан закутался в одеяло и попытался заснуть. Отвернувшись к стене, он пролежал некоторое время, не придавая значения монотонному шороху снаружи.
Христиан лениво приподнялся снова и увидел лицо мальчика в окне. Как мог Гюстав, одержимый глубокой болезнью, взобраться сюда? Скорее, снова наведался призрак. Христиан рассмотрел его лицо поближе: зрачки глаз, истекающие слизью, закатились под веки; щеки впали, а узкие губы судорожно искривились. От мальчика исходили хлюпающие звуки, он дышал хрипло, с надрывом. Христиан отшатнулся. Так мерзко выглядело все это. Но Юнна просила открыть. Да-да, он слышал ее голос. Отчего не открыть призраку, раз он явился в гости? Христиан попытался что-то сказать Юнне, какую-то бессмыслицу, но ничего не получилось. Он улыбнулся своему желанию. Он представил ее в том романтичном платье, она была в нем тогда, в первую ночь, в предутреннем лесу. Она была обворожительна, и Христиан ясно ощутил свое увлечение ею.
Голос Юнны звал: «Открой! Открой! Открой!». Он распахнул окно, чуть не вывалившись из него. Гюстав сорвался и тяжело ударился о землю.
Сквозь потемки Христиан заметил искривленный силуэт на земле. Христиан опустился на колени и все продолжал смотреть. Распростертое тело приняло странные отталкивающие формы.
Христиан бросился к выходу. Он осознал вдруг, что случилось непоправимое. То был действительно Гюстав, и Христиан невольно стал его убийцей. И граф оказался прав, предсказывая такой исход для Христиана.
…По коридорам особняка проследовал старый слуга. Он был занят тушением свечей. Дверь распахнулась. Из нее выбежал Христиан. Его удаляющиеся шаги скоро утихли. Слуга подошел к лестнице, пригнулся и вдруг затрясся всем телом и упал, скатываясь по ступеням.
Его тело билось в конвульсиях, пока не замерло. Колпак съехал с головы, склоненной к одному плечу. На губах несчастного выступила пена.
Христиан с силой рванул входную дверь. Зазвенев, слетел последний засов. Христиана обдало воздушной полной, и он нос к носу столкнулся с Юнной. Девушка не удивилась его взъерошенному виду, но посмотрела на него вызывающе. Он припал лицом к косяку. Юнна провела пальцами по его плечу и продолжила линию на спине. Зашуршало ее белоснежное платье, края которого теперь не доставали до колен.
Христиану не хватило духу сказать ей о происшедшем. Она проникновенно заглянула в его глаза, а он ждал, когда она его отпустит.
– Вам не кажется странной?.. – спросила Юнна.
– А? Что Вы сказали? – не расслышал Христиан.
– Морская звезда, всплывшая на рассвете?
Она задорно улыбнулась. Он резко повернулся к ней. На его мужественном похудевшем лице горел огонь отчаяния.
Когда он бежал к месту падения мальчика, то твердил сам себе: «Она… она не знает… А где она была? Какая разница. Может, мальчик жив? Он жив. Я спасу… А где она была, если я слышал ее голос. Открыл окно…»
…Его поиски были тщетны. Мальчик исчез. В лихорадочном возбуждении Христиан обшаривал каждый куст, уходил и возвращался на прежнее место. На клумбе оставался отпечаток тела и больше никаких признаков.
Под свирепым ветром деревья скрипели, захлебываясь в густой листве, нещадно исхлестывая себя ветвями. Христиан и не заметил ураганного нашествия – он не терял надежды отыскать хоть какие-то признаки Гюстава.
Трава, испачканная кровью. Вот она, в двух шагах от Христиана. Он припал к земле и стал проглаживать каждую травинку. Ладонь снимала росяные капли, но цвет крови не появлялся…
Христиану померещились эти пята, и он уже рвал траву от досады, рискуя поранить ладони, и он бился кулаками о землю…
Небо нависало над землей ниже и ниже. Тучи, как жирные стервятники, разметались по небесной нише. Страшась непогоды, хозяйские псы забились в пригоне и жалобно скулили. Может, донесся до них запах мертвечины, может, запах подступающей беды. Разбуженные трупы бродили у дома, задевая кустарники и брошенную утварь и не замечая никаких препятствий. Казалось, их тени отражаются на черных узких окнах особняка, окнах с холодным отблеском лунного света.
Христиан понуро рассматривал заросли можжевельника. «Отец Господень, где ты? Творится здесь неладное. Не выдержу я. Позволь спасти мне хоть одну человеческую душу. Я прошу тебя, будь милосерден. Имя ей Юнна. Она не ведает, куда попала, в какую пропасть ее затянет безумец граф. Если суждено погибнуть мне – я приму как должное любую смерть. Но за ее спасение на земле молюсь и буду молиться до скончания дней моих.
Отец Господень! Я грешен! Я убийца и не ищу оправдания…»
Христиан простоял на коленях, пока ноги не онемели.
– О дикость! Изыди! – кричал он с надрывом и не удержался от накативших слез и зарыдал… – Прочь! Злая тварь! Не издевайся надо мной! Я не трону графа – не судья я ему. Не трону.
Он рыдал и скулил, будто пес, сжимая в кулаке траву. Поблизости таяли последние тени уходящей ночи. То, что должно было свершиться, свершилось по чьей-то воле.
Наступило утро. Граф старательно закапывал длинные саженцы на месте падения мальчика. Христиан увиделся с Гертрудой, но уже при первом взгляде на девушку ему стало понятно, что Гюстав погиб.
Когда мальчика нашли, он слабо дышал, говорить не мог, но разбитые внутренности, сломанный позвоночник не позволили ему прожить еще немного. Смерть наступила раньше, чем взошло солнце.
Христиан опустил голову – в ушах гудело. В его памяти прояснились странные слова, сказанные Юнной это ночью: «Вам не кажется странной?.. Морская звезда, всплывшая на рассвете».
Голоса детства, перемешанные с шелестом накрахмаленных одежд, пронеслись в голове Христиана. И среди них звонкий детский лепет: «Мама! Мама! Где ты? Я не могу найти тебя?! Мама!»
Этот детский голосок принадлежал Христиану.
К вечеру детский гробик стоял в траурном обрамлении в гостиной. В глубокой тишине над ним склонились старухи. При малом числе предметов интерьера больше всего заметны были ленточки, свисавшие отовсюду Христиан где-то в доме встречал их раньше. Из-под тени балюстрады вышел граф, держа в руках какой-то маленький предмет. Он выпучил глаза и прошептал длинные фразы, глядя скорее в ноги мальчику, чем в изголовье. Граф был страшен в эти минуты. Лицо его казалось вылепленным из глины, и сам он был – подобие постамента.
Делая последний шаг со ступеней, Христиан направил свой взгляд к гробу. Христиана посетила неожиданная мысль о том, что смерть Гюстава была неслучайна, и потому так невозмутим граф под панцирем своего лицемерия, словно предвидел случившееся…
Подходя вплотную к графу и принося соболезнования, Христиан рассмотрел в его руках миниатюрную статуэтку Гюстава.
– Такого горя нам не пережить, – отвечал граф Христиану. – Я не представляю, что будет с Юнной… Бедная девочка… Она так любила брата. Так мило они гуляли под окнами… Как они похожи… Такую смерть нам тяжелее перенести в связи с тем, что мальчик не хотел умирать – его заставили… Мы не предупредили Вас – мальчик любил заглядывать в окна. Вы знаете, невинное любопытство, не более…
Речь, полная намеков, продолжалась. Христиан перестал слушать. Он отошел в сторону и старался держаться незаметно.
Завороженный утренний лес. Он снова был неузнаваем, хотя Христиан входил в него множество раз. Христиан крался по лесной чаще в надежде остаться незамеченным для обитателей графского дома. Его осторожное продвижение, напоминающее скорее хищника, чем жертву, не оставалось без внимания нежных лепестков цветов, Усеявших эти места. Цветы стряхивали росу, вежливо качались и замирали, будто из любезности демонстрируя свою непричастность к действиям забредшего путника. Христиан наступил на сочные толстые стебли папоротника. Растение брызнуло соком и захрустело под ногами. Христиан почувствовал жажду, в горле сушило. Как ему захотелось сбросить с себя ненавистный белый костюм, сковывающий движения. Но он терпел – нельзя было исключать наступление холодов. Христиан отправился к склепу. Вдруг повезет и удастся найти камни, а потом и откупиться.
Ноги вязли в рыхлой земле – Христиан вступил в границы кладбища.
В тени старых сосен, у тихой заводи, Юнна разделась донага. Платье она уложила в котомку, которую подвесила на торчащий прут. Она ступила на мох, и меж пальцев ее выступила вода. Что-то вспомнив, она вернулась назад и извлекла из котомки небольшой сверток. Подсев к самой воде, Юнна возложила свои ладони на поверхность ее так, что ногти оставались сухими. Шепотом она приговаривала:
– Я погружаю свои руки в холодные воды, шлю тебе, Маргарита, милая сестра моя и тебе, Гюстав, милый брат мой, Трех посланцев.
Имя первого – Генрих. Второй посланец назван моим именем. Третьего посланца зовут Христиан. Исполнены они волей властителя нашего, служат ему покорно.
Моя Маргарита, прошу тебя, прими все-все слова, что я скажу. Я исполняю все так, как ты научила меня. Теперь я пришла с новой молитвой. Слушай.
Третий посланец. Не ищи своего бегства. Останься со мной и преследуй меня как зверь, по пятам, до тех пор, пока адская страсть не сожжет тебя дотла. Я сберегу тебя и твою страсть. Ты придешь на мой зов, но не узнаешь меня. Ты придешь на мой запах, но потеряешь его в конце пути. Так суждено нам. Так ты не покинешь меня ни живым, ни мертвым.
Пусть мои слезы прольются кровью в душах моих посланцев. Укрепи меня в моей мольбе.
Юнна раскрыла сверток. Миниатюрным ножом она сделала порез на коже выше колена. Появилась кровь и потекла. Юнна вытирала ее платком, пока он весь не намок. Ранку она перевязала лоскутом от платья. В платок же завернула что-то и спрятала.
Христиан не сразу разглядел склеп – таким он оказался невзрачным. Подойдя к нему, Христиан не обнаружил ничего приметного. Он отправился выламывать кол для поисков камней, оступился и упал в могильную яму. Под ним треснули доски гроба.
Юнна приблизилась к зеркалу. Рассмотрела свое лицо. На нем она заметила отпечаток усталости и тревоги. Глаза, сохранявшие холодный блеск, придавали лицу некоторую озлобленность. Она с нескрываемой досадой сейчас вдруг поняла, что ничего она не сможет изменить на своем лице. Она тем временем вышла из комнаты и стояла у лестницы, ведущей вниз. Юнна перебирала пальцами ленту, свисающую с запястья.
…Преодолевая сыпучий грунт, Христиан выбрался из могильной ямы. В кулаке он сжимал серый узелок. Христиан присел на насыпь, развязал свою находку, но кроме полотняных лоскутков в пятнах запекшейся крови ничего не обнаружил. С безымянного пальца сочилась кровь. Христиан смахнул с лоскутка песчинки и собрался приложить его к ране, но тут же с отвращением отшвырнул лоскуток в сторону и сорвал лист смородины.
У старого склепа Христиан вытянул из могилы деревянный кол и разворошил им землю. Постепенно углубляясь, Христиан принялся выгребать землю руками, забывая о боли в кровоточащем пальце.
– Я схожу с ума, – прошептал Христиан.
Он сидел, взмокший от пота, прислонившись спиной к стене склепа и обняв колени. В небольшом отдалении лежал брошенный костюм. «Все тщетно, – размышлял Христиан. – Пока что-то отыщу – они меня найдут, они меня не отпустят, они меня угробят, и похоронят в той яме, которую я успею вырыть… Граф не случайно упомянул о камнях. Моими руками он их выкапывает… Хватит, хватит… Я выбираюсь».
…Уставший, Христиан провалился в сон, бредовый и беспокойный. Ему приснилась большая суета: назойливые слуги возились с ним, и он не мог от них избавиться… Пробуждение наступило скоро. Пространство кладбища было усеяно людьми в желтых хитонах. Они были повернуты в сторону маленького гробика на постаменте. Похоронный обряд совершался в полной тишине. Изредка его участники производили какие-то жесты. Лимонного цвета одежды будто осветили кладбищенскую унылость. И потому обряд похорон походил скорее на празднество, чем на траур. Желтые просторные одежды. Они колыхались и образовывали выпуклые складки при набегавших порывах ветра. И тогда не было видно лица мальчика, лежащего в гробу.
Христиан обратился с каким-то вопросом к близстоящему человеку, но ответа не последовало.
– Что вы делаете? Где Юнна – сестра… его сестра? Где граф? – не унимался Христиан.
Он прислушался к гулу, отдаленному гулу со стороны моря. Он обернулся ко всем собравшимся и увидел на их лицах маски цвета человеческой кожи. Прорези на масках были лишь в области глаз и носа. Подобная маска была на лице покойника.
Христиан собрался с духом и подошел к гробу. Христиан не знал, как нужно себя повести в этот момент. Он опустил голову и прижал к ногам руки. В лицо ударил пот.
Неожиданно Христиан увидел перед собой графа с охапкой белых лилий. Цветы сочно захрустели от движений графа.
Неподалеку стоял дилижанс, наполненный доверху цветами.
Христиана вдруг осенило, что убийство мальчика совершилось преднамеренно, руками Христиана. Иного объяснения происходящему маскараду трудно было найти.
Ночное кладбище. На могильные склепы и плиты лег мягкий синеватый свет. Единственным местом кладбища, куда не попадал этот свет, оставались отворенные ворота. Их не заперли после последних похорон.
Руди очнулся, и первое, что встретили его приоткрытые глаза, был ослепляющий свет. Тело дрожало от холода. Руди пошевелился и уперся локтем в земляную стену. Он оказался в яме и не помнил, как попал сюда.
Тяжело ступая по холодной росе, Руди проследовал в сторону моря. Он улавливал морские запахи безошибочно, на его душе полегчало. Он найдет свое судно, и с наступлением зари покинет этот чертов остров навсегда. Он так и не смог понять, что произошло с его товарищами, но так или иначе они погибли. Об этом он и расскажет там, на своей земле. На ум пришла какая-то знакомая мелодия, и Руди оживился, качая вперед-назад своей здоровой рукой, вторая беспомощно повисла.
Сосновый бор сменился зарослями багульника. Начинались мхи, белая пушица, осока. Под сапогами хлюпала вода. Дальше простирался ковер сплавины. Руди углубился в болото. Он осторожно обходил кочки, что-то приговаривая себе под нос.
Ночью, так и не сомкнув глаз, Христиан выбрался на прогулку. Ему захотелось в сад, подышать ночным ароматом цветов и погадать о том, что может случиться в наступающем дне. Всем телом своим Христиан ощущал необычное облегчение, впервые посетившее его здесь. Терпкие запахи трав наполняли его легкие.
В замысловатых садовых уголках просачивался фосфоресцирующий свет, и выглядывали, окутанные ночным саваном, кровавые розы.
«Да, граф не пошел на мое убийство – он имел возможность не раз. Скорее всего, его замысел в другом… Да, притянуть меня… по пути избавляясь от тех, кто мешает, убивая моими руками, сделать… Нет, нет, нет… Но чего он хочет… Безумец…
Кто из них верно знает, где зарыты ценности? Граф? Скорее нет. Девчонка? Она может признаться, но… Что ее связывает с графом? Она слишком обольстительна, чтобы его не интересовать. Он любил ее пропавшую сестру. И, может, не пропавшую. Может, там вмешалась смерть… при участии графа. И теперь он скрывает эту страшную тайну. Чего же он добивается, имея все в своих руках. А девчонка ведет себя так, будто увлечена мною. Вот где сговор. Ее игра со мной по плану графа. Значит надо пойти, надо ответить на это приглашение. Можно обманом, любовным притворством вытащить из нее… хоть что-нибудь вытащить. Не пришлось бы раскаиваться после… Да, не забывай, Христиан, речь идет о твоем спасении. Во что бы то не стало вырваться из этой паутины».
В центре сада разливался роскошный фонтан, придавая окружающей зелени сверкающие изумрудные блики. Христиан сидел под кустарником, словно опасаясь слежки.
«Охранники. Их я упустил из виду. Они же палачи, похоронщики и еще неизвестно кто. Я ошибался в истинном числе. На кладбище забыл посчитать. В доме постоянно бывает жилистый, с рыжей бородой, может, что-то выясню через него. Убийства рыбака, старика-слуги. Среди слуг есть неплохие исполнители. Скорее сам граф боится убивать. Значит один он не опасен».
Христиан наклонился к бурлящей воде фонтана и наблюдал за подводным скольжением рыбок. Он опустил кисти рук в воду, в самую глубину. Рукава костюма намокли по локти. Он осторожно снял перепачканный костюм и выстирал его в воде. Зазвучала скрипка, замолкла и вновь зазвучала. Так давно он не слышал игру любимого инструмента, что поначалу не поверил и прислушался, остановив дыхание, затем пошел, наслаждаясь этими звуками. Он прошел мимо женщины, сидящей у края ступеней; ее фигура, в белой накидке, оставалась без малейших движений.
…Руди поднялся на высокое плато в надежде увидеть свое затерянное судно. Он разглядел вдали несколько точек и пребывал в полной уверенности, что одна из них и есть предмет его поисков. Он обознался, и возвратившись обратно, он шел по краю обрыва, обливаясь потом и скорбя на свою судьбу. Мог ли он себе представить, когда готовился к плаванию, еще неделю назад, что такие несчастья обрушатся на его голову.
…Вокруг огромного валуна, торчащего из воды, растекалось пятно грязно-красного цвета. И морские хищники, покинувшие свои убежища подводных скал, раздирали и вытягивали на дно безропотное человеческое тело…
Руди открыл глаза. Он лежал на краю обрыва, на камнях. Неизвестно как долго он пролежал здесь в забытьи. От камней на теле остались красные отпечатки. Руди выбрал горный осколок покрупнее и бросил его вниз. Осколок разбился об огромный валун, который Руди увидел во сне. И мгновение спустя белая пена, принесенная мощной волной, поползла по валуну, оголяя его чернеющие выступы. Руди отпрянул от края обрыва. От высоты закружилась голова, и он присел на корточки, бормоча молитвы.
На кладбище Ангелов, под знойным солнцем, царило умиротворение. С цветка на цветок шныряли бабочки, не обращая внимания на зверя, выглядывающего из высокой травы.
В этот день Юнна пришла на могилу брата в просторном белом платье. Мальчику нравилось именно это платье из всего гардероба Юнны. Белоснежное платье, оно рождало самые смелые фантазии в голове Гюстава. Обычно, на лесной тропке, он шел позади сестры, собирая дикие цветки и плетя из них венки и браслеты, которые Юнна одевала на шею, талию, запястья и даже колени.
Юнна вспомнила случай, когда Гюстав из длинных цветочных стеблей сплел себе наряд, прикрывающий тело от плеч до колен. Не подозревая ни о чем, Юнна играла с собакой. Гюстав выбежал из своего укрытия с искаженным лицом. Как он дико кричал! Юнна никогда до этого не видела ничего подобного. Она испугалась, сжав ладони на груди. Пес заскулил и спрятался. Потом, как обычно они отправились купаться в море, но Юнна после пережитого страха боялась раздеваться.
Больше никогда она не разденется перед купанием. В ее голове будет звучать органная музыка, а она, не снимая одежд, будет плавать.
Теперь, стоя у могилы, она с затаенной улыбкой вспоминала чудачества брата. И эти воспоминания ее выручали из плена странных происшествий последних дней и ночей.
Спрятавшись между завесой и шкафами, Христиан ожидал рыжего охранника, который возился во дворе с садовым инструментом.
Наконец, заскрипели полы. Настороженно, словно предчувствуя опасность, шел охранник. От его внимательного взгляда не ускользнуло шевеление за ширмой. Он, не мешкая, набросился на Христиана, сцепив пальцы на его горле.
– Пусти, – прохрипел Христиан, опускаясь на пол.
Охранник отпустил, но лишь для того, чтобы вытащить Христиана из-за ширмы. После короткой возни Христиан утер кровавую слюну, поджал под себя ноги и притворился, что корчится от боли.
Самонадеянный охранник постоял над лежащим, упершись руками в бока и громко усмехнулся, раздумывая, стоит ли Христиана отпустить или подвергнуть наказанию.
Христиан тем временем собрался с духом и сбил охранника с ног. Тот поднялся довольно быстро для своих внушительных размеров, и Христиан был отброшен к стене. С грохотом полетели с полок горшки, чаши, кувшины; посыпалось, закапало их содержимое. Привстав с пола, Христиан, сжимая поврежденную правую руку, наблюдал за приближением противника. От широкого взмаха деревянным уступом Христиан увернулся и на одном дыхании нанес противнику удар в грудь. Голова последнего дернулась вперед. Христиан шагнул ближе и коротким ударом в живот отправил охранника в угол комнаты. Еще несколько сильных ударов кулаком и ногами заставили охранника молить о пощаде. Внезапно вбежавший в комнату человек обхватил Христиана со спины. Вскинув руки через голову, Христиан с яростью вцепился в волосы подоспевшей подмоге охранника. Едва разжались руки на груди Христиана, как он с разворота нанес мощный удар их обладателю. На пол с грохотом упал какой-то тяжелый железный предмет. Это был нож. Его широкое лезвие Христиан приставил к горлу охранника. Оружие зашевелилось под пальцами как живое, и Христиан почувствовал, что теряет самообладание и надо выпустить нож из рук, иначе он войдет в неповинную плоть.
Умывшись в воде старого садового фонтана, Христиан прошел через густые заросли, за погреба. Там ждал его охранник. Христиан ускорил шаги и резко оглянулся, поймав взгляд Юнны. Христиан обманулся лишь в том, что не граф сейчас смотрел ему вслед. Христиан не показал своего удивления, не задержался. Он все же не смог себе объяснить, почему ожидал увидеть графа на месте девушки.
Растерев в руках листья зверобоя, охранник собирал в щепотку травяное месиво и прикладывал к лицу, опухшему от побоев. Христиан расположился рядом. Из-под клетчатого пледа торчала его взъерошенная голова, на которой, несмотря на черный покров щетины, горели ссадины.
Тихим вкрадчивым голосом охранник поведал известные ему факты из истории графского семейства.
Итак, граф Генрих фон Зольбах. Он первым из отпрысков своего знатного рода взял на себя смелость и переселился на остров кладбища Ангелов, где в прежние времена его предки проводили охотничьи сезоны. Ходила молва, что жена графа, с их маленьким сыном, осталась в одном из графских имений. Причины ее отказа разделить участь мужа объяснялись просто. Об острове ходила дурная молва, как о проклятом месте.
Вскоре после разлуки с женой графа случилось несчастье.
Собирая ягоды в лесу, она запнулась о корягу и сильно ушиблась. Сельский знахарь навещал ее, и не выражал никакого беспокойства. Он высказывал свое убеждение, что дело идет на поправку и считал, что скорее страх, пережитый женщиной в момент падения стал причиной ее болезни. Но она вдруг умерла на рассвете дня, когда должна была подняться.
Граф, едва дошла до него страшная весть, перевез ее прах (прежде выкопав из свежей могилы) на островное кладбище, в склеп. Прислуга вдруг о братила в ним ание на то, что граф вернулся без сына. Конечно, никто не осмелился спросить в то время, но теперь граф на подобные вопросы говорит полную несуразицу. Судьба его сына, ныне взрослого (если не призвал его Господь раньше срока) покрыта тайной.
Черствость графа и невнимание к судьбе своего первенца идут вразрез с чередой его благодеяний. Скольких несчастных он спас, где словом, где поступком. Скольким помог перенести тяжкие невзгоды. Из уст в уста передают о некоем древнем проклятии рода фон Зольбах. Говорят, его сокрытый смысл покоится в камнях, зарытых на кладбище.
Один из далеких предков, во времена крестоносцев, участвовал в их походе за Гробом Господним. Константинопольские камни, привезенные крестоносцем (вернее не им, он скончался по дороге домой), привезенные кем-то другим, хранились и передавались из поколения в поколение. Они считались священной реликвией. Детей заставляли молиться на них, но лишь графских детей.
Как будто с тех времен и берет свое начало появление уродов. Они рождались беспрерывно, в каждом поколении, и недолгой была жизнь каждого из них. Недолгой и несчастной. Погребение, вслед за первым уродцем, совершалось на острове. До этого там хоронили своих псов охотники. Семейство считало недостойным хоронить уродов на своем родовом кладбище. Молва, прослышав об этом, назвала место захоронений кладбищем Ангелов.
Однажды, один из уродцев, узнав о своей участи, выкрал и закопал на кладбище Ангелов священные камни. Отмщение изгоев состоялось. Слава рода, в немалой степени связанная с камнями, и скорее даже заключенная в них, таким нелепым способом оказалась в одной земле, омытая со всех сторон водой, с проклятием рода.
Шло время. И граф Генрих фон Зольбах занялся поисками своего пропавшего сына. Вскоре он привез мальчика, болезненно бледного и хрупкого, ничем не похожего на графа. Был ли это его сын? Граф верил или притворялся, что верил.
Когда мальчик вырос и повзрослел, он привез в дом девушку, назвав ее своей избранницей. Поначалу выбором сына граф был удручен и не скрывал этого. Девушка оказалась не дворянских кровей. Но в чем нельзя было ей отказать, так это в обворожительной красоте. И граф смирился. Правда, его смирение зачастую принимало странные формы. То смех его душил до нескончаемого кашля, то уныние, и лицо его серело как пасмурное небо, то детские чудачества, в которых меры он не знал, и был наивен и жесток. Ничего не изменила даже внезапная (несмотря на преклонный возраст) смерть его отца, давно отошедшего от дел мирских и забот. Старика нашли в собственной спальне, в окружении крыс, которыми он обзавелся незадолго до смерти. Руками он сжимал горло, будто спасался от удушья. Распятие Христа раскололось в щепы… Хоронили его с тяжелым сердцем. Нас переполняли скорбь и тревога недоброго знамения.
Каков же был ужас и без того напуганных людей, когда при-шедши на утро после похорон, они нашли могилу разрытой, а гроб пустым. Люди со всей округи собрались на поиски. И самым неистовым и беспощадным к самому себе был граф, который забыл в те дни о всяком сне. Он бормотал никому не известные слова на непонятном языке и все бродил, неся над собой скрипевший фонарь. Еще лил дождь, и граф единственный не возвращался к костру немного просохнуть и выпить подогретого вина. Себя он не щадил, таким до этого его никто не знал.
Минуло дней десять, когда рыбаки, укрывшись от непогоды здесь, на острове Ангелов, обнаружили на кладбище труп приходского священника. Тело пастыря было подвешено на столбе… А в могиле, чуть присыпанный землей лежал старик. Страшно даже теперь думать о том, кто же мог такое совершить? За какие смертные грехи такая расплата?
Приход нашего священника, отца Мартина, пришел в запустение. Люди боялись выйти на улицы, лишь только наступали сумерки. Священники объезжали нашу местность стороной, и детей крестить ездили в другие земли. Все поверили в козни дьявола. Он затаился и ждал чего-то.
Граф постарел до неузнаваемости. Стал ворчливым, злопамятным. Он надолго уезжал на остров, и не возвращался на ночлег. Он ухаживал за могилой отца. Построил склеп на ней.
Бес все-таки проснулся… Проснулся в сыне графа. Никто не догадался, в ком таилась опасность. Ни бешенство, ни ложная унылость не проявлялись в том молодом человеке. Граф стал первым и последним, кто испытал на себе нападение беса. Обороняясь от неслыханно жестоких ударов, он проткнул живот сына кистью для писания картин. Несчастный захлебнулся кровью на руках отца. Причем, лицо его перекосилось и страшно было всем и, что памятно, холод установился в комнате. На устах покойного сохранилась жуткая улыбка. При последнем омовении старухи обратили внимание на то, что тело умершего имело цвет живого человека.
Наследника пришлось похоронить на кладбище Ангелов, ибо дед убиенного завещал хоронить прямых потомков в своем склепе. Дед не подозревал о месте возведения склепа.
В ту ночь едва взошла луна, как из леса донеслись странные звуки. Детский плач, плач младенца. Козье блеяние. Истошные крики мужчины, перемешанные с воем раненого зверя. И постоянный хохот. Будто адское племя собралось на шабаш. Лес шипел от натиска нечистой силы.
Молельщицы еще в последнюю ночь у гроба почувствовали на себе дьявольские знамения и удалились в одну из нижних комнат, где просидели до утра не высунув носа. Они утверждали, что слышали скрип половиц. Кто-то приходил к покойнику и оставил раскрытым наружные двери, но не оставил следов. Лицо же лежащего в гробу выглядело усталым, словно он долго провожал своего ночного посетителя и только под утро вернулся с ночных бдений.
В ночь после похорон никто не сомкнул глаз до самого рассвета. На острове наступило время серых плотных туманов, с суши никто не приплывал. Граф всецело был поглощен общением с овдовевшей невесткой. У него новь начались приступы младенчества. Молодая вдова, Между тем, смерть супруга оплакивала недолго. Она и у гроба отказалась находиться, сославшись на недомогание. Теперь же, невольно отлученные стихией от общения со всем миром, кроме слуг, граф и невестка посвятили время друг другу. В комнату графа она входила без стука и оставалась там до утра.
Блаженству похоти не суждено было длиться долго. Женщина исчезла. Есть опасения, что небезвозвратно. Что где-то бродит ее тень и совращает слабовольные души.
Граф тогда сильно сошел с лица. Он переживал ее утрату куда сильнее, чем смерть сына. Слег в постель. По ночам впадал в бред, звал ее, просил пощады у покойного отца.
Спасла его Юнна. Она приняла приглашение переехать вместе с младшим братом на остров. Что говорить, она похожа на свою пропавшую сестру. Может, только не знает, что та была ведьма во плоти…
Охранник замолчал. Христиан пошевелился и спросил его:
– Зачем ты здесь? Служишь безбожнику графу… Помоги мне найти эти чертовы камни, и мы скроемся с острова.
– Я останусь здесь, нет мне отсюда дороги… От меня ушла жена, когда я жил в поместье. Детьми не обзавелись. Тогда я попросился на остров. Здесь я столкнулся… В горле пересохло.
– Я скрою от всех твое откровение…
– Мне жалко видеть в тебе болвана, – охранник шевельнулся и стал подниматься на ноги. – Я не рассказал тебе… После пропажи невестки, в близлежащих селах, люди встречали заблудшую овцу. Никому не удавалось загнать ее в свой хлев. За ней охотился по ночам один чудак. Его жалобы о том, что животное всякий раз скрывалось, крестьяне всерьез не воспринимали. Он осерчал, озлобился и вышел на охоту с вилами (решил заколоть овцу). Со слов его жены все узнали, что утром он вернулся без вил и прилег на отдых. Да вот не проснулся он больше.
В ночь, после предания земле тела умершего, крестьяне сделали облаву на всех бродящих в округе животных и забивали насмерть вилами и кольями ни в чем не повинных животных. Овцы той никто не встретил. Вилы несчастного нашли в репейнике, у края села… Никто не сомневался – под личиной овцы приходил оборотень.
– Он приходил ко мне… Может, потому, что я его не тронул, он оставил мне жизнь. Не знаю твоего имени, но скажу – ты благородный человек. Ответь мне, кто вызывает ночных духов? Кто подвержен этому безумию? Есть ли объяснение?
– Я вижу – ты подозреваешь графа. Не все так просто… Печать проклятия никто не снял.
Они вышли к фонтану по узкой, едва заметной садовой тропе. Оживленно голосили птицы. Христиан умылся, протер лицо платком, который дал ему охранник. Обыскав карманы, своего платка Христиан не обнаружил. Но его беспокоило не это, его не покидало ощущение, что за каждым шагом его кто-то следит. Он проводил охранника, а сам ушел в лес.
С лица Христиана еще не сошли последние следы его драки с охранником, как он был посвящен в таинственный обряд.
Он собирал хворост. С Гертрудой был уговор протопить камин, чтобы ушла из дома устоявшаяся сырость. На него набросились со спины, молча связали, заставили спуститься в пещеру. Там сняли с головы накидку, в которой вели. При свете тревожных факельных огней Христиан разглядел молчаливую толпу, разделенную на три части. Каждый держал в руках чашу. На каменном выступе, куда обращены все взгляды – скомканное запачканное полотно. По центру его прибита высохшая кисть человеческой руки.
Христиан увидел каменные лица старух, будто поднятых с того света. Лишь губы их безмолвно шевелились. А рядом лицемерно склоненный ангел взирал на происходящее, не тая своей сатанинской усмешки.
На алтаре, под каменным выступом, лежала молодая женщина. Ее фигура выражала покорность, лицо отрешенно смотрело на отвисавшие с потолка уродливые камни.
Пещерное пространство было охвачено мощным звучанием органа. Пристально вглядевшись в потолок, Христиан увидел звезды. Они появились там, где потолок обрывался. И тогда Христиан вырвался из окутавших его пут и побежал, не ведая куда. Но каждое ближайшее ущелье скрывало в себе тупик…
Его схватили, поволокли чьи-то сильные руки. Он упирался ногами и вырвался еще раз, в темнеющую дыру, прополз по направлению струящейся воды. Но все теснее становилось в спасительном отверстии. Плечи застряли, и снова, из щелей, его достали цепкие руки и больно сжали его плоть.
– Где наш гость? – Юнна стояла вполоборота повернувшись к графу, и голос ее слегка дрожал. – Вы прекрасно знаете, где он. Вы еще не заметили, что Ваши изощрения не действуют Вам на пользу. Мне Вы так предподносите все, что складывается впечатление, будто не по Вашей воле он мучается.
Граф улыбался виновато и отвечал:
– Милая Юнна. Вы, если не ошибаюсь, хотите его оставить здесь. В противном случае Вы бы непременно сообщили мне о своем желании.
– У меня складывается впечатление, граф, что Вы меня не понимаете.
– Что Вы! Очень даже понимаю…
– Так вот, прошу Вас, оставьте его в покое. А свои сумасбродные идеи приберегите для картин.
– Я вовсе зла ему не причинял.
– А как он оказался на похоронах и клятвоприношениях?
– Я приготовлю ему чудное снадобье. Он успокоится. Вы ведь тоже увлекаетесь различными отварами?
– Ах, Вы следите за мной?
– Не тревожьтесь. Я спросил и только.
…Христиан проснулся в высокой траве. Стоял пасмурный день. Изредка набегал холодный ветер.
…Он шел по лесной водяной дорожке, протянувшейся между высокими соснами. Вода здесь застоялась. И тяжело нависавшее небо отпечаталось на ее поверхности.
Разодранная одежда, пересохшее горло и лицо, опухшее от побоев. Вот все, что оставило ему последнее испытание. Его не пытались убивать или мучить, скорее всего не пугали. Было ощущение, будто таким странным способом его куда-то хотят пригласить, вовлечь в нечто незнакомое. Но для чего?!
Сосны. Сосны. Старые хвойные великаны угрюмо расступались перед узкой водянистой полоской. Куда вела она? Он ожидал, что течение приведет к графскому дому и шел дальше, по колено в воде.
К вечеру промелькнуло солнце из-за туч. Христиан вытер со лба пот. Пейзаж, дотоле строгий и спокойный, вдруг приобрел мрачные тона – вода растекалась по нескольким ответвлениям, проходящим между старыми надгробьями.
В запутанности веток Христиану померещились волосы Юнны. Он подошел ближе – там, за деревьями лишь призрачная старуха проходила куда-то…
Опустив голову на грудь, Христиан пробродил всю ночь. В мозгах его была сплошная сумятица. Ноги шли сами собой. Его глаза не заметили тумана, а он повис, опустив до травы свои длани.
В двадцати шагах от Христиана застыла фигура человека в белом.
Христиан проследовал в сторону увиденного, и на открывшейся его взору опушке он увидел лежащего человека, из живота которого торчали колья.
– Христ, я столько ждала тебя. Я так волновалась. – Юнна стояла у дверей и смотрела на него широко открытыми глазами. У нее был настолько спокойный, проникновенный голос, что Христиан невольно отшатнулся, но сразу поборол свое смущение.
Она молчала. Он прижал ее голову к себе, и они пошли вверх по ступеням.
Дверь его комнаты оказалась забита гвоздями.
– Мне страшно, – промолвила девушка.
Они спустились за лампадой и гвоздодером. Но едва он принялся за работу, как пламя погасло. Пришлось спускаться за спичками.
– Не оставляй меня одну, – попросила Юнна.
Христиан вернулся. Нашел Юнну. Она сидела в углу, сжав руками колени. Лампады на месте не оказалось. Он поводил руками над полом вокруг, но тщетно. На его вопрос о местонахождении пропажи Юнна не смогла ничего ответить. Он шагнул в ее сторону и задел лампаду ногой. Раздался звук разбитого стекла, запахло керосином. Христиан потянулся за выпавшим из рук гвоздодером и порезал пальцы.
Юнна замотала платком его самую кровоточащую ранку, и они ушли в ее комнату. Христиан почувствовал вдруг полное безразличие к шуткам графа. Он стал скулить и лаять, подражая дворовым псам. У Юнны он увидел огромное зеркало и принялся жадно рассматривать свое отражение, невольно угадывая в зеркальном двойнике черты лица графа.
Она приближает к себе его пораненные пальцы и снимает с них платок… Они катаются в объятиях на полу… Она рвет на нем одежды…
За окном сгущались сумерки. И было тревожно на душе Христиана, взглянувшего на темные очертания сосен.
– Уйдем скорее… мне страшно. – Сказала Юнна и показала рукой в сторону леса. – Там пышные мхи и запах свежей мяты.
Она обвила руками его шею и тело ее задрожало под тонким платьем.
– Раньше я прикрепляла к дверям твоей комнаты траву зверобой, чтобы сберечь тебя от злых напастей… Гертруда убирала все в корзину. Я приказала слугам осмотреть весь дом – никаких дьявольских отметин не найдено. Ганс вытащил откуда-то мертвую жабу, кажется из-под ворот.
– Не говори ничего… Это граф….
– Нет-нет, – перебила Юнна. – Он своими руками спрятал восковую куклу, похожую на тебя и с ней ничего не случится…
– А кто ее вылепил? Зачем?
– Не вырывайся, мне так теплее… Просто издавна повелось лепить куклу гостя.
– Вы забыли о Боге. А меня посвящали дьяволу. Запугивали.
– Ты сам себе все выдумал. Со страха столкнул моего брата, но я не смею тебя обвинить. Я сделала все заклинания… только бы ты не пропал. Я тебя, я тебя…
Она уткнулась лицом в его грудь. Когда они вошли в лес, он увидел, как потемнели ее глаза, как изменился голос, движения.
– Я… я надеюсь спросить тебя, – Христиан прервал затянувшуюся паузу.
– Тише. Нас подслушивают… – она улыбнулась и добавила –…звезды.
Христиану опять показалось, что у молодого ельника, в пяти шагах от него, лежит труп.
– Там, та-ам! Убитый человек. Может Руди… – выдавил из себя Христиан и с омерзением опустил слипающиеся от крови ладони, не понимая, почему они в крови.
– Здесь никого нет, кроме нас, – пролепетала Юнна. – Ночная мгла таит в себе обманы. Не верь ей. Ты же помнишь Бога. Да? Где твое распятие?
Он помрачнел.
– Ты игрушка и не интересуешься, кто тобой играет Обозлился на невинного графа.
– Я не верю никому. Я ни во что не верю. Если Бог забыл про меня – я не верю ему. Ты от меня что-то хочешь и не откровенна со мной.
Христиан присел и вытирал в траве ладони.
– Они у тебя чистые, Христ.
– Да вот! Опять! Ты разве не слышала вопль?!
– Не бойся…
– Что за тварь там орет?!
– Живут дикие собаки на кладбище Ангелов.
– Ты живешь на острове, тебе нравится по ночам просыпаться от воплей, искать под воротами мертвых жаб, терпеть сумасшествия графа, гулять по кладбищу с собаками? Да? Я что-то упустил?
– Я искала тебя…
Юнна уходила от Христиана, не сказав больше ни слова. Зачем она звала его сюда, чтобы оставить одного?
Она растаяла во тьме.
Юнна входила в гостиную улыбаясь, хотя по лицу скатывались крупные градинки слез. Она расставила пальцы рук, будто страшилась их прикосновения друг к другу.
– Я люблю его, – выговорила она единственную фразу и остановилась в нерешительности.
Она задела еще не зажившей ногой край первой ступени, и была столь раздосадована вновь обретенной хромотой, что стала бросать и разбивать все, попадавшееся под руку. Ее охватил внезапный порыв смеха. Многочисленные зеркала разбивались и сыпались стеклянным дождем. В комнате столпилась вся прислуга.
Природа затаилась в мерцающем свете. Этот свет проникал в дом. Свет струился по комнате, задевая постель и рассыпанные по подушке волосы. Запах мокрых трав, и розы, стоявшие в вазах, наполняли комнату тонким ароматом.
Юнна сбросила одеяло и принялась сдвигать все вещи к дверям. На стене, напротив окна, разыгрывалась пляска теней, а за дверями нарастали шорохи. Юнна с головой накрылась одеялом. С пришествием сна ее тревоги утихли. По комнате разливалась далекая мелодия. Кто-то стоял рядом со спящей совсем близко, на расстоянии вытянутой руки.
Не проснувшись, Юнна поднимается с постели (может, ощутив рядом пришельца). Вытягивает вперед тонкие длинные пальцы, широко раскрыв глаза, обращенные внутрь, Юнна плавно и бесшумно покидает комнату, разваливая дверные заграждения.
Христиан проснулся от шума, поднявшегося в доме. За окном лил дождь. Крадучись, будто ночной вор, он пробрался в коридор, тускло освещенный лампадой, и затаился в углу.
Сомнений не оставалось – он здесь не один. Дыхание, услышанное им раньше, теперь слышалось все явственнее. Христиан бросился туда, где по его мнению укрылся незнакомец, но оступился и упал.
Между тем, в узком коридорном окне трепетно шумела взмокшая листва. Словно роптала она на участь свою быть пленницей безучастных дождей, словно отчаянно просила – выпрашивала покой.
– Иди ко мне! Открой свою личину! – выкрикнул Христиан. Ему никто не отозвался. Но над собой Христиан увидел склоненную голову с зияющими впадинами глазниц и ушных раковин.
Оборотень вцепился мертвой хваткой в обомлевшего Христиана. Тому удалось вывернуться и схватиться за медный стояк. На спине затрещала одежда. Раздался нечеловеческий вопль. Христиан потерял сознание.
По дому, в истерике, бежала служанка от безмолвного преследователя, спрятавшегося поблизости. Она запирала за собой все двери. Мучимый болями в голове, Христиан двинулся в направлении криков. Он нашел служанку со следами ужаса на лице, схватил за руку и молча потащил вверх по лестнице. Он завел служанку в свою комнату и, прикрыв одеялом, присел рядом, у края постели. Его впервые, за время пребывания на острове, охватило полное равнодушие к происходящему. Христиан задернул шторы от лунного света (дождь уже прошел), зажег лампадку и вернулся к постели. Теперь он понимал, что жизнь его вне опасности, но спал он чутко. Когда приоткрылась дверь, он увидел Юнну. Девушка вошла осторожно, не касаясь пятками пола, и заманчиво улыбнулась ему. Она расположилась рядом с ним и потушила лампадный огонь. Потом она встала и легла на кровать, поверх одеяла. Заметила ли она служанку, Христиан не знал. Он смущенно смотрел в потолок, она – на него. Улыбка не покидала ее прекрасного лица.
Когда он уснул, Юнна подняла над служанкой одеяло и с презрением рассматривала ее тело…
Повеяло скрипичными мелодиями, Юнна встала с постели. Ее ладонь, изящно изгибаясь, скользила по рваной рубахе Христиана.
Деревья гнулись под неистовым ураганом, налепляющем на окна сорванные листья. Послышался грохот свалившихся с крыши досок.
В распахнутое окно Юнна наклонила голову навстречу дождю. Перед домом, завывая от наслаждения, умывался старый лес
Христиан открыл глаза, приподнялся на локти и долго смотрел, как трепещет под ветром ночная сорочка Юнны. Девушка кружилась по комнате, изображая марионеток. Он сжал ее в своих объятиях. Она томно взглянула на него. Из ее губ и глаз выступили мизерные кровинки. Она показала ему потайную дверь в стене.
Узкими лабиринтами подземелья они выбрались в лес. Они шли на кладбище, чтобы выкопать камни.
– Я заставлю графа показать, где он прячет лодку, – сказал Христиан.
– Нет. Ты не тронешь его. Я не пойду никуда.
– Да не упрямься.
– Ангелы не оставят нас в покое.
– Какие Ангелы? Боже мой. Клянусь – их нет. Клянусь своей не проданной душой, своим крестом.
– Не говори так. Будет горе твоей души. И я не сберегу тебя.
– Ты бережешь графа от меня, а меня от графа?
– Он не виновен. Он единственный искупил грех своих отцов и преданно исполняет ритуал… Да ты… ты сам знаешь…
– Но он не молится о Боге…
– Не надо, прошу тебя.
Христиан не мог уже сдерживать своего волнения и заговорил быстро и трепетно:
– Он послушник Сатаны, совершает кровавые жертвоприношения. Умерщвляет людей и издевается над их душами, не пуская их на небо…
– Ты наговариваешь на него…
– А кто вызывает в дом бесов?! Место их в преисподней!
Христиан наговорил еще много оскорблений в адрес графа.
Юнна не спорила с ним и не сдерживала его.
Взошла луна. Голубой свет нежно скользил по их лицам, соприкоснувшимся губам. Темная жидкость струилась вокруг поцелуя и капала. И вот, как два вампира, разомкнув обагренные уста, они с наслаждением взглянули друг на друга, будто не виделись тысячу лет.
– У меня полный рот клубники, – оправдывалась она.
Он ничего не отвечал. Вращательным движением ладони она растирала сок по его щекам.
«Я сам становлюсь бесом. И теперь ничто так меня не притягивает, как эта девушка. От ее появления на кладбище что-то произойдет. Чует мое сердце.» Так рассудил Христиан.
Он швырнул девушку в траву и, порвав свою одежду, стал связывать руки и ноги Юнны. «Я укроюсь неподалеку.»
Он сам не понимал, что ждет его там. Чего он хочет? Христиан нес на кладбище Юнну.
«Души… Не зря она упоминала души, да-да, души блуждающие. Кажется, так она сказала. Может, появится свет из места захоронения камней. Может быть…»
На кладбище он быстро разыскал ту яму, которую заприметил в прошлый раз. Пустая яма. Неизвестно, кто ее вырыл так близко от склепа. Христиан оставил Юнну связанной в этой яме, а сам укрылся в густых зарослях боярышника.
Сумерки опустились на кладбище неожиданно быстро. Малейший шорох лесного зверька или крик засыпающей птицы заставляли Христиана вздрагивать и всматриваться в темноту до боли в глазах. Он не знал, чего он ждет и скорее готов был выдержать нашествие бродяг псов, чем того, о чем он мог только догадываться.
Прошла старуха, или показалось – он не разобрал, но ясно услышал голос Юнны. Она позвала его. Христиан не отзывался, терпеливо ожидая последующих криков. Так, незаметно, его окутал сон. Во сне он услышал те ужасные крики, которых так остерегался. И он спустился в яму, сорвал с гроба крышку… Смрадным духом повеяло оттуда. Глаза застилала чернота. Когда он догадался, что от страха глаза его закрыты, он их открыл… В упор на него смотрела ведьма. Вяло улыбаясь, неестественно медленно она вращала зрачками и зашевелились ее бесцветные волосы. А рядом с гробом, скорчившись от холода, прижав подбородок к левому предплечью, спал мальчик Постав. Кожа лица его теперь не выглядела столь бледной, как раньше, а наоборот, была румяной: волосы отросли, со лба сошла царапина. Христиан тянется за накидкой – хочет накрыть коченеющее тело мальчика. Накидка рассыпается в прах. Лишь лента, которую он видел часто, в самых разных местах, лента осталась в его сжатой ладони.
Сверху кто-то окрикнул его. На насыпи стоял охранник. Христиан поднялся во весь рост. Его подхватили сильные руки охранника и поволокли по земле. Христиан упирался руками и ногами в землю и рыдал, как в детстве, от бессилия.
Проснувшись, он услышал свой крик и прижал к груди ладони. Над ним качались ветки кустарника. Он осознал, что видел сон, встал, отряхнулся и пошел вызволять Юнну.
Яма была пуста. Христиан побрел с кладбища, опустошенный и обессиленный. Он умылся в лесной луже, отгребая нападавшие листья.
Явившись в дом, Христиан нашел внутренний интерьер измененным. Не осталось и следа от нашествия оборотня. В своей комнате Христиан не нашел никаких перемен. Гертруда спала, укрывшись с головой одеялом. Из двери торчал гвоздь, который Христиан заметил не сразу. Он увидел, как сколачивали доски гроба Гюстава такими же четырехгранными гвоздями, и этот, с перекошенной шляпкой, долго не могли вбить.
Христиан подошел к постели и откинул одеяло. Девушка была мертва. Он немедленно покинул комнату, на ходу смахивая с ботинка прилипший клок длинных женских волос. Навстречу, по ступеням, поднимался граф. Вид его говорил о том, что он не подозревает о случившемся. Граф держал перед собой небольшую шкатулку и приветливо улыбался.
– О, а я Вас, признаться, потерял… Вы неплохо освоились в нашем обиталище. Отдыхаете? Живописные места… Не спешите, не отвечайте. Я покажу Вам нечто… Ах, Ваше лицо… Я не заметил… Наши девушки, проказницы, они умеют царапаться, – и граф залился смехом. – Такое никуда не годится. Я угощу Вас мазью, и через два-три дня Ваше благородное лицо очистится от ран. Стоило мне запереться вдвоем с искусством, как Вас подвергли шуткам, чудовищным по замыслу.
– И ночью, и днем Вы не выходили?
– Сожалею, нет. Поверьте, я накажу того, кто Вас обидел. Может, Гертруда? Будьте милосердны к ней, несчастной девушке.
– Несчастной?
– Жестоко, несправедливо распорядилась судьба с ее родителями. В моей обители дитя просто воскресло… Жаль с Юнной они не сдружились. Кстати, почему Вы не обращаете внимания на Юнну. Скучает бедное дитя в своей комнатушке…
– Откуда Вам известно, что она у себя?
– Да поверьте, с утра она и не выходила. Пойдемте в мастерскую…
– Я… я зайду попозже…
– Нет, нет. Так я Вас не оставлю. Пойдемте же.
В полутьме подземелья, с чашкой крепкого кофе, Христиан слушал безудержную болтовню графа о творчестве, но в голове оставалась картина таинственной смерти Гертруды. Сказать об этом графу Христиан не решался. С немалым трудом он улавливал отдельные фразы из речи собеседника, не вникая в их смысл.
Наконец граф сорвал накидку с рамы своего последнего творения. Христиан вспомнил, что эта серая накидка ему приснилась прошедшей ночью. Ему даже показалось, что видел он в той могиле Гертруду, но из-за ведьмы ему запомнилось только лицо Гюстава и охранник.
Между тем, на картине, показываемой графом, Христиан увидел следующее: на переднем плане искривленные стволы деревьев, переходящие в корни, у которых мечутся в агонии люди, головы несчастных покрыты сплетениями белых сухожилий, среди хаоса веток запутались волосы. Там, где кончаются деревья, под сиреневым светом, стоят могильные камни разной величины и возраста. Из небесного сморщенного покрывала торчит угол гроба с прижатой почерневшей ладонью. Сиреневый фон переходит в черновато-коричневый. В отдалении девушка молится под висящим на столбе монстром. В его пустых глазницах кишат змеи. Он чем-то схож с последним ночным пришельцем. Навстречу молельщице идут, взявшись за руки, Гюстав и Юнна. Нет, не Юнна. А почему-то Гертруда. Над ними занесен меч.
Христиана даже пробрал холодный пот от его догадки. Граф знает о смерти Гертруды и притворяется. Он вновь хочет свалить всю вину на Христиана. А может, и монстр той ночью появился лишь для того, чтобы Гертруда оказалась в постели Христиана? И вовсе то был не оборотень, а граф или его человек.
Христиан оглянулся – графа не было. Христиан услышал из угла какое-то бормотание, последовал туда, задевая по пути стоящие подрамники. Граф сидел на корточках, раскрыв перед собой одно из полотен, и Христиан услышал его речь:
«Знак… знак, знак. Откуда он? Моя рука не могла… Я писал тогда одни пейзажи. Столько лет… Дьявольские пять отростков звезды морской. Мерзкое чудовище в пейзаж не вписывается. Я помню, создал пейзаж, когда мы поладили с Бертой, после первой ссоры, да, на тридцать восьмой день после смерти сына моего нареченного. Я показал ей картину и готов был преподнести как подарок. Она просила повременить до светлой ночи полнолуния, которую так любила… Берта… Берта… моя волшебница. Ты приучила меня к себе и покинула. Я сходил по тебе с ума. Ты знаешь об этом? Ничто не могло разъять мою тоску, никакое горе не пересилило мою печаль. Я принес столько жертв на алтарь твоего возвращения, я испробовал все средства…»
По стеклам единственного подвального окошка застучал дождь. Христиан видел, как юркими струйками по стеклу растекались разноцветные краски, где перемешиваясь, где сохраняя изначальный цвет. Граф все сидел, понуря голову, и растирал рукой морскую звезду на холсте. Граф вдруг повернул голову к Христиану и растерянно произнес.
– У тебя на спине этот дьявольский знак.
– Что-что?
– Ты прислужник Сатаны, и невольный убийца, каким стал я. Я тоже видел мираж замка над морем и рыл камни. Отметину могла поставить только моя Берта, но ее с нами давно уж нет Ее сестра? Как поздно я понял… Мое безумье со слепотой. Толкать на гибель и оставаться безучастным.
Граф в отчаянии схватил козью шкуру и швырнул ее.
– Я поддался Вашему обману, граф. Теперь я покончу и с ним и с Вами. Во мне нет страха. Мне безразлично, покину я остров или умру здесь. Останусь гнить среди Ваших бунтующих мертвецов или… – Христиан говорил взволнованно и сжимал кулаки. – По ночам я встречался с призраками Юнны, Гюстава, стариков-слуг, рыбаков. С ума они меня не свели – Ваш труд не принес Вам ожидаемых плодов.
Христиан вдруг умолк и после паузы заговорил граф:
– Зачем им ходить в гости к своему невинному убийце? Трогать хрупкую душу? – в глазах графа появился страх, он спросил дрогнувшим заискивающим голосом: – Может, на исходе ночи пальцы шаловливой зари бродили по Вашей постели и Вам померещилось? У меня приготовлено снадобье. Вы вправе отказаться, но я отопью сам, чтоб Вы не сомневались.
Граф сделал несколько глотков из серебряного графина и продолжал:
– Рецепт приготовления я расскажу Вам позже, а вот состав напитка, болотный сельдерей, корни мандрагоры, сало змеи, кровь удода. Еще… не обессудьте… кровь девочки…
– Какой девочки?
– Юнны, разумеется.
– Благодарю Вас, жажда меня не мучает.
– Напиток Вам нужен для лечения.
Граф стал задыхаться, не смея преграждать дорогу настойчиво бьющимся в его мозгу догадкам. Отчетливо, ярко прослеживалась цепь ритуальных убийств, совершенных не без участия графа. Возмездие его страшило. Он стоял подле своих творений, как провинившийся юнец, и припоминал сопутствующие убийствам знаки Сатаны.
«Цветы в оранжереях и в саду – детище Берты Когда над ними склоняется Юнна, они так томны и нежны, так ласково зовущи. При моем появлении они сверкают, светятся, трещат, становятся загадочны, коварны, похожи на нее… Восковые куклы, ленты для могил и крыс, пытки слуг. Дьявол управлял моей душой. Спасти бы Христиана, тогда мы спасемся оба.»
– Вас беспокоят последние события? Не казните себя. Пылающий ангельский меч чаще оказывается догорающим прутом. Кто здесь умер при мне – запечатлен в моем искусстве, а значит спасен. А кто напишет мой портрет?
Христиан с удивлением обернулся на графа. После некоторого замешательства хозяин подземелья извлек баночку с обещанной мазью от гнойников, появившихся на теле Христиана.
– Граф, мне показалось… Что с Вами? На Вас лица нет.
– Иди к девочке Юнне… Она очень любит сниться по ночам всем нам. Приснись ей.
– Вы бредите.
– …Еще успеешь ее найти.
– Я отведу Вас, позову слуг.
– Оставь, мне скоро полегчает. Оставь меня.
Граф провел рукой по поверхности холста и оглянулся, выпучив глаза. Христиану стало жутко и он поспешил уйти.
– К черту все! – хрипел граф, собираясь с последними силами. – Я отравлен. Пусть меня сожрут оборотни, – и он по-новому увидел свои картины, водя глазами, и скользил его взгляд, не зацепляясь ни за один из образов. – Оборотень не я! Не я! Ты слышишь, Христиан?! Сжав в кулаке рукоять ножа, граф искромсал все холсты, превратив их в клочья. Граф вырезал крест, расстелил его на полу и лег. Глаза его безумно горели, он шевелил пересохшими губами, издавая нечленораздельные звуки.
– Берта! Ты меня сгубила… А? Ты пришла… Я слышу твое звериное дыхание. Ты пожаловала ко мне. Я отрекаюсь, пусть поздно… Христиан… ты помечен… опасайся.
Сжав руками горло, граф корчился от удушья. Так и замер он в своем последнем движении, вытянув руки к выходу из подземелья.
…Христиан искал Юнну тщетно. Ее нигде не было. В лесу слышался плач болотной выпи. Пахло сырой травою. Под подошвами ботинок хлюпала вода. Христиан дошел до озера.
«Она убита… С чего я взял? Граф ее любит не меньше пропавшей Берты. Вода на пруду будто застоявшийся дым. Причем здесь вода? Пора возвращаться…»
Ему улыбалась блестящая листва ольхи, его приветствовали костры кипарисов, но ничто не меняло его тревожного состояния.
Христиан, выходя из леса, услышал рев свиней. Добежав до загона для скота, он увидел лежащего человека, которого мяли несколько тучных боровов. Христиан бросился в самую гущу. Животные свалил его с ног, но взмахами ножа он разогнал обезумевших свиней. Посреди ворот молча стоял графский пес.
Тело человека зашевелилось. Это был охранник. Он держался за бок, где видимо, были сломаны ребра.
– Хрис… Хрис… убей меня. Не вынесу я этого. Задыхаюсь.
– Кто хотел тебя убить? Кто?! Граф?
– Граф мертв…
– Я видел его час назад…
– Меня душила ведьма. Я увидел ее близко…
– Ты путаешь. Тебя давили свиньи, разъяренные. Каких я никогда не видел. Средь бела дня.
– Убей. Я не жилец… Молю тебя… О страх божий.
Охранник продолжал роптать. Христиан смочил водой его ободранное лицо, застывшие в бороде сгустки крови. Больше всего у охранника была поранена правая рука. Она безжизненна висела, а пальцы образовали сплошное кровавое месиво. Услышав о ведьме, Христиан бросился на поиски ее. Он пробежал помещение загона до конца, разбивая перегородки, переворачивая весь хлам, он порезал мешки, наполненные зерном и вернулся к охраннику, умерив свой пыл. Он направился в дом за покрывалом.
У клумб цветочных Христиан вдруг заметил Юнну. Она повернулась вполоборота и равнодушно посмотрела на него. Неведомая ему сила свалила его с ног перед девушкой, и он распластался на траве…
Христиан вернулся к охраннику, проткнул покрывало и вдел в него бечевку, затем он заманил хлебом оголодавшего борова и накинул петлю ему на шею. Свинья потянулась за хлебом и потащила свою ношу. Так Христиан доставил до побережья полуживого охранника.
С лодочными цепями он справился не сразу. Когда он их распутал, принялся перевязывать охранника лоскутами своей рубахи. Тот немного пришел в себя и даже заметил Христиану, что на его спине красное пятно.
Навстречу волнам Христиан вытолкнул лодку, и охранник, превозмогая боль, заработал одним веслом.
– Поплыли вместе?! – предложил он Христиану.
– Я потом… мы встретимся на суше. Да сохранит тебя Господь.
Лодка удалялась в открытое море.
…Она лежала перед ним, как живая. Он стоял над гробом и всматривался в ее безмятежное лицо и ждал, что вот-вот вздрогнут ее веки, и она оживет и поднимется.
О Юнна! О Юнна! Как случилась твоя смерть?
С другого берега съехалось множество людей, знавших ее еще ребенком. Похоронная поляна была устлана цветами, и потому люди толпились кто где мог в незанятых цветами местах.
Ее лицо накрыли белоснежным саваном. Христиану мерещилось, что теперь, под материей, она улыбается ему, а в области шеи выступает кровь. Он сжал ладонями лицо, чтобы избавиться от наваждения. Когда вновь поднял глаза – видел карлика в шутовской одежде.
– Никогда я не видел скоморохов на похоронах… – Зачем он здесь? – обратился Христиан неизвестно к кому.
– Он не шут, он – карлик… – последовал ответ стоящего позади старика.
– Он родственник? – спросил Христиан.
– Говорят, у графа, после смерти, остался наследник, отвергнутый графом из-за того, что он карлик. Граф однажды одумался – устроил поиски сына. Даже объявил всем, что нашел и показал мальчика. Все знали – это ложь. Так граф вторично взял на себя грех перед Господом и потерял его милость. Граф понес суровую кару, но не он один – невинные Юнна и Гюстав, невинный приемный сын, ближайшие слуги – все раньше срока покинули этот бренный мир.
Теперь народ решил не гневить Бога и отдать дань умершим и убиенным карликам графского рода, молиться за спасение их душ, садить цветы на их могилы. Тогда, может, объявится графский сын, отпустит нам прощение и прекратятся напасти, от которых столько лет нам нет покоя.
Мы в каждом карлике видим своего спасителя. Едва старик умолк, как заговорила женщина, отстраненно глядя перед собой.
– …Она лежит в саду белых хризантем, которые обожала безумно… Белые цветы и яркие ленты – она дарила их каждому. Может, глаза бедной девочки увидят их и унесут с собой в мир божественный…
– Эта женщина воспитывала Берту и Юнну… – прошептал старик, подойдя совсем близко к Христиану.
Последняя встреча с Юнной, их последний разговор. Христиан вспомнил все.
Он вернулся с берега, когда уже смеркалось. Прислуга занималась подготовкой предстоящих похорон графа. Все делалось молча, без суеты и излишнего волнения. Христиан с Юнной ушли в лес. Лениво шелестели листья, напившись дождя. Пахло мятой.
Юнна и Христиан – две хрупкие тени под лунным сиянием, шли по серебряной траве. Очертания их фигур гармонично вливались в один высокий силуэт, который нельзя было отличить от силуэтов деревьев, который трепетно дрожал под молчаливую музыку мерцающих звезд.
– С луны дует ветер, – прошептала она.
С этим шепотом в голове Христиана поднялся рой голосов и рассеялся, издавая одномерное звучание, похожее на шум ветра.
– На! Возьми же! Возьми! – говорила она.
– Я не вижу. О чем ты просишь?
– О ландыше. Я дарю тебе белые ландыши. Под порывами ветра надулись их легкие одежды.
– Старуха… – услышал Христиан и переспросил.
– Старуха, – последовало повторение.
– Куда ты смотришь? Я не вижу. Ты так вздыхаешь, что у меня подпрыгивает сердце. Мы здесь одни. Ты вздыхаешь, будто кричишь.
Она молчала, сильно сжав губы и глубоко дыша. Затем она поднесла ладонь ко рту…
Его охватило лихорадочное волнение. Он схватил ее за холодеющие руки, он заглянул в ее глаза…
Через некоторое время, в лесной тишине, раздался отчаянный крик Христиана:
– Ты мертва!
– Ты мертва! – закричал Христиан и, испугавшись собственного крика, открыл глаза. На него в упор смотрела Юнна. Лицо ее было покрыто дряблой порванной кожей, над которой свисали волосы как нити шерсти. В глазах ее застыл бешеный смех.
Христиан бросился с кровати на пол. За дверьми больничной палаты, в которой он лежал, послышался отчетливый стук каблуков. С керосиновой лампой в руке сбежала санитарка.
– Христиан! Что случилось? Встаньте с пола. Вы каждую ночь поднимаете крик. Опять ведьма?
«Боже! Какое знакомое лицо!» – подумал Христиан, когда санитарка подняла лампу к лицу.
Она продолжала его успокаивать, поднимая упавшие на пол простыни:
– …Окна закрыты, двери на улицу заперты, в коридоре никого нет, кроме меня… Вас ведь собираются выписывать. Доктор говорит, что Ваш рассудок здоров…
После этих слов она улыбнулась лисьей улыбкой и ушла.
Когда за окном рассвело, Христиан разглядел на груди кровяные контуры недорисованного символа: три извивающиеся звездные конечности.
«Я узнал тебя… пропавшая Берта. Ты напрасно прячешься под маской сестры. Твоя сестра меня любила, и страсть к смерти, которая может в ней рождалась, погубила ее, но меня прошла стороной.
Что ты хочешь от меня, Берта? Или мстишь за сестру? Ведь ей я позволил бы все, но не тебе. Уйди от меня прочь…»
Утром за ним пришла другая санитарка и повела его к доктору. Его приветствовали гуляющие душевнобольные. Христиан не упустил никого: кому скорчил гримасу, кому покачал головой, кому кинул ободряющие слова.
– Вам не кажется странной? – обратился Христиан к санитарке.
– Что-что? – переспросила она.
– Морская звезда, всплывшая на рассвете, – произнес он довольным тоном.
В окнах коридора, за толстым решетками, показался сад. В нем зацвели яблони. Глаза Христиана погрустнели. Он принялся разглаживать на голове непослушные седые локоны волос.
Доктор уже ждал Христиана в своем кабинете.
– Минувшей ночью в дверь клиники постучал один посетитель. Ему открыли, несмотря на его поздний визит. Он отказался представиться. Я уже не беру в расчет его странный вид.
Конечно, бывает, нас посещают бывшие пациенты, которые не совсем выздоровели или заскучали по оказанному им здесь теплу. Но этот, судя по всему, у нас не лечился. Во всяком случае, за время своей практики я его припомнить не могу.
Он пожелал встречи с Вами. Мы отказали, естественно. Посетитель не возмутился, что делает ему честь. Он передал письмо и попросил сообщить Вам на словах: Ваше настоящее имя – Христиан фон Зольбах. Вы единственный прямой наследник покойного графа Генриха. О чем, быть может, не догадываетесь.
Доктор протянул Христиану письмо. В нем говорилось:
«Любезнейший граф Христиан фон Зольбах.
Ваша мать, урожденная Генриетта фон Зольбах погибла в 1853 году при невыясненных обстоятельствах. Перед этой страшной трагедией Вас увезли шести лет от роду в город, на воспитание дальних родственников. Вас считали карликом, из-за того, что Вы медленно росли. Граф побоялся оставить Вас в доме. Именно его обвиняли потом в смерти Вашей матушки. Ее прах покоится теперь в склепе, на кладбище Ангелов.
Я сообщил Вам то, что уже тогда Вы узнали и поспешили на встречу с отцом и на могилу матери. Вашу лодку перевернуло штормом. Вы чудом уцелели, но пережитый шок не дал Вам вспомнить то, что Вы знали…»
Христиан отвел глаза от письма и задумался:
«Значит, я рыл драгоценности, кощунственно потревожив прах моей матери. Ее бродивший дух в облачении старухи не позволял мне служить Сатане, и потому я не нашел эти камни. Но почему Юнна шептала: „старуха“ и остерегалась ее призрака? Ведь Юнна также спасала меня от нечисти, сама едва не покоряясь Сатане. Я полюбил ее. Я бы отдал все, чтобы в час своей смерти вновь испытать ту любовь, перемешанную с ужасами. Я обожал эту девушку, рассыпавшую звезды и цветы. Я клянусь, мне завидовал Дьявол…»
– Христиан! Да придите же в себя. Вы дочитали письмо?
Доктор стоял перед ним и тряс его за плечи. Дальше Христиан стал читать вслух:
– …Теперь, дорогой Христиан, я приближаюсь к цели своего письма. Я спешу облегчить Ваши воспоминания. Вам надлежит прибыть на остров и приступить к делам. Сопровождающие прибудут за Вами.
На острове Вас ждет Ваша возлюбленная. Она не умирала, как это могло Вам показаться. Да-да, она жива. Она выжила благодаря Вашей любви и доброму сердцу.
Человек, познавший любовь на пороге ужаса бесовского, достоин многого. Однажды, Вы, даже будучи без сознания, при ее приближении протянули к ней руки и Ваше лицо оживилось…
На этой фразе Христиан выронил письмо из рук. Он вспомнил все, что с ним произошло, до малейших деталей. Последние сомнения развеялись. Ведьма себя проявила. И он, сам того не ведая, служил ей сердцем…
Доктор поспешил нарушить затянувшееся молчание:
– У Вас появился хороший повод к скорейшему выздоровлению. Ваша возлюбленная вернулась к жизни ради Вас. Что может быть прекраснее? Вы счастливейший из смертных, граф. Поздравляю.
Игорь Гаврилов
Последний довод моря мрака
И спасся только я один, чтобы возвестить тебе.
К пяти утра ночной дождь кончился, с ним прервался и мой сон, чуть более спокойный, чем месяц назад, но все еще не принесший желанного полного отдыха. Минутная стрелка часов успела обежать половину циферблата, прежде, чем я подошел к окну, чтобы сделать то, что за последние месяцы стало почти ритуалом. Мои руки лежали на подоконнике открытого окна, за которым был сад. За его низкой оградой начиналась Конкорд-стрит, одна из окраинных улиц Спрингфилда, штат Массачусетс. Взгляд теперь приковывало Солнце, восходившее из-за аккуратных деревьев Восточного парка. Подобно жрецу майя на заре цивилизации, я встречал свое светило, и не мог отвести глаз. Оно всходило из Атлантики, этого древнего Моря Мрака, чей давящий рокот я ощущал даже здесь, за сто миль от его первых волн и пляжей.
Через час в дом придет миссис Мак-Колин, чтобы приготовить завтрак и начать потом свою обычную уборку. К тому времени Солнце взойдет, и я буду уже в кабинете, где за столом, полным бумаг, стану долго и мучительно сидеть с потухшими от прошлого глазами, прежде чем напишу первый знак на чистом листе. Служанка поставит поднос и уйдет, бросив на прощание косой взгляд, и вечером поделится с такими же пожилыми миссис своими наблюдениями над «странным полусумасшедшим англичанином».
Да, именно таким, странным и полусумасшедшим, выгляжу я в глазах обывателей Спрингфилда, британский аристократ по крови, ученый по призванию. Впрочем, эти факты биографии обыватели не знают. Так кто я же я на самом деле?
Быть может, сам Господь избрал меня для того, чтобы донести до мира весть о приближающейся каре за самодовольство, ложную философию и всеобщий декаданс. Но нет, я не мессия и не проповедник, а просто человек, раздавленный носимым в себе знанием.
Мое имя Герберт О'Нейл. Далекие предки мои покинули Ирландию еще во времена Столетней войны с Францией, чтобы, вступив в армию короля английского, попытать счастья в других землях. Позже, получив в награду феод, они обосновались в Англии, близ города Бристоля.
Многие из нашего рода были людьми неординарными, смело выходили за рамки общепринятых для их круга канонов, сближаясь со многими выдающимися деятелями разных эпох. Фамильные портреты – непременный атрибут старинных династий – донесли до меня их лица. Сэр Роджер О'Нейл, придворный времен короля Иакова I, один из немногих друзей великого Бэкона. Или мой дед, адмирал сэр Эдуард, близко знакомый с Изомбардом Кингдомом Брунелем, этим Леонардо да Винчи XIX века.
Именно Брунель, чье жизнеописание поразило меня в ранней юности, стал тогда моим кумиром. Его великое творение – железнодорожная магистраль «Грейт Уэстэрн» проходила всего лишь в миле от нашего родового поместья, и мне, совсем еще мальчику, казалось тогда, после рассказов сэра Эдуарда, что дух великого инженера еще витает здесь, увлекая мою юную душу в удивительный мир стали и пара. Несмотря на то, что я был единственным ребенком в семье и наследником большого состояния, я выбрал для себя профессию инженера, стремясь собственным трудом создать себе имя. В глубине души я лелеял мечту стать, подобно Брунелю, Леонардо да Винчи наступавшего века XX. После шести лет учебы, получив достаточно хорошее для того времена образование, я поступил на службу в крупную судостроительную фирму «Харланд энд Волф». Произошло это в 1895 году; следующие же десять лет можно смело назвать лучшими годами моей жизни. Участвуя в строительстве многих прекрасных кораблей, я пребывал в мире моей детской мечты, почти не замечая течения времени, став к тридцати пяти годам одним из ведущих инженеров компании.
Семейная жизнь моя не сложилась, и всего после трех лет супружества я остался вдовцом. Возможно, это было одной из причин, побудивших меня оставить службу. Но главной причиной явилось мое неуемное честолюбие, хлыстом гнавшее вперед.
Так или иначе, в 1906 году я удалился от дел компании и поселился в поместье. Мой отец отошел в лучший мир еще в последний год XIX века и, будучи единственным его наследником, я вступил в полное владение титулом, поместьем и состоянием примерно в пятьсот тысяч фунтов стерлингов.
В течение года я, со всем энтузиазмом разрабатывал идею, которая потом черным лучом пронзила мою жизнь. Я хотел дать людям власть над глубинами Мирового Океана. Над теми глубинами, чей таинственный мрак вызывает у моряков суеверный страх, и куда люди до сих пор проникали только погребенные под обломками погибших кораблей. За тот год, который после всего пережитого вспоминается как время, покрытое каким-то золотистым туманом, мною был разработан проект глубинного судна, которое я назвал батискафом. По моим расчетам, судно это способно было опускаться на глубину до трех миль, выдерживая чудовищное давление бездны.
Быть может, лет через тридцать какой-нибудь честолюбивый инженер повторит мой путь. И да поможет ему в этом Господь! И пусть этот, еще неведомый мне демиург, никогда не испытает того невыносимого ужаса, что явился моим глазам как божественное предупреждение человеку.
…Перо рвет бумагу, все труднее продолжать. И далекий шум океана, слышный только мне, резонирует с биением рассудка. Но все скоро пройдет, течение времени лечит и это. И снова побегут по листу строки, написанные окрепшей рукой.
Я точно помню день и число, когда я сделал последнюю запись и прочертил последнюю линию чертежа: 18 июля. Свет заходившего Солнца падал на стены и пол моего кабинета, отблески его играли на большой карте мира, где большинство площади было окрашено в голубой цвет загадочного и манящего моря. За окном пели птицы. Шумел в дубовой листве ветер, доносились детские голоса – это играли сыновья моего садовника, а разум блуждал там, куда не проникают лучи нашего светила, внимая еще неведомым чудесам подводного мира.
Прежде чем предложить свое изобретение Британскому Адмиралтейству, я твердо решил довести дело до конца, построив на свои средства первый в мире батискаф и испытав его. Для осуществления этого замысла я, действуя через поверенных, арендовал просторный ангар на окраине порта Кардифф, за несколько недель превратив это помещение, ранее бывшее складом, в первоклассную мастерскую и лабораторию. Дальнейшая работа оказалась гораздо более долгой и сложной, чем я в своем наивном энтузиазме мог предположить. Много затруднений возникло также из-за моего стремления сохранить все в глубокой тайне. Уже тогда аналитическому уму было ясно, к чему может привести германский гегемонизм и поэтому, нимало не сомневаясь, что мое изобретение может быть использовано в военных целях, я тщательно скрывал от окружающих то, что происходило в невзрачном ангаре у берега моря.
Четыре года заняло строительство. Осенью 1911 года я стоял в полумраке, опершись на гондолу моего батискафа.
Мои чувства в тот момент сравнимы лишь с трепетом пылкого влюбленного, получившего, наконец, долгожданное свидание у предмета своего обожания. Работа завершена, тусклый свет мглистого дня смутно обрисовывал необычные, несколько ирреальные контуры моего творения. Два двадцатипятифунтовых поплавка возвышались над тускло отливавшей металлом сферой с двумя иллюминаторами особого стекла. Диаметр гондолы был девять футов, толщина стенок ее – пять дюймов. Батискаф мой, при взгляде со стороны, более всего напоминал дирижабль, один из тех «цеппелинов», которыми славилась Германия. Только поплавки были изготовлены из лучшей стали и заполнялись бензином, а не легким газом. Как детище графа Цеппелина парило над землей, мой аппарат должен был проплывать над дном океана, выхватывая из тьмы лучом своего мощного прожектора подводные пики и ущелья, и тайны, доселе людям неведомые. Бензин, как известно, легче воды. Именно поплавки с тридцатью тоннами этого топлива и придавали батискафу плавучесть, необходимую для свободного парения в водной толще. Выпуская часть бензина через специальные клапаны и сбрасывая балласт, я мог всплывать или погружаться. Винт, приводимый в движение электрической энергией аккумуляторов, и руль обеспечивали маневренность и свободу перемещения. Мой труд был поистине титаническим, ведь мне пришлось подробно разработать не только общую концепцию, но и провести огромную работу по исследованию свойств стали и стекла, усовершенствовать аккумуляторы, изобрести системы регенерации воздуха и управления, многое другое.
Теперь я нуждался в признании и славе. Видя себя великим инженером, противопоставившим германским воздушным кораблям британские корабли глубин, я все более и более отдавал себя во власть непомерной гордыни. Нетерпение мое было столь велико, что мною было принято решение немедленно приступить к испытаниям, несмотря на ненастную погоду поздней осени. 17 октября мой аппарат был погружен на зафрахтованный пароход «Звезда Ирландии», который, несмотря на громкое название, представлял собой заурядное небольшое судно длиной 150 футов. Еще через сутки мы вышли из Кардиффа в море. Моей целью было достичь района Атлантики примерно в ста милях от северозападного побережья Ирландии. Именно в этом месте, где глубины достигали трех и более тысяч футов, я намеревался бросить первый вызов царству Посейдона. Неспешно вращал лопастями винта, наш пароходик за четверо суток достиг цели. Однако, штормовая погода вынудила нас вернуться к ирландскому берегу и отстаиваться на якоре в одной из бухт залива Донегал. Только 29-го числа «Звезда Ирландии» легла в дрейф посреди океана. Под нами было две с поло виной тысячи футов водной толщи. Последние сутки я не мог спать. Нервное возбуждение было таким сильным, что мне с трудом удавалось подавлять внешние признаки моего волнения. На борту судна, в своей каюте я лихорадочно проверял и перепроверял расчеты, опускался в трюм, чтобы при свете фонаря еще и еще раз внимательно осмотреть все узлы батискафа.
С утра на море опустился легкий туман, рассеянный к полудню холодным осенним Солнцем. В час дня я с трудом проник через узкий люк внутрь гондолы. Тяжелая крышка захлопнулась. Сквозь толстые стенки сферы звуки почти не проникали внутрь. Тишина стояла столь гнетущая, что усевшись в кресло, я принялся механически барабанить по панели управления пальцами. Эти глухие звуки делали атмосферу менее подавляющей. Аппарат качнулся и медленно пошел вверх, в иллюминаторы проникли солнечные лучи. Мощная грузовая стрела извлекла батискаф из трюма и теперь я, чуть покачиваясь внутри гондолы, находился футах в десяти над палубой. Матросы с любопытством разглядывали диковинное сооружение. Среди них стоял и капитан «Звезды Ирландии» Уиннер, приветливо улыбнувшийся и махнувший мне рукой на прощание. Затем палуба поплыла в сторону, и батискаф повис над синевато-серой поверхностью воды. Пол вновь чуть дрогнул, свет дня потемнел, став несколько голубоватым. Мое творение находилось в своей стихии. Иллюминаторы были теперь на пять футов ниже поверхности. Через них я наблюдал ярко блестевшую границу вод и темное днище парохода. Вскоре батискаф отсоединили от грузовых тросов, оставив наедине с морем. С отчаянной смелостью я повернул рукоятку, открывавшую клапаны выпуска бензина. Поверхность раздела двух сред начала постепенно удаляться, я погружался. Слабая качка почти сразу же прекратилась совершенно. Мною тут же овладело странное состояние. Голова сильно кружилась и, прильнув к стеклу иллюминатора, я старался отыскать в пространстве какие-то ориентиры, благодаря которым я смог бы вновь приобрести привычные ощущения верха и низа. Движение было чисто инстинктивным, ибо тщетно искать то, чего нет в призрачном мире без границ. Вода за пятидюймовым стеклом темнела, перебирая все оттенки сначала голубого, потом синего и, наконец, фиолетового цветов. Стрелка глубиномера неотвратимо мчалась по циферблату, отсчитывая десятки футов. Когда она пересекла семисотфутовую отметку, наступила полная темнота. Включив прожектор, я всматривался в освещенную им воду. Пару раз в дорожке желтого света промелькнули стремительные силуэты привлеченных им рыб. Больше, до самого дна я не увидел ничего. Через тридцать минут после начала погружения груз на конце стофутового гайдропа коснулся каменистого ложа океана. Приобретя практически нулевую плавучесть, батискаф застыл на месте. Освободившись от гайдропа, я включил электрический двигатель и со скоростью около двух узлов поплыл на дно. Прожектор выхватывал из вечного мрака мертвые камни и мертвый песок. Ни единого живого существа. Глубина в две тысячи пятьсот пятьдесят футов и температура воды в тридцать семь градусов по шкале Фаренгейта, которую регистрировали мои приборы, не были идеальными условиями для жизни. Но мною овладела мысль о том, что некие организмы могут существовать и здесь, несмотря на полное отсутствие света и колоссальное давление. Преодолев каменистую гряду, возвышающуюся футов на сорок, я увидел нечто, сотворенное когда-то руками человека. Небольшой холмик, в который превратились занесенные песком и илом останки корабля. Из его центра торчал небольшой пятифутовый обломок, все, что осталось от высокой стройной мачты. Было ли это рыболовное суденышко ирландских рыбаков, средневековый ганзейский когг или еще более древний корабль викингов? Кто знает… Еще одно свидетельство победы моря над человеком, выхваченное из своего вечного сна электрическим светом.
Неожиданно я ощутил на границе света и темноты какое-то смутное движение. Одновременно мне показалось, что батискаф мой чуть заметно дрогнул. Направив луч прожектора на это место, я на мгновение застыл, парализованный удивлением и откуда-то взявшимся страхом. Сплошная, чуть колыхавшаяся стена мути стояла у меня перед глазами. Встретившись с ней, свет прожектора гас, проникая внутрь этой пелены не более, чем на пару футов. И все же я был уверен, что различил в глубине этого коричневого тумана двигавшуюся тень. Память тут же услужливо предоставила мне все, что я когда-то читал о чудовищах моря. К своему стыду мне не удалось совладать со своим паническим страхом, превратившим за одну минуту современного инженера в суеверного матроса старинного парусника. Нажатие кнопки, и шестьсот фунтов дроби оросили свинцовым дождем пески. Освободившись от балласта, корабль мой взмыл вверх, унося к свету дня потерявшего самообладание создателя. Подъем происходил быстрее погружения, и уже через десять минут батискаф вынырнул на поверхность. Толчок при всплытии окончательно привел меня в более или менее нормальное состояние. Однако, страх остался. Позднее, анализируя происшедшее, я решил, что воду взмутил обыкновенный подводный оползень, вызванный струей от винта моего аппарата. А темный силуэт огромных размеров в мутной дымке всего лишь плод воображения, подогретого необычным путешествием. Как же часто люди выдумывают простые и удобные для себя объяснения неведомым им событиям!
Ветер, между тем, усилился и во время погрузки в трюм батискаф ощутимо ударялся о комингсы грузового люка. Первым меня встретил капитан Уиннер. С довольно странным выражением лица он задал свой первый вопрос.
– Мистер О'Нейл, вы побывали там, на дне?
Получив утвердительный ответ, капитан покачал головой, глядя при этом мимо меня, куда-то в сумрак трюма.
– Вы смелый человек, сэр. Я искренне восхищаюсь вами. Скажите мне, что же вы видели?
Камни, песок, обломки какого-то деревянного судна. Глубинные слои и дно совершенно безжизненны, я не видел ни рыб, ни водорослей – ничего.
Уиннер помедлил, о чем-то усиленно размышляя.
– Знаете, мистер О'Нейл, когда батискаф спустили на воду, команда повела себя очень необычно. Несколько матросов подошли ко мне и заявили, что вам не следует погружаться. По их мнению ваш глубинный корабль может разбудить нечто, спящее в здешних глубинах. Но ведь вы ничего не заметили, не правда ли?
Мне стало ясно, что и капитан поддался общему настроению, царившему на «Звезде Ирландии». Разговор становился слишком тягостным. Слова капитана Уиннера вошли в резонанс с моими сокровенными мыслями, и, ответив отрицательно на его последний вопрос, я поспешил удалиться.
В начале декабря того же года, прибыв в Лондон, я предложил свое изобретение Британскому Адмиралтейству. После трех месяцев, в течение которых проект рассматривался в недрах этого государственного института, мне было решительно отказано. Никакие мои доводы и отчаянные призывы не возымели действия. До сих пор я помню полуосвещенный огнем, горевшим в камине, кабинет лорда Мидфилда, бросившего мне в лицо свой ultima ratio.
– Я уверен, сэр, что ваш, так называемый батискаф, не потребуется флоту Британской Империи ни сейчас, ни в обозримом будущем…
Спускаясь по широкой парадной лестнице Адмиралтейства, я слышал эти слова снова и снова и не мог до конца поверить в то, что одно из крупнейших изобретений последнего времени отвергнуто. В те дни я часами бродил по Лондону, не преследуя никакой цели. Кутаясь в плащ, стоял на его мостах и набережных, глядя на серые воды холодной реки. Постепенно приступы депрессии прошли и я снова стал способен трезво взглянуть на вещи. Прогресс техники не остановить нескольким консервативным чиновникам. Газовая машина и проект Ливерпульского туннеля Брунеля тоже не нашли поддержки, но это не помешало ему стать тем Брунелем, которым гордилась и гордится Британия. Боже мой, как я стремился к славе! Стремление это заставляло меня все быстрее приближать развязку.
После долгих раздумий я решил попытать счастья за океаном, предложив свой батискаф военному ведомству США. Что я знал тогда об Америке? Молодая, бурно развивающаяся страна эмигрантов, общество, не успевшее закостенеть под гнетом многовековых традиций. Государство, дружественное Британской Империи, говорящее на одном языке с ней и безусловно союзное в случае войны.
И, наконец, в последних числах марта произошла встреча, окончательно замкнувшая цепь случайностей. В одном из лондонских ресторанов я повстречал Артура Дугласа – старого товарища университетских времен. За пять лет, прошедших с момента нашего последнего свидания, Артур превратился в еще более импозантного, чуть грузного джентльмена с тем выражением лица, которое обычно отличает крупных чиновников и деловых людей. Узнав о том, что я собираюсь совершить путешествие к берегам Нового Света, он предложил мне отправиться туда на борту новейшего лайнера «Титаник» компании «Уайт Стар Лайн»; одним из совладельцев ее и являлся сейчас сэр Артур Дуглас. По его словам, «Титаник» проходил последние испытания и первый рейс его был назначен на 10 апреля. Я отказался, ссылаясь на наличие большого неделимого багажа, который я обязательно должен сопровождать. Последовал ответ:
– Мой дорогой Герберт, «Титаник» имеет обширные грузовые трюмы, так что вы можете взять с собой даже собственную яхту!
Эти слова оказались последними каплями, переполнившими чашу: необратимо полилась через край темная жидкость.
…7 апреля 1912 года кран Саутгемптонского порта опустил в чрево гигантского лайнера груз необычных очертаний, плотно укрытый брезентом, а ранним утром 10-го на борт поднялся его владелец, имея при себе билет первого класса до Нью-Йорка. Нет нужды перечислять имена сильных мира сего, плывших вместе со мной на «Титанике», описывать всю роскошь этого плавучего дворца, тем более, что эти аспекты путешествия меня мало интересовали. Единственным человеком, которого, я думаю, следует упомянуть был главный конструктор судна Томас Эндрюс, направленный в рейс для выявления возможных недостатков «Титаника». Этот опытнейший инженер снискал мое уважение еще во времена моей службы в фирме «Харланд энд Волф». При встрече он любезно пригласил меня совершить экскурсию по судну. Я с благодарностью принял это предложение и в течение следующих двух часов мы обошли почти весь «Титаник». Мне доставляла большое удовольствие беседа с этим достойным и близким по духу человеком. В свою очередь, понимая большую занятость Эндрюса, я старался не навязывать ему свое общество, и наше общение на борту завершилось этой экскурсией и последовавшей за ней недолгой беседой.
Свой последний вечер на «Титанике» я помню очень смутно. Был ужин в потрясающе красивом ресторане первого класса, за столиком со мной сидела пожилая супружеская чета, я о чем-то разговаривал с ними, но беседа не шла, почему-то часто и надолго прерываясь. После я оказался в центральном зале, где смотрел на вальсирующие пары. Многочисленные зеркала отражали блеск драгоценностей, в них скользили черно-белые видения элегантных смокингов. И наконец, я у себя в каюте, на столе папка с расчетами, делаются какие-то пометки в них, но какие именно, память не сохранила. Следующим воспоминанием становится мое пробуждение около часа ночи, уже после столкновения. Меня разбудили сильные удары в дверь. Сон мгновенно прошел, я встал, и меня буквально пронзила страшная догадка: «Титаник» сильно поврежден. Еще не открыв дверь и не увидев за ней взволнованного, путающего слова стюарда, я твердо знал, что лайнер в опасности. Нет, это не было просто предположением: едва став на ноги, я сразу определил, что «Титаник» имеет дифферент минимум в десять градусов. Машины стояли, и мне, как инженеру, стало ясно: носовые отсеки судна затоплены. Я был прав. Стюард, будивший всех пассажиров, сказал, что дана команда покинуть судно и мне следует подняться на шлюпочную палубу. Через пять минут я шагнул на ее настил. Морозный воздух безлунной ночи сверкал в искусственных лучах светильников. Крупнейшая в истории морская катастрофа открывалась взгляду во всей широте. Около полуночи (точнее никто из окружавших меня не мог сказать) «Титаник» столкнулся с ледяной горой на полном ходу. Удар пришелся на правый борт. Сейчас судно беспомощно стояло посреди океана, все больше зарываясь носом. Побыв несколько минут среди толпы напуганных, до сих пор не веривших в случившееся пассажиров, я не смог вынести больше пытки незнанием и быстро направился, вернее побежал к рулевой рубке, надеясь найти там капитана Смита, Эндрюса или хотя бы кого-либо из офицеров. Мне повезло, я столкнулся с Эндрюсом даже не дойдя до цели. А затем был шок от слов сэра Томаса: «„Титаник“ обречен, жить ему осталось максимум полтора часа». Лицо создателя «Титаника» исказилось после этих фраз, Эндрюс пошатнулся и тяжело оперся на поручни.
Удар, поразивший меня, был страшен. В течение многих минут я стоял в странном оцепенении, глядя на залитую огнями палубу ничего не выражающими глазами сумасшедшего. У меня не было страха за собственную жизнь, гибло мое творение, умирало дело всей моей жизни. Позже, очнувшись от первого потрясения, я бесцельно бродил по палубе, даже не пытаясь подойти к шлюпкам. Наконец, я стал осознавать, что если я останусь на судне, то жизнь моя прервется через час с небольшим, ибо выжить в воде близкой к точке замерзания я не мог. Решение пришло быстро и бесповоротно. Герберт О'Нейл умрет вместе со своим детищем, запертым в чреве «Титаника». Мысль эта казалась дикой, безумной, невозможной, наконец, но в тот момент она стала единственным выходом, вдохнула в меня безумную энергию, под влиянием которой и произошли последующие действия. Окинув прощальным взглядом шлюпочную палубу, я устремился вниз. На моем хронометре было в это время час десять ночи наступившего 15 апреля. Моя каюта находилась гораздо ниже, на палубе «Д» «Титаника». Ворвавшись в нее, я принялся лихорадочно перебирать вещи в чемодане, разыскивая предмет, казавшийся мне необходимым: револьвер. Больше мне ничего не было нужно. Потом начался мой путь в корму обреченного лайнера, туда, где в темноте грузового трюма спал мой глубинный корабль. Сбежав по трапу на палубу «Е», я неожиданно оказался по колено в бурлящей холодной воде, подсвечиваемой изнутри еще горевшими электрическими лампами. Я находился в затапливаемом рабочем коридоре, этой «Шотландской дороге» «Титаника», тянувшейся до самой кормы. Сейчас это была ужасная дорога. С непоколебимой уверенностью библейского мессии я шел по коридору, пробираясь среди бедно одетых, растерянных и плачущих людей. Это были пассажиры третьего класса, пытавшиеся выбраться из нижних помещений чудовищного корабля наверх, к звездам и шлюпкам. Но их ожидали там только отчаяние и мучительные минуты агонии в ледяной воде. Откуда-то снизу прорывался пар, затягивая все трехсотфутовое пространство коридора влажным туманом. Недра «Титаника» исторгали зловещие звуки гибели: шум вливавшейся воды, скрип и скрежет сдвигавшихся механизмов, шипение заливаемых, еще горячих топок. Грузовой трюм тонул в полумраке. Пробираясь среди хаотического нагромождения ящиков, тюков и коробок, я достиг цели. Укрытый тяжелым брезентом и притянутый к палубе найтовыми, передо мной возвышался он: мои надежды, мой труд, моя гордость. Я пришел воссоединиться со своим творением и погибнуть с ним. С трудом откинув брезент, я открыл люк и на минуту замер, не решаясь сделать этот последний шаг, но все же сделал, отгородив себя от тонущего гиганта, ставшего моей тюрьмой, пятью дюймами стали. Дифферент на нос достиг уже значительной величины и мне стоило большого труда добраться до кресла. Два часа ночи. Грохот рушащихся механизмов достигал даже моих ушей, заставляя вибрировать стены гондолы. Еще немного, и я окажусь там, куда так мечтал открыть дорогу людям. Даже сейчас я надеялся, надеялся на то, что гондола не будет раздавлена давлением воды, уцелеет при неизбежных ударах о палубу и стены трюма, и я, отказавшись вместе с «Титаником» на глубине двух миль, буду жить еще несколько часов. Пока не кончится воздух или я не нажму на курок револьвера. Пол под моими ногами уходил вверх, я уже с трудом удерживался на месте. Два часа десять минут.
…Томас Эндрюс, скрестив руки на груди, в полном одиночестве стоял в курительном салоне. Его взгляд рассеянно скользил по стене, отделанной панелями красного дерева, по огромной картине, висевшей прямо перед ним. Вокруг падала мебель, сверху доносились звуки музыки еще игравшего оркестра. Но старый конструктор не замечал ничего, он уже принадлежал миру мертвых, оставив всякую надежду и желание спастись. Два часа пятнадцать минут.
Оркестр играл мотив «Осени» – одного из гимнов англиканской церкви – скрашивал страшную картину гибели морского колосса. Но вот «Титаник» встал вертикально. Мелодия прервалась. Музыканты, пассажиры, офицеры и матросы, образовав один страшный, шевелящийся клубок, поглощались жадной водой. «Титаник» еще жил, даже сейчас, стоя под прямым углом, подобно башне фантасмагорического маяка, он еще боролся за каждую секунду, как будто его железная душа тоже боялась ледяных волн Атлантики. В эти мгновения лайнер был удивительно поход на перст, указующий в небо, взывающий к Господу. Людская гордыня разбилась о жестокий айсберг вместе с этим кораблем. Огни погасли, на миг вспыхнули вновь, опять воцарилась тьма, корпус «Титаника» дрогнул и с чудовищным грохотом раздираемого металла ушел на дно. Но это был еще не конец… В момент погружения я был выброшен из своего кресла сильным толчком, батискаф, сорвав найтовы, ударился о стену трюма. Утробный рев всасываемой внутрь корабля воды сотрясал даже многотонную гондолу моего аппарата. Снаружи в иллюминаторы бились пенные струи, минута – и они сменились однообразно вязкой темнотой. Я утонул, я мчался сквозь воды к далекому дну, погребенный в батискафе, запертом и отгороженном от свободы океанской волны десятками стальных переборок и палуб. Наверху осталась звездная ночь, шлюпки, обломки погибшего исполина и сотни еще живых, но быстро гибнущих в ледяной воде людей. Разум мой, наконец, осознал мрачную фантастичность и безысходный ужас положения вещей. Судорожно цепляясь за кресло в красноватом полумраке освещенной одинокой лампочкой кабины, я что-то истерически кричал, пытаясь, быть может, поймать ускользавшую от меня огненную ниточку надежды. Жуткий полет сквозь бездну продолжался, казалось, целую вечность. Очнувшись от приступа жестокого истеричного сумасшествия, я ждал, содрогаясь и душой и телом, удара корабля о дно океана, за которым, вероятно, могла последовать и моя смерть, если корпус батискафа лопнет. Мгновения текли, приближая неизбежное. Удар! Скрежет, пол и потолок меняются местами, головокружение, чувство падения достигает пика и сознание гаснет.
…Оно вернулось вместе с бледным красноватым светом, проникавшим мягким ручейком через закрытые веки глаз. Слегка приподняв голову, я осмотрел знакомую внутренность кабины. Верх и низ имели свои естественные положения, видимо «Титаник» лежал на ровном киле в своем последнем ложе. Голова, разбитая при ударе, сильно кружилась и болела, с трудом мне удалось подняться и сесть. Машинально я посмотрел на чудом уцелевший хронометр: пять тридцать. Значит я пролежал без сознания около трех часов. Наверху, скрытые двумя милями воды, появлялись уже первые бледные признаки нового дня. Воспоминания о поверхностном мире едва не вызвали нового приступа панического ужаса, но мне удалось прогнать их, спрятав в потаенных уголках мозга. Сидя за пультом, я постарался здраво оценить свое положение. Воздух в баллонах кончится через двое суток, затем мучительное удушье и тьма. Я имел единственный шанс спастись: если бы какая-то неведомая сила, взломав корпус «Титаника» освободила бы батискаф. Тогда подъем и свобода, и жизнь. Но этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, как говорили древние. Следующие часы были невообразимо, давяще страшны. Несколько раз я включал уцелевший наружный прожектор и всматривался в иллюминатор, но видел только темную муть и край какого-то ящика, к которому прижало гондолу. Помню, я что-то выстукивал, ударяя рукоятью об обшивку. Часто взгляд мой останавливался на револьвере, что в мрачно-красноватом свете темнел на стальной пластине. Там лежало избавление от всех мук. Почему-то я подавлял в себе желание взять револьвер в руки, я ожидал, и ожидание мое дало свой результат. Только через несколько часов после того, как я очнулся от обморока, я, наконец, заметил, что тишина, окружавшая меня, не была абсолютной. Извне доносились смутные звуки, изредка корпус батискафа содрогался от довольно ощутимых толчков. Задумавшись над причиной этих явлений, я решил, что они вызывались осадкой корпуса «Титаника» на возможно неровном дне. Может быть, где-то рушились переборки, поврежденные при катастрофе, могучая сила давления взламывала еще незанятые водой особо прочные емкости. Постепенно эти звуки усилились, окончательно выведя меня из состояния мрачного ожидания конца. Выключив внутренний свет, я еще пристальнее вглядывался в илистый туман, затянувший трюм. Внезапный визг раздираемого металла, сменившийся угрожающим рокочущим скрежетом, заставил меня затрепетать. Что это? Разум метался, стараясь отыскать ответ. Снова этот ужасный звук; какой же силы он должен быть, чтобы так мощно звучать внутри, приникая через толстую сталь?! Казалось, «Титаник» кричит и плачет в страхе, раздираемый кем-то невероятно могучим. Сильный толчок, я падаю, ударяюсь уже разбитой головой. Боль на минуту ослепляет, минута уходит, и во мне просыпается древний страх, передаваемый из поколение в поколение: страх перед неведомым и темным. Скорчившись между креслом и стальной стеной, я сидел в полной темноте. Мне казалось, что если я зажгу даже слабую лампу, то она привлечет к маленькому пузырьку воздуха и жизни весь тот древний ужас бездны, что витал снаружи. Я уже не предполагал, я знал, знал имя той могущественной силы, что пробудившись от векового сна разрывает сейчас останки некогда величественного лайнера. Вой и скрежет достигли апогея, и внезапно абсолютная тьма рассеялась. Через иллюминаторы проникал мертвенно-синий свет, похожий на те призрачные огни, что пугают по ночам путников возле старых уэльских кладбищ. Внутренность гондолы стала ясно видна, и в ней трепетал ничтожный человек, дерзнувший проникнуть туда, куда его слабому телу и рассудку не было пути. Батискаф мой рванулся вверх и затрясся, подобно раненому зверю. Собрав остатки питавшей меня последние часы энергии безумия, я вскочил на ноги и прильнул к иллюминатору…
И передо мной ожила самая мертвяще-ужасная из картин Иеронима Босха «Страшный суд». Да, это был суд, суд темных глубин над человеком, в непомерной гордыне своей забывшем о силах, невообразимо превосходящих его самого и его творение, сильных и безжалостных, как сам океан, в котором они обитали.
Батискаф висел в синеватом сиянии в трестах футах над «Титаником»; его колоссальный темный контур проглядывал сквозь мглистую дымку, затянувшую придонные воды. Корму корабля жадно раздирали, обвивая ее со всех сторон, светящиеся щупальцы существа, размеры которого не мог постичь и принять слабый мозг человека.
…Когда Кракен всплывает, море внезапно мелеет на сотни футов вокруг. И горе тому мореплавателю, что не успеет увести свой корабль прочь. Он, и судно его, каким бы большим оно не было и сколько бы мачт с парусами, людей и товаров не несло на палубе и в трюмах, оказывается посреди живого острова. И колышущаяся твердь того острова исторгает из себя щупальца и отростки, которые опутывают судно… Остров сей погружается, унося с собой в небытие добычу.
Там, внизу, царил Кракен, его мощь, подчиненная сферам еще более великим, вырвала меня из трюма «Титаника», вознеся над пейзажем разрушения. Я видел это, и никто не сможет бросить в лицо мне обвинение во лжи. Щупальца, выраставшие из фосфоресцирующего подножия чудовища, кромсали лучшее творение компании «Уайт Стар» и британского гения. Жалобно стонал терзаемый корабль, принесенный в жертву. Мертвенный свет открывал взгляду только малую часть апокалипсического существа, очертания которого терялись во тьме, и самая изощренная фантазия не могла представить, что же таилось там. Воздух внутри сгустился до плотности воды, он с трудом врывался в легкие, обжигая при каждом вдохе. Непередаваемые звуки терзали слух: в них смешалось все – дрожание огромных струн, пение зловещих органов, металлический стон и плач. И высоко над моим аппаратом разрывали тьму шесть чудовищных красно-желтых сфер. То были глаза Кракена. Сияние стало ярче, по моему залитому кровью перекошенному лицу побежали его блики. Волна ледяного света промчалась по телу существа, открыв взору на краткий миг истинную сущность Кракена Великого. Это было непередаваемо, невыносимо, невозможно, я не могу и никогда не смогу описать открывшееся мне. Милосердный удар укрыл сознание темным пологом беспамятства. Гигантская праща швырнула батискаф прочь; люки балластных бункеров лопнули и потоки свинца из них вобрал ил.
Казалось, моя душа несется по бесконечному тоннелю куда-то, мягко покачиваясь в волнах эфира. Тело не слушалось меня, глаза видели только бархатный мрак. Неожиданная желтая вспышка заставила меня содрогнуться, пробуждая к жизни. В иллюминаторе сияла прекрасным ярким светом подводная звезда. Не знаю, может быть то было всего лишь видение, но мой истерзанный разум не желал изгонять его; он благодарил этот живой яркий шар чистого света за то, что он был, искрясь огнем на тысячефутовой глубине. Звезда угасла, но темнота уже не была полной, мой батискаф упорно шел к поверхности, чей еще слабый свет возрождал желание жить.
Хронометр еще шел, и на нем было три часа дня, когда, наконец, настоящее Солнце заиграло на полированной стали откинутого люка, вдыхая в меня истинную веру и искреннюю надежду.
Милях в трех дымил пароход. В свое время я пытался предусмотреть многое, и сейчас в кабине лежали красные ракеты и надувной плот. В 1508 на немецком углевозе «Данциг» заметили сигналы; невзрачный на вид пароход изменил курс и, осторожно лавируя между крупными гроулерами, направился к видневшейся в дали темной точке. Поплавки, смятые и треснувшие, выпускали бензин, волны уже захлестывали в люк, батискаф умирал. Странно быть может, но я не испытывал чувство утраты. Нет, я просто радовался Солнцу и весеннему ветру, впитывал вид моря, синевато-серого, с плававшими льдинами. Плотик был наполнен и, качаясь на расцвеченной радужными пятнами бензина воде, я наблюдал, как со звуком, напоминавшим жалобное всхлипывание ребенка, моя мечта о покоренных глубинах исчезла в океане. Ирония судьбы, но меня спасли те, от кого я так тщательно скрывал свой проект, против кого стремился его направить. Капитан «Данцига» Рудольф Верлинг еще не знал, что «Титаник» погиб, на старом углевозе не было радио. Впоследствии оказалось, что место, где меня спасли, находилось в ста милях северо-западнее точки гибели лайнера. Мне никогда не узнать всего происшедшего со мной в том царстве вечной ночи, где навсегда осталась часть моей души. «Данциг» доставил меня в Бостон. Благодаря деньгам и положению тайна осталась соблюдена. Никто не узнал, что список спасенных с «Титаника» увеличился еще на одного человека.
Теперь я только странный англичанин, сорока двух лет от роду. Выйдя из дому в полдень, англичанин этот старческой шаркающей походкой направится по Конрад-стрит к церкви. Любопытные взгляды проводят его, следя за удаляющейся спиной человека, потерявшего свое дело, но обретшего веру.
Юрий Петухов
Помрачение
Бессилие добра не есть добро, и никак нельзя признать должным тот факт, что лишь часть человечества желает должного, что весьма немногие живут как должно и что никто не может привести мир в должное состояние.
Красота воину оружие, кораблю ветрило, тако и праведнику почитание книжное…
Книгам бо есть неищетная глубина.
Тащиться на толкучку через полгорода да еще в субботу, заранее обрекая себя на потерю половины дня, Игорю очень не хотелось. Он не был завсегдатаем мест, где можно было разжиться практически любой книгой, но в отличие от большинства знал туда дорогу, бывал раз семь-восемь. Общее впечатление после таких посещений оставалось малоприятным. И не только из-за встреч с прожженными делягами, для которых книга ничто, нет – товар, только товар. Но и по другим причинам. Первый раз у него буквально из рук вырвали ценную вещь, Махабхарату из серии литпамятников, а взамен всучили пару макулатурных томиков, которым грош цена и по рыночной конъюнктуре и по содержанию. Он тогда просто растерялся от напора, от всесокрушающей и беспринципной наглости, с какой обдуривали новичка. Потом жалел. Но ругал только себя. Во второй – отдал двадцатник за то, что можно было купить за пятерку… На третий стал умнее и опытнее, и в результате вообще ничего не приобрел – дураков кроме него было не так уж много, а если и попадались, так не имели того, чего Игорь хотел. Да и впоследствии для того, чтоб заиметь нужную книгу, отдавал всегда больше: честного обмена не получалось, точнее, его просто не допускали живущие этим промыслом – они всегда в нужный момент оказывались рядом, перебивали сделку, уводили «товар» из-под носа. Игорь уже и расстраиваться перестал – какая, в конце концов, разница: трояком больше, трояком меньше – лишь бы заполучить желанное.
Он вышел из дома, так и не решив – куда поедет: в Сокольники, Измайлово или еще куда… Могло и вообще ничего не выгореть, хотя бы потому, что по субботам на толкучки любила захаживать милиция – и тогда всех как ветром сдувало. Игорь сердцем был на стороне не слишком-то активных, по правде говоря, равнодушных милиционеров – и он жаждал наведения порядка и пресечения нетрудовых доходов, но… В том-то и дело, что – но! Лишь после того, как он приобретет, что ищет, – вот тогда и пускай наводят и пресекают, давно пора! А сейчас надо ехать, в последний раз, и больше никогда, ни ногой!
Посреди сумрачной и слякотной московской зимы погодка вдруг раздобрилась, выделила на субботний день немного солнечного света из своих запасов. Солнце ослепляло, потому что было низким по-зимнему. Оно буравило ноздристые грязные сугробы с пробивающимися из них бесчисленными окурками, но не топило снега – грело в самый раз для января, без луж и сырости. И Игорь, топая к трамвайной остановке, незаметно отмякал. Настроение всегда приходило к нему по ходу дела, трудно было лишь раскачаться.
Сидел, щурился у трамвайного окошка – места были свободные. В трамвае и надумал – только в Измайлово, только там он возьмет нужную книгу! И решение такого пустячного вопроса взбодрило его окончательно – сегодня или никогда! И все, хватит, пора завязывать с этими книгообменами, не на книжках мир стоит, есть и поважнее дела. Вся эта книжная кутерьма, казалось, не имела ни конца, ни начала – будто всегда он существовал, ажиотаж этот. А теперь еще затеяли создавать новый огромный центр по «изучению спроса». Ничего кроме ухмылки и раздражения у Игоря такие липовые начинания не вызывали. Попробуй-ка разобраться, что мы читали, читаем и что будем читать! Ведь тут как в поговорке «скажи мне, кто твой друг…». Можно долго и тщательно изучать человека по его бумагам, расспрашивать знакомых и родных, а в результате получить набор ходячих конторских истин. А можно спросить у него самого, что он читает, узнать мнение о прочитанном – и сразу вся конторская писанина поблекнет, будь на ней хоть сотня внушительных штампов и печатей, и встанет перед тобой живой человек, личность. Вот так бы и спросить – что ты читаешь, великий народ?! Не у человека отдельного, а у всей нации. Только ведь не спросишь, не получится ничего. И вряд ли статисты, репортеры, чиновная братия да и ведущие популярных телепрограмм дадут ответ. Возможно ли получить нечто однозначное и непререкаемо-твердое, когда перед тобой не штампованные «болтики-винтики» в едином конвейерном строю, а люди – среди миллионов двух похожих не найти, возможно? Нет, думал Игорь, профанация это. Хотя все сложнее на деле-то. Почему мы должны сказать что-то одно: да или нет. Не вернее ли предположить и то, и другое: НЕТ, единого ответа не будет – все люди разные, у каждого свой характер, свой вкус, свой круг чтения – мы различны и тем хороши! но рядом встанет – ДА, есть единый ответ – ведь мы единый народ, за нами тысячелетия единства, несмотря на все войны и распри, за нами наши традиции, наши боли и наше счастье, наша история, наконец, наш язык. Мы различны, отличимы друг от друга, но мы и едины в своей общности – в этом ведь тоже одно из проявлений диалектики. Все так! А мы по-прежнему ищем однозначного ответа и не перестаем удивляться, что не можем его найти! Дескать, как бы это одним махом все решить?! Дескать, главное контору создать! Будет контора – и все как по маслу пойдет! Вон, насоздавали десятки министерств, а дело что-то не особо продвинулось. Поняли, что не в числе, да и не в конторе дело, сокращать начали. Это в одном месте! В других новые создавать – типа этого «исследовательского центра». Игорь сам работал в одном из крупнейших «исследовательских центров», знал цену институтам при конторах и конторам при институтах. Все они напоминали ему свифтовскую Лапуту и тамошних мудрецов с их «исследованиями».
Со своими рассуждениями он чуть не прозевал остановки, выскочил последним в захлопывающиеся уже двери.
– Проспал, раззява! – крикнули ему в спину из трамвая. И громко расхохотались.
В метро, как и обычно, он не садился, стоял у стеночки. Здесь тоже было свободно, но нельзя было с уверенностью сказать, что на следующей станции в двери не хлынет толпа.
Игорь жил в мире, и потому от обыденных мирских вещей отрешиться не мог. Вновь его мучили «проклятые вопросы», ответов на которые он не находил. За последнее время что-то уж слишком много советчиков появилось, эдаких новоявленных кормчих с указующими перстами. С телеэкранов и страниц журналов и газет в быт уверенно шагнули мудрые наставники, прозорливые журналисты-международники, частично возвратившиеся на круги своя из странствий дальних. Вошли всеведающими и всепонимающими учителями народа. И все-то они знают и разъясняют: и какую огромную пользу мы получим от совместных предприятий с западными фирмами, от совместной вырубки леса и совместной выкачки нефти, газа и прочего подземного и наземного богатства. Нет вопроса, который они бы «не осветили сполна»! И как русскому человеку или, скажем, белорусу, татарину подняться до высот истинного интернационализма и, вообще, что это такое – истинный интернационализм! И какие памятники старины следовало разрушать в силу их «эклектичности», а какие разрушать не следовало – всему научат прошедшие стажировку в «цивилизованном мире» новоявленные варяги. И нет для них неодолимых тем, все по плечу: от важнейших вопросов экономики и сельского хозяйства и до круга чтения. Только вот что-то в непосредственной их работе не видно изменений – то ли в начале семидесятых живем, то ли в конце восьмидесятых, кроме телемостов ничего нового. Игорь видел, а может, ему так казалось, что людей этих прельщала кажущаяся простота вопроса, еще одна возможность выступить с поучениями. К этому можно было добавить и некоторый зуд разоблачительства, охвативший многих. Именно, разоблачительства ради «разоблачительства», ради сенсационности, шумихи, порой саморекламы – дескать, лихо я их наизнанку вывернул! Как все это было не ново! Выворачивать наизнанку не так сложно, благо, что ныне не запрещено! Ну а дальше? А дальше бросил все как есть и побежал следующих «выворачивать», а потом еще и еще! А кто будет вывороченным заниматься? Игорю почудилось вдруг, что он забрался слишком далеко, начав с книжных проблем. Но нет! Все было затянуто в один узел, развязывать который совсем не просто. Казалось бы, какая связь с книжной горячкой? Прямая! Читателя приучают, да и сам он привыкает к шоково-сенсационному чтиву. Точно! Он попадает в зависимость от щекочущих ощущений, требует еще, в самой примитивной форме, в любых количествах, лишь бы еще острее и еще «красивше». Игорь был не против честного, правдивого разговора об истории. Он первый приветствовал такой подход, потому что говорить правду необходимо, только правду – без этого общество превращается в гиблое болото. Но правда редко ходит в блестящих, привлекательных одеяниях, не всегда она в вельможном сиянии искрится и уж совсем редко бывает защита в сиденье трона. А нам все – вот, дескать, добрый царь-батюшка, радетель наш и милостивец, а вот окаянный губитель, злой деспот и тиран. И опять пошло-поехало, понесло-закрутило. Стоит ли удивляться, что «Дети Арбата» на черном рынке стоят двадцать рублей, а про «Кануны» Белова там никто толком и не слыхивал? До чего дошло, сколько лет не вылезаем из постели Пушкина, прямо-таки прописались там. «Пушкинистов» все больше, ценителей же и любителей пушкинской поэзии Игорь на толкучках и в книгообменах не встречал, во всяком случае, мало кто признавался в этом. Обычно как – о нем почитал бы, а его нет-нет, и так все помню хорошо, в другой раз, в школе надоел! А что, правда так правда!
Что же касается самого книжного бума, то Игорю виделось, что это явление, до тех пор, пока деньги, запущенные в обращение, не обеспечиваются товарами, могло продолжаться долго. И говорить о каком-то насыщении книжного рынка было бы просто наивно – ведь есть испытанное и проверенное средство продления бума: выпуск новых серий. И неважно, что многие вещи выпускались и до этого, и в отдельных изданиях, и в других сериях, все не имело значения, – появляется новая серия, и тут же новая вспышка бума. Легко было начало положить, раскрутить книгособирателей (к ним Игорь не причислял подлинных любителей книги), а вот остановить будет ох как не просто! Тем более, когда собирательство приобрело и с каждым годом приобретает все более болезненный, параноидальный характер. Он не видел выхода. Что же делать, насыщать ненасытимое? Так здесь никакие совместные предприятия по вырубке тайги не помогут, тайга быстрее кончится, чем удовлетворятся книгонакопители! А вот если бы удалось переключить их энергию на иное что-нибудь: будь-то отличное шмотье, видеомагнитофоны, мебель, да и вообще качественный и доступный ширпотреб, вот тогда и вздохнули бы немного настоящие читатели, вот тогда и появился бы смысл заниматься изучением спроса – именно читательского, а не потребительско-накопительского. И повышение цен на книги и коммерческие цены ничего не дадут истинному читателю. Они дадут прибыль государству, дадут прибыль накопителю… Если раньше тот, вечно стоящий в магазине, брал одну книгу, то теперь он берет две-три, а если дадут, то и больше – что-то обменяет, что-то продаст подороже, чтоб расходы оправдать. Вот и парадокс, тиражи все больше и больше, цены все выше и выше, казалось бы, лежать все должно, ан нет, не лежит!
От метро надо было опять-таки добираться на трамвае. Пришлось простоять минут двадцать на остановке, наблюдая, как один за другим стягиваются на этот маленький клочок земли под белой, болтающейся на ветру дощечкой с номерами маршрутов многочисленные книгоманы разных возрастов. Какая-то печать была на них на всех. Какая – Игорь и сам не мог понять. Но была.
Ровно через полтора часа после выхода из дома он был на месте, у небольшого окраинного книжного магазина. Еще издалека разглядел – народу тьма, значит, милиция пока что сюда не заходила, и этим надо пользоваться, не тянуть резину, брать за сколько скажут и отчаливать. Легкое нервное возбуждение уже начинало охватывать его – и чем ближе к магазинчику, тем больше. В глазах зарябило. Чтобы лучше и дальше видеть, он сразу же нацепил очки. Книги появлялись и пропадали на всех уровнях и во всех мыслимых направлениях, разве что, под облаками их не было – уловить темно-зеленую невзрачную обложку с мелкими золотистыми буковками на корешке не так уж и просто. Но главное – не суетиться.
Движение внутри было неописуемым, казалось, толпа клубком клубится, переливается. Немного на отшибе выделялась женщина в желтом мохнатом пальто и немыслимо-пестрой цыганской шали. Она стояла, полунаклонившись у объемистого баула, расстегнутого от края до края. К ней Игорь и направился – в бауле «товара» было на полцентнера, не меньше, а значит, и выбор есть. Женщина вовсю орудовала мясистыми короткими ручками, блестело что-то не поддающееся учету желтое, мелькали книги, переходящие к новым владельцам. Но денег женщина почему-то не брала – Игорь не видел мельтешенья купюр. Лишь подступив совсем вплотную разглядел уменьшенную, но тоже желтую и цветастую копию торговки – полного и очень серьезного мальчика, черноглазого и важного. Мальчик, в отличие от мамы, не кланялся над баулом – в нем уже в эти годы проглядывало, нет, скорее, просто перло наружу мужское достоинство человека нездешней полосы. Неподвижные глазки-маслины были сосредоточены на пухлом кожаном бумажнике в левой руке. Правой мальчик принимал деньги и тут же отправлял в безразмерную кожу – как автомат действовал.
Игорь заглянул в баул.
– Чего надо? – спросила женщина не глядя, не отрываясь от дела.
«Чего надо», того не было. Игорь не стал отвечать. Да, в общем-то, никто и не ждал его ответа. Он отступил на полшага. И заметил двух мальчишек в расстегнутых пальтишках и сдвинутых на затылки шапчонках. Один держал в руке баночку с водой. Внутри плескались две или три гуппяшки с ярко-красными хвостами. Другой лизал мороженое и капал прямо себе на школьный костюм. Оба, как зачарованные, смотрели на толстенького желтенького мальчика с бумажником и молчали. Так, наверное, кролики на удава смотрят, подумалось Игорю. Он хотел шугануть ребятишек отсюда, из толкучки этой. Но не решился.
Мальчик с бумажником взглядов не замечал. Деньги пропадали в желтом чреве. Мороженое капало на костюм. Книги летели одна за другой – сплошная макулатура. Скорее всего, на абонементах работает в приеме, подумал Игорь, книжки-то – три названия, а им конца не видно! Ну и черт с ними, надо искать то, за чем пришел. Он с какой-то необъяснимой внутренней болью поглядел на мальчишку, в руках которого застывали купленные далеко, на Птичьем рынке рыбешки, протер очки. И двинул дальше.
Минут сорок толкался в самой гуще. Было все! Не было только тома философских сочинений наконец-то изданного Владимира Соловьева – непостижимо! Это была явная невезуха, какой-то неземной зловредный рок преследовал его, даже не верилось.
Дважды толпу качало, из стороны в сторону. Но тревоги оказывались ложными. На третий Игоря чуть не сбили с ног.
– Мотаем, парни! – выкрикнул кто-то над ухом.
Он еле успел подхватить слетевшие с носа очки. У кого-то посыпались на землю из распахнутого дипломата книги. Взвизгнула придавленная девушка в шапке с помпончиком. Сумкой, набитой до отказа, Игорю саданули в ухо. И он, которому бояться-то было абсолютно нечего, рванулся со всеми, поддался этой стадной панике, налетел на полусогнутого старика со связкой журналов под мышкой. А сердце билось затравленно: не дай бог, еще чего не хватало, потом оправдаешься, как же! Кому-то отдавили ногу, и он отчаянно заматерился в полный голос, не обращая внимания на женщин.
Но продолжалась давка не больше минуты. Откуда-то с краю раздался хохот. Смеялось сразу несколько парней, во все горло и на все лады.
– Отбой, братва! – хрипло возвысилось над толпою.
Скрипучий тоненький голосок пояснил:
– Да чего вы, в самом деле? С цепи сорвались? Да то ж наш участковый! Да вон он – из магазина авоську домой тянет. Он никогда к нам не мешается… да и прошел уже!
Рассыпанные книги затоптали. И владелец молча ползал между ног, собирал – красный, раздраженный. Над ним втихомолку посмеивались. А Игорь клял себя – чтобы еще хоть раз к этим спекулям?! Нет, ни за какие коврижки! Но он быстро отошел, успокоился. Как, впрочем, и все остальные.
Да ведь и не все спекулянты, оправдывал он себя, вон вполне порядочные люди ходят, ищут, что надо. Зачем же всех в одну кучу? А глаза продолжали высматривать в толчее зелененький корешок. Но куда там – лица, гомон, разноцветье одежд, грязь под ногами, да заплеванный семечной шелухой снег по краям сугробов.
Он выбился из толпы. Зашел в магазин. Там было еще теснее. К тому же и душно, как только здесь работают! Какая-то продавщица в серой униформе безуспешно боролась с ничего не покупающими «покупателями».
– Все на улицу! – грозила она, упирая руки в бока. – А ну выходи! Сейчас буду в милицию звонить, выходи!
Стоящие ближе к ней перемещались подальше, но не уходили. Ушла сама продавщица, видимо, посчитав, что свое сделала. Ушел и Игорь, один – он не любил общественных парилок.
На улице сразу же обдало свежестью и легким морозцем. Пришлось застегнуть куртку.
Он потерял в общей сложности два с половиной часа, но от цели был так же далек, как и на выходе из дома. До ночи буду стоять, решил он, но не уйду, из-за того только, чтоб второй раз не приезжать!
– Ищете что-то? – вежливо поинтересовались из-за плеча.
Игорь обернулся. Рядом стоял парень лет двадцати семи, носатый, с маленькой и округлой русой бородкой. На плече у парня висела черная сумка, в руках были зажаты два детектива – норвежский и испанский из прогрессовской серии.
– По двушничку отдам, – сказал парень и пошевелил под большой, бледно-голубой курткой плечами так, что куртка, показалось, ожила и решила покинуть своего владельца.
– Соловьев нужен, – коротко отрезал Игорь и отвернулся.
– Соловьева не видал, – сообщил парень, – я тут с самого утра. Глухо! Бери испанский – на него и сменяешь.
Игорю надоел пустой разговор, он вообще не любил трепать язык, тем более с незнакомыми, да еще такими.
– Ну не хочешь, не бери. Только, могу посоветовать – не мельтеши ты, ну чего суетишься? Тут закон такой: суетишься – никогда не найдешь. Ты вот встань в стороночке, и твой Соловьев на тебя сам выплывет.
Игорю было наплевать на все советы. Но парень говорил дело. Мельтешить, и вправду, – боль головную зарабатывать. Надо постоять. Толпа – она сама вращается беспрерывно, если у кого чего есть, рано или поздно он выйдет на тебя. И Игорь пристроился возле парня. Тот притопывал тяжеленными меховыми сапогами, хотя вовсе не было холодно. Поймав взгляд, признался:
– Это первый час не замечаешь, а после четвертого, да еще без жратвы – пробирать начинает.
– Не идет товар-то? – вежливо поинтересовался Игорь.
– Да что ты, со свистом улетает!
Минут пять они простояли молча. Соловьев не «выплывал». Выплыл какой-то тип. Игорю по плечо, в клетчатой кепочке и с сеткой в руках.
– Даром, Дрюон столичный, за полтора отдам! – выпалил он с ходу, будто признав в Игоре лопуха, который тут же выложит деньги.
– А ну вали отсюда! – рявкнул на коротышку парень с бородкой. Повернул голову к Игорю и, не дожидаясь, пока продавец Дрюона отойдет, громко сказал: – Вот ведь спекулянт! Гад какой! Я ему вчера этого Дрюона за червончик отдал, а он тут же, у меня на глазах – за полтора предлагает. А ну вали, спекуль хренов!
Клетчатый кепарь юркнул в толчею и пропал. Игоря невольно покоробило от такого не совсем деликатного обращения – ведь мог и культурно отказать бородатый или вовсе не вмешиваться. Но он промолчал.
– Ничего, этот не обидится! – успокоил его телепат с бородкой, уже в третий раз угадывая Игоревы мысли.
– Я бы эту падаль давно в зону пристроил, ишь, нетрудовыми доходами живут, гады!
– А это – трудовые? – Игорь щелкнул ногтем по синей обложке испанского детектива.
Парень улыбнулся и его длинный покрасневший нос сморщился, как сапог у увольняющегося в запас ефрейтора, гармошкой.
– Ну что ты, совсем другой коленкор, тоже – сравнил. Хотя… – парень улыбнулся уже иначе, с долей иронии, – хотя, конечно, суть одна. Просто не хотелось бы, чтоб с такой вот падалью равняли. А-а-а, все равно! – протянул напоследок и махнул рукой.
Клетчатый кепарь появился неизвестно откуда, неожиданно. Первое, на что обратил внимание Игорь, была грязная, давно немытая рука с траурными каемками под ногтями. Потом с удивлением заметил в этой руке книгу в темно-зеленом, ту самую.
– Как заказывали! – гнилозубо ощерилось из-под кепаря. – Троячок – госцена, не обессудь, дорогой.
– Госцена – всего десятка, – буркнул бородатый, – ты хоть научись отличать цены-то, вонючка! – А Игорю сказал: – Тут он прав, точно, трояк. Три красненьких выложи, хошь не хошь, ниже не возьмешь!
– Во-во, по-божески! – закивал коротышка.
Игорь уже было полез в карман за бумажником, он был доволен и, само собой, не собирался упускать возможности – затем и приехал, но бородатый вдруг остановил его легким движением.
– Погоди, – сказал он тихо и взял книгу в руки. – Вот ведь падла, так и есть – самопал!
– Чего?! – обладатель кепаря словно подрос. – Чего?! Сам ты… ты чего мне клиента!.. Не верьте ему – родной, типографский, самый настоящий! Два дня как из магазина!
– Вали, последний раз говорю! – бородатый вернул книгу и толкнул коротышку в плечо.
Тот, бормоча что-то под нос, скрылся из виду.
– Ишь ты – самопал за трояк, ну шустрый спекуль! Да был бы еще…
Игорь ничего не понимал. Стоял, головой вертел, ему было жалко уплывшую книгу.
– Самоделка это, понял? Была бы еще вынесенная с типографии да сшитая вручную – еще ничего, таких здесь пруд пруди: каждая третья. Знаешь, выносят тетрадками, по кускам, а потом собирают дома на подручных средствах. А у этого от корки до корки самопал – перепечатка на ксероксе плюс обложка самодельная. Ей цена в базарный день – пятнадцать рублей!
– Да я б за пятнадцать с ходу взял, пускай самоделка, ведь там же один к одному текст, так? – Игорь начинал злиться.
– Так! Только этот спекуль не дурак – он видел, что ты за тридцатник взять готов, теперь никому и за двадцать пять не отдаст, понял? Это же живые деньги. Ну кто упускать будет, подумай!
Игорю стал вдруг противен этот добровольный советчик. Но он пересилил себя – дело есть дело. В конце концов, он помог, не дал провести его. Да и от кого еще узнаешь такие подробности? Поди-ка, попробуй! Тут все темнят, каждый лапшу на уши вешает, лишь бы цену повыше нагнать да охмурить несведущего. Нет, рано еще решения какие-то выносить. Да и не его это дело – осуждать кого бы то ни было. И он внимательнее пригляделся к бородатому парню. Несмотря на речь, тот производил вполне приятное впечатление, и Игорь нисколько бы не удивился, если бы повстречал его у себя в институте или в министерстве. Да и вообще публика здесь собиралась очень разномастная, а отдельные типы заставляли припомнить Гиляровского.
– К вечеру словим твоего Соловьева, – заверил бородатый.
Мимо прошествовал мальчик в желтом. Руки он держал на животе – теперь они были в таких же желтых замшевых перчатках. Вслед за ним протиснулась женщина, скорее всего, мать, а может, и бабушка, – для нее проход был тесноват. Она на ходу смерила Игоря обжигающе черным взглядом, скривила губу. Игорь опустил глаза и увидел, что баул, который женщина волочила за собой, был тощ и пуст. Видно, поторговала успешно.
– Каждый день здесь, – кивнул вслед бородатый.
Игорь смерил его взглядом. Хотел промолчать, но не удержался:
– Значит, и сам – каждый день?
– Но не всегда от звонка до звонка, иногда так, забежишь на полчасика, и назад, – согласился бородатый. – А, вообще-то, это дело затягивает. Вот я, к примеру, он понизил голос, – даже работу бросил. Сам понимаешь, когда просек, что инженерская сотня еще не верх, так и… – парень махнул рукой в сторону.
Коллеги выходит, подумал Игорь, бывшие! Мимо прошмыгнул паренек в расстегнутом пальто. Второго Игорь прихватил за плечо.
– А ну-ка, приятель, покажи рыбок! Мальчишка послушно вытащил из кармана банку.
– Игорь поднес ее к лицу – все три рыбешки плавали кверху брюхами и уже не были ни яркими, ни привлекательными. Он вернул банку.
– Что же ты? – спросил тихо.
– А-а, ну их, – мальчик размахнулся и через плечо бородатого забросил банку в сугроб, – ерунда все это, других куплю.
Он запахнул пальто и побежал догонять товарища. А Игорь, будто ища поддержки, посмотрел на бородатого. Его интересовала реакция нового знакомого. Сам он был в растерянности.
Бородатый усмехнулся. На этот раз горько. Кивнул пару раз и тяжело вздохнул. Куртка снова заелозила на его плечах, будто живая.
– А может, и к лучшему. Чем раньше повзрослеют, тем легче в жизни будет, может, так и надо, – сделал он вывод.
Может и надо, может и не надо – в голове у Игоря уже все спуталось. И надо ли, чтобы в людях, в детях вот так вот запросто гибло то хорошее, что было? Ведь было же? И ведь гибло же? Или ничего не было, или это только ему так кажется, или он сам напридумывал за всех их жизни и их добро и зло? Хватит! Он пришел за Соловьевым, и плевать на все! Где же книга?!
– Или я не прав? – вдруг спросил бородатый.
– В чем не прав? – Игорь совсем не понял его вопроса.
– Что с работы ушел?
– Твое личное дело.
Бородатый опять сморщил нос гармошкой, зашелся в беззвучном смехе. Потом выдавил:
– Во, все так говорят. А какой толк от меня был – тонны бумаги переводил, чтоб родная контора процветала, чтоб начальничек как в песне: все выше, и выше, и выше, да? Кстати, ты, наверно, тоже конторский?
Игорь подумал и согласился.
– Вот так, – обрадовался бородатый, – я ведь нашу чиновничью косточку за версту вижу! Вон, видал ханыг, что здесь вертятся?
– Попробуй не увидь! – Игорь поднял воротник, отвернулся.
– Как братья родные, да? Да! На них на всех будто печать одна, верно? Верно! Вот и на нас, служивых, одна печать. Только другая. А я от своей избавиться хочу, уже полтора года сдираю ее с себя. Куда там! Это на полжизни.
– Почем испанец? – поинтересовался мужчина в барашковой шапке, давно стоящий рядом.
– Да иди ты, не продается, – отмахнулся бородатый. А Игорю пояснил: – Ходит тут, приценивается, а сам никогда не берет. Может, и стукач.
– Боишься?
– Не боится знаешь кто? – вопросом на вопрос ответил бородатый. И Игорь подумал, что за этим последует одна из приевшихся поговорок. Но бородатый ткнул пальцем в парня, что стоял метрах в семи, на отшибе. Парень был в кожаном пальто и заметно дрожал. – Вот кто не боится. У него папа книжечки по списочку получает, усек?
– Не трепи, – сказал Игорь, лишь бы сказать что-то.
Бородатый промолчал, давая понять, что об очевидных вещах он спорить не собирается. Но хватило его не надолго.
– А мы своим трудом живем. Трудом и риском. А риск, сам знаешь, какое дело – благородное, это в любом учебничке прописано.
Игорь понял, что с бородатым миндальничать не следует. Да и не ждет тот деликатностей – нужны они ему!
– Небось выперли из конторы-то? – спросил он.
– Ой, да из нашего… – парень назвал Игорю его родной институт, – еще никого не выпирали, пока он сам себя не выпрет.
У Игоря по груди разлилось тепло. Ничего себе! Почему же он не помнит этого парня? И он уже собирался спросить из какого отдела тот. Но вовремя прикусил язык. Раскрываться не стоит, ни к чему это. Он вгляделся в лицо парня – и что-то знакомое уловил в нем: видел, точно, видел, только без бороды. Но бороду-то отрастить недолго, нехитрое это дело. А вдруг и тот его узнал, но молчит, ждет, пока Игорь сам признается? Ему стало как-то неуютно, как бывает, когда выходишь перед всем залом в институте получать грамоту или еще какую награду – весь на виду, а сам ничего в эти моменты не видишь. Но скорее всего, он ошибался – парень вел себя так, что не чувствовалось в нем подвоха. Просто не чувствовалось, и все.
– Несчастные люди, я тебе скажу, – бородатый снова перешел на доверительный шепот, – я, по всем нормам, нарушитель, чего там – преступник, можно сказать, а им не завидую. И тебе тоже, контора! Думаешь, мне деньги нужны? Да пропади они пропадом, я после них руки по полчаса мылом отмываю! Я б и на сто рублей вот так жил, – бородатый поднес ребро ладони к своей бороде, – это для баб, что ни делай, лишь бы получка вовремя, а мне – польза нужна, не могу, понимаешь, без пользы вкалывать, да еще деньги за то получать… Сам знаешь, нас таких восемнадцать мильенов, в газетах писали. Читал? Теперь вот – на одного меньше!
Игорь вдоволь и до этой встречи за свою жизнь наслушался подобных речей, и они ему осточертели. Да и сам бородатый становился все более и более неприятен. Но то, что ото парень из их «конторы», не давало ему уйти или прервать болтовню.
– Нашел бы другое место, с пользой, – вставил он, не переставая глядеть по сторонам, вглядываться в корешки.
– За норвежца два с полтиной даю! – влез между ними здоровый мужчина в вельветовой шляпе и синей телогрейке. Он шумно сопел. Так, что бородатый даже отшатнулся.
– Только на обмен, – сказал он твердо.
– Ну и дурак! – еще тверже ответил мужчина в телогрейке и ушел.
Бородатый не обиделся на «дурака», наверное, и не увидел в том оскорбления.
– Легко сказать – нашел бы другое место. Пойди – найди! Каждая контора, как замок средневековый, круговую оборону держит, узнавать, чем будешь заниматься, приходится уже по ходу дела, после приказа о зачислении, понял?
– А ты не суйся по конторам. Других мест нет, что ли?
– Я полгода на линии проработал, связистом, понимаешь. Так плюнул и убежал во все лопатки. Хочешь верь, хочешь сам проверь – после конторской работенки не то что квалификацию теряешь, это слабовато сказано, а вообще ни на что уже не годен! Ты думаешь, я помню, чему меня в институте учили?
– Не думаю, – согласился Игорь.
– А думаешь, ты помнишь? Молчишь, вот так-то, знаешь, что баки забить можно, вон, Васе в клетчатом кепаре, а мне – нет.
Игорь пожалел, что ввязался в дискуссию: дай волю настроению – и все можно в черный цвет перекрасить, или наоборот. А толку-то? Жизнь, она все равно полосатой остается и разноцветной – рядись в любые тоги – и все прав будешь. Но только на словах.
– Фаворита за свои детективы хочешь? – поинтересовался парнишка, по виду восьми-девятиклассник с тремя темными волосинками на верхней губе и совсем детскими глазами.
– Оставь себе, – ответил бородатый, – и чтоб больше не подходил, шел бы домой – уроки учить!
– Тебя забыл спросить, – уходя, бросил школьник.
– Больно ранние пошли! – сказал бородатый Игорю.
– Почем испанец? – снова поинтересовался мужчина в барашковой шапке.
Бородатый вздохнул и спрятал детективы в сумку, достал какую-то тоненькую книжку Стругацких. Мужчина, покачивая своей кудрявой шапкой, отошел.
– Еще раз спросит – в лоб получит! – заверил бородатый.
Игорь усмехнулся – бородатый был явно не из тех, кто любит кулаками работать. Посмотрел на часы – скоро три, уже не полдня потеряно, а, считай, весь день. Солнце как-то незаметно пропало с небосвода, растворилось в мути и серости. Вместе с ним пропало настроение. Игорь стоял и притопывал – становилось холодновато. И не мешало бы перекусить. Но нет, только до победного! Бородатый вещал что-то свое. Игорь почти не слушал, кивал невпопад. Думал. Книгомания! Что за бред, откуда? Каким чертом принесло эту болезнь? И сколько еще можно прикрываться тем, что у нас народ самый читающий в мире? Да, самый читающий, кто спорит! Тут и спорить смешно, если по данным английской статистики, Игорь своими глазами видел, в Англии слышали о Шекспире не больше двадцати процентов населения – только слышали! А сколько его читали? Безусловно, самый читающий! Опять-таки, если верить официальному докладу в Конгрессе, который сами штатники сделали пару лет назад, после того, как подсчитали, – тридцать процентов просто неграмотны! еще двадцать грамотны, но не настолько, чтобы осилить нечто отличающееся от комиксов. И как не верить? Ведь сами себя сосчитали, сами и заявили на весь свет. А у нас еще у иных крепостных библиотеки были в сотни томов, а в одиннадцатом веке, когда супруг Анны Ярославны французский король вместе подписи на брачном свидетельстве крестик ставил, население городов русских от простого люда, ремесленников посадских до бояр и выше было поголовно грамотным – поди-ка поспорь с фактами, с археологическими находками! Самый читающий – и был, и остается! Но что это – тиражи миллионные, книг сотни миллиардов – и все мало? Сколько раз доводилось Игорю держать в руках книги с тремя, пятью, семью штемпелями магазинными. И книги были в отличнейшем состоянии, нечитаные. Но зато успевшие сменить кучу владельцев. Обмен ради обмена, приобретение ради приобретения – книга превращалась в товар уже без всяких кавычек. И не отговоришься тем, что народ читающий самый! Нечитаные книги-то ходят по рукам! Конечно, не все еще больны книгоманией, далеко не все, малая часть. Но ведь на глазах все происходит, не за морями-долами: все больше становится народа на толкучках, все больший доход приносят обменные отделы магазинов. А если поинтересоваться у психиатров, то без сомнения, – все больше у них становится пациентов. Да и интересоваться не надо. Игорь мог сам назвать кому угодно с десяток знакомых, которые позабыли все на свете и волокут домой книгу за книгой, не успевая их перелистать, занимая в долг, лишь бы купить, про-96
давая вещи, опять-таки, лишь бы купить! купить! купить!! купить!!! И пределов этому не видно. Поначалу казалось, что на убыль пошел книжный бум. А мечущихся по городу из конца в конец людей меньше не становится. И какие там интересы, какая там производительность, какая семья и какие друзья, какая духовность – про все забыто, про всех, напрочь! И уже не престижа ради, и уже не для вложения денег – все это отбрасывается увеличивающимися тиражами – а просто из спортивного интереса в начале, из горячки и боязни упустить что-то только вышедшее, из мании, переходящей в психоз! А можно ли хоть одного из этой братии в библиотеке встретить? Игорь задавал себе и такой вопрос. Но задавал просто так, для смеха. Конечно, нельзя, упаси Господи! Кого встретить в библиотеке? Ну вот этого Васю в клетчатом кепаре еще, может быть, можно – он туда пойдет, чтоб спереть чего-нибудь да и загнать потом. А тех, кто не загоняет, а приобретает – нет, не встретишь, хоть все библиотеки Союза обойди. Там другая публика, там народ… Что же получается, а эти уже и не народ? А кто же тогда? Малая часть, поддавшаяся горячке, временное явление? Может, и временное. Да точно – временное, как с хрусталем и коврами, когда рынок насытился – все, баста. Игорь предвидел в далеком будущем насыщение и книжного рынка. Не под самое горло, разумеется, – десятка два-три дефицитных книг всегда будет, при любом насыщении. Но для спекулей это будет крайне печально – на десятке наименований капиталов не наживешь, потому как на этот десяток и спрос будет меньший, с этим ясно. Но будет насыщение, будет! Будет насыщение, и тогда… эта «читающая» братия начнет разгребать тысячные завалы в своих квартирах. А разобрав их – ринется в букинистические магазины, сдавать. И только тогда, Игорь не воображал себя пророком и провидцем, он знал точно, – и только тогда многие протрезвеют, схватятся за головы и, может быть, даже подумают – а зачем я гробил годы, зачем выменивал, переплачивал, зачем?! Если сейчас и в букинистические не берут – насыщение! – и самому не перечитать до гробовой доски, и детям и внукам не осилить?! Да и не станут дети и внуки осиливать – у них свои интересы будут, наверняка повыше, чем у папаш и мамаш! А ведь точно, будут! Игорь поймал себя на такой мысли: сам он от девяти до тринадцати взахлеб заливался разными дюма, майн-ридами, скоттами и прочим подобным, а ведь сейчас, чего скрывать, тех же ребят под пулеметным дулом не заставишь читать эту писанину! И они правы по-своему, сколько можно тешить себя похождениями придуманных французских герцогинь и графов?! Зачем миллионы и миллиарды на ветер?! По здравому размышлению, Игорь приходил к выводу, что нужны, вообще, сотни произведений, отобранных веками да плюс к ним новые вещи, злободневные, показывающие жизнь народа. Народа! А не этих дутых маркиз и баронетов. А остальное… сколько накипи, сколько суеты, сколько растраченного на пустышки времени! Но ведь нет – кипит толкучка, кишит! И увеличиваются очереди в обменах, и горят полубезумные глаза, и дрожат руки, боящиеся приоткрыть книгу (а вдруг повредишь – потом не поменяешь ни за что, ведь требуются только в отличном! в идеальном виде!!), и не спится ночью: мозг сам высчитывает варианты обменов, прикидывает, не дает глазам сомкнуться, и вливаются новые силы, новая кровь в необозримую суетную армию, и текут деньги в чьи-то руки, текут, текут, текут… Книгомания!
Игоря выдернул из глубины размышления вопрос барашковой шапки:
– А это почем?
Бородатый озверел: желваки заходили по скуластому лицу, а куртка чуть было не осуществила свою давнюю мечту – еле удержалась на плечах.
– Слушай, я по-хорошему, не подходи! – он с трудом сдерживал себя. И когда мужчина в барашковой шапке отошел, процедил с непонятной злостью: – Барран!
– Ну чего ты психуешь, – сказал Игорь, – ответил бы, и дело с концом.
Бородатый был уже спокоен. Он поглядел на Игоря немного свысока.
– Ты еще не пригляделся к этим типам. Да и вообще, я тебе скажу – большинство людей – просто бараны. Что, неласково я их, да? А ты сам погляди, вот хотя бы в метро, не в час пик, а когда ни то ни се – десять дверей нараспашку, а они выстроятся в цепочку, и один за другим, один за другим! Не дай бог самому в дверь сунуться! Вот ежели кто другой, так пристроятся. Что, не так, скажешь?
Игорь промолчал. Может, бородатый в чем-то и прав, но зачем же так резко, не стоило бы. Он засунул руки в карманы.
– Или вот, на Кузнецком арку знаешь? Игорь кивнул.
– Там в конце квартала книги навынос продают, от магазина, со столика. И всегда, как столик этот появится – тут же очередюга. Сам проверял: ведь давятся, нервничают. А десять шагов пройди, там, в магазине, те же книги свободно лежат. Не поверишь! Кричат: «В руки только по одному экземпляру! Не лезьте без очереди!» Шум стоит, суетня. Я, как дурак, один раз подхожу, говорю – мужики, мол, там вон все, что захотите, тоже самое лежит, ну оторвитесь вы друг от друга, прошлепайте за угол, близко ведь! Ты бы слышал, как на меня понесли, говорят, без очереди лезет, потому и тюлю травит! Не верьте ему, говорят, вали отсюда, говорят! Так и ушел, словно оплеванный. Уж лучше бы промолчал!
– А ты уверен, что кому-то нужны твои советы? – неожиданно спросил Игорь.
– Не понял? – длинный нос на лице бородатого стал еще длиннее.
– Да я так, ничего, ничего, – сгладил себя Игорь. – Ну стоят, и пускай стоят. Значит, им нравится.
Бородатый ожил.
– Вот и я говорю, бараны. Они сюда заходят, поглядывают с интересом, книжечками любуются. А ты спроси, как они на меня глядят? Спекуль, и все! С презрением глядят! А они чистенькие…
Игорь слушал на этот раз внимательно. И ему не совсем нравилось, что бородатый так разоткровенничался. Что он – за своего принимает, что ли? Дескать, Игорь не чистенький? Не баран? Польстить хочет? Лишь бы выслушали? Или от души, попросту? Да черт с ним, пускай травит.
– …а спроси – кто про Монтеня слыхал, про Транквилла, про Бодлера, я тебе еще сотню перечислю? Да никто! А я, спекуль запятнанный, читал, от корки до корки, понял? Так кто лучше, кто интеллигентнее? И кстати, прочитать-то удалось, не когда в конторе просиживал, а когда отпихнулся от нее, вот так. А до конторы я еще в КБ поработать пару лет успел. Конструкторское бюро, охо-хо! А спроси, за эти два года там кто-нибудь чего-нибудь сконструировал? Я не отвечаю, сам знаешь! Так вот, и не конструируешь, и Монтеня не читаешь – так на хрена?! Я сейчас Плутарха штудирую. А ты думаешь, мой начальничек бывший про Плутарха слыхал? Он всю жизнь землю носом роет, где лучше ищет, давит ближних своих и не замечает того. А как заметит, так для него праздник, слюну от удовольствия пускает. Какой там Плутарх!? А вообще, тоскливо мне, знаешь, по честному, думал от суеты уйти, избавиться от мелочевки этой, не выходит – из одной в другую, как из огня в полымя. Хоть топись иди! – бородатый рассмеялся так, что щеки подползли к глазам. Но смех был невеселый какой-то, злой. – Только ведь не утопишься, выловят, спасут. Потом от мазута одежонку за пять лет не отстираешь! Суета все. Хорошо падлам живется. Вон, про одного в газете писали, про такого же, как мой бывший начальничек. Дескать, продал свой «жигуль» через комок якобы, а сверху три с половиной тыщи хапнул. Ну делают так, знаем, все. Нехорошо! Так этот писака, репортер, от восторга визжал: вот, дескать, новые времена, торжество справедливости! не взирая на должности! строго наказан! И там же пояснил – как наказан. У него этот верх, три с полтиной забрали, да выговор партийный. Вот тебе и наказан! вот тебе и торжество справедливости!! Я за голову схватился, как же, братцы? Да я когда первый разок с дисками вышел, еще работал когда, ну и один трехрублевый, самый дешевый, за четыре загнал, на рупь дороже! Понимаешь – на рупь, а не на три с половиной тыщи! Так у меня все пластинки конфисковали, на полторы сотни, и на пятнадцать суток! Понял, за рупь – пятнадцать суток! А за три тыщи – выговор! А ты говоришь…
Игорь ничего не говорил. Ему не было жалко бородатого – получил свои сутки, так за дело ведь, сиди и помалкивай. А статью ту он тоже читал. И не восторгался вместе с репортером. И не считал уважаемого чиновника достойным выговора. Сидеть бы им на пару с бородатым: только бородатому свои пятнадцать, а тому года три-четыре, не меньше! Хоть и уважаемый, хоть и с большим, наверняка, стажем, а ведь по правде бы было, по справедливости?! Он не стал высказывать вслух свои соображения, а лишь философски выложил:
– Всякое бывает.
– Это точно, всякое бывает, – эхом отозвался бородатый.
Нет, конечно, надо издавать и что-то легонькое, думал свое Игорь. Но меру при этом знать. Не превращать «чтиво» в единственный вид литературы. Вот скажем, если издают бесчисленные вымыслы о похождениях тех же графинь и герцогинь, маркизов и баронетов, то почему одновременно с этим не печатать документальных, правдивых произведений по западной истории, где ясно и четко сказано, как оно на самом деле, что белоснежные, обсыпанные пудрой парики, например, носили не от особой европейской утонченности, возвышенности, а для того лишь, чтобы скрыть немытые, кишащие паразитами колтуны на головах. А если вспомнить посольство Петра I во Францию, вспомнить записки его спутников, зажимавших платками носы, когда они входили в Версаль, – канализации в королевской резиденции не имелось, и все во дворце и парке было завалено нечистотами. Вспомним «благородных» рыцарей, мывшихся один раз в жизни – в день посвящения. Недурно, не так ли! Когда дело касается нашей российской истории, мы не жалеем самых черных красок, щедро мажем все дегтем, но… Но там, у них – все воздушно и прекрасно, все рафинировано и очень благородно, а свобода и просвещение такие, что можно подумать и не было ни инквизиций, ни религиозных войн, ни страшнейших, не ведомых России эпидемий. Был у нас Чаадаев, который сказал слово о России, – мы его любим и ценим. Но нет и не было у нас такого Чаадаева, который бы сказал подобное слово и о Западе, тут идеализация предела нет и все требования говорить правду и только правду в литературе и на экране сразу же забываются.
Толпа не редела: одни уходили, приходили другие. Суетились, искали, нервничали.
Нервничал и Игорь – время шло впустую.
– Я пойду, поверчусь, – сказал он, – может где-то Соловьев появился.
– Давай, – вяло согласился бородатый и вытащил из сумки свои детективы.
В толчее сразу закружилась голова, Игорь даже потер виски, чтобы отойти немного. Толкали, казалось, со всех сторон одновременно. Поначалу он очень злился, реагировал на каждый толчок случайный. Стоило кому-то слегка задеть его локтем, как внутри все вскипало, появлялось резкое желание ответить еще более чувствительным тычком. Но уже через пару минут он понял, что это с непривычки, что это лишь нервы! И почти сразу успокоился – куда деваться, здесь все в таком положении, избранных нет.
Сумки, саквояжи, авоськи, портфели, чемоданы – и все с книгами. Океан книг! Но лишь на сотню, а то и две попадалось что-либо стоящее, все остальное: фантастика, приключения, детективы или же бабочки-однодневки, скороспелые поделки об «ужасных» приключениях всевозможных «детей Арбата», якобы замученных и затравленных режимом кровожадного деспота, стенограмма помыслов и замыслов которого приводилась тут же, в промежутках авантюрного сюжета. Но что делать – в рекламу подобных «откровений» были вложены такие громадные средства прессой, телевидением и радиовещанием, что, как ни крути, она дала результаты – расхваленное во всех углах варево пользовалось спросом, его глотали наспех, не замечая даже вкуса. Мода, всесильная мода! Вчера культ «гения всех времен»! Сегодня тот же, но более изощренный культ «кровожадного палача»! Со знаком минус, и все же культ!
Игорь не то чтобы осуждал бравших поделки, нет. Ему их было жалко. Но к жалости примешивалась и горечь. Ведь можно, скажем, слезно пожалеть ослика в шорах, тянущего повозку и видящего лишь болтающуюся перед самыми глазами морковку и ничего больше. Жалко его, конечно, жалко как-то по-есенински: «милый, милый, смешной дуралей!» Но ведь это… люди! Они обижаются на жалость. И не разобъяснишь ведь всем! Ну, ничего, разберутся со временем. Да и, если по правде, Игорь отлично знал, что далеко не всех охватила горячка поверхностных, но остреньких разоблачений и жажда всевозможных жгучих «секретов» из жизни правившей «элиты». Большинство, подавляющее большинство народа смотрело на жизнь присущим ему во все времена и при всех испытаниях трезвым взглядом.
А корешки мельтешили… Получалось как-то, что следом за Игорем почти впритык всю дорогу брел унылого вида мужчина в сером демисезонном пальто и черной кроличьей шапке, очки заслоняли половину его лица, другая половина была не слишком выразительна – маленький рот, скошенный назад подбородок. Выбившийся шарф открывал худую, морщинистую шею. В руке он держал распахнутый старомодный портфель, в котором корешками кверху был выставлен бледно-сиреневый восьмитомник Николая Васильевича Гоголя. Мужчина жалостливым взглядом озирал толпу, временами выговаривал вяло: «А кому собрание сочинений?!» Но покупателей на восьмитомник не находилось. Его толкали вовсю, доставалось больше, чем Игорю, но, казалось, он ничего вокруг вообще не замечал.
Когда Игорь обернулся, заглянул в портфель, мужчина обратился к нему заискивающе:
– Берите, молодой человек, глядите – какое состояние, идеал! Жалеть не будете!
– Спасибо, у меня Гоголь есть, – ответил Игорь, чем очень расстроил унылого.
Взгляд у того стал совсем обреченный. Заметив проталкивающуюся рядышком женщину интеллигентного вида с макулатурными «Тремя мушкетерами» в руке, он чуть не бросился на нее со своим портфелем:
– Дама, лучшее собрание сочинений, задаром, согласен на одну вашу обменять, ну-у, не упускайте момента, решайтесь, второго такого случая не будет, целое собрание – на одну! – маленький подбородок у него затрясся от напряжения.
«Дама» заглянула в чрево портфеля, презрительно фыркнула.
– Пфу! Ну вы даете, уважаемый! Вы меня за кого принимаете? Я школу лет тридцать как кончила, не ученица, вышла из того возраста, когда Гоголя проходят! – она была явно оскорблена. – В людях не разбираетесь, дорогой, надо знать, кому что предлагать. Да еще за такую вещь, за Дюма!
Унылый совсем завял. А Игорь спросил у «дамы»:
– Ну, а что, например, вы ищете в таком случае?
– Да уж посерьезней что, посолиднее. Что жизненное! – ответила та совсем иным тоном, даже дружелюбно.
– Например? – не отставал Игорь.
«Дама» заулыбалась, видимо, довольная, что на нее обращают внимание, интересуются.
– Ну-у, например, – она даже кокетничала слегка, – Буссенар, э-э, альбомы всякие люблю с иллюстрациями. Или вот, самое-самое – Анн и Серж Голон, слыхали? Ну, приключения Анжелики, прелесть, вершина, я просто без ума от нее. Вот это талант! Запад, что ни говори, умеют!
– Да, вообще-то, авторы по происхождению наши, – вставил Игорь, – русские…
– Что вы! – махнула на него рукой «дама». – Что вы! Наши так не могут, культура не та. Нет той, понимаете, тонкости, изящества, обхождения. Не-е, у нас так не напишут, не научились еще! Правильно сейчас говорят по телевизору, в «Огоньке» пишут – у нас литература серая! А там, ну что вы, – она улыбнулась с нескрываемым превосходством, – там у всех образование европейское, любая кухарка нашим писакам фору даст… Ах, что за прелесть! Анжелика! Само имя! А что там у всех этих гоголей – ваньки, маньки, парашки! Тьфу!
Игоря обожгло. Только позавчера, перечитывая Белинского, он вновь наткнулся на страшные, несправедливые слова. Критик негодовал по поводу «ужасного зрелища страны», «где люди сами себя называют не именами, а кличками: Ваньками, Стешками, Васьками, Парашками». Сколько он уже встречал в прессе статеек, в которых ссылались на это высказывание, раздувая его смысл, дескать, рабы! и обхождение у них рабское! единственная страна в мире, где рабство и плебейство в самой крови! так себя называть, так себя унижать, нигде такого нет!!! Страшно читать было. Игорю становилось не по себе – до такой степени не любить своего народа!
«Ужасное зрелище»?! «Клички»?! А скажите-ка, в какой еще стране Европы, мира называют того же человека по отчеству, с уважительностью, не известной иным странам и народам?! Что же это мы себя в грязь втаптываем! Да что же они, эти псевдоученые делают, как же можно терять настолько совесть? «Единственная в мире»! Да вы бы задумались, попытались бы постигнуть: именно единственная! Где еще есть такой язык, такое богатство, обилие форм? Ведь не только Ванька, но и Ванюша, Ванечка, Ваня, Иванко и еще с десяток вариантов! Ну у кого еще есть такое разнообразие?! Что там – Джон, Джо, Джонни – и все, и точка?! Прав был Николай Васильевич, говоря, что для знания жизни и понимания ее маловато сведений, почерпнутых из столичных фельетонов и популярных брошюр. Задумались бы, что сам строй языка нашего такой, что не только Стеша, Стешка, Стешенька, но и, к примеру, книга, книжка, книжечка, или же – стена, стенка, стеночка, сума, сумка, сумочка, и до бесконечности так. А какое именно обращение выбрать из всего этого кладезя, человек сам знает и не к месту ненужного не скажет. А его в рабы, в плебеи! Как же все перевернуть можно, исказить, опошлить и испоганить! Помрачение какое-то! Неважно, по дурости ли, со злым умыслом или в запале! Суть-то одна, неуважение к тому, кто тебе не только жизнь дал, но поистине могучим, необычайнейшим языком наделил – к своему народу! Вот и «дама» эта туда же, нахваталась из псевдопрогрессистских статеек, фельетончиков, в которых все вины валят на «бескультурный, неподготовленный политически и нравственно» народ наш… А тот молчит, безмолвствует. Почти как у Пушкина в «Годунове». Но это пока, до поры до времени. Не век ему в молчунах ходить!
Нет, нету зла, нету нетерпимости к таким вот «дамочкам» и сходным с нею. Одна жалость только. Да горечь. Сколько же у нас ловко манипулировали такими, именно такими! Теми, кто всегда на поверхности толкется, кто видимость народа создает, а по сути своей лишь легкая пленочка на его непомерной, великой толще, лишь мятущаяся и нестойкая пена.
Игорь потерял интерес к «даме», поклоняющейся анжеликам. Да и та, почувствовав это, отошла со своими «Тремя мушкетерами», вновь ввинтилась в толпу, раздвигая ее очень ловко и плечами и локтями.
– Во-о, уплыла, – промямлил унылый мужчина. – Много тут таких, приоденутся, намажутся, замакияжутся под интеллектуалочек, на первый взгляд, не отличишь от настоящей умной бабы. А рот раззявит, так и видно сразу – анжелика из вторсырья, маркиза с овощной базы!
Игорь кивнул, спорить не стал, хотя был уверен, что сами по себе ни вторсырье, ни овощная база не виноваты. Здесь все глубже, сложнее – низвержено, искорежено, изуродовано, ошельмовано столько, что голова не вмещает. Тут уж, точно, не наособицу надо, а все миром, как встарь!
Он потихоньку продвигался в толпе, подчиняясь ее законам. Нигде, ну нигде не было книги Соловьева, ни у кого! Да, согласен, маленький тираж, не просто найти, не всем достанется. Но вон же сколько кругом бумаги! Той самой, которой не хватает на нужное, но хватает почему-то и на «прелестных» анжелик и на героев «арбатского» мирка.
Он зашел еще на минутку в магазин, погреться. Там толчея не стала меньше. Игорь постоял у батареи, давая отдых и ногам и глазам.
Когда он вышел, у самого входа в магазин толпилась куча молодых, здоровенных парней. Он видел только их спины. Что они там затеяли? Тоже, небось, греются, только по-своему, подумалось Игорю. Нашли место! А ребята толкались, подпрыгивали, слышались звуки тычков, хлопков, смех. Особенно сильно смеялся один – диким дурашливым смехом, другие громко разговаривали, покрикивали с босяцким, нехитрым юморком, подбадривали друг друга. Ишь ты, разрезвились мальчики! Игорь хотел обойти их стороной. Но они вдруг сами, как-то одновременно разошлись, продолжая шутить, толкаться – какой-то миг, и молодых здоровяков, по виду совсем не книжников, уже не было у входа. На стадион побежали или в кино, почему-то решил Игорь.
Проходя мимо стеклянной витрины магазина, он обратил внимание на сидящего на корточках мужичка в шубе. Шапка была надвинута на самые глаза, шуба вся в снегу – трудно даже понять, какого она цвета, размотанный шарф вот-вот свалится, на руках то ли грязь, то ли кровь засохшая. Очень неприглядный мужичок. Игорь скривился, и сюда пьянь проникла, места ей мало, нашел где усесться, алкаш! Он прошел, стараясь не задеть, не прислониться случаем.
Рядом с бородатым стоял худощавый парнишка в кожаном пальто и такой же кепке. Черные узенькие усики у него на губе нервно подергивались. Говорил парнишка отрывисто, быстро. Бородатый Игоря не видел. И он решил не встревать в разговор. Мало ли, встретились приятели, чего он мешать будет. Но слова доносились до его ушей.
– Надоел ты мне, понял, – говорил бородатый с какой-то неприязнью, но в то же время посмеиваясь, – я за неделю ни одной не отдал, усек? Навара-то нету, пошевели мозгой, ты ж дело знаешь, чего хочешь, когда навару нету?
Парнишка в коже все крутил головой. Игорю запомнился его острый, рельефный профиль.
– Ты, борода, стоишь спокойно, так и стой. Или надоело? Гляди! Забыл, что не в магазине? – говорил он, попыхивая несмятой беломориной.
Едкий дымок с привкусом полыни напоминал Игорю кое о чем. Но выводов он делать не стал, может, и ошибался. Какой дурак будет «шмалить дурь» вот так, в открытую? Нет, конечно, ошибся.
– Не забыл, – согласился бородатый, морща лицо. – С тобой забудешь. Как отдам чего, сразу подходи, ты ж у нас глазастенький, Томаз, все-е видишь. Лады?
Ну ладно, давай так. Но смотри, вон там один сидит, у витрины самой. Ты сходи, проверь, знаешь, я не обману. Навроде тебя был, с гонором. Так ребята с ним поговорили, разобрались, что к чему. Он теперь, борода, стал такой покла-а-дистый. Не, ты сходи, глянь…
Только сейчас до Игоря дошло. А ведь сразу что-то не понравилось ему в тех ребятишках, толкающихся, загородивших ото всех спинами кого-то. Не понравился и смех их дурацкий, и крики. Так вот что, они там, оказывается, колошматили – в открытую, по-наглому! – какого-то строптивого спекуля, не пожелавшего поделиться частью выручки! Вот тебе и Россия-матушка! Ну и ну! А он-то думал – врут, нет у нас такого. Ну что же, созрели оказывается, можно и доложить заокеанским наставничкам, дескать, теперь и у нас все в порядке, опыт усвоен успешно, рады стараться, ваши сковородия! А если учесть то, с какой готовностью и лихостью газеты тиражируют опыт рэкетиров, надо думать, мы скоро всех обскачем! А главное, так буднично, так просто, даже незатейливо, надо сказать. И вроде не жалко спекулей, а все равно неприятно это, дожили!
– Не надо мне кино устраивать, знаю, что не поленились ребятки, и смотреть не хочу, – сказал бородатый.
– Добро, – парнишка с усиками поежился в своем не слишком-то приспособленном для русских зим пальто, сказал, – на первый раз побеседуем, как с тем, а еще повторится – ментам сдам со всеми потрохами. Ты меня знаешь, я человек не сентиментальный, плакать по тебе не буду. Да сдам в ментуру так, чтоб не на штраф и не на сутки, а чтоб сразу на срок, понял? Ты же знаешь законы? Надо их уважать, дорогой! И не обижайся, прошу. Нас, слыхал, как называют – санитары общества! Уважают, значит!
Он хлопнул бородатого по плечу и ушел, посмеиваясь.
Игорь подошел молча. Посмотрел в глаза.
– Слышал? – спросил бородатый.
– Да уж пришлось.
– Не обращай внимания, гонору больше, чем дела. У-у, дерьмо! – Он понизил голос: – Только все, замяли, лады? Нечего на этих гадов еще время тратить, с меня они много не возьмут. Я сам на нуле! – он довольно засмеялся.
– Лады, – согласился с ним Игорь.
Прогулка его оказалась неудачной, как и предупреждал бородатый. Они тут сами разберутся. А вот что ему делать?
Он вернулся, не солоно хлебавши, кляня судьбину свою и все на свете. Даже стал подумывать – не пора ли бросать поиски и отправляться домой. Больших усилий стоило удержаться, не уйти.
– А вот русский Дрюон, задарма! – вынырнула, как и прежде неожиданно, клетчатая кепка. – Бери, не пожалеешь!
Игорь прочитал: Балашов, «Симеон Гордый». Но почему русский Дрюон? И что это за бред вообще: русский Карузо, русский Ньютон, русский Одиссей?! Он частенько встречал подобные сравнительные наименования выдающихся русских людей и в прессе и в книгах. И никогда не мог понять, чего добиваются авторы? Или они думают, что тем самым прославляют соотечественников? Тем, что отводят им второстепенные места, отнимают первородность, исконность? Воистину, бредятина какая-то! И он, вспомнив бородатого, неожиданно и резко бросил:
– А ну, вали отсюда!
Кепарь послушно отвалил, видно, привык к такому обращению. А Игорь вернулся на прежнее место. И рассказал бородатому про «русского Дрюона».
– Быдло, – сказал тот, – быдло оно и есть. Ты, думаешь, я его зря гнал? Я б давил эту падаль! Ну, а объяснение имеется – Дрюона все знают, его с помощью макулатуры в миллионах размножили, можно сказать, навязали людям. Так с кем же сравнивать, конечно, с Дрюоном! – протянул он с иронией. – Это как реклама. Понял?
Игорю такая реклама была не по нутру. Но нельзя же всех по себе равнять, и он кивнул.
– Кстати, насчет рекламы, – оживился вдруг бородатый, – хочешь посмеяться? Сам над собой уже третий месяц смеюсь, – остановиться не могу. Когда эти шакалы фуфло за конфетку выдают – еще куда ни шло. Лишь бы сбыть! Но реклама, о-о, реклама – двигатель торговли! – бородатый снял на секунду шапку.
– Видал?
Игорь кроме лысины величиной с блюдце ничего особенного не разглядел, но кивнул, мол, видал.
– Вот так, – продолжил бородатый, – полгода назад купил четыре флакона «Банфи». Слыхал? Средство для волос, импортное. У нас в «Здоровье» писали, в газетах проскальзывало – могучий восстановитель! Три раза в день ваткой в лысину – и через полгода все в ажуре. Так и в инструкции прописано. Ну я и выложил двадцать шесть рублей. Там, правда, сказано: при старческом облысении и при наследственном не действует. Короче, тру месяц за месяцем: радуюсь заранее, думаю все впереди, скоро красавцем стану. Ну а как иначе облысение у меня не старческое, откуда в тридцать лет? И не наследственное, я в нашем роду один такой. Втираю себе, по инструкции, всю плешь протер, все флаконы извел. А лысина только больше стала, последние корешки вытравил этим уникальным средством. Смешно?
Игорю было совсем не смешно – у него тоже волосы лезли. Правда, до плеши было еще далековато. Но это расстраивало его не на шутку.
– Вот и мне смешно! А ты говоришь, реклама. А знаешь, сколько нас в очереди было? За день все разобрали. По десять флаконов хватали. Я, конечно, понимаю – прибыль нужна, но… Вот так, дружище, закон везде один – лишь бы продать, товар спихнуть. А там хоть трава… хоть волосы не расти!
Игорь был не склонен к таким мрачным выводам.
– Да просто на тебя не подействовало, бывает, – сказал проникновенно, стараясь не обидеть бородача. Он даже стал к нему испытывать какую-то неизъяснимую жалость. Хотя жалеть того было совсем не за что, другие к нему чувства бы следовало питать… но не получалось.
– Э-эх, – вздохнул бородатый, – святая ты простота, не подействовало! А на кого подействовало?
Когда вновь вынырнул из гущи коротышка в кепке, бородатый чуть отклонился назад и отвел ногу, как для пинка – кепарь тут же скрылся.
Народу становилось больше. И Игорь замечал новые, еще не примелькавшиеся лица. Он к этому времени уже основательно продрог. Взглянув на часы, решил, что если не попадется через полчаса Соловьев, то уйдет. Все, хватит!
– Я пойду, еще погляжу, – сказал он.
– Да стой ты, – бородатый принялся расстегивать заевшую молнию, – стой, простота, ничего ты там не найдешь. На-ка вот! – он как-то вдруг, будто фокусник из цилиндра, вытащил из сумки книгу Соловьева «Сочинения» из серии «Философское наследие». Игорь сразу же узнал ее. – Держи!
Суетливо полез в бумажник, отсчитал тридцать рублей пятерками, сунул их бородатому и пробурчал:
– Чего ж сразу не сказал? В рекламе разбираешься, а свой товар…
– Мой товар, он и есть – мой товар, – бородатый не улыбался, – деньги спрячь, пригодятся.
Игорь совал тридцатник и мотал головой – подарки ему не нужны были. Но бородатый на деньги не смотрел.
– Я так не возьму, – твердо заявил Игорь.
Длинный нос сморщился, щеки поплыли вверх. Но улыбки не получилось.
– А кто сказал, что так? Я не филантроп, это ты меня с кем-то путаешь. По номиналу, – бородатый перевернул книгу, показал Игорю, – червонец, как прописано, гони! Я ее почти даром взял, на какое-то фуфло выменял. Так что, радуйся.
Игорь переминался с ноги на ногу и не знал, как ему поступить, – все равно получается подарок. Да и вообще, неслыханное дело: Соловьева – по госцене! Может, парень узнал его, признал в нем бывшего коллегу. Но тот ничем себя не выдавал.
– Ты вот что, дружище, выбрось всю дурь из головы, бери книгу и топай себе. Я же вижу замерз, книга нужна…
– Ну, спасибо, – Игорь отсчитал ровно требуемую сумму, сунул том за пазуху и крепко сжал парню руку.
– Может, увидимся когда, – сказал он неуверенно.
Бородатый кивнул и отвернулся. Он все так же притопывал своими мохнатыми огромными сапогами, поглядывал поверх голов. Детективы его почему-то не покупались, хотя цена на них была пониже, чем у многих других завсегдатаев. Но Игорь не пытался докопаться до причины. Он брел на трамвайную остановку и вовсе не испытывал никакой радости от сегодняшнего приобретения. Потихоньку смеркалось. И в голове крутилась навязчивая мелодия. Она пелась сама по себе, без слов. Игорь все пытался вспомнить – из какого же отдела этот бородач, под кем он работал? Но вспомнить никак не мог.
Впрочем, долго Игорь не терзался. Его сейчас полностью захватывало другое. Казалось, что он нащупывает ответ на свои вопросы. Вот-вот, еще немного и… Первым делом надо отделить читателя от хапуги. Именно с этого начинать! Все другое уже многократно испытано. Сначала надо совершенно точно выяснить – что выпускается для читателя, что для накопителя. Надо совершенно точно определить – что издается лишь для того, чтобы получить прибыль, пользуясь накопительским бумом. И стоит ли эта прибыль уничтожаемых лесов, воздуха. Временщики мы, готовые в жажде стремительного обогащения, сиюминутной прибыли сокрушать все под собой, лишь бы вырвать у накопителя его рубли?! Или же все-таки думаем хоть немного о своем народе, у которого не будет будущего, если все уничтожить вокруг, вырубить, заплевать, загадить ради того, чтобы в домах накопителей появились, залегли мертвым грузом еще тысячи томов в каждом, несчитанные миллиарды закупоренных по квартирам книг во всей стране.
И разрешение проблемы, тем более с наскоку, не по силам даже журналистам-международникам – Игорь усмехнулся про себя, молча, – незаменимым наставникам народа русского. За кажущейся простотой стоят сложнейшие, воистину философские вопросы. И хотелось бы, чтобы на вопросы эти отвечали те, кому верит народ, кого уважает, к чьему слову чутко прислушивается, потому что знает – это слово правды и совести, а не «разоблачительства» и фразерства, слово, брошенное не для того, чтобы изумить и шокировать, привлечь внимание к своей особе, возвыситься хоть на миг, а слово, выстраданное, выношенное, изшедшее из народа и обращенное к нему, слово, исцеляющее своей правдой. У нас есть кому, думал Игорь, сказать это слово без заискивания перед хозяевами совместных предприятий. Но почему-то в чести и на виду оказались совсем другие люди, во многом оторвавшиеся от почвы родной, но и «того берега» не достигшие, а так и зависшие в воздухе где-то посередине… свое для них – уже не свое, на чужое глаза горят, да видно, чужого даром не дают, так и висят где-то в пространстве, восхваляя все, на чем импортная этикетка, – а на пользу ли оно, во вред ли, им, похоже, и дела нет. Вот бы что обсудить на телевидении, в прессе. Не все же мулить до бесконечности какие-то пигмейские проблемки панков, рокеров, металлистов и просто страдающих от безделья балбесов, для которых телевизионное время нисколько не жалеется. Будто нам не о чем поговорить, кроме как об острой нехватке развлечений. Как все это поверхностно, как глупо и бездарно на фоне стольких безотлагательных проблем, назревших в обществе!
А рядом с этим, Игорь видел явственно, появляется и набирает силу нечто иное, рассчитанное на возбуждение животных инстинктов, ничего общего с литературой не имеющее. И подается все это в лакированной обложечке, в красочном фантике. Чего далеко ходить, вон у ханыги в руке книжка – казалось бы, разоблачающая и осуждающая повесть из жизни проституток, наркоманов и жуликов, где через каждые пятьдесят строк вставлена казенная сентенция, что быть нехорошим человеком нехорошо. А на деле, он сам читал, изощренно и сладострастно смакуется «шикарная», «импортная» жизнь отечественных подонков, такое впечатление, что авторы слюни роняли от зависти, когда описывали до мельчайших подробностей быт и наряды преступников! Сколько такого барахла появилось в последнее время. Замаскированное якобы под «перестроечное», оно захлестнуло страницы журналов. Молодежь читает, захлебывается от восторгов, от «смелости» и «шикарности», пропуская сентенции.
Что же происходит, думал Игорь. Откуда выползли на свет божий демагоги и рвачи? Чего же добьемся, если мы сами будем столь настойчиво, всеми средствами, порой талантливо и мастеровито, уверять себя, общество, что живем в мире продажных негодяев, проституток, жуликов и извращенцев, в мире всеобщего «русского бескультурья и дикости» – а уже и до того доходит, особенно в публицистике?! Рано или поздно наступит момент, мы и сами его не заметим, когда наш мир, перессоренный, раздраженный и озлобленный, доведенный до ненависти каждого к каждому, и станет таким вот, описываемым миром, но уже реальным, произойдут необратимые процессы. И кто тоща скажет, что Россия – это вместилище нравственности и духовности, оплот подлинной культуры? Кто вспомнит, что существовал великий российский народ с его трудной и славной историей? Никто из наших друзей или недругов, ни злобствующие, ни сочувствующие, не смогут вернуть нам прежней чистоты, если мы сами себя втопчем в грязь!
Так размышлял он по дороге к остановке.
И дернул же его черт вернуться назад! Решил открыться бывшему коллеге, потолковать с ним о том, о сем о своих догадках, рассказать новенькое о родной конторе.
Когда Игорь вплотную подошел к толпе, случилось неожиданное – не один человек и не близстоящие, а вся огромная толпа вдруг неистово рванулась куда-то, отпрянула единой взбаламученной массой, с криком, чьим-то взвизгом, руганью, будто ошалелый табун лошадей, напуганный внезапным появлением стаи волков. Игорь оторопел, не сумел сразу влиться в это общее движение… и почувствовал на локте крепкую уверенную руку.
– Ваши документы, пожалуйста.
Сержант был на полголовы ниже Игоря. Но смотрел свысока. И как им это удается, подумал Игорь. Рука сама залезла во внутренний карман, вытащила паспорт. Сержант сунул его в карман шинели, не раскрывая. За какие-то секунды у магазина стало безлюдно. Тьма сгустилась окончательно, одиноко покачивался вдалеке фонарь на косом столбе, да тускло посвечивали витрины – улицы они не освещали.
– Отойдите в сторонку…
В сторонке стоял еще один милицейский сержант и держал коротышку в клетчатом кепаре, того самого, с авоськой. Они смотрелись, как Пат и Паташон, – сержант был вдвое выше. Коротышка голосил плаксиво, рылся в карманах в поисках паспорта. Тот, видимо, был запрятан глубоко, не находился, а возможно, его и не было вовсе.
– Так, что будем делать, – без вопросительной интонации проговорил маленький сержант.
Игорь знал, что он в чем не виноват, но внутри все дрожало. Он даже боялся рот открыть – по голосу они поймут, что взяли того, кого следует. Дыхание было учащенным, в горле застрял комок. Он молчал и пожимал плечами. А милиционеры держались, как и обычно, уверенно, поглядывали чуточку снисходительно. Коротышка оказался на редкость сообразительным.
– Это он все, вот этот, спекулянт, жлобина! – вырвалось из-под кепаря. Скрюченный палец упирался Игорю в грудь. – Это он мне продал двух Дрюонов, Балашова. По червонцу содрал! Последние гроши выбил, а я и так не миллионер, все деньги на еду да на книжки. Наживаются такие вот на любителях чтения! У-у, жлоб!
Оба сержанта смотрели не на коротышку. Они смотрели прямо Игорю в глаза. А тому было невыразимо стыдно и еще более противно ото всей этой гнусности: от поведения подлеца коротышки, от бездействия и нежелания разобраться молодых парней в форме. Ему было обидно до слез, что не хватает почему-то голоса, чтобы объясниться.
– Ну что молчим? – спросил маленький сержант.
– А что ему сказать, влип, жлоб! – выкрикнул коротышка с авоськой. – А ну гони назад тридцатку! Товарищи милиция, не оставляйте обманутого в беде! – распалялся все больше.
– Да бред это, что вы, не видите, что ли, ну какой я спекулянт, какие доказательства! Что, и поменяться книгами уже нельзя, что ли? – голос предательски дрожал, выдавал непозволительную слабость.
– В установленных местах – можно, а вот у магазина… порядки надо знать, – сержант смотрел прозрачно, безразлично. Ему, наверняка, давным-давно уже надоели все эти злостные нарушители общественного порядка, и он на них свою нервную систему не растрачивал. – Значит, тридцать рублей взяли с этого? За три книжки?
Кепарь утвердительно закачался, быстро-быстро, в такт трясущейся голове. Длинный милиционер придерживал коротышку за воротник. Игоря пока руками не трогали.
– Да врет он все, у меня в кармане… – он неожиданно вспомнил, что в кармане у него именно тридцать рублей. И осекся.
– Вот видите, видите! – осклабилось гнилозубо из-под кепаря.
– Да что с ними говорить, пойдем в отделение, – предложил длинный сержант маленькому.
– За что? – возмутился Игорь.
– Там разберутся, – успокоил его маленький сержант. – Нехорошо продавать книжки по спекулятивным ценам, вы это знаете.
Если бы паспорт не лежал в кармане сержанта, Игорь бы рванул от них во всю мочь. Пускай думают, что хотят. Догнать не догонят, стрелять, разумеется, из-за таких пустяков не будут! Но паспорт-то был у сержанта! Коротышка и тут перехитрил его – своего документа он так и не нашел, и про это, казалось, позабыли.
– Кто по спекулятивным, вы что?! – Игорь повысил голос, от возмущения он захлебывался словами. И знал заранее – ничто не поможет. – Вы видели, вы доказать сможете?! За что невиновного человека задерживаете!
Оба сержанта заулыбались. Маленький прихватил Игоря за локоть снова, проговорил тихо:
– Пройдемте.
Игорь сделал шаг, из-за пазухи вывалилась книга. Сержант подцепил ее на лету.
– Философией интересуетесь, или это тоже на продажу?
Игорь промолчал. Ему стало на все наплевать – пускай ведут, куда хотят, и делают, что хотят – он больше ни слова не проронит. Они зашли за магазин. Там было совсем темно. Коротышка в кепаре испуганно озирался, норовил выскользнуть из руки длинного милиционера.
– Что молчите? – повторил сержант свой вопрос.
Если бы не форма, Игорь врезал бы по лоснящейся морде этому наглому парню. Но приходилось сдерживаться.
– Интересуюсь, – ответил он.
– И сколько за него просили? Небось, тоже не меньше тридцати рублей?
Игорь молчал и думал – почему они остановились, почему не идут в отделение? Огонек предательской слабой надежды вспыхнул в нем – только не связываться, только…
– Значит, не признаете, что взяли у гражданина тридцать рублей?
– Взял, взял! – подтвердил коротышка.
Игорь сжимал рот крепче, но все равно зубы мелко и противно стучали, в голове горячо и нудно пульсировала тяжелая кровь.
– Не хотите сознаваться – ваше дело. Но учтите: и продавец у нас в руках и покупатель. Свидетеля не нужно. Задержали вас на месте, так сказать, преступления. Протокол составить пара пустяков. А там пусть народный суд разбирается. А может, вы и вправду не виноваты!
Сержанты снова заулыбались. Заулыбался с ними заодно и коротышка. Бессилие, невозможность сделать что-нибудь, оправдаться – Игорь готов был голову расшибить о стену.
– Так значит, не хотите вернуть товарищу его деньги? – спросил печально длинный.
– Да пускай подавится! – Игорь выхватил из кармана три десятки, швырнул в лицо коротышке.
Тот ловко подхватил деньги, не дал им рассыпаться по снегу.
– Зачем так нервничать? Извинитесь перед гражданином… Игорь отвел глаза, зубы выбили дробь.
– Извините, ради бога, гражданин! – выдавил он с сарказмом. – А вам, товарищи блюстители, огромное спасибо за все и низкий поклон!
– По-моему, он издевается, – предположил длинный.
– Да, наверное, хочет все-таки в отделение, – согласился маленький.
Игорь решил перехватить инициативу, дернулся.
– Простите, погорячился, – проговорил он. – Только раз ему деньги отданы, пускай и книги возвращает – Дрюонов и Балашова!
Коротышка прижал авоську к груди, замешкался. Но потом вытащил книги.
– Бери, жлоб!
Игорь не успел протянуть руку. Длинный перехватил книги.
– А вот товар, как лишний соблазн для вас обоих, конфискуется! – книги мгновенно исчезли за отворотом его шинели. И даже не заметно было, что там что-то есть – грудь как была колоколом, так и осталась. Коротышка явно не жалел об утрате, ухмылялся злорадно.
– Можете идти! – сказал маленький сержант. – И смотрите, не нарушайте больше.
Игорь развернулся в полнейшей прострации. Тут же снова стал лицом к милиционеру, преграждая тому путь.
– А мой Соловьев? – спросил он, теряя остатки голоса.
– Соловьев тоже конфискован. У вас есть возражения?! – он пристально поглядел Игорю в глаза.
Возражения, если они и были, тут же испарились. Только не связываться, только не связываться! Он развернулся, пошел прочь.
– Стойте! Вот ваш Соловьев! – сержант протягивал книгу. – Держите!
Игорь взял ее.
– Чтоб я вас тут больше не видел! – донеслось в спину.
Не выходя на свет, к фонарю, Игорь остановился – у него не было сил идти дальше. Надо было постоять, прийти в себя. Он пронаблюдал, как оба милиционера скрылись из виду в дальней подворотне. Вздохнул. Надо бы пойти в отделение, все рассказать… и тогда… А что тогда? Ничего! Он отмахнулся от пустой мысли. Что-то клетчатое прошмыгнуло перед глазами. И откуда только силы взялись – в два прыжка он настиг гаденыша-коротышку, уцепил его за ворот.
– Стой, паскудина!
Коротышка пригнулся со страху. Видимо, он совсем не ожидал, что обманутый может быть где-то поблизости, надеялся, что тот без памяти несется к дому, счастливый от того, что избежал наказания.
– Давай сюда, гнида!
Игорь не ждал, пока коротышка сам достанет деньги. Он держал его одной рукой, другой шарил по карманам, в авоське, за пазухой. Деньги нашлись под кепарем. Коротышка, почувствовав, что лишается тридцатника, заверещал, принялся брыкаться, грызть Игореву руку зубами. Было очень больно, и Игорь выпустил подонка. Но деньги уже перекочевали в его карман. Оставалось только дать хорошего пинка. Игорь занес ногу… Сзади его цепко захватили под локти. Он не мог ни развернуться, ни нагнуться – хватка была железная. Коротышка, почувствовав себя на коне, первым делом вырвал из кармана бумажки, комкая сунул их под кепарь. Потом размахнулся и ударил Игоря по подбородку, выше достать не смог.
– Получи, падла! – прошептал почему-то уже без вереска и плаксивости, зло и ехидно.
Отбежав на три шага, он разогнался и с силой ударил ногой в живот. Метил ниже, но Игорь пригнулся слегка, спас себя от страшной боли. Удар был сильный, несмотря на всю видимую хлипкость коротышки. Но злил сейчас Игоря вовсе не жестокий и мерзкий обладатель кепаря. Его бесило другое – державший за локти не давал ему сделать ни единого движения, не давал даже обернуться назад. И все время колотил не слишком сильно, но упорно, в затылок чем-то тяжелым и твердым, наверное, собственным лбом. Лишь один раз подал голос, сиплый, пропитой:
– Шапку с него сыми!
– Пускай подавится! – отозвался коротышка, будто речь шла о его собственной шапке, подаренной Игорю.
И бил. Без остановки – то руками, то ногами. Когда у избиваемого стали подгибаться ноги, его оставили в покое. Подержали немного на всякий случай. Потом проявили благородство, прислонили к стеночке.
– Отдыхай, малый! – провоняло перегаром в лицо.
Разглядеть державшего Игорь так и не смог, в глазах у него туман стоял красный, да дергались, мельтешили желтые точки – то вспыхивая звездами, то угасая ненадолго.
– Еще только покажись здесь, сучара! – злобно прошипел коротышка, плюнул в лицо. – Живым не уйдешь, понял. И бороде передай – попадется, я ему за все пинки отсчитаю сполна, понял?!
Игорь ничего не слышал и ничего не понимал, слова доходили до него с трудом. Не было сил вытереть залитое кровью лицо. Он не заметил, как мучители оставили его. Стоял, обжигаясь колючим, морозным воздухом. Потом присел на корточки и уткнулся в шапку.
Способность видеть, понимать, соображать вернулась к нему лишь через несколько минут, когда рядом уже никого не было. Он сидел и смотрел, как в свете далекого кособокого фонаря вился, будто побелевший рой пчел, падающий и взмывающий снег. Ни злости, ни возмущения, ни тем более обиды не было. Было только немного тоскливо и пусто. Мутило. Игорь набрал снега в пригоршни, тщательно протер лицо. Мимо, шагах в сорока, прошли неторопливой, важной походкой оба сержанта, длинный и маленький, но Игоря они не заметили.
Он сидел тихо, все так же на корточках, одной рукой опираясь о колено, другой прижимая к груди толстую книгу в темно-зеленом переплете.
Геннадий Александровский
Стоит ли заглядывать в «щель»?
– Противный тип! – в сердцах воскликнул профессор Дент своему глуховатому коллеге Пасту. – Ради славы готов на все.
– Да, да, – живо откликнулся тот. – Какому дьяволу нужен его «ПП»? Пользы ни на цент. Еще неизвестно, есть ли оно, пятое измерение, а энергии сожрет столько, что…
– Я о его личностных качествах, – поправил профессор Дент. – Сплошные амбиции. Монстр какой-то!
– Да, да, – поддержал Паст. – Ортодоксальный атеист!
– Это бы еще ничего, – саркастически усмехнулся профессор. – Ведь это он зарезал диссертацию Мунку. Это он подставил ножку своему бывшему шефу. И вообще, говорят, что саму идею «ПП» он позаимствовал у него…
Коллега Паст сокрушенно вздохнул: – «Настоящая свинья этот Белз…»
В то время несколько человек в белых халатах вкатили на подиум нечто вроде компьютера метра два высотой. Тот, о ком судачили двое почтенных сотрудников института нейтринной физики, доктор Рональд Белз тоже в белом халате, в галстуке, в начищенных туфлях, сверкая стеклами очков и небольшой лысинкой на темени, поднял руку и обратился к амфитеатру:
– Уважаемые коллеги. Я счастлив продемонстрировать наш прибор – детище лаборатории «ПП». Долгих десять лет шли мы к сегодняшнему дню. Перемещение отдельных предметов прошло удачно. Следующий этап – заглянуть в «Щель». Что там? Космический мрак или цветущий мир? Но терпение. Перед вами, так называемый, «Преобразователь пространства» или «ПП». Суть проблемы заключается в том, что некий концентратор втягивает из пространства нейтрино. Масса их растет до критического объема. Затем – переход в иное качество. И между тремя известными координатами пространства возникает «Щель» в пятое измерение. Впрочем, об этом я буду говорить на ученом совете. Сейчас же – только эксперимент. Я включаю…
Народ в рядах зашевелился. Кто-то спросил:
– А не взлетим мы все к черту на рога?
– Не волнуйтесь, – заверил доктор Белз. – Все проверено. Совершенно безопасно. Мало того, я сам загляну в эту «Щель».
Раздался щелчок и экран преобразователя засветился. Доктор Белз стал сбоку экрана и устремил пристальный взгляд в пространство вблизи прибора. Раздался оглушительный треск и перед Белзом образовался черный провал, действительно напоминающий громадную вертикальную щель прямо в воздухе. Белз смело подошел к «Щели» и заглянул в нее. И тут случилось невероятное. Аудитория ахнула и многие повскакали с мест. Синеватый вихрь вырвался из «Щели», окутал доктора Белза и… тот исчез. «Щель» захлопнулась и тоже пропала.
Но самым удивительным было следующее. В полуметре от пола прямо в воздухе повисла туфля с правой ноги профессора. Но вот что-то разрезало ее пополам, передняя часть мгновенно растаяла, а задняя – с глухим звуком упала на пол.
Противно запахло серой. Слабый дымок болтался над подиумом. Зрители испуганно озирались и пожимали плечами. Сотрудники лаборатории «ПП» поспешили отключить и увезти свой прибор, как бы совершенно не беспокоясь за участь шефа. Несколько минут в аудитории господствовала тишина. Но вот поднялся доктор Дент и густым басом заявил:
– Коллеги! С одной стороны это победа разума и науки. Доктор Белз на наших глазах переместился в пятое измерение, в существовании которого еще недавно сомневались все мы. Мы горячо поздравляем лично его и всех сотрудников его лаборатории. С другой же стороны совершенно неясно: вернется ли уважаемый доктор Белз назад. Или перед нами еще одна героическая жертва во имя прогресса…?
Но прервем начавшееся внеплановое заседание ученых и обратимся вслед за исчезнувшим в «Щели» доктором Белзом.
Он почувствовал удар по голове и потерял сознание. Когда же очнулся, то оказался в полной темноте, а его самого двое дюжих субъектов тащили под руки вниз по лестнице. Пятки доктора больно стукались о ступеньки. Он напряг зрение, но кроме неясных силуэтов ничего различить не мог. Он кашлянул, дабы субъекты поняли, что он вышел из шока. Его резко дернули за правую руку. Но другому субъекту это, видимо, не понравилось, так как он соответственно дернул Белза за левую руку.
– Руки оторвете, – рассердился Белз и стал вырываться, пытаясь стать на ноги.
– Не балуй! – нервно произнес правый и шлепнул ладонью по рту доктора, как бы закрывая его.
И тут Белз ощутил кожей лица ту ладонь. Она была мохнатой. Неясные опасения появились в сознании Белза. Он понял, что его похитили живые, разумные, говорящие на его родном языке, существа из пятого измерения. Противоречивые чувства обуяли доктора. С одной стороны – контакт с обитателями параллельного мира, с другой – коробило бесцеремонное обращение с посланником человечества. И почему тут так темно? И что это за лестница? И почему так противно пахнет серой и – странно – смолой?
Его стащили со ступенек и бросили на ровный твердый пол.
– Не шевелись, – произнес тот же нервный голос. – Сейчас решим куда тебя.
Белз осмелел.
– Могу ли я узнать, почтенные, где я нахожусь, кто вы и что вы собираетесь со мной делать?
Но вопрос оказался чисто риторическим, так как никто не ответил. Прошлепали босые шаги и все стихло. Белз встал и почувствовал дурноту. Еще бы! Скверный запах, темнота, существа с мохнатыми руками – кого угодно могли вывести из равновесия.
Но вот один из них вернулся и простужено прохрипел:
– Пошел, ты, дерьмо собачье!
– Попрошу, – вскипятился было доктор Белз, но его снова стукнули по голове, но легонько, так чтобы он только заткнулся и шел молча.
Впереди забрезжил рассвет. Стало видно, что его ведут по высокому сферическому тоннелю. Пол твердый вроде бетонного. Он оглянулся украдкой на своего провожатого и… ноги подкосились, а под ложечкой противно заныло. Он упал на колени и прошептал:
– О, господи!
Это была обезьяна. Метра два ростом, вся в бурой шерсти. Впрочем, морда почти человечья. А на голове… Или это только показалось?
Обезьяна пребольно лягнула его по крестцу вроде бы как копытом и прохрипела:
– Вставай, падаль. Хватит придуриваться. Нас ждут.
Доктор Белз вскочил и увидел, что туфель правой ноги состоит только из передней половины.
– Бог знает что! – удивился он.
– Но-но! – возмутилась обезьяна. – Заткнись насчет бога. Ты не в раю.
– А где же? – подхватил Белз.
– Сейчас узнаешь. Пошел, что ли…
Тоннель окончился довольно большим и неплохо освещенным залом наподобие гостиничного вестибюля. В самом деле, на противоположной стороне зала разместился прилавок, за которым сидели обезьяны женского пола. У них вроде бы шерсть на голове не такая косматая. А из шерсти торчат… маленькие козьи рожки. Они с интересом разглядывали Белза, а одна из них даже подмигнула ему и противно ощерилась. Видно, так она улыбалась.
Налево и направо виднелись проходные с турникетами и дежурными аборигенами с нарукавными повязками, на которых изображены соответственно белые и красные черепа с костями. Доктор Белз поежился и чертыхнулся про себя.
Его провожатый тем временем оформил у администратора пропуск и повел Белза влево, там где на повязках были красные черепа.
И вот они вошли в огромный скупо освещенный зал. Тремя рядами вдоль разместились закопченные чаны, в каких кочевники в старину готовили еду на весь род. Под некоторыми горели костры. Мохнатые аборигены суетились возле чанов, подкладывали дровишки, шуровали мешалками. В чанах что-то булькало и испускало клубы пара.
Доктор Белз остолбенел. Все было странно похоже на тот ад, который он видел на иллюстрациях в старинных книгах.
– Что же это такое? – изумленно воскликнул он. Провожатый оскаблился и заржал почти по лошадиному.
Из-за его спины появился тонкий хвост с коровьей кисточкой на конце. Хвост захлопал по бедрам хозяина в такт его смеха. Наконец он оторжался и ткнул доктора копытом, как у козла. Постепенно абориген успокоился и разъяснил ситуацию:
– Люди невежественные называют это адом. А ученые вроде тебя – параллельным миром пятого измерения. Но дело не в этом. Первый раз ты запустил в нас, по-моему, чернильницей. Она угодила демону № 47 прямо в ухо. Теперь он оглох и его перевели из приемщиков душ в мусорщики. А все по твоей вине. Второй раз ты подсунул нам ручной фонарик. Он угодил в спину самому Мефистофелю. И знаешь, что стало с ним? Инвалид. Пенсия нищенская, поскольку травма не производственная. На ловлю новых Фаустов его больше не выпускают. А теперь вот и ты сам… Ну скажи: какого черта… Извините, сэр… Какого… Ну, в общем, зачем тебе взбрело в голову изобретать этот «ПП»? Любопытство обуяло? Большие деньги рассчитывал огрести? Или славы всемирной захотелось понюхать? Так вот тебе хрен, а не слава! Мы таких любопытных сразу в котел, на переселение. Только одна закавыка. Обычно к нам попадают души, так сказать, усопших особей. А ты сам влез… преждевременно, будучи еще живым, со своим материальным и грешным телом. Для нас проблема как твою душу из тела извлечь?
– А зачем извлекать? – осмелился спросить доктор Белз, у которого дрожали все поджилки то ли от страха, то ли от нервного потрясения.
– Вот я и говорю – проблема, – продолжал гид из преисподней. – Тело твое нам абсолютно не нужно. Отделить его от души мы отделим. А вот как назад его выкинуть к вам – наша наука еще не выяснила. А душа – да… За твою дерьмовую душу крупная премия будет. Это я тебе первый заметил, когда ты по глупости в «Щель» заглянул. Стало быть, мне и премия, а, может быть, и повышение… Вот если бы ты не заглянул – жил бы себе еще лет пятьдесят. И душу свою передал бы нам в чистом, так сказать, виде.
– Но ведь никакого ада нет! И чертей – тоже. Это же научный факт, – заспорил Белз.
– А вот как очутишься в котле с кипящей смолой – еще один факт будет, – опровергли его.
К ним подошел другой черт. О чем-то они заспорили на своем тарабарском языке. Потом завозились. А потом и вовсе вцепились друг в друга и покатились по полу. Белз воспользовался было паузой и дал стрекача, но почти сразу увидел такое, отчего волосы поднялись дыбом, а зубы застучали, как отбойный молоток. Навстречу шли два скелета и тащили совершенно прозрачного человека. Как бы стеклянного или из воды. Он сопротивлялся и жалобно стонал. Проходя мимо дерущихся чертей, один скелет звезданул ближнего ногой, и оба живо вскочили, даже отдали честь.
– Просим прощения, ваше мертвячество.
Скелеты погрозили костлявыми кулаками и потащили свою жертву дальше к ближайшему котлу.
– Тут все ясно, – вздохнул один черт, стряхиваясь, как собака. – Им досталась чистая многогрешная душа. Не то, что ты – урод. Что из тебя только получится?
Другой рявкнул на него.
– Закрой пасть, ты – сволочь. Хотел себе премию прихамить. А я вроде сбоку-припеку. Привет…
– Опять о том же, – заскулил первый. Повели, что ли. А то клиент застоялся.
– Успеет. Там все равно дров нет. Наших плановиков давно надо разогнать к… какой там котел?
– Пятый.
– Ну, точно! С вечера еще дров не завезли. Говорят фонды кончились.
– Вот работа пошла: то смолы нет, то дров. Сплошные дефициты. А дьявольский синклит только языки чешет о реформах, надоело.
– Тише, ты, – испугался один черт. – Еще услышат. Сам в котел попадешь. Ну, ты, образина, – обратился он к доктору, – поторапливайся. Нам возвращаться пора. Там на очереди еще одна душа.
И они пошли мимо котлов, на которых были нарисованы плохим художником где крыса, где жаба, где шакал…
– Эх, жизнь пошла, – стали они жаловаться друг другу – работа адова. А мани-мани – обрыдаешься. А у меня семья, семь бесенят. И все жрать хотят – вот ведь какая штука.
– И не говори, – согласился другой. – Моя ведьма повадилась на курорты. Электронную ступу с помелом фирмы «Сони» на толкучке приобрела и теперь дома почти не бывает. Квартира не убрана. Паутина кругом, тараканы…
Тут они подошли к котлу с номером «пять» и рисунком тощей худой свиньи. Котел стыл без огня. Бочки со смолой были пусты.
Дров в поленнице тоже не было. На пустом ящике сидел старый черт в фартуке. Видимо, пенсионер на приработке. Рядом валялась кривая кочерга.
– Братцы, – заорал он, – я ж без зарплаты останусь! Где дрова, где смола, мать вашу…
– Но-но, – осадили его прибывшие. – Не возникай. Думаешь котел в аренду взял, так в первую очередь тебе? Жирно хочешь. Там вон акционерный котел в простое, и то молчат.
Доктор Белз между тем отступил на шаг и огляделся, ища пути к побегу. Однако его схватили за воротник, дали подзатыльник, да так, что он прикусил язык. Очки слетели и разбились. Белз не выдержал. Забыв свою цивилизованность, он размахнулся и врезал одному стражнику в правую челюсть. Черт ухнул и мешком свалился на пол. Кто-то свистнул. Белза схватили за руки и за ноги и он нос к носу увидел страшную рожу утопленника-вурдалака. Тот хищно щурился, как бы выбирая место куда вцепиться кривыми клыками. Сам весь мокрый, скользкий, дурно пахнущий, жуткий.
Доктор Белз дернулся. Отчаянный ужас охватил его. Вурдалак же дал команду перевести Белза в другой сектор. Его тут же подхватили и потащили назад мимо вестибюля. И вот другая адова котельная. Чистота, порядок. И пол кафелем выложен. И на зеркальных стенах – цветочки в кашпо. И котлы чищены до блеска. И мусор под ногами не путается. Материалов не видно. Они подаются к котлу по трубам. Возле котла – пульт управления с персональным компьютером. А на борту котла – робот с протянутой рукой вроде подъемного крана. Все автоматизировано до предела. А на кочегарах – чистенькие халатики оранжевого цвета. Не рабочие, а настоящие адские инженеры. Совсем другая цивилизация. Плановой системой здесь и не пахло. Котлы здесь работали без простоев, бесшумно, экологически чисто. Никто не шлындал из-за простоев.
Доктор Белз от волнения был бледнее мела, но дух в нем не был сломлен. Он вдруг вскричал:
– За что? Идиоты! Я – гость, посол! Личность неприкосновенная!
Вурдалак прошипел:
– Верительная грамота есть?
– Какие к черту грамоты! – возопил Белз.
– Стало быть, вы – непрошенный гость. Вас приглашали? Нет. Юридически вы не правы. Желаю удачи, – и вурдалак степенно удалился.
Кочегар-инженер заверил доктора:
– Да вы не беспокойтесь, сэр. Технология тщательно отработана. Никаких отходов. Сначала слезет кожа и волосяной покров. Затем растворятся мышцы и жилы. А уж после всего и косточки. А что поделаешь? Будь вы в облике чистой души, все было бы значительно проще. Разок бы простерилизовался бы и извлекли всю информацию. А уже очищенную душу улавливает насос и направляет туда, к вам, в подходящее тело. А с вами – канитель. Длительная обработка в котле и все такое… Так что в облике хомо-сапиенса ваша душа не возродится.
– Но я же не виноват! – оправдывался Белз.
– А кто? – возразил оппонент. – Мы что ли заставили вас образовать «Щель» к нам? Ни один человек не должен знать о нашем мире, а тем более о способе нашего существования. На моей памяти был такой случай. Некто Данте прошел все круги ада. Но ведь это когда было.
– Плевать мне на Данте! – в сердцах воскликнул Белз. – Выпустите меня обратно. В конце концов, я требую…
– Извините, сэр, вы, видимо, не врубились в суть дела. Так и быть, я посвящу вас. Видите ли, наш, как вы его называете, ад, тесно связан с вашим миром. Вы – носители информации. Что такое память? Это и есть информация, сиречь, душа. А мы, то есть, по вашему, черти так уж природой устроены, что питаемся именно вашей информацией, памятью, душой. Поэтому мы вынуждены ловить души, покидающие своих хозяев и делаем это в острейшей конкуренции с представителями шестого измерения – рая. Итак, информацию мы утилизуем, а оболочку души возвращаем обратно. И чем поганее человек был при жизни, тем, уверяю вас, вкуснее его душа, и в тем более мерзкое существо она перевоплотится по возвращении. Надеюсь, что моя речь была доходчивой?
Доктор Белз слушал эрудированного кочегара рассеянно, что и было замечено.
– Э, батенька мой, как вас скрутило, однако! Давайте торопиться. Желаю успеха, сэр. Прошу вас, вот сюда, на эту площадку. Да поторапливайтесь, что ли. У нас рыночная экономика, стопроцентная рентабельность. Частная собственность. Не компрометируйте наш коллектив. Я включаю…
Владислав Бахревский
Патриарх Гермоген
Рождественский мороз алмазный. Воздух светился и блистал. Патриарх Гермоген, ожидая птиц, радовался красному дню.
Первыми явились голуби.
Гермоген, черпая из сумы полной горстью, метал просо на притоптанный снег.
– Птицу Господь зернышком согревает. Грейтесь, милые! От вашего тепла теплее небу.
Птицы летели из-под куполов Кремлевских храмов, из-под высоких Теремных крыш: воробьи, снегири, синички и уж только потом галки, вороны.
Краем глаза Гермоген увидел почтительно замершего инока – подошел как в шапке-невидимке.
– Слушаю тебя, Исавр.
– Владыко, бояре пожаловали.
Патриарха ожидал сам Федор Иванович Мстиславский – первый в Семибоярщине, кривой коршун Михаил Глебыч Салтыков, хромой Иван Никитич Романов да Федор Андронов, этот душой крив и хром.
– Святой владыко, дело к тебе не больно хитрое, – дружески сказал Салтыков. – Поставь подпись на грамотах. Одну посылаем Прокопию Ляпунову, чтоб унялся. Заскучал по Тушину, новый рокош заводит.
– Чего заводит? – Гермоген приставил ладонь к уху.
– Рокош.
– Прости, Михаил Глебович, я человек русский. Ты со мной по-русски говори.
– Смуту заводит, гиль, разбой… А другую грамоту мы написали его величеству королю Сигизмунду, чтоб скорей сына своего королевича Владислава присылал. Третья грамота к послам нашим, к Филарету, к Голицыну – путь без упрямства во всем положатся на милость короля.
Ряса на Гермогене была домашняя, лицом казался прост и ответил просто:
– Если королевич окрестится в греческую веру да если литовские люди выйдут из Москвы, я всем камилавкам и митрам накажу писать к королю, чтоб дал нам Владислава. Полагаться же на королевскую милость, да еще во всем – значит короля желать на царстве, не королевича. Не стану таких грамот подписывать. В чем Ляпуновато увещевать? Он хочет хорошего – избавить Москву от Литвы. Нынче все Русская земля плену Москвы печалуется. Даст Бог, скоро все будут здесь с мечом, рязанцы и казанцы.
– Не патриарх, а казак! Не о мире, не о покое печешься – крови жаждешь. Смотри, сам же кровью и умоешься. На твое место охотники найдутся.
– Охотника сыщите. Нашел же Отрепьев тайного латинянина Игнатия – не русского, правда! Да только я со своего места живым не уйду. Не оставлю моего стада, когда вокруг волки.
– Это мы что ли волки?! – Салтыков подскочил к патриарху, чуть не грудь в грудь. – Больно расхрабрился ты, Гермогенище. Забыл как Иова из патриархов незвергли? Ты еще возмечтаешь о покое Иова.
– Может, и возмечтаю. Но Бог с мной, ни веры ни Отечества не предам за атласную шубу.
– Старый хрыч! – Салтыков выхватил из-за пояса нож, замахнулся на патриарха.
Гермоген не отступил, не вздрогнул.
– На твой нож у меня крест святой, – сказал негромко, но так, словно в саван завернул. – Будь ты проклят, Михаил, от нашего смирения в сем веке и в веках!
У Салтыкова рука с ножом снова дернулась, но Андронов взял приятеля за плечи, потянул к дверям. Мстиславский с Романовым тоже поспешили с глаз долой, но грозный старец остановил их:
– Опомнитесь, бояре. Или вы не русские? – подошел к Мстиславскому. – Тебе начинать первому, ибо ты первый в боярстве. Пострадай за православную христианскую веру. Если же прельстишься польской дьявольской прелестью, Бог переселит корень твой от земли живых.
Мстиславский побледнел, но в ответ ни слова. Иван Никитич, не дожидаясь на себя патриаршего гнева, выскочил за дверь, прыгая на здоровой ноге по-козлиному.
– Как побывают у меня бояре, так в комнатах медовый дух, – сказал Гермоген келейнику. – Пчела – Божия работница, а меня с души воротит: то запах измены. Брат Исавр! Покличь Москву! Пусть завтра всяк, кто на ногах, придет в Соборную церковь. Правду скажу о боярах.
Утром Гермоген вышел со двора, а вся соборная площадь – пустыня, а по краям, как елочки – немецкие солдаты.
Возле храма Успения Богородицы стайкой жались друг к другу совсем дряхлые старики и старухи, этих не подпускали к паперти свои, изгалялись – холопы Михаила Глебыча Салтыкова.
– Не пускают, владыко!
– Куда денутся, пустят, – сказал старикам Гермоген и, простирая над ними руки, пошел, повел на рогатины. Холопы отвели оружие. К патриарху подскочил Салтыков.
– Гляди у меня, владыко! Дерзнешь похаять поляков, короля или Семибоярщину – на цепь посажу!
– Бедный ты, бедный! – сказал Гермоген. – Уже скоро спохватишься.
К радости великого пастыря, народу было много. С вечера пришли, прокоротали ночь, запершись в Соборе. Гермоген не стал откладывать поучения на конец службы. Поднялся на солею, осенил народ святительским крестным знамением, сказал слова жданные, наконец-то произнесенные вслух и громко.
– Возлюбленные чада мои, народ мой христолюбский русский. Нет у нас царя, за которым, как за стеной. Нет у нас вождя, посмевшего измену назвать изменой… Сильные мира сего торгуют Отечеством, словно пирожники. Имена их вам известны: Мстиславский, Салтыковы, отец и сын, Иван Романов, вся Семибоярщина, вся Дума. Ныне каждый сам по себе решает в ужасе одиночества: пустить в дом души своей Сатану или затвориться от него чистой совестью. Служащим Тьме обещают обильный корм, служащим Свету – поруганье и разоренье. Но, Господи, не свиньи же мы, чтобы питать плоть свою чем попадя! Скажем себе: мы – братья и сестры, Бог с нами, спасем Отечество наше, ибо заступиться за него все равно, что за Иисуса Христа.
Слезы катились по лицу Гермогена, и люди слушали его не дыша. Он постоял молча, семеня, старчески, подошел к алтарной иконе Богородицы, поцеловал, припал к ней головой и, не отнимая рук от ризы, склоненный, повернул лицо к народу.
– Без царя Матерь Небесная царствует на Русской земле. Ей все наши слезы, все худшее наше… Будем же милосердны к себе, не огорчим ненужной злобой Заступницу.
Выпрямился, поднес ладонь к бровям, поглядел на паству, ища храбрых. Взволновался народ:
– Великий владыко! Святейший! Умрем за Христа! Или Русскому царству быть, или не быть нам.
– Я о вашей воле в города отпишу, – сказал Гермоген.
Воротился со службы в патриаршие палаты, а во дворе польская стража. По всему двору бумажные свитки, черные пятна чернил, гусиные перья – вконец разорили Приказ, дьяков всех повыгоняли. В палатах разгром. Что дорого – украдено, чего не утащишь – сломано.
– Вот и некому письмо написать, не на чем да и нечем! – укорил себя Гермоген: сначала надо было грамоты разослать, а уж потом грозить.
Его собственную келию не тронули. У дверей четверо с саблями. Сказал Исавру:
– А день-то нынче Ильи Муромца. Господи, коли нет среди нас одного, дай нам всем мужества богатырского.
Свершилось по молитве. Спать Русь укладывалась рабыней неведомого королевича, а пробудилась вольная, не трава под грозой, но сама гроза. Безымянные, безответные мужики, луковый дух – разом вспомнили о сироте матушке, что за порогом нищая дрожит на ветру, на холоде, Русское имя свое.
Первыми продрали глаза от дьявольского наваждения дворяне смоленских уездов. Своей охотой пошли на Литву, да обещанный мед чужеземной жизни оказался горче редьки. Письмо свое люди смоленской земли прислали в Рязань Прокопию Ляпунову.
«Наши города в запустенье и нищенстве. Мы пришли служить королю в обоз и живем у него под Смоленском вот уже другой год. Не ради корысти, а чтобы выкупить из плена, из латинства, из горькой работы, бедных своих матерей, жен и детей. Иные из нас ходили в Литву за своими матерями, женами и детьми и потеряли там свои головы. Собрали во Имя Христа выкуп, а у нас его отняли по-разбойничьи. Во всех городах и уездах наших – православная вера поругана, церкви Божии разграблены. Не думайте и не помышляйте, чтоб королевич был царем на Москве. У них в Литве уговор – лучших людей из России вывести и овладеть всею московскою землею. Ради Бога положите крепкий совет между собою. Списки в нашей грамоты пошлите в Нижний, в Кострому, в Вологду, в Новгород, чтобы всею землею стать нам за православную веру, покамест мы еще не в рабстве, не разведены в плен».
Ляпунов просьбу смоленских людей исполнил, разослал их грамоту по всем городам и от себя написал крепко:
«Подвигнемся всею землею к царствующему граду Москве и со всеми православными христианами Московского государства учиним совет: кому быть на Московском государстве государем. Если сдержит слово король и даст сына своего на Московское государство, крестивши его по греческому закону, выведет литовских людей из земли и сам от Смоленска отступит, то мы ему государю, Владиславу Жигимонтовичу, целуем крест и будем ему холопами, а не захочет, то нам всем за веру православную и за все страны российской земли стоять и биться. У нас одна дума: или веру православную нашу очистить или всем до одного помереть».
Быстрее, чем в Казань или в Нижний, обе эти грамоты попали в уездный город Свияжск. Судьба города была дивной. Возвели Свияжск за четыре недели, ибо строился повелением Иоанна Грозного. Люди и ныне были здесь скорые. Ударили в колокол. И пока в Успенском монастыре игумен думал, как быть, грамоты прочитал в деревянной Троицкой церкви поп Андрей. Воевода на игумна кивает, игумен на воеводу, но тут вышел посадский человек Родион Моисеев. Голова русая, русская, а лицом – татарин, глаза под бровями как две черные звезды, нос точеный, усы и борода кустиками.
– Поп Андрей, дай нам крест целовать на верность Отечеству и друг другу. Ничего мы лучше не придумаем, как поспешать в Нижний, а оттуда, сложась силами, идти вызволять Москву.
Тотчас всем городом целовали крест, по слову Родиона. Женщины кинулись сухари сушить, готовить мужьев да сынов в поход. Выступили, не мешкая, на другой день.
В Нижнем свияжцев встретили по-братски, разобрали всех по домам, а Родиона позвал к себе Савва Ефимьев, протопоп Спасо-Преображенского собора. Провели, однако, Родиона не в дом, а в дворовую избушку церковного сторожа. Велели обождать. В избе было жарко, тесно, три четверти занимала печь. В божнице иконка, под божницей лавка да стол шириной в аршин, длиной в два аршина, сундук в углу.
Родиону этакий прием не понравился, но снял шубу, шапку, повесил у двери на прибитый к стене бычий рог. Тут дверь отворилась, и, согнувшись под косяком, вошли двое: один в рясе, другой – дворянин.
– Вон ты какой, Родион-свияжец, – одобрительно сказал человек в рясе. – Еще не обедали, а темно. Я свечи принес. Садитесь, братья, разговор не долгий, дорога не близкая.
Прошел к печи, от уголька зажег свечу, от свечи еще целый пук. Свечи прилепил у божницы и на столе. Прибыло и свету и уюта.
– Меня Саввой зовут, – сказал священник, – а этот человек – сын боярский Роман Пахомов. Всем городом кланяемся вам. Ступайте в Москву к святейшему патриарху Гермогену, испросите у него грамоту и благословение – встать всей землей на нынешнюю власть измены. Согласны ли исполнить сию опасную службу?
Родион поднял глаза на Романа, сказали, как выдохнули:
– Согласны.
– Перед таким большим делом попоститься бы, причаститься, да нам, грешным, все недосуг, – Савва-протопоп улыбнулся, открыл сундук – Здесь для вас крестьянская одежда. В портах по поясу у каждого зашито по полста рублей серебром. Может, придется подкупать патриаршью стражу. Дорожные харчи для вас тоже приготовлены, в розвальнях. В сене под кошмой ружье, от разбойников. К Москве будете подъезжать, ружье спрячьте от греха. Повезете два пуда меда да два пуда воска патриарху в подарок, по обещанию. А коли не пустят, смотрите сами, как повидать святейшего.
– Когда ехать? – спросил Родион.
– Похлебайте щец, покушайте пироги и с Богом. Заночуете в дороге.
Протопоп Савва подошел к печи, достал рогачом горшок, принес, поставил на стол. Подал хлеб и ложки. И себе взял. Прочитал молитву:
– «Очи всех на Тя, Господи, уповают…»
Был Савва ростом не велик, лицо имел спокойное, к радости расположенное.
– Что призадумались, ловите звездочки! – и зачерпнул полную ложку.
Жизнь в Москве шла такая, что только глаза разевай.
Подъехали к воротам чуть за полдень, встали за дровяным обозом. Стража приказывала вываливать дрова на снег и всякую жердь, годную, чтобы сделать кол или дубину, ввозить в город не позволяла. У Романа с Родионом топор отняли.
– А если у нас оглобля сломается? – изумился Родион. Солдат дал ему затрещину, тем и отделались. Москва была малолюдна, сама не своя.
– Господи! – догадался Роман. – Все заборы убраны. Чтоб нечем было поляков бить. Понял?
– Как не понять! – Родион лицом посерел. – Не огородили бы только всем этим тыном патриарха?
На постой их принял Мирон, двоюродный брат Романа. Мирон служил в охране Гермогена, а теперь, когда беречь святейшего взялись сами поляки, умел остаться истопником.
– Хоть с поленом, да постою за владыку, – рассказывал Мирон нижегородцам. – В Кремле русское слово если услышишь, так шепотом! Во дворе царя Бориса поселился сам пан Гонсевский, хозяин Москвы. Кривой Салтыков отхватил палаты Григория Васильевича Годунова, королевский подпевала Андронов живет в доме Благовещенского протопопа.
– А кто это? – спросил Родион.
– Кожевник, купчишка, а ныне казначей. То ли седьмым в Семибоярщине, то ли восьмым, да всеми семью крутит.
С медом, с воском решили не связываться. Мирон так устроил дело, что к патриарху в келию с охапкой дров для печи вошел Родион.
Гермоген сидел у подтопка, опустив голову и плечи. Сам вроде в теле, но шея худая, в морщинах, с выпирающей косточкой. Таков отец был в последний год жизни. Жалость и нежность объяли сердце Родиона. И страх: от немощного старца ожидает Россия спасительной твердости.
Чтобы не громыхнуть поленьями, Родион опустился на колено, на другое и только потом положил дрова на пол. Тотчас и заговорил скорым шепотом:
– Святейший патриарх! Мы из Нижнего. Дай нам твою грамоту – полки собирать от всех земель. К Москве идти.
Гермоген, как задремавшая птица, встрепенулся. И глянули на Родиона глаза сокольи, такие на сажень под землей видят.
– Из Нижнего? Что у вас?
– С городов люди с оружием сходятся.
– Поторопитесь! Поторопитесь, покуда Смоленск стоит, короля от себя не пускает.
– Святейший, грамоту твою дай!
– Где ее взять, грамоту? Не единого дьяка на весь Патриарший двор не оставили… Иисус Христос не грамотам доверял свое Божественное Слово, но Слову. Поспешай, сын, в свой надежный город, так скажи: Патриарх Гермоген благословляет Нижний спасти Отечество. Из плена, хоть с дубьем, а выходить надо. С места надо стронуться, а как пойдем, так и выйдем.
Поднялся во весь свой огромный рост, поцеловал Родиона троекратно, перекрестил.
– Георгий Победоносец и Дмитрий Солунский – вот два крыла Нижнего Новгорода. Спас глядит грозно, Богородица уронила слезу о всех нас. С Богом!
Нижегородцы, ведомые князем Александром Александровичем Репниным-Оболенским, выступили к Москве 8 февраля 1611 года. 21-го из Ярославля пошла передовая рать, а 28-го Большая, с пушками, с воеводами князем Иваном Ивановичем Волынским.
Прокопий Ляпунов назначил всем собираться в Серпухове, но Гонсевский, имея шпионов среди русских, опередил, послал сильный отряд запорожских казаков и полк Исака Сунбулова. Казаки осадили Ляпунова в Пронске, но рязанцем пришел на выручку, соединясь с коломенцами, зарайский воевода князь Дмитрий Михайлович Пожарский.
Настали для России светоносные дни слепящих мартовских снегов, первой радости весенней. Воистину вся земля шла к плененной Москве. Из Мурома – рать Василия Федоровича Литвина-Мосальского, из Суздаля и Владимира – полки Артемия Васильевича Измайлова и казачьего атамана, бывшего стольника Вора Андрея Захарьевича Просовецкого. Из Вологды – Поморское ополчение с воеводой Петром Степановичем Нащокиным, из Романова – дружины князя Василия Пронского и князя Ивана Андреевича Козловского, а с ними татарские мурзы с отрядами, из Галича – вместе с ополчением пермяков шел воевода Петр Иванович Мансуров, из Костромы – полк князя Федора Федоровича Волконского-Мерина. Из Щацка – сорок тысяч Мордвы, черемисов, казаков, этих вел атаман Иван Карнозицкий.
Из Переславля-Залесского с двумя сотнями стрельцов малая, но силе прибавка – стрелецкий голова Мажаров. Из Тулы – поспешал Иван Мартынович Заруцкий, как бы пирог без него не съели, а из Калуги – боярин Вора с остатками воровской армии князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой.
Король Сигизмунд, испуганный единодушием русских воевод, требовал от Сапеги, чтобы он напал и развеял отряды Ляпунова, но Сапеги помнил, что часть русских людей желали его видеть на Московском престоле. Отправил к Трубецкому гонца, предлагая союз.
«Так вам бы с нами быть в совете и ссылаться почаще, что будет ваша дума, – писал он Дмитрию Тимофеевичу, – а мы от вас не прочь, при вас и при своих заслугах горла свои дадим».
Ляпунов, русская дума, готов был не только людей, но и все лесное зверье собрать и вести на обидчиков Родины. Послал к Сапеге племянника Федора, приглашал к походу на Москву.
Сам Прокопий Петрович 3 марта 1611 года с гуляй-городами выступил из Коломны. Он писал не только в города, но и в деревни, в села: крепостные пусть идут на войну без сумнения, без боязни. Всем будет воля и жалованье, как казакам.
За два дня до Вербного воскресения 15 марта Гонсевский пригласил на совет бояр.
– Жители Москвы присылают ко мне челобитные и просят, чтобы праздник Вербы и шествие патриарха на осле состоялись, как всегда. – Гонсевский помолчал. – Не опасно ли выпустить патриарха из-под стражи? Не используют ли жители города добрый праздник для захвата Кремля?
Иван Никитич Романов уставился на Мстиславского, но тот молчал.
– Вождение осляти – праздник исконный, – сказал Иван Никитич. – Отменить праздник – всех от себя оттолкнуть.
– А кому ослятю вести? – озирая бояр, вопросил Федр Иванович Шереметев.
– Кто первый, тому и узда, – разрешил назревавший местнический спор Андронов.
– Я ослятю не поведу, – покачал головой Мстиславский, он, вечно обиженный своими же отказами от первенства, поджимал губы и глядел в одну точку.
Андронов разыграл простака.
– Тогда ослятю тебе вести, Иван Никитич.
– О каком осле идет речь? Я не видел в конюшне ни одного осла, – притворно удивился Гонсевский, он жил в Москве послом и знал: роль осла, «осляти» исполняет лошадь серебристо-серой масти, красивая и кроткая.
– Патриарх, что сидит на осляте, тоже не Иисус Христос, – ответил Гонсевскому Михаил Глебыч Салтыков, улыбка сияла на его лице, он потирал руки. – Отменить праздник никак нельзя! Лучшего случая наказать бунтовщиков не будет. Они придут, мечтая зарезать нас, бояр, и вас, поляков, а мы мечтать не станем, мы – вырежем их поголовно, станет Москва шелковая… А те, кто к Москве идет, узнав, что мы шутки не шутим, кинутся врассыпную, как мыши от кота.
– Никакого кровопролития я не допущу, – сказал Гонсевский. Не сразу сказал, ждал от бояр гнева на голову Салтыкова, но все промолчали. – Итак, я отправляюсь сообщить патриарху, что 17 марта он получает свободу в обмен на благоразумие.
17 марта день Алексея, человека Божия – с гор потоки – в 1611 году совпал с праздником Вербного воскресенья. Чтобы Гермоген не смог получить поддержки тайных бунтовщиков или отдать приказ к выступлению, его ранним утром в день Праздника привезли в храм Василия Блаженного и только за час до торжественной мистерии освободили от стражи.
Гермоген молился, облачался в драгоценные архиерейские одежды. Митра, саккос, омофор – были в жемчуге, в золоте, в драгоценных каменьях.
Моросил дождь, но облака в небе были легкие, у дождя был запах вольного весеннего ветра. Как только Гермоген вышел из храма и направился к Лобному месту, где стояла Верба и Осля, вместо дождя посыпались золотые тучи. Пастырские одежды Гермогена засверкали, рассыпая искры веселого огня.
Но некому было радоваться этому малому, благодатному чуду. Народ не пришел на праздник.
Оцепив Красную площадь, в боевых порядках стояли роты польских жолнеров, конные гусарские хоругви, казацкие сотни, стрельцы, пошедшие в услужение изменникам Мстиславскому и Салтыкову.
Дьякон в пустоту площади прочитал из Евангелия от Матфея:
«И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Виффагию к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: пойдите в селение, которое прямо перед вами; и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею; отвязавши приведите ко Мне».
Патриарху подвели ослю, усадили на голубую, шитую золотыми звездами попону. За узду взялся Иван Никитич Романов, и с ним его люди, для бережения. Куцее шествие: бояре, сотня, другая московских дворян, жильцов, монахов Кремлевского Чудова монастыря – двинулось к Фроловским воротам. Запели певчие, повезли на санях украшенную яблоками Вербу, чтобы освятить в Успенском соборе.
Горстка народа все же явилась в последнюю минуту поглядеть в последний, может быть, раз на патриарха, но за Вербой в Кремль никто не пошел. По Москве гулял слух: поляки собираются изрубить безоружных вместе с заступником Гермогеном.
Колченогий Романов тянул здоровой рукой узду плавно выступающего Осли. Опасливый боярин народа страшился, но пустота площади ужасала страхом неведомой, но уже стоящей в воздухе беды.
Гермоген обернулся к народу, перекрестил.
Снова моросил дождь, певчие умолкли, и только синички посвистывали, поспешая в леса, где у зимы припрятаны запаса снега.
Осля уносил от народа, в одиночество, и глядя, как неотвратимо приближаются ворота Фроловской башни, Гермоген подумал: «Иисус вступил в Иерусалим, зная, как близка Голгофа, крест…»
Мысли отошли прочь от души. Осенил себя крестным знамением.
– Господи! – взмолился всею тишиной сердца своего. – Не избавляй меня, Господи, от темницы и казни, но освободи от плена русский город. Да ответит пастырь за все зло.
Салтыков, в Успенском уже соборе, раздавая освященные прутики вербы, говорил польским командирам:
– Нынче был случай, но вы Москву не зарезали. Ну так вас во вторник зарежут. Я этого ждать не буду. Возьму жену и уеду к Сигизмунду.
– Почему во вторник? – удивлялись поляки.
– Таков уговор в слободах. Я о том уговоре знаю.
Кнутом, щипцами, прижиганием пяток вырвал Михаил Глебыч то, о чем и малое дитя в любом московском доме ведало.
В руки палачей Салтыкова попал холоп Василия Ивановича Бутурлина: Бутурлин сам ездил к Ляпунову, договаривался, в какой день отворить ворота Ополчению. Но Прокопий Петрович поторапливался с оглядкой, хотел, чтобы собрались все, чтобы ударить разом и наверняка.
Опасался Сапегу. Сапега сначала выступил на стороне русских, но Ляпунов, не желая иметь сомнительное сильное войско в своих рядах, предложил Яну Павловичу занять Можайск и перехватывать помощь из стана короля. И правильно опасался. Гонсевский послал к Сигизмунду Ивана Безобразова просить о помощи. Король, не имея средств и свободных войск, отправил к Москве всего один полк пана Струся, но зато задешево приобрел армию Сапеги. 12 марта королевским указом войско Сапеги было приравнено в правах и в денежном окладе к полку Зборовского.
Сапега уехал к королю, и тогда Ляпунов наказал связному Бутурлина поднимать Москву на поляков во вторник Страстной недели.
Сам Бутурлин тоже прошел через пытку, каялся, лежал в ногах Мстиславского и Гонсевского, жизнь себе вымолил.
Салтыков поспешил сообщить о помиловании Бутурлина Гермогену. Один только Гермоген мог остановить или хотя бы задержать восстание. Шут с ним с кровопролитием, Михаила Глебыча страшил разрыв с поляками.
Явился к обеденной трапезе, но приглашения за стол не получил. В ярости закричал на патриарха:
– Ты, святейший, писал по городам – видишь, идут на Москву. Отпиши, чтоб не ходили!
Гермоген отложил ложку, отер ладонью усы и бороду.
– Если ты, изменник, а с тобой все кремлевские люди уберетесь из Москвы вон, – отпишу по городам и по всем весям. Пусть домой все возвращаются, к земле, к женам, к чадам. А не выйдешь из Москвы, не выведешь литву, так я, смиренный, всю Русь благословлю помереть за православную веру. Совсем ты ополячился, Михаил Глебыч. На дворе царя Бориса Гонсевский костел устроил, а тебе не страшно. Чтоб в Кремле да латинское пение! Не могу того терпеть.
Салтыков с размаха хватил по столу кулаком.
– Сам на цепь просишься! Ты не пастырь, ты пес! – и крикнул своим людям:
– Станьте не токмо за дверьми келии, но и в самой келии. Глаз с него не спускать.
Перед стариком-патриархом, перед безоружными келейниками Салтыков был широк глотку драть, но сунуться за кремлевскую стену – духу не хватало. А в город на крестьянских розвальнях, одетые в крестьянские армяки, въезжали и входили дружины князя Дмитрия Михайловича Пожарского, Ивана Матвеевича Бутурлина, казачьего головы Ивана Александровича Колтовского.
На дядю, на Ивана Никитича, смотреть было нехорошо и не смотреть нельзя. Михаил силком таращил глаза, но ресницы сами собой хлопали, и дядя вскипел:
– Что ты, как трясогузка, дрыгаешь! Ты слушай, слушай!
Хроменький, он по-птичьи скакал кругами, будто привязанный к колышку. Правая, сухая, убитая палачами Годунова рука плескалась в рукаве кафтана, как бычий хвост.
– Совсем Господь нас оставил! От патриарха смута! Он уж и безумному Ляпунову друг, и мерзостному Заруцкому. Лишь бы здравым людям наперекор!
Мать Михаила инокиня Марфа Ивановна глядела на деверя молча, но не хуже кошки. Куда Иван Никитич, туда и глаза.
– Ну что вы смотрите! Не хорош Иван Романович! Бояре не хороши! От бессилья, от немочи все ваши хитрости. Хитрим, чтоб народ от избиения уберечь. Нас поминая, свечки перед иконами переворачивают. Ну, помрет Мстиславский, я ноги протяну, кому прибудет? Желая смерти ближнему, жизни у Господа не вымолишь.
Остановился наконец. Подошел к божнице, поцеловал Спаса Нерукотворного.
– Марфа Ивановна, благослови Михаила к Гермогену идти, умиротворения просить.
Инокиня потупилась, повздыхала и голосом нетвердым, кротко и просительно понесла такую несуразицу, что Иван Никитич обомлел и обмяк.
– Никак нельзя Мише, ни отколь и ни до куда. У него от киселя черемухова запор случился. Мы его всяким отваром потчевали, вот-вот будет прослабление.
Стольник Михаил Федорович, румяный, пятнадцатилетний, с золотистым пушком на губе, пыхнул не хуже пороха. Всякий волосок на голове его, от той материнской правды, сделался рыж, и на глаза навернулись слезы.
– Что же ты сам-то ничего не скажешь! – покорил племянника Иван Никитич. – Язык у тебя, чай, не заемный, не из дерева струган.
Племянник сопел, но помалкивал. Только верхняя губа сделалась мокрой от пота.
– Какого рожна вам бояться, не пойму, – схватился здоровой рукой за голову Иван Никитич. – Я же не к Игнатию посылаю – к любезному вам Гермогену. А уж если всю правду выкладывать, так ради самого Гермогена и стараюсь. Мишка Салтыков уж кидался на святейшего с ножиком, а ныне грозится – подушкой задавить, как Малюта задавил святителя Филиппа.
В комнате воцарилась тишина. Иван Никитич тоже сел, замолчал. Подумал вдруг:
«Уж лучше, кажется, Страшный Суд, нежели измотавшее душу нынешнее житье: день прошел, и слава Богу».
Ивану Никитичу было чего страшиться. Король Сигизмунд королевича Владислава на царство не присылает, сам к Москве не идет, а идут со всех сторон с большим шумом, всюду встречаемые колоколами, толпы героев, еще не отведавших ученой, европейской войны.
– Гермоген жалеет Россию, – сказал тихо Иван Никитич, – но русских людей нисколько не жалеет.
– Скажи лучше, сам за себя дрожишь, – быстрым шепотом молвила Марфа Ивановна.
– Как мне не дрожать, дрожу. За себя и за тебя, голубушка. Но пуще… – и поднял глаза на Михаила.
– Не трогай голубя, коли добра ему и себе желаешь. Ныне – на Михаила Федоровича всей Руси упование. Люди знают, в ком и сколько золотников истинной царской крови.
Иван Никитич подбежал к божнице, достал из-за Параскевы Пятницы грамотку. Подал Михаилу, но тотчас забрал, положил перед инокиней.
– Гляди вот роспись дружин и поляков, которые на Москву устремились. По наши с тобой души.
– Не по наши. По изменнические.
– Ты читай! Что ни воевода – холоп Вора или Шуйского… Меня Годунов вон как отделал. Этакого ты Мише не желаешь, думаю.
– Ну чего так весь исхлопотался за пана Гонсевского? – грудным, тяжелым голосом вопросила инокиня, куда только тишина ее подевалась. – Вот как придут те, кто идет, так Мишу и посадит на царство. Не пачкай черным белого как снег. Он перед Богом чист, а народу за Ангела.
– Ну, как желаете! – разом покорился Иван Никитич. – Коль сами умны, так на меня потом не пеняйте… Ныне зима у Русского царства, а как будет весна – все и всплывет наверх. Вся дохлятина, все нужники… И твое, Марфа, всплывет перед всеми. Не ты ли била челом Сигизмунду – пожаловать тебя, страдалицу, имениями?
– А я от грехов не открещиваюсь, не отмахиваюсь. Я как все – вы. Но на Михаиле – крапинки темной нет! – простерла руки к сыну. – От самих птичек небесных и то заслоню, чтоб не закапали.
Тогда Михаил сказал:
– Матушка, святейший ныне под стражей и одинок. Благослови идти к нему за его молитвой.
Сыну Марфа Ивановна уступила без единого слова.
Иван Никитич привел Михаила в разоренный Патриарший дом в ту самую минуту, когда от Гермогена стремительно вышел Гонсевский. Хотел проскочить мимо, но остановился, глянул на белого, бледного боярина, на румяного стольника, хотел что-то сказать, но только безнадежно махнул рукой. Пошел, но опять остановился, повернулся.
– Он слишком стар. Все худшее, что есть в русских, в нем сполна. Впрочем, испробуйте… Бог судья – я желал мира.
Едва переступили порожек келии, Гермоген, сидевший у стола, остановил Ивана Никитича властным жестом руки:
– Ты ступай! Тебя глаза устали видеть. Больно частый ходок. – И улыбнулся Михаилу. – Как ты мужественен. Но как же ты кроток!
Михаил стоял посреди келии, не смея с ноги на ногу переступить.
– Погляди на меня, погляди, подними очи смело, – сказал Гермоген. – Больше, может, и не доведется.
– Благослови, святейший.
– Благословляю.
Михаил счастливо устремился к патриарху, но подходил однако со смиренным непослушанием.
– Стать у тебя истинная, от царя Константина, – сказал Гермоген, благословляя юношу. – Возьми скамейку, садись ближе. Погляжу на тебя. Нам с тобой и говорить много не надо. Для единых сердцем помолчать в согласии слаще пира и высокоумия.
Глядел стариковскими, совсем домашними глазами. Михаилу было неловко.
– Кротость – лучшая прибыль царству. Никогда не печалуйся, что не рожден помыкать ни полком, ни человеком, ни кошкой. Твоим благожеланием спасена будет.
Михаил поднял хорошие свои бровки – кто спасется? не посмел спросить.
– Ступай, я утешен, – Гермоген положил на голову юноши большую свою руку. Ни тяжести, ни старческого холода: прикосновение легкое, ласковое.
Михаил встал, поклонился. Гермоген тоже встал и тоже поклонился.
– Святейший! – прошептал юноша смятенно и торопливо поклонился трижды, и трижды поклонился ему Гермоген.
У Ивана Никитича правое ухо было красное: уж так, видно, прижимался к двери.
– Что? – спросил племянника. – Не знаю, – ответил Михаил растерянно. – О чем говорили? – Мы – молчали.
Иван Никитич поглядел на Михаила обидчиво и быстро захромал прочь из опального дома.
В ночь на страстной вторник все польское воинство спало, не снимая доспехов, а в городе даже собак не слышно было. Москва, утомленная долгим постом и молитвами, спала, как в забытье.
Дождавшись рассвета, Гонсевский приказал полкам иноземного строя, предавшим русское войско в Клушине, построиться за Фроловскими воротами.
Вся свора доносчиков и соглядатаев навострила глаза и уши, но, хоть тресни – не с чем было бежать к хозяевам, никакой надежды на косточку.
В дозволенный для службы, в светлый час попы отпирали церкви, зажигали лампады и свечи, пели во имя страстной седмицы пятидесятый псалом:
«Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои».
…«Окропи меня иссопом, и буду чист; смой меня, и буду белее снега».
Покряхтывая на утреннем, на колючем морозце, торговые люди отпирали лавки. Взбадривали себя и ранних покупателей окликами, присловьями.
– С Дарьей, я грязными пролубницами.
– Оклади пролуби!
– Мороз, вот тебе хлеб да овес! Убирайся подобру-поздорову!
Солнце взошло на небе ярое, от снега веяло припеком. Хмурые польские дозоры, видя обычную мирную Москву, оттаивали, посмеивались над Гонсевским.
– Сам не спит, усопикий, и другим не дает, пикоусый!
Гонсевский, однако, покою не поверил… Приказал ротмистру Николаю Косаковскому все пушки, стоящие под стенами Кремля и Китай-города, поднять на стены.
– Матка Бозка! – изумился вдруг ротмистр, надвигая железную шапку на глаза. Он только теперь понял: вереницы саней, запрудившие улицы – это же злой умысел. Это же заслон от конницы. Во все стороны – затор. Явится Ополчение Ляпунова – ни к одним воротам не пробьешься, чтобы остановить, помешать…
Ротмистр не выдал себя не испугом, ни поспешным приказом.
– Господа! – окликнул извозчиков. – Помогите поставить пушки на стены.
– Сыскал господ! – извозчики кто посмеивался, кто помалкивал, а кто ухом не вел.
– Господа! Я понимаю, вы хотите денег. Заплачено будет тотчас.
Махонький Аника на лошадке, добытой еще в Тушине, подъехал ближе, выскочил из саней, подбежал к пушке и, навалясь на нее грудью, пыжился, виляя задом. Извозчики, глядя на озорника, закрывались рукавицами, чтоб смехом не прогневить поляков. Поднимали воротники на шубах, валились в сани.
Жолнеры подходили к ним, совали в руки серебряные денежки, но извозчики отворачивались.
– Быдло! – взвился Косаковский. – У них заговор!
Наотмашь ударил в лицо здоровенного детину. Извозчик уронил с руки варежку, схватился за разбитый нос, угнулся да и боднул ротмистра, и тоже в нос, в хрящик.
Жолнеры принялись дубасить мужичье кулаками, тыркать древками пик. Проняли. Извозчики за кнуты, поляки за сабли.
Махонький Аника слетел с ног от одного только дуновения. Полез между саней, где ужом, где клубочком. За спинами мужиков передохнул и опрометью – в церковь, к Лавру.
– Литва наших бьет! – а сам к дьякону. – Довольно глотку драть. Кулаки твои надобны.
Назад Аника не вернулся, на колокольню полез, трезвонить.
– Бам-бам-бам-бам! – всполошилась Москва.
Кривой Салтыков, в шубе нараспашку, прибежал к наемникам:
– Никого не жалеть! Убьете мало – себя не пощадите!
На Красной площади бухали выстрелы.
– Сатана с вами, ребята! – Салтыков поднял руки и махнул одними кистями. – Режь собак! Собаки они! Собаки!
И немцы – ринулись резать.
Сердце у Михаила Глебыча билось часто, как у крысы, пирующей на столе, пока не увились хозяева. Поглядел на патриарший двор.
– Ты, Гермоген – виновен! За твое упрямство плата.
Михаила Глебыча била лихорадка. Ждал этого часа – умыть кровью русскую поганую рожу.
Восемь тысяч наемников, одетых в железо, закрыли все выходы из Китай-города и поротно отделывали один двор за другим. Дворы здесь были лучшие, боярские, народа в каждом десятками и сотнями.
Русские люди никогда не квитались за кровавый пир в Китай-городе. Ни слова нет в школьных книгах об убийцах и убиенных, не у каждого даже старого историка про то русское горе сыщешь полстроки в середине абзаца. То была бессмысленная, ничем не заслуженная пращурами кровавая купель. За русские деньги русских людей резали немцы, англичане, шотландцы, французы, голландцы, литовцы, поляки. Ах, как блюдут французы, лелеют в памяти Варфоломеевскую ночь! Три тысячи жизней – плата за верность своему толкованию Божественной истины. Но кто помянул когда утро 19 марта, день Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Умиление». Это святая икона была в Смоленской осаде с воеводой Шеиным. В Москве святые иконы в тот день все были темны и все кресты померкли.
Семь тысяч жителей Китай-города были зарезаны за единый час. В той груде убитых князь Андрей Васильевич Голицын. Он сидел под домашним арестом. Не пощадили боярина, как не пощадили ни кухарок его, ни приютившихся на ночлег нищих…
Убийцы не были ни пьяны, ни злы. Им сказали – убейте много, и они сделали свою работу усердно и чисто.
Знайте, русские! Знайте, как ненавидит вас Европа за лицо ваше, за глаза ваши, за улыбку, за саму вашу жизнь. Помните 19 марта. Наемники вырезали бы всех до единого, поляки в дело вмешались. Миловали красавиц да едва расцветших девочек. Этих ровняли с вещами, пригодятся для утехи, для обмена, для работы.
Наемники двинулись к Тверским воротам, но стрельцы в Белый город их не пустили. Наемники попятились, завернули на Сретенку, но здесь улица была перегорожена столами, сундуками, лавками, и на помощь горожанам поспел с дружиной князь Пожарский. Опережая немецкую пехоту и поляков, занял Дмитрий Михайлович Пушечный двор на Неглинной. Пушкари были за своих, выкатили медных кабанчиков и огненным боем вогнали всю иноземщину обратно в Китай-город.
Возле церкви Введения Богородицы из бревен, приготовленных для строительства дома, собрали острожек, и Пожарский сел в нем, отбивая атаки немцев.
Польские роты ударили на Кулишки. Дома разорили, людей порезали, но в Заяузье не прошли. Не пустил Иван Матвеевич Бутурлин.
– Мы сегодня не сумели разорвать окружение, а завтра придет Ляпунов, – сказал боярам Гонсевский. – Ступайте к народу, добивайтесь примирения… Помните не только клятву Владиславу, но и о своих семьях – кремлевские запасы не велики.
Князья Федор Иванович Мстиславский, Андрей Васильевич Трубецкой, Борис Михайлович Лыков, Иван Никитич Романов – отправились к Никольским воротам увещевать народ Белого города.
Иван Семенович Куракин, с думным дьяком, канцлером семибоярщины Иваном Тарасьевичем Грамотиным да с дворецким Василием Михайловичем Рубцом-Мосальским пошли звать патриарха.
Гермоген изменников к себе не допустил. Тогда на Патриарший двор, как разъяренные львы, прибежали Салтыков с Гонсевским.
– Сегодня пролилось много русской крови, – говорил Гонсевский, – русской, драгоценной для вашего святейшества. Я в том пролитии не повинен. Побоище вспыхнуло, как пожар, от искры ненависти. Но завтра, если москвичи не образумятся, убитых будет втрое и вчетверо, и ведь Москва деревянная. Война спалит ее, люди потеряют все, что имели.
– Зачем вы здесь, пан поляк? – спросил Гонсевского Гермоген. – Это не Польша. Уйдите, и будет мир.
– Но Москва поклонилась Владиславу.
– Царю польской крови поклонились, не царству польскому.
– Салтыков прав, когда говорит о своем патриархе, что этот пастырь не слышит голос разума.
– Уйдите из Москвы, я выну воск из ушей моих. Салтыков потерял терпение.
– Что с ним говорить по-хорошему! Слушай меня, Гермоген! Если ты не прикажешь народу утихомириться, если ты не отошлешь Ляпунова от Москвы прочь, – я сам предам тебя злой смерти, ибо ты пастырь, губящий свое стадо. Опомнись, стадо твое не овцы – все ведь русские люди, наши с тобой соплеменники, родная кровь!
– Злая смерть от изменника – для меня желанный венец, – поклонился Михаилу Глебычу Гермоген. – Пострадать за правду – обрести вечную жизнь. Не приходите ко мне! Более вы от меня ни единого слова не услышите.
– Не будь здесь пана Гонсевского, ты бы у меня уже ноги протянул.
– Вот видите, ваше святейшество, – сказал Гонсевский. – Вас придется охранять от ваших же православных овец. Ротмистр Малицкий отведите патриарха на Кириллово подворье.
– Да не в келейку его, не в келейку! – крикнул Салтыков. – В подвал, крысы по нем больно соскучились.
Бояр народ слушать не стал.
– Вы – жиды, как и ваша литва! – кричали москвичи предателям. – Пошли прочь! Не то шапками закидаем, рукавицами погоним.
Не испытывая народного терпения, бояре убрались. Вечерело. Москва пахла кровью, но в Кремле шло веселье. Солдаты хвастали друг перед другом трофеями. На каждом ворох из жемчужных бус, все пальцы в кольцах, карманы набиты драгоценными запонами, камнями, перстеньками. Пьянствовать командиры не позволяли, вот-вот явится Ополчение Ляпунова, но насиловать девочек и женщин не возбранялось. На женщин играли в карты, женщинами обменивались, женщинами платили за товар.
Гонсевский с Салтыковым сделали обход кремлевских башен.
– Чем это вы заряжаете ружья? – удивился Гонсевский.
– Жемчугом, – ответил, посмеиваясь, жолнер.
– Жемчугом?!
– Да у нас его целый сундук. Русский жемчуг, речной.
– Разве жемчуг бьет вернее свинца?
– Свинец бережем. Жемчугом стрелять веселей. От него крика больше. Попадешь, москали катаются, воют.
Вернувшись в Грановитую палату, где уже собрались бояре и командиры, Гонсевский задал только один вопрос:
– Как нам избавиться от окружения?
– Надо выкурить бунтовщиков из Белого города, а особенно из Замоскворечья, – предложил Иван Никитич Романов.
– Как это выкурить?
– Зажечь Белый город.
– Сжечь Москву?! – удивился Гонсевский.
– Так еще по ночам морозы. Быстро шелковые станут, – поддакнул Романову Грамотин.
– Ночью по льду хорошо бы перейти в Замоскворечье да и запалить его со всех концов, – сказал Салтыков. – Замоскворечье стеной не обнесено. Через него и к Смоленску можно будет уйти, и подкрепления получить.
– Все так думают? – спросил Гонсевский бояр.
– Коли мы их не выкурим, они нас голодом уморят – вздохнул князь Куракин, сподвижник Скопина-Шуйского, а ныне – такая же семибоярщина.
Команды поджигателей были тотчас отправлены во все концы города и в Замоскворечье.
Салтыков глядел на Москву с Фроловской башни, ждал огня. Стреляли на Сретенке, в Охотном ряду. Кипел бой на Кулишках, но пламени нигде не видно было. Посланные в Замоскворечье вернулись ни с чем, воевода Колтовский кого побил, кого прогнал.
Вдруг засверкали частые зарницы со стороны Коломенской дороги.
– Ляпунов пожаловал, – доложили Михаилу Глебычу.
То был не Ляпунов, а всего лишь Иван Васильевич Плещеев с передовым отрядом.
– Ах, темно нынче в Москве! – сказал Салтыков. – Как бы Ляпунов в темноте дорогой не ошибся. Посветить ему надо.
Поляки не понимали, чего ради печется о Ляпунове Салтыков, но Михаил Глебыч знал, что говорил.
Со всем своим отрядом, тысячи в полторы, с ружьями, он, одолев небольшие заградительные отряды москвичей, пробился к своему родному гнездовью. Взял иконы, деньги, золото, соболя, весело перекрестился и приказал холопам:
– Зажигайте!
Воздух был влажный, бревна, оттаивая от зимних холодов, гореть не желали.
– В каретном сарае есть бочки смолы, облейте хоромы с четырех сторон, чтоб горели, как свечка! – распорядился Михаил Глебыч.
Прикатили бочку, запахло, как в бору в солнцепек. Салтыков взял у холопа факел.
– Будем живы – наживем! Столько, полстолько да еще чуточку! – засмеялся, ткнул факелом в смолу.
Среди весенней густой тьмы, объявшей мир, когда мороз, покряхтывал от немочи, примораживает ручьи и лужи к земле, Москва пламенела пламенами, словно спальня солнца.
Одно Замоскворечье было черно, но под утро там пошли просверки, и проникшие в Кремль тайные люди Гонсевского принесли весть:
– Пробивается к Москве полк пана Струся.
Гонсевский на радостях послал в Замоскворечье половину войска. В Замоскворечье были стрелецкие слободы, но ночью страхи и ужасы на стороне нападающего.
Поляки жгли тын, устроили множество пожаров, и вспыхнуло Замоскворечье, как хорошо сложенный костер. Воинство и жители бежали в поле, а Струсь перешел по льду Москву-реку и соединился с Гонсевским.
Не устояла и Сретенка. Князь Пожарский был тяжко ранен, и его увезли в Троице-Сергиев монастырь. Князь плакал от своего бессилья…
Розовые сполохи московского огня бродили по снегам за многие версты от пожарища. Когда же настал день, огонь поник, и смрадная, рыжая, сизобрюхая клубящаяся туча накрыла стольный град. Поверх плавали купола Ивана Великого, Успенского да Архангельского соборов. Поля кругом Москвы чернели не от галок, от бездомных людей. Польское войско окружило погорельцев, началось горестное моление о пощаде.
Гонсевский пощадил, но приказал еще раз и воистину, а не ложно присягнуть Владиславу.
Присягнули.
Приказал всем подпоясаться полотенцами. Подпоясались. Иным пришлось исподние рубахи драть, чтоб пометить себя. То был страстной четверок, и впереди Голгофа, ибо покорность врагу – страдание крестное.
Тьма окружала патриарха Гермогена. Он сидел на соломе, истлевшей, пахнущей мышами. О себе у него не было мыслей. Искал очами души своей спасительную икону казанской Божией Матери. Он служил настоятелем храма Николы Тульского, когда в его приходе невинные детские руки на пожарище обрели сию драгоценность. Он держал икону в руках, он знал каждую жемчужину на ризе. Он помнил, где на глазах Богоматери-печальницы отблеск света, подающий надежду на исцеление от всех неминуемых бед. Но теперь – о грехи пастырские! – икона, вызванная молением, расплывалась. Она явилась не перед глазами, но стала у правого виска. Лик Богоматери ломался, как будто был колеблем неспокойной водой.
Гермоген отер глаза, но глаза были сухие. Плакала душа.
И увидел он в темном углу свет. И рассмотрел ризу. Риза, величиной с ладонь, росла на глазах, и уже не достало ей места под сводами подземелья, и она прошла сквозь своды, но ей и город был тесен, и она легла на землю. И росла, росла и сделалась больше земли – это русской-то земли! И воспряла, серебряная, жемчужная! Поместилась между землей и небом, и Казанская икона, стоявшая у правого виска, на огненных крыльях серафимов вознеслась в небо и соединилась с ризой.
Пал Гермоген ниц, и тотчас почувствовал, что через него и по нему идут великие толпы людей. Он слышал хруст костей своих и чувствовал, как саднит кожа на руках под сапогами. И не видел иконы, вдавленной в землю, и знал, что погиб, но погибая собирал последние крохи сил, чтобы хоть единым взглядом дотянуться до святыни. Ему наступили на шею, на плечи, на голову, но он, не оберегая более лица, повернулся и увидел! Риза поменяла серебро на золото. Золото сверкало, затмевая лик Богоматери и Богомладенца. Вся несметная чреда стремящихся взять у святыни святого припадала к иконе, и каждый, целуя, выкусывал из ризы жемчужину.
Тьма была черна, но светились меченные золотом жующие жемчуг рты.
И тогда он стряхнул с себя стоящих на нем, будто они были листьями, упавшими осенью с дерева. Простирая руки, пошел к своей иконе, чтобы уберечь ее золото и ее жемчуг от святотатства. Икона меркла, сжималась и стала невидима, как невидимый град Китеж.
Гермоген очнулся.
В подземелье горели факелы. Ему что-то говорили. Он встал, пошел. Его привели в келию. Узкое, руки не протиснуть, окошко. Голая лавка. Стол на козлах. Вместо стула или скамьи – пень. На столе книга. В углу икона.
Загремели засовы.
Он сел на пень, не чуя себя. Ясно понимал: видение не о нынешнем бедствии… Толпы, попиравшие его плоть, – еще грядут. Еще грядет пожирание святого жемчуга, еще грядет исчезновение святыни с лица русской земли.
Знал: покуда икона будет пребывать невидимой – тьма не отступит от Русской земли.
Взмолился:
– Господи! Ради мучеников и ради всего святого, что есть на Руси, верни утерянное! Яви икону, обретенную на пожарище! Да погаснет огонь страстей и да будет свет жизни.
Ясно подумал: «Обретут, когда увидят и похвалят правдивого».
У Гонсевского выдался радостный день: с обозом из дюжины телег, груженных мешками овса, гороха, муки из репы, с возом сушеной рыбы пробился пан Грабов.
Ополчение окружало Китай-город и Кремль не сплошь, а рассыпанной на звенья цепью. Ляпунов стоял у Яузских ворот, Трубецкой – против Воронцова поля, Заруцкий в монастыре Николы на Угреше, князь Мосальский – у Тверских ворот, Измайлов – у Сретенских, Прасовецкий в Андроновском монастыре, на Покровке – воеводы Волконский с костромичами, Волынский с ярославцами, остальные полки разных земель раскинули станы от Покровских ворот до Трубы, в Симоновом монастыре, в Замоскворечье.
Пан Грабов обманул русских. Прикинулся своим, а потом ударил и проскочил мимо разинь в Китай-город.
Гонсевский тотчас пожаловал смельчака и храбреца поместьем.
«Пане Иван Тарасьевич! – писал наместнику Москвы канцлеру Грамотину. – Прошу вашей милости, чтобы ваша милость, поговоря с князем Федором Ивановичем и с иными бояры, по их приговору отправил пана Грабова, а мой совет таков, что пригоже его пожаловать. Вашей милости слуга и приятель Александр-Корвин-Гонсевский челом бьет».
И, посмеиваясь, написал свой совет на прошение самого Грамотина, который домогался пожалования за многие службы и усердие к его величеству Сигизмунду земелькой:
«Царского величества боярам, князю Федору Ивановичу Мстиславскому с товарищи! Мой совет в том таков, что пригоже Ивана Тарасьевича за его к государю верную службу тем поместьем пожаловать. И вашим бы милостям, поговоря с собою, то и делать велим».
Земелька ты земелька русская! Снова шла в дележ, кроилась и перекраивалась, обретая хозяев, награжденных за убийство русских людей. Но ту же самую землю делили, кроили и по другую сторону Кремлевской стены.
Ляпунову пришли рассерженные вологодские дворяне: их имения Иван Мартынович Заруцкий своею волей даровал казачьим атаманам, а для себя приглядел богатейшую Важскую волость, Чаронду, Решму, Тотьму.
Важская волость указом Сигизмунда была за сыном Михаила Глебыча Салтыкова Иваном, прежде волость принадлежала Борису Годунову, потом Дмитрию Шуйскому. Чарондой, Решмой и Тотьмой ныне владел сам Михаил Глебыч, прежними хозяевами при Годунове были Годуновы, при Шуйском – Шуйские.
Ляпунов выслушал вологодских дворян, суровый и бесстрастный, как Господь Бог, спросил:
– Вы люди вологодские?
– Вологодские.
– Важские?
– Важские.
– Так пусть ваше будет вашим.
И выдал грамоты на владение землей, деревнями, реками, озерами, лесами, лугами.
В двадцатых числах мая под Москвой объявился Ян Сапега. В росписи его войска значилось 4734 человека воинов, но обозных людей и всяческих слуг было еще тысяч восемь-девять.
Свой стан Сапега разместил на Поклонной горе и начал торги.
Ляпунов прислал к нему своего сына Владимира спросить, за кого ныне пан воевода.
– За истину, – был ответ.
Сапегина истина стоила дорого: желал быть гетманом Ополчения, а это означало, – выбить из Кремля одних поляков ради других поляков.
Ляпунов не поторопился сунуть голову в ярмо, но и Сапега, закинув удочку в реку, сеть ставил в озере. К нему на Поклонную гору тайно приезжал Гонсевский.
– Ясновельможный пан наместник, – сказал Сапега с наигранной прямотой солдата. – Мои рыцари так долго воюют, что забыли о цели войны. Они желают за свой кровавый труд не меди – медь на себе носить тяжело, – но золота. Заплатите нам, ваша милость, и употребляйте нас по своему усмотрению.
– Откуда взяться деньгам, когда мы окружены?
– Но окружены в русской сокровищнице! Пожалуйте нам пару мономаховых шапок. Каждый русский царь ковал золотой колпак по своей голове.
– Сокровища у бояр.
– Так возьмите!.. Я ведь могу, сговорясь в цене с Ляпуновым, ударить по тылам вашей милости.
– У нас нет тыла, пан Сапега, но у нас есть король. Нам обещана помощь.
– Его величество слово сдержит. Вот только как скоро… Две короны, две горсти серебра в руки – и мы в полном распоряжении вашей милости. Или в полном распоряжении господина Ляпунова.
Гонсевский недаром был послом, стерпел. Удивляя Сапегу, просил принять в свое войско большую часть кремлевского гарнизона.
– Голодные рты, – объяснил наместник Москвы. – Для обороны нам достаточно трех тысяч. Пройдите по хлебным уездам. Добытый вами хлеб спасет не только защитников Кремля, но великое будущее Речи Посполитой.
– Ваша милость верует в великое будущее?
– Наша Москва – наша Россия, – сказал Гонсевский. – Боюсь, королю достаточно Смоленска, но получив Смоленск, он один Смоленск и получит. Однако, если король слеп, зачем же нам завязывать себе глаза?
– Две Мономаховы шапки! – повторил свое условие Сапега.
– Придете в Кремль, там и возьмете, – Гонсевский устало закрыл глаза. – Я охотно уступлю вашей милости наместничество.
Соединясь с оголодавшим кремлевским воинством, Сапега сходу взял Братошино, ограбил, прошел мимо Троице-Сергиева монастыря, захватил Александровскую слободу, где некогда, схватясь со Скопиным-Шуйским, чуть не потерял все свое войско, передохнул и осадил Переславль-Залесский.
Как только Сапега отошел от Москвы, ополченцы напали на башню у Москвы-реки. Напали дружно, поляков выбили, пушки развернули, ударили по наступающим жолнерам, да порох скоро кончился.
– Мы теряем реку! – испугался Гонсевский.
В бой устремились не только поляки, но и холопы Салтыкова. Башню отбили.
Командиры явились к Гонсевскому с упреками:
– Зачем ваша милость отпустила войско?! Русские знают, что нас мало.
– Нас мало, но мы перестали голодать. Распустите слух, будто к нам идет литовский гетман Ходкевич с большим войском. Придумайте что-либо! Где ваша воинская хитрость? Напутайте! Москали трусы.
Пан Трусковский вместе с юными сыновьями оборонял башню у Никитских ворот. Младшему, Иосифу, тринадцати не исполнилось, старший, Адам, ждал четырнадцатилетия.
Пана Трусковского занесла в Москву крайняя нищета. Свой хутор, слуг и даже пани Трусковскую он проиграл в карты. Без крыши над головой, без клочка земли, без денег, он взял с собой единственное достояние свое – сыновей – и явился в Москву незадолго перед Вербным воскресеньем. Успел к бойне 19 марта. Резал и грабил усердно, разбогател. Ранцы его детей были набиты русским жемчугом, драгоценными камнями, а его собственный – золотом.
Из Кремля приказали: в полдень по звонку стрелять в москалей или даже в сторону москалей и сделать не менее десяти залпов.
– Можно стрелять куда угодно? В дома, в птиц? – спросил отца Иосиф.
– Выходит, что так, – ответил пан Трусковский, – но лучше все-таки в москалей.
– Отец! – позвал к бойнице Адам. – Три москаля. Стрелять?
– Упаси Боже! Приказано в полдень, по звонку.
– Но они уйдут.
– Солдат делает то, что приказано! Тебе, будущему маршалу, не стыдно ли задавать такие вопросы? – с нарочитой строгостью укорил Адама пан Трусковский.
– Ослушников под расстрел! – крикнул брату Иосиф.
Адам, пылая щеками, чтобы не видеть насмешливых взглядов жолнеров, лег грудью на бойницу, приложился к ружью.
– Адам! – закричал на неслуха пан Трусковский.
– Но я только целюсь! – ответил сын.
Москали стояли возле колодца, заглядывали в него, о чем-то спорили. Адам сначала выбрал старика. Мудрый враг опаснее десяти молодых, потом перевел ружье на человека в розовом кафтане. Этот наверняка дворянин, к тому же соглядатай. Не столько в колодец смотрит, сколько на башню, прикидывает, как безопасней подступиться к твердыне. Третий был совсем молодой, но огромный, кудрявый, настоящий русский мужик.
Адам прицелился богатырю в голову, но парень то наклонялся над срубом, то показывал в глубину улицы, то поворачивался к башне.
– Наши набили этот колодец бабами, – сказал кто-то из жолнеров.
– Но зачем он им? Колодец под обстрелом.
– Водные жилы соединяются. Отрава одного может испортить воду других колодцев.
Адам подумал:
«Надо бы так стрельнуть, чтобы русский упал в сруб».
Перевел ружье, целясь в грудь, в живот. Уж такой широкий этот русский, что только стрельни по нему – и не промахнешься. Адам насыпал на полку пороха и отвернулся от ружья.
– А когда дадут звонок? – спросил отца. – Сколько еще ждать?
– Сказано – в полдень, а когда быть полдню, то командиры решают, – ответил Адаму седоусый жолнер.
Мальчик снова приложился к ружью. Повел стволом на старца, на дворянина и остановился на богатыре. Русские, видимо, закончили осмотр колодца, собирались уходить.
Ружье выстрелило… само. Звоном забило уши, ударило… Бросило прочь от бойницы… Бледный от боли и страха, Адам сел на пол.
В башне замерли.
– Попал, – сказал седоусый жолнер. – Да еще как попал!
– Теперь тебя расстреляют! – крикнул брату Иосиф. Адам заплакал от боли в плече, от безнадежности содеянного. Его поставили на ноги.
– На расстрел? – спросил Адам.
Жолнеры, смеясь, подвели мальчика к бойнице. Возле колодца лежал человек. Неподвижно. Мертвый. И тут зазвонил колокол.
– Мгновение – все жолнеры у бойниц. Еще мгновение – залп. Башня раскололась, как стеклянная. И еще был залп, и еще, еще, еще… Густо пахло порохом. Башня снова стала каменная, и перепонки в ушах уже не разрывались от боли, а только вздрагивали.
Адам сидел на полу и слушая залпы, ждал своей участи. Пальба умолкла.
– Нагнали страха на Москву! – сказал пан Трусковский.
– Порох и свинец зазря потратили, – пробурчал седоусый жолнер.
Об Адаме, о его проступке никто уже не вспоминал.
Улуча мгновение, мальчик прошел мимо бойницы и увидел – человек, в которого он выстрелил, лежит на том же месте, у колодца, набитого русскими бабами.
Ночью москали ударили разом на все башни Белого города. Пан Трусковский бежал от Никитских ворот до Кремля, унося на себе раненого Иосифа. Русские захватили башни Чертольских ворот, Арбатских, Водных.
Еще через день воины Ляпунова освободили Девичий монастырь.
– Эй! – кричали ополченцы кремлевским сидельцам. – Где же ваш литовский канцлер? Видать, Литва вся вышла, одна Кишка осталась! У Ходкевича сила ого какая! – пятьсот сабель!
Пан Кишка был ротмистром в отряде литовского гетмана Ходкевича. Выходило, что москали знают о польском войске больше, чем знали о нем в Кремле.
Патриарху Гермогену вернули его келейника. Вдвоем молились о спасении Отечества.
– Велик грех измены помазаннику Божию, – говорил Гермоген Исавру. – Предала Москва плохенького царя Шуйского, и царство погибло. Но Господь услышит. Господь простит. Близок час, когда слезы раскаянья окропят расчлененное тело России, и те слезы будут как живая вода, соединят разрубленное, оживят мертвое. Наши тюремщики держатся в Кремле из последних сил. Близок час, Исавр!
Келейник усомнился.
– Три месяца стоят многие тысячи под стенами не Москвы – Китай-города, Кремля, а ничего с поляками поделать не могут. Подкопов под стены не ведут, лестниц к стенам не ставят.
– Какое сегодня число? – прервал патриарх причитания Исавра.
– Восемнадцатое июня, мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула. Боголюбской иконы Божией матери.
– Боголюбово, слышал я, место раменное, – вздохнул Гермоген. – Даровал бы Господь свободу, обошли бы мы с тобою, Исавр, все русские обители, подивились бы красоте родной земли. Нет угоднее дела, чем зреть и хвалить землю пращуров.
– Владыко святый! Помоги, вот силюсь вспомнить образ Боголюбской, а перед глазами – пусто.
– Лепая икона, – сказал Гермоген. – Богоматерь написана во весь рост, в правой руке у Нее свиток, левая раскрыта ко Иисусу Христу, что в небеси на облаке. А на земле коленопреклоненный князь Андрей и храм, а может быть, и два храма…
– Владыко, смилуйся! Просвети, как явилась святая и чудотворная…
– Князь Андрей шел из Киева во Владимирскую землю, переселялся. Вез он икону Умиления, писанную евангелистом Лукой, ту, что рядом с нами ныне, в Успенском соборе и зовется Владимирской.
Келейник при имени иконы пал на колени, отбил три поклона.
– Лошади, везшие киот с чудотворной, – продолжал Гермоген, – в том месте, где теперь Боголюбово, встали, как вкопанные. И было князю видение в том самом месте, в шатре. Сие видение князь Андрей повелел запечатлеть на иконе, а себя нарек Боголюбским.
– Почитать бы акафист чудотворной, – сказал Исавр.
– Утешим себя чтением «Псалтыри». Где откроешь, там и читай.
И открыл Исавр «Псалтырь» на странице, где сказано: «В бедствии ты призвал Меня, и Я избавил тебя; из среды грома Я услышал тебя; при водах Меривы испытал тебя. Слушай, народ Мой, и я буду свидетельствовать тебе; Израиль! о, если бы ты послушал Меня!»
– О, если бы ты послушал Меня! – повторил Гермоген и заплакал.
Но тут загремели засовы, и слезы, как от сильного ветра, в мгновение высохли на лице патриарха. Пришел Михаил Глебыч Салтыков. Встал у порога на колени.
– Видишь, я чту в тебе моего патриарха!
Гермоген молчал, ожидая каверзы от изменника. Салтыков поднялся с колен, сел на скамью против святейшего, глядел одним своим глазом в самое лицо.
– Плохо ты молишься, великий пастырь. Задуматься пора. Чем горячее твои молитвы, тем меньше на Руси благодати.
– Правду говоришь, – согласился Гермоген.
– Молишься не о том. Господь желает на Московском царстве Сигизмунда, а ты своими молитвами перечишь высшей воле.
– Ты пришел, чтобы это сказать?
– Я пришел сказать тебе, упрямец, – Смоленск пал. Воеводу Шеина на дыбу поднимали, увезли в Литву. Будет за упрямство гнить в литовской тюрьме.
– Всю Русь в тюрьму не посадишь.
– Ты за всю Русь молчи. В тюрьмах дураки сидят. Умные умным в ножки поклонятся и будут жить припеваючи.
Гермоген сидел опустив голову, но теперь он посмотрел на Салтыкова.
– Что же ты ко мне ходишь, к дураку? Кто тебя ко мне водит? Уж не совесть ли твоя, а, Михаил Глебыч?
– Скоро все тебя забудут, упрямец. Мы открыли мудрого пастыря в Арсении-греке архиепископе Архангельском.
– Архиепископе? Архангельском? – удивился Гермоген. – Оттого Архангельском, что служит в Кремлевском Архангельском соборе? А кто его в архи-то возводил?
– Да уж нашлось кому… Ты все же подумай, святейший! – Салтыков встал, широко, по-хозяйски прошелся по келии. – Дело ли патриарха из-за упрямства взаперти сидеть? У короля войско теперь свободно, завтра уже придет под Москву. Подумай, крепко подумай! Сегодня ты еще нужен нам, боярам, но завтра – нет. Твои духовные овцы – русское племя ничтожное – овцы и есть. С такими тысячами под самый Кремль подступились, а взять ни ума нет, ни умения, ни хотения. Знают, что ты в темнице, но не торопятся вызволить.
– Оставь нас, – сказал Гермоген, – нам с Исавром на молитву пора.
– Бога ради, не проси за Московское царство, чтоб еще хуже не было! О себе молись.
– Сначала моя молитва о тебе будет, Михаил Глебович.
Двух недель не минуло, снова пришел Салтыков в скорбную келию Гермогена. Белизной лица и белизной седин сравнялся. Погасший человек.
– Радуйся, – сказал патриарху. – Бог меня покарал. Гермоген перекрестил боярина.
– Ничья беда христианину радостью быть не может.
Михаил Глебыч припал головою к плечу святейшего, плакал беззвучно, неутешно. Гермоген усадил старика на свою скамью, дал воды.
– Моего Ивана в Новгороде на кол посадили, – сказал и окаменел.
Утешься пророчеством Исайи, Михаил Глебыч: «Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела! Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе: ибо роса Твоя – роса растений, и земля извергнет мертвецов».
– Я сегодня первый раз заплакал, – сказал Салтыков.
– Ты говори, говори. Выговорись. Выплещи камень боли словами.
– Иван против короля пошел, – смиренно исполнил приказ святейшего боярин, – с новгородцами соединился. Но ему не поверили, – посмотрел на Гермогена оком, ясным и чистым, как око ребенка. – На кол водрузили! Чтоб не сразу вон из жизни, чтоб жизнь волком выла, чтоб смерть желанной была… Из-за меня… Пособоруй меня, святейший, ибо половина меня мертва, как мертв и темен мой вытекший глаз.
Схватил патриарха за руку.
– Знай! Я от своего не отступлюсь. Я тебе враг, и с твоим Ляпуновым у нас дороги никогда не сойдутся… Пособоруй!
Война между Ополчением и полчками шла ружейная. Кремлевский наряд онемел из-за скудных запасов пороха. Пушки Ляпунова не смели сыпать ядра на отеческие святыни. Справа от Фроловских (Спасских) ворот Воскресенский монастырь с храмом Воскресения, где погребены великие княгини и царицы. Монастырь женский, поставлен женой Дмитрия Донского, преподобной Евфросиньей. За Воскресенским, через стену – Чудов монастырь, напротив Кирилловское и Крутицкое подворья с храмами. За подворьями, ближе к Ивану Великому – огромный двор князя Мстиславского с тремя церквями. Посреди Кремля Иван Великий, храм Рождества, собор Михаила Архангела, где погребены государи, храм Благовещенья, патриарший двор, Соборный храм Успения, царский дворец, дворы Федора Ивановича Шереметева, Бельского, Клешнина, пять дворов Годуновых, и все со святыми церквями, с часовнями.
Пушки Ляпунова молчали, но он сам был как бомба, готовая взорваться от хитростей и двурушничества сотоварищей своих бояр, Дмитрия Тимофеевича Трубецкого да Ивана Мартыновича Заруцкого. Боярство у обоих липовое, сказанное Вором, но однако ж бояре! Сам Прокопий Петрович был думным дворянином, грамоту получил от Шуйского, падения которого желал, добивался и добился.
Выходит, для самого себя.
Теперь сам был правителем всея России. Боярин Федор Иванович Мстиславский правил одними кремлевскими боярами, Сигизмунд – Смоленском, королевич Владислав – ничем, а он, Прокопий Ляпунов – всея Россией. Правда, на грамотах имя свое приходилось ставить после Трубецкого и Заруцкого, но люди знали, чья из трех голов – главная. Он и от себя не стеснялся давать указы. Еще в апреле отправил на воеводство в Сольвыче-годск своего человека своей грамотой. Волей Ляпунова приказывал Казани, воеводе боярину Василию Петровичу Морозову вести под Москву казанскую рать.
И все же это не было властью, но одним только воплощенным в человеческое имя гласом народа, совестью. Откликались не на указ, на зов всеобщей русской боли. Боль не может править царством долго, к слезам тоже привыкают, царство живо устроением и законом.
Свершилось! Ополчение русских земель и городов по польскому обычаю, по обычаю Тушина, 30 июня 1611 года собралось на коло, и на этом коло, где говорил и давал говорить Ляпунов, был составлен Приговор.
Московское государство именем представителей всех русских земель – Земщиной – получило законную и, главное, свою, русскую власть.
Перво-наперво Приговор объявил правительство, чья временная, до избрания царя, власть, распространялась на войско и на все русские города и земли. Многие статьи Приговора писал сам Ляпунов, и потому были они крутоваты, но справедливы.
«Поместья и отчины, разнятые боярами по себе и розданные другим без Земского Приговора, – отобрать и из них дворцовые… отписать во дворец, а поместные и вотчинные земли раздать беспоместным и разоренным детям боярским» (то есть служилым людям).
«Отобрать дворцовые села, черные волости, а равно и денежное жалованье у всех людей, которые, служа в Москве, Тушине или Калуге, получали по мере своей».
«Не отнимать поместий у жен и детей умерших или побитых дворян, не отнимать поместий у сподвижников Скопина, у Смоленских сидельцев».
«С городов и из волостей атаманов и казаков свести, запретить им грабежи и убийства. Посылать по городам и в волости за кормами дворян добрых».
Мало объявить законы. Власть тогда и власть, когда законы исполняются. Пресекая всякое самоуправство, обуздывая всеобщее себялюбие и постоянство разбоя, были устроены Приказы: Разбойный, Земский, Поместный, Большого Прихода и Четверти. Убийцам и ослушникам новая твердая власть грозила смертной казнью.
Уже на другой день после объявления Приговора Прокопий Петрович Ляпунов отправился в Земскую избу решать дела и чинить суд.
Приехал спозаранок, чтоб набраться духу в одиночестве, помолиться, подумать, с какого края тянуть матушку-Россию из ее пропасти.
У Земства во весь двор до крыльца – очередь. На самом крыльце, ожидая правителя, князья Волконский и Репнин, воеводы Мансуров, Волынский, Нащокин, трое Плещеевых.
– Что стряслось? – напутался Ляпунов.
– Ничего! – ответил за всех Матвей Плещеев. – Пришли за грамотами на поместья.
– С какого часа вы здесь стоите?
– Люди с ночи, а мы только что?
– Почему тогда всех за спину себе? Откуда такое правило? – Ляпунов покачал головой. – Встаньте, господа, в очередь.
– Ка-ак? – на него воззрились с изумлением.
– Приговор вчера принимали? Умейте слушаться своих законов. Пока нет царя, все мы перед Отечеством равны и без мест.
Видя, что правитель подзадержался на крыльце, к нему подбежали и пали в ноги несколько женщин.
– Смилуйся, Прокопий Петрович! Нас казаки от семей увезли, держат за непотребных женщин, в карты друг другу проигрывают.
– Ужо будет казакам, – сказал Ляпунов, – а вы очереди своей дожидайтесь.
– Прокопий Петрович! Мы – рязанцы.
– Вот и хорошо. Рязанцы люди справедливые.
Первым в очереди оказался дворянин Афанасий из Перми. Просился домой. Разбойники сожгли у него дом, поместье, разорили, жену увели, малые дети нищенствуют.
– Не отпустил бы тебя, – сказал Ляпунов, – ныне вся Россия и в огне и в нищенстве. Но ты первый, и начинать с отказа к добру ли? Езжай, Афанасий, домой, устрой детишек и возвращайся с дюжиной воинов. Это тебе наказ.
– Молиться за тебя буду, Прокопий Петрович!
– Ступай. Люди ждут.
Следующими ударили челом атаманы Коломна, тоже Афанасий, и Заварзин Исидор. Коломна был человек величавый, он и говорил, а Заварзин все носом шмыгал, не запомнил его Прокопий Ляпунов.
– К чему бы два Афанасия кряду?! – удивился Ляпунов. Коломна тотчас и польстил правителю.
– Афанасий по-нашему, по-русски – бессмертный. Долго будешь жить, Прокопий Петрович.
– С вами, с казаками, наживешь! – развернул поданные атаманами грамоты. – Ишь сколько земелек нахватали. И все служа в Тушине да в Калуге. Служили вы, атаманы, лжецарю, ваши грамоты ложные. Однако, за службу Земскому войску жалованье вам положено. Выбирайте, хотите денежное, хотите – поместьями. У тебя, Коломна, пожалований, как у князя. Бери самое хлебное, то и будет твоим.
Глаза атамана полыхнули ненавистью, но стерпел, положил перед Ляпуновым одну из грамот.
– Город пожелал! Нет, атаман, за твою службу, за многие твои разбои смирись на село… Ты, Заварзин, выбрал? Остальные грамоты сожгите, изберем царя, он за воровские грамоты еще и накажет. И вот что я вам скажу, господа! У вас в таборе чужие жены, в рабстве, для блуда… Всех отпустите с миром. На то будет указ. Не исполните – пеняйте на себя. Я вам погляжу, какие вы гаремы устроили.
Ляпунов слово сдержал, приехал в казачий табор. Всех женщин, пожелавших вернуться домой, при нем сажали на телеги и тотчас увозили.
– Ты что хозяйничаешь у меня? – накинулся на Ляпунова Заруцкий.
– Помилуй, Иван Мартыныч! – прикинулся простаком Ляпунов. – Мы с тобой взялись выручать Россию из плена и сами же держим в плену чужих жен, поганим невест.
– Зачем имения отбираешь у казаков? Мало они крови пролили?
– Кто пролил, того уж нет. Имения розданы холуям Вора, разорителям русской земли.
– Может, и я холуй Вора?
– Ты нет, Иван Мартынович, – сказал серьезно Ляпунов. – Ты боярин Вора. Ты в Клушине царское войско побивал.
Заруцкий выгнул бровь другой, соображая, оскорбили его или одобрили. А, может, дважды оскорбили?
– Плохо твои казаки воюют, – сказал Ляпунов правду. – Мы столько сил потратили, чтоб взять башни в Белом городе, а ты со своими воителями со стороны глядел, как мы бьемся. Ни один казак с места не стронулся, чтоб пособить.
– Кормежка несытная, – буркнул Заруцкий.
– Хочешь сказать, Иван Мартынович, казаку правое русское дело не дорого, ему, молодцу, привычней безоружных людей грабить.
– Не любишь ты казаков, Ляпунов!
– Полюблю, коли будет за что.
Князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой держался от обоих правителей Земщины особняком. Первый воровской боярин, он был рода древнейшего, потому и в правительстве получил первенство. Пребывая в Ополчении, он понимал, что от служения Вору уже отмылся, но будущее России все еще было во мраке, и князь не спешил со своими хотениями. Ему было удобно, что всем заправляет выскочка Ляпунов. Правда, кипучесть рязанца раздражала князя, щепетильная честность – приводила в бешенство. Но не было бы Ляпунова, пришлось бы самому урезонивать казаков. Народу что казаки, что поляки, если заявились – будет грабеж.
19
От самого ли Заруцкого, из лагеря ли Трубецкого, а, может, коварством «близких» людей Прокопия Петровича, но Гонсевский получил известие о большом скандале в Ополчении. Воевода Матвей Плещеев, стоявший в Николо-Угрешском монастыре, поймал двадцать восемь казаков, грабивших монастырские села. Казаков чуть было не утопили, но все-таки не утопили, вернули Заруцкому.
– Мне нужен образец почерка Ляпунова, – потребовал Гонсевский от Грамотина и Андронова.
Грамотку, писанную рукой Прокопия Петровича, нашли в бумагах царя Шуйского. Сочинили поддельное послание от имени Земского Правителя в русские города: «Где казака поймают – бить и топить, а когда Московское царство, даст Бог, успокоится, то мы весь этот злой народ истребим».
С этой грамотой был выпущен за стены Китай-города пленный донской казак, побратим атамана Заварзина.
Ляпунов про этого казака ничего не знал, он покинул лагерь, как только разбойники, взятые Плещеевым, собрали круг, требуя утопить ненавистного Земского Правителя. Прокопий Петрович отправился в Рязань, к своим, за крепкие стены. Но покидал он стан на Яузе в великом и тяжком сомнении, как бы казаки не снюхались с Гонсевским? Остановился в Симоновом монастыре, надеясь, что войско, рассудив, поймет – строгости не прихоть Ляпунова, народ ожидает от Ополчения защиты от насильников и грабителей. Без поддержки народа поляков и бояр-изменников не одолеть.
К Прокопию Петровичу пришел старец, благословил спасаться от казачьего неистовства.
Ляпунов снова отправился в путь, но время было упущено. Возле Никитского острожка, недалеко от монастыря, его настигли казаки атамана Заварзина, коней выпрягли и увели. Пришлось ночевать в острожке, под казачьей охраной.
Сыну Владимиру Прокопий Петрович велел переодеться в простое платье и, если случится дурное, ехать в Нижний Новгород, говорить – смута от казаков. Да затворятся все ворота перед лживым племенем, живущим пролитием крови.
Спозаранку возле Никитского острожка поднялся шум, забряцали доспехи – явились служилые, дети боярские, жильцы, городовые дворяне…
– Прокопий Петрович! Отец родной, не оставляй! Ворочайся в свой стан. Без тебя дело не сладится.
– То-то же! – сказал Ляпунов, сразу позабыв свои сомнения и распираемый самодовольством.
Он возвращался на реку Яузу, в стан свой, как Большой хозяин, без которого всему дело конец.
Думал застать тишину, а у казаков в таборе – пальба, теснота – коло. Читали «ляпуновскую», писанную в Кремле, грамоту.
Казаки послали звать на коло всех трех правителей, но Трубецкой посольство не принял, а Заруцкий так сказал:
– Сами с усами. Своей головой живите. Отправил на коло верных людей мутить казаков. За Ляпуновым приехало еще одно посольство.
– Не ходи на круг, Прокопий Петрович! – сказали своему предводителю дети боярские.
Он не пошел, но от казаков прибыло третье посольство: дворяне Сильвестр Толстой да Юрий Потемкин целовали икону:
– Никто на тебя руки не поднимет, Прокопий Петрович. Но нельзя, чтоб ты перед всем казачьим войском был оболган. Поди, заступись за себя.
Он стоял на возвышении, среди моря ненависти. Он сразу понял, живым его отсюда не выпустят. Поглядел на березы вдали, на облака, овечками пасшиеся в синих высях. Крича и матерясь, ему сунули в руки грамоту.
– Ты писал?! Твоя рука?!
Удивился схожести почерка.
– Рука похожа, но таких слов не писал, не говорил.
– Врешь, собака! – сабли вынырнули из ножен, как у одного человека. Казаки смелы убивать сворой.
Не нашлось среди дворян смельчаков заслонить своего радетеля и защитника. Стушевались, а было здесь немало тех, кто кичится службами государям, великим князьям, чьи пращуры были и на Куликовом поле, и с Батыем схватывались.
Один только заслонил Ляпунова, враг его, Иван Никитич Ржевский.
– Сначала суд, а потом – казнь! – крикнул он казакам.
Казак Сережка Карамышев полосонул Ржевского саблей по животу, а другим ударом Ляпунова по голове. И тут уж кинулись скопом, по-крысиному.
Заруцкий, чтоб на него подозрение не пало в заговоре против Ляпунова, в час убийства резал поляков в Новодевичьем монастыре. Полякам удалось монастырь вернуть, но теперь все его защитники нашли в его стенах свою смерть. Заруцкий даже раненых не миловал.
К Гермогену пришли от Гонсевского, принесли жареного судака, кубок с вином.
– Что за празднество такое? – спросил патриарх.
– Сначала откушай, святейший! – дворянин, показывая, что угощение не отравлено, съел рыбы и выпил глоток вина. Гермоген поделил рыбу и вино надвое, для Исавра, поел и выпил. Забирая серебряные поднос и кубок, дворянин сказал, смеясь:
– С убиением Ляпунова, твое святейшество! Нынче Кремль гуляет!
Одно худо следовало за другим.
Двадцать третьего июля, на другой день после злодейского убийства, к Москве подходила рать воеводы Морозова. Гонцы сообщили: осеняет войско чудотворная икона Казанской Божией Матери.
Как за спасением пошли ополченцы Ляпунова к иконе, забыли о поляках за спиной, о казаках. Каждый нес оживить благодатью душу свою скорбную, почерневшую на пожарищах, высохшую от отступничества.
В ту пору в казаков дьявол вселился.
– Ляпунова отдали на растерзание, теперь отбеливать себя к иконе поспешают! – сказал казакам Заруцкий. – Поучите, молодцы, русских дворян смирению. Пусть свиными рылами раньше казаков не лезут чудотворную чмокать.
На конях казаки догоняли пеших дворян, лупили нагайками, а тех, кто ерепенился, секли саблями.
Ночью большая часть детей боярских и городовых дворян бежали из московского лагеря, подальше от казаков.
Заруцкий поспешил к Трубецкому.
– Мне был сон, – признался он князю. – Сидит горлица на краю гнезда, а в гнезде птенец. Еще даже без перышек. Вдруг летят две ласточки. Промчались над гнездом, и нет их! Смотрю, а на голове птенчика золотой венец. Я сон запамятовал, а к тебе, Дмитрий Тимофеевич, сейчас ехал – вспомнил… И вот что мне подумалось…
– Мне тоже подумалось, – сказал Трубецкой.
– О сыне Марины Юрьевны?
– О царственном младенце Иоанне. Заруцкий крепко и радостно пожал князю руку.
– Я сегодня же отправляюсь в Калугу. Надо объявить всей России – войско желает в государи наследника природного, внука Иоанна Васильевича Грозного, Иоанна Дмитриевича. Тебе, светлейший князь, быть ему опекуном. Больше некому.
Серьезно, строго покрестились на иконы, но в душе и у того, и у другого трепыхала перепончатыми крыльями нечестивая радость и суета.
3 августа, на преподобного Антония Римлянина, в Замоскворечье появился Сапега. Он шел с продовольствием для оголодавших защитников Кремля и Китай-города. Весь день пробивался к реке. Гонсевский и Струсь, чтобы Ополчение не смогло помочь Замоскворечью, ударили на башни Белого города. Башен поляки не взяли, к реке не вышли.
Посчастливилось в тот день нижегородцам, сыну боярскому Роману Пахомову и посадскому человеку свияжцу Родиону Мосееву. Был им новый наказ – хоть сквозь стены, но пройти к патриарху Гермогену, получить патриаршее благословение поднимать на поляков, на татей, убийц Ляпунова, на изменников-бояр – святорусскую земскую рать, а главное спросить совета – кого на царство хотеть: королевича Владислава, младенца Ивана Дмитриевича, Маринкина сына, или какого князя русского?
Роман и Родион видели, как замоскворецкие стрельцы напали на обоз с мукой, перестреляли, перекололи половину обозных, но тут с гусарами примчался сам гетман Сапега. Роман и Родион заменили на двух телегах погибших возчиков, и во всей этой кровавой кутерьме никто не заметил чужих.
Ночевали под возами, а утром снова начался бой. И нижегородцы погоняли лошадей, следуя за гусарами к Москве-реке, грузили мешки и кули на лодки и сами на этих же лодках отправились на другой берег, в добровольную осаду.
Для поляков тот день был счастливый. Овладели четырьмя башнями Белого города, не смогли взять только одну. Тверскую. Взяли бы, весь Белый город взяли бы, но свежие хоругви не пошли из Кремля на помощь своим товарищам, не сменили измученных сражением бойцов.
– Господи! – шепнул Роман Родиону. – У них то же, что у нас, своевольство и дурость.
– Пока они войной заняты, пока Гонсевский бегает с уговорами от хоругви к хоругви, явимся к патриарху в открытую, – предложил Родион.
– Как же это в открытую?!
– Отнесем котомку с едой. Скажем – по приказу ясновельможного пана Сапеги. Кто проверит?
– И когда пойдем?
– Теперь. Ждать хуже.
– Осмотреться надо.
– Подумай сам, чего ждать? Сапега на том берегу… А чтобы обоим не попасться, сначала пойду я.
И пошел. И миновал все посты, будто его Ангел вел. И предстал смельчак перед святейшим Гермогеном.
– Я – нижегородец, владыко! – упал Родион на колени.
– Помню тебя. Помню, сынок!
– Я обманом прошел. Принес тебе, владыко, пирогов с визигой, рыбы сушеной, грибов соленых, огурцов, морковки.
– Экое пиршество.
– Я за благословением к тебе, святейший, за словом твоим.
– Слово у меня ныне одно: упаси Господи впасть всем во грех – выбрать в цари Маринкиного сына. Никогда не отделаемся ни от казачьего разбоя, ни от польского притязания на саму душу русскую.
– Это и передать?
– Подожди, нижегородец, милый ты мой человек. Мы с Исавром грамоту напишем. У нас и бумага припасена, и коломарь, и перо. Исавр, поспешай.
Пока патриарший келейник доставал припрятанные чернила, бумагу и перо, Роман опростал свою котомку.
– Покушай, владыко! – подал, отерев рукой, зеленый, в пупырышках, огурец.
Гермоген откусил, прикрыв глаза.
– Как вкусно! Будто сам на грядке стою. Такая, кажется, малость, а мы огуречков не видим в затворе нашем уж целый год.
Исавр перекрестился на икону.
– Я готов, святейший.
– С Богом! Пиши: «Благословение архимандритам и игумнам, и протопопам, и всему святому Собору и воеводам, и дьякам, и дворянам, и детям боярским, и всему миру – от патриарха Гермогена Московского и всея Руси мир вам и прощение, и разрешение…»
– Загнал ты меня, владыко! – взмолился Исавр, летая пером по бумаге. – Не жалей, гони. Успеть бы, пока вороги не хватились… «прощение и разрешение».
– «Да писати бы вам из Нижнего в Казань к митрополиту Ефрему…» – Гермоген повернулся к Роману. – У меня на Ефрема большая надежда. Написал, Исавр?.. «К митрополиту Ефрему, чтобы митрополит писал в полки к боярам учительскую грамоту, да и казацкому войску, чтобы они стояли крепко в вере и боярам бы и атаманам говорили бесстрашно, чтобы они отнюдь на царство проклятого Маринкина сына не брали».
Похрустел огурчиком, повторил Исавру сказанное, подошел к Роману.
– Запомни, коли грамота потеряется: упаси Боже кинуть царство в ноги сыну Вора и Маринки, жене двух Воров, папистке. Иезуиты съедят русских людей, как черви едят зеленую листву. Не видел голых деревьев в июне? А я такое видывал… Пиши, Исавр! «Я не благословляю!» Маринкиного сына не благословляю. Этого, Исавр, не пиши, а пиши: «Я не благословляю». Дальше так: «И на Вологду ко всем властям пишите ж, и к Рязанскому владыке пишите да и во все городы пишите, чтобы отовсюду писали в полки, к боярам и атаманам, что отнюдь Маринкин на царство не надобен: проклят от святого Собора и от нас. А также пишите в полки, чтобы уняли грабеж, корчму и разврат и имели бы чистоту душевную и братство»…
Сел на лавку, поднес к носу ладони.
– От огурца такой запах, словно дождь прошел, – посмотрел на Романа. – Очистимся от скверны, оденемся в чистоту всем народом русским, вот и спасет нас Господь Бог от дьявольского наваждения. Написал, Исавр?
– Написал, святейший.
– «И промышляли бы, как реклись, души свои положити за дом Пречистой и за чудотворцев и за веру… А хотя буде и по-страждете, и вас в том Бог простит и разрешит в сем веке и в будущем… Вам всем от нас благословение и разрешение, что стоите за веру неподвижно, а я должен за вас Бога молити».
Гермоген приложил к грамоте свою руку, передал грамоту Роману. Тот снял кафтан, вывернул, спрятал грамоту за подкладку рукава.
– С Богом, сынок! – Гермоген благословил смельчака. – Донеси мое слово до Нижнего до Новгорода… Я верую – Бог не оставит русский народ. И ты – веруй.
– Я верую, святейший.
Гермоген обнял Романа, трижды поцеловал, омочил его молодое лицо своими слезами.
Ополчение русских земель стояло под Москвой и в Москве, потеряв надежду взять Кремль, надежду об устроении покойной правильной жизни в царстве.
Заруцкий миловался в Калуге с Мариной Юрьевной, являлся народу с «царевичем» на руках.
Польский король, уставший от войны, воротился с победой в Польшу. Смоленск одолел, Москва у поляков. В Кракове один праздник перетекал в другой, а на помощь сидельцам Кремля отправился всего с двумя тысячами конницы литовский гетман маршал Ян Карл Ходкевич.
Утратив важные башни Белого города, Ополчение до того упало духом, что готово было разбежаться – лишь бы на него ударили как следует.
Поляки знали, как близка победа, и не били русских только из своего упрямства, не желали дать славу Гонсевскому – воину словес, человеку королевских будуаров, а не поля и пороха.
Приказов Гонсевского не исполняли ни ротмистры, ни поручики, ни простые жолнеры. Все требовали денег и ждали Ходкевича. Пришлось пану Наместнику пустить на жалованье золотую статую Иисуса Христа. Двенадцать апостолов перелил в монеты еще Василий Иванович Шуйский. Иисуса Христа дробили распоряжением Гонсевского, вышло тридцать тысяч злотых. Рядовым воинам заплатили по двадцать злотых, слугам по пятнадцати, но войско осталось недовольно.
Бояре вынуждены были снова запустить свои руки в царскую сокровищницу. Изумительные творения древних мастеров Жолкевский и Гонсевский переправили королю. Бояре платили кремлевскому войску уже самой славой и сутью Московского царства. Дали полякам в залог венцы Бориса Годунова и Дмитрия, три бесценных рога единорогов, царский посох, гусарское седло Дмитрия, сплошь усыпанное драгоценными каменьями. Что делать, еда в Кремле стоила дорого. За телку платили шестьсот злотых, за курицу – семь, за яйцо – три, за ворону – полтора, за воробья – шесть грошей, столько же за ковригу хлеба. Но впереди была осень и зима.
3-го сентября 1612 года гетман сгинувшего с лица земли Вора, ясновельможный пан Сапега переправился через Москву-реку и вступил за стены древнего Кремля.
Он прибыл в сердце Московии, чтобы воодушевить кремлевское войско, подготовить окружение русской рати и, коли будет такая возможность, истребить эту русскую силу до последнего воина.
Другая цель прибытия – вытребовать для своего войска достойную награду. Семибоярщина: Мстиславский, Романов, Юрий Трубецкой, Куракин, Салтыков, Шереметев, Андронов – единодушно обещали передать Сапеге для вознаграждения подвигов его рыцарей два древних Мономаховых венца, скипетр и державу. Сокровенными регалиями пращуров торговало бесстыдное боярство.
Сапега еще в лодке почувствовал недомогание. У него потели ладони, а он признавал только сухие руки. Во рту же, наоборот, было сухо. Он старался превозмочь капризы тела и после короткой встречи с Гонсевским пожелал осмотреть храмы и дворец. Начал с Успенского собора и пожелал побыть в соборе в одиночестве.
– Вот я здесь! – сказал Ян Петр святым ликам, окружавшим его со всех сторон.
Он и впрямь ощутил себя стоящим здесь. Три года пришлось кружить вокруг да около. И свершилось. Глаза со стен, с иконостаса смотрели на пана гетмана, как на чужого. Поднял голову к куполу – высота великая, птичья, но тесно, тесно! Вокруг себя посмотрел – огромный храм, но тесно от столбов, от множества святых…
– Чуждый мир, – сказал он себе, и взгляд его остановился на иконе «Спаса Ярое око».
Из-под темных рыжеватых волос, из-подо лба, пересеченного тремя дугами крутых морщин, – ярые золото-розовые очи с черными пропастями зрачков.
– Судишь, – сказал Сапега Богу, не отводя смелого взора.
Поспешил к Владимирской Богоматери. Нежность, материнское стремление защитить дитя от бурь судьбы. Нет! Его тянуло к Богу-отцу, к Ярому оку…
Больше никуда не пошел, изнемог.
Гетмана проводили в отведенную для него резиденцию, в дом царя Василия Шуйского, но, желая отдыха, напомнили: в честь их милости в Грановитой палате вечером пир и празднование.
Сапега спал на царской постели, но ему казалось, что это яма, что это два зрачка Ярого ока, и он, Ян Петр, опущен на дно обоих зрачков. Мучительно напрягая ломившие мозги, никак не мог объяснить своего раздвоения, не мог понять, какой из двоих ложный, и сдался наконец – ничего не уразумев, растратив последние, угасающие силу души.
Пробудившись, потрогал лоб – кусок льда.
– Жара нет, – сказал он и позвал слугу одеваться.
Грановитая палата удивила простором и великолепием. Особым простором – византийским, великолепие тоже было царьградское, возрожденное из небытия.
А вот угощения на столах оказались куда как современные: сухари с хреном, пшенная каша с крошечными кусочками свиного сала, ужасно перченая, и квас.
Но были здравицы. Витийствовала польская изощренная речь, и был грозный и величавый полонез, на который вышли все рыцари пира.
Утром Сапега собирался осмотреть башни Белого города, но всю ночь он пролежал без сна, в полуяви, раздвоенный в черных зрачках Ярого ока. Заснул на рассвете, пробудился за полдень беспомощный, как младенец.
Собрались врачи, свои, полковые, и немцы, лечившие бояр. Какое-то старческое недомогание молодого совсем еще человека было докторам непонятно.
Целую неделю больной не покидал постели. На восьмой день почувствовал себя почти здоровым. Поел. Попросил принести обещанные его войску царские регалии.
Ему доставили оба венца, скипетр, державу. Он надел на себя одну из шапок Мономаха, взял в руки символы власти.
– И это все? – спросил своего слугу. – Ради этого травят, душат, жгут…
Голова закружилась. Ян Петр откинулся на подушки и снова впал в полусон, в полуявь. Его поостереглись тревожить, и он спал в венце русского монарха, сжимая в руках скипетр и яблоко.
Пробудился только вечером.
– Ах, это! – удивился на свои руки, держащие царские символы. – Даже во сне не выронил. Из меня получился бы крепкий монарх.
Он расстался с сокровищами и коснеющим языком попросил слугу наклониться.
– Найди польку. Любую… Пусть что-нибудь говорит. По-польски… Я поплыву по речи, как по реке. Мне пора… пора…
Женщину нашли. Усадили в изголовье умирающего. Она двое суток рассказывала сказки или что-то лепетала об осени, о золотых лесах, о падающих листьях.
Яну Петру виделось огромное дерево. Золотое. Но это было не золото листвы, золото слов. Оно стояло в неземной красоте, вечное, неподвластное времени, но сердце сжималось от предчувствия… Ледяной дых не поколебал воздуха, но золото обрушилось с веток в стремнину, и он тоже шагнул в эту стремнину и не провалился. Золотые пластины слов держали, не тонули. Невидимая, скрытая золотом река несла в неведомую даль.
Он увидел себя, уносимого за горизонт, в такой дали, из которой не возвращаются. Он все держал себя, ставшего каплей, точкой, все держал себя и все-таки потерял.
Умер Ян Петр Сапега в Кремле, в доме царя Шуйского 14 сентября 1611 года.
В самом начале октября забытого всеми патриарха Гермогена посетил Михаил Глебыч Салтыков. Принес на подпись грамоту.
«Наияснейшему великому государю Жигимонту III великого Московского государства ваши государские богомольцы: Арсений, архиепископ Архангельский, и весь освященный Собор, и ваши государские верные подданные бояре»…
Гермоген брезгливо бросил грамоту прочь от себя.
– Верные подданные! Михаил Глебыч, ты же знаешь, я не подпишу. У тебя даже надобность во мне отпала. За короля Арсений молится.
– Неужели, владыко, ты так и не пробудился от своих старых снов? – в голосе Салтыкова прозвучало искреннее недоумение. – России уже нет. Народ мыкает горе, даже не ропща. Устал. Царству нужен заемный, чуждый, да хоть сатанинский, но порядок. Бог даст, может, и возродимся. Не пропали под Батыем, не пропадем и под Сигизмундом. Еще и ума наберемся.
– России Сигизмунд не надобен! – твердо сказал Гермоген. – У России будет свой царь, русский.
– Но когда?
– Через год.
– Почему же не через полгода? А, может, через десять лет? Не смеши меня, Гермоген, пастырь без овец. Я с Юрием Никитичем Трубецким, с дьяком Яновым еду звать на Московский стол короля Сигизмунда. Ему владеть державой.
Гермоген встал, рукой указал на икону Спаса.
– Вот нам Свидетель. Я говорю – через год на высоком на пресветлом столе Московского царства воссядет пресветлый, русоголовый, русский царь. Царь Света.
Салтыков свернул грамоту.
– Гермоген, добрая душа! Если бы царства строились упрямством да светлыми помыслами… Ты – младенец, патриарх… Ты пророчествуешь, но я – тоже этак могу, – протянул руку в сторону иконы. – Ты – патриарх, из-за своего упрямства помрешь в этой вот келии, никому не нужный и всеми позабытый – от голода… Сегодня я еще могу тебе помочь, завтра меня здесь не будет. В Кремле голодно, но большой голод впереди!.. Я жду твоего разумного слова, стоя перед тобой.
Постоял, перешел на порог.
– Жду твоего слова на пороге. Постоял, вышел за дверь.
– Жду твоего слова за твоей дверью. Позови меня, Гермоген! Через мгновение будет поздно.
У святейшего даже сердце умолкло, лишь бы не беседовать с изменой.
– Прощай! – крикнул Салтыков. И долго было слышно, как боярин уходит…
В Кремле, где хоть признак власти, но он был, – у боярина Федора Ивановича Мстиславского, у боярина Ивана Никитича Романова, у боярина Федора Ивановича Шереметева, где бок-обок с мужьями мыкали осаду от русских людей русские боярыни, где инокиня Марфа подкармливала, от себя отрывая, отрока драгоценного, стольника Михаила Федоровича, – голодом и жаждой, по неистовому желанию поляков, но сообща со всем этим сановным русским людом, был умерщвлен святитель Гермоген, стоя-тель против врагов крепкий, обличитель предателей Отечества, разорителей православной христианской веры.
Его пересохшие губы сомкнулись, и глаза закрылись, и сердце остановилось 17 февраля 1612 года.
Надругаться над святым человеком дело антихристово, для исполнителей черной воли оно не хлопотно, не тяжело – дунул, и свеча погасла.
Тяжела и суетна расплата.
Весной 1612 года за собаку кремлевские солдаты платили друг другу пятнадцать злотых, за кошку восемь.
Осенью началось людоедство. Пан Трусковский съел – обоих своих сыновей. Еще один шляхтич избавил себя от мук голода, приготовляя обеды из своего слуги. Солдаты, сначала таясь, а потом открыто, пожирали убитых товарищей.
Когда 22 октября войска Пожарского и Трубецкого взяли Китай-город, в солдатских котлах варилась человечина.
Что же до русских, то было еще много подлостей против самих себя. Князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой со всеми дворянами и ополченцами, по хлопотам Ивана Плещеева, второго марта присягнул самозванцу Сидорке, царившему во Пскове. Песня была старая: спасся, скрывался, а теперь вот он – неубиенный Дмитрий Иоаннович.
Спохватился и король Сигизмунд. В конце августа повез-таки в Москву на царство своего сына, златокудрого королевича Владислава, умницу.
2 октября они были в Смоленске, 16-го в Вязьме. Пытался король взять Волок Ламский, сил не хватило. Речь Посполитая отвернулась от авантюры. Всего одну тысячу наемников привел с собой Сигизмунд. Ждали посольства из Москвы, но на царство никто уже не звал ни его величество, ни его высочество.
На войну за себя, за землю, за гробы пращуров вышел и победил русский народ. Народ всегда желает своего царя, кровного, грозного, но ласкового.
Юрий Петухов
Гневный бог
В отличие от греческой мифологии, которая уже с VII в. до н. э. стала объектом (а может быть, в какой-то степени и жертвой) литературной обработки и творческого обогащения жрецами, поэтами, писателями и специальными мифографами. славянская мифология, как «жизнь богов», осталась неописанной.
За три десятилетия до новой эры в Римской империи из официального пантеона богов неожиданно выдвинулся один, далеко не самый приметный и могущественный. Еще до этого римляне отождествили своих абстрактных богов с антропоморфными греческими: Юпитера с Зевсом, Марса с Аресом, Венеру с Афродитой и т. д. Но не для всех нашелся эквивалент на местной почве – Аполлон[1], бог солнца и света, покровитель поэтов и музыкантов, встал рядом с «коренными римлянами» под своим прежним именем, с каким и прибыл извне. Выдвинуться ему помог не случай и не божественные силы, а вполне реальный, облеченный императорской властью человек – Август Октавиан. При нем Аполлон приобрел значение, какого не имел ни до того, ни после. В 28 г. до н. э. в Риме на Палатине, рядом с императорским дворцом был построен храм Аполлона, один из богатейших в империи. В честь Аполлона были переименованы вековые (Столетние) игры, обычно связывавшиеся с божествами плодородия и земли. И даже был учрежден особый день Аполлона – 23 сентября. По Риму поползли упорные слухи, что Атия, мать Октавиана, зачала его от самого бога, проведя ночь в храме Аполлона. Но официально было объявлено лишь одно: Аполлон – покровитель рода Юлиев и, следовательно, самого Августа, усыновленного ранее Юлием Цезарем. В этом и была отгадка – последний из рода Юлиев достиг всех мыслимых вершин и теперь благодарил патрона за оказанное содействие. В данном случае нас не интересует подлинность родословной Августа, как и его личность в целом. Но для того, чтобы проследить бесчисленные трансформации божества, сочетавшего в себе разнообразные и противоречивые функции, и добраться до истоков культа, нам придется спуститься по ступенькам этой родословной в глубь веков.
По «римскому мифу», род Юлиев берет начало от легендарного Иула-Аскания, сына Энея. Последний хорошо известен как один из защитников Трои. Тит Ливий в своей «Римской истории» знакомит нас со злоключениями Энея, избежавшего жестокой расправы после взятия Трои ахейцами[2]. Эней вместе с войском на двадцати кораблях отправляется в долгий путь. Нет нужды описывать его скитания, они красочно изображены в «Энеиде» Вергилия. Важен сам факт: Эней отбыл из Малой Азии и прибыл в Лаврентскую область Италии. Он был не единственным – из Троады хлынула целая волна переселенцев, примерно в тех же краях оказался Антенор со своими сородичами и многие другие. Тит Ливий, как уроженец Венетии[3], хорошо знал генеалогические предания венетов-энетов. И эти предания имели вполне реальную основу – приход венетов в Северную Италию извне подтверждается археологическими данными.
Эней встречает на италийской земле не только врагов, но и друзей. Таковыми оказались племена венетов и лигуров, вставшие под знамена троянских изгнанников. Вождь венетов Купавон, сын Кикна, приводит Энею свою дружину. К нему мы вернемся несколько позже. Эней, в конце концов, добивается своего, находит общий язык с царем Латином и женится на его дочери Лавинии. Через некоторое время у них рождается сын Иул-Асканий. От отца он принимает божественного покровителя, оказывавшего поддержку Энею еще в Трое, и утверждает его на новой родине. Время: XIII век до н. э. Направление распространения культа: Малая Азия (Троада) – Эгеида – Апеннинский полуостров. Так ли это? Вернее, только ли так это происходило в действительности? Ведь по другим источникам культ Аполлона проникает в Рим значительно позже, в конце VI – нач. V веков до н. э. И проникает именно из античной Греции, где он успел оформиться и стать чем-то настолько греческим, что по-иному и не воспринимается. Но есть и совпадение – Аполлон первым приходит на Апеннины, все остальные «греческие» боги идут по его следам.
«Разноземные народы»
«Крик такой у троян раздавался по рати великой; Крик сей и звук их речей не у всех одинаковы были, но различный язык разно-земных народов союзных».
Вернемся к Трое времен ее осады. И приглядимся к враждующим сторонам. На одной ахейцы, они же аргивяне, они же данайцы – жители Пелопоннеса и островов Средиземноморья. Заодно с ахейцами и Ахилл со своей дружиной. Его мы пока не берем во внимание, т. к. он явный чужак среди осаждающих, и речь о нем пойдет отдельно. На другой – троянцы во главе с Приамом и его сыновьями, а также, по перечислению Гомера, кария-не, кавконы, ликийцы, мизы, фригияне, меоняне – все малоазийские племена, рядом с ними фракийцы во главе со своим царем Резом и пеласги с лелегами, древнейшие обитатели Пелопоннеса, вытесненные ахейцами. Противоборствующие стороны этнически разнородны, несмотря на то, что идет не межплеменная вражда, а серьезная, затяжная война за проливы и торговые пути. Причем география расселения защитников Трои значительно шире, чем у их противников ахейцев, а этническая пестрота обороняющихся не затушевалась даже веками, отделившими само событие от описания его в поэме. В памяти многих народов индоевропейской языковой семьи сохранились легенды о выходе их предков из-под Трои. Даже скандинавы размещали свою прародину в Великой Свитьод, которая ассоциировалась у них то со степями Северного Причерноморья, то с Малой Азией. Некоторые современные исследователи размещают в тех краях родину индоевропейцев как таковых. Так это или нет, неизвестно, во всяком случае, «перекресток» был оживленный. И надо думать, что в среде тамошних богов царила не меньшая пестрота. Но с ними следует разобраться подробнее. В сознании Гомера и людей его времени (IX–VIII века до н. э.) жители Олимпа представляют из себя пусть и сварливую, но все же единую семью. И разделяются они лишь в зависимости от симпатий к действующим на земной сцене героям. Но так ли это было в XIII веке до н. э. под Троей? Если приглядеться внимательней – никакой семьи и не было. У каждой стороны свои покровители на небесах. У ахейцев Афина Паллада, Гермес, Гера, Гефест, Посейдон. У троянцев и их союзников – Аполлон, Артемида, Лето, Афродита, Арей, Ксанф. В последней группе все боги негреческого, как принято считать, малоазийского происхождения, в первой таковых большинство. Выходит, не всегда Олимп был един. Больше того, Гомер с высоты в пять веков приписывает ахейцам чуждых богов, о которых они сами могли знать только от соседей-малоазийцев. Да и соплеменники и союзники Приама, скорее всего, не могли бы представить в своем воображении, что когда-нибудь их боги объединятся с богами непримиримых врагов. А сведут их в одну семью значительно позже античные «классические» греки, которые наверняка и не подозревали, что даже в лагере обороняющихся было «сколько народов, столько и богов», или почти столько же. Средневековой нетерпимости в те времена ни в Троаде, ни в остальном мире не было – это было в первую очередь на руку самим богам, гулявшим по тогдашней ойкумене.
Но время было далеко не идиллическое. Достаточно вспомнить, что не только профессиональные воины, но и торговцы-пираты не испытывали ни малейшей жалости к жителям побережья, а те, в свою очередь, предавали смерти каждого высадившегося с моря «без суда и следствия». И Аполлон, сын своего времени, ведет себя соответствующим образом. В «Илиаде» он с самого начала насылает на ахейцев губительную язву, он жесток, порой коварен, во многом не уступает по невоздержанности и мстительности Аресу, богу войны. И Ахилл для Аполлона не только противник, но и личный враг – Аполлон мстит тому за убийство своего сына Кикна (Лебедя). Интересное совпадение, с другим Кикном и его сыном мы познакомились ранее. Возвращаясь к Ахиллу, мы видим, что он герой поэмы, но он «злой герой», он раскалывает единство ахейцев, именно в нем видит автор причину всех бед и неудач. И здесь чувствуется наложение нескольких преданий или легенд, слившихся позже в одно целое. Истоки же нелюбви к Ахиллу, по-видимому, другие – для ахейцев он ненадежный союзник, чужак, а троянцами предводитель мирмидонян воспринимается (или должен восприниматься) не просто врагом, одним из осаждающих, но и отступником, переметнувшимся в чужой стан. Что мы знаем об Ахилле? Лев Диакон Калойский в своей «Истории», ссылаясь на Флавия Арриана, пишет: «Пелеев сын Ахилл был родом скиф из небольшого города Мирмикиона, стоявшего близ озера Меотиса, и уже после, изгнанный скифами за необузданность, жестокость и высокомерие духа, он поселился в Фессалии. Ясным доказательством этому служат покрой его плаща с пряжкой, привычка сражаться пешим, светло-русые волосы, голубые глаза, безусловная отвага, вспыльчивость и жестокость…» О вспыльчивости гомеровского героя напоминать не приходится, она причина всех распрей в стане осаждающих, упоминает Гомер и «русые кудри Пелида». Лев Диакон называет Ахилла тавроскифом. Еще во времена Овидия (I век до н. э. – I век н. э.) Северное Причерноморье продолжало называться Ахилловой землей, и там особо почитались Аполлон и Артемида. Ничего странного в этом нет, историки и археологи подтверждают, что еще с IV–III тысячелетий до н. э. «цикрумпонтийская зона» отмечена особо активными контактами, многосторонней культурной миграцией, многочисленными переселениями различных масштабов и в различных направлениях.
Но для анатолийцев, жителей Малой Азии той эпохи, Аполлон северянин. Он явно неравнодушен к гипербореям. И эта его любовь к обитателям севера, память о них как о лучшем и справедливейшем народе, по сути дела, конечно же, не память самого Аполлона, а выраженная в аллегорической форме память народа – носителя его культа, или, по крайней мере, представителей этого народа. Но не будем забегать вперед.
Неразлучная троица
Классический образ юного красавца, светоносного бога, мусагета – покровителя изящных искусств настолько прочно вошел в наше сознание, что трудно представить что-нибудь более неотторжимое от Олимпа. Но, как выяснилось, не всегда Аполлон чувствовал себя на Олимпе как дома. Многовековая обкатка образа, олитературивание его бесчисленными поздними мифами, сказаниями и письменными произведениями дали свой результат. И только отделяя один за другим поздние пласты мифотворчества, можно более или менее прояснить первоначальный облик божества. Данные греческого языка не позволяют раскрыть этимологии имени Аполлон. Некоторые исследователи предполагают, что сам образ догреческого, малоазийского, а возможно, и вовсе неиндоевропейского происхождения. Что касается связей с Малой Азией, то они, несомненно, есть, и о них вкратце говорилось выше. Поиски неиндоевропейских корней ни к чему не привели – в мифологиях «близлежащих» народов иных языковых общностей аналогов Аполлону не обнаружено, а искать их в удаленных от Эгеиды областях мира, скажем, в Китае или Америке, просто не имеет смысла. Попытаемся более тщательно проанализировать то, что нам знакомо в древней Европе. Но прежде необходимо совершенно точно определить время и место действия, оговорясь сразу, что в другие эпохи мы перемещаемся только для полноты картины. Итак, XVI–XIII века до н. э. – время расцвета Микенского царства и прочного господства ахейцев в Средиземноморье. Ахейцы пришли с севера в XXI веке до н. э., вытеснив остатки уцелевшего и не ассимилировавшегося автохтонного населения Пелопоннеса пеласгов и хетлолувийцев в Малую Азию. «Уйдут» ахейцы после Трои, нашествия в XII–XI веках, опять-таки с севера, дорийцев и повсеместной экспансии «народов моря». Место действия – «циркумпонтийская зона»: Подунавье, Балканы, Северное Причерноморье, Малая Азия, а также Эгеида и Пелопоннес.
Почти тысячелетие ахейцев на Балканском полуострове не было мирным. И что интересно, в памяти «микенских греков» Аполлон предстает не только чуждым богом, но и «великим губителем». И приходит этот «губитель» вовсе не с Востока, из Малой Азии, а с севера. Надо заметить, что направление это вообще характерно для экспансий на полуостров. Античная Греция и ее культура, как таковая, складывались в очень длительной и безжалостной борьбе многих народов. X. Коте считает, что распространение культа Аполлона показывает направление вторжения северных племен в Грецию. Как область происхождения Аполлона он определяет Средний Дунай. Именно оттуда в период позднебронзового века последовало вторжение воинственных северных племен и на Балканы, и в Грецию, и в Малую Азию. X. Коте связывает эти племена с Восточной культурой Курганных погребений и объединяет их на время южной экспансии с племенами сколотов, выступивших из причерноморских степей в XIV веке до н. э.
Все вышесказанное в полной мере согласуется с данными современной науки и накопленным ею материалом. В ранний период своего существования на Балканах и в Средиземноморье Аполлон далек от классического эллинистического типа – для архаического Аполлона характерно наличие растительных функций, близость к пастушеству и земледелию. Одновременно он демон смерти, убийства, освещенных ритуалом человеческих жертвоприношений. Аполлон еще не укладывается в олимпийскую иерархию чинов, он открыто соперничает с самим Зевсом, «коренным греком». Даже в гомеровские времена Аполлон своим появлением на Олимпе все еще внушает ужас богам, т. е. он продолжает восприниматься чужаком и в VIII веке до н. э. Из этого можно сделать вывод, что даже за шесть-семь веков пребывания в этих краях он не стал еще окончательно своим, не влился безболезненно в чужую семью, как это бывает с богами, заимствованными мирным путем.
По греческой мифологии, Аполлон сын Лето (Лато), брат Артемиды. Лето родила его на плавучем острове Астерия (переименованном после этого в Делос и получившем статус «нормального» острова), и при этом ее дочь Артемида, родившаяся непосредственно перед Аполлоном (они близнецы), помогала роженице и принимала роды. При рассмотрении происхождения самой Лето становится ясно, что и она на этой земле гостья. Иногда пытаются вывести Лето непосредственно из Малой Азии, связывая этимологически ее имя с лидийским «Lada» («жена», «мать»). Но связь эта при более глубоком рассмотрении оказывается вторичной и для Греции, и для Малой Азии. Истоки культа на севере. Академик Б. А. Рыбаков пишет: «Первое, на что следует обратить внимание при ознакомлении с мифами – это прочная связь всего цикла лето-артемидо-аполлоновских мифов с севером, с гиперборейцами, жившими где-то на север от Греции». Иной подход и не может дать объективной картины. Сам Аполлон ежегодно на зиму отправляется в северные страны, там он хранит свои стрелы, там живут племена, особо почитающие его и пользующиеся наибольшим покровительством божества. Традиция считать гипербореев несуществующим, мифическим народов канула в прошлое под натиском фактов. Причем они оказались значительно ближе к Средиземноморью, чем это представлялось ранее. Надо сказать, что и гипербореи не забывали своего кумира – ежегодно они отправляют на остров Делос к алтарю Аполлона священные дары, завернутые в пшеничную солому. Б. А. Рыбаков детально проследил путь этих даров и установил те места, откуда они отправлялись, а потому нет необходимости останавливаться на этом моменте, – гипербореями оказались праславяне и частично жившие по соседству балты. Проводя параллель между Лето и Артемидой и славянскими богинями-рожаницами Ладой и Лелей, Б. А. Рыбаков утверждает: «Связь Лето-Лато с северной Ладой не подлежит сомнению». Древний вариант культа двух рожаниц пришел с севера на юг. Архаичность же этого культа уводит нас на многие тысячелетия вглубь времен. Причем следует отметить, что ареал этнографического почитания «матери Ладо», «первобогини», «матери всего сущего» достаточно широк и связан не только со средним Дунаем, а включает в себя все территории праславян и все области их дальнейшего расселения, а также литовско-латышские земли.
Итак, Лето и Артемида искусно вплелись в раскидистое древо греческой мифологии, обросли до неузнаваемости литературной плотью. Но это не помогло им скрыться от исследователей, доказавших, что налицо перенос на юг более ранних культов, оставивших свой след и на малоазийском побережье и в прочих местах. Но кто же все-таки Аполлон?[4] Дадим небольшую информацию к размышлению, сопоставим предварительно кое-что. Вот, к примеру, знаменитый делосский алтарь Аполлона, сделанный из рогов коз, убитых Артемидой, имеет на севере двойника – храм в Радигоще, известный из «Хроники» Титмара Мерзенбургского. В этом храме «опорные столбы заменены рогами различных зверей». Праславянские зольники с крестообразными глиняными рогульками и алтари Аполлона из золы (сподии) с «рогатыми лепешками», а также многие другие соответствия на севере и юге наводят на мысль, что «очевидно, какое-то близкое к Аполлону божество, может быть под иными именами, почиталось другими европейскими народами». А случайны ли связи италийских венетов, энетов, потомков Энея и Иула, с венедами побережья Балтийского моря, снабжавших первых янтарем в отдаленнейшие времена и вплоть до средневековья? И, как считают ученые, культовые «солнечные колесницы» праславян, венедов и проживавших поблизости кельтов не что иное, как аполлонова повозка, на которой он отправлялся в гости к гипербореям… Можно привести множество интересных фактов. Но не будет отвлекаться.
Забытый прообраз
Мы располагаем большим количеством примеров, когда божество с определенным именем или мельчает с веками, теряя свои функции, постепенно сходит на нет, или же… «отбирает» функции других богов, становится многозначным, выдвигается на видное место в пантеоне.
Попытки найти аналог Аполлону в стране гипербореев были. И на самом деле, некоторые функции Аполлона и, скажем, Сварога или Даждьбога совпадали. Но совпадения эти носили общий характер, на их основании нельзя было сделать определенных выводов, тем более что и лингвистически имена богов довольно-таки далеки друг от друга. Объективности ради следует сразу заметить, что многочисленные попытки объяснить сходство культов Греции и Центральной и Восточной Европы делались всегда в одном направлении, по которому аполлоновские мифы распространяются из античного мира на север. Сказывался огромный «авторитет» греческой мифологии, греческой культуры в целом. И неизбежно эти попытки заводили исследователей в тупик. Позднее влияние (в VII–III веках до н. э. и позже) аполлоновских мифов на северных соседей несомненно было, исключать его никак нельзя. Но для середины II тысячелетия до н. э. говорить о нем не приходится. Кстати, и в расшифрованных крито-микенских надписях Аполлона нет. Божество, послужившее прообразом Аполлона, пока еще не перекочевало на юг, а если оно и появилось в Средиземноморье, то не успело упрочиться там. И для того, чтобы очередной раз не оказаться перед неразрешимой загадкой, наверное, следует идти по пути распространения культа Ладо-Лето.
Первоначальные, коренные функции Аполлона дают нам интересный ход рассуждений. Аполлон – бог, связанный с небом и солнцем, стрелы его – жаркие лучи, которыми он губит посевы, одновременно он пастух и земледелец, которому приносят в жертву первые ростки различных растений. Так почему бы его не попробовать сравнить на славянской почве с тем, с кем связана идея неба, солнца, небесного владыки, ритуальных костров в день летнего солнцестояния, плодородия, олицетворением которого он является, – со славянским Купалой? Может быть, напрасно мы принимаем его за простую куклу, которую «хоронят» каждый год? Сварог и Даждьбог – божества более позднего периода. Корни Купалы нам пока неясны. Лишь прочность традиций, археологические находки древнейших культовых кострищ, связь с землей и пастушеством позволяют судить о его глубокой архаичности. Вспомним, мать Аполлона – Лето, сестра
Артемида. Но и Купале Лада приходится матерью, ведь она мать-роженица всего сущего, в том числе и богов, а следовательно, Леля его сестра. На окраинах скифских поселений археологами найдены остатки огромных кострищ со следами жертвоприношений и вырезанными из земли фигурами лебедей. Прыжки через костер характерны для купальских праздников, они же отличают обрядность италиков, с которыми мирно прижились энеты Энея (не их ли это занесенные обряды?). Дары гипербореев всегда завернуты в пшеничную солому из соломы и чучело Купалы. Гипербореи, по Б. А. Рыбакову, земледельцы. У праславян засвидельствовано сжигание двух кукол – мужчины и женщины, вместе с тем в кострищах найдены человеческие кости. Вспомним, что во время июньских таргелий, посвященных Аполлону, «приносились человеческие жертвы: мужчину и женщину, увешав гирляндами, гнали вокруг города, а потом сжигали» (разрядка моя. – Ю. П.). «Возможно, что этнографическая кукла, пишет Б. А. Рыбаков, – отголосок исторических человеческих жертвоприношений. Об этом свидетельствуют песни, сопровождающие похороны Купалы». Как известно, Аполлон каждый год отправляется на север в колеснице, влекомой лебедями. Это его ритуальные животные, они неразрывно связаны с водой, необходимейшей частью купальских празднеств, где вступают в противодействие огонь и вода. По Евсевию, Аполлон – «бессмертный огонь». Таким огнем у славян назывался ритуальный огонь, добываемый трением специально для культовых празднеств. К тому же Аполлон был рожден посреди воды – по злому умыслу Геры земля не должна была его принять. Интересен мотив лебедей. Теперь самое время вернуться к союзнику Энея, вождю венетов Купавону. Эта фигура также далеко не случайна. Не случайно через его земли поступают на юг дары гипербореев. Вергилий изображает Купавона в шлеме с лебедиными перьями. Его отец Кикн не что иное, как Лебедь, в которого он превращен. Здесь можно вспомнить древнеславянский женский головной убор «кику», глагол «кикать» – кричать по-птичьи, и греческое «кикнос» – лебедь. Но Купавон не просто вождь местного племени. Оказывается, на севере Исалии долгое время сохраняется культ божества Купавона, сходный со славянским культом Купалы. Наводит на размышления и близкое к славянскому обозначение воды – «вада». Спутник Аполлона волк, да и сам он носит эпитет «ликийский», т. е. волчий, он выступает как повелитель волков, а то и оборотень, превращающийся в волка. Мы хорошо знаем, что волк-оборотень один из основных персонажей славянской мифологии, доживший в сказках до наших дней. А в вышеупомянутых кострищах часто находили кости, напоминающие собачьи или волчьи. Аполлон покровитель поэтов и музыкантов. По запискам Аристотеля и других авторов известно, что «„варвары“ слагали свои законы в виде песен», чтобы они не забывались, передавались из поколения в поколение – ведь письменность им была неизвестна. Речь шла не только о «законах», но и о исторических племенных преданиях, обрядовых культовых песнопениях, эпических произведениях. Более поздние из них, былины, читавшиеся нараспев, знакомы и нам. Бог таких «варваров» естественно казался древним грекам покровителем народных певцов, боянов, а затем трансформировался в покровителей поэтов и музыкантов вообще. Сходны и светоносные функции Аполлона и Купалы, определяемые двойственной природой поклонения солнцу. Оба они являются божествами солнца и света, и вместе с тем не олицетворяют небесного светила – для этого есть соответственно: Гелиос и Хорс. Тема солнца полностью пронизывает купальские обряды, вплоть до огненного колеса, которое спускают под откос в реку. Для Купалы характерны темы целебных трав, скота, угадывания и розыска кладов, змей, «близнечного мифа» (брат и сестра близнецы, Иван-да-Марья и пр.). Аполлон – целитель, пастух, гадатель, змееборец (он убивает чудовищного Пифона), и наконец, он брат-близнец Артемиды. Причем именно позднее проникновение в Средиземноморье устраняет из аполлоно-артемидовского мифа мотив инцеста. Зато они оба, Аполлон и Артемида, «стреловержцы» и «луконосцы», что заставляет вспомнить и про малоазийские племена, соперников ахейцев, и про «варваров»-северян вообще – в сознании греков (да и на самом деле) они, «варвары», с древнейших времен и до поздних скифов, искусные лучники. Заслуживает внимание обязательное участие и важная роль, как в купальских обрядах, так и аполлоновых торжествах, девушек – гиперборейки специально прибывают на Делос издалека, а на Купалу костер разжигают девушки и ходят потом по полю с факелами в руках (обряд сохранился вплоть до XX века). Кстати, в купальских песнях не только жертвенное чучело, но и сам костер называют «купалой», что говорит о неоднозначности и глубине этого образа. Чучело может называться как угодно, в частности, Морена (от «мара» – «смерть»). И если внимательно рассмотреть всю обрядовую сложность купальского празднества, то без всякого сомнения можно сказать, что сравнивать Купалу как такового и соломенную куклу можно только как целое и частное, как божество и приносимую ему жертву.
Вернемся еще раз к Купавону италийских венетов. Культ поклонения Купавону географически лежит между ареалами поклонения Купале и Аполлону, к тому же это середина и связующая область на пути гиперборейских даров. А если прислушаться к звучанию, то можно заметить, что на слух Купавон нечто среднее между Купалой и Аполлоном, которые сами по себе кажутся не очень-то схожими. Но лишь на первый взгляд между ними нет лингвистического единства. Распространенное «Аполлон» попало в Россию через Францию, а потому приобрело свойственное французскому языку ударение на последнем слоге. В греческом же языке «Аполлон» (Апóллон) имеет ударение на втором слоге, как и в английском – вспомним: «Союз – Аполло». Сопоставление с английским вариантом звучания слова подтверждает мысль о нетвердости «н» на конце. Тем более что славянское носовое «он», «ан» при развитии языка постепенно пропадало – отсюда Купала-Купало. Но во время переноса имени на греческую почву оно («он», «ан») было и потому сохранилось в греческом варианте. Зафиксированное лингвистами превращение дифтонгов «оу», «ау» в «у» и другие гласные, постоянный переход «а» в «о» и наоборот позволяют нам приблизительно реконструировать праславянское звучание имени Купала, как Коуполо(н) – Кауполо(н), с носовым «н» (читается примерно так: Кополо-Каполо-Куполо). Удвоение – это свойство сонанты «л» («л» – «лл»). Утрата первой согласной характерна не только для греческого языка – например, «Италия» первоначально звучало как «Виталия» – Vitalia. В греческом же языке такие утраты типичны, и не только для одной согласной, но и для двух. Характерно и начальное «А», особенно для «занесенных» богов и героев, имеющих негреческое происхождение (Афродита, Арес, Артемида, Афина, Адонис и др.). Особо следует учесть тот факт, что имя нового божества воспринималось на новой почве не по смыслу (например, Гея – «земля»), а как имя собственное, пришедшее уже готовым и не требующим осмысления – поэтому оно и не этимологизируется из греческого языка, поэтому оно и подвержено искажениям. А вот сыновья Аполлона, родившиеся на местной почве, вполне объяснимы: Аристей – «наилучший», Кикн – «лебедь» и т. д. Из вышеизложенного становится объяснимой трансформация праславянского «Кополо(н)» – в русский как «Купала»; в древнегреческий, а затем греческий как «Аполлон».
В славянском «Купала» заключен более ранний, индоевропейский корень «kup-» со значением «кипеть», «вскипать», «страстно желать». Этот корень прослеживается и в латинском «cupido»: «вожделение». Такая этимология соответствует как Купале с его брачными обрядами, так и архаичному Аполлону, далекому от сдержанности и воздержания. Аполлон вечно молод, молод и Купала вместе со своими поклонниками, приходящими на купальские игрища не в качестве зрителей, а участников, – оба божества юных. Мотив умирания и воскрешения Купалы, как символа плодородия, воплощен и в олитературенном мифе об Аполлоне, который спускается в Аид (умирает), а затем возвращается обратно (воскресает). Б. А. Рыбаков называет Аполлона «сезонным богом», связывая основу мифа с идеей зимнего перерыва в развитии семян и растений, а затем их расцвета весной.
В том, что Купала не только исторически, но и этимологически старше Аполлона, нет ничего странного. В лингвистике есть версия (не менее обоснованная, чем остальные), по которой славяне, как прямые наследники древних индоевропейцев (прародина славян совпадает с областью формирования индоевропейской общности), сохраняют больше архаических черт, и их отрыв от праязыка не носит такого характера, какой бывает при дальних переселениях, ведущих к изоляции от прародины. Но язык не отделим от народа-носителя, а потому архаичные представления о внешнем мире и архаичные божества в памяти славян сохранились, если можно так выразиться, в более первозданном виде. Пример тому Кополо-Купала.
Дороги богов
Так откуда все-таки пришел Аполлон в Грецию – с севера или с востока? Для того, чтобы прояснить этот вопрос необходимо перейти от богов к людям, к народам, пронесшим своих кумиров через пространство и время. Для начала отправимся в Северное Причерноморье середины II тысячелетия до н. э., не забывая о том, что ираноязычных племен в тех краях, по всей видимости, еще не было. Они пришли позже, вслед за другим народом, и потому называли себя по отношению к нему «пара» – «младшие». По свидетельству Страбона, оба побережья Черного моря, и Северное и Южное, были тесно связаны между собой напрямую через море еще со времен позднебронзового века. Не были закрыты для контактов и торговли другие пути: морские вдоль побережий и сухопутные в обход моря с обеих сторон – западной и восточной. Для Ахилла не составило труда сменить родину на «далекую» Фессалию, основательно прижиться там, а позже возвращаться в свои края. Напомним заодно, что малоазийские венеты жили не только в Троаде, их география довольно-таки широка, скажем, Антенор со своим войском пришел из Пафлагонии, области, расположенной на южном берегу Черного моря непосредственно напротив Таврии (нынешнего Крыма). Стоит ли удивляться наличию Лады в Малой Азии, если культ коня, свойственный малоазийским венетам, присутствует в более отдаленных местах – у венедов Прибалтики и славян по всему ареалу их расселения.
Неслучайно наш поиск начался с Трои, с Малой Азии. Общность культур протославян и малоазийцев прослеживается еще с энеолита, и позже она не пропадает, не заглушается ни временем, ни контактами с иными этническими группами. Погребение Гектора, описанное в «Илиаде», тризна, погребальный костер и все сопровождающее это действо не могут не привести на память славянские погребальные обряды, сохранявшиеся до X–XII веков н. э. и имевшие почти трехтысячелетнюю историю, т. е. уходившие в середину II тысячелетия до н. э. Они более, чем похожи, они совпадают до мелочей, как, например, курган Патрокла (товарища Ахилла, тоже «тавроскифа») и черниговский курган X века н. э. «Черная Могила» или описание погребения русса у Ибн-Фадлана. В X веке н. э. мы встречаем в войске Святослава под Доростолом то же трупосожжение с жертвами и возлиянием вина. Причем Лев Диакон Калойский, описавший события русско-византийской войны, так и говорит, что приняли они, руссы, эти «эллинские таинства»[5] от товарищей Ахилла.
Мы уже останавливались на присутствии в Северном Причерноморье сколотов. Этноним этот дожил до середины V века до н. э., когда его засвидетельствовал Геродот. Но история сколотов значительно древнее – вспомним про воинственные племена, упоминаемые Х. Коте. И если праславянские племена Подунавья шли на Балканский полуостров с севера, то их сородичи, обитавшие восточнее, продвигались в Малую Азию в том же направлении, с севера на юг, используя все вышеназванные пути или один из них, наиболее удобный. В принадлежности сколотов к праславянам сомневаться не приходится, это убедительно доказал академик Б. А. Рыбаков. Присутствие предков в Северном Причерноморье и Таврии глубоко залегло в народной памяти славян – именно там располагался так называемый «ирий», загробный мир более поздней славянской мифологии, «„райская земля“, лучше которой ничего на свете нет». А ведь именно в такой форме сохраняется память о прародине у народов, выходящих из последней стадии доклассового общества.
На юг с одной обширной прародины вели два пути, а значит существовало два основных направления проникновения в Средиземноморье славянских народов, а с ними и культов славянских богов. При таком объяснении проблемы – откуда пришли в Грецию чуждые боги, с севера или с востока, из Подунавья или из Малой Азии – становится ясно: с обеих сторон и примерно в одно время – в середине II тысячелетия до н. э. Однако не следует понимать, наверное, этот процесс как великое переселение народов. Значительно большая, основная масса праславянства оставалась на прародине. Но наиболее подвижная, молодая, раннедружинная прослойка устремлялась в оживленные и богатые приморские области. Процесс характерный для всех индоевропейских народов того времени, и исключать из него представителей праславян, одного из крупнейших этнических массивов древней Европы, нет оснований, тем более что и археологические данные позволяют нам судить об этом. Современные исследователи показали, что на долгом, многотысячелетнем пути славянства были и взлеты и падения, и раннегосударственные образования задолго до Киевской Руси. Лингвисты также вычленяют тот период, как историческую эпоху со значительными сдвигами в экономике и социальной структуре племен (выделение воинов и вождей). Славянские термины, связанные со скотоводством, в частности, для той эпохи распространены «от Адриатики до Архангельска».
Итак, по всей видимости, носителями культа божества (Кополо), сохранившего в себе основные черты покровителя пастухов и земледельцев, была племенная молодежь.[6] Отметим сразу, Б. А. Рыбаков считает, «что исходная точка многообразного облика Аполлона связана со скотоводческой пастушеской средой». Молодые воины-пастухи двигались на юг, вовлекая в это движение другие народы, точнее, соответствующую им часть этих народов (возможно, они сами в качестве субстрата были вовлечены в это движение). Правильнее было бы говорить не об едином, одновременном переселении, а о целом ряде малых вторжений на протяжении веков. Вовлеченные в процесс «культурной интеграции» и оседая на новых землях, пришельцы частично ассимилировали местное население, подвергались сами ассимиляции, привнося при этом элементы своей культуры.
Что же двигало переселенцами? И почему они отрывались от своего народа, от «своей земли» и устремлялись в далекие края? У них не было как таковой своей земли, а сама жизнь мыслилась бесконечным, медленным движением. В середине II тысячелетия до н. э. закончилось расселение по Европе кочевых пастушеских племен, в том числе и праславянских. Земли Подунавья, бассейны Одера, Вислы, Днепра, а также Северное Причерноморье были ими прочно заняты, включая и промежуточные территории. Благодаря длительным контактам древних индоевропейцев, еще не успевших резко обособиться друг от друга[7], земли к югу не были неведомыми краями (вспомним о направлении балканских экспансий), и они всегда представлялись привлекательными, происходившее на фоне возрастающего материального благополучия как результата оседлости, заставляло отправлять часть молодежи «на новые места жительства». Безусловно, действовал и фактор, определяемый для более поздних времен термином «казачество». Не исключено, что в пограничных районах происходило слияние с иными этническими группами, например, фракийцами или венедами. Последние или сами являлись частью славянского мира или были в значительной мере ославяненными кельтами[8]. Некоторые ученые считают, что уже на самых ранних этапах своего развития праславяне были смешанным народом, чем объясняется в дальнейшем их отличительная черта – способность к ассимиляции и ассимилированию.
Единство праславянского населения на огромной территории подтверждается как ареалом распространения археологической культуры «шнуровой керамики» (она же культура «боевых топоров») и культуры «курганных погребений», связанной с культурой тшинецко-комаровской XV–XIII веков до н. э., так и более поздних пшеворской и зарубинецкой. Заслуживает внимание, что, скорее всего, даже на юге между сколотами и праславянами Подунавья ни территориального, ни этнического разрыва не было. В промежутке между ними лежали земли «таинственных» агафирсов. Но настолько ли они таинственны? Попробуем разобраться с ними, как с частным случаем «культурной интеграции». Геродот доносит до нас греческую версию легенды, по которой Геракл, в поисках потерянных им быков Гериона, прибывает в скифские земли, где встречается с женщиной-змеей. От нее у Геракла рождаются трое сыновей: Агафирс, Гелон и Скиф. Исходя из легенды, в родстве этой троицы сомневаться не приходится. В этнической принадлежности гелонов и скифов того времени тоже сомнений нет – это праславяне с возможными включениями и иных этносов. Скифы-кочевники, ираноязычные, появятся в здешних местах значительно позднее. Нет сомнений и в сколотской версии легенды: суть прежняя, хотя братья и носят другие имена – племена их родственны. Приглядимся к агафирсам внимательнее. Геродот пишет об общности жен у них, обычае наносить на тело татуировку и красить волосы в синий цвет. Последнее возможно только в том случае, если агафирсы светловолосы. Стоит вспомнить Юлия Цезаря, упоминавшего бриттов, у которых также был обычай краситься в синий цвет. Еще в прошлом веке А. К. Толстой обратил внимание на то, что в Британию заодно с Генгистой и Горсой попал славянский Чернобог. Как мы знаем, боги сами не ходили. Толстой призывал «отказаться от формального понимания истоков русской культуры и мироощущения и обратиться к глубинной истории индоевропейских народов». Но вернемся к агафирсам. По Геродоту, татуировка и ее густота, плотность рисунка на теле, говорили о знатности и социальном положении. В описании руссов Ибн-Фадланом, в котором много сходного с геродотовскими заметками по части обычаев, есть такое: «И от края ногтей иного из русов до шеи имеется собрание деревьев, изображений и тому подобного». Речь, конечно же, о татуировках. Где мы можем встретить агафирсов еще? Оказывается, на Делосе, у алтаря Аполлона. «И с шумом алтарь окружают толпы дриопов, критян и раскрашенных агафирсов», – свидетельствует Вергилий в «Энеиде». Агафирсы не только участвуют в обрядовых празднествах, посвященных «пришельцу с севера», но делают это совместно с нашим старым знакомым, Энеем. Попытки привязать этнически агафирсов к фракийским племенам до сих пор успеха не принесли. К тому же, у фракийцев не было культа, сходного с аполлоновским. Возможно, агафирсы и были чем-то близки этнически фракийцам, возможно и нет.[9] Однако контакты с Фракией безусловно были, достаточно вспомнить фракийского царя Реза с его войском, защищавшим Трою, и то, что многие переселенцы из Малой Азии перебирались в новые места на фракийских кораблях, когда те возвращались на родину. Вместе с тем фракийцы были достаточно хорошо знакомы грекам, чтобы те их не путали с гипербореями и прочими народами. Мы не ставим перед собой задачи вычленения из праславянской массы отдельных субстратов, имевших на определенном этапе свой путь развития. Важно то, что селением прародины славян, впитывали в себя элементы культуры (закономерно шел и обратный процесс) и в дальнейшем уже являлись распространителями этих элементов наряду с самими праславянами. Прокопий Кесарийский в своей «Войне с готами», например, писал, что анты и славяне были когда-то одним народом и что в древности славян называли спорами («рассеянными»). Он приводит свою трактовку такого названия. Но вероятнее будет предположить, что «рассеяны они не потому, что живут отдельными поселками» (так же жили и другие народы – «рассеянными поселками ли, городами» – одно и то же), а потому, что они рассеяны по земле, по другим странам, что могло происходить в результате постоянного проникновения праславян в другие этносы, разноэтнические образования. Вся трудность розыска представителей праславянства заключается в том, что оно было бесписьменным, а потому не сохранило собственных этнонимов. В историю же народов, обладавших письменностью, праславяне входили, как и другие общности и их части, под различными, часто меняющимися названиями. Вторая главная причина заключается в том, что праславянам было свойственно трупосожжение на протяжении двух с половиной тысячелетий – это существенно затрудняет работу антропологов. И тем не менее, история протославян-праславян-славян с каждым десятилетием развития науки не только отодвигается все дальше в глубь времен, но и расширяется географически.
Таким образом, и этническая цепочка: энеты – венеты – праславяне Подунавья – венеды – сколоты, и географическая: Малая Азия – Эгеида – Балканский полуостров – Северная Италия – побережье Балтики – Поднепровье – Северное Причерноморье, замыкаются. В центре замкнутой цепи на огромных пространствах раскинулась древняя прародина славян с культом Лады-Лели-Кополо, глубоко архаичным по своему характеру. В восточной, южной и западной пограничных зонах этой области почитаются более «современные» Лето-Артемида-Аполлон. Чем же объясняется разница между божествами и их культами, если они имеют общие корни? По Б. А. Рыбакову – «расщеплением единства, благодаря вовлечению в разные сферы влияния» и, прежде всего, уже упомянутым расслоением самих праславян. Для тех, кто остался на прародине, Кополо по-прежнему мирный бог, отвечающий за плодородие, скот, благосостояние и солнечный свет. Переселенцы же вкладывают в старое божество и новые качества. По Ж. Дюмезилю[10], всех основных богов индоевропейского пантеона можно разбить на три группы, соответствующие основным их носителям внутри племени: первая – боги магии, культа и закона, вторая – боги насилия и физической силы (войны), третья – боги плодородия, материальных благ и здоровья. На практике, как показали исследования, все обстояло гораздо сложнее. И часто «бог-труженик» превращался по-совместительству и в «бога-воина» – боги теряли свои функции, приобретали новые или же совмещали и те, и другие. Видимо, так случилось и с Кополо – знаменем переселенцев. Для них самих он оставался добрым богом, заботящимся о благосостоянии и здоровье, и одновременно он же как «бог-воин» вел их в походах. Для племен же, подвергшихся экспансии с севера, Кополо был тем самым «губителем», каким запомнился «микенским грекам». Но прошли сотни лет – и в сознании потомков аборигенов и поселенцев действует уже нечто обобщенное: Аполло, который сразу и губитель, и целитель, и свой, и чужак. Память спластовалась, выковала странный, необъяснимый с точки зрения эволюции на местной почве образ. Усиливается этот образ тем, что идет в Эгеиду и с востока, из Малой Азии, где уже успел усвоиться, как освоились там и переселенцы-сколоты-тавроскифы, влившиеся в родственные индоевропейские малоазиатские племена. Отдельные «кополо», пришедшие с территории прародины разными путями, сливаются в Средиземноморье в единого, многофункционального бога, который проходит в течение веков основательную творческую обработку на местной почве, в условиях расцвета мифотворчества и культуры в целом, и становится знакомым нам Аполлоном. Еще до этого он вместе с Энеем прибывает в Северную Италию, где он вовсе не чужак, но и не совсем свой, проходит тысячелетие, он поднимается вверх по ступенькам, и наконец, занимает одно из ведущих мест в пантеоне богов могущественной Римской империи.
У себя на родине Кополо не делает такой блестящей его «половину» унесла молодежь племени. На родину доходят слухи о победах племенной молодежи, племенного бога – отсюда и «дары гипербореев» – знак почитания кумира, отличившегося в чужих землях, ушедшего с сыновьями, внуками, правнуками… Только и сам кумир становится достаточно чужим – ведь он ушел, а «уход» богов воспринимался вполне реально и конкретно. Прообраз ушедшего, Копало, каким был на прародине, таким и остался, ему не приписывают далеких побед, потому что он всегда был рядом и продолжал выполнять свои функции. Со временем его будут вытеснять другие, более могущественные боги, и он займет второстепенное место, а еще позже он сольется в понимании людей с ритуальным костром, с самим празднеством и той жертвой, что ему приносили в день летнего солнцестояния, – и превратится в соломенную куклу, сжигаемую на костре.
Феб, не стригущий власов… Аполлон сребролукий. Быстро с Олимпа вершин устремился, пышущий гневом, Лук за плечами неся и колчан, отовсюду закрытый; Громко крылатые стрелы, биясь за плечами, звучали. В шествии гневного бога: он шествовал ночи подобный.
У читателя может сложиться мнение, что все изложенное является каким-то всплеском фантазии с искусственно притянутыми фактами, что между Купалой и Аполлоном не может быть ничего общего. Но подобная точка зрения и закономерна – она есть результат многолетней односторонней обработки читателя, зрителя, слушателя, не знакомого с трудами выдающихся русских ученых, начиная, пожалуй, от Ломоносова. Разумеется, и в его времена бытовали определенные стереотипы, мешавшие исследователям, ведь сама петровская и послепетровская эпоха, ознаменовавшаяся искусственной германизацией как науки, так и всей жизни, заставляла рассматривать российскую и славянскую историю чужими глазами, порою просто близорукими, а порою и предвзято прищуренными. И тем не менее ученые тех и последующих лет не впадали в догматизм, свойственный ответственным научным работникам 20-80-х годов нашего столетия. Во всяком случае, шли дискуссии, и наблюдатель-читатель мог, как и вся научная общественность, взвесить доводы одной, другой, третьей и т. д. сторон. Обязательного для советской исторической школы противоборства двух и только двух противоположных направлений не было. Да и, наверное, общественности XIX века показалось бы и странным, если бы ей начали усиленно навязывать именно дуалистический антагонизм.
А ложные представления, сидящие в нашем сознании, – ох как сильны! Взгляд со стороны, ставший в 20-80-х годах нашим единственным взглядом, начал прививаться задолго до того. И не без помощи, как это ни покажется нам странным, античных и ранне-средневековых историков.
Мы зачастую называем довольно-таки обобщенно жителей многих частей света: африканцами, австралийцами, азиатами и так до бесконечности. Но ведь там проживают самые различные народы, иногда имеющие больше различий между собой, чем общего.
Примерно так же античные авторы делили европейских «варваров» на две категории: германцев и скифов, не выделяя составные части, а если и выделяя, как Геродот, то лишь со слов, по рассказам самих «варваров», а точнее, какой-либо одной части «варваров».
Византийские авторы, как прямые продолжатели своих античных предшественников, повторяли вслед за теми: германцы, скифы… Славян, как непосредственно славян, они воспринимали, когда те контактировали с самими византийцами, и как часть населения, входившего в империю. Но стоило их взгляду преодолеть границы империи и пограничные области – и снова сплошь и рядом появлялись безликие «скифы» и «германцы».
Единственной, пожалуй, попыткой разобраться со славянами извне было сочинение византийского императора Константина VII Багрянородного (Порфирогенета) «Об управлении империей», составленное в 948–952 годах и впервые изданное за годы советской власти в 1989 г. Славянам Константин посвятил небольшую главку, написанную им по рассказам русских торговых людей. Из этого труда явно следует, что для историков Византии и в целом для ее авторов славяне севера оставались загадкой, «скифами». Очень характерно воззрения современников выражает, например, такой византийский автор как Лев Диакон, с «Историей» которого, написанной во второй половине X века, мы опять-таки сумели познакомиться лишь в 1988 г. благодаря издательству «Наука». По представлению Диакона – древляне являлись германским племенем, то есть были «германцами». Очень типично. И в комментариях не нуждается!
Мы не будем вдаваться в детали того, как складывался «взгляд извне», – это сложнейшая проблема, заслуживающая отдельного исследования. Скажем лишь, что прививался он из века в век. Мы и сами не заметили, как стали называть, например, Российское государство XVI–XVII веков Московией, а его жителей московитами. Почему?! Ведь наши предки того времени не называли себя так. Но мы почему-то позаимствовали обобщенное название у заезжих иностранцев, которые для себя, разумеется, имели право придерживаться каких-то своих названий и определений. Зачем?! Причины были. В какой-то мере и субъективные и объективные. И этот взгляд со стороны, «взгляд извне», оценка глазами как коммивояжеров и наемных ландскнехтов, так и вполне добросовестных западных ученых и путешественников по России восторжествовал. Мы начали смотреть на историю страны с «того берега», забывая о том, что берег может быть и крут, и высок, и хорош, но все же он несколько удален, нужна подзорная труба – но и в нее ведь не все углядишь.
Тяжело избавляться от ложных представлений. Но нам никуда не деться от этого. Идеальным вариантом было бы совмещение всех «взглядов», оценок со всех сторон, в том числе и изнутри. Честно признаемся, нашей да и мировой науке пока еще далеко до идеала.
И раз уж мы коснулись проблемы «скифов», то вернемся к легенде о трех царских братьях – как мы помним, в греческом варианте это были сыновья Геракла. Теперь же на очереди скифский вариант.
О полиэтничности «скифов» мы говорили ранее, ссылаясь на академика Б. А. Рыбакова. И все же горы литературы как научной, так и художественной уверяют читателя, что все скифы были иранского происхождения. Избавиться от подобного заблуждения не так-то просто. Рассмотрим саму легенду. У царя Таргитая было три сына: Липоксай, Арпоксай и младший Колаксай. Сам Таргитай был первочеловеком, рожденным от верховного божества (в передаче Геродота это Зевс, но, разумеется, у «скифов» было свое название божества) и дочери Борисфена – Днепра. Во времена правления сыновей с небес упали на землю золотые предметы: плуг с ярмом, секира и чаша. Двум старшим братьям не удалось овладеть дарами, потому что при попытках приблизиться к ним, братья испытывали жар – словно золото раскалялось и горело. Все взял себе младший брат Колоксай. В результате земли скифов были поделены на три царства. И главное царство – золотое, принадлежало счастливчику Колоксаю. От него пошли все скифские цари.
В русском, и шире, славянском фольклоре излюбленный мотив – это соревнование трех братьев. Выигрывает всегда тоже младший. К числу наиболее популярных сказок принадлежат сказки о трех царствах. Они разные в разных вариантах, в разных местностях. Наиболее часто встречаются такие их определения: «Царство медное, царство серебряное и царство золотое». «Золотое царство» достается всегда младшему.
На схожесть славяно-скифских мотивов внимание обратили очень давно. Но, исходя из бытующего и по сию пору мнения, что скифы-иранцы «бесспорно старше славян», выводы делались однозначные: славяне позаимствовали мотивы и детали сказок у иранского происхождения скифов-кочевников или, в крайнем случае, у потомков иранских скифов – аланов, предков осетин. При этом обращалось внимание на странные факты типа такого: почему вдруг в сказаниях и легендах кочевников, не державших в руках плуга и вовсе не собиравшихся переходить от скотоводства к земледелию, с небес вдруг падает плуг с ярмом? Исследователи замечали это несоответствие, но старались закрывать на него глаза: мало ли чего, дескать, не бывает! Но представим себе на минуту ситуацию сходного типа: земледельческая среда, скажем, славянская, множество сказаний, преданий и тому подобного, а самое главное предание о первочеловеке, основателе выглядит следующим образом – «и упали на землю младшему сыну золотая пирога и золотая острога…» Вероятно? Не очень! Так же и с кочевниками. Ни одному из кочевых сказителей не пришло бы и в голову одарить соплеменников «небесным плугом», пусть даже и золотым.
Что же касается передачи славянам мотивов иранских сказок, доказательствами мы не обладаем. С одинаковой уверенностью можно пока говорить и о таком процессе, и о процессе обратном, как и о процессе развития схожих побегов, имевших один ствол-корень.
Но не это главное. Упоминавшемуся уже нами Х. Коте удалось установить, что имена братьев: Липо-, Арпо-, Коло- не являются иранскими, но принадлежат древнейшему земледельческому населению, проживавшему в областях Днепра задолго до прихода туда ираноязычных скифов. Лишь завершение, искусственно добавлявшееся к именам, – ксай, то есть «царь», «вождь» – имело возможно скифо-иранское происхождение. Но эта прибавка дела не меняет, так же, как не меняло дела, скажем, приставленное к венценосцам России, Австро-Венгрии, Германии, Франции латинское «император».
От Колоксая пошли все племена сколотов. Само имя практически и не требует для нас перевода – это и «круг», и «колесо», и «солнце». Колоксай – солнечный царь или царь-солнце. Он и рождается при заре, связан с восходом солнца. Заманчиво было бы провести тут параллель с имеющими отношение к солнцу и свету Кополой и Аполлоном. Но, как мы подчеркивали, последние непосредственно солнца не олицетворяют, у них свои функции. А вот в Ипатьевской летописи в записи, датируемой 1114 годом, говорится о «цесаре-солнце, сыне Сварогове, еже есть Даждьбог». Можно вспомнить и «Слово о полку Игореве», там русские князья именуются потомками Даждьбога, то есть прямыми наследниками «царя-солнца».
Продолжим изыскания и присмотримся, где еще мог оставить следы наш герой Кополо-Аполло. И к слову, сразу же отметим, что наивно-простецкая этимология, проникшая во многие справочники, учебники да и околонаучные издания, нас занимать не будет. Ибо еще можно как-то предположить, что у слов «купаться» и «купала» могли быть в пяти-шеститысячелетней глуби общие корни, но выводить «Купалу» из глагола «купаться» и наивно, и глупо. Потому, что стоит только пойти по ложному пути, как мы тут же окружим себя сонмом словечек-выродков, сочиненных нами самими: «купать – Купала, летать – Летала, сочинять – Сочиняла, спать – Спала, воровать – Воровала, таскать – Таскала». И единственным, пожалуй, по отношению к подобным этимологам, жизненным словопорождением будет следующее: «охмурять – Охмуряла»!
Мы же будем исходить не из схожести звучаний, а из более основательных положений. Где еще можно найти родственников Кополы?
В греческой, римской, славянской мифологиях мы немножко сориентировались. В германо-скандинавской вот так сразу двойника обнаружить не удается – то ли сам образ божества загас, был утрачен при переселениях, то ли он как-то сильно видоизменился и мы не можем его опознать. В чем причина, трудно сказать. Может, и в том, что большая часть мифологических образов и сюжетов стали известны исследователям не от самих германцев, плохо сохранивших предания, а от окружающих их народов. Гадать не будем. Но и упускать из виду тоже, ведь иногда искомое лежит совсем рядом, и оно вовсе не виновато, что мы бродим вокруг да около с завязанными глазами.
Мифология кельтская? С налету также не разберешься. Но кое-что выявить удается. Вспомним о связи Кополо-Купалы с волком и собакой, о «волчьих» функциях Аполлона. О способностях всевозможных волкодлаков-оборотней. Постоянно рядом с божествами юных охотников-скотоводов, при случае исполняющих и воинские обязанности, присутствуют эти волко-собаки. Даже когда скотоводы (еще раз подчеркиваю – не кочевники поздних времен, а именно индоевропейцы и их всевозможные потомки в моменты расселения. – Ю. П.) оседали на земле, превращаясь уже по большей части в земледельцев, этот образ волко-собаки играл в их сознании огромную роль. Охранитель, бесстрашный, яростный воин? Наверное, да. Мы знаем традиционные маски с волчьими мордами и зубами. Не в этом ли и разгадка оборотничества? Не в ритуале ли превращения путем переодевания на какое-то время в волко-собаку? Например, перед боем, перед охотой, чтобы разъярить себя, поднять боевой дух? Во всяком случае, мы знаем, что племенная молодежь охотно сравнивала себя с волками и собаками, пыталась подражать этим хищникам. И в этом была очень схожа на больших пространствах, заселенных как славянами, так и германцами, кельтами, древними греками и прочими.
Вожди и цари не гнушались носить имен «повелителей собак» или «хозяев молодых собак». Подразумевалось, конечно, что «собаки» – это и есть их смелые воины, бесстрашная племенная молодежь. Такие эпитеты носили и короли вандалов, и германо-скандинавские конунги, и… по мнению Х. Коте, тот самый Колоксай, родоначальник сколотов, в чьих землях обнаружены археологами в ритуальных кострищах волчьи и собачьи кости. Он тоже был «повелителем молодых собак», воинов-оборотней.
Мы видим, что все это не случайное совпадение. Не случаен даже такой, казалось бы, простенький факт, что медное, серебряное и золотое царство охраняют собаки, чудовищные псы, – по логике вещей именно так и должно оно быть. Ну, а кто же еще должен охранять золотые дары, полученные «царем-солнцем», как не его верные «молодые собаки», псы-оборотни?!
Наш Кополо, как и его внучек Аполло, одновременно – и псы и повелители псов. А у кельтов мы встречаемся с неким Ку Холином, то есть «псом Холина». Он исполняет при своем хозяине функции именно такого «пса-воина», «пса-охранника». Негусто? Но, пока – то, что есть. Откуда попал в мифологию кельтов этот герой, чье имя в подавляющем большинстве случаев пишется вместе, то есть как бы теряя смысловое значение: Кухолин или Кухулин.
Глубинным и самостоятельным этот герой быть не может, маловероятно. Во-первых, он приходит со стороны, как бы внедряется в мифы кельтов. Во-вторых, чисто кельтского прообраза у него нет, как нет и такого прообраза, вынесенного самими кельтами из времен общеиндоевропейского единства. В чем же дело?
Можно предположить, что теоним проник к кельтам из исходного места в ту пору, пока еще существовало носовое «н». Вспомним, Кополо(н) – Аполлон. В этот ряд можно было бы поставить и подогнанное кельтами под привычное и понимаемое словосочетание имя Кухолин. Во всяком случае, основа каждого слова, согласные, не так уж и рознятся: к-п-л-ник-х-л-н. Но это может быть пока лишь на уровне нашего предположения, не более.
Тут не столько лингвистика обращает внимание наше на сходство, сколько функциональное тождество. Кухулин – плод инцеста. Знакомый мотив, не правда ли? Он владеет магическими приемами, умеет перевоплощаться. О том, как способно преобразовываться имя, можно судить по его хозяину – Холину-Хулину-Куланну, кузнецу, которому служит «пес». Этот герой этимологически не так далек от наших старых знакомых. Да и на слух, которому, правда, не всегда доверяем, где-то совсем близко вертятся, если не в одном ряду, так неподалеку: Кополо(н) – Купавон – Аполлон – О'Куланн – Кухоланн – Кухолин.
«Пес» посещает загробный мир. Это тоже кое-что подсказывает нам. Но мало. Всего этого очень мало для более-менее сносных выводов, все слишком призрачно и абсолютно бездоказательно.
Может быть, есть еще хоть что-то, хоть какой-то признак, который если и не позволит нам провести отождествление, так хотя бы выведет на новый отрезок пути?
У кельтов есть легенды о «стране блаженных» – Аваллоне. Для греков, как мы знаем, Аполлон тоже выходец из страны особого народа, Аполлонии. Память о предках, о прародине? Аваллония кельтов – одно из наиболее архаических воспоминаний-легенд. Ирландское «абал», как и валлийское «афал», означает «яблоко». А сама страна – «яблочный остров», где обитают бессмертные, в основном, почему-то женщины. Может быть, так трансформируются воспоминания о материнском крове, материнской земле. Гадать не будем.
Мы все время скользим рядом с чем-то нужным нам, но никак не можем уцепиться хотя бы за краешек – все настолько зыбко, что рассыпается в руках. И все же мы видим, тут есть нечто.
Кельты – народ в индоевропейской семье настолько своеобычный и неповторимый, что если к ним и попадало что-то – образы, мотивы, теонимы – все менялось до полнейшей неузнаваемости, даже вынесенное из общих глубин родства у них оказывалось настолько трансформировавшимся, что и концов не отыщешь. И все же…
В «Похищении быка из Куальгне» Кухулин описывается основательно. Есть, скажем, такие строки:
Во глубине его грозных очей
Сверкают семь драгоценных камней…
Когда над колесницей боевой
Вздымает он лик искаженный свой.
Достаточно грозное, гневливое божество. Похоже на то, что описывает Гомер и приводим мы в эпитете. Грозный бог! Гневный бог!
Описание того, как Кухулин вводит себя в ярость перед сражением с четырьмя войсками Ирландии, впечатляет и превосходит гомеровское – когда Аполлон в гневе бросается на помощь избранникам.
Заметим, что воины-кельты были собирателями престижных трофеев – человеческих голов, черепов, исследователи допускают и распространенное среди них людоедство. Но главное, черепа.
Так повествует сага. Помимо всевозможных прочих украшений Кухулин носит на себе связки черепов. Что поделать, таковы были вкусы.
Совершим небольшой экскурс во времена очень отдаленные. По мнению ряда ученых, еще задолго до отпочкования индоевропейской общности от чего-то более емкого в этническом плане, от какой-то предыдущей общности, существовала ностратическая языковая семья, включавшая в себя индоевропейскую группу или ее эмбрион.
Ностратическая, то есть «наша», включала также семито-хамитскую, уральскую, алтайскую и другие семьи или группы языков – по части терминологии, как и по самой проблеме пока общего и единого мнения достичь не удалось. Иногда эта языковая совокупность называется надсемьей.
Мы не будем вдаваться в тонкости. Нам важно, что реконструировав этот праязык, лингвисты установили: понятие «череп» на нем звучало как «к'ап'А». Не правда ли, кое о чем говорящее звучание?
Имея такой «корешок», мы можем смелее щупать его побеги в индоевропейских языках. Латинский «капут» – «голова, череп». А французское «купель» – «чаша, купель»? Это тот же округлый свод, сферическая полость. Тут же и – вспомним Аполло-Кополо – удвоение сонанты, ведь во французском – «купель» пишется с двумя «л». Ну и, разумеется, «купол» – неважно какой, неба, храма или же, отраженного в жаргонах, «купола-кумпола» – человеческой головы. Мы приближаемся к глубинному значению первослова, основы многих поздних образований. Именно сфера, именно свод, заключающий в себе нечто, – пусть то мозг или мир земной. Здесь сходились представления об едином строении человека и мира.
И по всей видимости, одно из первоначальных значений теонима Кополо – было очень емкое понятие и о небесной сфере, наполненной светом, и о черепной коробке, под которой для каждого человека, включая и сказителей, мечтателей самого далекого прошлого, будто под небесным сводом, заключался целый мир. Звучит несколько идеалистично. Но человек не всегда был материалистом, да и ныне не везде им стал. Для него по-прежнему весь мир прежде всего заключается в нем самом, весь удерживается под его «куполом-сводом», ибо при отсутствии такового пропадает и все остальное – пусть только для него, не для всех. Но для него и этого достаточно.
Не вдаваясь в философию, мы можем сказать, что нащупываем постепенно искомое. Надо проверить. Где? Как? На ком? А там, где не ощущалось влияния римлян и древних греков, где маловероятно воздействие кельтов. В Индии! В одном из удаленнейших обиталищ индоевропейцев, забредших туда задолго до возникновения мощной европейской культуры и не менее мощного мифологического древа.
Проверим на древних индийцах, не касаясь их поздних потомков, основательно пообщавшихся с иными народностями. И поможет нам в этом санскрит, один из древнейших языков индоевропейской семьи.
Итак, «череп» – «капаалам». Листаем санскритско-русский словарь далее: «Капала» – «сделанный из черепа»;
«капала» – «блюдо, чаша, череп»!
Мы можем сказать прямо, что, не зная исхода, попали в самую точку: сошлись удаленные друг от друга «чаша» и «череп» – сферическая оболочка!
«капала-малин» – носящий ожерелье из черепов;
«капалин» – «носящий чашу (для подаяний)»,
«носящий черепа»!
Капалин, грозное божество завоевателей Кополон, гневный Аполлон, увешанный черепами Кухулин – случайные ли совпадения? Можно было бы сказать – да, всякое бывает. Но вероятность подобных совпадений для периода в шесть-семь тысячелетий на пространствах, больших лишь для человека и несших на себе – если брать период с V тысячелетия до н. э. по I тысячелетие н. э. – всего-навсего несколько миллионов человек, по всей видимости, исключается. Сомневающийся может сходить на Купальский праздник, лучше где-нибудь в Белоруссии, там сохранилось еще кое-что, и увидеть важнейший атрибут – конский череп на палке, украшенный цветами, гирляндами. Как мы уже знаем, прежде жертвоприношения и черепа были человеческими.
А если мы поговорим с антропологами, то они нам однозначно скажут, что такое внимание к черепам у древних не случайно. И свидетельств тому бессчетное множество – об этом говорят груды найденных черепов в самых различных местах. На протяжении десятков тысячелетий, если не сотен, излюбленнейшим кушаньем наших предков были человеческие мозги. Впрочем если вспомнить историю с нашим современником – разжалованным африканским «императором» Бокассой, и ныне они составляют рацион некоторых гурманов. Так было, и кое-где так еще есть. Мы не будем зарываться в самую глубокую древность. Но коснуться этого момента мы были обязаны для понимания процесса – без представления о корнях нам предстояло бы ловить призраков в тумане.
Итак, в основе первообраза грозного Кополо – охотники за черепами, обожествляющие сам череп и его конструкцию, воплощающую в их представлении мир или, попросту говоря, являющуюся для них моделью мироздания и одновременно черепом-чашей.
С этим прообразом мы забрались значительно глубже, чем намеревались. К моменту индоевропейской общности и расселения скотоводов-пастухов он не был таким ужасным, но он, в несколько трансформированном виде, сохранялся, обрастал мифологической плотью, поэтизировался.
Только ли в этом суть образа? Лингвистические исследования показали, что рождавшиеся многие тысячелетия назад сочетания звуков, в основном согласных, то есть всевозможные варианты хрипов, шипов, цоканий, горловых щелчков и прочее, разрастались в процессе развития речи пышными букетами и в свою очередь давали корневые основы для все новых и новых слов, понятий, обозначений. Так, по всей видимости, обстояло дело и с изначальным сочетанием согласных «кп-». Об этимологии индоевропейского корня куп- мы уже говорили, это – «кипеть, страстно желать». Образ Кополо, Аполло, Кухолина и прочих как гневных, кипящих яростью богов нами рассмотрен в достаточной степени. Но подтвердится ли он с помощью санскрита? Откроем словарь:
«куп» –
1. «гневаться, сердиться, ссориться»;
2. «говорить»;
3. «сиять, блистать».
Совсем неплохая этимология для гневного бога, покровителя поэтов и сказителей-говорунов, сияющего и сверкающего божества света – этакого древнего «феба». Но, далее:
«купайа» – «кипящий гневом»;
«копа» – «волнение, возбуждение, раздражение, ярость, гнев на кого-то»;
«копай» – «вызвать гнев, разгневать, волновать, колебать, потрясать».
Имеются и прочие производные. Но с нас достаточно.
Нет нужды пояснять, почему значения слов, послуживших основой для теонима Кополо – и его вариантов, сохранились лучше в далекой Индии. Тут сыграли роль: 1. Письменность, появившаяся у индоариев значительно раньше, чем у праславян, славян. 2. Время ухода – значения были унесены практически в чистом виде именно с прародины или, в крайнем случае, со второй, промежуточной прародины, не подвергаясь ни в малейшей степени обработкам в тех районах, которые мы признаем очагами цивилизации Европы, то есть, захода в Средиземноморье не было. Это еще раз подтверждает наши догадки.
Правда, непонятно куда подевался образ первичного божества во время переноса-перехода, занявшего, по всей видимости, не менее тысячелетия. В ведической мифологии он или не просматривается или мы, как и в предыдущем случае, ищем его с завязанными глазами. В поздних мифологиях индийцев мы искать его не беремся, нас интересуют истоки. Вопрос остается пока открытым и ждет своего разрешения.
Мы же и так получили результаты более, чем внушительные, докопались до глубинного ядра образа, включающего в себя соединение понятий «череп – чаша – свод – вместилище» и «кипение – гнев – ярость – возбуждение». Почему они оказались в одном ядре, в одной отправной точке? Видимо, на каком-то ассоциативном уровне мышления древний человек, предок праиндоевропейцев, знал или ощущал каким-то образом, что эмоции, в том числе столь важные, как гнев, ярость, возбуждение, зарождаются не в груди, не в сердце или еще каком-либо органе, а именно под черепным сводом, в этой самой «чаше-сфере-вместилище». Смелое предположение? Смелое! Но других пока нет.
Вот в какие дебри мы забрались с нашим Кополо-Аполло. Основа для создания образа была, как выясняется, с древнейших времен. А вот когда появился сам образ, мы так и не ответили. Может, он не попал в Индию именно по причине того, что оформился достаточно четко уже после ухода переселенцев со вторичной прародины, то есть только во втором тысячелетии до н. э.? Могло быть и так. Основа образа – это еще не сам образ. Но для нас важно, что к моменту вторжения «северных варваров» на Пелопоннес во втором тысячелетии до н. э. он был уже достаточно зрелым.
В поисках «чудовища»
Задрожали от его рева стороны света, небосвод, поднебесье, земля и горы.
Клянусь, ни львы, ни тигры, ни медведи
Столь не страшны! Никто б не изобрел
Такую тварь, хотя б в горячке бредя!
Мы прошли «дорогами богов» вслед за нашими далекими родичами-переселенцами, заложившими в основание античной культуры один из краеугольных камней – культ божества, ставшего покровителем поэзии и искусств. И теперь, не повторяясь и не углубляясь в рассмотренный уже процесс миграции, мы вправе задаться вопросом: а могло ли такое непростое, растянутое во времени вторжение оставить всего один, пусть и необычайно глубокий след? Могло ли воздействие «северных варваров», столетиями оседавших в средиземноморских краях, ограничиться привнесением одной лишь божественной тройки – Лато, Артемиды, Аполлона или, как их называли на родине, Лады, Лели, Кополо? Ответ, вероятно, должен быть однозначным – нет, не могло! Пришельцы-праславяне, даже если бы они и задались такой целью, не смогли бы оставить часть своих кумиров на родине, а часть прихватить с собой – народные верования не саквояж туриста. И потому у нас есть все основания думать, что при глубинном проникновении в античную, да и в иные мифологии, мы сможем выследить собратьев Кополо, как бы тщательно им не удалось замаскироваться под «греков», «малоазийцев» или кумиров других народов.
Кого убил Беллерофонт?
…Беллерофонту убить заповедал Химеру Лютую, коей порода была от богов, не от смертных…
Существует мнение, что «Илиада» – это сплав множества вполне самостоятельных мифов и легенд, собранных вокруг одного сюжетного стержня и более того – искусно подогнанных к нему. Сейчас уже мало кто верит, что все в ней создано одним человеком, будь хоть трижды гением. Так или же иначе – не столь важно. Ведь в любом случае в основе самой поэмы и ее песен лежат предания, сказания, существовавшие в Средиземноморье задолго до Гомера и его возможных соавторов.
Один из таких вставных мифов повествует о герое ахейцев, свершавшем свои подвиги в Ликии. Попал он туда по навету отвергнутой им совратительницы, царской жены. Последняя, извратив события, нажаловалась мужу, и «разгневался царь таковое услыша; но убить не решился: в душе он сего ужасался; в Ликию выслал его и вручил злосоветные знаки, много на дщице складной начертав их, ему на погибель; дщицу же тестю велел показать, да от тестя погибнет». Знакомая история – слабовольный вождь-монарх посылает неугодного погибать куда подале от своего королевства с соответствующей запиской. Примерно так же хотели расправиться спустя много веков с Гамлетом. Ту же схему мы найдем во множестве сказок самых разных народов.
Звали героя Беллерофонтом. Был он внуком знаменитого Сизифа – основателя Коринфа, и сыном Главка. Царский сын и, следовательно, сам по рождению царь – хотя бы в будущем. Рядом с ним еще множество царей – на Пелопоннесе ли, в Малой ли Азии, в Эгеиде. Кругом одни цари! И до и после! И Одиссей хитроумный, и Менелай златовласый, и Агамемнон «пространно-властительный», и Ахиллес благородный…
Мы как-то привыкли к этому титулу «царь» для племенных вождей Средиземноморья – он встречается сплошь и рядом не только в детских переложениях, но и во всех без исключения научных и научно-популярных изданиях. Мы употребляем его легко и бездумно, несмотря на то, что «цари» зачастую владели войском в пятнадцать-двадцать челядинов и клочком земли в две-три квадратных стадии.
Как читатель догадался, мы делаем небольшое отступление. Но оно необходимо, потому что мы обязаны научиться смотреть на вещи и события трезво. «Взгляд со стороны» и «любование отдаленным» вплоть до обожествления и, уж как минимум, до «оцарствления», всегда играют не на руку исследователю. И мы очень многое поймем, если задумаемся – почему безоговорочно признаются монархами и самодержцами племенные «царьки» в одних местах и почему ну никак не признают царями властителей других мест? О ком речь? О русских князьях, почти каждого из которых можно было бы сравнить по влиянию и могуществу с римским императором или византийским базилевсом, но которые не удостаивались даже звания «царя». Лишь с Ивана Грозного якобы пошло «царство» на Руси. А до него?
Разумеется, мы сейчас говорим не о полноте власти и не о классических определениях, под которые, кстати, греческие «царьки» никак не попадали. А о значимости и об оценке! Святослав! Владимир! Ярослав! И те, кто был до них, и те, кто пришел на смену, – ничуть не уступали европейским монархам, а по большей части и превосходили их по всем параметрам. Да что там названные! Практически любой из удельных князей периода раздробленности превосходил и по мощи, и по количеству земли, и по численности населения признанных «царей» и «королей», которые не всегда могли состязаться даже с боярами этого князя. И все же: «князь»! Правда, на Руси существовали свои титулы, и их носители не считали себя обиженными, но – опять-таки оценка в нашем восприятии: «царь Одиссей хитроумный» и какой-то там, скажем, князь тверской или рязанский. Первое звучит и порождает гордость. Второе – так себе, подумаешь! Хотя у этого «князька» в одной какой-нибудь деревеньке, о которой он и сам мог не подозревать, разместилось бы все «царство» да в придачу бы и парочка соседних.
К чему все это говорится? А к тому, что за словами мы должны видеть их содержание. Видеть совершенно четко! Ибо одно дело читать мифы, предания как беллетристические произведения, восхищаясь, соболезнуя героям, сопереживая, превознося и так далее, и совсем иное – представлять этих героев реальными людьми, не впадая в поэтические восторги и понимая, кто перед тобой, что происходит, где происходит, как и на каком уровне. И еще – необходимо научиться по мере сил и возможностей отделять чисто мифологические персонажи от персонажей вполне реальных, исторических, но вместе с тем, видеть и часто встречающееся совмещение тех и других в каком-то герое или группе героев. Сложная задача. Но посильная.
Многое слилось в мифе о Беллерофонте – «воинственном» и «непорочном». Чего стоит хотя бы история о попытке совращения юного героя сластолюбивой женой повелителя ахеян Прета и всех последующих испытаниях, выпавших на долю юноши, отвергнувшего любовь «Антии младой»! В ней явно проглядывают корни знакомого нам библейского сюжета об Иосифе Прекрасном и о жене начальника охраны фараона Потифара. Правда, в Египте существовала в свое время сходная сказка о двух братьях. Может, и она легла в основу средиземноморского предания, может быть, было наоборот. Достаточно точно известно лишь, что в Ветхий Завет сюжет попал либо из Египта, либо из Эгеиды – через Малую Азию, во всяком случае со стороны, как и подавляющее большинство прочих сюжетов это кладезя народной мудрости древнего мира. Нам и это не столь важно. Мы не будем распыляться, сосредоточим свое внимание на основном.
Ни в одном из достоверных источников мы не найдем подлинного имени нашего «воинственного» героя. Все поименованы: и Сизиф, и Прет, и Главк, и Антия, и трое сыновей Беллерофонта. Но лишь сам герой вечно скрывается под эпитетом, ибо «Беллерофонтос» – это скалькированное греками словообразование: «Беллероубийца».
Заметим сразу же, что в более поздних вариациях греческие мифологи и сказители, по всей видимости, пытаясь обосновать прозвище, вводят в повествование некого «коринфлянина», которого якобы герой убивает еще до начала своих подвигов и приключений, причем «коринфлянину» дается явно искусственное имя – Гиппоной. Но мы не будем касаться поздних напластований, чтобы не вносить излишнюю неразбериху. Нам следует брать пример с кропотливой работы реставратора икон, который слой за слоем смывает наносное, ненужное, добираясь до первоосновы.
Итак, «убийца» известен. Ну а кто же был «убитый»? За что его убили? Где? Когда? При каких обстоятельствах? Зачем? Ни на один из этих вопросов сами греческие сказители ответа не дают ни словом, ни полусловом, ни намеком. Герой ведет самый активный образ жизни: он воюет с племенем драчливых солимов и с воинственными амазонками, одолевает Химеру, совершает множество иных деяний. Но прозывают его при этом почему-то вовсе не Солимофонтом и не Амазонкоборцем, и даже не Химеробойцем. Загадка?
Мы знаем, что за тысячелетия литературных обработок мифические образы зачастую претерпевали самые невероятные преобразования: хтонические, ирреальные существа, порожденные самой изощренной фантазией и прежде всего страхом перед неведомым, превращались в безобидных леших, домовых, в гармонических антропоморфных героев или же вообще неизвестно во что. И тем не менее, при желании почти всегда можно докопаться до корней.
Исследователи сходятся на том, что в предании о Беллерофонте явно просвечивает основной индоевропейский миф – сюжет о борьбе бога-громовника, грозового конного божества со змеем-чудищем, стремящимся поглотить дневной свет, солнце или совершить прочие пакости.
Интерес к Беллеру и его прообразу не снижался и не снижается: и в наши дни появляются интересные публикации. В частности, любознательного читателя можно отправить к статье В. Л. Цымбурского о Беллерофонте, опубликованной в сборнике «Античная балканистика», вышедшем в издательстве «Наука» в 1987 г. Мы же не будем приводить всех мнений, оспаривать их или соглашаться с ними. Для нас главное, это то, что ученый мир признает тождество «беллероубийцы» и бога-громовника, во всяком случае, на первоначальных стадиях развития сюжета.
Но тут мы вправе задаться вопросом: как же так, ведь у греков есть свой (или почти свой, то есть достаточно «усвоенный») бог-громовержец, законный и коронованный, – Зевс?! По логике мифа и народного сознания во втором громовержце нет ни малейшей нужды.
Все так. Но мы уже постепенно, медленно, но все с большими основаниями начинаем проникаться излагавшейся выше «кощунственной» мыслью: если мы замкнемся на сугубо лишь греческом этносе и его, непосредственно его, верованиях, то упремся в такую глухую, замшелую и непреодолимую стену, что никогда ни на один из поставленных вопросов не ответим и будем до бесконечности пребывать в состоянии детей, которые с разинутым ртом слушают волшебные сказки.
Беллерофонт, поймав и оседлав крылатого коня Пегаса, как то и следует грозовому конному божеству, по всем правилам основного мифа совершает свой «подвиг громовержца» – в яростной и опасной схватке побивает стрелами чудовищную Химеру. Породили Химеру ужасный Тифон и жуткая исполинская Ехидна. Чудовище это так же, по всем правилам выползает именно из пещеры, дышит пламенем и дымом, в неистовстве бьется о скалы и горы, сотрясая их.
Так, может, оно и есть тот самый загадочный Беллер?
Все, вроде бы, сходится. И предположение было бы вполне законным и основательным, при одном условии: если бы герой получил свое прозвище после расправы над трехглавым чудищем. Но зовут его Беллерофонтом с самого начала мифа-легенды. Так почему же так случилось, почему возникла такая путаница?
Все становится на свои места, если мы примем в рассмотрение тот бесспорный факт, что дубль-громовержец приходит со стороны (неважно пока откуда – с севера или, как предполагает большинство исследователей, из Малой Азии). В олимпийскую иерархию он с ходу, разумеется, не вписывается и действует в сознании тогдашних греков и «греков» где-то на периферии обитаемого мира. Но при всем при том функций своих дубль-громовержец не утрачивает – он вовсю сражается с олицетворением подземного зла.
Греки, усваивая и перерабатывая привнесенный образ, – непонятное для них прозвище калькируют и оставляют, как это и бывает в таких случаях, а убиенного и неведомого для них Беллера в сюжете мифа подменяют родной и знакомой Химерой, сочиняя ей тут же приличествующую случаю родословную.
Но оставим до поры до времени всех многоликих «беллеро-убийц». К ним мы вернемся отдельно, чтобы рассмотреть со всей тщательностью и вниманием.
Нынешняя же наша цель установить личность самого загадочного и неуловимого Беллера, скрывающегося под сонмом имен и прозвищ в легендах, мифах, сказаниях и поверьях различных народов.
«Чудовище»
Лев головою, задом дракон и коза серединой,
Страшно дыхала она пожирающим пламенем бурным.
Слово «беллерос» не переводится с древнегреческого языка. Оно, как считают лингвисты, более раннего происхождения. Но определить его основное значение исследователям все же удалось. И значение это – «чудовище».
Навряд ли даже самая непутевая и злобная «коринфская» мать дала бы своему сыну подобное имя. Так же как и не назвала бы она его ни с того, ни с чего непонятным и неупотребляющимся именем-словом. Нет нужды вдаваться в подробности – сюжет с «коринфлянином» есть искусственная вставка и ничто более.
В языках Средиземноморского региона, на Балканах, в Северном Причерноморье и в прочих местах расселения протославян мы можем найти сходные формы звучания в словах, обозначающих змей, драконов, чудищ, иногда даже рыб. Что первично, что вторично – сразу определить не удается, слишком уж многое перемешалось в этом этногенетическом и соответственно лингвистическом котле. Но связь между этими обозначениями и нашим ускользающим «беллером», разумеется, есть. И не только в словах, обозначениях, но и в понятиях. Недаром же и ликийская отвратительная Химера выползает из подземелья будто какой-то змей, какой-то гад ползучий – шипя и извиваясь.
Упоминавшиеся выше исследователи заметили явное сходство имени Беллера со многими словами живых балканских языков. Такими, как румынское «балаур» – «дракон», албанское «буллар» – «полоз, уж», сербскохорватское «блавор» – «полоз, уж». Удалось установить, что древнейшим вариантом был северобалканский вариант слова, принадлежавший, по всей вероятности, праславянским племенам, заселявшим Балканы. Отсюда и сам прообраз Беллера, как и Беллерофонта, указывал на Балканы – родину мифа. Такое заключение вполне логично. Но лишь для определенной стадии. То есть тут можно говорить об очередной промежуточной прародине образа.
Вместе с тем прослеживается и второе значение слова. Оно заключено в корне «бел-, бол-» и в языках индоевропейской семьи тождественно понятиям «раздуваться, расти», а также – «блестеть». Например, в русском языке мы встречаем и «блеск», и «большой». Причем слова эти наши – прямая ветвь не только из праиндоевропейского языка, но и из предшествовавшего ему так называемого бореального праязыка.
Слова «большой», так же как и несколько измененное «великий, великан, величие» пришли к нам безо всяких кружений, прямым наследованием из бореального корневого сочетания согласных «Б-Л», означавшего «высоту, величину, крупность». Для сравнения скажем, что и в санскрит это сочетание попало, преобразовавшись со временем в «бал-а», с теми же значениями – «крупность, массивность, мощь». Но помимо того бореальное сочетание согласных подразумевало «холм», большой «вал» или «насыпь земляную», то есть опять-таки что-то большое.
Как оказалось в дальнейшем, при рассмотрении разошедшихся слов с общей корневой схемой, почти во всех случаях они несли вместе с новыми значениями и старые. Не зря же мы иногда сравниваем «большого» человека с горой, то есть «холмом» и так далее.
Не вдаваясь в лингвистические премудрости, следует сказать, что ученые в результате попыток осмысления частично утраченного праиндоевропейского слова, выявили, что за ним проглядывается нечто большое, блестящее (чешуей? шерстью? от влажности, намоченности?), раздувающееся, поднимающееся в рост или даже подпрыгивающее, может, взлетающее, живущее под землей или в холме и охраняющее подземные богатства. Если первые определения достаточно конкретны и жизненны, то последнее – по части охраны богатств – конечно же, субъективно, это уже чисто человеческое представление. Но в любом случае из описанного наша фантазия рисует нам образ некого явно злого существа – этакого Змея-Горыныча, проживающего в подземных или скальных пещерах и стерегущего там злато в сундуках.
То есть вырисовывается образ того самого «змея», которого по всем понятиям и обязан настичь и убить «громовержец». Но есть одна маленькая загвоздка. Говоря о «беллере» и прослеживая его корни, мы упремся в одно несоответствие: из праиндоевропейского следует, причем вполне определенно, что змей, противник бога-громовника обозначается как «эгхи-» или «агхи-» (абсолютно точное звучание, само собой, передать невозможно, но для представления о разнице звучаний имеющегося вполне достаточно). Как же так? Почему? Ну, конечно, слово могло быть и заменено в процессе эволюции образа – такое происходит сплошь и рядом. Могли быть и иные причины. Могло быть и так, что произошло слияние разных образов, воплощающих абсолютное зло и вредоносность. Слияние образов – путаница их обозначений, или же замены, подмены, совмещение? Тут надо разбираться конкретно. И мы со временем увидим, что как и в одно очень краткое сочетание согласных могло вместиться несколько образов, так и в один образ могли слиться два или несколько сходных по «опасности» и «вреду» образов вполне конкретных носителей зла.
И эти носители зла не носились где-то в параллельных вселенных, создаваемых воображением, а жили бок о бок с самим человеком.
Мы знаем, что чудовищ самого устрашающего вида можно встретить в сказках всех народов. А если говорить про Европу, так в ней для Змиев-Драконов никогда не существовало ни границ, ни паспортных режимов, ни языков, ни наречий – эти вездесущие мифологические твари бытовали и бытуют в легендах и сказках от Пиренейских гор и до Уральского хребта, от разместившейся чуть ли не на макушке Земли Исландии и до вулканического, загубившего не одну цивилизацию древности Крита. И везде эти злобные твари кого-то умыкают самым непорядочным образом, что-то похищают, уворовывают с тем, чтобы потом стеречь бдительно и со всем тщанием. А кончается дело непременной битвой и поражением злого чудища, получающего по заслугам на радость как рассказчику-повествователю, так и слушателям, жаждущим торжества справедливости.
Нетрудно и запутаться в таком обилии драконов и змеев-горынычей! И потому нам надо быть начеку, не поддаваться излишним вывертам фантазии. А иначе она нас заведет в такие непроходимые и гиблые болота, что не только искомого не найдешь, а и сам заплутаешь да погрязнешь в трясине.
Но, вперед – по следам Беллера!
Ближайшие соседи-беллероносцы на Балканах – румыны, албанцы. У первых существует поверье о слепой змее, которая раз в год превращается в злобного драконообразного Балаура. Этот Балаур набрасывается без разбора на всех, сея смерть и панику. Короче, образ соответствующий, не спутаешь. Но и не определишь из него ничего. Почему? Хотя бы потому, что он носит чисто сказочную окраску привнесенного, готового сюжета. У албанцев также сохранилась сказка – о слепом Буларе, прозревающем с такой же периодичностью и готовом пожрать всех встречных-поперечных. Характерно. Но – негусто! Правда, появляется мотив слепоты – вещь для нас немаловажная!
Сделав еще несколько шагов на север, мы потеряем след – никаких беллеров и буларов! Чтобы обнаружить очередного змееподобного и лингвистически сходного родственника, нам придется пересечь весь континент с юга на север – или обогнуть его морским путем – и добраться до Ирландии.
На древней земле, сохранившей отголоски кельтской цивилизации, мы встретим собрата «малоросского», гоголевского Вия, подслеповатого и так же убивающего взглядом. Зовут чудище – Балором. Он является отпрыском богов, внуком божественного Нета. Балор возглавляет воинство демонов-фоморов. Предание-сага, называющаяся «Битва при Маг Туиред», описывает бой между фоморами и кельтскими божествами – племенами богини Дану.
К тексту саги приложили не в одном поколении руку пересказчики и переписчики – так изукрашены и расцвечены события. И все же сквозь пестрые краски пробивается древний мотив все того же мифа о борьбе бога-громовника со змием. Правда, надо сразу же сказать, что мотив очень измененный – видно, сюжет попал к древним ирландцам не из первых рук. Но тем не менее у исследователей нет сомнений, что описанная битва Балора с Лугом – очень искаженным «громовержцем», это отголосок все того же основного мифа индоевропейцев.
Сага повествует: «Сошлись в битве Луг и Балор с Губительным Глазом. Дурной глаз был у Балора и открывался только на поле брани, когда четверо воинов поднимали его веко проходившей сквозь него гладкой палкой. Против горсти бойцов не устоять было многотысячной армии, глянувшей в этот глаз… Когда ж подняли веко Балора, метнул Луг камень из пращи и вышиб глаз через голову наружу, так, что воинство Балора узрело его. Пал этот глаз на фоморов, и трижды девять из них полегло рядом…» Описание одноглазого Балора впечатляет.
Но Луг, доброе божество кельтов, побеждает чудище, которое, как ему и положено по основному мифу, крадет коров и быков и проживает где-то далеко, в холмах. Свершается возмездие.
Может, Балор и есть тот, кого мы разыскиваем? На роль змея-умыкателя он годится по всем статьям. Но детали свидетельствуют, что сага крайне далека от архаики. Взять детали свидетельствуют, что сага крайне далека от архаики. Взять хотя бы орудие убийства – здесь таковым является праща. Но это позднее наслоение. Первичен в мифе сам камень, ибо первогерой-громовержец убивает врага именно метко брошенным камнем. Брошенным, а не выпущенным из пращи! Хотя, конечно, уже само наличие камня, попавшего Балору в глаз, говорит за себя. Вспомним, что в греческом варианте мифа герой побивает Химеру-Беллера стрелами – то есть и там прослеживается явная вторичность. Хотя, разумеется, «стрела» может быть в свою очередь образом, ибо стрелы стрелам рознь – «каменной стрелой Перуна» из лука не выстрелишь. Длинные стреловидные камни, и особенно найденные в тех местах, где когда-то ударяла молния, назывались у славян «перунами» или «перуновыми стрелами».
Слепота и убийственный взгляд поневоле подталкивают нас к упоминавшемуся уже Вию. Был ли такой персонаж в славянской мифологии? Или это порождение фантазии Николая Васильевича Гоголя?
Сам писатель неоднократно говорил, что ничего почти что и не добавил – и само предание было народным и образ чудовища Вия. Как утверждает энциклопедия «Мифы народов мира»: «По русским и белорусским сказкам, веки, ресницы или брови Вия поднимали вилами его помощники, отчего человек, не выдерживавший взгляда Вия, умирал». Там же делается вывод о древности образа и его «блуждании по миру». С последним нельзя не согласиться, мы видим разительное сходство с Вием хотя бы тоже одноглазого коренастого уродца Балора. Но в том, что не Балор послужил прообразом Вия, сомнений нет.
Есть предположение, которое высказал В. Абаев, что образ Вия восходит к языческому богу славян Вею. А Вей в свою очередь родственен иранскому божеству, которое имеет две ипостаси: добрую и злую. Божество это носит сходное имя – Вайю. Оно не поддается обыденной упрощенной трактовке. Ибо, с одной стороны, олицетворяет ветер и посредника между небом и землей (что в общем-то не противоречит функциям именно «ветра»), помогает героям-богатырям, покровительствует воинам, а с другой – является злобным великаном, привратником в преисподней, злым духом и демоническим чудовищем. Непростое божество.
Этимология теонима понятна без перевода – о близких словах мы уже говорили – это именно «Ветер», образованное от «веять, веет». А если вдуматься, то можно понять и двойственность: ветер ведь приносит добро и зло, он может пригнать тучи, орошающие поля, и может разогнать их, высушить все или, скажем, разрушить, снести дома, если он ураганной силы. Эта двойственность реального явления и породила, видимо, двух сказочных существ: помощника и губителя.
В осетинском эпосе существуют злобные существа – вайюги. Они также одноглазы и зловредны по отношению к людям. И ничего удивительного в этом нет. Это не просто совпадения или промежуточные варианты. В индоевропейской мифологии вообще такие черты как «слепота», «одноглазость» связаны именно с представителями загробного мира во всех их самых разнообразнейших ипостасях. Нам даже не надо искать примеров, на язык к каждому так и просится вполне привычное и бытующее присловье «эх, лихо одноглазое!». А ведь Лихо, как мифологическое существо, именно одноглазо. Также одноглаз и леший – в своем собственном облике, если он не прикидывается просто мужиком или еще кем. Вся эта одноглазая, подслеповатая шатия-братия приносит людям беды. Или, как говорится, «сглаживает».
Но, как нам кажется, представлять Вея, Вайю или индийского Ваю чистыми богами смерти – а именно такую трактовку предлагают В. Абаев и некоторые другие исследователи – не совсем верно. Данная функция лишь одна из многих, закрепленных за богами-ветровиками и их ипостасями. И сами боги эти – лишь одна из ипостасей другого божества-образа, также связанного со смертью.
Удивляться здесь нечему. Схематизм нам должен быть чужд. Мы видим на практике: ничто и нигде не укладывается строго в «периодические системы». Божества и герои не химические элементы. Они переплетаются, сливаются, отпочковываются и снова проникают в прежние «тела» новыми ростками. Все – зыбко, расплывчато, все дрожит и переливается в неком таинственном мерцающем и колышащемся мареве. Четкость справочников – мнима, как мнимы шарики-электроны, вращающиеся вокруг шарика-ядра, в модели атома. НИКАКИХ ШАРИКОВ В ПРИРОДЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Энергия и материя перетекают с одного энергетического и материального уровня на другой, сохраняя лишь временную видимую целостность с таким же ядром-призраком.
Почти то же самое и с божествами в мифологиях. Среча, Несреча, Спех, Неспех, Удача, Неудача, Доля, Недоля и множество других полярных и промежуточных, антропоморфных и абстрактных божеств-демонов сливается в одно божество, носящее имя Суд. Но это последнее, в свою очередь, растворяется в каждом из перечисленных и неперечисленных, а также выходит далеко за их пределы и образует группы или подгруппы иного порядка. А перечисленные вбирают в себя множество иных понятий-богов и образов-богов, но тем не менее, входят составными частями не в один лишь Суд, и так далее, и так до неизвестного нам предела.
Но, разумеется, все наши рассуждения вовсе не отвергают необходимости иметь классификацию и упорядоченность. Мы считаем лишь, что упорядоченность в данном случае достаточно условна и она не должна превращаться в догму.
В древнеиндийской же мифологии бог Ваю, что означает «ветер, воздух», – доброе божество. Но тут другая крайность – он тысячеглаз. Пугаться такого «отличия» не следует. Видимо нечто из местной почвы-мифологии, вливаясь в индоарийскую принесенную мифологию, заставило полюбить такую вот многоглазость, многорукость и прочие многочленности и многогранности.
Напомним, что и Индра тысячеглаз, и Вритра, и еще уйма божеств и демонов наделены или подобными или схожими свойствами. Ваю помогает добрым людям, как Вайю – иранским воинам. Видно, так уж сложилось, что для древних переселенцев этот «ветер» приносил больше благ, чем разрушений и страданий. Тут не грех вспомнить и про несколько особенное положение Индии и про ее климат. Конечно, все эти природные условия не могли не отпечататься в мифологии, не придать специфики божествам, первоначально имевшим несколько иной вид.
Но и у древних индийцев прослеживаются постоянные наложения и переходы с уровня на уровень. Так, одна из ипостасей Ваю – это бог ветра Вата, упоминающийся в Ригведе и других памятниках. Здесь нет необходимости в переводе, так как мы и сами видим – Вата однокорневой теоним с Ветром.
У Ваты в большей степени прослеживается наличие функций именно ветра как такового. Да и исходя из древности образа мы можем судить, что Вата, по всей видимости, первичен. Он и «перворожденный», и «дитя вод и мира», и «дыхание богов». Он управляет колесницей, которая вечно носится между небом и землей. Причем в его колеснице сидит верховное божество, а коней запрягает для колесницы сам Индра-герой.
И все же где-то, на каком-то этапе наложились два не совсем сходных образа. И теперь их уже не разделишь, можно лишь искусственно расчленить, опускаясь к истокам. Но мы видим двойственность, нас уже не проведешь: Вата – изначально в небе, с богами; Вая уже ниже, причем он, приближаясь к Вайю, вайюгам, Вею, Вию, прямиком спускается с небес в преисподнюю, становится слеп, зол, вредоносен. И, стало быть, это уже не он, также как и Вий – не Вата.
Таким образом получается, что мы забрались довольно-таки далеко, а к разгадке не приблизились. Остается вернуться к Балору и компании и попробовать прощупать иные пути.
Отсутствие четких следов «беллеров» в Центральной Европе и лингвистические сходства в теонимах убеждают в том, что у кельтов или их соседей были неплохие связи как с античным миром, так и с праславянами еще задолго до времени римско-галльских войн. Однако догадка эта не облегчает нашей задачи. Лишь в одном мы укрепляемся все более – в начале был общий миф: борьба двух сверхъестественных, а может и не таких уж сверхъестественных, сил. Но потом, с веками и тысячелетиями каждая из этих сил приобрела множественность, стала проявляться в самых разных и порою малосхожих ипостасях.
Где еще мы можем встретить божества с корнем «бел, бол»? У индоевропейцев на первый взгляд таковых больше нет. Может быть, заглянуть южнее и восточнее – к семитам? Там на довольно-таки обширных пространствах царствует грозный бог бури, грома и молний Балу, он же Бел, он же Баал – в общесемитском значении «владыка, господин». Значение достаточно далекое от «чудовища».
И было бы заманчиво предположить такой поворот истории, при котором две большие языковые семьи сталкиваются как соперники на определенном этапе в глубокой древности – и их верховные боги борются друг с другом, сходятся в решительной схватке. Причем вполне естественно, что «вражеский» бог проникает в мифологию индоевропейцев как олицетворение зла и, соответственно, уже одним этим обречен на ношение звания «чудовища» и «змея». Со временем этот «чужой бог-соперник» врастает в индоевропейские мифы и воспринимается хотя и противником покровителя-громовержца, но все-таки своим божеством, которому тоже не мешает на всякий случай – а может и в первую очередь, – принести жертвы.
Но это, наверное, лишь игра фантазии. И тема для отдельного исследования. Мы же пока не будем отклоняться.
Лучше вспомним про племена богини Дану кельтских сказаний. Луг, победитель Балора, воевал на стороне этих племен. Но сам он, как признают кельты, чужак, пришелец, новый бог. К тому же, по какому-то странному стечению обстоятельств – внук убиенного им Балора, которого родственником не признавал. Лугу долго приходилось притираться к племенам, доказывать свою лояльность, проходить разные испытания и показывать путем демонстрации различных полезных ремесел свою нужность, прежде чем его приняли за своего. Это все интересно и наводит на размышления.
Но сейчас важнее для нас то, что в результате всех передряг племена Дану занимают подземный мир и обосновываются в нем. Странно? Нет. Ведь «дану» для индоевропейцев это «вода, источник, поток», то есть влага, исходящая из подземного мира, из земли. Мы говорили уже о Днепре. Нет нужды останавливаться на значении названий Дон, Дунай, Днестр и других сходных – корень все тот же.
И здесь нам придется перенестись в Древнюю Индию, вспомнить о существовании там женского божества Дану, также связанного с подземным миром и подземными водами. Богиня эта имеет индоевропейское происхождение и попала в Индию вместе с переселенцами, за которыми последуем с некоторым опозданием и мы.
Дорогами переселенцев
Индейская глаголемая страна далече бо прилежит Егупта, велика бо сущи и многочеловечна…
Дану пришла в Индию задолго до начала формирования греческого этноса и даже протогреческого праэтноса. Поэтому мы не можем грешить на нее и ее коллег по древнеиндийской, и шире, индоарийской мифологии, что они, дескать, или их атрибутика заимствованы из античного мира. Переселенцы-индоарии вышли в свой путь с прародины значительно раньше, чем таковой начал формироваться. Этим коротким вступлением мы хотим напомнить, что между протославянами и индоариями не было никаких прослоек – ни «греческих», ни «скифских», ни тем более «германских» или «романских».
Итак, переселенцы унесли с собою богиню Дану. Кто она? В этом образе мы сталкиваемся со множеством функциональных обязанностей. Но главная из них в том, что Дану – мать демонов. У кельтов Дану – прародительница богов. Теонимы обеих связаны с «водой», «потоком». Уже этого сопоставления достаточно, чтобы говорить о невозможности передачи славянам иранцами слова и понятия «дан-река», ибо тогда следует, по логике некоторых исследователей, распространить принцип «привнесения» от иранцев и на кельтов. А это маловероятно, особенно для Ирландии. Этот пример ложности некоторых заключений мы приводим по ходу дела.
Главное же для нас сейчас то, что Дану прежде всего является матерью демона Вритры, того самого противника бога-громовержца Индры, которого последний убил своей чудесной ваджрой – «палицей грома».
Палица Индры – и серебряная, и золотая, и алмазная в поздних обработках. А первоначально – каменная, а то и просто представляющая из себя огромный камень-скалу. Незыблемость и глубина основного мифа, как единодушно убедились в том ученые всего мира, потрясающа!
Да и сам Вритра полностью отвечает всем нашим требованиям. Приглядитесь – чем не «беллерос-чудовище»? Он – не-человек и одновременно не-бог, «растет во тьме», «лежит в воде и сдерживает воды», он – лютый и хитрый зверь, олицетворение дикости, злобы и хаоса. И внешне он соответствует вполне облику чудовища – без ног, рук и предплечий, змееобразный, издает шипение, вредит всячески – короче, явный враг и разновидность того же дракона-горыныча. Очень важно, что Вритра является одним из немногих «перворожденных».
Героя, одолевшего Вритру, зовут Вритрахан – «Вритроубийца». Знакомое словосочетание, не так ли? Правда, имена Беллер и Вритра лингвистически далеки друг от друга. Но не будем спешить с выводами. Потому что родной брат и одновременно иная ипостась Вритры – демон Вала. Он также полностью вписывается в основной миф. Более того, это именно Вала прячет в подземной пещере украденных коров и быков. А Индра-герой с помощью божественной собаки – помните роль собак и волков-оборотней? – отыскивает пещеру, разрушает ее при участии семи мудрейших сподвижников и побивает зловредного Валу без жалости и сомнений. Коровы освобождены, тьма тут же сменяется светом, над миром всходит богиня утренней зари Ушас Вала перед смертью дико вопит и воет, оглашает окрестности рыком и ревом, но ничто ему не помогает – он посрамлен и уничтожен. Кроме того, как и надо по основному мифу, он разрубается на мельчайшие части – точно так же поступают со всеми его коллегами и в других ответвлениях индоевропейской мифологии – и разбрасывается по белу свету. Все торжествуют.
Древность и даже архаичность демона Валы, который скорее всего и послужил прообразом для создания более сложной фигуры брата-Вритры, не вызывает сомнений. В древнейших гимнах индоариев, Ригведе, той самой, с которой они пришли из Европы, его имя упоминается 24 раза. Почему же этот любитель краденных коров отошел на второй план, уступив место «запирателю вод» Вритре? Ответить на этот вопрос однозначно очень трудно. Можно лишь предположить, что первоначально образ был единым или двуединым. Затем в процессе кочевого переселения и перегона скота – а скот и являлся основным богатством индоариев – главным было сохранение своих стад. И вполне естественно, что по этой причине особо будоражил умы и сердца «злой демон», способствующий угону или лично угонявший коров, быков. Затем, когда переселенцы осели и более-менее обустроились, поставили надежные ограды и загоны, важнее стала проблема водопоя. Реки пересыхали, воды не хватало – и недовольство людей автоматически переключалось на демона Вритру, чье имя обозначает «затор, преграда».
Индоарии пришли в северо-западную Индию во II тысячелетии до н. э. С большой долей уверенности мы можем сказать, что сам переход занял не один десяток лет. Есть основания считать переход столетиями, ибо, как мы уже отмечали и еще раз напомним, движение кочевых пастухов-индоевропейцев было необычайно медленным и ничего общего не имело со стремительными переходами средневековых кочевников-тюрков.
Переселенцы, по-видимому, в течение всего II тысячелетия несли с собой свои предания, храня их и творчески обогащая. Но особый, грандиозный расцвет древнеиндийской мифологии начался уже после освоения пришельцами новой, экзотической, пышной и жаркой родины. Божества прародины были проще, менее поэтичны, не обладали тысячами глаз и рук. Но и они были далеко не просты.
Теоним Вала переводят буквально как «охватывающий, скрывающий». Само санскритское слово «вала» означает «пещера». Все очень созвучно нашему герою-умыкателю. Но могло ведь быть и так, что имя Вала стало нарицательным и тем самым породило соответствующее слово и его значение – такое случается сплошь и рядом.
Что же делать – получается какой-то замкнутый круг? Попробуем еще! Буква «в» переходит в букву «б» не только в непосредственно европейских языках, но и в санскрите. К тому же, сами индоарии называли демона то Вала, то Бала. И тем самым этот вредоносный тип получал дополнительные свойства, так как слово «бала» означает «власть, сила, насилие». Сочетание, соответствующее образу, – и Вритра и Вала самые настоящие насильники, откровенно злоупотребляющие своей силой, и кроме того, властители над прочими демонами, властелины потустороннею мира, влияние которого распространялось в соответствии с представлениями и на реальный мир.
Все это, конечно, нам дает полноту картины. Но, увы, мало приближает к искомому.
Есть в древнеиндийской мифологии персонажи, чьи имена звучат сходно с именем Вала. Это – Валакхильи. Правда, в данном случае первое «а» более протяжно, но с учетом того, что «вала-кхилья» слово составное и первая его часть почти полностью совпадает с именем нашего демона-умыкателя, мы рассмотрим и этот случай.
Кто они, эти валакхильи? Колесницу солнечного бога Сурьи сопровождают карлики-мудрецы, напоминающие пчелиный рой. Только «пчелы» эти довольно-таки крупные, с «большой палец руки» размерами каждая, и по описаниям больше напоминают мохнатых шмелей. Вот их-то и зовут Валакхильями. Образ усиливается еще и тем, что сам Сурья покровитель медосборщиков и, выражаясь современным языком, главный специалист по медовой терапии или медолечению.
Валакхильи по одним источникам дети великого риши Крату и внуки самого Брахмы. Крату как-то уронил в какую-то земляную щель несколько волосков из паха, а через некоторое время из щели народились Валакхильи. Все очень образно и туманно. Такая картина соответствует как некоторым фрагментам процесса зачатия и деторождения, так и устройству бортни, пасеки и разведению пчел. Тут, наверное, слилось несколько мотивов. Но запоминается постоянный намек на какую-то «мохнатость» и «волосатость», также как и на щель, которая является своего рода «укрытием», «пещерой» для карликов-мудрецов.
Эти Валакхильи отличаются особой «чистотой» и «праведностью», что также указывает на особенности продолжения рода у пчелиного роя. Если они разгневаются, то и богам не следует ждать от них пощады. И здесь мы видим явный намек на тех же насекомых. Отличаются они от пчел, как мы уже говорили, величиной и мохнатостью.
Далее, по другим источникам, Валакхильи родились из волос самого Праджапати – верховного божества, прародителя всего сущего, «господина творения». К слову заметим, что солнечный бог Сурья лишь одна из ипостасей Праджапати и теоним «сурья» – один из эпитетов сверхбога, «высшего творца». Здесь мы на очередном примере убеждаемся в верности нашего подхода и зыбкости мифологических образов, сливающихся один с другим и расходящихся.
Очень интересные существа эти Валакхильи. Но еще интересней, что «вала» – с протяжным, но не слишком, «а» в середине – означает на санскрите «волос». То есть, теоним можно одновременно перевести и как «волосатые или мохнатые мудрецы», и как «волосатики или мохнатики из щели», ведь «кхилья» – именно «щель в сухой земле, глыбе, глине», как впрочем и сама «глыба».
Очень важна и этимология «валы». Мы еще не видим ничего конкретного, но уже представляется вполне определенно некое «волосато-мохнатое» существо, «скрывающееся» в «пещере»! Кто же оно, это чудовище?! То, что не пчелы и мохнатые шмели – это наверняка, змей также не совсем вписывается в складывающийся образ. Но и первые и второй как-то связаны с этим образом. Особенно первые!
Попробуем подвести предварительные итоги нашего путешествия в Древнюю Индию. Итак, демон Вала появился на свет никак не позднее II тысячелетия до н. э., а то и раньше. Древность его совершенно четко подтверждается наличием пастушеских функций… Но первичен ли он? Опять нет! Все есть в этом «пещерном образе» – глубинное, далекое, связанное с борьбой хаоса и гармонии, есть в нем явные хтонические черты, наделен он свойствами обитателя потустороннего, таинственного и жуткого мира. Но не чувствуется в нем почему-то первобытной архаики, то есть нет именно того, что с огромной долей достоверности дает исследователю право сказать: да, это не вымышленный поэтами и сказителями фантастический герой, это тот самый первобог, перед которым трепетал человек каменного века. Не земледелец и не кочевник, не профессиональный воин и не искусный жрец-волхв, а первобытный охотник и собиратель – изначальный мифотворец.
Стары Беллер и Балор, Булар и Балаур. Древен Вала-Вритра! Но все они юнцы безусые пред своим прародителем, тем самым первосущим «чудовищем», поисками которого мы заняты.
Очень многое нам дало путешествие по следам древних индоариев. И это еще будет постоянно нам помогать: каждый шаг на юго-востоке отзовется цепочкой верных шагов на северо-востоке.
Так уж устроена жизнь – и история подтверждает это, – что переселенцы-мигранты не могут сохранить в первозданной чистоте образы богов, унесенных с прародины. Множество новых впечатлений в пути, общение с самыми разнообразными и непохожими народами, как и прочие сложнейшие процессы, видоизменяют облик и внутреннее содержание кумиров, отсекают многие стародавние, становящиеся непонятными черты. Прочнее всего держатся теонимы – имена богов; сюжеты мифов подвержены уже большим изменениям, неустойчивы функциональные особенности – расползается, дрожит нечеткая дымка марева.
Племена, оставшиеся на родине, как мы уже отмечали, и не подверженные воздействию всех перечисленных явлений, лучше сохраняют своих богов. Это распространяется также и на сам язык, на обычаи, на изначальные поверья.
И потому, побывав на севере, западе и юге Европы, а также совершив краткое путешествие в далекую Индию, мы направим свои стопы в те места, где могла располагаться вторичная прародина древних индоевропейцев. И не столь важно, что с точностью до десятка или сотни километров ее границы пока не установлены. Главное, нам известна группа тех народов, которые не уходили от своей земли в заоблачные дали.
И потому – снова вперед, ведь мы почти ухватили за хвост неуловимое «чудовище»!
Доисторический прадедушка Беллера
Скрипи нога, скрипи липовая!
На примере демона Валы мы установили, что в имени божества-чудовища первична начальная буква В, а не Б, как у средиземноморских и кельтских двойников. И теперь мы можем с полным основанием заняться теми в Европе, мимо кого прошли в первый заход. Круг сужается. Мы почти у цели! В районе расселения германцев и балто-славян.
Здесь целый букет противников громовержца и «похитителей скота».
В скандинавско-германском эпосе герой-громовержец Тор сражается с Мировым Змеем Ермунгандом, мечет в него свой молот-палицу-ваджру, у которого есть даже собственное имя Мьелльнир, что может ассоциироваться со знакомым нам «молния». Но этимологически теоним далековат от тех, с которыми мы пытаемся разобраться. Да к тому же, Тор не убивает Змея, как положено по основному мифу, он его должен убить лишь при конце света, когда великаны сойдутся в лютой схватке с богами. Так что этот «змей» отпадает.
Какие еще сходные по звучанию, а может и однокорневые слова, теонимы есть у германцев и скандинавов. Божественный кузнец Велунд? Нет, вроде бы образ не тот. Сын Одина и Ринд – ребенок Вали, который должен отомстить за убитого прекрасного Бальдра? Но он – представитель нового поколения богов, самого «младшего» и далековат по своим функциям от «перворожденных», хотя в нем уже чувствуется тема мести и смерти. Кто еще? Вельсинги – вожди-короли, ведущие свой род от богов-асов? Пожалуй, нет. Здесь однокорневая составляющая, возможно, и есть, но образы эти очень далеки от исходного, если вообще имеют к нему хоть какое-то отношение. Это уже, можно сказать, почти чисто литературные персонажи, пришедшие из позднего эпоса. Кто же еще? Валькирии – девы-красавицы, обслуживающие в загробной стране Вальхалле мужественных воинов, а также собирающие их души по полям сражений? Ближе! Здесь уже четкая связь с потусторонним миром.
Да и сама Вальхалла это, как видится, не просто зал или дворец, в котором собираются павшие герои и ублажают себя вином, яствами, рассказами о воинских подвигах и общением с богами-асами, с верховным богом Одином. Вальхалла – страна мертвых, причем в самом широком понимании, каковым бы ни было ее происхождение, каковы бы ни были у нее реальные земные корни.
Известный писатель, ученый В. И. Щербаков считает, что прообразом Вальхаллы послужил один из главных залов во дворце царей-асов, который располагался в Нисе вблизи от Ашхабада-Асхабада, и что родиной асов была Парфия, из которой уже позже «божественные герои» перебрались на север, сохранив свои воспоминания-предания. Исследования и находки В. И. Щербакова крайне интересны и заслуживают пристального внимания. Любознательный читатель может узнать о них из книги «Где жили герои эддических мифов», выпущенной издательством «Знание» в 1989 году. В. И. Щербаковым разработана общая теория Древнего мироустройства. Она охватывает 12–14 тысячелетий существования человеческой цивилизации. Наша задача скромнее, конкретнее. Скажем лишь, что наши построения – для определенного временного этапа – полностью укладываются в рамки Общей теории.
Подчеркнем, что если представления о загробном мире как о «вальхалле» бытовали и в Парфии и в Скандинавии, это, естественно, укрепляет наши позиции и объясняет, каким образом унесенные с прародины поверья и теонимы могли попасть на запад и северо-запад в начале новой эры или незадолго до начала ее.
Итак, германцы отпадают. Их народы не сохранили архаичных представлений, и любой поиск в их краях заводит в тупик.
Двигаемся дальше на восток. И тут же натыкаемся на парочку чуть ли не близнецов – на литовского Велинаса и латышского Велняса.
В обоих чувствуется жизненность, исконность: меньше фантастических, пышных описаний и подробностей частного характера, меньше благоприобретенных змеиных и драконовых черт, которые явно вторичны, зато чувствуется близость к природе.
Сами Велняс и Велинас напоминают лесных чертей – с рогами и копытами, которые воруют все тех же коров и быков, меняют внешность, оборачиваясь камнем, деревом, человеком, зверем, драконом – последний мотив постоянен, он не исчезает совсем, но при погружении в глубины времени тускнеет.
Черти-велинасы вовсю запруживают реки, преграждая водам путь. Правда, до Вритры им еще далековато, не тот масштаб. И, разумеется, они самым непосредственным образом связаны с подземным миром, царством мертвых.
А сходны велинасы-велнясы по простой причине – у них один предок, персонаж балтийской мифологии Велс – бог загробного мира. Балты приносили жертвы этому богу-пастуху, который пас души покойников на «велсовых пастбищах». На литовском языке слово «веле» обозначает «душа». Бог повелевал душами в своем царстве, за это его чтили живые.
Но, скорее всего, обозначение души покойника в литовском языке вторично, это производная от божества, которому отведено значительное место в мифологии и жизни, вплоть до посвящения ему месяца – октября, называемого «велю мате».
Но здесь уже четко проглядывают загробные «пастбища» и индоевропейский корень *uel-. Сам образ дает представление о загробном мире как о богатых, тучных лугах. И на этом моменте мы немного задержимся. Все слышали про знаменитые парижские Елисейские поля, кто-то, наверное, и бывал на них. Но не всякий знает, что они получили свое название от многократно менявшихся при переходе от народа в народу «велсовых или влесовых пастбищ». Из наиболее ранних и засвидетельствованных в письменных источниках «лугов-пастбищ» мы знаем: хеттское «веллу», тохарское «А валу» и лувийское «улант» означают «мертвый». О скандинаво-германских, балтских и других параллелях мы уже говорили.
Одно из самых близких к изначальному слову-обозначению, а может быть и самое близкое, это русское «воля». Сейчас мало кто знает его первичное значение, но «воля» – это именно «влесово пастбище», это образ тучного и обширного луга, на котором пасутся кони и который, как повествуют русские сказки, оборачивается кровавым кладбищем. Подробнее пишет об этом известный лингвист В. Н. Топоров в статье «Заметки по похоронной обрядности», напечатанной в «Балто-славянских исследованиях за 1985 г.» (издательство «Наука», 1987 г.).
С тем же корнем и с тем же образом связано и понятие богатства-собственности-власти. Это непременные атрибуты как самого загробного мира, так и его властителя. И отсюда такие сходные русские слова как «власть», «волость». Более того, существуют, как пишет В. Н. Топоров, диалектные выражения: «волость» – «властвовать», «волос» – «власть», «велес» – «повелитель». И не только в русском языке. Тохарское «А вал» означает «повелитель, государь». С этим же корнем связаны и такие слова как «великий», «велеть», «повелевать».
Мы снова замечаем, что зачастую в одном слове, в одном корне совмещены два или даже несколько понятий. Но главное, что они, понятия эти, каким-то образом свиваются друг с другом, переходят на какой-то грани одно в другое. Вспомните значения корней «бел-, бол-». В них и «величина, крупность, величие», и «холм, гора», и «нечто большое, раздувающееся, страшное, блестящее», живущее в этом холме, а точнее, в пещере, которая находится в холме, или в норе, или в берлоге – короче, в каком-то, если можно так выразиться, переходном месте между миром живых и преисподней.
Древнему человеку этот «вход в загробный мир» представлялся, по всей видимости, достаточно четко. И это не просто «нора», ведущая в подземную страну и имеющая аналогичное значение и в древнеиндийском «нарака», и тохарском «наре», и множестве других индоевропейских слов с корнем «нор-, нер-». Это не лаз, не отверстие, не дыра, а главные ворота в преисподнюю. И охраняет их грозный и неумолимый страж – наше искомое «чудовище», которое по совместительству – и главный пастух на своих «лугах», и вообще «властелин, властитель» мира мертвых, подлинный «волос-володетель» загробных душ.
И тут, казалось бы, подходит балтский Велс, по всем статьям годится он на роль «чудовища», и можно было бы остановиться на нем. Но нет в этом угрюмом божестве первобытности, не ощущается в преданиях о нем дыхания каменного века! Лишь один мотив проглядывается в балтийской мифологии, в частности, в теме Велса – это поверье о «мертвой кости», о древнейшем охотничьем обряде сжигания костей животных в дни поминовения покойников.
Обычай этот характерен и для предков литовцев, и для славян, и для хеттов, обосновавшихся четыре тысячелетия назад в районах первичной прародины, но называвших жертвенные кости также «веллас хастаи». И у всех «мертвая кость» связана самым непосредственным образом с подземным божеством. Даже зовется она так, что на слух не требуется перевода, и русское ухо расслышит вполне явственно: «велесова кость».
Вот теперь мы добрались до того, чья древность не поддается измерению, до того первобытно-дремучего божества-чудища, которого даже Великий князь Владимир не рискнул поставить в один ряд с русскими языческими богами в своем Пантеоне, украшавшем Киев до знаменательного 988 года. До того, чей идол стоял внизу, на Подоле, как и положено идолу владыки подземного мира. Речь, разумеется, идет о седом и загадочном Велесе-Волосе. В родственности Велса, Валы и Велеса-Волоса сомнений у исследователей нет – это факт установленный.
Велес – «скотий бог», покровитель домашних животных, хранитель богатств. Причем это лишь его отдельные и не самые ранние функции. Но все равно может возникнуть вопрос: почему же «злой бог», «чудище» стал покровителем? Здесь в нас говорит впитанное с молоком матерей Христианское мировоззрение, с которым не смогли справиться даже «воинствующие безбожники», несмотря на то, что применяли все доступные им меры вплоть до физического уничтожения десятков миллионов носителей такового мировоззрения. Христианские начала и мораль остались в нас. Мы сразу отвергаем силы зла, не приемлем их ни под каким видом, как бы ни были они могущественны.
Но у славян-язычников не было «деления» на «чистых» и «нечистых» – эти два противоположных начала в их сознании сливались в одну сверхъестественную силу, наполнявшую собой всю видимую и невидимую вселенную. Наблюдая за борьбой, которую вели между собой божества, и поддерживая всей душой и сердцем добрые, светлые начала, язычники пытались задобрить обе стороны, заручиться покровительством и тех и других. «Сила» и «власть» «володетеля» «пастбищ» невольно внушали почтение к нему. Но это почитание и задабривание «злого божества» ни в коей мере не было похоже на зародившиеся во времена античности и развившиеся в Средневековье культы Злого духа и Сатаны.
Повальное увлечение «сатанизмом» в наше время вызвано отчасти романтизацией самого образа и неверием в победу добрых сил. Явление, прямо скажем, для России и славянства в целом совершенно чуждое, здесь мы должны полностью признать эффект привнесения.
Уважая в какой-то мере «силы зла», считаясь с ними как с реальным явлением (ураганы, наводнения, моры, засухи), славяне никогда не отрицали «сил добра», всячески подчеркивая их первичность – отсюда и особый нравственный подход, отсюда и резкая дуалистичность. Поклонение Дьяволу как таковому могло тысячу, две тысячи лет назад и ранее упрочиться на Востоке, в Центральной Европе. Но оно отрицалось с ходу в местах проживания славянских народов.
Исключением здесь, пожалуй, является лишь наше время – «сатанизм» исключительно успешно внедряется в сознание. Причин тому множество, и прежде всего – полное разрушение русского и славянского культурного слоя в нашей стране и последующее массированное вторжение американизированной псевдокультуры с ее культом силы и Дьявола.
Но мы ведем речь о тех временах, когда ни самой «Америки», ни «американизма», ни «сатанизма» в местах расселения славянства не было и быть не могло. И здесь мы видим одну характерную деталь: славяне и три, и четыре тысячи лет назад, как и в более поздние времена, старались не возвести в степень отрицательные свойства Злого духа, а наоборот – где только можно, очеловечить его, как бы прикрепить к дому, полю, бане, лесной сторожке и так далее. То есть выделить в этом «злом духе» какие-то добрые и полезные качества, а затем, используя их, приноравливая их по-своему к своим надобностям, приручить это «злого духа». Конечно, о полном согласии и любви не могло быть и речи, но все же элементы такого «приручения» налицо.
В Велесе-Волосе сконцентрировано все то, что мы видели в родственных ему «чудищах», а точнее, в расселившихся по миру его потомках. Он и чудовищный змей, и хранитель подземного золота, и слепец, прозревающий на время и убивающий взглядом, и угонщик скота, вечно воюющий с богом-громовником, вечно погибающий от каменных «перунов» и вечно воскресающий для того, чтобы сразиться вновь. Обо всех этих качествах можно прочитать в книге Б. Успенского «Филологические разыскания в области славянских древностей». Обозначить их все в нашей малообъемной работе просто невозможно.
Но перечисленные функции есть подтверждение лишь «братства», то есть одновременности происхождения Велеса и самых древних «чудищ» других народов. Мы же взялись доказать его «отцовство», найти ту начальную черту образа, которая не проглядывает у других.
Для этого надо внимательно приглядеться к лесной ипостаси Велеса-Волоса, к Велесу-лешему и Велесу-медведю, хромающему на своей «липовой ноге», в то самое время, когда старуха варит его «мертвую кость». Изо всех реконструированных обликов чудовища эти – самые древние, первобытные. Вместе с тем, именно они, наряду с прочими мифореликтами сохранились на русской земле, во многих областях которой бытовали сказки о борьбе Перуна-Ильи с лешим, с лесовиком – олицетворением сверхъестественных сил чащобы.
Кроме лешего у Велеса есть множество лесных ипостасей – и лихо одноглазое, и оплетай, и прочая нечисть. Но наиболее ярко Велес проявляется в хозяине леса, в том, кого не называли по имени собственному, чтобы не накликать, а говорили про него вскользь, будто бы мимоходом – дескать, тот кто про мед ведает.
Не сказочные драконы и не трехглавые химеры вселяли ужас в палеолитического и неолитического охотника-собирателя, а вполне реальные косматые, волосатые обитатели чащоб – спящие подолгу в холмах-берлогах, вылезающие оттуда будто из-под земли, из самой преисподней, огромные, свирепые, полуслепые после спячки, раздувающиеся в ярости и поблескивающие отсыревшей и сальной шерстью, дико ревущие на всю округу и потрясающие ревом не столько небеса, сколько сердца людей, несущие смерть или увечье, а позже, когда охотник научился сохранять в загонах добытый им рогатый молодняк, так и ворующие этих «быков и коров». А если мы копнем еще чуть глубже, так натолкнемся на жутких и свирепых пещерных медведей. Вот уж где воистину соединяются все понятия: и «волосатости», и «пещеры», и «укрывательства», и «преисподней» со всеми утащенными в нее «богатствами», и «величины, величия», и прочих.
Ни у одного божества-чудища: ни у Валы, ни у Велса, ни у Балора – мы не находим этих нескрытых изначальных медвежьих черт. Если они и есть, то, как мы имели возможность видеть, в очень затуманенном состоянии, в таком, что сразу и не выявишь их. Но они есть практически в самом первоначальном виде у Волоса-Велеса, предания о котором передали русским славяне, праславяне, протославяне, получившие их в свою очередь от ранних индоевропейцев и, судя по всему, от тех общностей, которые существовали до них.
Прийти откуда-то со стороны окультуренный и опоэтизированный Велес, наверное, и мог бы. Но не быть бы ему тогда народным кумиром, продержавшимся тысячелетия, так как не было случая в истории, когда не элита, а сам народ, живущий от земли, поклонялся бы привнесенному литературно-эпическому персонажу и уж тем более наделял бы его медвежьими чертами. Нет, Велес – божество исконное, глубоко первобытное, сохраненное в первозданной свежести лишь славянами.
Когда мог появиться на свет доисторический Волос, чьим именем было наречено созвездие Плеяд-Волосынь, сулящих своим блеском удачную охоту на медведя? Шесть тысяч лет назад, девять, двадцать? Неизвестно. Может, именно Волос и было то табуированное, неназываемое имя медведя-чудища? Имя единственного по-настоящему опасного для древнего охотника зверя и обожествленного им.
Страшны были волк, вепрь, рысь. Но их можно было как-то обойти. Сами они также не слишком навязывались, старались избегать человека. Другое дело медведь – убийца, вор и разоритель бортей. Вспомните совершенно четко прослеживающуюся связь «волосатости» и Валы с пчелами, медом и прочими характерными вещами. Таких совпадений не бывает.
Медведь, как животное всеядное и не боящееся человека, всегда жило по соседству и всегда что-то «умыкало» или же в отсутствие хозяев выгребало их запасы из дома, кладовок, погребов. Тащил медведь все «награбленное» к себе – по крайней мере, так это виделось да и должно было видеться людям. Значит, у него были в «берлоге-пещере-преисподней» поистине накоплены за долгие годы «бессмертные богатства».
Уволакивал он и людей – это и «смерть», и «велесовы души». Вот такой складывался в умах образ «пастуха», пасущего в своем «загробном мире» и души людские и скот.
Большего соперника и противника у человека не было. Волки? Ну, во-первых, волк был в какой-то мере приручен, его потомки уже «служили» собакой у человека. И ему отводились совсем иные роли, о которых мы говорили. В частности, волчьи стаи были объектом подражательства племенной молодежи – «молодых волков-собак». Во-вторых, человек того времени существенно отличался от нынешнего изнеженного и избалованного субъекта. Археологи находят, к примеру, останки загрызенного волками человека – и это не единичный случай – а вокруг него лежат изуродованные скелеты дюжины волков – с переломами хребтов, свернутыми шеями, разорванными пастями и так далее. Человек мог и умел защищаться.
Развеяны, кстати говоря, и представления о том, что первобытные люди жили до 20–25-ти лет, представления, оказавшиеся ложными, но укрепившимися в сознании стереотипами. Уже многие годы выкапывают из земли останки людей шестидесятилетнего возраста и более, выясняется, что выживали даже уроды от рождения или калеки, получавшие увечья, – племя давало им пропитание и защиту, не бросало на произвол судьбы, как это представлялось нам ранее.
Но вернемся к нашему «чудовищу». Индоевропейский праязык сохранил название и другого обитателя пещер – пещерного льва. Но это «чудовище», также грозное и вполне могшее послужить прототипом для божества, исчезло из мест обитания предков праиндоевропейцев значительно раньше пещерного да и простого медведя, не оставило следа, а возможно, и совместилось с основным прототипом в сознании.
Этимологизация Волоса дает ответы на многие вопросы. В его имени заключены понятия «смерти» и «волосатости». Ведь над поверженным, мертвым медведем-волосом разыгрывались целые ритуальные представления, участники которых обряжались в шерстистые длинноволосые шкуры с «головой»-капюшоном. Отзвуки этих ритуалов попали с прародины и в греческие комедии, само название которых означает «медвежья пляска», и в белорусские комоедицы, и в новогодние болгарские «велесовы празднества». Есть они в самой непосредственной передаче и во всевозможных великоросских ряжениях.
Волхвы в медвежьих шкурах – это жрецы Волоса-медведя в первую очередь. Потом уже слово стало более емким, распространилось и на прислужников иных божеств.
С волхвами и Волосом-Велесом связано и понятие «велеть, повелевать» именно в жреческом значении, то есть не просто в смысле «приказать», но в большей степени даже – «говорить особым образом», то есть на непонятном для большинства «магическом», «ведовском» языке.
Неотделимы от имени Волоса и «валы», как укрытия. Правда, в более поздних легендах повествуется о том, что валы, и, в частности Змиевы валы, были пропаханы кузнецом, который запряг в плуг змея-чудище и гнал бороздувал до самого моря, где и утопил своего врага. Но это уже позднее, «змеиное» напластование. А в «вале» мы видим древнее «бол» и индоевропейское *Uel-. Такие совмещения очень характерны.
Мы не будем специально вникать во все тонкости и детали длительного процесса сложения двух образов «медведя» и «змея». Скажем лишь, что этот процесс протекал еще на уровне древних праиндоевропейцев, так следы его заметны в мифологиях почти всех народов индоевропейской языковой семьи. Достаточно поздний герой былин – Волх Всеславьевич, например, при всей его, судя по имени, вполне однозначной связи с медведем-волосом или его жрецами, был по былине сыном Змея.
Здесь же заметим для полноты сведений, что кроме противников громовержца, чьи теонимы выходят из знакомого нам корня «Uel», существует целый ряд «чудищ» с корнем «budh». Такие как древнеиндийский Ахи Будхнья или уже сильно измененный древнеиранский Ажи-Дахака. Но здесь первое слово нам знакомо, «ахи» или «агхи» – это и есть индоевропейское «змей». Второе же наиболее сохранено опять-таки в славянских языках, это Бадняк, Бодник, олицетворяющие вредоносные начала. На примере греческого Пифона, который, как считают ученые, также выходит из этого корня, мы наглядно видим, насколько первичное звучание изменено в, казалось бы, столь близком Средиземноморье и как оно почти в точности сохранено теми же индоариями, несмотря на впечатляющие расстояния.
Завершая наше короткое расследование, мы выражаем твердую уверенность, что образ праславянского Велеса первичен во всех отношениях. Доказательств тому было приведено достаточно. Но главными, наверное, являются те, что лишь славянские языки сохранили первозданные слова и понятия, причем все: это и «воля», и «власть», и «волосатость», и «валы», и «велеть», и «величие, величина», и «большой», и многие другие, сходящиеся в один образ Велеса-Волоса. Ничего подобного и даже близкого в иных языках в отношении противника громовержца, «чудовища», не сохранилось.
И уж в самом конце вспомним про нашего убиенного средиземноморского персонажа. Грех о нем забывать, коли мы начали с него.
Нет необходимости пояснять, что из поэтического образа козо-льво-драконообразной Химеры не мог народиться вдруг архаичный Велес. Только наоборот. Лингвистических препятствий в трансформации теонимов не наблюдается. Окончания могут быть разными: «-ос, ес, с», даже «-ор, ер» как у Балора и Белера. В этом проявляются особенности и своеобычности родственных языков. Исходный же корень во всех случаях один «вел-, вол-». Обращение букв «б» и «в», как мы уже писали, дело обыденное и привычное, достаточно вспомнить «библиотеку – вивлиофику», «Вавилон – Бабилон», «Ваала – Баала» и так далее до бесконечности. Об удвоении согласной «л» мы так же говорили при рассмотрении родственности Кополо и Аполло, это явление типичное, примеры его любознательный читатель сам может найти где угодно, даже и в этой главе, то же происходит с «велесом» и с «беллеросом». Двойственность пути «чудовища» – с севера почти одновременно в Грецию и Малую Азию, это характерная и знакомая нам «кополова тропа». Совпадает и время – середина II тысячелетия до н. э. На протокоринфских вазах уже присутствует сюжет борьбы с «беллеросом».
Очень интересный промежуточный сюжет засвидетельствован именно на полпути образа с прародины в Средиземноморье, а именно – на Балканах. Там имеются изображения, где всадник-громовержец убивает именно медведя.
Таковы судьбы богов, принесенных в Средиземноморье предками славян. Одни, типа Кополо-Аполло, становились фигурами первой величины. Другие – Лада-Лето и Леля-Артемида довольствовались вторым рядом.
Но были и те, что прививались к древу античной мифологии слабенькими веточками. Таков, по всей видимости, и Беллер-чудовище, дошедший до нас в греческой легенде благодаря своему убийце. Этакий более чем трехтысячелетний хилый, южный внучок-мальчишка, совсем не похожий на своего северного, могучего и многоликого доисторического прадедушку.
Объявления
А Ты подписался на лучший в России толстый журнал
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ, ФАНТАСТИКА»?!
Индекс 70956
Подписка на 1995 г. в любом отделении связи России!
Наш супержурнал, не имеющий аналогов в России, с каждым полугодием становится толще, лучше, интереснее.
Конкуренции с Нами не выдерживает ни одно из фэн-изданий!
ПФ – уверенно лидирует, не имея себе равных. Им зачитываются люди от 12 до 80 лет. Почему? Потому что ПФ – это до безумия интересно и увлекательно!
СПЕШИТЕ НА ПОЧТУ И ВЫПИСЫВАЙТЕ
толстый журнал книжного формата
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ, ФАНТАСТИКА»
Объединенная редакция журналов «Приключения, Фантастика», «Галактика», «Метагалактика», газеты «Голос Вселенной» и издательство «Метагалактика» объявляют конкурс
МИРЫ ЮРИЯ ПЕТУХОВА
I раздел. Конкурс на лучшие цветные и черно-белые иллюстрации к произведениям писателя Юрия Петухова «Звездная месть», «Бойня», «Сатанинское зелье», «Западня», «Измена», «Дорогами богов» и др., включая публицистику.
Конкурс проводится по трем группам участников:
1. Профессиональные художники, графики.
2. Художники-любители.
3. Дети до 15 лет (здесь потребуется помощь родителей, учителей, воспитателей, работников библиотек, кружков, студии и школ художественного творчества).
II раздел. Конкурс литературно-критических рецензий на произведения писателя (или одно выборочное произведение).
Количество работ, их формат, техника исполнения не регламентируются и не ограничиваются.
По результатам конкурса для каждой группы установлены призы и денежные премии.
Конкурсные работы будут публиковаться в наших изданиях и альбомах.
Конкурс рассчитан на 5 лет.
Подведение итогов, определение победителей и выдача премий – каждые полгода: на 1 января и 1 июля каждого текущего года.
Внимание! В школы, детские дома, интернаты, колонии, гарнизоны, студии необходимые для конкурсных работ книги и журналы высылаются бесплатно по заявкам.
Адрес для высылки конкурсных работ: 111123. Москва, а/я 40. «Конкурс»
Москвичи могут сами сдать свои работы по адресам:
– Долгоруковская, 39 (киоск журнала ПФ у троллейбусной остановки напротив метро Новослободская);
– Рязанский пр., 82/5 (м. Выхино, одна остановка на автобусе, 417 отд. связи, со двора).
КНИГИ-ПОЧТОЙ
Журнал «Приключения, фантастика» (по 200–380 стр.)
Номера 1991 г. – 5000 р.
Комплект 1992 г. – 7000 р.
Комплект 1993 г. – 7000 р.
Комплект 1994 г. – 18000 р.
1,2,3 книги 1995 г. – по 4000 р.
Библиотека прикл. и фантастики «Метагалактика»:
Компл. книг 1993 г. – 6000 р. (по 200 стр.)
Компл. книг 1994 г. – 18000 р. (по 380 стр.).
1,2,3 книги 1995 г. – по 5000 р.
Библиотека мистики и ужаса «Галактика»:
Комплект книг 1993 г. – 5000 р.
1,4,5 книги 1994 г. – по 4000 р.
1,2,3 книги 1995 г. – по 5000 р.
Тома серии «Приключения, фантастика»:
Прокол. Бродяга. Бойня. Сатанинское зелье. Измена. Западня. Чудовище – каждый по 5000 р.
Для любителей аномальных явлений подборка ежемесячника «Голос Вселенной» – 10000 р. (инопланетяне, НЛО, зомби, колдуны, магия, экстрасенсы, вампиры, оборотни и пр.).
ТАЛИСМАН-ОБЕРЕГ от сглаза и порчи – 5000 р. (защищает от психоэнергетического вампиризма)
Классификатор иноплан. пришельцев – 3000 р. (200 стр. подробное описание НЛО и инопланетян).
Прорицание о будущем в 2-х. кн. – 2000 р. (все события до 2000-го года).
Мордоворот. Прикл. повесть о рэкетирах – 2000 р.
Одержимые дьяволом. Ужасы – 2000 р.
Красный карлик. Эрот. повесть ужасов – 3000 р. (Детям до 16 лет не рекомендуется).
ПФ-измерение. Любовные приключения – 3000 р.
Дорогами богов. Подлинная история Русского Народа. Историческое исследование (250 стр.) – 5000 р.
Расширенные номера «Голос Вселенной»: 7–8, 9-10, 11–12, 1, 2, 3, 4, 5, 6-95 – по 2500 р.
Для получения заказа необходимо выслать почтовый по адресу:
111123, Москва, а/я 40 Петухову Ю. Д.
«Миры Юрия Петухова»
Суперфантастика Юрия Петухова
Собрание сочинений в 8 томах
Объем каждого тома 700 стр., черный твердый переплет с золотым тиснением, суперобложки, иллюстрации.
Высылаются первые четыре тома + абонемент – стоимость 40 тыс. руб.
(еще четыре тома выйдут до 1997 года – подписчикам гарантируется получение).
Для получения подписки выслать почтовый перевод по адресу:
111123, Москва, а/я 40, Петухову Ю. Д.
Изд-во «Метагалактика» гарантирует исполнение заказа.
Выходные данные
Художник Алексей Филиппов.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Перепечатка только с разрешения редакции.
Розничная цена свободная.
Рег. номер – ЛР 060423 Мининформпечати РФ.
Адрес редакции: 111123, Москва, а/я 40.
Учредитель, издатель – Ю. Д. Петухов
Формат 84×108/32. Тираж 8000 экз.
Подписано в печать 1.01.1995 г. Заказ № 607.
Отпечатано в Московской типографии № 13 Комитета РФ по печати.
107005, Москва, Денисовский пер., 30
Индекс 73074 ISSN 0135-552X
Примечания
(1) Феб – эпитет, греч.: «сияющий», «блистающий».
(2) Существует мнение, что поражение потерпели ахейцы. См. «Знание – сила», № 3, 7, 1986 г., Л. Клейн, «Кто победил в „Илиаде“?» и др. В нашем случае исход войны не имеет принципиального значения.
(3) Венетия – современная Венеция и прилегающие земли.
(4) Внешнее обличие Аполлона – «варварское». Он «длиннокудрый», «не стригущий власов» (Гомер, «Илиада», XX. 68, 39). У древних греков, а позже и римлян, один из основных описательных эпитетов для «варваров»-северян – «длинноволосый, не стригущий волос».
(5) «Эллинские» – в смысле «языческие».
(6) Подробнее о выделении «воинской касты» в III–II тыс. до н. э. у индоевропейцев, в т. ч. праславян, см. «Знание – сила», № 11, 1986 г. Э. Берзин. «Сивка-бурка, вещая Каурка…», с. 45 и далее.
(7) См. статью Э. Берзина (ссылка на с. 21).
(8) Теснейшая связь между славянами, венетами, кельтами, прослеживающаяся во все времена с III тыс. до н. э. и до Средневековья, отсутствие между ними четкой этнической и географической границы отражено в работах А. Г. Кузьмина и А. Л. Никитина.
(9) Х. Коте пишет: «Агафирсы и гелоны должны считаться или потомками, или преемниками сколотов».
(10) Подробнее см.: Э. Берзин, «Сивка-бурка, вещая Каурка…» «Знание – сила», № 11, 1986 г.