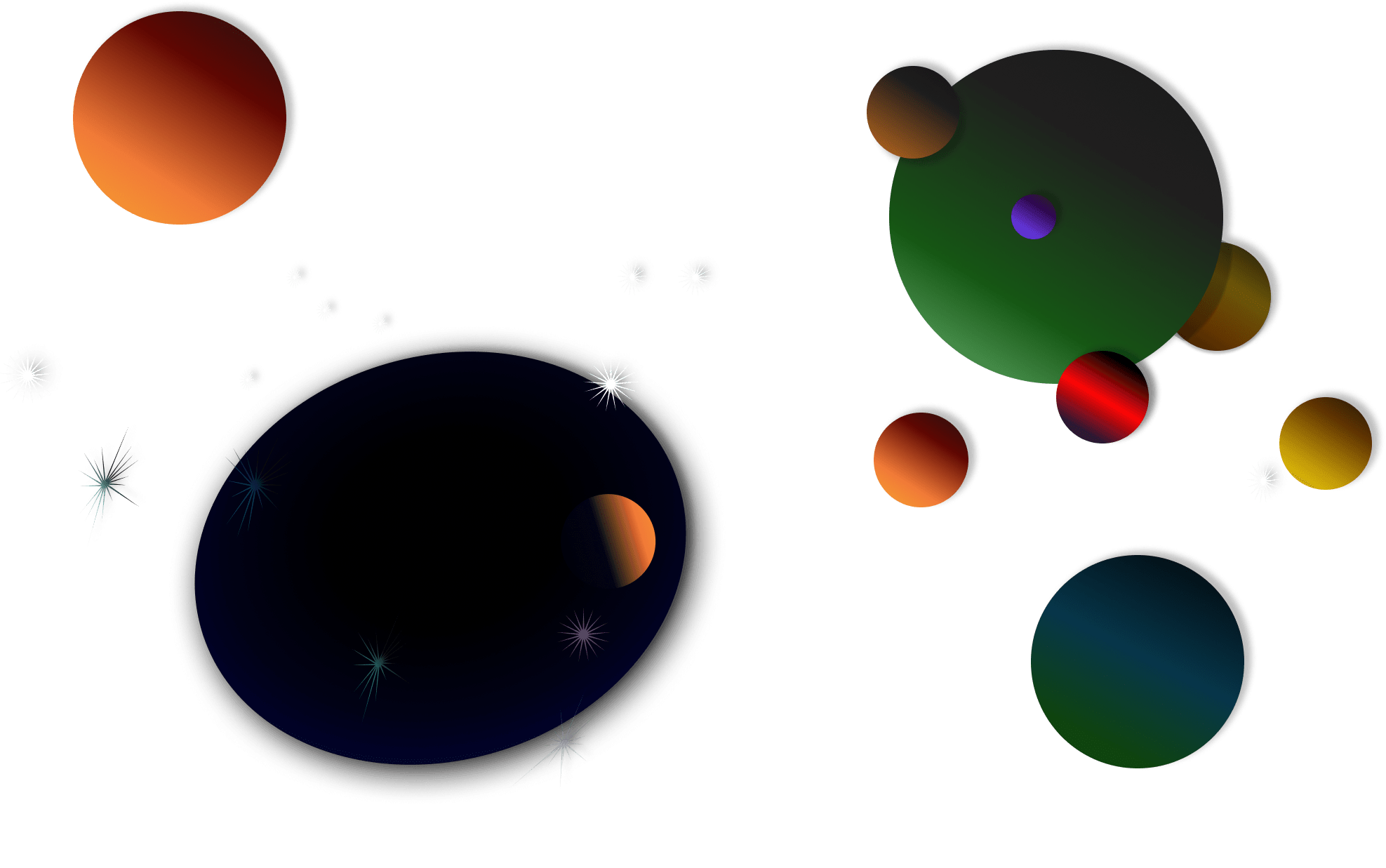Содержание
Газета «Голос Вселенной» № 4 (1995)
Величие и трагедия Российской Империи
Фашизм в России не пройдет!
Нет фашизму в России!
Юрий Петухов
Дорогами богов
Валерий Коченов
Через тернии к истине
Кто же были предки славян? Где они жили? Чем занимались? На эти вопросы я не мог найти ответы еще со школьной скамьи. Хотя тогда ответ учительницы по истории, что ими являлись скифы, кочевники-скотоводы, вышедшие из Ирана, меня на некоторое время удовлетворил. Специально какими-либо историческими поисками я не занимался. В основном свои познания я черпал из художественных исторических книг, наивно считая, что события, исключая художественный вымысел, описаны верно, правдиво. Позже мне стали попадаться серьезные статьи об археологических находках и исторических исследованиях, которые удивляли, а порой ошеломляли своими открытиями. Из того немногого, что мне попадалось, я понял, что история Российского государства на разрешенном для изучения отрезке времени, преднамеренно искажалась, а попытка заглянуть в глубь веков за границу этого отрезка, пресекалась всевозможными способами.
Впервые я столкнулся с этим прочитав статьи «Защитники земли русской» Дмитрия Зеленина и «…и вооружены зело» Виктора Прищепенко, опубликованные в журнале «Техника-молодежи» в № 12 за 1980 г. Оказывается, слово «рыцарь» славянского происхождения. На Руси появление рыцарства, а именно, «Выделение из обычных войск тяжеловооруженной конницы, назвавшейся в XII–XV веках кованой ратью, произошло в период становления раннефеодального государства и относится к III–VI столетиям» тогда как в Западной Европе рыцарство появилось (в XI–XIII веках) именно в Померании (Поморье), Ольденбурге (Старгороде), Бранденбурге (Браниборе) – то есть на исконно славянских землях, а первые немецкие рыцари носили фамилии… Белов; Дабелов, Руссов и Рыбинский Кому нужна ложь про «диких» славян? Кому выгодно обучать нас тому, что в лихую годину на защиту Родины выходили все от мала до велика, кто мог носить оружие (а не владеть им), в лаптях и с дрекольем, и непонятно, как побеждали первоклассные армии Европы? Для людей думающих этот вопрос не сложен: тем, кто ненавидит Русь и русский народ, кто пытается доказать нам, что мы варвары и должны молиться на Запад, «давший нам культуру».
Очень сильно взволновала меня работа Геннадия Гриневича, геолога по профессии, опубликованная с сокращением в журнале «Техника-молодежи» в № 8 за 1988 год. Гриневич, при помощи археологических находок, показал и доказал, что | на Руси существовала собственная письменность типа «черт и резов». Здесь хочу отметить, что еще Екатерина II в «Записках касательно русской истории» говорила: «…они (славяне) древнее Нестора письменность имели, да оные утрачены или еще не отысканы и потому до нас не дошли. Славяне задолго до Рождества Христова письмо имели». Далее Гриневич сравнивает письменные знаки славян на Фестском диске и находит, что «почти все знаки критских надписей в графическом отношении идентичны знакам письменности типа „черт и резов“. Стоило присвоить им фонетические значения последних… и полилась славянская речь». Гриневич расшифровал письмена на Фестском диске и на основе своего открытия сопоставил время исхода трипольцев с Нижнего Поднепровья-Подунавья со временем появления пеласгов на Балканах, в Греции и на Крите.
Я не специалист по вопросам истории. Я любитель, но следуя логике рассуждений и доказательств Греневича, считаю, что он прав. Прав потому, что древние греки не имели своей письменности. Они переняли ее от финикийцев или пеласгов (ученое мировое сообщество не пришло к конкретному мнению). Прав еще и потому, что я с подозрением отношусь к оценкам ученых, когда они дают отрицательные ответы на темы древней истории славян: автор неоднократно обращался в различные институты со своим открытием и везде его труд отвергли, объясняя, что он «обнаруживает неосведомленность в истории славян и сравнительно-исторической грамматики славянских языков». А следом, в журнале приводят расшифровку Фестского диска, который никто не мог расшифровать около 80 лет, сравнивают иероглифы диска с буквами греческого алфавита и говорят, что они похожи. Я тоже сравнил и считаю, что схожесть их могут подтвердить (извините за грубость) люди с больным рассудком, с пьяного угара или под невыносимой пыткой. Далее говорится, что Фестский диск заговорил на древнегреческом языке. По-моему, эта расшифровка очень похожа на подтасовку.
Эти два примера я привел для того, чтобы как можно ярче подчеркнуть ситуацию, которая произошла с «Дорогами богов» Ю. Петухова: трижды он отправлял свой труд в Академию наук СССР на рецензию и трижды она не могла опровергнуть ни единого аргумента монографии.
К 1992 году у меня сложились определенные взгляды, мировоззрение. Именно тогда я купил первые три номера журнала «ПФ», где обнаружил подлинную 12 – тысячелетнюю историю русского народа Юрия Петухова «Дорогами богов». Прочел я ее, что говорится, взахлеб, порой недопонимая чего-то, но не останавливаясь, по-видимому, от того, что наконец-то наткнулся на нечто грандиозное. После прочтения 2 и 3 номеров «ПФ» (я не знал тогда, что есть продолжение монографии) несколько дней я находился в какой-то прострации, ничего больше не мог читать, по-видимому, подсознание перерабатывало полученную информацию, так как сознание с первого прочтения было не способно это сделать. После второго прочтения способность размышлять вернулась не сразу, сначала изумлялся и ликовал, ликовал и изумлялся. Ликовал от того, что наконец-то нашел стержень истины, который теперь станет опорой во всех моих делах на протяжении всей моей жизни. Изумлялся крупномасштабности исследования, трудолюбию и терпению автора, которые можно брать за пример.
Вскоре у меня засела в голове назойливая мысль, что, может быть, по следам археологических находок можно проследить пути расселения предков Индоевропейской расы. Я не стал вдаваться в серьезные и глубокие изыскания и, использовал те данные, которые дозволено было опубликовать в журналах «Техника-молодежи» и «Вокруг света» в 80-е-90-е годы. Нанеся на карту места археологических находок, я приблизительно определил ореол их распространения, используя данные ученых, и согласуй со временем, к которому они относятся, определил пути расселения индоевропейцев. Каково-же было мое изумление, когда прочитав продолжение «Дорогами богов», я обнаружил карту очень схожую с моей, но полученную с помощью лингвистических мифологических изысканий.
Здесь возникает вопрос, почему ученые, археологи не додумались до составления подобной карты? А может быть, додумались и обнаружив, что славяне, о которых говорили почти как о пещерных людях, оказались древнее любого другого народа из индоевропейской расы, что доказал Ю. Петухов, скрыли это открытие и потом всячески препятствовали обнародованию этого открытия. Из страха что народ, который унижали, оскорбляли, грабили, узнает правду о величии своей истории, поймет что его долгие годы во всем обманывали и, выпрямившись гордо, возвысится над своими поработителями. А оно так и будет, ибо правда рано или поздно восторжествует.
Для тех кто отмахнется от моего подтверждения монографии «Дорогами богов», дескать, невесть кто, скажу что есть еще «Велесова книга», подлинность которой подтверждена именитыми учеными. В этом древнейшем летописном эпосе говорится об истории Руси с середины третьего тысячелетия до н. э., о местах расселения и миграциях русов. Даже вечно сомневающийся скептик, после прочтения «Дорогами богов» и «Велесовой книги» усомнится в возможной ошибке Петухова. Только может возникнуть единственный вопрос. Почему у народа с такой богатой и долгой историей нет других документов, подтверждающих ее? Каждый народ для письменности пользовался тем материалом, который был более доступен. Египтяне – папирусом, этруски-росены, критяне и мн. др. глиной, некоторые народы в целях сохранения своего послания на долгие годы – камнем. Славяне использовали бересту или «дощьки» – деревянные дощечки – на которых была оттиснута «Велесова книга». Надо сказать, что береста на удивление долго противостоит гниению. Ее подкладывали под нижний венец сруба, чтобы как можно дольше его сохранить и в то же время береста прекрасное средство для разжигания огня. Неисчислимые войны и нашествия врагов являлись причиной пепелище. Огонь не щадил ничего. Дотла сгорали деревни, города, храмы, которые всегда являлись средоточием культуры, а вместе с ними сгорали письмена.
Честным ученым есть о чем подумать, ведь есть и другие доказательства древней истории славян, одно из которых – могучий, богатый русский язык. Огромное количество слов, непонятно откуда взявшихся и у кого позаимствованных, потому что они существовали уже тогда, когда большинство европейских государств и народов еще не состоялось.
Валерий Коченов
Юрий Петухов
Вражина
Удар оглушил его, в глазах померкло. А самое главное, он не видел взмаха, меч обрушился на голову, будто из тучи стрела Перунова, внезапно. Оставалось читать молитву и, пока сознание брезжило и душа не отлетала от тела, готовиться к смерти. Но нет, спас конь – он отскочил на несколько саженей от страшного места, унес хозяина-седока. И этой секундной передышки хватило – Никита пришел в себя.
Он откинул личину, глотнул воздуха. Свет возвращался в очи, руки наливались прежней силой. Меч, безвольно болтавшийся на паворзне, вздрогнул, слившись своей рукоятью с ладонью в кольчатой перчатке, стал медленно приподниматься. Резким кивком Никита возвратил личину на место, расправил плечи.
Вражина гарцевал на вороной жилистой кобыле все там же и даже не пытался приблизиться. Поигрывая мечом, поглядывал из-под козырька блещущего на солнце шелома, не торопился. На сто саженей вокруг они оставались одни, спешить некуда умереть всегда успеется.
Не спешил и Никита. Обернувшись на миг, он увидел краем глаза, что сеча в разгаре, и тут только понял, что лишился слуха: оттуда, издалека должны были доноситься скрежет железа и глухие, но слышимые удары по живому, крики, топот, стоны, предсмертные стенания и отчаянная ругань. Но ничего этого не было, только разгоряченная кровь била в уши, виски, затылок. «Ладно, оклемаюсь, – подумал он, – выдюжу! – И еще, с ехидцей: – А ведь оплошал супротивничек, маху дал, голоменью меча хватанул, плашмя! А то б румянили меня черти на том свете, на вертеле!» Это придало Никите бодрости, он вскинулся в седле, сжал бока Рыжего ногами. Пора!
Рыжий встрепенулся, огрызнулся на седока, чуть было не хватил здоровенными зубами за колено. «Дикарь!» – Никита приложил коня рукоятью промеж ушей. Слегка, в десятину силушки. Тот сразу стал покорным, только прядающие уши говорили, что ему не очень-то хочется лезть на рожон. Острые шпоры довершили дело – конь понес мелкой рысью на противника.
Никита пытался сдержать возбуждение, оно только помеха ратной жатве. Спокойствие главное, расчет. Он внимательно наблюдал за воином на вороной кобыле. И вдруг ему показалось, что тот хочет удрать, – вон натянул поводья, вздымает плечи, головою вертит. Не тут-то было: впереди, от края до края окоема, битва не стихает, позади… А позади, Никита ясно видел, за деревцами чахлой, облезлой рощицы поблескивают копьями да рогатинами пешцы, засадный полк, свой. «Некуда тебе, дружочек, деру давать. Не уйдешь, паскудина!» Рука все крепче сжимала рукоять. «Жаль, копьецо обломилося о вражий бахтерец, ох как жаль!»
Из-под козырька на него пристально глядели узкие, сощуренные глаза. Кроме них, все лицо наездника было под кольчужной завесью. Копыта вороной вязли в раскисшей после дождя земле. «Ну чего ж ты? – с досадой и плохо скрываемой за ней гордыней прошептал Никита. – Боишься? Бойся, бойся – правильно делаешь». Резким движением он рванул ремешок на груди – корзно, тяжело съехав по крупу коня, съежилось на земле. «От так полегше будет, сподручнее». И он снова направил Рыжего прямо на врага.
Съехались. Никиту поразило, как оскалилась вороная, разбрызгивая по сторонам пену, – зверина. Он поднял меч, рубанул им воздух, отпрянул в сторону. Противник не поддался на хитрость. Приходилось начинать все сначала. Положив меч поперек седла, он, не суетясь, вытащил из-за спины сулицу. Промахнулся. Вторая вонзилась в середину багряно-красного щита. С третьей Никита опоздал – новый удар покачнул его в седле и… вернул слух: уши заныли от оглушительного рева-храпа-звона, ворвавшегося в них. Никита мотнул головой – цела, цела головушка! Ему стало не по себе. «Заманивает! Играет, как кошка с мышкой! Ну, поглядим, поглядим, кто у нас мышкой будет!» Хладнокровие начинало оставлять его, перед глазами замельтешило.
А незнакомец опять приплясывал на своей кобыле, месил грязь подкопытную на безопасном расстоянии.
«Да пропади я пропадом, – решил Никита, – не прохлаждаться на сечу приперся!» Сердце екнуло. «Щас поглядим, поглядим…»
Стоял на земле Русской цветень, месяц, когда разбухшие почки на деревах выпускали в свет первые нежные листочки и зеленела даль бескрайняя, готовясь встретить лето. Несла свои воды неспешная Липица, звенели над ней спозаранку пичуги, и солнце лучами щекотало молодые побеги. И шел по свету 1216 год от Рождества Христова и 6724-й от сотворения мира и нес новые радости и новые невзгоды. Чего больше, чего меньше – проживешь этот год, тогда и подсчитывать будешь, коль цел останешься, – миру давно не было.
Сошлись на Липице дня двадцать второго апреля-цветеня две силы, два войска. Сошлись испытать судьбу, порешить в сече кто из ведущих их в бой смертный больше прав имеет на великокняжеский престол. А вели рати два Всеволодовича, два брата – Юрий и Константин. Вели, чтоб мечом правду отыскать да им же межу пропахать кровавую меж собою.
За одним братом, Константином, шла вся Новгородская, Псковская, Смоленская, Торопецкая и Ростовская земля. За другим, Юрием, дружины Владимира, Переславля, Бродов, Мурома и Суздаля. Много было и прочих удальцов, присоединившихся не к одному, так к другому. От топота копыт сотрясались дороги и луга, поля и перелески. Давно Русь не видела такой тьмы ратников, собравшихся воедино.
И век бы ей этого не видеть! Второй раз за последние сорок лет становилась Липица свидетельницей лютой усобицы. Отцы рвали землю на клочья, не отстали от них и дети.
Не нам с высоты веков судить их. А сказать надо бы – было то, что было, что должно было быть. Суровы законы истории, не объедешь их на кривой, не вывезет! Время бросать камни, и время собирать их… Была пора – единилась земля общеязыкая, крепла, твердо стояла от теплого моря Русского до студеных морей. Была, да прошла. Настало времечко рассыпаться ей на крохи крохотные, обособиться, чтоб в одиночку силу набирать, матереть, развивать ремесла и искусства не только лишь в центре, повсюду, до самых краев окраинных, в каждом закуточке захолустном, чтоб, слившись потом, поразить мир мощью своей и удалью, неприступностью и гостеприимством радушным.
Но пока станет она такой – немало кровушки прольется. Каждая пядь земли напоится ею не на один локоть в глубину. Не один урожай взойдет на костях сыновей ее и недругов. И от того станет земля в сто крат дороже любой другой.
Никита старался прижать противника к рощице. Не выходило. Выходило совсем обратное – матерый всадник притирал его к сражающимся. Уже не сто саженей отделяло их от гущи побоища, а вдвое меньше, вот-вот и они вольются в ощетинившуюся копьями и мечами громаду.
Казалось, с лихвою пожил на свете Никита, четвертый десяток шел – для воина срок немалый, думал – все познал, не удивишь. АН нет, не понимал он, чего от него хочет враг, сам не наскакивает и боя не приемлет. Но не трус, нет! Кто знает, что у него на уме? Не угадаешь. Да и угадывать было не к месту, не время. Начнешь гадать-судить, глядишь, и с животом распрощаешься. Но Никиту так запросто не уложишь, он за себя постоять сумеет.
Впору было хоть бросать вражью душу да, оборотясь спиной к нему, скакать туда, в общую свалку, к своим. Не догонит, не успеет! Мешало самолюбие, гордыня, которой не усмирить проповедями ни одному священнику. А какой был молебен перед сечей! Никита вспомнил, и аж мороз под кольчугой пробежал услада, нектар неземной. И кто не верил ни в бога ни в черта – и те прослезились, душой воспылали на супостатов, пускай и единокровные они братья-русичи, а враги! Да такие, что и не бывает хуже. Своих всегда больней бьют, пускай чужие боятся. С чужими делить нечего, кроме земли, а эти против своей же веры пошли, против владыки законного, окаянились… Нет, хорошо все-таки говорил поп! Многих за живое взяло.
Неожиданно из общей массы сражавшихся вырвались двое. Оба всадника бились отчаянно, клинки их мечей скрещивались, отскакивали друг от друга, от щитов. Никита, продолжая следить за «своим», как он его уже успел окрестить, поглядывал на бьющихся. Ошибиться он не мог – один из них был брат, Семен. Никита узнал его почти сразу и по коню белому, Роське, и по шелому с еловцем, какой только его брат старший носил.
Первым порывом было броситься на выручку брательнику. «А, хрен с ним, с супротивиичком, не поспеет! Надо Сенюху спасать!» Он было пришпорил коня, но опоздал – помощи уже не требовалось. Здоровущий мужчина, может, новгородец, а может, и псковский, вдруг вытянулся над седлом, побагровел вмиг и развалился на две половины по бокам своей пегой лошадки. Обезумевшая животина понесла вскачь остатки седока к рощице, взлягивая задними ногами, расшвыривая поодаль ошметки вязкой земли. Разрубленный покорно колыхался в такт ее движениям, и трудно было различить, где у него что – голова, руки, тулово…
Семен брата не приметил. Видать, в пылу был. Не стал и добычу догонять, вернулся в гущу. Никита знал: Семен заводной, неугомонный. Крикнуть бы! Да голос в глотке застрял. А как бы они вдвоем ловко расправились с этим чужаком! Никита только зубами скрипнул. «Ништо, и один осилю!» Биться можно лишь тогда, когда веришь в себя. Потерял веру – голову потеряешь. А и спасешь случаем, в другой раз откликнется слабость твоя, аукнется смертным сипом.
А со «своим» пора было кончать. Или самому кончаться. Одно из двух. Другим оборотом не обернется, не жди.
Из одного большого Всеволодова гнезда вылетели Юрий с Константином. Завещал Всеволод стол киевский сыну Юрию. Константину Ростов достался в кормление. Но посчитал себя обиженным старший Всеволодович, подстегиваемый удельным торопецким князем Мстиславом Удалым. Порушил отцовское завещание.
За Юрия вступился Ярослав и прочие младшие братья со своими дружинами. Присылал к нему послов не единожды Константин, просил добром великое княжение уступить по старшинству своему. Выпроваживал братних людей Юрий – в силу свою уверовав, на бога удачи надеясь.
Утро лишь забрезжилось молочным рассветом, а войска Константина, перейдя топкий, заболоченный ручей Туген, встали супротив дружин Юрьевых. И не долго стояли в томлении – в самый центр рати ударили, потеснили стоявшего там во главе большого полка Ярослава. Завязалась битва. Поднял меч новгородец на владимирца, пскович на суздальца, смолянин на муромца… брат на брата, свой на своего. И не опустить уже было этот меч так, чтоб кровью не окропился. Поздно!
Никита полукругом, сжимая кольцо, подбирался к «своему». Сулиц не осталось, вся надежда была на проворный меч и крепкий щит. Да на сноровку свою, годами приобретенную.
И не остановился бы он вдруг как вкопанный, осадив Рыжего, если б не блеснуло в траве что-то. «С нами бог! – мелькнуло у него в голове. – Ну, теперь держись, друг ты мой сердешный! Заказывай, пока дух в тебе есть, панихиду. Не дождется тебя, вражина, жена твоя, да и не жена, почитай, вдова с этого вот мигу!» Он, не слезая с коня, запрокинулся набок, левой рукой уцепившись за луку седла, правой ухватил почернелое древко. Теперь у Никиты было копье. Он вслух, шепотком поблагодарил обронившего его. «Может, и в живых уже нет хозяина, а все равно выручил. Вот вернуся, свечечку поставлю за упокой души безымянной!» Однако меча в ножны не вложил, стальное лезвие покойно покачивалось на крученой коже паворзня.
Уже на скаку Никита решил – бить вороную. Промахнуться невозможно, наверняка удар придется. А падет она, добить пешца – дело плевое. Попробуй перемоги пеший конного, один на один!
Но в последний, решающий миг дрогнуло сердце, пожалело неповинную тварь божию, и он чуть вскинул острие копья. Щит противника разлетелся вдребезги, он сам качнулся в седле, выбросив вверх, будто пытаясь уцепиться за небеса, левую руку, но удержался, только плотнее прижался, приник к своей вороной.
Никита решил ковать победу, пока горяча. Он не стал отъезжать поодаль для разгона, а, круто развернувшись на месте, вздел коня на дыбы и, пользуясь тем, что противник не может достать его мечом, подкинул копье, подхватил его поудобнее и сверху обрушил всем весом кованого наконечника и своей тяжелой руки на шелом врага. Лязг металла был настолько осязаем, что Рыжего передернуло, он захрипел, оглянулся на хозяина. Никите было не до него, чуть не потеряв равновесия от вложенной в удар силы, он не сумел вовремя отдернуть громоздкое древко и сжимал теперь в руках обрубок залосненной скользкой древесины, длиной не больше двух локтей, – «свой», несмотря на чудовищный удар, искореживший весь верх его шелома, успел, изловчился – сверкнувший молнией меч отсек стальное жало.
И все же Никита ликовал. Он ясно видел – вражина выдыхается, он потрясен, а это главное, оставалось лишь довершить дело. Отбросив обломок в сторону, Никита ухватился за рукоять меча.
По лбу, щекам под личиной катил пот, попадал в глаза, мешал смотреть. Но времени утирать его не было, каждое мгновение могло стоить жизни.
Сталь мечей схлестнулась в воздухе, вплелась в общий шум битвы. «Свой» держался, да еще как держался! И если Никита часть ударов принимал на щит, тому приходилось полагаться только на узкую полоску стали в руках.
Уловив момент, Никита резко выбросил вперед лезвие меча и тут же, почти неуловимо для глаза, направил его вниз, потом на себя…
Дрогнули полки Юрьевы, не выдержали натиска конницы Мстислава Удалого. Лишь небольшими островками держались еще лучшие воины владимирских и суздальских дружин. Но участь их была предрешена.
А солнце не успело вскарабкаться и на половину своей обыденной высоты. Свежий ветер дул с Липицы. И не в силах он был охладить пыла наступающих. Кровавая бойня шла к концу.
Уже покинул поле князь Юрий с братией своей, бросив остатки рати. Уже Константин, опьяненный схваткой, торжествовал победу. Но не смолкал звон мечей над истоптанным, усеянным изрубленными телами лугом.
Полюшко покорно принимало в свое лоно багряную влагу, как и тридцать девять лет назад, когда на этом же самом месте сошлись в неистовстве лютом рати Всеволода Большое Гнездо и Мстислава Ростовского. Нет, не забыло оно того ливня кровавого – сколько лет наливались пуще прежнего на нем травы луговые!
Много было на Руси котор и распрей. Немногие из них выливались в смертные сечи. Много чаще другое было – сойдутся два войска, постоят друг против друга день, другой, а то и неделю, и – как камень с плеч – найдут князья-соискатели язык общий, договорятся, отведут косу костлявой хищницы от людей своих, не дадут детям сиротами расти, женам вдовами оставаться. Да, так было чаще.
Но было и иначе. Нехорошей памятью в историю войдет не повинная ни в чем речушка Липица. На века войдет.
…меч сверкнул своей чистотой голубоватой, не запятнался – столь скор удар был. Скор да спор – левая кисть всадника отскочила, будто ее и не было. Рыжему прямо в глаза ударила струйка крови. Он шарахнулся в сторону, запрядал ушами, по нервному длинному телу пробежала волна крупной дрожи. Никита потрепал коня по загривку, шумно выдохнул. «Все! Теперича хошь голыми руками бери, истечет весь – сам свалится». Он заметил, как побежали куда-то пешцы из рощицы, но не придал этому значения – у каждого свое дело, своя дорожка.
И еще он видел Семена, проскакавшего во весь опор мимо на вздымленном, посеревшем Роське. Глаза у Семена были безумные, шелом съехал набок, из-под него торчали выцветшей соломой длинные растрепанные волосы. Семен прокричал что-то на ходу, но Никита не расслышал – не до брательника было. Надо было кончать с противником.
А тот, обмотав плащом обрубок, крутился на напуганной, приседающей на задних ногах кобыле. И все на одном пятачке. И не пытался уже ни бежать, ни молить о пощаде. Тело его время от времени вздрагивало, голова тряслась. Но меча он не выпускал из рук и глядел из-под козырька прямо на Никиту глаза в глаза. Даже жутко становилось…
«Ну, сейчас ты у меня закрутишься, запляшешь!» Никита начинал стервенеть. Пролитая им кровь растравила его – чего ж останавливаться на полпути?! И он вонзил шпоры в бока коню.
Первые два наскока всадник сумел отразить. И хоть слабела его рука (Никита чувствовал, как он теряет силы), «свой» держался в седле. На третьей попытке Никита выбил меч у противника и сшиб его щитом наземь.
И снова промелькнула мимо фигура Семена. Оглядываться Никита не стал. Но он чувствовал, что на поле творится что-то неладное, что лучше, наверное, было бы скакать вслед за Семеном, бросить поверженного врага, ведь не представлял он для Никиты теперь никакой угрозы. Вон, лежит, и не поймешь то ли жив он, то ли мертв? Но нет, вроде бы пытается встать, приподняться.
И Никита не смог сдержать себя, не смог остановиться. Он соскочил с Рыжего и подбежал к лежащему. Ухвативши меч обеими руками, он в исступлении стал наносить удар за ударом по трепещущему, еще живому телу. Он сразу вдруг взмок весь под кольчугой, устал, запарился, но накатившая ненависть душила его. «Получай, получай, вражина! Еще! Еще тебе! За все!» На теле, уже мертвом теле, не оставалось места, не изуродованного жалом меча.
В своем безумии он не заметил остановившегося подле него Семена. Роська раздувал бока, переминался с ноги на ногу, встряхивал головой. Но Семен сидел словно изваяние, кровь отлила от его лица, глаза перескакивали с брата на лежащее искромсанное тело и обратно. Шелом он потерял, и было видно, как на восковом лбу выступала крупная прозрачная испарина. Руки, сжимавшие поводья, закостенели.
Расправившись с телом, Никита рванул застежку у ворота, обтер о плащ лежащего меч и тяжело вскарабкался на стоящего рядом Рыжего. В седле он сразу как-то поник, съежился. Сказывалась усталость Семена он заметил только тогда, когда тот подъехал почти вплотную.
Никита закинул вверх личину, отер перчаткой пот, широко улыбнулся брату.
Тот не ответил улыбкой, лицо его казалось застывшей маской. Приблизившись, Семен вскинул руку и наотмашь, в полную силу, ударил Никиту в переносицу. Никита вылетел из седла и плашмя рухнул на землю, совершенно не понимая, что происходит. Когда он поднял лицо кверху, Семена рядом не было. Но все же, сквозь заливавшую глаза кровь, Никита увидел брата саженях в десяти от себя. Ему показалось, что тот что-то ищет среди убитых.
В бессильной злобе Никита заскрипел зубами. И еще он увидал, как издалека неспешно приближается к нему отряд всадников, человек в семь-восемь. «Чужие! – промелькнуло в голове. – Эти поспеют!»
Двадцать тысяч осталось лежать на поле. Для тех времен, когда все население бескрайней, крупнейшей из всех европейских стран Руси еле дотягивало до восьми миллионов, это было совсем не мало.
Неполных два часа битвы – и двадцать тысяч трупов!
Братья-князья договорятся друг с другом. Юрий уступит старшему, Константину, отцовский великокняжеский престол, а сам уйдет в Ростов. Чтоб просидеть там не так уж и долго, до смерти брата. А потом он снова займет первое место в земле Русской. Не внакладе останутся и бояре, и воеводы, и дружина ближняя – каждому воздается по заслугам его и по умению приглянуться господину своему. Никто обделен не будет.
И только те двадцать тысяч людей останутся навечно в сырой земле подле Липицы-речки. Навсегда. А через семь лет будет Калка, а еще через тринадцать – горящие Рязань, Владимир, Суздаль, Москва, а там и Киев, Чернигов…
Семен поспел раньше тех. Он спешился за десять шагов до все еще стоящего в растерянности Никиты. В руках у него было что-то большое, тяжелое.
Приглядевшись, Никита понял, что это старый, ладно сработанный, дальнего боя самострел. Одного он не мог понять зачем сейчас самострел Семену? И почему он с коня сошел? Голова кружилась, мысли расползались. Оставалась лишь одна, та, что жить ему больше, наверное, не придется. Такое предчувствие не могло быть обманным.
Семен подошел, коротко бросил: «Иди за мной!» Не оборачиваясь, пошел к убитому. Никита следом. Надо было бежать, но он не мог – что-то внутри порвалось, будто натянутая тетива лопнула. А Семен стал на колени, сбросил с лежащего шелом, осторожно потянул на себя кольчужную завесь с лица. Поднялся.
Никита остолбенел, схватился за голову. Потом упал на колени. Перед ним лежал, пускай весь израненный, изменившийся почти до неузнаваемости, но все же он, именно он! Его отец.
Сквозь весь ужас дошедшего до него проступала разгадка так вот почему всадник не стремился вступить с ним в открытый бой, оттягивал время, уводил от общей сутолоки сечи. Он узнал его, Никиту! Но почему, почему он тогда молчал?! Мысли наскакивали одна на другую путались, но Никита судорожно искал ответа, будто надеясь тем самым повернуть время вспять, изменить все… Он забыл о своей временной глухоте, да и не в ней, видно, надо было искать причину, забыл об ослеплении злобой. Так ведь бой! Как же иначе?! Так-то оно так, но легче от этого не становилось. Никита тихохонько завыл.
Сколько же прошло – шесть? Нет, семь лет с тех пор, как они все вместе сидели в доме отчем за общей братиной. И вот она, новая встреча! Новый хмельной пир!
Кровь бросилась к вискам, застучала в них, затуманила глаза багровым маревом. Никита упал лицом в траву. Но пролежал так недолго. Голос брата вырвал его из беспамятства. Он приподнялся на коленях, развернулся всем телом к брату, поднял голову.
В свой последний миг земной жизни он видел одно – не приближавшихся, бывших почти рядом Константиновых дружинников с оголенными мечами и не тяжелое ложе медленно поднимающегося, нацеленного каленой толстой стрелой в его грудь самострела, нет, он видел только глаза брата – ледяные, мертвые. В них не было ни злобы, ни безумия, ни злорадства. В них не было ничего, кроме холода и пустоты. Никита не мог оторваться от этих глаз. И уже на краю смерти он постиг они и не видят его, они сами по себе, как и все остальное на этом жестоком и не таком уж и белом свете.
А Семен, почувствовав каким-то нечеловечьим чутьем выросшего за спиной всадника и его руку с мечом, занесенную над головой, не оборачиваясь, вздернул самострел чуть выше, на уровень лица того, кто еще недавно был его братом, и нажал пальцем на спусковой крюк.
Сказка
Совершенно исключительный исторический интерес представляют сказки, в которых врагами русского богатыря являются не Змеи, а змеихи, жены и сестры убитых змеев, или Баба-Яга, ездящая верхом на коне во главе своего воинства – что неизбежно наводит на мысль об амазонках, живших у Меотиды.
– Дед, ну деда!
– Чаво тебе ищо?
– Ну расскажи, деда-а-а. – Маленький Ивашка теребил Данилу за рукав, выдергивая его из привычной старческой полудремы.
Мать с отцом возились во дворе со скотиною, и потому в полутемной избе оставались они вдвоем – старый да малый. Изба топилась по-черному, но маслянистая сажа заволакивала лишь три вышних венца сруба, и в самой горнице было тепло и чисто. Ивашка слышал дедовы сказки не раз, да уж больно вечера были долгими.
– Про Ягу, деда-а, – тянул внучок, – да не спи ты!
Данила, прогоняя остатки сна, уселся на лавке поудобнее, привалился спиной к печи.
– Слухай, Ивашка, да запоминай – придет черед, и ты мальцам баять будешь. Хоша и больша жизня моя была, а каплей она малой в ручейке том, что сказ сей до нас донес. Слухай. Ивана-то, дурака, не по то дураком кличут, что дурен был, сам понимаешь, а за то, что чином-званьем не вышел. Только кода прозвали уж, не переимянешь, так-то. Вот и пошел, значит, Иван-дурак-то по указу царя в самое девичье царство, чтоб Красу-Моревну добыть да и царю тому в жены привесть…
…Это так для складу говорица-то, что один он, Ванька, побрел судьбу пытать, а ты смекай, Николка, – был тот Иван в войске царевом, потому как таки дела в одиночку-то – рази провернешь? А было то исчо до Батыя поганого задолго, глубоко в веках затерялося. И прадед мой, Митроха, что бесерменский наход пережил и самого Батыя окаянного в глаза видал, и тот не ведал – где корешки поведанья сего.
В лесу дремучем, на полянище – изба, да не проста, а на курьих лапах стоит. Иван-то и обомлел…
…а эта самая Яга как заверещит звериным рыком – птичьим клекотом: «Поворотися ко мне лицом, а к Ваньке-дурню задом», – да в ступу свою – скок! Эх, внучатко милай, тута у меня память отшибло чтое-то. Вот дед мой, Славята, упокой господи его душу некрещеную, хошь и лзышником поганым был, а складно молвил – ему-то сам прадедич наш Твердыня, что с Ольгом-князем Царьград примучивал, сказывал о том. Да ить скоко годин пронеслося…
…и почал он рубать головы-то у ягишен, дочек кровных самой Яги. Одну долой с плеч – а с половинок тела разрубленного – две новы встают. И такое их множество великое, что застили-то свет весь белой… Что? Нет, Всеславушка, князюшки нашего Кия о ту, пору и в помине не было, да и валы Трояновы, что ромеи поставили при прапрадеде моем на сторожу себе, не высилися тогда стеною каменною. Только старый Улеб говаривал, помню, что – быль сие, не баснь попусту набаяннал. Ты слушай да запоминай хорошенечко – род памятью жив.
…А было то, Вячко, с дедушкой моим по материной ветви. Он один из роду нашего вернулся назад в те годы лихие. Он и рассказчик един был – хочешь, верь, хочешь, нет – других не осталося: все полегли у Большой воды в Поле Диком, только и к нам не пустили ворога. А стоял-то он у земель наших столько, сколько наше племя живет на свету белом и под своим именем вящим себя помнит. И сколько помнит, с ворогом тем, что с восхода на день обступил рубежи наши, бьется. Мирится и опять бьется. И так всегда. И не знает никто уж – новый ли ворог пришел на смену али старопрежний стоит…
Ба-Баян-Га, старейшая из великих воительниц, доживала свой век. Уже минуло девять весен, как ее не брали в набеги. Редко кто из воительниц дотягивал до ее лет, обрекая себя тем самым на безрадостную тусклую старость в вечно кочующем походном становище. С ней еще считались ее более молодые соплеменницы и никогда не обходили при дележе добычи, ее приглашали на совет, и никто не смел прервать ее слова, как бы длинно оно ни было. Но разве все это вместе взятое хоть в какое-нибудь сравнение с бешеным вольным ветром, бьющим в лицо, когда полудикая кобылица несет тебя во весь опор по бескрайней степи, с отчаянным, горячащим кровь и опьяняющим душу азартом всегда внезапного, молниеносного наскока на беспечных чужаков и такого же стремительного, несмотря на полон и захваченный ясак, отступления, почти бегства, но не простого, а восхитительного и ничем неостановимого бегства победителей?! А сам миг битвы, когда меч в сильной проворной руке подобен беспощадному жалу, а лицо и полуобнаженное тело ласкают брызги вражеской крови, когда не чувствуешь собственных ран и увечий, потому что сознание, будто сильнейшими порошками Востока, одурманено видом чужих смертей?! Собственная всегда придет незаметно, в сладчайшее мгновение сечи, и унесет вырвавшийся наконец, свободный, только дочерям их племени ниспосланный дух в лучший изо всех заоблачный мир… Всем ее подругам было даровано это мгновение, всем сверстницам, всем, кроме нее самой. И потому дух ее, остававшийся в немощном теле, вынужден был терпеть все это никчемное стадо рабов, верблюдов, негодных для битвы коней и мужчин племени, всю эту суету, и рабынь, вскармливающих своим молоком детей ушедших воительниц, и тягучее время.
Ба-Баян-Га возилась у походного котла, высокого, вытянутого вверх, с узким круглым дном. Такую работу можно было доверить и рабыне, но старая воительница находила в приготовлении пищи особую да и, пожалуй, единственную утеху. Время от времени она подбрасывала в варево коренья и травки, только ей известные, – они придадут сил усталым после набега соплеменницам. Если те, конечно, надумают вернуться сегодня.
Три дня назад ушли они во главе с Ай-Ги-Ша, дочерью старейшей воительницы. И только один ветер степной знает, где их можно отыскать теперь. Он всюду летает, и нет ему преград. А ей, а что ей? Ба-Баян-Га не может теперь без посторонней помощи даже на коня взобраться – девять весен назад чей-то меч, в схватке и разглядеть не успела, прежде чем сознание ее затмилось, отхватил начисто правую ногу почти у самого колена. Три недели – уже даже тогда старая – Ба провалялась в беспамятстве. Нетерпеливая дочь ее готовила тризну – ведь небо требовало души предводительницы племени. И праздник должен был превзойти все предыдущие погребения знатных женщин их рода. Но тризны не получилось, небо распорядилось иначе и послало на помощь больной раба-лекаря. Раб был с берегов Дальнего Океана, оттуда, где племя великих воительниц кочевало весен двенадцать назад, но, не выдержав сырости и зноя, поворотило коней на Север. Раб был искусен в своем деле, но помощью его пользовались редко, больше на судьбу полагались да на горячую, неукротимо-здоровую кровь. На этот раз раб пригодился. Он не только залечил рану, но и научил других невольников, как сделать из тяжелого бивня тех огромных зверей, что водились на его родине, ногу, почти что настоящую, только без ступни. Полгода привыкала Ба-Баян-Га к своей новой ноге. Ходить-то стала, припадая, терпя боль, но привыкнуть так и не сумела. Уж лучше б ей тогда голову снесли!
Ай-Ги-Ша умело водила племя. И мать, глядя на нее, тайком радовалась – такал не ведает жалости к. врагам, славная замена. Вот только стянутые тугой повязкой, а если распустить – разлетающиеся до крупа коня смоляные волосы Ай уже тронула седина, но Ба-Баян-Га знала, что ее дочери предстоит долгая еще жизнь. Жизнь настоящая, не у котла и арбы, а там – в степи.
У самой старейшей воительницы и волос-то почти не осталось – из-под повязки выбивались в разные стороны грязно-седые, поблекшие клочья, спутанные, никогда в жизни не знавшие ласки водяных струй. Были, были и у нее косы не хуже, чем у Ай, а может, и лучше! Но где то время? Были и глаза чернее ночи и жарче огня. А теперь один мутно выглядывал на мир, а второй, заплыл под багровым, со лба на щеку, рубцом – памяткой уже здешних мест. Нос набряк и вытянулся к острому, поросшему за последние годы редкой, но колючей седой щетиной подбородку… Ба-Баян-Га давно не смотрела на себя в начищенный рабынями медный таз. Она и без того знала о себе все, и, главное, то, что годы красоты не приносят.
В ее распоряжении были богатейшие ткани всех стран и народов, драгоценнейшие шелка и узорчатые парчи, золотые побрякушки и каменья, которых хватило бы на то, чтоб украсить не только всех воительниц, но даже и их рабынь и кобылиц. У нее было все, чего она так страстно желала в свои юные годы. И ничего этого ей уже не было нужно. Ба-Баян-Га была в том, уже полуистлевшем, превратившемся в лохмотья платье, в котором ее вынесли с поля боя. Даже пятна крови, почерневшие и заскорузлые, были те же. Худое тело ее перетягивал боевой кожаный пояс, на котором рядышком покоились ножи и связки зубов-талисманов, вырванных изо ртов покоренных вождей чужих племен. Да на шее висела тяжелая железная цепь. Та цепь, которой был прикован к арбе раб, подаривший ей жизнь. Она сама сняла цепь с него и отпустила. Не из жалости, нет. Отпустила, чтобы никого больше из племени не постигла ее участь. Ведь она была так близко к небесным вольным лугам, где ее ждали ушедшие туда раньше, ждали за тем, чтобы вместе и уже вечно нестись по лугам этим, преследуя обреченных врагов и радуясь новой неземной жизни.
Она снова подошла к котлу, помешала в нем длинным костяным, с бронзовым наконечником жезлом. Потом тяжело опустилась на землю, выбросив вперед негнущуюся желтую ногу. Прикрыла глаз. Из становища доносились рев верблюдов, женские голоса, плач детей… Как ей все это надоело! И кто сможет узнать об этом? Ведь не соплеменницам своим, ни дочери, ни внучкам она никогда не скажет ни слова. Да и не поймут ее. К чему слова!
Воительницы вернулись в этот день. Как она и предполагала. Значит, не зря готовила для них кушанья. Благодарности не ждала – оценят ли они, возбужденные и радостно-злые, как и всегда после похода? Нет, и не заметят. И не надо.
Ба-Баян-Га увидала пыль над степью первой. Она не вышла навстречу. Так и осталась у костра, со своим жезлом в руке. Щуря глаз, вглядывалась – большой ли полон, много ль скота пригнали, добычи привезли? Но ни того, ни другого, ни третьего не было. А привезли, скорее даже принесли, соплеменницы из набега совсем другое, то, чего старая Ба никак не ожидала.
Четверо из них, а впереди две ее внучки, дочери Ай-Ги-Ши, ведя коней круп к крупу, держали между ними что-то на куске белого, залитого кровью полотна. Когда они спешились и подошли ближе, Ба-Баян-Га увидела, что они несли. Она не стала ни рыдать, ни голосить, из ее единственного глаза даже не выкатилось слезинки. Те, кто видел старейшую со стороны и не подумали бы, что она не такая, как прежде. И только сама Ба чувствовала, как сжало тисками ее сердце и помутилось в голове. Она усилием воли оставалась на ногах, но лицо ее не размякло – наоборот, черты заострились, приобрели хищное выражение. Выказывание своих чувств не поощрялось в племени.
На полотне, расстеленном прямо на траве, лежала ее Ай. Лежала уже мраморно-белая, со сведенными судорогой губами и торчащим из-под ключицы обломком широкого обоюдоострого лезвия.
Расспросы были ни к чему.
– Вот он, – сказала Бали-Ша, дочь убитой и внучка старейшей, указывая пальцем назад. Из-за ее спины вытолкнули и бросили на колени пленника. – Остальных мы решили не брать.
Ба-Баян-Га молча кивнула и отвернулась.
– Стой, – резко сказала внучка, – теперь моя очередь, старейшая! Скажи им свое слово!
– Совет решит, – жестко ответила старая Ба, – готовьте тризну, все должно быть по обычаю!
Она поглядела на пленника – он был среднего роста, это было видно, несмотря на то что голова его сейчас доходила ей лишь до пояса, светлокудрый, с волосами до плеч, стянутыми кожаным ремешком на лбу. Чистые серые глаза смотрели не мигая. На шее, обмотанной арканом, висела рукоять меча с обломанным лезвием. «Гляди, гляди, – подумала старая Ба, – это и хорошо, что ты ничего не понимаешь, а то корчился бы сейчас в ногах, извиваясь от ужаса, – завтра этим обломком, часть которого осталась в груди моей дочери, тебя раскромсают во время тризны на части! А твоя голова с запавшими глазами и такими светлыми, шелковистыми кудрями станет отличным украшением становища, торчать ей на колу посреди уже ссохшихся голов и изъеденных вороньем черепов». Но она ничего не сказала. Лишь показала глазами, чтобы пленного бросили у ее арбы.
– Ба! – снова воскликнула за ее спиной Ша.
– Уходи, – тихо ответила та.
И услышала, как заскрежетали в злобе и нетерпении зубы ее внучки. Ничего – закона она не нарушит, не посмеет!
Убитую унесли – к утру надо было подготовить тело для погребения. А заодно и тех рабынь, что были ей близки, и скот, и принадлежащую ей часть сокровищ. Никто не стонал, не убивался – все знали, что это лишь переход в лучший мир, что это праздник для самой Ай, для всего рода. Многие из воительниц, даже самые молодые, завидовали сейчас своей старшей сестре. Они называли друг друга сестрами, ведь в роду все были связаны кровными узами, от самой знатной и удачливой до самой простой из воительниц. И различие между ними было совсем невелико.
Иан открыл глаза. И долго не мог понять, где он находится. После резкого тычка в затылок он потерял сознание. И вспоминал случившееся с трудом. Голова отказывалась соображать да и вообще воспринимать окружающее. Стянутые за спиной сыромятным ремнем руки ныли. Все тело горело, каждый кусочек кожи отдавался болью. Но это было терпимо. Самое худшее впереди. Ведь он в плену, у них…
Он, насколько сумел, приподнял голову, огляделся. Поблизости никого не было. Никого, кроме страшной, высохшей патлатой старухи. Она что-то толкла и мешала в высокой, поблескивающей бронзовыми боками ступе, стоящей в полупогасшем, пышущем углями костре. В руке у старухи была длинная клюка, которой она и ворочала свое варево. До Иана донесся тошнотворный запах. Клубы дыма смешивались с паром, застилали старуху, искажали ее фигуру так, что казалось, будто она парит в воздухе со своей ступой.
Он попытался встать, но из этой попытки ничего не вышло – ноги были тоже опутаны. На шум старуха обернулась. Она уставилась единственным, налитым кровью глазом на Иана. Ноздри на выжженном солнцем лице раздулись. Старуха криво усмехнулась, ощерила большие, крепкие, пожелтевшие от старости зубы. Но ничего не сказала. Иан услышал, как на груди ее звякнула тяжелая цепь. И он все вспомнил.
Они должны были встретиться в двух переходах от Роси с вождем Склавином. Иан был сотником. Склавина никогда не видел. Но он знал, что тот должен был привести к речушке, граничащей со степью, свой род, точнее мужчин рода – полторы тысячи воинов. Тогда бы в их войске было уже не менее двух с половиной тысяч мечей. А этого вполне хватило бы, чтоб посчитаться со степняками. Венд, их вождь, ждал Склавина восемь дней. Ждали вместе с ним и все остальные. Не отдыхать пришли – огородились тыном на поляне, неглубокие рвы выкопали, установили сторожу. Но Склавина все не было.
Венд трижды слал гонцов к нему. Но и гонцы не возвращались. Ждать дальше не было смысла – там, на своей земле, оставались почти беззащитными, с малой горсткой мужчин, их жены, матери, сестры, дети. И тогда Венд принял решение – он не порушил клятвы, он ждал дольше, чем было условлено, но он все же решил уйти. На тот случай, если Склавин хоть и с опозданием, но придет, Венд и оставил Иана с его сотней. Оставил как самого опытного, пусть молодого еще годами, бойца, побывавшего не в одной схватке. Перед уходом наказал укрепить стоянку – кто знает, может, и она со временем станет порубежной заставой, одной из многих отгораживающих славянские роды от степных непоседливых соседей.
Иан не мог ослушаться старшего. Его сотня принялась за работу. А Склавина все не было. Временами Иан с десятком конников выезжал к тихой речушке Калинке, что была еще на полперехода к степи. Искал старый брод, знакомый ему с позапрошлого года, когда они совершили дальнюю и удачную вылазку в Дикое Поле. И не находил.
А застава постепенно обрастала строениями, крепла. И покидать ее было жалко. Ров становился все глубже, тын встал высоким двойным заборолом, острившимся кверху. Да и вместо временных землянок росли бревенчатые, с узкими бойницами-окнами жилища. Иан даже подумывал, не послать ли ему к Венду, чтоб выделил заставе жен тех воинов, у кого они есть, и девушек для молодых – да и зажить своим родом. Такое бывало и прежде. Разве же Венд осудит его?! Все роды едины и племя – одно. И Венд в нем не самый старейший. Он один из многих, входящих в союз родственных племен. Так почему и Иану не стать таким же? Ну не таким, чуть поменьше – все равно! Идея была заманчивая. Да вот место небезопасное. Но это Иана не пугало. Все чаще и чаще он выезжал с малой сторожей к молчаливым берегам Калинки, объезжал пологие скаты и вздыбы, погруженный в свою думу. Но не забывал и к местности приглядываться. Да и молодцам своим велел ухо востро держать – не хозяева покуда еще! Хоть земли исконные, да стрела могла в любой миг нагнать и засада появиться внезапно.
И вот – хотел он этого, не хотел ли, а оно случилось. Случилось после того, как брод разыскали да по ту сторону Калинки перебрались.
Всего не предугадаешь. А Иан хоть и испытанный воем был, но не ясновидцем все ж, не вещуном. Конница выскочила внезапно, из-за небольшого холма, где и укрыться-то, казалось, нельзя. Как неожиданное облако по краю неба прокатила она по мураве. Иан смекнул – человек пятьдесят, не больше. Это мог быть только передовой отряд, но судить и рядить времени не было – приходилось принимать бой.
Развернувшись, они встретили противника лицом к лицу, для изготовки места не хватало. Сверкнули мечи. Расстояние между противниками было настолько мало, что о луках и сулицах и думать не приходилось. Иан наметил себе передового конника с алой повязкой на голове. Он несся во весь опор, еще издалека метнув дротик в Иана. Да только тот увернулся, щитом смерть отвел. И теперь в руке конника искрился под солнцем меч.
Преимущество было на стороне скачущего с холма противника, и поэтому Иан уклонился от прямого удара, взял влево, на скаку полоснув по плечу одного из всадников. Но тот, в красной повязке, явно искал встречи с ним, с Ианом, видно признав его за воеводу. «Что ж! – подумал Иан. – Смертушки ищешь? Сейчас найдешь!» Он видел, что его десяток окружен и воины отбиваются что есть сил от наседающего противника.
А из-за холма поспевали все новые и новые отряды. «Не уйти! – с безнадежной удалью подумал Иан. – Будь что будет!» Из десятка оставалось человека четыре. И они были обречены.
На очередной выпад красноголового Иан припал на бок коня и тут же, вскинувшись, выбросил руку с мечом вперед. Удар достиг цели, но в руке у Иана остался лишь обломок меча. «Хорош доспех, – невольно подумал он и глянул в лицо поверженного, голова которого запала набок, но тело все еще держалось на коне. – Баба!» Это было последнее, что он успел подумать. Несколько арканов одновременно впились в его шею, стянули руки, тело. Он упал наземь.
Ба-Баян-Га заметила, что пленник очнулся. Первым ее желанием было подойти к нему ближе, ткнуть острием жезла так, чтоб взвыл, замолил о пощаде. Но, вспомнив его светлые спокойные глаза, она поняла – все это будет напрасно, не замолит, не взвоет. Ну и пусть, пусть лежит. Острая досада резанула ее по сердцу – почему в их племени нет таких мужчин? Почему они только и способны на то, чтобы пасти стада да ублажать рабынь, чтоб не оскудевало кочевье?
Старая воительница не могла ответить на этот вопрос. Сколько она себя помнила, в племени всегда верховодили женщины. На мужчин поглядывали свысока. И не обращали внимания, когда рабыни несли от них. Сами они считали возможными для себя любовные утехи лишь с храбрейшими из врагов, с теми, кто предпочитал смерть рабству. И потому род их не ослабевал, а наливался все большей силой. Правда, враги оставались врагами, и если бы их накапливалось в племени слишком много, то неизвестно еще, как бы повернулось. Потому их со временем убивали, приносили в жертву Священной Небесной Матери, покровительнице рода. Другое дело рабы – на тех просто не обращали внимания, это был всего-навсего двуногий скот и ничего более. Недалеко от них ушли и собственные мужчины племени. К счастью, их было мало – воительницы рожали в основном дочерей. Иногда они брали к себе и дочерей рабынь – самых сильных, выносливых, со свободной, не рабской душой. И те становились равными в роду. И род не оскудевал.
Ба-Баян-Га не думала о погибшей дочери. Из ума не выходила молодая Ша, внучка. Если Совет примет ее, старейшей недолго придется ковылять на своей негнущейся ноге. Внучка молода и безжалостна. Еще только тридцать весен встретила она на своем пути к небесным лугам. И Ба-Баян-Га не раз заме-чала, что та тяготится зажившейся бабкой и притворно зевает, когда старейшая рассказывает о былом, дает наставления. Нет, она ее долго терпеть не будет. Почему удар, нанесенный девять лет назад, не стал смертельным!
Ба-Баян-Га подошла к пленнику, склонилась над ним, долго рассматривая его белое лицо, почти такие же волосы и глаза, простые как небо и холодные как снег на вершинах гор. Взгляда тот не отводил. Она потрогала обломок меча на груди у лежащего – меч был. простой, без украшений. Таких она не видала у утонченных восточных воинов, а тем более у их военачальников. Там были бесценные клинки, рукоятки, усыпанные драгоценными каменьями. Но по сравнению с этим обломком показались ей вдруг те богатые, изящные мечи всего-навсего игрушками. Нет, подумала она, у настоящего воина должен быть именно такой меч! Простой, как сама душа бойца, как сеча, которой он отдается до конца, без оглядки! Она еще раз погладила изуродованное лезвие. Отошла.
Начинало темнеть. Старая Ба не расслышала за спиной шагов. Но от голоса не вздрогнула, она была приучена ко всему.
– Скоро Совет, – говорила Ша тихо, с достоинством, в спину старейшей. – Но тебя решили не звать. Ты зажилась, Ба-Баян, ты выжила из ума. И твой голос не нужен Совету.
Старейшая резко обернулась. В глазах внучки застыло злорадство. Она стояла, уперев руки в бока, и меч у ее ног висел как влитой, словно часть этого молодого здорового тела.
– Ты поняла меня? Ба-Баян-Га молча отвернулась.
– Совет знает, что делает, – надтреснуто прошептала она. – И все же я пойду!
– Нет, старейшая. Чтоб тебе не было скучно, я оставлю двух собеседниц для тебя.
Словно из-под земли за спиной старой Ба вынырнули две тени.
– Хорошо, – сказала она еще тише, – ты права, внучка, делай, как знаешь.
Ша тихо рассмеялась, она давно отвыкла от такого обращения. Перед уходом процедила:
– Да не забудь бросить этого, – она указала на пленника, – в повозку. Я не хочу, чтобы он околел за ночь. Нам завтра предстоит потолковать с ним, беседа будет веселой, ха-ха!
Ба-Баян-Га кивнула. Она стояла, уставившись на свои жилистые, бугристые руки в многочисленных шрамах. Сколько жизней унесли они? Старая Ба никогда не считала, даже когда была молодой. Много, очень много! Но сейчас они тряслись. Старейшая не могла поверить своим глазам.
Но нет! Они трясутся не от слабости! Неправда! Они еще смогут взять пару душ, чтобы забросить их далеко вверх, откуда никто пока не возвращался. И она решилась.
– Разверните арбу, – сказала она приставленным к ней воительницам, – мне это уже не под силу.
Иан слышал гортанные голоса женщин. Ему были знакомы отдельные слова. Но смысла их речей он уловить не мог. Да и какой толк в том? Что его ждет страшная и долгая казнь – он не сомневался. Он с безразличием смотрел на редкий тын, огораживающий кочевье: на узких, кривых жердях различной высоты – головы, головы… оскаленные, сморщенные, жуткие. Пленники – чем он лучше их. Завтра и его голова…
Но до утра пленника трогать не будут. Иан знал пусть не все, но некоторые обычаи этого племени, ведь и его народ одерживал победы, брал полон. А к утру он соберется с силами, он не вымолвит ни слова, даже если от него будут отрезать по кусочку от рассвета до заката, – душам его предков не будет стыдно за него. А там… Кто знает, что там?
Он видел, как две молодые женщины подошли к странному сооружению, напоминающему довольно-таки большой дом без дверей и окон, и, ухватившись с задней стороны за торчащие оттуда длинные палки, развернули его – дом был на больших колесах. С другой стороны оказалась дверь или, скорее, просто прикрытый навесом вход. Такого ему видеть не приходилось, чтоб по команде какой-то старой лохматой карги сдвигались, поворачивались жилища. Там, где он жил, такого не водилось.
Потом его взяли за руки и за ноги. Оторвали от земли. Иан и предположить не мог, что у женщин такие сильные руки. С размаху его бросили под навес, на что-то жесткое. И он вновь потерял сознание.
Ба-Баян-Га присела к костру, бронзовым наконечником жезла разворошила угли. Воительницы сели рядом. Они молчали. Молчала и старейшая. Она ждала. И ее руки больше не тряслись. У нее прошла злоба на молодую Ша – ведь так оно и бывает в жизни, что молодые приходят на смену старшим, когда-то это должно было случиться и с ней. Вот это и случилось. Так что ж пенять на судьбу?
Она вспомнила дочь. Та была совсем другой. Не питала нежных чувств к матери, на она уважала ее, слушала. Между ними была нить. Но, видно, теперь пришли другие, те, кого ей не понять. Она должна еще гордиться, что ей доверили охранять пленного… Ей? Старая Ба нахмурилась – от задуманного не уйдешь, а уйдешь, так перечеркнешь всю свою жизнь прежнюю, все то, что было в ней настоящего, живого.
Она снова взглянула на свои руки и почувствовала, как они наливаются силой. Конечно, эти девчонки ни в чем не виноваты, им приказали. Но они встали на ее пути, на пути старейшей из воительниц. Ба-Баян-Га сделала вид, будто что-то ищет у себя на поясе. Охранницы не повели глазом. Тогда она резким движением одновременно выкинула в стороны обе руки…
Сидящей слева нож пронзил горло, та, что была справа, с недоумением смотрела на торчащую из груди рукоятку. Глаза ее уже стекленели. Обе не успели издать ни звука.
Ба-Баян-Га оттащила их по очереди в темноту, за повозку. Провела по лицу, будто вспоминая запахи и вкусы молодости, окровавленными ладонями.
Завтра она примет смерть. Вместо пленника. Таков закон. А тот за ночь успеет уйти далеко. Она тоже уйдет, уйдет в заоблачный мир вместе со своей дочерью, с Ай-Ги-Ша. И та сумеет ее понять.
Изогалактика