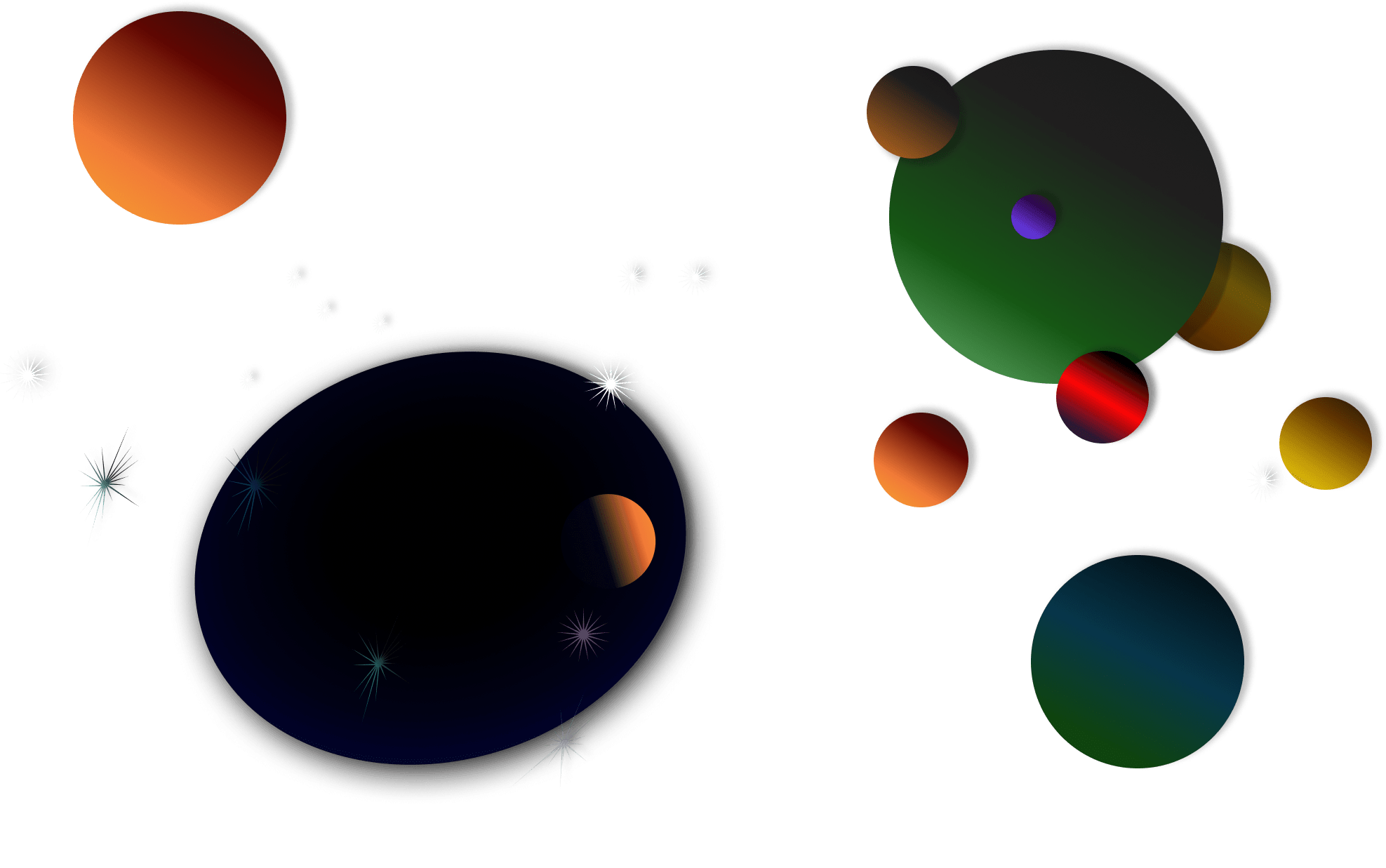Содержание
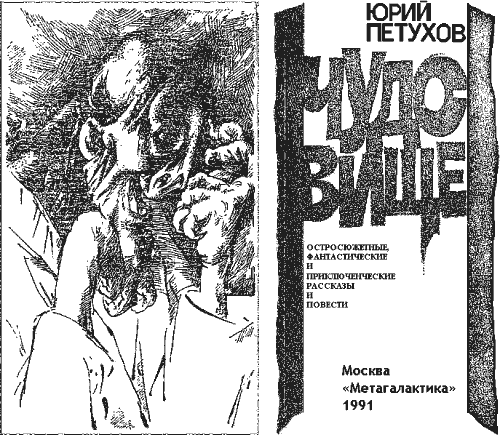
Юрий Петухов
Звездное проклятье
Чудо было невозможно – для него не оставалось места в этой Вселенной, для него почти не отводилось времени, ведь мир должен был погибнуть через каких-нибудь семнадцать-восемнадцать миллиардов лет. Но чудо свершилось.
Гун Хенг-Орот Две тысячи семьсот тринадцатый по рождению и четырнадцатый из «осужденных к смерти», Великолепный и Навеки-Проклятый, оживал. Его воскрешение было медленным и мучительным. Каждой клеткой своего могучего тела он ощущал нестерпимую боль.
Эта жуткая, дикая боль нахлынула на него еще прежде, чем он обрел память, прежде, чем возвращающееся сознание уверило его: жив, жив, жив! Он бился в конвульсиях, проклиная все, что можно проклясть, и страстно желая умереть снова. Он терпел, когда его пытали электрическим током и жгли плазмой, он лишь хрипел и ругался про себя, когда его конечности обливали сжиженным газом и прощупывали мозг нейрощупом. Сейчас он не мог терпеть. Эта пытка была непереносима!
Внутренняя обшивка саркофага сдерживала и смягчала конвульсивные удары тела. Иначе сам воскресающий вновь умертвил бы себя. Он бил головой из стороны в сторону в тщетной надежде, что пробьет обшивку и размозжит виски о какой-нибудь острый угол или выступ. Но в саркофаге все было предусмотрено на такой случай, никаких выступов внутри него не было, а упругий пластик обшивки не взял бы и плазменный резак.
Казалось, конца не будет страшной муке. Будто какая-то дьявольская сила вселилась в организм и разрывала, раздирала его изнутри миллионами раскаленных щипцов и клещей, пронзала миллиардными остриями тупых и иззубренных шил. Кровь вскипала и рвалась наружу из вен, артерий, она распирала сердце, которое и без того готово было лопнуть, разорваться от невероятного напряжения. Мука была ужасная! Но и ей пришел конец. Гун Хенг в невыносимом исступлении выгнулся насколько позволяло пространство внутри саркофага, чуть не искорежив себе при этом хребет и едва не свернув шею, вырвал из невидимых оков правую руку, сводимую немилосердной судорогой, но не успел ею сжать собственное горло, как внезапно обмяк и стих. Он потерял сознание, а вместе с ним и все ощущения боль, отчаяние, леденящий ужас и еле-еле пробивающееся сквозь все это: жив, жив, жив!
Очнулся он совершенно обессиленным, в холодном поту. Крышка саркофага была откинута, и ничто не мешало ему подняться, выйти или хотя бы выползти из этого собственного, какого-то ирреального, развалившегося гроба. Но он лежал и смотрел в тусклый ребристый потолок капсулы, не замечая даже нависшего над самым лицом шланга-соска с питательной смесью. Ни радости, ни даже удовлетворения от свершившегося чуда Гун Хенг-Орот Две тысячи семьсот тринадцатый, Навеки-Проклятый, не испытывал. В эти минуты ему было на все и на всех наплевать. Даже на самого себя.
Сколько же прошло времени? Час, день, секунда? А может, миллионы, миллиарды лет? Он не знал. Капсула была «вечной», так было задумано. С ней ничего не могло случиться до последнего взрыва Вселенной, до космического Апокалипсиса. Сам же Гун не ощутил прикосновения Времени. Для него между Умертвлением и Воскрешением не прошло и мига.
Последнее, что ему запомнилось из предыдущей жизни, было хрящеватое зеленое лицо Верховного Судьи, зачитывавшего приговор. Судья не осмелился приблизиться тогда к распахнутому саркофагу, и его показывали с экрана, крупно, Гун запомнил каждую черточку этой высохшей маски, самые неуловимые и тонкие интонации скрипучего голоса отпечатались в его мозгу. И особенно последняя фраза: «…предается вечному проклятию во всем существующем мире, во всех его измерениях от сего момента и до окончательной гибели, и приговаривается к Условному Умертвлению». Затем металлически проскрипело: «Приговор приведен в…». Крышка саркофага захлопнулась. Все исчезло. Но прямо следом, тут же накатила невыносимая боль.
Гун знал, что ни о каком прощении не могло быть и речи, что он очнулся не на своей планете, не в своей Системе, что случившееся – самое настоящее Чудо. Но он еще пребывал в полнейшей прострации.
Нет, у него вовсе не отшибло памяти, он ничуть не утратил способности анализировать события. И он знал, что с момента Воскрешения запущены в ход невидимые часы, что ему дано ровно десять суток на внедрение в иной мир. Сумеет ли он прижиться в нем, не сумеет ли – механизм сработает, и «вечную» капсулу разнесет в клочья запрятанный в ней же заряд. Отсрочки не будет. И потому следовало действовать немедленно, подниматься, принимать решения… Но он не мог. Борьба с лютой болью высосала из него остатки сил.
А кроме всего прочего, он был еще там, в своей Системе. Он вновь и вновь возвращался к уже неоднократно пережитому, с каждым разом все острее ощущая на себе наложенное проклятье. Впрочем, не с рождения же он был проклят! Все было нормально, все было как у всех: его уважали, ценили, им даже гордились близкие, недаром прозвали Великолепным, его любили, да-да, были и те, кто его любил… Но все от него отвернулись еще задолго до Суда, задолго до Проклятья, отвернулись в тот миг, когда пронесся подобно молнии слух о том, что он преступил чрез главнейший закон Системы, что он открыл вход в нее посторонним. Да и не только открыл вход – это уже было следствием, он совершил недопустимое, он поведал непосвященным о существовании самой Системы. И он стал четырнадцатым Проклятым за всю историю ее существования, за без малого восемь тысячелетий бытия Замкнутого Мира. Его поступок был алогичным и не имел никаких объяснений. Разорвать покровы тайны было невозможно: непосвященных тут же уничтожали, стоило им только догадаться о самой возможности иного бытия. Да и были они, непосвященные, где-то далеко-далеко, за тысячи парсеков от самой Системы. Порою казалось, что их вообще не было, так они были удалены ото всего происходящего в Центре Мироздания. Для них существовали особые законы – следы заметались без малейшей жалости. Ни одна из четырнадцати попыток не дала плодов. Все четырнадцать преступников выглядели в глазах обитателей Системы не просто опаснейшими из возможных существами, но и полнейшими безумцами.
Внутри Системы действовали свои законы. Система была гуманна. Ни один из ее обитателей не мог быть предан смертной казни, его не могли наказать достаточно сурово или же лишить, к примеру, свободы – это считалось бесчеловечным, это признавалось варварством. Но для Проклятых существовал особый исход – Условное Умертвление. Никто не желал в Системе запачкать себя званием палача или хотя бы решением своим, пусть и совместным, обречь жертву на смерть. И потому Проклятым оставлялся один шанс. Один малюсенький шансик из миллиардов, из триллионов, из самой бесконечности. То есть фактически Проклятый умерщвлялся, но ни один из осудивших его и приведших приговор в исполнение не мог считать себя убийцей, ибо ничтожнейший шанс на Воскрешение был.
Проклятых выбрасывали из Системы во внешний мир. Про них забывали. Про них никогда не говорили.
Гун не мог, разумеется, знать, что делали с ним. Но он знал, как обходились с предыдущими. Их тела, заключенные в саркофаги, помещали в «вечные» капсулы, снабженные системой управления, защиты и контролируемые электронным мозгом средних возможностей. Система не скупилась на расходы. Затем просчитывался на бессчетные века маршрут капсулы – она не должна была попасть в поле обитаемых или вообще жизнеспособных планет во всем расчетном будущем и во всей обозримой и поддающейся анализу части Вселенной. «Вечная» капсула должна была бесконечно долго скитаться по самым пустынным закоулкам звездного мира. И только с того момента, когда в ней заканчивалась расчетная программа, капсула попадала в волю случайностей. Но механизм Воскрешения срабатывал лишь при том, если капсула входила в тропосферу планеты, пригодной для жизни. В бездонной и практически безжизненной Вселенной вероятность такого «попадания» приближалась к нулю.
Состояние, в котором доселе пребывал Гун Хенг-Орот, было равнозначно смерти. И это был не анабиоз, не летаргический сон – и того и другого бы недостало даже на несколько миллионов лет, на малую капельку скитаний. Гун Хенг не спал, он был мертв до включения механизма Воскрешения. Его тело в момент умертвления было залито жидким газом особого состава, и оттого оно становилось «вечным» – будто сама капсула…
Преодолевая бессилие, Гун притянул к губам шланг-соску, надавил слегка податливый пластик. В рот полезла ледяная омерзительно безвкусная масса. Он с трудом сделал глоток, потом второй, третий, четвертый. Соска быстро опустела. Но запасов пищи и жидкости оставалось еще на десять суток. Нет, уже чуть меньше! Гун Хенг вдруг совершенно четко осознал это – и приподнялся в своем гробу, сел, прижав острые чешуйчатые колени к ребристой, тяжело вздымающейся и без того выпуклой груди. Огляделся.
Внутренности капсулы выглядели точно так же, как в последние мгновения его жизни в Системе. Он уже подумал было, что ничего и не случилось, что… Но в этот миг его взгляд остановился на хронометре в бортовой стене слева. По гребню, выпирающему из позвоночника, невольно пробежала волна дрожи, затем передернуло все тело. Стрелка, указывавшая на знак 0, то есть на миг Воскрешения, противоположным концом высвечивала фантастическое число! Но не доверять приборам у Гуна не было ни малейшего основания. Он провел в небытии девять миллиардов сто одиннадцать миллионов семьсот восемьдесят одну тысячу четыреста девяносто три года семнадцать суток шесть часов три минуты и девять тысячных секунды… Все это не укладывалось в голове. Но это было так!
Может, уже долгие тысячелетия, а то и миллионномиллиардолетия не существовало никакой Системы и никаких ее обитателей, может, и сама Вселенная была уже не та – а он, Гун Хенг-Орот Две тысячи семьсот тринадцатый, Великолепный и Навеки-Проклятый, был жив всем назло, сидел в саркофаге, свесив наружу свои мощные костистые и когтистые ноги-лапы, и чувствовал, как с каждым мгновением прибывают силы.
Капсула вращалась вокруг планеты средних размеров. Планета была окутана сероватыми облаками, поверхность ее, за исключением огромнейших океанских равнин, почти не просматривалась. Но приборы давным-давно установили непреложный факт на планете есть жизнь, в том числе и разумная. Все остальное надо было выяснять по ходу дела. И Гун Хенг был вполне готов к этому.
Первым делом он протер все тело влажной губкой, раздирая при этом чуть не в кровь зеленовато-серую чешуйчатую кожу всеми восемью когтистыми пальцами правой руки. Левой он попеременно касался клавиш датчиков, переключая капсулу на мыслеуправление и впитывая в себя поступающую информацию. Теперь он берег каждую секунду.
Закончив обтирание, Гун облачился в серый комбинезон, потом проверил скафандры и выпихнул гроб-саркофаг через широкий зев утилизатора в пространство. Даже успел проследить, как сплавленный комочек отделился от капсулы и поплыл в темноту. Обзор он включил полный.
Теперь оставалось надеяться только на самого себя да на то, что за время странствий в капсуле ничего не испортилось.
Он уселся в кресло перед центральным пультом управления, вцепился в подлокотники, сосредоточился. Его большая, украшенная хитиновыми пластинами голова свесилась на грудь, уперлась в нее острым раздвоенным подбородком, пленки полупрозрачных подрагивающих век затянули оба выпуклых, поблескивающих чернью глаза, острые гребнистые локти хищно оттопырились, спина напряглась. Выждав благоприятную минуту, когда от датчиков почти перестали поступать сигналы, предупреждающие об опасностях и возможных осложнениях, Гун отдал мысленную команду и, не удержавшись, повторил ее вслух:
– Вниз, на посадку!
Не до конца доверяя мозгу капсулы, Гун всматривался в экраны. Его пальцы застыли в нескольких миллиметрах от клавиш ручного управления.
Но мозг сам знал, что надо делать. Он избрал верную тактику: шел вниз, постоянно меняя направление, зигзагом с непредсказуемыми углами и поворотами, с меняющейся скоростью и отлетами назад. И это его поведение не было случайным.
Гун не знал, когда и на какой высоте именно планетяне нащупали радарами его капсулу. Первая ракета разорвалась совсем рядом – капсулу ощутимо тряхнуло, несмотря на разреженное пространство самых верхних слоев атмосферы. Вторая и третья взорвались значительно дальше, видно, мозг сделал определенные выводы и теперь работал в режиме повышенной готовности.
Еще несколько красочных кустов расцвели по обе стороны от спускающейся по наклонной капсулы. Избежать опасности можно было лишь идя ей навстречу. И потому Гун повторил со всей твердостью:
– Вниз!!!
Его расплющило по креслу, лишило дыхания и сил – антигравитаторы работали на пределе. Ускорение движения несло гибель. Но за этим уже следил мозг – никакие, даже самые волевые команды не могли его заставить обречь на смерть находящегося в капсуле. Никакие, но на протяжении лишь десяти отпущенных суток.
Они сумели выскочить из зоны слежения, продолжая спускаться – все так же, зигзагом, перемещаясь из стороны в сторону. Последнее, что зафиксировал мозг капсулы, это два летящих прямолинейно с огромной скоростью предмета. Но и с них, похоже, не сумели поймать радарами спускающуюся капсулу. Во всяком случае, предметы пролетели мимо. Гун помахал им вслед, улыбнулся. Первый раунд он выиграл.
Никакого толчка при посадке не было. Капсула мягко приземлилась у склона высокой горы, поросшего лесом. Растительность была непривычная, совсем не похожая на те, что доводилось видеть Гуну в своем мире, да и на окраинах Системы. Но у него не было времени заниматься ботаническими исследованиями. Одно лишь его интересовало сейчас: пригодно в пищу или нет? Опасно для жизни или нет? Все остальное не имело ровно никакого значения.
Гун знал, что рано или поздно его обнаружат, и никаких иллюзий на этот счет не питал. И потому следовало сменить несколько мест, запутать преследователей, прежде чем забиваться на сколь-нибудь длительное существование в какую-то глухую дыру. Да и при всем благоприятном стечении обстоятельств он не мог рассчитывать на долгое безбедное жительство даже в самой глухой дыре.
Но выбирать не приходилось. Ему была ниспослана удачей именно эта планета. И он должен постараться уцелеть только на ней. До другой ему за десять, нет, уже девять с половиной суток просто не добраться!
Анализатор показывал, что воздух на планете вполне пригоден для дыхания. Кислорода маловато, ну так что же, его и вообще могло не оказаться! Гун все же облачился в легкий скафандр, нацепил на себя все имевшееся ручное вооружение: плазменный резак, аннигилятор, два ручных автотесака, поясной нож, нейропарализатор, ручной лучемет ближнего действия. В боковые сумки он наложил с десяток гранат разного боя, распихал по карманам стимуляторы и прочие медикаменты. Не забыл и дневного запаса питательной смеси. О нем позаботились те, кого давным-давно уже не было в живых, от кого не осталось даже праха. И хотя забота эта была потусторонней и формальной, Гун Хенг-Орот был благодарен и за такую. Все то, что сгнило и рассыпалось бы в пыль еще миллиарды лет назад, сохранилось в «вечной» капсуле и должно было ох как пригодиться!
Сигнализаторы не показывали опасности. Да и сам Гун не ощущал ее, не видел на обзорных экранах. И потому, не прохлаждаясь в шлюзовой камере, он выбрался наружу. И тут же был сбит с ног чем-то горячим и упругим.
Несмотря на всю неожиданность нападения, Гун успел коротко и резко взмахнуть рукой. На его когтистых пальцах застыли крупные красные капли да какая-то слизь. Метрах в четырех, извиваясь в предсмертных судорогах и разбрасывая по траве собственные вывороченные кишки, билось какое-то животное: черное, с круглой пушисто-гладенькой головкой без признаков хитина и ребристых пластин. Четырьмя широкими лапами с изогнутыми коготками животное царапало землю, выкидывая ее наверх вместе с обрывками травы. Сквозь сжатые желтые клыки пузырилась красноватая пена.
Гун встал сразу же. И смотрел он не на умирающую тварь – она уже не таила опасности, а вокруг, по сторонам. Все было тихо и спокойно. Лишь чуть позже он догадался, что послужило причиной нападения: из-под края капсулы высовывался головою и передними лапками точно такой же черный зверь, но раз в шесть поменьше, наверное, детеныш. Гун все же немного расстроился – увиденное им говорило, что в капсуле, наверное, есть неполадки, ведь ни на что живое или движущееся она не должна была садиться. Но это все мелочи!
Гун отпрыгнул на несколько шагов от капсулы. Еще раз огляделся. И отдал мысленную команду: «Вверх!» Капсула взмыла в поднебесье и исчезла из виду. Без живого существа внутри, имея возможность маневрировать на любых скоростях и с любыми ускорениями, под всевозможными углами, она становилась неуловимой. Уничтожить ее можно было лишь на земле или же с пилотом на борту.
Оглядываясь и стирая след нейтрализатором, Гун побежал в сторону большого скопления ветвистых и перепутанных какими-то гибкими отростками деревьев. Уже на бегу он пожалел, что не сжег аннигилятором останки зверя. Но возвращаться не стал – в любом случае, если кто-то его будет искать, обратят внимание на выгоревшую траву. Начало было не чистым.
Отряд прибыл на место через четыре минуты после посадки неопознанного объекта. Земные службы слежения потеряли его из виду на высоте ста восьмидесяти километров. Но зато со спутников удалось засечь странный предмет, двигавшийся без опознавательных знаков, да и то – лишь у самой земли. Впрочем, теперь это было не столь важно. Первые опасения и страхи прошли – это была не ядерная атака. Но в штабах не исключали возможности наличия на борту пришельца опасного заряда. И кое-кто уже успел получить от верхов хорошую нахлобучку, кое-кому дали нагоняй за ротозейство и отсутствие бдительности. По прямым каналам связи были запрошены потенциальные противники – все как один отрицали свое причастие к инциденту. Приходилось верить, что поделаешь… во всяком случае, до прояснения обстоятельств.
У подножия горы было пусто. И все же вертолеты высадили часть отряда, надо было разобраться на месте. Другая часть ушла в поиск на винтокрылых машинах. Сколько всего было задействовано поисковиков – на земле, на море и в небесах, знал, наверное, один командующий да Господь Бог.
– Хреновые наши дела, – пробурчал себе под нос Тукин, потирая ушибленную коленку. – Не найдем мы тут ни черта!
Узкоглазый и скуластый Ким улыбнулся по-азиатски: широко и хитровато.
– Не найдем, глядишь, дольше проживем, – заключил он с восточной мудростью и расчетливостью.
– Тьфу ты! – возмутился, не находя слов, Тукин. Все его раздражение исходило из саднящей ноги, не из сердца или разума.
Тукину вообще не везло: любая операция для него начиналась с шишки на лбу, вывихнутой руки, порванного обмундирования или расквашенного носа. В прошлый раз, когда они выслеживали в джунглях банду, повязанную намертво с местной наркомафией, он, выскочив с самым лихим видом из притормаживающего бронетранспортера, поскользнулся на навозной лепехе, оставленной на тропе неизвестно кем, и вышиб себе два передних зуба. Банду ловили уже без него. А за починку челюсти пришлось отдать четверть жалованья. Для прижимистого сержанта это было ударом. Можно было бы, конечно, обойтись и бесплатной помощью полковой зубодерни, но тогда самому пришлось бы скрываться от людей в лесах, дабы не брать греха на душу, пугая детвору и беременных.
Тукин был крепким, невысоким и совершенно невзрачным парнем – таких, говорят, в разведчики вербовали: десять раз встретишь, а все равно не запомнишь. Поднакопить деньжат, жениться, обзавестись своим домиком и кучей детишек, а главное, позабросить со временем всю эту беготню – вот о чем мечтал Тукин. И не было у него иных устремлений. Если бы не невезуха, у него давно бы уже было на счете раза в полтора больше, а стало быть, и заветная мечта была бы в полтора раза ближе. Но приходилось мириться с действительностью.
– Отделение, становись! – рявкнул он, позабыв об осторожности и тут же прижав ладонь к губам.
Впрочем, бесцветный и хрипловатый голос его потонул в вое овчарки-ищейки. Поджарый Ральф, смело бросившийся к растерзанному трупу черной пантеры, что валялся метрах в двухстах, вдруг застыл, поджал хвост и взвыл самым диким образом, позабыв про все дрессировки и свою ученую солидность. Шерсть у него на загривке поднялась дыбом, глаза обезумели. Мгновенья не прошло, как пес забился под ноги сержанту, тихо поскуливая и пытаясь поймать взгляд.
– Пошел вон, трус поганый!
Тукин пнул Ральфа сапогом и сплюнул через плечо. Что-то ему не нравилось. Но что именно, он понять не мог.
Ким приласкал пса, огладил. И тот начал приходить в себя, не переставая, правда, озираться, поглядывать в сторону трупа с вывороченными кишками. Ким хотел высказать свои сомнения сержанту, но не решился. Хотя ему показалось очень странным то, что вышколенный пес напугался какой-то дохлой кошки, да еще как напугался!
Ребята из отряда уже вовсю орудовали на поляне. Не отставали от них и трое экспертов, прилетевших на том же вертолете: вымеряли расстояния, брали пробы грунта и воздуха, ползали вокруг раздавленного детеныша пантеры на карачках и вообще чуть ли не на вкус проверяли все вызывающее подозрения. Но толку, похоже, не было. И это злило Тукина не меньше, чем боль в коленке. Куда бежать? Кого ловить? Черт бы побрал всех этих умников!
– Я щас придушу эту тварь! – прохрипел он, глядя совсем не на скулящую овчарку, а на Кима. – Распустил, твою мать, следопыт хренов! А ну, заткни ей глотку!
Желтолицый Ким подобострастно и мелко хихикал, тряся беспрестанно головою, отчего трясся и длиннющий козырек его потертой форменной кепчонки. Тукин все намеревался измерить длину козырька – не превышает ли он ненароком уставной нормы, не пошит ли кепарь самочинно, в обход гарнизонных портняжек? Да все руки не доходили. Теперь и вовсе не до того было!
– Ничего, дождетесь еще у меня, – вяло пригрозил сержант, глядя в пространство и непонятно к кому обращаясь.
– Ага-ага, – покорно закивал Ким. – Распустились людишки, ай-яй, распустились, начальник.
– Да заткнись ты! Сколько раз говорил, не называй так! Склеротик хренов! – разъярился пуще прежнего Тукин. – Я вот на тебя рапорт-то напишу!
Безрезультатность поисков была очевидна. А это означало и то, что никаких поощрительных или премиальных не предвидится. Эксперты разводили руками, отрядные ребятки пожимали плечами и пучили глаза – то ли от усердия, то ли от дурости.
– Пусто, – доложился один из спецов, – если и был он тут, так следов не оставил, кроме вот этого котенка раздавленного, да и то – он ли? Ты, сержант, вот что, давай-ка вызывай вертолет. Нечего нам тут делать!
Тукин не очень-то любил прислушиваться к советам штатских. Как бы ни лыбился этот азиат Ким, а он прав все же, понимает, кто тут «начальник», а кто фраерня залетная.
– Удочки смотать всегда успеем, – проговорил он тихо, сам себе. – Пошарьте-ка еще.
Последняя фраза прозвучала погромче, но не слишком уверенно. Тукин уже думал о другом. И это другое было, пожалуй, верняком.
– Эй ты, следопыт, – он прищелкнул пальцами, подзывая Кима. – Тащи-ка сюда эту псину! Да держи покрепче, не упусти, чучело хреново!
Лесок оказался жиденьким. Это было и хорошо и плохо. Хорошо, потому что Гун бежал между деревьев, огибая буреломы и сплетения лиан, почти не снижая избранной им скорости продвижения. Плохо, оттого что в таком лесу могли столь же быстро и настигнуть, да и просто застать врасплох. Пока Гун не видел достойного укрытия.
Впрочем, он и не искал его особо. Важно было убежать подальше от места посадки, переждать какое-то время и вызвать капсулу. И если взлет на ней и следующая посадка останутся незамеченными, то ищи ветра в поле, тогда он спасен.
Ни о каких контактах и попытках мирного улаживания дел, а потом и открытого проживания среди планетян Гун и думать не хотел. Еще чего, превращаться на весь остаток жизни, сказочным образом дарованной ему, в подопытного постояльца лабораторий и исследовательских центров, ну уж нет! Да и не верил Гун, что таковое качество ему гарантировано – поди узнай, что там на уме у этих отвратительных существ, у этих слизняков, тела которых даже приличия ради не покрыты хитиновой пленкой. Он уже видел четверых в одинаковых комбинезонах, с какими-то короткими палками в руках, совсем не похожими на настоящее оружие.
Он мог бы их отправить на тот свет шутя, на бегу. Но они его не видели, и он решил не рисковать, лишь прибавил мощности нейтрализатору – ведь кто знает этих слизней, может, у них нюх особый или же вкусовые рецепторы такие, что пылинку за парсек чуют!
В этом леске и не пахло опасностью. Какая-то живая мелочь копошилась у земли и в кронах деревьев. Для Гуна она не представляла интереса. Раза три на пути от него с ужасом шарахались четвероногие, средних размеров, явно лишенные интеллекта твари. Да свесился как-то за два метра от лица жирный, голый, поблескивающий червь с маленькой головкой, но зато упитанным и длинным телом. Червь, видно, спал на широченной ветви, а при приближении незнакомца проснулся, а может, он и с умыслом сидел там, поджидал добычу. Гуну некогда было разбираться. Рук он пачкать не стал, успел выхватить тесачок и на бегу ловко срезал червю голову. Тот забился в агонии, то свиваясь в тугие кольца, то выпрямляясь одеревеневшим длинным телом. Гун несколько секунд следил за этими биениями и чуть не налетел на корявое и толстое дерево. Увернулся, пригнулся… и тут же остановился.
Пришлось возвратиться назад, к червю, и сжечь его останки аннигилятором – короткими зарядами, подбрасывая в воздух, чтобы не осталось отметин ни на земле, ни на коре деревьев, ни на синеватом лишайнике. Заминка подзадорила Гуна. И он ускорил свой бег. Правда, усталость уже наваливалась на него, видно, сказывалось пребывание в саркофаге. Но теперь было не до таких мелочей, как усталость. Гун проглотил шарик стимулятора. Воспрял.
Он еще издали увидал просвет. Это была не поляна. Скорее всего тропа. Какая-то здоровенная животина с торчащими из отвратительной голой головы двумя костями перегораживала тропу. Животина была явно тупа и неагрессивна. И потому Гун не стал долго размышлять. Он еще ускорил шаг, в последний миг сильно оттолкнулся от земли правой ногой, взлетел над серой громадиной, обеими руками и левой ногой оперся о жирный вздрогнувший круп – и перемахнул на другую сторону тропы. Животина от резкого толчка завалилась на бок, протяжно вострубила, то ли возмущаясь подобным обращением, то ли зовя на помощь. Похоже, она не успела сообразить в чем дело.
Гуну было не до толстяка уродца – полежит да встанет, ничего с ним не сделается. Надо бежать! Бежать и бежать вперед – и ни одна тварь на этой планете не найдет его, не возьмет следа!
Он не переставая следил за небом. Хотя то пробивалось изредка серенькими или голубенькими клочками, Гуну хватало и этого. Раза четыре над самыми деревьями проносились какие-то тарахтелки. Но Гун знал, что из-за разросшихся крон его не увидят, а приборами и подавно не возьмут – откуда у них такие приборы, чтоб на живую материю реагировать! Судя по оборонительной технике, не доросли еще. А если бы и доросли, так давно бы нащупали беглеца. Нет, шалишь! Нет у них ничего такого. Ну это и хорошо. Правда, лучше б было, коли попал бы к каким-нибудь недоразвитым, тем, кто только-только начинает эволюцию в разумном своем облике. Там бы Гуну и прятаться не пришлось. Там бы он еще и вождем стал бы, свою маленькую Систему образовал бы! Да что мечтать, и так посчастливилось невероятно!
Гун полностью забыл о перенесенных им жутких болях, сопутствовавших Воскрешению. Забыл о своих тщетных попытках размозжить голову или еще как покончить с собой. Теперь он яростно, по-животному грубо хотел жить. Жить, жить, жить!
Остановился он, когда полностью стемнело. Забрался на высоченное дерево и прощупал пространство анализаторами. Все было спокойно. Самое время вызывать капсулу. Доли секунды на ее подлет, пять-шесть секунд на то, чтобы залезть в капсулу… и прощай приветливый лесок!
Но что-то остановило Гуна. Высоко-высоко, в черной бездне над головой, что-то мигнуло еле-еле и исчезло, потом снова. Если его и могли засечь, так только сверху, а тогда – пиши пропало: одна капсула всегда уйдет от радаров, с ним же службы слежения будут вести их, передавая от одной к другой, до бесконечности, пока не накроют ракетой.
Он спустился вниз, присел у дерева, привалившись к нему плечом. Рядом тучками мельтешила мошкара. Но на Гуна она не садилась, видно, не признавала его съедобным, а может, и вообще за живое существо не признавала. Несмотря на принятые стимуляторы, ощущалась усталость и слабость, тело ныло, особенно ноги и спина, позвоночный гребень покалывало мириадами иголочек. Но Гун старался не замечать мелких неудобств. Ему не очень-то хотелось умирать во второй раз. А время шло.
Защитную маску он давно снял – надо было привыкать к воздуху планеты со всеми его возможными неожиданностями. Надо было привыкать ко всему местному.
Что-то маленькое и плотненькое свалилось сверху прямо на голову Гуну, запуталось между пластинами и отчаянно пыталось выбраться. Гун левой рукой вытащил наглеца из пластин, поднес к глазам. Он совсем неплохо видел в темноте. Это было нечто похожее на тех жучков, что водились у него на родине, твердый хитиновый панцирь пробуждал воспоминания, от него веяло чем-то родным. Гуну вспомнился Верховный Судья – тоже маленький, плотненький, зелененький сверх всякой меры. Вспомнилось его сухое и вялое лицо, противненький скрипучий голосок. Как он там говорил? Предается вечному проклятию? Ну-ну! Гуну стало вдруг жалко этого старикана. Но разве можно жалеть то, чего нет уже миллиарды лет? Наверное, можно. Ведь память-то жива, а значит, и все, кто в ней сохранились, тоже живы.
Гуна клонило в сон. Он держал жука двумя пальцами все той же левой руки. Двумя другими совершенно машинально обрывал пойманному наглецу длинные и тонкие ножки, не спешил. Потом подключил и третью пару – содрал хитиновые крылышки. Седьмым и восьмым пальцами освободил жука от топорщившихся усиков и коротких, но толстых рогов. Затем, тщательно обнюхав освежеванную тушку, положил ее на язык и немного подержал так, проверяя вкусовые ощущения. Вроде бы все было нормально. Жучишка попался вполне съедобный, даже приятный на зуб, особенно после омерзительной и безвкусной питательной смеси. Гун тщательно разжевал неожиданное лакомство, потом проглотил, сдерживая слюну и унимая аппетит. Все! Теперь сомнения отпадали – на этой заурядной планетке можно жить, он не пропадет здесь.
Сон сморил-таки его. Но не надолго, хватило получаса, чтобы полностью прийти в себя, оклематься. Тут помогали и стимуляторы. Это потом можно будет совсем отказаться от них, а сейчас надо быть сильным, свежим. Гун не чувствовал в себе слабости, он не имел права быть слабым.
План вызрел в его голове еще там, на орбите. Сейчас оставалось отработать детали, которые, впрочем, также могли меняться по ходу дела. Чтобы не возникло сложностей с посадкой, было бы неплохо найти какую-нибудь полянку. Сегодня днем попалась ему на пути одна такая. Но на ней стояли три жалкие полуразвалившиеся хижины, крытые охапками длинных и плотных листьев. У хижин сидело несколько самок слизняков. Тут же копошились детеныши – кривоногие и с раздутыми животами. Вся эта картинка совсем не вязалась с радарами и ракетным обстрелом, но Гун не стал вдаваться в подробности, а тем более связываться с туземцами. Пускай живут! Не они же пуляли в него заряд за зарядом! Конечно, нет, несчастные слизни, и что за смысл в их существовании? Он пробежал тогда мимо, не снижая темпа. А на память пришли те двое из непосвященных, которых он по простоте душевной, а скорее просто из-за собственной неосмотрительности, пытался поднять до уровня Системы. Глупая была попытка, бессмысленная и безнадежная. И какой черт только его дернул! Ну да ладно, что прошло, то прошло – не вернешь.
Из темноты время от времени раздавались какие-то приглушенные крики и стоны, всхлипы и взвизгивания. Но Гун почти не реагировал на эти звуки. Он понял, что навряд ли найдется на этой планете тварь, которая могла бы с ним посоперничать, нет, маловероятно, – все эти животные, будь они разумными, полуразумными или вовсе неразумными, находились на стадии изнеженности и вырождения, не было в них той исполинской мощи первозданного мира, не было той необузданной и яростной жизнестойкости. Видно, и впрямь мир угасал, чах, не дожидаясь, пока его окончательно разрушат, изничтожат глобальные катастрофы. И все же приходилось быть начеку – мало ли что!
Гун включил анализаторы в режиме дальнего поиска и стал водить ими из стороны в сторону, высвечивая огромный полукруг перед собой. Назад он раструбы анализаторов не направлял, там была чащоба без просветов. Через несколько минут удалось нащупать кое-что. Правда, анализаторы показывали наличие живых существ в нужном районе, да и бежать до него было далековато, не меньше двух часов самого быстрого бега пришлось бы потратить. Но Гун решил, что разбираться будет на месте. Была не была!
По ночам Савинский не спал. У него уже лет двадцать пять как была хроническая и необоримая бессонница, с которой не могли справиться ни врачи, ни он сам. Жена могла спать сутками, вставая для того только, чтобы перекусить да накормить рыбок и птиц. Ей все было нипочем: и ливни с грозами, и сумасшедшая жара, и пронзительные крики павлинов, от коих леденела кровь в жилах, и работающие приемник с телевизором – ничто ее не брало. Сам же Савинский страдал от малейшего шороха, его болезненно утонченный слух отзывался на шуршанье тараканов за шкафами и на шелест травы во дворе.
Он пришел на эту убогую и затерянную в джунглях станцию сорок семь лет назад. Пришел мальчишкою. Про него можно было сказать, что он здесь родился, женился, вырос в чинах – хотя какие там чины у смотрителя, – состарился, а теперь вот и начал подумывать о переходе в мир иной.
Савинского не тянуло в города, он отвык от людей и не нуждался в их обществе. Да и жену он себе подобрал такую же. Нет, черноокая и черноволосая Маша не была нелюдимкой, просто ей было одинаково хорошо в любых условиях: и в толчее, и в глухомани, – видно, оставались еще на истерзанной стрессами Земле здоровые люди.
А сегодня старый Савинский не мог заснуть и по иной причине. Днем передавали по радио коротенькое сообщение, в котором говорилось о том, что в их местах появились какие-то странные типы, – и не поймешь, то ли банда какая, то ли лазутчики вражеские. Хотя было совсем непонятно, что последним делать в этой глуши? Войны уж лет семьдесят как не было, да и не предвиделось ее в ближайшие годы. Так чего выведывать, чего шпионить-то? Непонятно. Приезжай, ежели желаешь, и так все открыто – ходи-броди, где душе вздумается! Нет, наверняка банда, будь она проклята! И где они тут прячут свои плантации, сам черт не найдет! Савинский знал джунгли вдоль и поперек, но ни разу не встречал ни одной грядочки с опиумным маком или же с коноплей. Да какие тут грядки и поля? Вон дикари! Как их ни приучали землю ковырять, не хотят, и все тут, пробавляются себе от джунглей – чем Бог одарит. Нет, наркомафия, наверное, еще не запустила сюда свои лапы. Хотя кто их знает. Просто так награду, да еще такой солидный куш, назначать не станут.
Чем больше думал Савинский, тем дальше отступал от него столь желанный сон. Наконец старик и вовсе поднялся со своей постели. Натянул на высохшее тело рубаху с двумя большими карманами, надел старые потертые и заплатанные во многих местах джинсы. Поскреб подбородок – давно бы следовало побриться, да все руки не доходили. То ли дело лысина – как булыжник, никакого тебе ухода не требует! С годами Савинский становился все ленивее. Но это совсем не означало, что он потерял вкус к жизни. Нет, и у него были свои желания, свои мечты. Вот только бессонница проклятущая да еще поясница ноет и ноет, прямо сладу нет! Но Савинский как-то пообвыкся со своими болячками.
Он присел к столу и включил приемник. По всем программам гоняли веселенькую и ритмичную музыку – совершенно однообразную для старика. Ничего толкового и путного никто сообщать не желал. Савинский покрутил с полчаса ручку приемника, потом закурил, откинувшись на спинку стула.
Мысли не покидали его. Пускай и не банда вовсе! Но ведь есть кто-то, ведь дыму без огня не бывает. Глядишь, еще забредут на станцию! Чего ждать от всяких там типов? Да ничего хорошего! И опять же – сумма-то приличная, поневоле задумаешься. А вдруг вообще никого нету, вдруг это вовсе враки и болтовня пустая? Чего они там в центре понимают-то! У них что ни день, так новые сенсации, новые слухи – один похлеще другого! Поди проверь! То у них там снежные человеки начинают расхаживать повсюду, то тарелки градом с небес сыпятся, то конец света в понедельник после обеда! Охмурялы! Дурят людишек, чтоб никто их махинаций не замечал, чтоб в мутненькой водичке рыбешку отлавливать да свои закрома наполнять!
Савинский тяжко вздохнул, почесал нос. А может, и не врут? Они же ведь как? У них все наперед ясно – ежели охмурить хотят, говорят так, будто этот снежный босяк их родной папа и они только вчера с ним в обнимку ходили и пивцо за одной стойкой сосали! Да и денег не предлагают. А тут вроде с сомнением, с непоказной опаской. Нет, в этом что-то есть!
Савинский сдавил гудящие виски, глубоко вздохнул. Да чего ему думать-то, все одно сна нет! Он собрался было встать из-за стола, но именно в эту минуту музыка стихла и заговорил диктор. Старик сделал погромче.
– …щается к согражданам с просьбой оказать содействие в поимке неизвестных личностей, которые вполне могут оказаться опасными террористами или иными злоумышленниками. К сожалению, мы пока не можем дать достаточно точных примет, но рассчитываем и надеемся, что и сами добропорядочные граждане, проживающие в нашем округе, смогут отличить скрывающихся субъектов от своих соседей, знакомых, сограждан. Взываем к гражданскому сознанию каждого. И напоминаем о том, что самого удачливого ожидает немалое вознаграждение…
Про вознаграждение Савинский уже слышал. Но больше ничего интересного не сообщили. Скорее всего потому, что и сообщить-то нечего было! Так понял старик.
Он прошел на застекленную террасу, снял с гвоздя свой карабин с лоснящимся, потертым прикладом и пооблетевшей за годы чернью на металлических частях. Забросил его за спину. Потом вытащил из ящика старинный, еще военных времен, «вальтер», пощелкал им, проверяя, набрал патронов и вышел было из дому. Но вспомнил про сапоги и шляпу. Вернулся. Заодно сунул в карман пачку сигарет, спички. Теперь все было в порядке.
Нет, старик Савинский вовсе не собирался гоняться по джунглям за «субъектами». Его просто мучила бессонница, и он решил хоть как-то скрасить тягучее ночное время. И вместе с тем, кто знает, может, повезет именно ему?! План Савинского был предельно прост.
Перед тем как забраться в полуразвалившуюся сторожку, стоявшую у самого края леса, старик обошел свои владения, все проверил. Обе двери, ведущие в дом, он крепко-накрепко запер. Пускай жена спит, до нее добраться злоумышленникам, прячущимся где-то в джунглях, не удастся. Заодно он опустил плотные алюминиевые ставни на всех окнах – так-то оно надежней. Проверил освещение, заборы и заборчики, запоры. Взял с собой пульт дистанционного управления.
В сторожке стояла старая раскладушка. Савинский придвинул ее к незастекленному крохотному окошку, присел на краешек. На всякий случай перед этим он опустил крупноячеистую металлическую сетку – от потолочной балки до самого пола. Сетка эта в былые времена преграждала путь в сторожку диким зверям и всяким четвероногим воришкам, она занавешивала и вход и окошко, но через нее было хорошо видно, в ее ячейки свободно пролезал ствол карабина.
Старик пристроил оружие и пультик. Потом встал. Набросал под раскладушку несколько охапок сена – он как раз недели три назад косил траву на поляне. Присел снова. Потом откинулся, пристроился поудобнее и… заснул.
Часа два, а то и все три продолжался это блаженный и безмятежный, такой долгожданный сон. И во сне этом сам старик Савинский бегал трехлетним карапузом по полянке, падая в высокую, но мягкую траву, вдыхая ее запахи, поднимаясь и снова падая, радуясь жизни и всему вокруг: теплому и яркому солнышку, прохладному ласковому ветерку, стрекоту насекомых и еще тысячам вещей. Проснулся он неожиданно.
Закололо в боку – то ли сердце сдавило, то ли нервишки шалили. Он не сразу, вспомнил, как оказался в сторожке, и с минуту тер глаза, приходил в себя. Потом кольнуло сильнее. И он сразу все сообразил, дернулся к окошку. Недоброе предчувствие сжало горло, перехватило дыхание.
На поляне кто-то был. Савинский плохо видел в темноте, но различил какой-то силуэт, какую-то тень, подбирающуюся к дому. По этой тени ничего определить было нельзя – для гориллы она великовата вроде, для человека – тем более. Да и какие тут гориллы! Ежели только и на самом деле забрел какой-нибудь загулявший снежный человек. Нет, сказки все это!
Старик просунул ствол карабина в окошко. Тут же, на крючочке, приспособил «вальтер». По спине побежали мурашки, лысина покрылась испариной. За все годы, проведенные на станции, он не видывал ничего подобного – тень могла принадлежать лишь чему-то такому, о чем он никогда не слыхивал. Это было как галлюцинация! И старик предпочел бы не связываться с этой странной огромной тварью, если бы та не подходила вплотную к дому в котором безмятежно спала его жена. По самой тени старик понял, что такую тварь могут и не остановить замки и запоры. Он нажал на спуск.
Первые три выстрела прогремели в темноте. Черный силуэт замер, чуть пригнулся. Старик Савинский заскрипел зубами. Промах! Он нерешительно потянулся к пультику. Нажал кнопку.
Мощные прожекторы осветили подступы к дому-станции. И теперь у старика и вовсе отвисла челюсть. Его затрясло как на электрическом стуле. У крыльца стояло трехметровое двуногое чудовище с невообразимо жуткой, усеянной какими-то поблескивающими зеленоватыми пластинами рожей, не человеческой и не звериной. Такое могло привидеться лишь в страшном кошмаре, да и то навряд ли! Пластины шевелились, вздрагивали, неподвижными оставались раздвоенный костистый подбородок и глубокие, совершенно черные и до жути осмысленные круглые глаза. Тело чудовища скрывал просторный балахон со множеством карманов и нашивок. Но и верхние и нижние конечности заканчивались совершенно нечеловеческими когтистыми лапами… И все это вместе, в таком неожиданном сочетании, чуть не лишило Савинского сознания. У него уже начало меркнуть в глазах. Но он отчаянно мотнул головой и еще пуще заскрипел зубами. С того момента, как он включил освещение, прошла секунда, не больше. Но в этот малый отрезок времени вместилось очень многое. Савинский даже успел почувствовать, что он постарел еще лет на двадцать, что он на пределе.
Чудовище шевельнулось, повело выпуклыми плечами. В тот же миг Савинский снова нажал спуск. Он всаживал в кошмарную тварь пулю за пулей, сначала из карабина, потом из «вальтера». Он ясно видел, что не промахивался, что попадал, – чудовище вздрагивало после каждого его нажатия. Но оно продолжало стоять, не падало. И, казалось, совсем не думало убегать, скрываться. Все происходившее Савинский видел будто в замедленном кино: чудовище чуть дергалось, отшатываясь назад, переступало с лапы на лапу, потом в его верхней конечности появилось что-то круглое и на вид совсем не опасное навроде яблока, конечность начала медленно подниматься, так же вздрагивая при каждом попадании, как и само тело…
Последним, что увидел в своей жизни старик Савинский, была ослепительная вспышка. Настолько ослепительная, что в ее свете пропало все: и фантастический гигантский уродец, и прожектора с их мощными отражателями, и заборы, загоны, пристройки, и дом-станция, и сама поляна.
Это был провал! Гун от раздражения и бессильной злобы не мог найти себе места. Еще бы, через несколько минут, не позже, здесь появятся тарахтелки, и его обнаружат. Надо было срочно вызывать капсулу и убираться подобру-поздорову. Но Гун хорошо знал, что самое логичное решение зачастую оказывается и самым безнадежным.
Все тело чесалось от впившихся в хитиновые покровы кусочков свинца – легкий скафандр, а точнее, рабочий комбинезон не смог защитить его от пуль. Но выковыривать их не было времени. Вопреки всей логике, Гун бросился обратно в чащобу. Перед этим, правда, он в нерешительности постоял на поляне, размышляя, сжечь или же не трогать большую хижину. И уже было поднял в руке аннигилятор… Но потом остановил себя мстить после всего произошедшего было не просто глупо, но и бесцельно, совершенно бессмысленно.
Теперь он бежал во всю прыть, нацепив для лучшего обзора окуляры ночного видения. Тьмы для него не существовало. И все же прошло совсем немного времени, прежде чем с неба послышался рокот тарахтелок.
Еще до этого Гун слышал какие-то глухие разрывы, хлопки. Но не мог понять в чем дело. Теперь до него дошло. Особенно после того, как его шибануло взрывной волной о ствол корявого и полусгнившего дерева. Сверху беспорядочно, но как-то сосредоточенно и деловито метали бомбы. Слабенькие, маленькие, а все равно достаточные по своей убойной силе, чтобы превратить его в кровавый ошметок.
Следом за первой тарахтелкой прошла вторая, потом третья. Гун бросился наземь, и все же его зацепило – оторвало осколком крайний палец на левой руке да немного оглушило. Он уже жалел, что не вызвал сразу капсулу. Тогда бы этим жалким тарахтелкам пришлось туго. Но пока что они были наверху – во всех смыслах.
Заживляя рану на руке и роясь в карманах в поисках регенератора, Гун обнаружил, что потерял не только его – в рваные и чуть сплавившиеся дыры простреленных карманов высыпались все стимуляторы. Искать их теперь по чащобе было безнадежно. Но рану он все-таки заживил, кое-какие медикаменты оставались. Оторванный палец бросил в боковую суму. Переживать о потере было некогда.
Тарахтелки улетели. Но почти следом началось нечто невообразимое. Гун не видел, откуда стреляют, откуда исходит опасность. Но все вокруг превратилось в кромешный ад. Причем ад этот накатывал волнами – то начинало все рваться и гореть вокруг, то вдруг снова стихало, и лишь отдельные язычки пламени лизали замшелые стволы. Земля меж стволами покрылась воронками, переломанные и обрушившиеся вниз ветви загородили дорогу.
И все же он продолжал бежать, стараясь выбирать те места, где только что рвануло, и избегая чистых, нетронутых. Цена за допущенную ошибку была высокой, а могла стать и вовсе безмерной.
Его порядком помяло в этой переделке. Но надо было благодарить судьбу за спасение, а не ныть и жаловаться. Гун так и делал.
И все же он несколько утратил контроль над обстановкой. А может, и подвели приборы. Совершенно неожиданно он выскочил на берег широкой реки и еле удержался на крутом берегу, чтобы не свалиться в воду. Но это было чисто рефлекторное движение. Уже в следующее мгновение, почувствовав, что вода чистая, глубокая и не таит смертельной опасности, Гун оттолкнулся что было силы ногами и прыгнул вниз.
У берега вода была мутной. Но к середине она прояснялась – Гун прекрасно ориентировался на глубине в три-четыре собственных роста. Конечно, видимость не та, что днем, при свете, и все же вполне достаточная. Он погрузился еще глубже. Распугал стайку каких-то сонных и пузатых рыб. Достал со дна рачка. И, разломив ему панцирь, тут же съел. Потом наспех проглотил еще нескольких непроворных собратьев своей первой жертвы. Все покрытое панцирями, хитином вызывало у него доверие. Но это не означало, что придется полностью отказаться от иного корма на этой планете. Просто слизняки, будь то голые или же покрытые легкой шерсткой, вызывали у Гуна брезгливость. Но это дело преходящее, Гун все понимал.
Течение на глубине было довольно-таки сильное. И Гун решил немного отдохнуть, отдавшись ему во власть. Пускай его ищут на земле.
Пластины, открывавшие легочные дыхательные пути, плотно сомкнулись, еще когда он только оторвался от берега и летел в воду. Чуть позже приоткрылись жаберные щели. Вода была напоена кислородом и углекислотой. Дышалось легко, свободно.
Гун повысил обзор анализаторов и лег на спину. Теперь течение несло его вниз, будто маленькую подводную лодку, только наоборот – вперед ногами, так было удобнее. Рыбы от него шарахалась по сторонам. Где-то вверху проплыл, даже не заметив подводной опасности, длинный и толстый червь, навроде того, которому Гун срезал голову. Было тихо и покойно. Это путешествие оказалось самым лучшим отдыхом после всех здешних передряг.
Временами Гун всплывал повыше, почти к самой поверхности, и смотрел в черное, усеянное звездами небо. Где-то там, в безграничной бездне, были звезды и планеты его Системы. А может, их уже давно нет, может, пыль, в которую они распались, развеяна по всей Вселенной. Кто знает! Могло ведь быть и так, что Система цела и по-прежнему живет своей замкнутой жизнью. И нет никакой уверенности в том, что она на другом краю существующего мира – может, он сам ходил кругами в своей капсуле и не так уж и далеко ушел от Системы? Все может быть. Но какая разница! Его родина теперь здесь, на этой не слишком гостеприимной, но и не самой худшей планетке. И нет путей для него – ни назад, ни в стороны.
Во время одного из таких всплытий Гун чуть не наткнулся на какое-то окаменелое бревно. Замечтался. Забыл про анализаторы и все прочее, отключил внутренние системы оповещения. А бревно оказалось не бревном. Гун еле успел отдернуть ногу – гигантские челюсти разомкнулись, а затем сомкнулись мгновенно. Но следующее движение он уловил. И, вцепившись одной рукой в нижнюю челюсть, другой в верхнюю, не дав бревну опомниться, разорвал его на две части. И тут же отбросил их. Пускай себе плывут!
Чуть позже пожалел. Надо было попробовать на вкус. Но возвращаться не хотелось. Впрочем, вскоре он утешился. Ниже по течению ему попалось еще одно «бревно». Проделав с ним то же самое, Гун отведал мясца. Оно оказалось ничуть не хуже жучиного и рачьего. Убедившись в этом, Гун наелся досыта когда еще придется!
Потом он решил немного поисследовать берега, вышел из стрежня. У берегов было много водорослей. Но он все же обнаружил небольшую подводную пещерку, вполне пригодную для временного обитания. Выгнал оттуда рыбешек, попробовал почистить камни у входа внутрь, но лишь замутил воду. И все же забрался в пещеру. Ему захотелось вдруг остаться в ней, переждать неделю, месяц, год. Им ни за что не найти его в этом подводном убежище. А капсулу можно отпустить, пускай взрывается, черт с ней, ведь все равно она обречена! Но каким-то зыбким показалось подводное счастье. Да и с капсулы надо было кое-что снять. Просто необходимо использовать ее в последние дни – потом он останется на планете практически голым. Уже за неполный день успел растерять многое, а что еще впереди!
Гун отметил пещеру в памяти и всплыл наверх. Начинало светать. Он попробовал сориентироваться. Получалась чепуха какая-то – река принесла его почти к тому самому первому месту посадки, где капсулой раздавило детеныша черной пушистой твари. Это его разозлило. Но лишь поначалу. Потом он решил, что такой поворот, может, и к лучшему –.наверняка его разыскивают где-нибудь вдалеке, думают, ушел за сутки черт-те куда!
Прошло совсем немного времени, прежде чем он выбрался к склону горы. Но с другой стороны, немного правее. А что ему еще оставалось делать! Гун тешил себя мыслью, что если не взяли за сутки, так и вообще не возьмут.
Он вскарабкался высоко по склону, поросшему однообразными стройными деревьями и чахлым кустарником. Потом стал перемещаться влево, выбирая удобное место для обзора поляны. Он начал ощущать вкус к этой игре в преследователей и преследуемого, азарт охватывал его душу. Но это не означало того, что Гун начал вдруг терять чувство меры и пренебрегать предосторожностями, вовсе нет.
Удобного места ему выбрать не удалось – не было почти никаких выступов. И тогда он вскарабкался на самое высокое дерево. Заслонился широкой ветвью, листва должна была полностью скрывать его от взоров тех, кто копошился внизу.
А там было несколько слизняков в одинаково нелепой форме. Гуну пришлось надеть очки дальнего видения, чтобы хорошенько разобрать, чем же слизняки занимаются. Но он так и не понял ничего. Трое слизняков сидели прямо на земле, кучкой, временами они подносили руки к головам и после этого выпускали из себя дым. Эта процедура была совершенно непонятна Гуну, но он догадался, что ничего существенного за ней не кроется. Еще трое ходили по поляне и прощупывали траву и землю длинными палками с расплющенными проволочными концами – тут все было ясно. Пускай ищут, подумал Гун, может, и найдут что-нибудь. Ближе к склону стояли палатки и какое-то оборудование, с этим тоже было все ясно. Какой-то слизняк без всякой системы таскался по поляне с небольшим четвероногим животным. Гун рассмотрел даже круглый ремень на шее зверька и тянущуюся от ремня длинную веревку, конец которой и держал слизняк. Гун наблюдал долго. А слизняк все подтаскивал четвероногого к трупу черной пушистой твари с вывороченными кишками, хватал его руками и все норовил уткнуть носом прямо в разлагающиеся кишки. Четвероногий отчаянно вырывался, упирался что было силы. Потом слизняк начинал бегать с ним по поляне – то кругами, то наискосок. Понять, чего он добивался от четвероногого, было невозможно.
Был и еще один. Он насторожил Гуна в самый первый миг, когда тот только устроился на ветви и подкрутил очки. Этот совсем узкоглазый и неправдоподобно желтый слизняк в головном уборе с длинным козырьком вдруг повернул голову в сторону склона и начал медленно поднимать ее – до тех пор, пока щелки глаз его не расширились, а сам взгляд не остановился прямо на Гуне. Не дольше секунды они смотрели друг другу в глаза. Потом слизняк отвернулся, побрел куда-то. Гун решил, что ему показалось. Во всяком случае, не мог этот тип видеть его с такого расстояния, в густой листве, да еще без оптики. И он успокоился.
Ему доставляло удовольствие наблюдать за бесцельной возней внизу. Планетяне оказались бестолковее и нерасторопнее, чем он ожидал. Ну и ладно, тем лучше! Пускай возятся, пускай ищут.
С соседнего дерева перемахнул на ветвь какой-то маленький пушистый зверек с длинным хвостом. Он не видел Гуна, а когда застыл, стало поздно. Чуть вздрогнула его остренькая головка, настороженно сверкнули бусинки глаз. Движение Гуна было молниеносным – зверек не успел увернуться, он лишь чуть качнулся назад, но его головка уже была зажата всеми восемью цепкими пальцами. Гун чуть сжал их, и хрупкий череп зверька хрустнул. Маленькое тельце не долго билось в руке.
Преодолевая брезгливость, Гун поднес зверька к губам. Но положить в рот не смог – тошнотворный комок подкатил к горлу, настолько отвратителен был этот покрытый шерсткой слизнячок. Предаваться эмоциям не следовало. Гун полоснул когтем по брюшку зверька, затем, придерживая тельце тремя пальцами, остальными пятью вывернул шкурку наизнанку, но не до конца, а так, наполовину. Пересиливая себя, высосал содержимое вместе с меленькими косточками. Его чуть не вырвало от омерзения. Но он уже чувствовал, что это просто неприятно, что это совсем не опасно, что никакой отравы для него в тельце нет, а потому надо пробовать, надо привыкать. И проглотил. Горло еще раза два сдавило, но потом отпустило. Гун облегченно выдохнул. Да, это была, конечно, не жучатина и не рачье мясцо, это была теплая и мокрая гадкая слизь, перемежающаяся костями, хрящами и прочей гадостью. Но теперь он твердо знал, что сможет жить среди этих слизняков, как бы они ему ни были противны.
На поляне продолжалась все та же бесцельная суета. Четвероногого замучили вконец, и он тихо и уныло выл, сидя на привязи. Сидящие, казалось, не переставали дымить. Узкоглазый больше ни разу не поднял головы – он копал большую яму возле разлагающегося трупа, наверное, собирался зарыть его.
Несколько раз на поляну спускались тарахтелки. Кто-то из них вылезал, что-то выкладывали, потом кто-то забирался опять внутрь – и тарахтелки улетали. Один раз такая машина прошла над самой головой Гуна. Он затаился, готовясь нажать на рычажок аннигилятора. Но его не заметили. Гун приободрился. Все складывалось как нельзя удачно! Они его совсем не видят, они его не чувствуют. Да с ними можно годами, столетиями играть в прятки, водить их за нос! На радостях Гун поймал еще одного зверька, но уже побольше размером и с острыми клыками, которыми тот чуть оцарапал Гуну ладонь. И съел его, почти не испытывая неудовольствия и брезгливости. Да, ко всему можно было привыкнуть.
Но время шло. Предаваться забавам можно и после того, как от капсулы останется пустое место, но не сейчас. Гун в три прыжка спустился вниз. И побежал по еле приметной тропке в сторону реки.
Пак Банга знала, что легавые вместе с солдатней ищут кого-то в джунглях и на горах. Но ей не светило подыхать в жутких судорогах, при этом лишаясь еще и солидного куша. Утром она еле продрала глаза. Ширева не было, все вышло два дня назад. Пак держался дрянцой, но в ее развалюхе не было тайников-хранилищ, а последний косяк она забила вчера вечером – даже пепла не осталось. Дела были плохи.
До Хромого она доползла чуть не на четвереньках. Тот пожалел. Но сказал, что в последний раз. Надо было отрабатывать. А как отработаешь, если эти падлы оцепили гору?! Пак больше всего на свете боялась легавых. Если ее снова запрут, она уже не выдержит. Что от нее осталось? Мешок костей да кружка крови! В прошлый раз, когда ссучилась подельщица и ее заперли на полтора года, она еле оклемалась. Не-ет, больше она не попадется!
Хромой дал ширева на две дозы в пластиковой упаковке прямо в шприцах. Пак не стала ширяться, она еще соображала что к чему, сунула пакетики за пазуху. Мозги прочистила марафетом, но половину понюшки также убрала, еще пригодится. На пару с Хромым забили косячок и тут же вышмалили мастырку. Полегчало.
– Нужен ствол, – вяло сказала Пак, не надеясь на удачу.
Хромой замахал руками.
– Не в масть идешь, подруга, – прогундосил он, – сама знаешь, я этими делами…
– Верну.
Хромой захихикал.
И Пак поняла – у него есть оружие.
– Дай, расплачусь, – сказала она тверже.
– Ага, щас, поверил! – Жирная рожа Хромого стала совсем масленой. И весь он как-то мелко затрясся, заколыхался в беспричинном смехе – дрянь действовала и на него.
– Тайник покажу!
– За фрайера держишь, подруженька? Нехорошо, не по-нашему это! – Хромой даже обиделся, оттопырил вислую синюшную губу.
– Давай бумагу и ручку!
Хозяин суетливо подал требуемое. Он еще не верил своему счастью. Но ведь бывало и так. Значит, дошла Банга, дошла подружка, ну и ладненько, ну и хвала Всевышнему, не зря, видать, потчевал почти задарма.
Через двадцать минут Пак вышла от Хромого, неся в холщовой сумке среди скомканных бумаг, газет, журналов и какой-то зелени свою собственную подруженьку по прозвищу «сузи», да в придачу к ней кучу «маслят» и три старинные, но, как говорил Хромой, вполне исправные – «лучше новеньких», покрытые патиной «лимонки».
Голова у Пак побаливала. Саму ее все еще шатало из стороны в сторону. Но она знала, что. до «тропы» доберется. И кто знает, может, все еще обойдется, может, автомат ей не придется пускать в ход. Ведь ей самой так не хочется этого! Чтоб провалился в тартарары этот проклятый мир! Она все сделает, чтоб не стать мокрушницей. Но пусть и ее не трогают, иначе…
Пак высыпала на ладонь остатки марафета, втянула носом белый порошок. Ноги стали держать ее потверже. Но все равно в глазах мельтешило, мир качался и расплывался, сума казалась пудовой, хотя в мире не найти игрушки легче и меньше «сузи». Хотелось пойти в свою развалюху, передохнуть, поспать. Но Пак отлично знала, что тогда ей кранты, что во второй раз она не соберется, что вкатит в вены обе дозы и к следующему утру превратится в тряпку, о которую разве что вытрут ноги – если не побрезгуют только. И она поплелась вверх.
Из поселка Пак вышла незамеченной. Лишь какой-то шалопай плюнул ей вслед, но ему было безразлично, куда плетется эта старая потрепанная шлюха.
Никаких легавых она пока не встречала. Все было как обычно – тихо и спокойно. Какой дурень попрется ни с того ни с сего в горы! Туристов в здешних краях не водилось, да и чего им тут ловить? Нет, врешь, в этой глухомани и не может быть никого. А по телеку и по радио – болтают! Болтуны поганые! Пак сама себя успокаивала, но все равно ее трясло. Ноги подкашивались.
Два раза над головой проносились вертолеты. Она прижималась к стволам, обмирая со страху. Что им стоило спустить веревочную лестницу и высадить парочку легавых или солдат? Для них это небольшая разминка, для нее – гибель.
Через каждые сорок метров она присаживалась и переводила дыхание. Склон был пологий, но сил не хватало. Почти у самой цели она все же достала ширево. Зубами содрала полупрозрачный пластик. Долго не могла нащупать вену, руки дрожали. Но такое было не впервые, Пак справилась. Облегчение пришло почти мгновенно. Она отбросила ненужный шприц и тихо засмеялась. Слезы текли из глаз, но она не утирала их – все было в кайф. А главное, ожило, проснулось тело.
Она поднялась на ноги, потрясла головой так, что черные сальные волосы рассыпались по плечам. Вытащила подружку «сузи» из сумы, запихнула ее за пояс, два рожка и «лимонки» распихала по карманам широченных, когда-то светлых, но засаленных до невозможности брючат. И пошла наверх.
Теперь ей сам черт был не страшен. Да и не водилось тут никаких чертей! Разве что дикари да легавые.
У входа в пещеру росло высоченное дерево. И Пак немного постояла, опершись о его ствол спиной. Дошла! Добралась! Всем назло. Вот так вот! Что, взяли?! Поймали? Фиг вам всем! Она беззвучно смеялась. И думала: вот придет жирный увалень Хромой, а тут пусто! На-ка, выкуси! Не в масть ему! Врешь! Ублюдок поганый! Размечтался, думал, дуреху нашел, а сам фрайернулся, шестерня зеленая! Она представляла, как Хромой выпучит свои красненькие поросячьи глазки, как разинет фиксатый роток, и не могла сдержать хохота. Давно Пак Банге не было так легко и весело.
Смолкла она внезапно. Чья-то потная и широкая лапа заткнула ей рот, лишила дыхания. Потом лапа сползла пониже и сжала горло. В бок уперлось что-то холодное и твердое. На ухо, обдавая вонючим дыханием, прошептали:
– Нехорошо, очень некрасиво, Пак. Я тебе помог, а ты так поступаешь.
Это был голос Хромого. Следил, гад! Пак трепыхнулась. Безрезультатно. Ей стало ясно, что она уже никогда не вернется с гор в поселок, да и вообще никуда не вернется. Хромой сжимал горло все сильнее. И тащил потихоньку к входу в пещеру.
– Ты не бойся, подруженька, я тебя придушу не сразу, не сейчас, – слюнил в ухо Хромой, – вот покажешь место, убедишь старого человека, что не обманула его, так и придушу. А может, и не придушу. Ведь и ты, небось, жить хочешь? Что скажешь?
Он чуть ослабил хватку. И Пак просипела:
– Тварюга вонючая!
– Ну ничего, ничего, – успокоил ее Хромой.
И поволок в подземелье. Им надо было пройти сотни четыре метров, прежде чем выбраться на тропу. Но ноги у Пак совсем ослабли. Она подогнула колени, и Хромой остановился.
– Падла, – прохрипела она.
Хромой обиделся.
– Не шурши, девочка, – произнес он брюзгливо. – Не трону. Видишь, я твою погремушку не вытащил из-за ремешка даже. Ну, чего ты?! Возьмем, поделимся, ну мы же люди свои, а?
Деваться было некуда. Не пальбу же поднимать тут, в пещере! Да еще и не подымешь ничего такого. Пак дышала, как загнанная кобылица. Сердце рвалось из груди.
– Лады, Хромой, – наконец выдавила она из себя, – пойдем!
В темноте пещеры она ориентировалась, как в своей неосвещенной развалюхе по ночам. И им потребовалось всего несколько минут, чтобы добраться до лаза, до щели, из которой можно было вылезти прямо на «тропу».
– Ну, чего стал, давай! – сказала Пак.
– Не-е, подруженька, ты полезешь первой! – Хромой снял с плеча тяжелый ручной пулемет и выразительно качнул стволом.
Пак встала на выступ, высунула голову в щель. В следующую секунду Хромой ее вытолкнул наружу. И выскочил сам.
Все последующее предстало перед ней нелепой и дикой галлюцинацией. Сначала раздался оглушительный треск пулемета за ее спиной. Пак в долю мгновения испугалась до оцепенения, ей показалось, что Хромой убивает ее, изрешечивает насквозь. Но Хромой стрелял не в нее.
Повернув голову вперед, Пак увидела летящее на них огромное чудовище с ужасающим, нечеловеческим лицом. В другое время она бы сжалась в комок, упала. Но сейчас что-то обуяло ее. Пак, выдернув из-за пояса «сузи», принялась левой рукой палить в грудь бегущего на нее. Правой она нашарила «лимонку» и, зубами, вырвав чеку, метнула гранату. Ее почти сразу бросило наземь. Но Пак видела, как чудовищу перебило кисть, как из страшной когтистой лапы вывалилось что-то круглое, поблескивающее. Она тут же бросила вторую гранату, потом третью. Уши заложило. Мир исчез.
Но через миг сознание вернулось. Она не понимала – то ли это действие наркотика, то ли вообще бред какой-то! Все вокруг было изуродовано, искалечено, обожжено. Горели кусты, тлели перебитые осыпавшиеся ветки и трава. Пахло едким дымом. Хромой, весь обожженный и грязный, в разодранной рубахе и с кровавым бельмом вместо левого глаза, стоя на одном колене, безостановочно палил вверх. Пулемет трясся в его руках, будто непременно желал вырваться из них.
Пак задрала голову. Там в вышине ползло вверх по совершенно голой изуродованной сосне то самое двуногое страшное чудовище. Верхние лапы его болтались плетьми. Но оно как-то умудрялось перебирать нижними, выгибаться, вжиматься в дерево и, несмотря на увечье, на бешеную пальбу, поднималось все выше и выше. Пак видела, как обрывками слетал с тела чудовища его серый балахон и открывалось что-то поблескивающее, зеленое, неживое. Это было самое форменное сумасшествие. И она, подобрав свой крошечный автоматик, принялась выпускать вверх очередь за очередью. Одновременно Пак истерически хохотала во все горло. Так, что даже Хромой вдруг стих на секунду и уставился на нее уцелевшим выпученным глазом.
Потом резко стемнело. Совсем ненадолго. И никакого чудовища не стало. Лишь дым, гарь и искалеченные деревья напоминали о побоище.
А Хромой продолжал трясти своим пулеметом, хотя тот молчал – кончились патроны. Приглядевшись к Хромому, Пак поняла: у старика от пережитого крыша поехала, свихнулся. Но ей было наплевать на этого жирного и наглого борова.
Прежде чем подъехала машина с солдатней, Пак успела вкатить в вену остатки ширева. Она балдела, остекленевшие глаза не желали ничего видеть в этом реальном и ненужном мире. Визгливый хохот ее поначалу напугал солдат. Но они все же втащили Пак в кузов машины. Она ничего не хотела, ничего не боялась. С ней можно было делать что угодно. Не удавалось лишь вырвать из ее оцепеневшей руки маленький, почти игрушечный автомат, подружку «сузи».
Если бы капсула пришла на секунду позже, Гуну пришлось бы распрощаться с жизнью. Он еле держался на покачивающейся вершине дерева, то проваливаясь в небытие, то вновь обретая зрение. Его ноги уже были готовы разжаться. Но именно в эту последнюю секунду днище капсулы заслонило собою небо, раскрылся люк и из него спустился короткий пластиковый трап. Автоматика работала, несмотря ни на что. Гун из последних сил, на одних локтях вполз по трапу внутрь капсулы. Дал команду выхода на орбиту и повалился на пол.
В экранах внешнего обзора он видел, как рвались вокруг ракета за ракетой. Капсулу потряхивало. Но она каким-то образом каждый раз успевала уворачиваться, спасая своего изувеченного обитателя.
Гун занимался собой. Полуослепший и оглушенный, с перебитыми руками и простреленным во многих местах телом, он ползал по полу вдоль стен, от ниши к нише, пока почти на ощупь не отыскал регенератор. На его счастье, в капсуле их было два, как и полагалось по инструкции. На нем не стали экономить, и это спасало его в очередной раз.
Стиснув рукоять регенератора зубами, Гун привалился к стене, подтянул к себе колени и уткнул обрубок правой руки в раструб. Долго не мог включить прибор, тыкался им в стены, плечи, злился и нервничал. Но справился и с этим делом. На оцепеневшую и полубесчувственную кисть будто плеснули расплавленным оловом. Но Гун не отдернул руки, терпел.
Даже когда капсулу тряхнуло так, что он кубарем полетел к другой стене, не выпустил из раструба кисти. Только удивился – в чем дело, ведь они уже должны были выйти за пределы атмосферы планеты?! Снова включил обзор. Нет, они никуда не вышли. Капсула металась в освещенном пространстве, но понять что к чему не было никакой возможности. Гуну оставалось лишь довериться мозгу капсулы. Что он и сделал.
Рука отрастала на глазах. Боль была страшная. Но это была приятная боль. Когда Гун убедился, что все, вплоть до острых поблескивающих чернотой когтей восстановилось, на него вместо радости накатила досада. Так по-глупому влипнуть! Как последний недоумок! Какие-то полудохлые слизняки расправились с ним словно с беззащитным ребенком! И где теперь аннигилятор? Наверное, валяется там, у тропы. Нет, все верно, так и должно было случиться – это плата за беспечность, за то, что возомнил о себе, уверовал в удачливость собственную и непобедимость! А сам?! Не успел даже руки поднять! Так и надо, впредь умнее будешь да расторопнее… Но спасся, спасся же! И это главное.
Новая рука плохо слушалась. Ее надо было разрабатывать. Но еще до того, как заняться этим, до того, как отрастить левую руку, Гун растворил регенератором все кусочки свинца, вошедшие в тело и причинявшие боль при малейшем движении. Потом затянул хитиновые покровы своей кожи-панциря. Самые важные центры организма не были затронуты. Во всяком случае, это пока никоим образом не проявлялось. А стало быть, можно не слишком расстраиваться.
Левую руку Гун отращивал, сидя в кресле у пульта. Ему надо было разобраться в обстановке. Проглоченные подряд три порции стимулятора влили в него такой заряд энергии, что Гун рвался в бой. Но это вовсе не означало, что он собирается рисковать попусту.
«Потолок» был перекрыт. Как ни напрягался мозг капсулы, найти ходы сквозь самые верхние слои атмосферы ему не удавалось – несколько орбитальных станций и спутников полностью контролировали пространство, каждый его малюсенький квадратик. Оставалось искать боковой выход. Но с двух сторон уже ничего хорошего не светило, там широко раскинули «радарную сеть» – при попытке прорыва капсулу тряхнуло так, что Гун почувствовал себя жучком в коробочке. Можно было, конечно, попробовать на малой высоте. Но у земли не извернешься, никакие антигравитаторы не помогут, при самом простом маневре можно врезаться в ее поверхность. Рисковать не стоило.
Гун с тоской вспомнил о тихой и уютной подводной пещере. Надо было оставаться там, в зеленоватом расслабляющем сумраке. Но что толку предаваться воспоминаниям и жалеть о чем-то!
Похоже, он попал в ловушку. Оставалось лишь проверить два направления, чтобы убедиться в этом. Но вместе с тем Гун вдруг понял – внутри этой ловушки вроде бы никто не покушается на его жизнь, на существование капсулы. То есть эти слизняки все же хотят не просто уничтожить пришельца, но и понять – кто он. А может, это только казалось. Поди-ка проверь, что у них там на уме!
Навстречу неслись два предмета. На огромной скорости неслись. Гун выжидал, хотя уже не раз давал себе слово перейти от созерцания к действию. Предметы напоминали Гуну те допотопные летательные аппараты, что существовали в его мире еще до образования Системы. Он видел такие или похожие в мнемофильмах. Но они несли опасность.
Вот и сейчас от аппаратов отделились по две небольшие ракетки и пошли на сближение с капсулой. Гун взял резко вверх. Обогнув широченные дуги, ракетки последовали за капсулой. Далее рисковать не стоило, Гун включил защитное поле. Притормозил. И тут же увеличил ход. Ракеты разорвались будто по команде – их взрыватели сработали в тот миг, когда ракеты вошли в поле.
Примитивная техника! Гун даже улыбнулся снисходительно. Но тут же погасил улыбку. Один раз он уже влип. Да и не один даже. Его капсулу можно было накрыть и такими средствами. Попробуй допусти хоть одну ошибку – и тебя размозжит о внутренние переборки! Мозг работает на пределе. Но он все время помнит о живом существе внутри. А существо это не всякую перегрузку выдержит.
На севере и северо-востоке прорваться также не удалось. Стоило Гуну подобраться ближе к невидимой границе, как тут же прямо по курсу расцветали пышные клубы раскаленных газов, будто лепестки фантастических цветов распускались вдруг из невидимых дотоле гигантских бутонов. Планетяне не жалели зарядов. И Гун знал: чем дольше он будет медлить, тем большее число пусковых установок они смогут сконцентрировать в местах возможных прорывов. Нельзя было рассчитывать на отсрочку.
И он решился. Перегрузки вдавили его в кресло. Веки сами собой наползли на глаза. Руки стали неподъемными. Но голова работала, как прежде. Да и мозг капсулы ловил мысленные команды на лету. Вираж был лих и крут. На бешеной скорости пройдя вдоль северной границы ловушки, капсула почти вертикально взмыла вверх, но тут же изменила направление и под прямым углом пошла на прорыв.
Гун не почувствовал удара. Когда его будто мячик выкинуло из кресла и швырнуло на экраны, он был уже без сознания.
Филипп подал рапорт полгода назад. Шесть долгих месяцев он ждал ответа. И вот наконец о нем вспомнили, просьбу его удовлетворили. Со следующей недели прощай навсегда армия, прощайте майорские погоны! Хватит, поигрался немного, а теперь пора и остепениться. Да и вообще, не его это была дорожка – в училище пошел за компанию с приятелем. Окончил через пень-колоду. Перед каждым вылетом его трясло. Хотя и не показывал виду. Но сколько же можно! Одно удерживало – хорошо платили. Но не станешь же всю жизнь дрожать и просыпаться по ночам из-за этих поганых бумажек! Филипп по-новому вдыхал воздух жизни. Все его теперь радовало, все интересовало, все пьянило.
Сегодня последний вылет. А там – да пропади они пропадом, эти самые военно-воздушные силы! Парень он хоть куда: крепкий, рослый, красивый. Бабы так и льнут, друзья надежные, есть уже договоренность – будет подрабатывать консультантом на одной небольшой фирмочке. Башли, правда, поменьше, ну да ничего, тоже нормальные, на жизнь хватит.
А в эти дурацкие игры Филипп не верил. Да и кто в них верит! Сказки для малых детишек: пришельцы, новые разработки потенциального противника, то да се! Крутят, вертят, нет чтобы прямо сказать: ребята, идут очередные маневры, надо попотеть немного, повкалывать, а после передохнете. Дубье, солдафоны! Но ему-то наплевать, он сегодня в последний раз сядет в свой «Призрак» – на пару часиков, и все. А потом еще неделька на оформление документов. Хорошего понемножку!
Когда давали «боевое задание», лицо Филиппа было непроницаемо. Но в душе он хохотал над каждым словом полковника, таких обалдуев – поискать! Чего лепит! Нет, вы только послушайте его! И глазом не моргнет!
Дежурство в воздухе было постоянным: одни садились, другие поднимались. Дело привычное. А для перехватчиков и вовсе заурядное. Ну а последние два дня – дежурство с боевыми стрельбами, по мере надобности и при обнаружении «объекта».
После инструктажа полковник сказал ему, отозвав в сторону и взяв под локоток:
– Может, сменить тебя, Фил, как ты? – Голос полковника подрагивал. – Чего тебе париться напоследок!
Филипп усмехнулся в открытую. Ему была непонятна такая забота.
– Ну что вы, шеф, – проговорил он, закидывая голову назад и выставляя крупный агрессивный подбородок, – неужели вы хотите лишить меня последнего удовольствия?
Полковник пожал плечами.
В этот день «Призрак» как никогда был послушен Филиппу. И ему вдруг стало как-то жалко свою «ласточку», которая, несмотря на все страхи, бессонные ночи и капризы своего пилота, ни разу не подводила его. Филипп чуть было не прослезился. Он и вообще был сентиментальным человеком – любил романтические фильмы и постановки, умилялся детским каракулям. Но это не означало, что он не умел держать себя в руках. Хороша «ласточка», ну да и Бог с ней. Может, достанется отличному парню, которому все эти дела по душе. А с него хватит!
На исходе второго часа бортовые локаторы засекли «объект». Филипп, как и было положено по инструкции, пошел навстречу с небольшим углом отклонения. И с ходу выпустил все восемь ракет по цели – парами. Тут же свечей взмыл вверх, чтобы обезопасить самолет от действия ударной волны да и от случайного столкновения.
Он начал свой вираж заблаговременно, не доводя до последних секунд, ему ни к чему было испытывать судьбу в этот последний день. Но произошло невероятное – «объект», нарушая все законы движения и аэродинамики, резко изменил направление и, проделав невероятный маневр, оказался рядом.
В последнее мгновение Филипп увидел будто остановившуюся, зависшую в прозрачном воздухе черную полусферу и зашедшие с тыла, нагоняющие ее ракеты. Он даже успел сосчитать их – по выработанной, въевшейся в мозг и кровь привычке: ракет было ровно восемь. Он не услышал жуткого грохота, порожденного столкновением его «Призрака» с черной полусферой, и тем более слившихся разрывов всех выпущенных им же ракет, для него все растворилось в белом ярком свете, растворились и тут же пропало.
Гун вывалился из люка, придерживаясь одной рукой за трап. Он понимал, что в любую минуту может произойти непоправимое, и потому спешил. В темноте он сумел нащупать парализатор и что-то острое, колющее. Быстро запихнул и то и другое в карман. Левая нога была сломана в двух местах. Это Гун определил сразу, как только пришел в себя. Правый глаз вытек. И его уже не восстановишь регенератором. Этот прибор болтался, прихваченный ремешком, на шее. Положение было ужасное.
Вывалившись, Гун сразу нащупал правой рукой верхушку дерева и отпустил трап. Опять его занесло в то же самое проклятое, заколдованное место, все на тот же склон!
Дерево под тяжестью тела согнулось. И Гун, не удержавшись, полетел вниз. Он упал в какие-то колючие кусты и чуть не выколол уцелевший глаз. Сильно отшиб локоть, сломал пару гребневидных отростков. Но он не стал задерживаться, не стал восстанавливать переломанную кость ноги. Стиснув зубы, кривясь от боли и еле перебирая уцелевшими тремя конечностями, он пополз к огромному и замшелому валуну. И только когда полностью скрылся за ним, немного успокоился.
Его опасения не оказались напрасными. Капсула выдержала чудовищное воздушное столкновение, совершенно кошмарный взрыв настигших ее ракет. Она донесла его кое-как до земли. Но все внутри нее разладилось, мозга больше не существовало. И потому не существовало никаких сроков, никаких десяти или даже оставшихся восьми дней…
Взрыв был настолько мощным, что валун вздрогнул, накренился и чуть было не придавил обессиленного Гуна. Но все обошлось. Лишь на какое-то время Гун лишился слуха. Ничто на свете не могло отвлечь его от самого важного дела. Даже если бы весь мир взорвался, Гун не повернул бы головы. Он, согнувшись в три погибели, водил раструбом регенератора по сломанной ноге. Кость медленно, с искривлениями, но все же срасталась. Шансов на спасение оставалось немного. Гун хотел воспользоваться и этим немногим.
Через несколько минут он ковылял вниз по склону, подальше от этого страшного, изуродованного взрывом места. Откуда-то издали уже доносился шум тарахтелок.
Именно сейчас Гуну захотелось жить так, как никогда ему не хотелось. И жить не подопытным существом в лабораториях, а полноценно, по-своему! Только бы успеть спуститься к реке? Они никогда не найдут его там, в подводном полумраке! Им и в головы их слизнячьи не придет разыскивать его под водой, в прибрежной мути. Вперед же!
Но он успел добраться лишь до той тропы, где чуть не погиб совсем недавно. Голова кружилась, ноги подкашивались. Быстро бежать он не мог. Какой это был бег! Он падал через каждые двадцать метров. И где-то по дороге потерял парализатор. Теперь он оставался совершенно безоружным, если не считать обычного трехгранного ножа, измученным, больным, трясущимся от болей и нервного напряжения. Даже залепить вытекший глаз было нечем, глазница зияла воронкой, грозя заражением или иными неприятностями. Гун был на пределе.
Гул голосов и звук моторов настиг его у расщелины. Выбора не было, и он, с трудом протиснувшись в эту окаменевшую щель, спустился в пещеру – точнее, просто упал на ее сырой каменный пол. Подняться туда, наверх он уже не смог бы.
Преследователи – или просто розыскной отряд – прогремели ребристыми шинами, подошвами над головой, что-то крича, переругиваясь возбужденными голосами. И пропали. Наверное, проскочили мимо. Гун с облегчением выдохнул. Ему была дарована очередная отсрочка.
Остаток дня и всю ночь он провел в пещере, перебравшись поближе к выходу из нее. Но он не спал. Его не переставая трясло в ознобе. Ему нужны были лекарства и покой. Покой был, но это был относительный покой. Лекарств же не было никаких, а от регенератора в таких делах толку мало. Но Гун не отчаивался.
Сержант Тукин давным-давно понял, что надеяться можно лишь на себя самого. Поэтому он и возился с Ральфом, словно зеленопузый курсант-салага. Ральф постепенно привыкал к дохлой пантере и не шарахался от нее, как вначале. Надежды, правда, было мало. Но Тукин не хотел упускать и самой малейшей возможности подзаработать.
И потому, когда на следующий день объявили общую тревогу и всех погнали на поиски неизвестных, Тукин не доверился узкоглазому Киму, прихватил пса с собой. Ведь должно же было и ему когда-то повезти!
Правда, и на этот раз не обошлось без мелких неприятностей. Один из новичков, залезая в машину, сорвался и каблуком левого сапога засветил сержанту под правый глаз, другой ногой салага попал прямо в живот своему доблестному командиру. Тукин скрючился. Но тут же залепил новичку такую затрещину, что настроение его надолго повысилось. Да и провинившийся стал смотреть на него несколько уважительнее.
Весь этот суматошный день Ральф только понапрасну путался под ногами у сержанта и прочих ребят из отряда. Но вел он себя спокойно, не скулил, не ныл, не дергался, как ошпаренный, на поводке. Только раз, когда они проезжали вдоль той самой тропы, где днем устроили настоящее побоище эти прохиндеи из местных банд, Ральф вдруг снова прижался к ногам сержанта и с тоскою заглянул в его светлые глаза. Тукин погладил пса. Но взял на заметку и этот случай.
Палатки они разбили ниже. Ночь была неспокойной. И попробуй засни, когда в окрестностях, среди этих диких лесов и гор, бродят какие-то жуткие твари, которых и усмотреть-то невозможно. Заснешь, а они тебя и прихватят! Или ножом в спичу! А может, еще как. К утру все были разморенные, понурые. Да никому толком и не хотелось связываться с незнакомцами – а ну их, пусть себе бродят!
Сержант засветло объяснил каждому что к чему, дал свой участок местности. Их дело – хоть какие следы найти. А прошаривать леса цепями пригонят какое-нибудь другое подразделение, покрупнее да немногочисленнее. Ну а не найдут, так на нет и спроса нет! Только сержанту Тукину очень хотелось найти.
Часа четыре он безрезультатно лазил по склонам, заглядывал под вывороченные корни деревьев, не забывая перекликаться по-условленному с ближайшими своими подчиненными и временами докладывать обстановку в центр по рации. От пса пользы не было. Но Тукин был упрям.
К исходу пятого часа он обратил внимание на то, что Ральф начал вести себя странно. Стоило его повести вперед, по направлению к высоченной сосне, как он упирался всеми четырьмя лапами, поскуливал, норовил вырваться. От радостного предчувствия сержанта прошибло потом.
– Ну чего ты, сучонок хренов, – прошептал он совсем тихо Ральфу, – учуял, что ли? Ну?! Ну, давай, веди!
Пес никуда сержанта вести не собирался. И тогда Тукин поступил наоборот, он ослабил поводок, чтобы проверить себя. Ральф рванул назад. Но Тукин, не пустил его туда. Тогда Ральф потянул влево, потом вправо – он готов был бежать на все три стороны, но только не к сосне.
– Молодец, Ральфушка, – приласкал его Тукин.
И поволок пса за собой. Чем сильней упирался тот, тем больше был доволен сержант, тем уверенней себя чувствовал. Он снял с предохранителя автомат, висящий на правом плече. Положил палец на спусковой крючок. Было страшновато идти одному. Но Тукин не хотел дожидаться своих ребяток, не хотел он и делиться по праву принадлежащим ему и только ему солидным кушем. Он уже чувствовал, как карманы оттягивают тугие пачки купюр, как жжет сердце через нагрудный кармашек кредитная карточка.
Рассмотрев вход в пещеру, Тукин понял – этот тип должен быть там. Он выпустил из руки поводок, чтобы не тянуть за собой упирающегося пса, лишнюю тяжесть и помеху. Ральф, словно за ним гналась стая гепардов, помчался в сторону палаток.
Усмиряя нервную дрожь, сержант Тукин достал фонарь, еще плотнее прижал к телу автомат и шагнул в пещеру.
Он сделал всего три или четыре шага, прежде чем яркий сноп света армейского фонаря вырвал из тьмы странную фигуру. Какой-то непомерно большой человек в сером изодранном балахоне сидел, привалясь спиной к земляному своду. Сидел прямо на растрескавшейся сырой глине. Голова его в непонятном и нелепом головном уборе была свешена на грудь, и потому лица Тукин не видел. Но он понял, что никакой это не человек! И даже не человекообразная обезьяна или еще какая тварь, о которых постоянно травят байки по телеку и в газетах. Больше всего поразили сержанта руки или лапы, он не знал как назвать. Они лежали на коленях и производили жуткое впечатление – Тукин даже не смог сосчитать, сколько на каждой пальцев, сколько черных поблескивающих отточенных когтей. Такими же страшными были и нижние конечности.
Тукин невольно отшатнулся, попятился к выходу. Но все же он нашел в себе силы, остановился. Он заметил, что существо сильно дрожало. И понял – с этой тварью что-то неладное, она или больна, или сильно ранена. Никакого оружия рядом с сидящим не было. И Тукин решился. Не спуская ствола автомата с груди существа, он как-то неуверенно крикнул:
– Эй ты, а ну встать! Давай, давай…
То, что показалось Тукину головным убором, вовсе не было им. Сержант это сразу понял, когда существо медленно подняло голову. Ничего более страшного и уродливого Тукин не видал на свете. Его даже передернуло. Он чуть было не нажал на спуск от неожиданности. Усеянное мелкими и крупными пластинами лицо существа постоянно меняло выражения, но при этом все равно казалось неестественной маской, жуткой и чудовищной.
На любое движение сержант без промедления ответил бы выстрелом. Но существо не двигалось. Оно лишь смотрело на Тукина одним-единственным глазом. И был этот большой круглый глаз напоен такими переполнявшими его болью, страданием, безнадежностью, что Тукин чуть не выронил автомат. Нет, он не мог стрелять в эту тварь. Да не то что стрелять! Он не мог себя заставить отвернуться, выйти, крикнуть своим…
Эта тварь, это обессиленное существо вызывало в сержанте страх и отвращение. Он готов был ненавидеть уродливого пришлеца. Но не мог… Он не мог даже пойти и выдать эту страдающую, умирающую тварь. Все мысли о причитающемся ему куше растворились, развеялись в туманно-розовой дымке. А наяву оставались лишь сконцентрированные в одной маленькой точке боль, страдание, безнадежность. Тукину стало не по себе.
Он видел, как существо, собрав, наверное, остатки сил, воли, медленно приподнялось, опираясь спиной и руками о своды. Но не шевелился. Теперь он знал, что оно не сделает ему ничего плохого.
Но он знал и другое – то, что и он не сделает ничего плохого этой жуткой, но беспомощной твари с одним-единственным уцелевшим глазом и подгибающимися ногами.
Сержант вышел из пещеры и, не оглядываясь, побрел прочь. Он не понимал – с какой это стати, почему он должен жалеть пришлеца. Но это было не столь важно. Он будет молчать, он обойдется без всех этих хреновых наград и поощрительных! Нужны они ему больно!
У кустов стоял Ким и широко улыбался. Одна рука у Кима была за спиной.
– Никого нет, начальник? – вежливо спросил он. Тукин просипел недовольно:
– Опять?! Все вы тут охренели, разболтались, вот что я скажу! Ты мне ответь, рядовой Ким, почему у тебя такой козырек неуставной, где кепарь шил?!
Ким заулыбался шире прежнего. Но не ответил. Какой-то он был сегодня странный. И Тукину это не понравилось.
– Чего молчишь?
Козырек кепаря затрясся. Но Ким уже не улыбался. Глаза его были расширены и совсем не походили на обычные щелки.
– Так, значит, никого?
– Ты что это… – начал было Тукин.
Но Ким его перебил:
– Сам говоришь – никого. Значит, никого и не было.
Ким вытащил из-за спины какую-то круглую штуковину, похожую на большой апельсин, прошептал тихо еще раз: «Ни-ко-го!» – и протянул штуковину сержанту.
Но когда тот сделал ответный жест, вытянув вперед раскрытую ладонь, из штуковины вырвался совсем небольшой пучок света. И сержант Тукин повалился лицом вперед на землю.
– Ни-ко-го-о, – пропел Ким бесстрастно, потом оглянулся и поднял рацию сержанта.
Штуковину он сунул в карман, отчего тот страшно оттопырился, Но это не смутило Кима.
Центр отозвался сразу:
– Седьмой? Что там у вас?
Ким широко улыбнулся, прежде чем ответил. Его лицо было сегодня не таким уж и желтым. Да и сам он не был похож на обычного угодливого и простодушного парня.
– Капитан, докладывает рядовой Ким. У нас потери! Да! Эта тварь прикончила сержанта! Мы так все любили его, так уважали! Что? Что?! Она уходит, но мы держим след! Мы ей зададим жару! Что?! Есть, капитан, принимаю команду на себя.
Ким выключил рацию. Постоял над телом сержанта. Потом пнул его беззлобно ногой и пошел к пещере, возле входа в которую росла высокая и красивая сосна.
Когда планетянин вышел, Гун понял – он спасен. Он умел чувствовать, он понимал, он проникал в души и видел в них. Ему было совсем плохо. Но он знал: приступ пройдет и все наладится. Главное, чтобы его не тревожили, дали бы отлежаться. Развеются страхи и тревоги, кончатся преследования – не век же ему в бегах пребывать! И все наладится, все пойдет своим чередом. Он приспособится к этой новой жизни, он станет частью этой планеты.
Пошатываясь и оседая на слабеющих ногах, Гун подошел к высокому гладкому дереву. Прислонился к нему, обдирая мягкие чешуйки коры. Он не чувствовал опасности. Чутье никогда не подводило его.
Но тот, кто окликнул его сзади, не был живым существом. И Гун от неожиданности вздрогнул. Повернулся не сразу.
Узкоглазый говорил, не разжимая губ. Все было и так понятно. Гун прикрыл глаза и потянулся за ножом. Он уже сжал рукоять, когда рука внезапно онемела, повисла плетью. Трехгранное лезвие вонзилось в землю у ноги.
– Не надо. Это лишнее, – проговорил узкоглазый. – Ты не сердись на меня, Проклятый, и вообще не сердись, ведь на моем месте мог быть и другой, верно?
Гун молчал.
– Система не рассчитывала на Чудо. Ты меня понимаешь? Чуда не должно было быть, это ошибка. Извини!
Узкоглазый вытащил из кармана аннигилятор, кивнул на прощание собеседнику и как-то жалко улыбнулся.
Но Гуну Хенг-Ороту Две тысячи семьсот тринадцатому по рождению и четырнадцатому из осужденных к смерти, Великолепному и Навеки-Проклятому, уже не нужны были ни улыбки, ни извинения, его могучее и страдающее тело, вместе со всеми мыслями, чувствами и самой Душой, исчезло в пламени аннигилятора, обратилось в мельчайшую невидимую пыльцу, которой было суждено вечно пребывать в этом мире, до его гибели.
Фантом
Вся эта история – плод больного воображения.
Произошло это несколько лет назад, почти в самом начале тех преобразовательных процессов, которые получили звучное название «перестройка». Произошло не где-нибудь в Гонолулу или на Гебридах, не в системе пресловутой Проксимы Центавра и тем более не на одной из планет загадочного Сириуса, а у нас, в Москве, жарким летом, а может быть, и летом дождливым, холодным. Сейчас трудно припомнить в точности те события, трудно перебрать их в уме, не то что осмыслить. Но это было.
В середине рабочего дня в кабинет начальника одного из важнейших отделов мало кому известного, но довольно-таки серьезного научно-исследовательского института ворвался шустрый и хамоватый порученец Сашка и с порога объявил:
– Все!
– Что – все? – поинтересовался начальник отдела – пятидесятилетний здоровяк, которого звали Антон Варфоломеевич Баулин.
– Уходят! – просипел Сашка, падая на стул.
– Кто?
– Да при чем тут кто?! Кого! Иван Иваныча уходят!
Баулин сгреб широченной ладонью лицо, оставив снаружи лишь один темный настороженный глаз. Долго сопел, пыхтел, затем запустил руки в черные с проседью густые волосы и принялся отчаянно скрести пальцами голову, будто у него неожиданно началась чесотка, и наконец с размаху стукнул кулаком по столу и отвернулся от порученца.
Тот не обиделся – дела были неважные, не до обид. Толкового разговора не получилось по той простой причине, что Сашка и не знал ничего толком.
После обеда Антона Варфоломеевича сморил сон. Как человек грузного телосложения да вдобавок ко всему гурман-любитель, он не отказывал себе в часике-другом… Но в этот раз выспаться Антону Варфоломеевичу не пришлось.
Голос секретарши прозвучал будто из-за стены – приглушенно, надтреснуто:
– Антон Варфоломеевич, уважаемый, вас в министерство вызывают!
Баулину почудилась в голосе этом зловещесть и недоброжелательность. И вообще, голос показался совершенно незнакомым, нереальным. Он даже передернулся, по лбу покатились градины пота.
– Срочно! – прогремело из-за стены. – Вы что это рассиживаете?! Вас срочно требуют!
Антон Варфоломеевич подскочил, почти бегом ринулся к двери. Та долго не поддавалась, он даже свернул ручку на сторону, злясь и матерясь про себя. За спиной, откуда-то из угла кабинета, послышался сдавленный ехидный смешок. Но Баулин не рискнул обернуться. Он рванул сильнее.
Коридор был непривычно пустынен – ни курильщиков, ни вечно сплетничающих сотрудниц, ни деловито снующих клерков. Это настораживало.
Начальство Антон Варфоломеевич уважал. А потому на высоком уровне не дерзал показываться без помощника или хотя бы находчивого порученца Сашки, наглеца и ловкача. Но сейчас, как назло, весь отдел будто вымер – опустевшие комнаты встречали начальника гробовым молчанием.
Надо было что-то делать, но что именно, Баулин не знал. Смятение охватило его, парализовало мозг. В руках появилась вдруг непонятная, пугающая дрожь.
– Гражданин Баулин! Срочно!! Министерство!!! – раскатами грома неслось по коридору. Голос был уже грубым, мужским, с хрипотцой и надрывом.
Почему гражданин, невольно подумалось Антону Варфоломеевичу, зачем же так?! По спине пробежал холодок. По размышлять долго не приходилось – начальство не любило опозданий.
И Баулин торопливо, с несвойственной ему поспешностью засеменил вниз по лестнице.
Машины у подъезда почему-то не оказалось. Растерянный, ничего, не понимающий Антон Варфоломеевич втиснулся в безразмерный, до отказа набитый людьми троллейбус. Его толкали локтями, плечами, сумками, дважды обругали за неповоротливость. Какая-то девица с отсутствующим взглядом жевала прямо над его плечом огромное мороженое – белые молочные капли падали на костюм. Девица облизывалась, поправляла ежесекундно очки на носу, доев, скомкала липкую бумагу, сунула ее в свой пакет, но тот оказался дырявым, и рука вместе с комком очутилась в кармане у Баулина. Девица фыркнула брезгливо, вытащила руку, смерила Антона Варфоломеевича презрительным взглядом и отвернулась. Комок, сырой и липкий, остался в кармане. Вынуть его Баулин на людях постеснялся. Но это происшествие немного отвлекло его.
До министерства было восемь остановок, и чем меньше их оставалось, тем сильнее сжимался железный обруч на сердце и нестерпимее ломило в затылке. Наконец, наступая кому-то на ноги, раскачиваясь из стороны в сторону всем своим грузным телом, Баулин пробился к выходу. Дверь открылась, и он оказался перед столь знакомым внушительным зданием из стекла и металла. У парадного крыльца не стояло ни одного автомобиля, не было видно и вечно ожидающих тут кого-то посетителей. Не чувствуя под собою ног, Антон Варфоломеевич сделал первый шаг…
Вахтер долго рассматривал пропуск, вертел его и так и этак, даже зачем-то поднес к носу и старательно обнюхал, затем он подозрительным взглядом уставился на Антона Варфоломеевича, сличая его лик с фотографией на пропуске. При этом на лице вахтера явилось недоверие, брезгливость. Баулин почувствовал, что, если это продлится еще хотя бы с минуту, последние силы покинут его и он рухнет на виду у всех в обморок. Впрочем, на виду ему бы это сделать и не удалось вестибюль министерства, обычно заполненный оживленным людом, на сей раз был пуст.
Наконец пытка закончилась, и вахтер, будто делая над собой невероятное усилие, насупив брови и поджав губы, процедил:
– Проходите, гражданин!
Пропуска он не вернул. Но Антон Варфоломеевич и не заметил этого. Все смешалось в его голове. Не помня себя, он добрался до лифта, машинально нажал нужную кнопку. Сбоку из стены, а точнее динамика, встроенного в нее, металлически проскрипело:
– Петр Петрович уже давно ожидает вас!
И вновь за спиной послышался ехидный приглушенный смешок. Антон Варфоломеевич с недоумением оглядел свои пустые руки папку со всеми выжимками, отчетами, справками он по спешности оставил у себя в кабинете. Но пути назад уже не было.
Лифт остановился, выплюнув Баулина на шестнадцатом этаже. Двери за спиной с лязгом сомкнулись.
Антон Варфоломеевич робко заглянул в приемную, заранее раздвигая свои полные губы в приветливой, подобострастной улыбке. Однако секретарша Валечка даже не взглянула на посетителя и сделала вид, что не расслышала его приветствия.
Антон Варфоломеевич, ничуть не смутившись, принялся рассыпаться в любезностях. Потом намекнул на срочный вызов. И, минуты через четыре, уже впрямую, сетуя мысленно на несообразительность Валечки, попросил доложить начальнику о его приходе. Ответом было ледяное, презрительное молчание.
Баулину ничего не оставалось, как скромно пристроиться в креслице для посетителей и терпеливо ждать, пока о нем вспомнят. Сиделось как-то неудобно, нехорошо. Предчувствия переполняли его, ожидание томило и пугало неопределенностью, безвыходностью.
Через полчаса у него затекли ноги и спина. Через полтора болело все тело – казалось, что оно не свое, холеное и тренированное, а какое-то чужое, взятое напрокат у немощного старца или у забулдыги-алкаша. Кровь отлила от головы, лицо покрылось бледностью, а кончики пальцев и вовсе посинели.
Когда за окном совсем стемнело, секретарша оторвала свое припухшее личико от бумаг и зло уставилась на посетителя. Губки у нее кривились и подергивались, глаза превратились в щелки. Голос Валечкин обрушился на Антона Варфоломеевича будто молот:
– Ну что же вы сидите?!
Баулин вцепился в подлокотники.
– Сидят тут всякие, а Петр Петрович ждать обязан?!
Баулин приподнялся на дрожащих ногах.
– Ни стыда, ни совести у людей! Совсем обнаглели! – обиженно пробурчала Валечка.
Антон Варфоломеевич сделал шаг к двери, осторожненько приоткрыл ее.
В спину ему секретарша прошипела уже с нераскрываемой ненавистью:
– Хоть бы почистился! Что за народ, как в кабак прут! Ну ничего, ничего…
Петр Петрович сидел в глубине огромного кабинета за необъятным резным столом. Он что-то листал, делая пометки на полях, потом комкал просмотренные листы и бросал их в плетеную корзину для бумаг. На Баулина он не смотрел.
Тот деликатно кашлянул, закивал головой.
– Чего тебе? – не поднимая глаз, спросил Петр Петрович.
Баулин смутился на секунду, но тут же вновь нагнал улыбку на лицо.
– Вызывали-с, – неожиданно для себя с излишней услужливостью пролепетал он.
– Ну-ну, – после молчания произнес Петр Петрович, – докладывайте!
Баулин разинул рот от неожиданности. В дверь просунулась головка секретарши. Раздался язвительный голосок:
– Всю приемную затоптал, столько грязи развел. Нету на них управы!
Петр Петрович поморщился, махнул рукою. Дверь захлопнулась.
– Ну, давай, показывай, что там у тебя в кармане.
Антон Варфоломеевич совершенно растерялся. То, что с ним происходило, не вписывалось ни в какие рамки и было чем-то настолько непонятным, что он начинал окончательно терять самообладание.
– Я решительно возражаю, Петр Петрович, да как вы… сказал он невнятно, слабым голоском.
– Давай вынимай! – Петр Петрович вытянул руку ладонью вверх.
Баулин машинально пошарил в кармане костюма, наткнулся на липкий, сыроватый комок, вытащил его нерешительно.
– Давай, давай, – еще требовательнее провозгласил хозяин кабинета. – Теперь поздно, ничего не скроешь!
Он вырвал из руки Баулина скомканную бумажку, развернул ее и стал утюжить, разглаживая ладонью по столу. От этой утюжки на бледно-желтом листе стали вдруг проступать зеленоватые крупные буквы. Баулин вытянул шею и сумел разобрать начальные слова: «Довожу до вашего сведения, что…»
Петр Петрович, совсем согнувшись над столом, заклекотал вдруг каким-то птичьим клекотом, переходящим в мелкий, рассыпчатый смех.
– Доводишь, значит? Ясненько. Не думал на тебя, Варфоломеич, не думал. Вот ты как, значит? Ну-ка выйди, мне кой о чем помозговать надо.
Неизвестно откуда появившаяся секретарша властно, за руку выволокла Баулина из кабинета, толкнула в сторону креслица и уставилась на него сверху вниз, торжествующе.
Баулин сидел и думал, когда же это он успел сойти с ума: у себя в кабинете, днем, или в троллейбусе, или уже здесь в приемной? На этот раз его не стали долго мурыжить, через час Валечка подпихнула его в сторону кабинета, не церемонясь, острым кулачком в спину – не чувствительно, но как-то малоделикатно.
На ходу Антон Варфоломеевич успел подумать, что близорукая девица была наверняка подослана недоброжелателями, что все из-за нее. Ну да ничего, ничего – все поправится, что ж он, мальчишка? – ведь сколько лет уже по приемным и кабинетам, нет, все будет нормальненько.
Петр Петрович по-прежнему рвал и комкал бумаги, предварительно испещряя их пометками. И опять не поднимал головы. Антону Варфоломеевичу было как-то неловко начать первому, и он выждал. Наконец дождался.
– Чего тебе?
Голова у Баулина закружилась, все поплыло.
– Да как же-с, ведь вызывали-с, ведь мы же говорили с вами уже, – лакейски зачастил он, совсем теряя себя.
– Ну-ну, – пробурчал Петр Петрович, – садись.
Но только лишь Антон Варфоломеевич нерешительно присел на краешек стула, как хозяин кабинета оторвал глаза от бумаг. На лице его выразилась целая гамма чувств. Петр Петрович привстал над огромным столом, руки его растопырились и уперлись в каком-то хищном извороте в резную по краям столешницу, лицо сначала побагровело, а затем стало совершенно белым, до синевы снега, зрачки расширились, рот широко раскрылся, обнажая большие желтые, прокуренные зубы.
– Вон! Вон отсюда немедленно!!
Баулин опрометью бросился к выходу. В спину ему неслось:
– Во-о-он!!!
Проснулся Антон Варфоломеевич совершенно обессиленным. Долго блуждал потухшим взором по потолку, будто отыскивая на нем разгадку кошмарному сну. Но, разумеется, ничего он так не нашел. Встал. Погляделся в зеркало – лицо было помятое, но не более, чем всегда по утрам.
Жена хлопотала на кухне. За окном насвистывали птички, ласкалось первыми лучиками ясное солнышко. Постепенно самообладание вернулось к Антону Варфоломеевичу, и он неспешно принялся за свой обычный утренний туалет. Затем с удовольствием откушал приготовленное женой. Еще раз посмотрел на себя – нет, все было в полном ажуре, из зеркала на него смотрело румяное, уверенное лицо.
На работу он все же опоздал на несколько минут, точнее, задержался, как обычно говорят про начальство, что людям такого масштаба в вину никогда не ставится. Да и, собственно, упрекнуть его никто не мог – заместитель директора был приятель, в одной цепочке они, как альпинисты в связке, шли к вершинам науки. А директора недавно проводили с почетом на пенсию, и место его пока что пустовало, искали подходящую кандидатуру.
Порученец уже сидел в кресле в кабинете. При виде начальника он тут же вскочил, расплылся в улыбке.
– Доброе… – начал было он, но Баулин прервал привычное приветствие.
– Доброе-то оно доброе, говори, не тяни резину, что там?
– Две новости, Антон Варфоломеевич, одна хорошая, другая…
– Не, давай с хорошей сначала. – Баулин привычно расположился за своим столом, откинулся на спинку кресла и вытащил из портфеля положенное туда женой яблоко, надкусил, шумно задвигал челюстями.
– А вот слушайте, Иван Иваныч наш, похоже, не сдает позиций, там, – доверенное лицо задрало руку вверх, – его, кажется, поддерживают.
– Похоже, кажется… – снова оборвал подчиненного Антон Варфоломеевич. – Ты толком можешь обстановку доложить?
Порученец развел руками.
– Толком только Господь Бог знает, но есть данные, что Иван Иваныч поста не оставит. Теперь второе…
– Погоди, погоди. – Баулин смаковал услышанное, это меняло все в корне, ведь пока Иван Иваныч был там, на своем месте, ничто на этом суетливом и неверном белом свете не могло поколебать положения самого Антона Варфоломеевича. И он чувствовал, как начинала играть в жилах еще совсем не старческая, горячая кровь, как проясняется голова и свободно, легко, весело бьется сердце в груди.
Но порученец прямо-таки изъерзался от нетерпения, и потому минута блаженства длилась, как ей и положено, минуту.
– Давай свое плохое известие, – махнул рукой Баулин, заранее отметая все эти мелкие передряги.
Доверенное лицо село поближе, склонилось над столом и прошептало, прикрывая рот ладошкой:
– С завтрашнего дня у нас новый директор, сведения абсолютно точные, проверенные.
Антон Варфоломеевич внутренне сжался, но виду не показал.
– Первый, что ли? – сказал он, улыбка тронула уголки губ. – Что мы, директоров не видали? На веку-то на своем? А?
Порученец удрученно кивнул головой.
– Так-то оно так, да вот только слухи про него ходят, как бы это сказать, не совсем, извините, радостные.
– Болтают.
– Да вроде бы нет. Уж больно, говорят, требовательный.
– Так что ж? Хорошая черта, принципиальность, требовательность – сейчас это все на повестке дня остро, – продекламировал Антон Варфоломеевич, забывшись, – с дисциплиной у нас порядок, планы выполняем, сам знаешь, досрочно…
– Это да, – порученец погрустнел, – только вот он не по дисциплине мастак, да и не по планам. Он все больше науку копает.
– Ну, это ты заговорился, Сашенька, – временами Баулин обращался к помощнику подчеркнуто ласково, в тех случаях, когда тот, как казалось Баулину, начинал перегибать палку. Мы, чай, тоже не лыком шиты, да и в науке не на последних местах. Как твоя кандидатская, кстати?
– Вашими молитвами, – ответствовал Сашенька, но, видимо, сейчас ему на эту тему развозить беседу не хотелось. – Правильно вы все подмечаете, Антон Варфоломеич, одного только, извините, не учитываете.
– Ну так образумь, научи! – Баулин начинал сердиться.
– Не ценит, говорят, новый-то уважаемых людей. Странный у него подход, ему, мол, живой товар на стол подавай, а у нас…
– Ты говори, да не заговаривайся! У нас… Чем это мы хуже других?!
Порученец расхрабрился.
– А тем, что за последние четыре года результатов-то ноль!
– Так ищем, в науке всегда так, мне тебя, как студентишку, учить?
– Правда ваша, искать-то ищем, мы-то с вами понимаем, а поймет ли он? Что скажете, Антон Варфоломеич?
Баулин замялся, до него стала доходить вся серьезность положения. Но повода для паникерства он не видел.
– Слушай, – сказал он неожиданно, – а у тебя случайно седуксена нету? Говорят, на ночь хорошо. А то что-то сон неважнецкий стал, старею, наверное.
– Да нет, – сказал опешивший Сашенька, но тут же поправился, – достану, Антон Варфоломеич, к концу дня рабочего будет у вас на столе.
– Ну вот и лады. А конспектик небольшой по нашей тематике ты мне составь, пожалуйста, очень тебя прошу. Да и перечень возможных вопросов к нашему отделу, хорошо? Загрузи там кого надо, потолковее. Да побыстрее постарайся – сам знаешь, месяцочек новый будет в курс входить, а там и к себе может потребовать, надо быть готовым.
Доверенное лицо скорчило гримасу боли и страдания.
– Да если б так, я вас, Антон Варфоломеич, и беспокоить не стал бы. Месяцочек? А завтра или послезавтра не хотите у него на ковре быть, а?! Ведь отдел-то наш первый, с нас и начнет, вот в чем штука.
Баулин помрачнел.
– Нажми, Сашка, – твердо проговорил он, – все задействуй, чтоб коротко, ясно и чтоб за день готово было. Ты понял меня?
– Понял! Все сделаю и про седуксен не забуду!
Сашка вскочил со стула, потер ладони, в глазах его загорелся огонь.
«Этот будет землю рыть, сделает!» – с некоторым облегчением подумал Антон Варфоломеевич.
– Так я пошел? – спросил порученец.
– Погоди, ты закинь удочки нашим в конторе, понял? Они должны знать, с чем едят этого… как его фамилия-то?
– Нестеренко.
– Кто? – Антон Варфоломеевич привстал. – Тот самый, с производства? – так он называл крупнейший опытный центр в стране. – Что ж ты молчал, дружок?!
Сашка виновато ухмыльнулся.
– Сразу-то, как обухом, Антон Варфоломеич, разве можно?
– Иди! – сказал Баулин и погрузился в мрачные думы.
Потянулся нескончаемый, наполненный заботами рабочий день: нужно было сделать десятки, если не сотни, телефонных звонков, напоминая о себе уже хорошо знакомым людям, завязывая новые связи, – срочно нужно было что-то достать, кого-то куда-то устроить, кого-то от чего-то избавить, и так до бесконечности – хлопот хватало. А память у Антона Варфоломеевича была цепкая, необычная для его лет, книжек телефонных он почти не держал – все было в голове: номера, имена, кому что нужно…
В этой мелкой суете забывались большие заботы, тревоги, приходила уверенность в собственном всемогуществе, а стало быть, и незыблемости. Но приближался вечер. Обещанный Сашенькой седуксен уже лежал на столе, а Антон Варфоломеевич, не привыкший «ко всей этой химии», поглядывал на аккуратненькую беленькую коробочку с сомнением. Однако, собираясь домой, он все же сунул ее в боковой карман пиджака.
Валентина Сергеевна перемен в муже, вернувшемся, как и обычно, в половине седьмого, не нашла и заботливо порхала вокруг Баулина. Она по-своему любила его, а уж заботиться о мужнином семейном благополучии считала своим долгом. Несмотря на затянувшийся взрыв эмансипации и свою ученую степень кандидата искусствоведения, Валентина Сергеевна любила домашние хлопоты.
Отужинал Антон Варфоломеевич на этот раз с большим аппетитом, обласкав супругу теплым взглядом; уютно посидел у телевизора, с некоторой заминкой, тайком, проглотил маленькую таблеточку и заснул. Заснул, едва коснувшись головой подушки, как человек, даже и не имеющий понятия о бессоннице и считающий всех страдающих таковой просто-напросто чудаками. И тем не менее…
…очередь в приемной была человек на двадцать пять. Все сидели на своих стульчиках молчком. Дожидались.
Антон Варфоломеевич сидел прямо напротив двери с пугающей табличкой. В голове его никак не укладывалось, зачем он сюда попал, при каких обстоятельствах. Лишь повестка, подрагивающая в его руке, напоминала, что в очереди этой он не случайно.
Все сидели тихо, не поднимая голов. И все же боявшийся повернуться Антон Варфоломеевич краешком глаза успел отметить, что сидели все сплошь знакомые: рядом с ним сгорбился на стуле седовласый красавец профессор Тудомский, следом за ним – двое из ученого совета того же института, где работал и сам Баулин, за ними кое-кто из немаловажных административных работников, в свое время оказавших немалую помощь Антону Варфоломеевичу, и так далее. С другой стороны, отвернувшись от шефа, сидел Сашенька. И снова – все знакомые лица… Сашка, подлец, упорно не смотрел на Баулина, делая вид, будто не знаком с ним. Однако в очереди этой странной он выделялся. Выделялся тем, что между ног у него, под стулом, была зажата солидная крупноячеистая авоська, сплошь набитая бутылками коньяка «KB».
Тишина давила. А заговорить с кем-либо из сидящих Антон Варфоломеевич не смел, даже в глаза заглянуть не решался на этот раз каждый был сам по себе.
Наконец дверь медленно растворилась. И Антон Варфоломеевич увидел на пороге Иван Иваныча. Сердце в груди екнуло, провалилось вниз. Но не сам, изрядно позеленевший, сгорбленный, с руками, сложенными за спиной, Иван Иваныч поразил Баулина, нет. Почему-то больший страх на него навеяли две фигуры в ладно подогнанных костюмчиках, стоящие по бокам от Иван Иваныча. Впрочем, стояли они недолго.
«Увели! – мелькнуло в горячечном мозгу. – Самого Иван Иваныча! Что же?..» – Антон Варфоломеевич не успел додумать, как из-за двери раздался мягкий убаюкивающий тенорок:
– Следующий, проходите, пожалуйста.
Изменник Сашка сорвался с места и вместе со своей авоськой моментально исчез за дверью. Никто даже головы не повернул в его сторону, не проводил взглядом.
Но так же быстро, как вошел, Сашка и вышел обратно. Точнее вылетел, свалившись прямо под ноги Антону Варфоломеевичу. Вослед за ним вылетела авоська, на лету теряя свое содержимое.
Сашка вскочил на ноги, тут же упал вновь, но уже не на спину, а на колени, и принялся с невероятным проворством собирать раскатившиеся под стулья бутылки. Сидевшие брезгливо подбирали ноги, морщились. Но Сашка продолжал суетливо делать свое дело. Когда собрал бутылок пять-шесть, часть из которых уже была распихана по карманам, а другая бережно прижата к груди, Сашка опрометью бросился к двери в другом конце коридора. Через секунду послышались его торопливые удаляющиеся шажки по лестнице, а потом раздались дикий грохот и омерзительный дребезг бьющегося стекла.
Одну из бутылок Сашка все-таки не успел подобрать, и она теперь почивала под стулом у Антона Варфоломеевича. Стараясь делать это незаметно, Баулин пытался ногой откатить ее под стул соседа. Но посудина, видимо пользуясь неровностями пола, упорно возвращалась на свое место.
– Следующий! – вновь пропел упоительный голосок.
Антон Варфоломеевич затаился. Но как раз в это самое время почувствовал внушительный толчок в бок – Тудомский на него не глядел, но выразительно оттопыренный локоть говорил сам за себя.
Баулин привстал, пытаясь унять дрожь в коленях. Огляделся по сторонам, будто ища поддержки. Не нашел – все каменно смотрели в пол.
– Антон Варфоломеевич?! – сидящий обрадовался вошедшему Баулину, будто тот был его лучшим другом. – Проходите, проходите, пожалуйста!
Перед Антоном Варфоломеевичем стоял невысокий, румяный, ладно скроенный человек. Он раздвигал руки в стороны, будто приноравливаясь обнять посетителя, но с места не сходил.
– Не беспокойтесь, любезный Антон Варфоломеич, формальность, чистая формальность. Вы, наверное, притомились, дожидаючись там, в коридоре. Простите уж нас – служба такая.
Человек вздохнул сокрушенно, даже глаза в сторону отвел.
– Да вы присаживайтесь, что ж стоять-то?!
Он уселся сам и достал из стола папку. Углубился в ее содержимое.
Антон Варфоломеевич не знал – радоваться ли ему такому приему, сокрушаться ли – нет ли подвоха? Но он присел на краешек стула, выражая своим видом внимание и готовность отвечать на все вопросы. Отвечать искренне, как на духу.
По мере того как человек изучал документы, лицо его все больше и больше мрачнело. Минут через десять он из радушного хозяина превратился в угрюмо-усталого чиновника, обремененного однообразными и явно приевшимися ему делами.
– Да-а, – протянул он после затянувшегося молчания, – такие блестящие характеристики… и на тебе. Что-то у меня концы с концами не сходятся. – Он исподлобья взглянул на Антона Варфоломеевича и неожиданно резко выпалил: – Иван Иваныча Иванова знаете?
– Нет! – неожиданно для себя ответил Баулин и сжался в комок от накатившего волной страха, и тут же поправился: То есть, извините, пожалуйста, знаю, конечно, знаю, только я никогда с ним…
– Угу, – неопределенно промычал человек, – стало быть, знакомы. А вы знаете, что у упомянутого подследственного загородный домик на шестьсот тысяч потянул?
– Нет! – твердо отрезал Баулин. – Хотя я всегда подозревал, что этот человек, как бы вам сказать, не совсем чист…
– Не надо, – брезгливо сморщился хозяин кабинета, – не надо здесь о чистоте. Кстати, я слышал, у вас неплохая дача в Малаховке, цветочки выращиваете?
– Все на свои трудовые сбережения. – Антон Варфоломеевич побледнел, зашарил по карманам, но ничего там, естественно, не нашел. – Я вам сейчас мигом все документы представлю.
– Не утруждайте себя, любезный Антон Варфоломеич, мы располагаем всеми документами, – человек похлопал по папке, машина на жену, другая на сына, так?
Баулин торопливо затряс головой.
– Вы не волнуйтесь только – это так, формальности. – Человек снова заулыбался. – Это ж надо, а третья-то – на тещу! Сколько ей лет-то?
– Восемьдесят два.
– Да-а, все мы не молодеем, к сожалению. Так говорите, с Иван Иванычем не знакомы?
– Очень, очень дальнее знакомство, шапочное, можно сказать! – Антон Варфоломеевич начинал волноваться. – Я и раньше предполагал, что…
– Человек предполагает!.. Но это все к делу отношения не имеет. Я вот, знаете, антикой увлекаюсь, грешен – люблю! Ценю, как высшее выражение духа, полет его, так сказать. А кстати, – человек сделал паузу, пристально глядя прямо в глаза Баулину, – Антон Варфоломеич, не пригласите ли посмотреть собрание свое, как любителя, значит? Потолкуем, поспорим, знаете ли!
Что-то внутри у Баулина оборвалось, неожиданно для себя он прямо со стула упал на колени.
– Не губите! – Голос его опустился до сипа. – Не губите, ради всего… у меня внук, меня в коллективе ценят!
Человек встал, не обращая ни малейшего внимания на стенания посетителя, и отошел к окну.
Антон Варфоломеевич уткнулся в сиденье стула лицом и судорожно зарыдал. Если бы ему сейчас сказали – отдай все, все, что имеешь, до последней нитки, и можешь идти отсюда на все четыре стороны, он бы, ни минуты не колеблясь, – отдал. Но никто ему этого варианта не предлагал.
А человек, засунув руки в карманы брюк, стоял у распахнутого окна и что-то насвистывал. Антон Варфоломеевич мотива разобрать не смог, но зато разобрал другое – воспользовавшись тем, что человек стоит к нему спиною, он, заглянул в свое дело – на фоне напечатанного на машинке материала там стояла приписка от руки красными чернилами: «В особо крупных размерах». Это окончательно убило Антона Варфоломеевича, и он зарыдал пуще прежнего.
Но вместе с тем все его чувства обострились, он даже расслышал, как человек у окна не насвистывает, а еле слышно напевает:
Всюду деньги, деньги, деньги,
Всюду деньги, господа…
– Пощадите! – вновь взмолился Антон Варфоломеевич, подползая на коленях к стоящему. – Только вы, я знаю, только вы можете!
Человек неожиданно обернулся, в глазах его застыло удивление.
– Антон Варфоломеич, да что с вами, любезнейший?! Вам плохо?
Он бережно приподнял Баулина за плечи, поставил на ноги.
– Выпейте водички, – доброжелательным тоном, с состраданием проговорил он, но ни стакана, ни графина не предложил, даже не указал на них. – Ну будет, будет, с кем не бывает?
По спине Антона Варфоломеевича прокатилась волна дрожи.
– Пойдемте, я провожу вас, – человек вежливо повел Баулина к двери, – и не переживайте, я вас очень прошу.
Тот судорожно кивнул, с мольбою глядя на говорящего.
Хозяин кабинета, не переставая улыбаться и рассыпаясь в деликатностях, подвел Антона Варфоломеевича к двери, распахнул ее услужливо перед самым носом Баулина и неожиданно, сильным ударом колена под зад выставил его вон.
Валентина Сергеевна пробудилась от истошного и какого-то по-бабьи высокого крика и с перепугу закричала тоже. Но уже через секунду смолкла. Пожара вроде не было, да и воров тоже. Рядом лежал тяжело дышащий муж. Лицо у него было все в поту, губы дрожали.
Валентина Сергеевна тихонечко заплакала, размазывая слезы ладонью. Она не могла понять – спит муж или просто лежит с закрытыми глазами. А вдруг спит? Тогда будить не стоит, все пройдет само собой и кошмары эти внезапные кончатся, главное спокойствие.
Но Антон Варфоломеевич не спал.
– Надо прятать, – проговорил он вдруг отчетливо, не открывая глаз, – пока не поздно.
– Что? Что прятать? – удивилась Валентина Сергеевна.
– Все! И скорее! А то поздно будет!
Баулин перевернулся на бок, спустил ноги с кровати, принялся нащупывать шлепанцы.
– Немедленно прятать!
Валентина Сергеевна зарыдала пуще прежнего, вцепилась рукой в край мужниной пижамы.
– Ты куда? Ложись, все пройдет!
– Молчи, дура!
Антон Варфоломеевич поплелся на кухню, мало соображая, что именно и куда надо прятать. Там он из горлышка высосал целый чайник воды и от этого осоловел еще больше. Вернулся в спальню, рухнул на постель и тут же заснул.
Валентина Сергеевна до утра не спала. Приглядывалась к мужу. Но тот посапывал себе потихоньку, был розов и безмятежен. И она успокоилась совершенно.
А между тем безмятежность была мнимой.
Антон Варфоломеевич даже во сне думал о том, что «прятать все же надо» и что «будет поздно». Но просыпаться и вставать ему было лень.
Пробудил его неожиданно громкий звонок в дверь. Он встрепенулся, присел на постели, прислушиваясь. Звонок повторился, причем прозвучал он еще громче прежнего. Осторожно, чтобы не разбудить жену,
Антон Варфоломеевич слез с кровати и босиком, на цыпочках побежал в прихожую.
Звонок опять ударил по ушам. Но Баулин не спешил открывать. Он заглянул в глазок: на лестничной площадке было пусто. «Чертовщина! – мелькнуло в голове. – Или, может, разыгрывает кто?»
Звонок прогремел снова, в дверь забарабанили.
Антон Варфоломеевич оглянулся в надежде на то, что жена проснулась от шума и поможет разобраться что к чему. Но в квартире было тихо. Он снова заглянул в глазок – ни души! Поплелся в спальню. За спиной вновь забарабанили, даже послышались какие-то невнятные ругательства и крики.
Антон Варфоломеевич уже было обернулся к входной двери, но… остолбенел: то, что увидал, сразило его мгновенно, и пришлось закрыть глаза, потереть виски, ущипнуть себя за нос и даже потрясти головой с силой, как это проделывают стряхивающие с себя воду собаки. Но видение не исчезло! Дверь в спальню была опечатана огромной сургучной печатью, наложенной на полоски бумаги с чьими-то подписями. В довершение всего на двери висел огромный амбарный замок, а ниже – табличка с красными неровными буквами: «Не вскрывать!»
Антон Варфоломеевич протянул было руку. Но вновь во всю мощь зазвонил звонок, дверь загудела под ударами. Когда он подбежал к глазку и заглянул в него, вновь ничего и никого не обнаружив за дверью, из туалета послышались звуки спускаемой воды. Причем бурчание сливного бачка повторилось еще и еще раз – с какой-то нервной настойчивостью.
Обозленный всем происходящим, Антон Варфоломеевич направил свои стопы к туалету, смакуя предстоящую расправу с обнаглевшими гостями, проникшими в его квартиру. В силах своих он, будучи в наитяжелейшей весовой категории, ничуть не сомневался.
Но когда он резко толкнул туалетную дверь от себя и она раскрылась, Антон Варфоломеевич не увидал ни сливного бачка, ни унитаза, ни даже стен – перед ним была пугающая бездонная чернота.
Он невольно отшатнулся назад, уперся плечом в стену и снова ущипнул себя за нос.
В эту минуту из темноты выплыли две фигуры: одна в черном расхристанном бушлате, другая в какой-то длиннющей серо-зелено-желтой замызганной окопной шинели, какие Баулин видал лишь в фильмах.
– Гражданин Баулин – кто будет?! – спросил, глядя в пространство, матрос.
– Но позвольте!
– Не позволим! – Окопник пригрозил Баулину скрюченным грязным пальцем.
А матрос, сдвинув гигантскую кобуру назад, порылся в карманах и ткнул прямо в нос Антону Варфоломеевичу лист бумаги. На нем было криво выведено фиолетовыми чернилами: «Мандат».
– А ну, к стенке! Паразит!
Баулин не обиделся на «паразита». Но вот это безапелляционное – «к стенке» повергло его в ужас. Пижама на спине тут же намокла, в груди закололо.
– Ну зачем же так, сразу – к стенке, товарищи?! Заходите, пожалуйста, разберемся. Все мы люди свои, наши, все за одно дело…
– Петлюра тебе товарищ, – проворчал окопник и предложил матросу: – Связать бы паразита?
– Чести много, – отозвался тот, – я его и так шлепну, пусть шелохнется только. – И он выразительно хлопнул по деревянной кобуре ладонью-лопатой. – Иди в залу, а я тут погляжу.
– Но в чем все же дело? – вставил Баулин, начиная понимать, что с ним не шутки шутят.
– Экспроприация экспроприаторов! – сурово выдавил матрос и сдвинул потертую бескозырку на затылок.
Солдат закинул за спину винтовку со штыком, болтавшуюся у него до того на локте, подступил ближе:
– Говори, контра, где оружие и драгоценности прячешь?!
При слове «оружие» Антону Варфоломеевичу стало совсем худо.
– Ничего нет, – пролепетал он.
Окопник ткнул его кулаком в грудь, выматерился и пошел в гостиную, роняя с сапог ошметки чернозема, с вдавленными в них окурками, соломой, семечной шелухой. Матрос, молча и по-прежнему не глядя на хозяина квартиры, принялся сдирать обои – кусок за куском, принюхиваясь к обрывкам и простукивая стену. Вся прихожая и коридор от этого превратились сразу в подобие захламленного сарая.
Баулин сидел на корточках у стены, всхлипывал и подумывал о звонке в милицию. Но предприятие это было довольно-таки рискованным – а вдруг и вправду «шлепнет»?
Матрос явно устал от обдирочно-стучальных работ и ничего, разумеется, не нашел. Он в который уже раз разгладил светлые усы и вытер пот со лба. Потом неторопливо раскурил огромную самокрутку.
– Едрит твою в граммофон! Умеют прятать! – пожаловался он Антону Варфоломеевичу и присел рядом.
Из гостиной доносились стук, скрип, сопенье и мат-перемат. Баулин не хотел даже представлять, что там происходит.
За туалетной дверью вновь заурчало-забулькало, и в коридор ввалился еще один солдат – низенький и злой на вид.
– Здесь, что ли, раскулачивают-то?! – с ходу вопросил он.
– Проходи, браток! – проговорил матрос.
Пришедший сразу подступился к Баулину, не выясняя, виновен тот или нет. Чувствовалась в нем хватка.
– Куда зерно заховал, кулацкая морда?!
Антон Варфоломеевич отвернулся.
А матрос, посдиравший все, что можно содрать, и передохнувший малость, принялся за трубы в ванной – вначале он их хотел отодрать от стены, посбивал весь кафель. Не получилось. Разыскав ножовку, стал пилить, наполняя квартиру диким визгом и скрежетом. Заглянувшему маленькому солдату сказал:
– Золотишко-то у него здесь, нутром чую!
Тот волочил с кухни полиэтиленовый мешок с огурцами и авоську с картошкой.
– Во-о, скрыть хотел, гнида!
Баулин уже ни на что не реагировал. Лишь когда из гостиной стали доноситься совсем какие-то дикие звуки, он осторожненько подполз к дверям, просунул голову. Что там творилось! Окопник, скинувший длиннополую шинель, с каким-то неимоверным остервенением рубил топором паркет прямо посреди комнаты, при этом взухивал, прикрякивал и даже напевал что-то. Щепа летела во все стороны.
– Найдем, все найдем!
Антон Варфоломеевич, не удивляющийся уже ничему, почувствовал коленями сырость, да и ладони стали скользить, расползаться по мокрому паркету – видно, матрос доконал-таки трубы.
Впрочем, к этому моменту все три экспроприатора были в гостиной. И если один был занят важным делом – рубкой баулинского паркета, то двое других подсобляли ему советами и прибаутками. Низенький солдатик пытался даже подковыривать пол сбоку длинным штыком. Вода прибывала.
Наконец вложивший всю мощь тела в последний, решающий удар окопник пробил перекрытие насквозь… и ухнул вниз вместе со своим топором. Матрос почти на лету ухватил его за сапог и с натугой, при помощи низенького, вытащил из дыры.
– Подпол знатный, – пробурчал вытащенный глубокомысленно.
Вода лилась в дыру, увлекая туда же обрывки обоев и мелкую кухонную утварь.
Антон Варфоломеевич, как был на четвереньках, подполз к дыре, заглянул в нее. В полумраке подземелья – а вовсе не квартиры нижних жильцов, как думалось поначалу Баулину, засверкали бриллианты и изумруды, монеты царской чеканки с бородатым профилем, запереливались отблесками груды диковинных украшений, кое-где тусклыми воронеными стволами чуть посвечивали пулеметы «максимы», винтовки…
– Что и требовалось доказать, – прозвучало над ухом. – А ну, встать, контра!
– Отбегался, паразит, – добавил окопник, подбирая винтовку и наставляя ее на Баулина.
А низенький лишь сбросил в дыру авоську и пакет, как бы присовокупляя их содержимое к хранящимся там награбленным у трудового люда богатствам.
Антона Варфоломеевича поставили к стене, прямо под картиной голландских мастеров восемнадцатого века, на которую почему-то никто из экспроприаторов не обратил внимания. Матрос вытащил знакомый уже Баулину «мандат», перевернул его другой стороной и стал зачитывать текст. Стволы винтовок медленно поднимались, Антон Варфоломеевич думал со странной покорностью, что он помрет еще до того, как грянут выстрелы, а вода струилась, журчала, стекала в искромсанный широкий зев.
– …как врага и подлого наймита! Обжалованию не подлежит! – заключил матрос. И поднял вверх руку с маузером.
В эту минуту из коридора послышалось бурчание, и в комнату вошел человек в черной кожаной куртке и в пенсне. Он морщился и разводил руками, ступая осторожно, высоко поднимая ноги, хотя воды в комнате было разлито равномерно – по щиколотку.
– Отставить, – сказал он устало. – Ну нельзя же так, товарищи. Ведь суда еще не было. Вы же знаете, должен быть суд, а потом и к стенке уже, чтоб по правилам.
– А я б эту кулацкую рожу в нужнике утопил! – сказал низенький зло.
– Утопим, – согласился кожаный, – после суда, непременно утопим.
Антон Варфоломеевич стоял на коленях, молитвенно сложа руки на груди, и пожирал кожаного глазами, в которых были и восторг и благоговение. Это было его спасение!
– Запротоколируйте! – сказал человек в кожанке окопнику.
Тот достал из кармана огрызок карандаша, принялся мусолить его, приговаривая:
– А я б контру, паразита мировой буржуазии, своими руками придушил! Чего с имя рассусоливать?!
– Конечно, придушим, – согласился и с ним кожаный, – сразу после суда возьмем да и придушим. А теперь пора, товарищи!
Он решительным шагом подошел к краю дыры и без промедления сиганул в нее. Следом попрыгали и остальные. Окопник не утерпел и перед самым прыжком обернулся, погрозил Антону Варфоломеевичу пальцем.
– До свиданьица, гнида! – проговорил он и тут же исчез.
Дыра на глазах начала зарастать новеньким блестящим паркетом, пока не исчезла совсем. Баулин прошел в ванную – трубы были искорежены, как после землетрясения. Он сунул ради любопытства палец в отверстие одной из них – оттуда выпал самый настоящий желтенький луидор, следом посыпалась посверкивающая алмазно-прозрачная мелочь.
Нет, все-таки сон, решил про себя Баулин. Он был почти счастлив. Но в голове стучало с прежней назойливостью: надо прятать, срочно, пока не поздно!
В коридоре подсохло. Обрывки обоев сами собой приклеились на прежние места. Лишь мерцал холодным светом оброненный окопником в углу граненый штык да хрустели под ногами щепки.
Антон Варфоломеевич подошел к раскрытому на кухне окну и впервые в жизни, глядя куда-то вверх, в поднебесные темные выси, размашисто и истово перекрестился.
На следующий день Антон Варфоломеевич на службу не пошел. Едва поднявшись с постели в половине десятого, когда жена уже упорхнула на работу, он потянулся к телефону. Руки не слушались, трубка пыталась выскользнуть из ладони, номерной диск не поддавался, да и сам телефон все норовил сползти со столика. «У-у! Поганые эргономисты!» – выругался вслух Антон Варфоломеевич, имея в виду конструкторов аппарата, занимавшихся удобством его использования. И на самом деле – для того чтобы набрать номер, постоянно приходилось придерживать телефон другой рукой.
– Сашка? Ты?!
– Вас слушают, – ответствовал Сашка, явно не узнавая осипшего шефа.
– Оглох, что ли?! – Антон Варфоломеевич не на шутку разъярился. – Что с директором?
– Антон Варфоломеевич? – Сашенька залебезил. – А я вас и не признал, счастливым будете, с добрым утречком вас, – тараторил он, – как здоровьечко?
– Да ты умолкнешь?! Что там, спрашиваю, отвечай, преда… – сон еще крепко сидел в памяти Баулина, но все же он вовремя осекся.
– Все понял, – бодро ответил порученец, хотя ничего-то он ровным счетом не понимал, – новостей нету. Нестеренко этого тоже пока нет. Ждем к вечеру, может – завтра с утра. А отчетик наш готов почти, последние бабки подбиваем, в общем, слепили на славу.
– А ну его к черту! – В голове Баулина гудело. – Что еще?
– Все! – твердо заявило доверенное лицо.
– Тогда лады. Сегодня меня не ждите, буду дома работать. Вот теперь и у меня все.
Антон Варфоломеевич бросил трубку, отчего телефон наконец слетел с тумбочки, но, к счастью, застрял между нею и стенкой, обитой небесно-голубым шелком, и тут же отчаянно заверещал. У Баулина все внутри перевернулось, содрогнулось в приступе раздражительности. Он вновь схватил трубку, чертыхаясь и пытаясь вытащить непокорный аппарат из щели.
– Это прокуратура? – спросил металлический голос.
Ничего не ответив, Антон Варфоломеевич выдернул телефонную вилку из розетки и повалился на постель в полнейшем бессилии.
До трех часов дня Антон Варфоломеевич спал беспробудным сном, и ничего ему не снилось. Свинцовая мгла проглотила его и оставляла в своей власти в течение нескольких часов. Но все имеет свой конец. Разбудил его тот же телефон.
Спросонья Антон Варфоломеевич долго не мог понять, что творится и кто посмел прервать столь необходимый ему сейчас отдых, – голова была несвежая, и потому, не открывая глаз, он поначалу грешил на будильник. Шевельнуться было лень. Потом до него дошло – будильник трещал бы намного противнее и громче, а тут было мелодичное треньканье. «Что за чертовщина?» – подумал он, но потом сообразил – приезжала жена домой обедать, приезжала на их славненьком «Жигуленке», который Антон Варфоломеевич так и не научился водить. Она-то и подключила, верно, проклятый шнур.
Звонивший был настойчив. Таких Баулин поневоле уважал.
– Тоша? – спросила трубка неразборчиво.
– Антон Варфоломеевич, ваш покорный слуга, – недовольным голосом поправил звонившего Баулин.
– Не трепись! Слушай лучше. Ты чего не у себя?
Антон Варфоломеевич узнал привычный снисходительный басок Иван Иваныча, и тон его мгновенно переменился.
– Приболел малость, Иван Иваныч, – приторно прошелестел он, – как вы-то, как самочувствие?
Он припомнил ночной кошмар, и сиреневое лицо своего покровителя, и руки за спиной… «А вдруг правда? – подумалось ему. – Вдруг сон-то вещий?!» Верить в это не хотелось, но мурашки сами по себе побежали по телу.
– Какое, к черту, самочувствие? У тебя все спокойно?
– Да вроде бы… – начал Антон Варфоломеевич.
– Значит, так, не добрались еще! – Иван Иваныч волновался.
– Как это? – не понял Баулин.
– Узнаешь как, – голос опустился до шепота, – доброжелателей много, пишут, сам понимаешь, а там… – Иван Иваныч уважительно смолк на секунду, – верят всему, комиссии шлют. Меня замурыжили вконец, анонимщики чертовы!
– Клеветники, – поддержал его Антон Варфоломеевич.
– То-то и оно. Я думаю, тебе растолковывать не надо, а? Воду-то в ступе толочь? Сам дойдешь? Но гляди, чтоб с сей минуты и сам и вся твоя шатия-братия – гармоническими личностями! Понял?
– Слушаюсь! – ответил Антон Варфоломеевич, вставая с постели и вытягиваясь в струнку.
Звонок растревожил душу. Мрачные предчувствия овладели Антоном Варфоломеевичем. Надо было что-то делать, а что именно, он не знал. Суетиться было бесполезно. Да и вообще, были ли основания для беспокойства? Кто мог ответить на этот вопрос? Но состояние неопределенности, жуткого ожидания чего-то давило на него сильнее, чем реальная опасность.
Антон Варфоломеевич попробовал запустить удочку еще в одно местечко. Но, к сожалению, звонок заместителю не существующего пока директора, стародавнему приятелю Баулина, ничего не прояснил.
– А бог его знает, – сказал тот, – новая метла всегда по-новому метет. Но ты-то чего беспокоишься? Иль на мое место метишь?
Зам был всего-навсего кандидатом, а в институте было несколько докторов, и потому ему приходилось быть начеку, мнительнось становилась чертой его характера.
Но Антон Варфоломеевич на провокацию не поддался. Промолчал. И потому опять заговорил зам:
– Но ты завтра приходи, Антоныч, ладно?
– Куда я денусь, приду. Вот только долго ли нам ходить-то осталось?
Зам расхохотался.
– А ты и впрямь болен, Варфоломеич, пора тебя в отпуск.
На том разговор и закончился.
Чтобы развеяться, Антон Варфоломеевич присел к телевизору, щелкнул выключателем. Показывали хронику. Операторская группа, несмотря на рушащиеся здания и непрекращающуюся пальбу, творила чудеса. На экране шли бои, лилась кровь.
Как ни странно, чужие горести отвлекли Антона Варфоломеевича от собственных надуманных бед. Он расслабился, откинулся на спинку кресла и полуприкрыл глаза. Ему было искренне жаль истребляемых военной мясорубкой людей, но происходило это где-то далеко и потому казалось полуреальным, неживым, вроде тех вестернов и боевиков, что заполнили за последние годы кинотеатры. В боевиках события текли и развивались даже более естественно и жизненно, чем сейчас, на телеэкране, по крайней мере так чудилось Антону Варфоломеевичу.
Свое было важнее, значимее. Ведь до чего дошел! Ведь как изработался! Да, так и до психушки недолго! Баулин тихо и уныло тосковал. Конечно, жена была права – она весь вчерашний вечер просто-таки молила его подумать о своем здоровье, не выматываться так. У Антона Варфоломеевича до сих пор в ушах звенел ее высокий голосок со всхлипами и придыханиями:
«Ну кому нужны твои жертвы! Науке? Этим твоим коллегам-завистникам?! Ну кому, я тебя спрашиваю?! Угробишь себя ни за что, а они только рады будут! Так жертвовать своим здоровьем, самою жизнью. То-оша-а! Да плюнь, обойдется твоя наука, все они обойдутся, ну их!» Да, права Валюша, кому нужны эти глупые жертвы? Сами себя гробим, а во имя чего?
Мысли расползались. Голос телекомментатора убаюкивал своей монотонностью, и Антон Варфоломеевич постепенно, незаметно для себя сначала вздремнул, а потом и вовсе уснул – сказалась уже четвертая с сегодняшнего утра таблетка.
…визгливый скрип тормозов разбудил Антона Варфоломеевича. Не помня себя он бросился к окну, отдернул занавеску: у подъезда стоял шикарный черного цвета лимузин невероятных размеров и, что самое удивительное, иностранной марки. За темными стеклами лимузина невозможно было что-либо рассмотреть.
На сердце у Антона Варфоломеевича похолодело.
– Валюша! – отчаянно закричал он. – Валя, Валька-а-а!!!
Жена не отзывалась на его истеричный призыв. Антон Варфоломеевич впопыхах бросился по комнатам. Ветер, ледяной ветер, непривычный для июля, гулял по ним – все окна большой квартиры были распахнуты настежь. Супруги нигде не было.
Пытаясь совладать с собой, Антон Варфоломеевич принялся было за окна. Но закрыть их ему не удалось – ветер был ураганной силы, и справиться с ним мог разве только какой-нибудь цирковой атлет. Но что еще сильнее повергло Антона Варфоломеевича в изумление, граничащее с безумием, это то, что ни одно деревце во дворе не гнулось под порывами этого ветра, даже листики, слабые нежные листики – и те висели безвольно, будто находились они под стеклянным колпаком.
Отчаявшись в своей борьбе со стихией, Антон Варфоломеевич забился в угол прихожей и беззвучно затрясся в припадке нервного хохота. Остановиться он никак не мог – спазмы душили, перехватывали горло, в животе отдавало острой колющей болью. Время шло, а приступ не прекращался. Не прекращался до тех пор, пока Антон Варфоломеевич не услышал совершенно отчетливые, намеренно тяжелые шаги по лестнице.
– Ва-а-ля! – бессильно прошептал он, пытаясь встать, уперевшись обеими руками в дверной косяк.
В дверь тихо постучали.
«Почему стучат? – Антона Варфоломеевича объял ужас. Ведь звонок в полном порядке?!» Гуляющий по дому ветер хулиганил – Антон Варфоломеевич слышал, как падают на пол и бьются вдребезги бесценные вазоны и амфоры, как срываются со стен и с грохотом сползают вниз картины в массивных рамках… Но сейчас ему было не до этого.
Дверной стук усиливался.
«От судьбы не уйдешь!» Антон Варфоломеевич, собрав последние остатки мужества, защелкал замками и приготовился к самому худшему.
Замков было много, и справиться с ними оказалось не простой задачей, особенно если учесть, что руки у хозяина квартиры ходили ходуном. И вот дверь поддалась.
У порога стоял невзрачный, незапоминающийся тип в затемненных очках и черной велюровой шляпе. Шляпу он приподнял, поклонился, не опуская глаз.
– Я не ошибаюсь – Антон Варфоломеевич Баулин, доктор технических наук?
Названный в ответ смог только головой кивнуть.
– Прекрасно, – сказал незнакомец, – вы должны ехать со мной.
– Кому это я должен, с какой это стати? – попытался оказать сопротивление Баулин, но натолкнулся на стальную стену слепой уверенности.
– Должны! – твердо повторил незнакомец. – Другого выхода у вас нет.
Антон Варфоломеевич покорно склонил голову.
– Маленькая формальность, этикет, если позволите, – тип ловко нацепил Антону Варфоломеевичу на глаза черную тряпицу и добавил уже развязнее: – А ну-ка пошевеливайся, доктор!
Слово «доктор» он произнес с оттенком нескрываемого презрения. Больше они ни о чем не разговаривали.
В машине было душно, зато качки никакой пассажир не ощущал. Ему даже казалось, что он продолжает сидеть в своем мягком уютном кресле и что все происходящее лишь нелепый сон.
Но сон был слишком явственным. Наверное, никогда в жизни не приходило Антону Варфоломеевичу в голову столько мыслей, предположений и совсем наивных догадок, как за время этой непредвиденной поездки. А продолжалась она не более десяти минут – воистину все в этом мире было относительно и прежде всего – время.
Так же, не снимая повязки, Антона Варфоломеевича провели через какие-то ворота, потом подняли под локотки вверх по лестнице, вели длинным запутанным коридором, и наконец он очутился в большой зале. Там с него и сняли повязку.
От обилия света, изысканной, в восточном стиле роскоши и необычайно богато уставленного яствами стола у Антона Варфоломеевича зарябило в глазах. Кажется, никто ни бить, ни тем более убивать его не собирался. Одно это уже было хорошим предзнаменованием.
Человек с пышными усами и миндалевидными блестящими глазами шел из глубины залы прямо на Баулина. Еще издалека он начал что-то говорить. И тут Антон Варфоломеевич подсознательно почувствовал, что несмотря на то, что усатый говорит на каком-то тарабарском наречии, он прекрасно понимал каждое слово. И это почему-то не смущало Антона Варфоломеевича. Смущало другое – восторженное умиление на лице хозяина.
– Да-да, глубоко и многоуважаемый Антон Варфоломеевич, прямо-таки заливался шербетом масленоглазый, – ваша выдающаяся, не имеющая равных в нашем погрязшем в грехах подлунном мире, я бы сказал, ярчайшая из ярких и многомудрейшая из мудрейших личность заслуживает не просто самого трепетного почтения, но и преклонения подобно… подобно… – говорящий запнулся, но белозубая улыбка ни на секунду не покидала его лица. – Только вы, только вы – ученейший из ученых – можете спасти нас. Но, – усатый сделал еще одну паузу, зашевелил бровями, – все разговоры потом. А сейчас – прошу отведать наше скромное угощение, – он широким жестом указал на заставленный сказочными кушаньями стол.
От неожиданности у Антона Варфоломеевича пробудился бешеный аппетит.
За бескрайним столом они сидели вдвоем. Тост следовал за тостом. Изысканные, диковинные блюда, лучшие коньяки и вина мира, сладости, фрукты – все было в распоряжении Антона Варфоломеевича. После затянувшегося нервного ожидания Баулин ел за троих. Да что там! За взвод не на шутку проголодавшихся солдат. И аппетит не пропадал.
Краем глаза он видел, что по обеим сторонам от него стояли два темнокожих великана в чалмах и с изогнутыми мечами наголо. Но и это не отвлекало Антона Варфоломеевича от поглощения пищи. «Таков этикет!» – подумал он, энергично двигая челюстями.
Трапеза длилась часа три, до тех пор, пока стол окончательно не опустел. Но съедено было ровно столько, сколько и хотелось гостю. Откуда-то из-за стен слышалась тихая, завораживающая музыка, в воздухе стоял запах тонких благовоний. Антон Варфоломеевич блаженствовал.
– Ну, а теперь пора и к делу приступить, – облизнувшись и пошевелив бровями, пропел масленоглазый. – Вы готовы, Антон Варфоломеевич?
Антон Варфоломеевич благосклонно кивнул головой.
– Видите ли, – замялся хозяин дворца, – в наших краях есть такая группа людей, как бы это вам объяснить, с которой хочешь не хочешь, а приходится мириться. – Он опять вздохнул, приложил руки к сердцу, произнес с болью в голосе: – Вы единственный и незаменимый!
Антон Варфоломеевич величественным жестом прервал это велеречие:
– Говорите проще, э-э-э, не знаю, как вас назвать…
– А называйте запросто – ваше величество, – усатый скромно потупил очи.
Антон Варфоломеевич несколько сник, но виду не подал.
– Ваше величество, после такого приема я просто не в силах отказать ни в одной вашей, даже самой затруднительной для меня, просьбе.
– Вот и славненько, – облегченно выпалило величество, – я так и думал, что вы деликатнейший из всех живущих в этом мире, самый, самый…
Антон Варфоломеевич сделал лицо, выражавшее, что уж он-то хозяин своего слова.
– Так вот, не удивляйтесь, пожалуйста, вашей выдачи требует совсем маленькая, но такая, я вам скажу, капризная, будто дите… о чем это я? А, да – наша маленькая религиозная секта. Они наслышаны о вас, и, знаете, только самого хорошего, ваша всемирно известная ученость просто покорила их. Вы им нужны, это священный долг каждого просвещенного человека – оказывать помощь ближним своим. Знаете, старый обычай, обряд – вас должны принести в жертву, чтобы разум не покинул их маленького народца. Только вы, только вы, даже и не говорите, что незаменимых не бывает, – величество развело руками, – вы единственная наша надежда! Знаете ли, традиция. Традиции нарушать нельзя – история не простит нам этого. Но не волнуйтесь, – ослепительно белые зубы раздвинули усы, все произойдет очень быстро, вы даже ничего и не почувствуете.
Стул под Антоном Варфоломеевичем треснул, и он упал, ударившись коленями о край стола. Приподнявшись на четвереньках и совершенно не чувствуя боли, он выдавил из себя:
– Но почему? Почему именно я?
– На все воля аллаха! – продекламировало величество и воздело руки к уносящемуся далеко ввысь потолку.
Одновременно кривые хищные мечи прислужников сомкнулись над головой Баулина. Пути к отступлению не было.
– Через полчаса вас доставят в аэропорт. В чемодане! сказало усатое масленоглазое величество и отвернулось, давая понять, что аудиенция окончена.
Смертельный ужас сковал все члены Антона Варфоломеевича, глаза остекленели, нижняя губа безвольно отвисла, и с нее потекли слюни. Ему вдруг стало все настолько безразлично, что он навзничь повалился на ковер, в падении извергая из растревоженного желудка на ворсистую узорчатую поверхность бесценного ковра то, что еще недавно было сказочным, царским угощением.
Всю ночь Антон Варфоломеевич не спал, доведя этим свою ненаглядную Валентину Сергеевну чуть ли не до обморока. Она никак не могла понять, что творится с мужем, и надоедала своими чересчур заботливыми расспросами. Разузнать ей так ничего и не удалось – муж был в столь подавленном состоянии, что не замечал ее назойливости.
До самого утра Антона Варфоломеевича знобило, мутило, выворачивало наизнанку. Сидя на кухне, он пытался осмыслить, найти хотя бы малейшую логику в том, что с ним происходило. Но ничего путного в голову не шло, и он начинал все сначала, запутываясь все больше и больше.
А утром, разбитый и усталый, он отправился на службу.
У парадного крыльца Антон Варфоломеевич нос к носу столкнулся с замом. Лицо у того перекосилось.
– Что с тобой, Антоныч? – спросил он вместо обычного приветствия.
Баулин попытался приободриться, но это ему не удалось. И он промямлил:
– Пошаливает здоровьечко что-то.
Зам сочувственно пошевелил ресницами, похлопал Антона Варфоломеевича по спине.
– Эх, послал бы я тебя своей властью домой, отсыпаться, да никак нельзя. – Заму казалось, что его приятель недомогает не по причине ослабевшего вдруг здоровья, а просто с перепоя, хотя и не замечал за Баулиным особенного пристрастия к зеленому змию, – но с кем не бывает. – Нет, никак нельзя. Вчера под вечер прикатил-таки новый. Не поверишь, Антоныч, но мы с ним до двенадцати ночи торчали в кабинете – любознательный, я тебе скажу, во всем-то он хочет разобраться прямо с ходу. Но вообще-то мужик основательный, знающий, энергичный, – тут же добавил зам, давая понять, что он поддерживает нового руководителя целиком и полностью.
Слова доносились до Антона Варфоломеевича как сквозь ватные затычки в ушах, впрочем, ничего хорошего он и не ожидал.
– …ну и сегодня с утра, – продолжал зам, – всех начальников отделов, замов – на оперативку. А потом, где-то после обеда, с каждым по отдельности толковать будет. Твоя очередь первая.
И это не удивило Антона Варфоломеевича, сейчас он был готов ко всему. Главное, не подвел бы Сашка, подлец. А пока суд да дело, пока новый вникнет – что к чему, Антон Варфоломеевич будет во всеоружии.
Сашкин отчетик он полистал еще до оперативки и остался им вполне доволен – коротко, ясно, видна работа. Хотя голова соображала после бессонной ночи туговато, общий смысл он уловить сумел. Теперь оставалось только подать подготовленный материал в таком виде, чтобы ни малейшего сомнения в кипучей научной деятельности отдела у нового директора не возникло ни при каких обстоятельствах. Уж в чем, в чем, а в искусстве произносить пламенные, зажигательные речи и умении обаять собеседника, заставить его поверить каждому слову Антон Варфоломеевич был мастак.
На оперативке, проходившей в директорском кабинете, Баулин сидел с краешку, помалкивал, прислушивался да приглядывался. «Ох, не прост, – думал Баулин, мало вникая в смысл слов, но чувствуя, что новый руководитель говорит по существу, – совсем не прост!» Короче, как и предупреждал Антона Варфоломеевича дальновидный зам, новая метла начинала мести по-новому.
После оперативки все разошлись по своим отделам, несколько обескураженные, но бодрящиеся, не показывающие вида дескать, оботрется «новый» малость, и все встанет на свои места, мало ли кто и как с пылу с жару куролесит.
Направился в свой кабинет и Антон Варфоломеевич. Усталость навалилась на него новой волной. Превозмогая подступающий к глазам сон, он вызвал Сашку.
Но выдавить из него ничего не смог, кроме ненужных заверений, что, мол, такие, как доктор Баулин, незаменимы и, мол, именно на них стоит отечественная наука, и никакие администраторы не смогут попрать прав тех, чьи заслуги по достоинству оценила страна.
В общем, через десять минут такой беседы Антон Варфоломеевич выпер порученца и закрылся на ключ, попросив, чтобы его без особой нужды не беспокоили. Однако некоторые Сашкины высказывания все же затронули его душу. Он вспомнил утреннюю беседу с женой. Валентина Сергеевна, не понимая, что происходит с мужем, но ясно видя, что происходит что-то неладное, забеспокоилась не на шутку о его здоровье. Слезно умоляла Антона Варфоломеевича, чтобы тот хоть чуточку пожалел себя, поберег, не так горел на работе. Исчерпав все аргументы, говорящие, насколько он необходим ей, семье в целом и особенно маленькому внуку, что без него они все просто-напросто погибнут или вынуждены будут пойти по миру с сумой, она перешла к высоким материям, заявив, что Антон Варфоломеевич, вернее его драгоценная персона, не принадлежит ему самому, что он принадлежит отечеству в целом и потому, как, в общем-то, собственность государственная, не имеет права так наплевательски относиться к себе и своему здоровью.
Само собой, что после стольких горячих уверений с разных сторон Антон Варфоломеевич, никогда не страдавший комплексом неполноценности, еще более уверился в себе. Да, он и вправду сослужит еще державе немалую службу. И что там, в конце концов, какой-то директор, и шаткое положение Иван Иваныча, и прочие пустяки, и тем более нелепые, абсолютно беспочвенные сновидения?!
Уверенность придала ему бодрости. Предстоящая встреча с Нестеренко не пугала, наоборот, подзадоривала даже сама возможность схлестнуться с ним.
Обедать в этот день, изменив своей многолетней привычке, Антон Варфоломеевич не пошел. Но зато с большим удовольствием выпил подряд три стакана крепчайшего и горяченного чая. После этого голова его окончательно прояснилась. И когда его вызвали «на ковер», он был в полной боевой готовности. Он горел, рвался к схватке, испытывая необъяснимый азарт, какой испытывает опытный солдат перед боем.
Только перед самой директорской приемной Антону Варфоломеевичу испортил настроение появившийся будто из-под земли Сашка.
– Иван Иваныч подал заявление, – шепнул он на ухо шефу, состроив на лице трагическую гримасу. Баулин молча уставился на порученца.
– Святая правда! – подтвердил тот свои первоначальные слова. – Две минуты назад мне из министерства…
– Уйди-и-и, – со стоном протянул Антон Варфоломеевич.
Опаздывать на прием к директору не полагалось. Сашка исчез так же незаметно, как и появился, оставив Баулина наедине с Рубиконом, который ему во что бы то ни стало надо было перейти, – наедине с массивной, обитой натуральной кожей дверью, отделяющей его от будущего.
Поединок длился около полутора часов. Полностью убедить директора в исключительной и неотложной важности работ, проводимых отделом, Антону Варфоломеевичу не удалось. Но на многое «новый» клюнул. И уже это окрылило Баулина.
– Мне кажется – мы с вами сработаемся, – сказал он на прощание, – нашему институту требуются именно такие энергичные, знающие люди, как вы. И не беда, если придется иногда поработать сверхурочно. Как записано в законе, рабочий день у научных сотрудников не нормирован, – директор улыбнулся, это я не о формальной стороне, вы понимаете? Возьмемся за дело – по-настоящему! А рутину всю накопившуюся – долой! Вы согласны со мной?
В глазах Антона Варфоломеевича застыло восхищение, смешанное с преданной готовностью тут же перевернуть все вверх тормашками и вырваться на широкий научный простор.
– Я со своей стороны, товарищ директор, не подведу. Любое задание, Семен Анатольевич, выполним. А инициативы нам не занимать. Давно пора!
За дверью выражение его лица резко переменилось – сверкающая уверенная улыбка покинула его, брови съехались к переносице. Шатающейся походкой, придерживаясь за стену, Антон Варфоломеевич направился к себе в кабинет.
– Антон Варфоломеевич! Антон Варфоломеевич! Вы слышите меня? – увязался за ним Сашка.
Но тот не обращал на него ни малейшего внимания. И только опустившись в кресло, он зло поглядел на порученца и процедил:
– Сгинь!
Сашку как ветром сдуло.
Антон Варфоломеевич вытащил беленькую коробочку из внутреннего кармана пиджака, выколупал из упаковки три таблетки и разом проглотил их. Еще с полчаса он сидел не шевелясь, погруженный в мрачные думы. А потом, что случилось с ним на работе впервые, уснул.
Во сне он оглушительно храпел, чем привел в полнейшее смятение своих подчиненных, находящихся за стенкой. Сашка пытался их успокоить, вызвав этим легкий, но непрекращающийся смех. Тогда он вошел в кабинет к шефу, сел на стульчике напротив него и принялся тихонько насвистывать. Храп поубавился. Смолк и смех за стеной. Но Сашке это далось нелегкой ценой трехчасового беспрерывного бдения на страже мирно почивающего и горячо любимого даже в сонном состоянии шефа.
В кабинете было темно, задвинутые шторы разгоняли мрак по его углам. А от бьющей в глаза яркой настольной лампы и вовсе казалось, что вокруг свинцово-непроглядная чернота.
Свет лампы был направлен на Антона Варфоломеевича. Собеседника, если того можно было так назвать, Баулин не видел на месте его лица расплывалась лишь серая бесформенная маска. Зато голос он слышал преотлично. И голос тот был хорошо поставленный, твердый. В основном пока были вопросы. Антон Варфоломеевич добросовестно отвечал на каждый из них. К счастью, они не касались ни его личной жизни, ни способов и путей, какими он пробивал себе дорогу в этой жизни. Вопросы были анкетного порядка.
Но вот они кончились, и Антон Варфоломеевич заметил на расплывчатом лице тень улыбки.
– Мы и не сомневались, что вы именно тот человек, который нам нужен, – сказало лицо, – теперь дело за пустяками, я думаю, с вашей стороны возражений не будет? Вы ведь догадываетесь, о чем я говорю?
– Как бы вам сказать, – начал деликатничать Баулин, – не то чтобы совсем…
– Хорошо, – оборвало его лицо, – я поясню вам вашу миссию.
– Миссию? – недоуменно переспросил Антон Варфоломеевич.
– Не в словах суть, пусть это назовется заданием, смысл от этого нисколько не меняется. Так вот, скажу прямо, вам выпала огромная честь. Да-да, я не оговорился, именно честь. И пускай ваше имя так и останется неизвестным для миллионов, все равно и тогда оно будет вписано в историю золотыми буквами!
– Теперь я окончательно сбит с толку и честно вам заявляю, что ничего не понимаю, – промямлил, бессмысленно хлопая глазами, Антон Варфоломеевич.
– Подробно со спецзаданием вас ознакомят в другом месте. Я же объясню лишь суть. Не волнуйтесь – у вас впереди еще два месяца особой подготовки – вникнете во все до мелочей, и, кроме того, вас обучат всему необходимому – мало ли что там может случиться.
– Где это там?! – заволновался Баулин.
– Не спешите. Слушайте меня внимательно. – Лицо встало и оказалось рослым, подтянутым человеком спортивного вида, неопределенных лет. Заложив руки за спину, человек стал мерить кабинет шагами, в такт им произнося слова. Антону Варфоломеевичу ничего не оставалось делать, как вертеть головой слева направо и наоборот, следя за движениями говорящего, и внимательно слушать его.
– Нам потребовалось шесть лет для того, чтобы выйти на этот центр. Десятки лучших наших людей отдали свои жизни. И вот наконец мы у цели. Теперь дело за специалистом. Не просто было отобрать подходящего кандидата, собственно, не так уж и много их было – я говорю именно о вашей специализации. В итоге мы пришли к выводу, что вы тот единственный человек, который справится с заданием. Выбора у нас нет.
Антон Варфоломеевич заерзал на стуле.
– Я поясню, – медленно и четко произнес человек, – слушайте, уважаемый Антон Варфоломеевич, а точнее… вам предстоит теперь довольно-таки долго жить под другим именем, так скажем сразу, чтобы и вы привыкли, – Майкл Дэвидсон, да-да, не удивляйтесь. Слушайте, уважаемый Майкл Дэвидсон. В одной из стран, не будем пока называть какой именно, в невероятно засекреченной лаборатории ведется, а точнее, почти завершена разработка новейшего оружия, по сравнению с которым ядерное и нейтронное, скажем, просто-напросто детский лепет. Вы меня понимаете? Упредить их – вот в чем наша задача. И должны будете сделать это вы. Второго такого ученого, который мог бы разобраться в этой чертовой штуковине, у нас нет. Вы понимаете всю ответственность, которая возлагается на вас?
Антон Варфоломеевич обреченно склонил голову.
– Через два месяца вас забросят в этот исследовательский центр, вы будете снабжены всем необходимым, специально для вас разработана тщательно проверенная легенда. Время не ждет. Если мне удастся, я постараюсь сократить срок вашего обучения. Но не будем забегать вперед, уважаемый Майкл Дэвидсон, будь то через два месяца или ранее, но придет час, когда все будет зависеть только от вас, вы должны будете вступить в схватку с опытным и безжалостным противником и одержать верх. Вы один!
Стул под Антоном Варфоломеевичем заходил ходуном. Язык его свело судорогой, и он не смог выговорить ни слова.
– Мне нравится, что вы с мужеством и хладнокровием ведете себя, – продолжал человек, – прямо скажем, не каждый бы воспринял поручение с такой твердостью, как вы! Но в сторону комплименты, надо обговорить маленькие детали.
Он снова сел за стол и отвел отражатель лампы от лица Антона Варфоломеевича.
– Вот вам лист бумаги – вы должны написать завещание. Знаете ли – формальность, но все-таки необходимая. И второе. – Он достал из ящика стола бархатную папку и выразительно постучал по ней костяшкой указательного пальца. – Это указ о вашем награждении. Он уже подписан. Когда придет срок, указ и награды вручат вашей жене и детям.
– А почему не мне лично? – встрепенулся Антон Варфоломеевич.
Человек устало пожал плечами.
– К сожалению, – сказал он приглушенно, – с нами произойти может всякое. И хотя надежды практически нет, будем все же надеяться на лучшее!
Антона Варфоломеевича затрясло в мелком ознобе.
– Как это – практически никакой надежды? Это значит, что меня могут?.. – Он заплакал, не договорив. – И другого выхода нет?
– Вы меня правильно поняли. – Человек подошел к Баулину и положил ему руку на плечо, печально поглядел в мокрые от слез глаза. – Не только ваше здоровье, но и сама жизнь… Вас ждет вечная благодарность потомков!
На этом беседа кончилась, и Антона Варфоломеевича вывели из кабинета.
Очнувшись, Антон Варфоломеевич неожиданно для себя увидел склоненное над ним внимательно-озабоченное лицо Сашки. Впрочем, он и не сразу понял, что это Сашка, – ему показалось, что это какое-то продолжение одного из его кошмарных снов, и он в ужасе закричал.
– А-а-а-у-у!!! – разнеслось по всему этажу.
Сашка от неожиданности отпрянул, что-то залепетал. Но Антон Варфоломеевич уже справился с минутной слабостью. Он тяжело дышал, грудь вздымалась как кузнечные мехи. Затылок затек, глаза еле различали окружающее, хотелось сорвать с себя что-то липкое, противно тяжкое и отбросить все это как можно дальше, но что – Антон Варфоломеевич не знал.
Воспоминание о разговоре с директором породило в нем внутренний стон и повергло в бездонную, безысходную печаль. Захотелось бежать куда глаза глядят, лишь бы подальше.
Окончательно добили Антона Варфоломеевича всплывшие в памяти Сашкины слова об уходе Иван Иваныча. Он вдруг почувствовал, что в самом прямом смысле теряет почву под ногами, все вокруг поплыло, и Антон Варфоломеевич потерял сознание.
Домой его отвезли на служебной машине, когда он очнулся. До конца рабочего дня оставалось полтора часа.
Вечером того же дня Валентина Сергеевна пригласила на дом известного в определенных кругах невропатолога. По совместительству он был также знатоком восточной медицины и целителем-универсалом, чем и снискал себе шумную, но устойчивую популярность.
Целитель был давним знакомым их семьи и при случае пользовался некоторыми услугами Баулиных, за что питал к ним самые теплые чувства.
Без лишних слов, по-деловому, он приступил к осмотру пациента – щупал его, стучал молоточками, тыкал в живот металлической палочкой и делал множество других вещей, недоступных рядовым гражданам даже с высшим образованием и остепененным. Лишь после этого он перешел к расспросам, которые продолжались не меньше часа и не дали ожидаемого результата.
– Вам, Антон Варфоломеевич, – подытожил он работу, – на тяжелоатлетических подмостках выступать бы.
Антон Варфоломеевич поперхнулся и зашелся в долгом кашле. Его выпученные глаза уставились на целителя с таким детским удивлением и оторопью, что тот не смог выдержать взгляда и отвел свои черные проницательные очи в сторону.
– Есть, конечно, некоторые отклонения, – сказал он, разглядывая ногти, – но так, пустяки. Попейте на ночь и с утра по таблеточке седуксена или элениума – и все как рукой снимет.
– Пил, – буркнул Баулин, – не помогает.
– Поможет! – твердо заверил его целитель. – Сейчас я проведу с вами небольшой сеансик, и все встанет на свои места.
Валентина Сергеевна с полчаса наблюдала из угла комнаты, как не признанное наукой светило манипулировало своими подвижными руками над головой и другими частями большого тела Антона Варфоломеевича. Наблюдала и благоговела, боясь шевельнуться, чтобы, не дай бог, не спугнуть таинственного биополя или как там все это называлось.
А после того как Антон Варфоломеевич преспокойненько уснул сном младенца на широкой постели, в другой комнате у Валентины Сергеевны состоялся с приглашенным продолжительный разговор.
– Никаких оснований для беспокойства, – настаивал тот на своем, – в пятьдесят пять – организм как у тридцатилетнего спортивного парня. Грузноват немного, но при его могучем сердце это ничего не значит.
– И все-таки я вас умоляю – правду, профессор, только правду!
Целитель вздыхал и брался опять за старое.
– Поле жизнедеятельное, такого бы на троих хватило, и с аурой все в порядке, как у Иисуса Христа, сияет эдаким нимбом, знаете ли. Чуть-чуть, конечно, не так ярко, как у вас…
Валентина Сергеевна зарделась и благосклонно, немного заискивая, улыбнулась доктору.
– …но дай бог! Милейшая Валентиночка, – он позволял себе иногда с женщинами фамильярность, зная, что они это любят, – надо отвлечь его от дел, от этих, знаете ли, будничных хлопот. Покой, отдых, съездите в Прибалтику, развейтесь – ничего более.
Он уже встал, собираясь уходить. От Валентины Сергеевны было не так-то легко отвязаться. Но то, что она услышала, несколько снизило ее уважение к целителю.
– Хотите начистоту? – разговорился тот. – Случай не единичный, но по нашим временам очень-очень редкий. Прошу только вас никому не говорить о моем диагнозе, – он замялся, понимаете ли, это, м-мэ-э, может где-то сказаться на моей репутации.
Валентина Сергеевна заверила его в своей лояльности так горячо, что целитель выложил то, что думал.
– Не могу понять причины, даже, точнее сказать, что послужило толчком, но в вашем муже, не посчитайте наивностью, ах, как все это старомодно звучит!.. – в вашем муже неожиданно проявились некоторые атавистические признаки, что ли…
Валентина Сергеевна сделала испуганные глаза и прислонилась к стенке.
– Может, я не совсем правильно выразился, вопрос очень тонкий, но в нем, простите меня, проснулось то, что принято называть совестью. – Теперь пришла очередь краснеть гостю. В медицине такого понятия и даже термина, конечно, не существует – это что-то настолько неопределенное, что даже нам не под силу, – он развел руками и согнал усилием воли краску с лица, – тут важно докопаться до причины. Тогда мы все быстро устраним. И вам, Валентина Сергеевна, как самому близкому человеку, мне кажется, это будет сделать проще. Прощупайте его – с чего началось и так далее, вы понимаете меня?
Валентина Сергеевна поспешно кивнула, хотя не поняла ровным счетом ничего. Этот бред насчет совести еще подорвал ее доверие к целителю. Но тот сумел сохранить свое влияние, видно, недаром слыл кудесником.
– А за Антона Варфоломеевича берусь, – твердо, но без нажима сказал он, – две-три встречи в течение месяца и, конечно, ежедневные телефонные сеансы, знаете, направленные пучки энергии, концентрация… – тут он засыпал Валентину Сергеевну такой терминологией, что она уверовала бесповоротно, такой может все!
Перед уходом целителя-универсала хозяйка попыталась незаметно всунуть ему в карман конвертик с двумястами рублями в новеньких купюрах. Но этот ее жест не остался не замеченным необычной личностью. Он взглядом остановил ее движение, укоризненно покачал головой из стороны в сторону.
– Вы совсем не щадите себя, раздаете свою энергию, она ведь тоже не бесконечна, – пыталась оправдаться она, – а это такие жалкие крохи!
– Мы же с вами интеллигентные люди, Валентина Сергеевна, – улыбнулся ей на прощание гость. У него со здоровьем все было в норме.
На следующее утро вызвали врача из поликлиники, и тот выписал Антону Варфоломеевичу больничный лист.
Неделю он провалялся дома. Ежедневные «телефонные сеансы» со знатоком восточной медицины вселили в него прежнюю уверенность, дело явно шло на поправку. Валентина Сергеевна окончательно воспряла духом.
На работу Антон Варфоломеевич прибыл свежим, окрепшим последние ночи кошмары его не мучили, вообще ничего не снилось. И он посчитал себя совершенно выздоровевшим.
Встретивший его зам долго тряс руку, приговаривал:
– Вот так и горим, работаем на износ, а потом бац! Но мы с тобой еще повоюем, есть еще порох-то, а?
Антон Варфоломеевич добродушно отшучивался, пытался найти в заме какие-либо перемены в отношении к своей особе, но не находил их. Сашенька тоже встретил его радушно и с ходу заметил, что, несмотря на поданное заявление, Иван Иваныч еще держится. А верноподданные подчиненные даже сбросились по полтиннику и купили по случаю выздоровления шефа огромный дефицитный торт и пару бутылок шампанского. В общем, все шло как нельзя лучше.
Испортил настроение Антону Варфоломеевичу лишь ученый секретарь, объявивший, что через три недели состоится научно-технический совет института, на котором будет рассмотрен вопрос о сдвигах в работе отдела Баулина.
Как он будет отчитываться, Антон Варфоломеевич пока не знал. Но три недели – срок достаточный, и он, не теряя времени, поднял на ноги всех своих людей. Сашка мотался словно ошалелый, разнося указания начальника. А к вечеру ближе Антона Варфоломеевича вызвал Нестеренко.
– На энтээсе, – сказал он, – будет присутствовать сам Петр Петрович из министерства, поэтому прошу вас – не подкачайте. В общем, как мы с вами договорились, хорошо?!
Известие о Петре Петровиче здорово напугало Баулина, обычно на таких советах, да и то не всегда, присутствовал Иван Иванович. А тут было совсем другое дело.
К концу рабочего дня он снова занемог душой. Слепить что-либо подходящее для Петра Петровича и Нестеренко из пустоты он не мог. Оставалось уповать на случай или какие-то перемены. Правда, надежд на них не было.
Домой он пришел усталый. Ел плохо. А ночью все началось снова. И продолжалось долго. Не смог помочь даже целитель-универсал.
По утрам с большой неохотой Антон Варфоломеевич плелся на работу. В институте старался избегать знакомых, отсиживался в своем кабинете и требовал от Сашки невозможного. Но доверенное лицо, хотя и находилось постоянно в состоянии запарки, ничем облегчить участь Баулина не могло. Ничего не удалось выжать и из сотрудников отдела.
А роковой день приближался. Приближался неотвратимо, с каждой минутой нависая над головой Антона Варфоломеевича все тяжелее и тяжелее.
Заместитель директора, хотя и был давним приятелем Баулина, тоже волновался всерьез – ведь темы, которыми занимался отдел, были и его темами, отдел входил в направление, за которое он отвечал. А отвечать по-крупному не хотелось. Заверениям Антона Варфоломеевича он не слишком-то доверял, зная им цену.
Пытался было уйти в отпуск – не отпустили, заболеть – не сумел.
Накануне ответственного дня они вдвоем с Баулиным просидели до полуночи за подготовленными отделом бумагами. И каждый сам, своим умом, дошел – товар не получился. Сидение их закончились взаимными упреками, оскорблениями, чуть не перешло в драку. Но все это уже было бессмысленно – до утра оставались считанные часы – совет был назначен на половину десятого.
Дома Антон Варфоломеевич долго ворочался в постели, вздыхал, предчувствуя предстоящий позор, и заснул в четвертом часу утра.
И явился ему последний сон.
Зал был заполнен до отказа. Публика сидела молча, ожидая начала чего-то. Чего в точности, Антон Варфоломеевич не знал. Да и вообще положение его было несколько странным – по обычаю он должен был сидеть в зале, в первых рядах, ожидая, когда ему предоставят слово. Сейчас же все было по-иному: зал существовал вместе с сидящими в нем людьми отдельно, сам по себе, Антон Варфоломеевич находился в особом положении он сидел сбоку от президиума, если опять-таки его можно было так назвать, на длинной скамье без спинки, а прямо перед ним находились странные высокие, почти до лица сидящего, деревянные перила.
Тишина зловещим предзнаменованием давила на психику. Антон Варфоломеевич поневоле съежился в комок. Но он, превозмогая скованность, все же оглянулся назад. За его спиной, по бокам, стояли два человека в форме. В формах и знаках отличия Антон Варфоломеевич не разбирался, но сам факт присутствия этих людей насторожил его, если не сказать – поверг почти в паническое состояние.
На помосте за столом президиума никого не было. Видимо, сидящие и ожидали появления тех, кто должен был занять эти места. Ожидание длилось долго, нестерпимо долго. И вдруг, за стеной над президиумом зажглись крупные багрово-красные буквы. Буквы сливались в слова, и Антон Варфоломеевич с трепетом всматривался в надпись. Она гласила: «Особая Чрезвычайная Аттестационная Комиссия». Разобраться что к чему было невозможно, оставалось лишь отдать себя в руки судьбы. Минут через пять после появления горящих букв по залу прокатилось подобно раскатам грома:
– Встать! Суд идет!!!
Антон Варфоломеевич вскочил на ноги первым, не понимая еще толком, о каком суде идет речь. Следом за ним, сопровождаемый людским гулом, поднялся весь зал. Лишь те двое за спиной как стояли, так и продолжали стоять.
Из боковой двери в президиум шла длинная процессия, в которой Антон Варфоломеевич усмотрел знакомые лица. Там были: Петр Петрович из министерства, Нестеренко, невысокий румяный человек, которого Баулин не знал по фамилии, но хорошо запомнил после посещения его кабинета, и многие другие. Главенствующее место занял Петр Петрович, остальные расселись по обе стороны от него. Никто из них не смотрел в сторону Антона Варфоломеевича.
Петр Петрович взял со стола лежащий перед ним молоточек, ударил им по небольшой круглой тарелочке, висящей на штативчике сбоку, и она оглушительно задребезжала. И снова кто-то произнес:
– Заседание суда считается открытым.
Антон Варфоломеевич в надежде, что все это ему только мерещится, энергично потер глаза и ущипнул себя за щеку, однако все оставалось на своих местах. Он оглянулся еще раз назад и тут же отдернул голову: ему показалось, что фуражки на головах стоящих охранников стали чем-то похожи на чалмы, лица их потемнели, а в руках засверкали изогнутые хищные мечи. Нет, лучше было не оборачиваться. Антон Варфоломеевич потупился.
– Вызывается первый свидетель, – прозвучал голос.
– Постойте, – оборвал его председательствующий, – ведь все должно быть по порядку – пусть зачитают обвинение.
Голос, звучащий ниоткуда, безапелляционно заявил:
– Обвинить всегда успеется, пускай люди скажут.
Петр Петрович согласился с ним.
Дверца в глубине зала раскрылась, впуская первого свидетеля. Антон Варфоломеевич с любопытством следил, кто же им мог оказаться. Сгорбленная старческая фигурка прошла между рядами кресел и остановилась на специально отведенном месте перед президиумом.
«Не может быть! – мысленно воскликнул Антон Варфоломеевич. – Он же умер пятнадцать лет назад!» Баулин собственными глазами читал тогда некролог в газете. Правда, на похороны не пошел, счел это не первостепенной важности делом, и вот теперь…
– Я не мог отказать Варфоломею Антоновичу, своему однокашнику, товарищу еще со школьной скамьи. – Надтреснутый голос свидетеля дрожал. – Маленький Антоша был таким славным пареньком, правда, в школе он дальше троек…
– Эйнштейн, Эдисон – да я вам десятки фамилий перечислю тоже были двоечниками и троечниками! – раздалось справа, оттуда, где должен был сидеть адвокат.
И Антон Варфоломеевич только теперь разглядел, что это место занимал Сашенька. Да и кому же, как не ему, было защищать шефа.
Петр Петрович сурово поглядел на адвоката, и тот смолк.
– Вам дали взятку?! – почти прокричал, обращаясь к старику, прокурор. Кто им был – со скамьи, на которой сидел Баулин, видно не было. Голоса он тоже не узнал.
– Нет, нет, – перепугался свидетель, – я принял Антошу в свой институт по товарищеским соображениям, я повторяю, мы с его отцом… Я никогда, как вы смеете?! – Бывший ректор смотрел на прокурора с гневом, праведным и неподдельным, испуг его куда-то девался, и он перешел в наступление: – Я двадцать девять лет!..
– Вопрос исчерпан! – прозвучал голос ниоткуда.
Старичок ректор покорно смолк, зашаркал по навощенному паркету и опустился в одно из кресел в середине зала.
– А я считаю необходимым добавить, – прозвучало с прокурорского места, – что при всех обстоятельствах совершенно непонятно – как подсудимый умудрился получить «красный» диплом?!
Петр Петрович замешкался, но опять-таки его выручил голос:
– Будет воду-то в ступе толочь, если вам не ясно это, то, может быть, вы бы лучше заняли место адвоката?
Зал одобрительно загудел. А голос добавил:
– Бюрократические методы оставим бюрократам, а мы собрались здесь по делу, будем же им и заниматься. Следующий!
Выступлений трех следующих свидетелей Антон Варфоломеевич не слышал. До него стало доходить происходящее, и он просто не мог поверить в то, что это происходит с ним. Мысли в голове путались, разбегались по темным закоулкам сознания. «Почему, почему?! – мучительно свербил его вопрос. – Почему я?» В зале он видел немало своих прежних друзей и знакомых, которые с таким же успехом могли занять его нынешнее место, однако они оставались на своих местах и оживленно хлопали, сообща возмущались каким-то фактами из биографии Баулина, которую разматывали по ниточке. Ни одного доброго, поддерживающего, ободряющего взгляда в его сторону! Антон Варфоломеевич совсем приуныл, опустил голову к коленям, сжал ее руками. И тут он почувствовал, что его пышная шевелюра куда-то пропала, а голова противно колола ладони. Он еще раз провел рукой ото лба к затылку. «Остригли!» – мелькнуло в мозгу. И почему-то одно это повергло его в отчаяние более, чем все выступления свидетелей, настрой судей и недоброжелательная атмосфера в зале.
– Значит, вы утверждаете, что способствовали гражданину Баулину в распределении после института, – донесся до Антона Варфоломеевича голос Петра Петровича.
– Да, благодаря мне он остался не только в Москве, но и поступил именно в наше конструкторское бюро. Я получил о нем блестящий отзыв и просто посчитал долгом не упустить такую личность.
– Вы получили взятку?! – Прокурор воспользовался паузой.
– Да уймите вы его, – обратился свидетель к Петру Петровичу. – Что он все со своими взятками?
Петр Петрович бросил неодобрительный взгляд в сторону прокурора.
– О взятках речь впереди, – прозвучал голос ниоткуда, не тормозите процесса, иначе вас вынуждены будут сменить! Продолжайте, свидетель.
– На своем месте Баулин внес большой вклад в наше дело, я не боюсь громких слов, большой вклад в отечественную и мировую науку.
Неожиданно из первого ряда поднялся смуглый человек с пышными усами и маслеными глазами, он твердо и внушительно произнес с легким кавказским акцентом:
– Чэловек, нэ способный принэсти сэбя в жертву науке, нэ может внэсти никакого вклада!
В зале захлопали.
Петр Петрович застучал молоточком по тарелочке. Оживление стихло. Следующий свидетель был из того же КБ, один из бывших подчиненных Антона Варфоломеевича. Узнал он его не сразу.
– Через год после института и прихода к нам Баулин стал руководителем группы, еще через полтора начальником сектора, в котором я работал.
– Все это происходило во время написания гражданином Баулиным кандидатской диссертации?
– Да, – свидетель уточнил, – во время ее написания мною и еще двумя сотрудниками подчиненного ему сектора.
– Это бездоказательно! – выкрикнул со своего места Антон Варфоломеевич.
На что Петр Петрович не среагировал вообще, а свидетель вытащил из большого потертого портфеля пухлую папку и положил ее перед председательствующим.
– Прошу провести графологическую экспертизу, – сказал он.
– В этом нет нужды, – откликнулся голос ниоткуда.
– А я настаиваю! – заявил со своего места Сашенька.
«Идиот!» – мысленно простонал Антон Варфоломеевич. Крыть ему было нечем. От Сашки-адвоката помощи, судя по всему, ждать не стоило.
– Я прошу назначить другого адвоката, – заявил он, приподнимаясь над перилами.
Петр Петрович согласно кивнул, и вслед за этим неожиданно появившийся человек в медной каске и форме пожарника подбежал к Сашке и, не считаясь с тем, что тот является не только доверенным лицом, но официальным представителем, пинками согнал его с адвокатского места, тем же способом прогнал по проходу и вытурил из зала, после чего вышел и сам.
На помост нехотя, оглядываясь по сторонам, взошел зам. Чувствовалось, что роль адвоката была ему чем-то неприятна. Антон Варфоломеевич подумал: «Час от часу не легче!» – но отводить вторую кандидатуру не решился.
– За время работы в КБ, – продолжил председательствующий, – гражданином Баулиным было сделано двенадцать изобретений и… – он заглянул в дело, лежащее перед ним, – и написано четырнадцать научных статей, так? – Вопрос его был обращен все к тому же свидетелю.
– Так, – подтвердил тот.
– Ну и как же вы относитесь к этому – факт налицо?
– Налицо факт использования служебного положения, – ответил свидетель, – а отношусь я к этому так же, как и к упомянутой диссертации, – Антон Варфоломеевич ставил только свою подпись. Правда, следует отдать ему должное – частью премиальных и гонораров за статьи он делился с нами.
– То есть с теми, кто выполнял за него… – Петр Петрович замялся.
– Да.
– Мне кажется, что в свидетеле говорит обычная зависть мелкого исполнителя к человеку большой науки, – подал свой голос зам.
Свидетель оторопел, растерялся, видно было, что ему не часто приходилось участвовать в подобных процессах, да и вообще в словопрениях. Выручил его все тот же голос ниоткуда:
– О зависти мы поговорим позже, вернемся и к этому вопросу, как и к взяточничеству.
– В конце концов, кто тут председатель?! – возмутился Петр Петрович. – Почему вы постоянно прерываете ход заседания?
– Страницы сто пятьдесят четвертая тире двести восемьдесят шестая дела подсудимого, – ответствовал голос, – ознакомьтесь с ними повнимательнее, уважаемый Петр Петрович.
«Все раскопали!» – с горечью подумал Антон Варфоломеевич, пока председательствующий копошился в деле. Сам он почти забыл обо всех этих историях и искренне считал все труды только своими и ничьими иными. Но память настойчиво нашептывала ему – неправда, Антон, неправда, и свидетель, и голос правы, тем более что это твой же голос. «Как это мой?!» – перепугался Антон Варфоломеевич, никогда не страдавший раздвоением личности. Ответа не последовало.
– Жертвэнность, наука трэбуэт жертвэнности! – выкрикнул с места масленоглазый усач. – Бэз жертвы нэт истинного ученого!
– Я вас выведу из зала, – спокойно предупредил его секретарь суда, и усач замолк, завертел головой, ловя одобрительные взгляды.
Антон Варфоломеевич готов был сорвать с ноги ботинок и запустить им в масленоглазого. Но не смел. Приходилось перетерпевать все.
– Впустите следующего свидетеля!
И снова все смешалось в голове у Баулина – говорили что-то о покровительстве, о втирании очков в отчетах и справках, о злоупотреблениях. Говорили без передышки один свидетель за другим – казалось, весь белый свет восстал против Антона Варфоломеевича. Когда речь зашла о его докторской диссертации, Антон Варфоломеевич с удивлением обнаружил, что рядом с ним на скамье оказался сидевший минуту назад в зале профессор Тудомский.
– Перерыв, – закричал Баулин, – прошу перерыва – я не могу больше выдерживать всего этого!
Петр Петрович насупил брови, помедлил и, пожав плечами, сказал:
– Суд удаляется на совещание. Перерыв.
Хлопанье сидений кресел, хруст затекших ног, оживленный говор – все сразу же заполнило зал. Народ повалил к выходу, и оттуда потянулся сигаретный дым.
Антона Варфоломеевича и Тудомского увели в маленькую комнату без окон. Между собой они не разговаривали. Охранники встали у дверей.
Чем все это закончится, Антон Варфоломеевич не мог даже предположить. Но хорошего ждать не приходилось. Он сел на стул в углу комнаты и постарался расслабиться, как его учил целитель, представить себя этакой легкой тучкой в прозрачном голубом небе. Но как он ни старался, воспарить ему не удавалось. Одно успокаивало – тишина в комнате. После затянувшейся говорильни она казалась блаженством, ниспосланным свыше. Сколько времени будет длиться перерыв, Антон Варфоломеевич не знал, но ему хотелось, чтобы он длился вечно.
В тот момент, когда Баулин почти уже сумел сбросить с себя нервное напряжение, дверь бесшумно распахнулась и в комнату вошел человек неопределенного возраста, спортивного вида, с совершенно не запоминающимся лицом. Антону Варфоломеевичу показалось даже, что такового у человека и нет вовсе.
– Да-да, – сказал вошедший, – как же вы нас подвели, гражданин Баулин. А ведь судьба человечества была почти что в ваших руках.
– Куда там! – неопределенно отмахнулся Антон Варфоломеевич.
– А это правда, ну все то, что про вас говорили там? спросил человек без лица.
Баулин сделал вид, что не понял вопроса.
– Ловко же вы нас за нос водили! – сказал человек с долей восхищения. – А может, этого послать, как его? – он бросил взгляд в сторону профессора Тудомского, над которым трудились неизвестно откуда и когда появившиеся парикмахеры. Одновременно с двух сторон они ловко лишали Тудомского его знаменитой седой гривы. И тот не роптал.
– А-а… – протянул Антон Варфоломеевич и махнул рукой.
– Понятно. Вы только не волнуйтесь, Майкл… простите, Антон Варфоломеевич. Может, обойдется?
– Лучше бы вы меня послали без подготовки, сразу же!
– Поздно, – устало проговорил человек и вышел. Остриженный Тудомский неприязненно посмотрел в сторону Антона Варфоломеевича и выдавил из себя напряженно:
– Доигрался?!
После этого он опять отвернулся, уставился в стенку. Перерыв кончился. И вновь вспыхнули над столами президиума багровые зловещие буквы. Снова заполнился зал. Все было по-прежнему, кроме одного – место председательствующего занял плотно скроенный невысокий румянолицый человек, обладатель приятного тенорка. Он начал без предисловий:
– А теперь мы рассмотрим другую сторону жизни гражданина Баулина, с которой, видимо, не все присутствующие хорошо знакомы.
Зал оживленно загудел, глаза сидящих засверкали любопытством.
Даже сам Антон Варфоломеевич поднял голову, навострил уши.
– За последние тридцать лет своей деятельности, – продолжил новый председатель, – гражданин Баулин нанес убыток государству, в качестве выплаченных ему зарплат, премий, премиальных за изобретения и рационализации, кандидатских и докторских надбавок, а также гонораров за научные статьи, книги и так далее, в размере двухсот тридцати восьми тысяч ста двенадцати рублей и шестидесяти семи копеек. Подсудимый, вы согласны с нашими цифрами?
– Никогда не подсчитывал, – вяло ответил Антон Варфоломеевич.
– Напрасно.
– Я возражаю! – выкрикнул адвокат, он же зам. – Это были честно заработанные деньги, в соответствии с трудовым законодательством и финансовыми…
– Честно?! Зарплата и премии – за работу, которой подсудимый никогда не выполнял, за изобретения, изобретенные не им, за степени, полученные вы уже сами знаете каким образом?!
– Он был неутомимым организатором, активным общественником, – не унимался зам, – на протяжении всех этих долгих лет Баулин был, можно сказать, генератором идей. Пускай осуществляли их другие, но ведь кому-то их надо было и дать?!
– Организатором он и в самом деле был хорошим. Кстати, не вы ли, уважаемый адвокат, помогли ему сорганизовать, так сказать, строительство загородного коттеджа на отведенные в фонд института средства? Не вы ли, пользуясь своими полномочиями, выделяли на строительство этого, с позволения сказать, домика институтских рабочих?
– А я вообще не пойму, что этот мерзавец делает на адвокатском месте? – раздался после долгого молчания голос ниоткуда.
– И вправду?! – Председатель поглядел на зама.
Стремительно вбежавший из задней двери пожарник пронесся, грохоча сапогами по проходу, взбежал на помост и, ухвативши зама крепко за воротник, выволок его с адвокатского места. Через секунду зам уже сидел между Антоном Варфоломеевичем и бывшим профессором Тудомским. Пожарника же словно корова языком слизала.
Воспользовавшись паузой, встал со своего места целитель.
– Я должен заявить многоуважаемому суду, что мой пациент находится в невменяемом состоянии, – сказал он. – Это глубоко и тяжело больной человек, с подорванной непомерным трудом психикой. Он может не выдержать процесса.
Антон Варфоломеевич воспрянул духом, слова целителя пролились на него божественным нектаром.
– А чэго ж он, эсли балной такой, – снова вскочил с кресла гость с Востока, топорща при этом усы и округляя свои масленистые глазки, – чего ж он сэбя в жэртву науке отказался принэсти? Эсли он балной, значит, он обрэчен все равно! А он отказался!!!
Председатель приказал вывести вон усача, что и было сделано.
– А вы, уважаемый доктор, займите-ка пока место адвоката, вам оно к лицу, – сказал он после того, как масленоглазого выдворили из зала. – Пациент ваш прошел медицинскую экспертизу, поводов для тревоги у нас никаких нет.
Целитель гордо прошествовал к столику справа от судей и сел за него, величаво откинув голову назад.
– Продолжим. – Председатель улыбнулся Антону Варфоломеевичу. – Для нужд лабораторий за последние годы было выписано бытовой радиоаппаратуры, как отечественной, так и зарубежной, на сумму сорок семь тысяч рублей и тридцать пять тысяч в инвалюте всего. Скажите, какое имеет отношение бытовая техника – телевизоры, магнитофоны, видеомагнитофоны и прочая – к тому направлению, которым вы занимались.
– Самое прямое, – ничего не разъясняя, ответил глухим голосом Антон Варфоломеевич.
– Хорошо! Я не специалист, оспаривать не буду. Поставим вопрос так – где эта аппаратура находится сейчас?
Баулин промолчал.
– По нашим сведениям – в вашей квартире и квартирах лиц, обеспечивающих вам свое покровительство, не так ли?
– Так, так! – озлобленно выкрикнул Тудомский.
– Не вас спрашивают, – голос ниоткуда дрожал.
– Да чего уж – вам виднее. – Антон Варфоломеевич решил, что отпирательство бесполезно.
– С этим решили, хорошо. – Лицо председателя стало еще румяней. – Я думаю, мы больше не будем останавливаться на таких мелочах, как эта пресловутая аппаратура, спортивное снаряжение, книги, стройматериалы и тому подобное, а? – (Все согласно молчали.) – Ведь если мы начнем говорить об этом так же подробно, то просидим тут до второго пришествия. – Он похлопал по папке и продолжил: – Здесь все записано. Так вот, вместе с уже названным ущербом, в сумме то есть, все это составляет в переводе, конечно, на наши деньги – семьсот девяносто тысяч триста один рубль и те же шестьдесят семь копеек.
Зал дружно ахнул.
– Но пройдем теперь к опросу свидетелей. – Председательствующий умерил пыл публики. – Впустите первого.
Вошел почему-то Иван Иваныч со сложенными за спиной руками и в сопровождении двух молодцов в штатском. Антон Варфоломеевич злорадно усмехнулся, потер ладоши, взгляд его приобрел хищное выражение.
– Фу-у! – воскликнул председатель. – С этим делом мы уже покончили, ну сколько можно!
– Наверное, ему есть что сказать, – дал о себе знать голос ниоткуда.
– Тогда пусть скажет, – смирился председатель. Иван Иваныч прошел вперед, упал перед судом на колени и, глядя на судей, но не глядя на Антона Варфоломеевича, затряс в его сторону скрюченным пальцем.
– Это все он, – на верхней ноте завел Иван Иваныч, – аферист и подлец, это он опутал меня своей липкой паутиной!
– Ну-ну, не скромничайте, пожалуйста, – улыбнулся ему председатель, – и в выражениях, я вас очень прошу, помягче немного.
– Слушаюсь, – покорно проговорил Иван Иваныч. – Тут все дело в том, что гражданин Баулин прямого выхода на промышленность почти не имел, это может подтвердить каждый. Вот он и нашел лазейку в нашем министерстве.
– Лазейка – это вы? – ласково спросил прокурор.
Иван Иваныч глухо зарыдал.
Чем кончилась история с Иван Иванычем, Баулин так и не узнал, потому что его начало страшно тошнить и охранникам пришлось вывести подсудимого из зала суда.
Антона Варфоломеевича рвало в туалете в течение получаса. Ему казалось, что он умирает. Но все обошлось, и когда его вели назад в зал, Баулин увидел конвоируемого двумя автоматчиками Иван Иваныча. На том была полосатая каторжная роба, на руках и ногах его гремели в такт шагам кандалы.
А в зал из самого вестибюля тянулась до председательского стола длиннющая очередь. Во многих стоящих Антон Варфоломеевич узнавал толкачей-производственников. А когда он снова занял свое место, то услышал, как каждый из них, по мере прохождения освидетельствования, сознавался в том, когда и какие именно подарки он привозил подсудимому ныне Баулину, а тогда всесильному научному авторитету, чтобы получить в министерстве и НИИ нужное ему научно-техническое заключение. Длилось это невероятно долго.
Перед глазами Антона Варфоломеевича мелькали лица, фигуры, все мельтешило, кружилось, взбалмошный усач, высовываясь из-за дверей, орал что-то о непонятной жертве, так и не принесенной Баулиным науке, его выталкивали, но он протискивался вновь и вновь. Сверкающие мечи за спиной склонялись все ниже и ниже над головой Антона Варфоломеевича. Сидящий в президиуме Нестеренко сокрушенно покачивал головой и с искренним изумлением смотрел на Баулина. Петр Петрович грозил со своего места подсудимому пальцем, пучил глаза… а в конце концов взобрался с ногами на стол и, размахнувшись во все плечо, запустил в Антона Варфоломеевича каким-то бумажным комочком. Впрочем, до адресата тот не долетел, его перехватил на лету прокурор и, продемонстрировав всему залу с обеих сторон развернутую бумажку от мороженого, провозгласил звучно:
– Прошу подшить в дело!
Через минуту раскрасневшийся, запаренный пожарник приволок на скамью к Баулину и самого Петра Петровича, хотя тот вовсю упирался и требовал немедленно создать комиссию по расследованию жалоб и доносов, поступавших от подсудимого на протяжении последних четырех лет. Пожарник, похоже, был глухой. Да и что возьмешь с исполнителя? Голос же сверху изрек:
– Без бюрократической возни, как договаривались!
Овации в зале стали перерастать в подобие вулканического грохота. Публика неистовствовала!
А Антон Варфоломеевич вертел перед носом Петра Петровича кукишем и хихикал с каким-то мелким, не вяжущимся с его колоритной фигурой ехидством.
На скамье прибывало. В теплую компанию уже влились: экстрасенс, Сашка-предатель, все члены научно-технического совета во главе с особо научным завхозом института, старичок ректор, целая орава доставал-снабженцев, которых Антон Варфоломеевич совсем не узнавал… Скамья разрасталась будто на дрожжах, она уже занимала большую часть зала. И стражники в чалмах и с мечами в руках множились, множились – как зеркальные отражения.
Одним из последних притащили масленоглазого усача, который, дико тараща глаза, визжал словно резаный и клялся всем святым для него, что если подсудимого Баулина немедленно же, на его глазах, не принесут в жертву кому-то, то он вырвет меч у стражника, всех в этом зале перерубит в лапшу, а потом сделает себе харакири и собственной кишкой удавит Антона Варфоломеевича!
– Хрен с тобой! – орал Баулин, совершенно ополоумев. На, режь, гад! Ну чего ты?!
При каждом вскрикивании он ударял кулаком сверху вниз по голове остриженного и жалкого Тудомского. И даже не замечал этого, до тех пор пока профессор не свалился под ноги сидящим.
Усача связали. В рот вбили кляп. Но он его тут же проглотил и заверещал пуще прежнего:
– Всэх порэжу!
– И-э-эх! – глумился над ним Баулин. – А еще величество! Самого тебя – в жертву!
– В лапшу! В капусту!!
Следующий кляп оказался надежнее, масленоглазый замолк.
Народу в зале оставалось все меньше. На скамье же все прибывало. Но тем громче рукоплескали оставшиеся. Они сначала встали на ноги, потом взобрались на сиденья кресел и, стоя на них, бурно выражали свой восторг и всеобщее одобрение. Лишь с самого края в президиуме сидел неприметный и какой-то лишний здесь окопник и молча сворачивал самокрутку, хмыкая и качая головой.
Антону Варфоломеевичу было не до того. Он внезапно смолк, позеленел и плюхнулся задом на скамью. Из дальней двери прямо на него шел человек недюжинного сложения в красно-багровом балахоне и черных в гармошку сжатых сапогах. В руках у него был мясницкий топор.
– Да-да, – глубокомысленно, покрывая шум в зале, произнес голос ниоткуда. – Так, наверное, будет лучше.
«Это кому же лучше?» – подумал Антон Варфоломеевич, сползая еще ниже.
А палач приближался.
Рукоплескания начали потихоньку смолкать, пока совсем не заглохли. Сидящие на скамье, как по сговору, стали отодвигаться от Баулина все дальше и дальше, пока он не остался совсем один перед приближающейся красной фигурой.
В тишине раздался крик окопника:
– Ты чего это, паря? Ты что – мясником будешь?! Не шали! Обещались придушить, чтоб по-человечески, по-христиански!
Окопник поперхнулся дымом из самокрутки и зашелся в кашле.
Палачу оставалось пройти метра два-три, он уже начал приподнимать топор. Антон Варфоломеевич уныло, сидя на полу у скамьи, прощался с жизнью.
– Непорядок! – выкрикнул румяный человек из президиума.
Баулин совершенно отчетливо увидал, как сузились зрачки в прорезях балахона. Топор медленно опустился.
– Не по протоколу!
– Да слышали, чего орешь зря! – глухо донеслось из-под балахона.
Человек в красном, с сопением и натугой, перелез через перила, подхватил одной рукой Антона Варфоломеевича за шкирку и посадил на скамью. Сел рядом. И прошептал доверительно, почти дружески:
– Что ж мы, без понимания, что ли? Обожде-ем!
Зал вновь взорвался аплодисментами.
– Суд удаляется на совещание! – заявил румянолицый и вышел в гордом одиночестве из зала.
Наступило некоторое замешательство. Никто не знал, что делать. У всех входов-выходов стояли охранники в чалмах и отгоняли желающих выйти своими острыми мечами.
Палач пыхтел, сопел, переминался и тяжко, с присвистом, вздыхал. Чувствовалось, что ему нелегко сидеть без дела.
«Это все сон, это все сон, это все сон…» – как магическое заклинание твердил про себя Антон Варфоломеевич. Он даже расхрабрился до полной отчаянности и… плюнул в сидящего поодаль Петра Петровича. Тот утерся, не стал затевать скандала. «Точно, сон! – упрочился в своих мыслях Антон Варфоломеевич. – Да разве наяву такое возможно? Ни-ког-да!» Но тут же почувствовал внезапную боль в затылке и чуть не свалился – это палач дал ему основательную затрещину.
– Нехорошо, – присовокупил он словами, – некрасиво и некультурно! В цивилизованных странах так себя не ведут!
– Я больше не буду! – истово поклялся Антон Варфоломеевич. Человека в красном он зауважал с первых же минут.
Сверху донесся сип, и голос ниоткуда объявил:
– А теперь… все танцуют!
На помост выскочили из-за дверей какие-то патлатые, расхлюстанные парни с гитарами, барабанами, саксофонами… Целая команда близнецов-пожарников выкатила груды аппаратуры. И в уши ударил сатанинский, оглушительный хэви-металл. В зале стало темно, одновременно задергались, замелькали яркие молнии-огоньки, вспышки. Все пришло в движение.
Палач ногой вышиб перила, ухватил Антон Варфоломеевича за бока и завертел-закружил в бешеной, абсолютно не подходящей под сумасшедше-неистовый рок пляске.
Все словно с ума посходили. Прыгали, скакали и вращались как волчки: Петр Петрович с прокурором, мерзавец Сашка сам с собой, снабженцы, их жены и любовницы, отделенные до того барьером, институтские машинистки и курьерши, начальники и подчиненные, подсудимые и свободные. Весь зал ходуном ходил. Отплясывал гопака Иван Иваныч в полосатой робе, и тяжелые гремящие кандалы ему не мешали. Притопывали вокруг него два охранника. Будто в истерическом припадке, дергался в ритмах рока остриженный профессор Тудомский – глаза его были закрыты, а рот раззявлен. Бессчетные замы и помы, сцепившись руками в хоровод, кружились как заведенные, живым колесом все на одно лицо. Изгибался в восточных пируэтах гибкий и верткий экстрасенс. Даже связанный усач прыгал на одной ноге, пучил масленые глаза и тряс головой. Но от кляпа его так и не освободили. Короче, весь зал – невзирая на звания и степени, должности и чины, возраст и здоровье – предавался какому-то разнузданному, разухабистому веселью.
Антон Варфоломеевич, совершенно обалдевший от всего, крутился, увлекаемый вопящим палачом, и думал, что хорошо все то, что хорошо кончается, – а разве это единение зала в танцевальных ритмах, в сумбурном и нелепом всеобщем согласии не добрый знак?! Добрый, еще какой добрый! И наплевать – сон это или явь! Какая разница! Главное, топор-то остался там, у скамьи. А значит, есть еще минуты, может, и часы! Голова у него кружилась, сердце то билось в ребра бельчонком, то обмирало и пропадало совсем. От прилива чувств и пользуясь полумраком, теснотой, он даже исхитрился дать хорошего пинка под зад Тудомскому. Но тот, видно, ничего уже не чувствовал – сознание его витало в иных сферах. Палач не заметил «нецивилизованного» поступка подопечного, увлечен был. Он даже оторвался на время и пошел было вприсядку. Но заметив, что Антон Варфоломеевич пытается улизнуть, вновь вцепился в него.
– И-ех! Жги, Семеновна! – завопил Петр Петрович, вскидывая вверх руку с платком. – Один раз живем!
Будто поддаваясь его призыву, музыканты ускорили ритм, принялись терзать свои инструменты еще пуще. Вселенская кутерьма была, невиданная и неслыханная! И если случались до того на свете шабаши, так по сравнению с этим зваться им отныне скромными посиделками. Стены ходуном ходили, полы трещали, люстры качались, как при двенадцатибалльном шторме. Веселился люд честной!
А голос румянолицего все ж таки перекрыл все громы и звоны, визги и крики, скрипы и хрипения:
– Встать! Суд идет!
И только прозвучало последнее слово и перекатилось по залу гулкое эхо, как стало светло и пусто – никого в огромном и засыпанном всяческим мусором помещении не осталось. Никого, кроме Антона Варфоломеевича, палача в красном балахоне и румянолицего.
Антон Варфоломеевич растерянно озирался по сторонам, и чудилось ему, что он проснулся наконец, – так все было реально и буднично. Он даже провел рукой по своей голове и убедился, что она вовсе не острижена, что пышная и упругая шевелюра на месте. Все было обыденно. За исключением палача и румянолицего.
А палач тем временем сходил к тому месту, где находилась разбитая в щепы скамья, подобрал свой топор и возвращался назад. Это и отрезвило Антона Варфоломеевича. Он пристально вгляделся и среди обломков стульев и кресел, среди куч спутанного серпантина и прочей мишуры разглядел самую натуральную плаху. Она колода колодой стояла в трех метрах от него.
– Давай, милай! – подтолкнул его палач. – Пора!
От растерянности и думая, что лучше быть послушным, Антон Варфоломеевич опустился, где стоял, прополз на коленях отделявшее его от плахи расстояние и покорно положил на нее голову. За спиной он расслышал всхлипывания растроганного палача. Обернулся. Тот, сжав под мышкой топор и стащив с головы капюшон, размазывал огромной ручищей слезы по лицу. И лицо это показалось Антону Варфоломеевичу невероятно знакомым, он даже испугался. Отвлек его румянолицый.
– Оглашаю приговор! – произнес он торжественно.
И в эту минуту зал снова наполнился, загудел, задрожал в ожидании. Антон Варфоломеевич краем глаза видел, что он на возвышении со своей плахой и палачом, а вокруг все – как и было с самого начала: ряды кресел, люди, лица, лица… И гомон, и настороженная тишина.
Румянолицый влез на трибуну с ногами и парил теперь надо всеми.
– Оглашаю! – повторил он еще торжественнее.
Палач поплевал на руки, потер их крепко-накрепко и ухватисто взялся за топор. Зал ахнул в каком-то слаженном едином порыве. Многие привстали.
– Прошу внимания! – громко и иным тоном произнес румянолицый. – Перед оглашением, товарищи, прошу поприветствовать маэстро!
Раздался робкий хлопок, другой, третий… И посыпались, посыпались – сначала не слишком уверенные, но затем все более слаженные и мощные. Зал рукоплескал. Палач с достоинством и величавостью раскланивался, прикладывал руку к сердцу. Но топора из другой не выпускал. Наконец все встали и аплодировали уже стоя. И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не прозвучал совершенно неожиданно голос ниоткуда:
– Ну хватит уже!
Бурные овации смолкли, публика с шумом и треском уселась.
И тут Антон Варфоломеевич понял кое-что. Он приподнял голову с плахи, прислушался.
– Пора кончать! – прогрохотал как никогда ранее голос ниоткуда.
И Антон Варфоломеевич не ошибся, теперь он знал точно, наверняка – это его собственный голос! Да, голос ниоткуда был его, его голосом – какие сомнения?!
Он вскочил на ноги, метнул настороженный взгляд на человека в красной рубахе. Знакомое лицо? Ха-ха! Это же было его лицо! Как он мог не узнать сразу?! И вообще – это же он сам, один к одному! Не надо даже зеркала!
Вот теперь Антон Варфоломеевич испугался по-настоящему. Это был уже не испуг, а смертный, жуткий ужас. Бросив еще один взгляд на своего двойника в красном балахоне, он взревел носорогом, пнул ногой плаху, отчего та скатилась прямо в зал, на публику, и прыгнул сверху в проход.
В два прыжка он преодолел расстояние до дверей, резким ударом сшиб с ног смуглокожего охранника с изогнутым мечом и всем телом навалился на створки. Двери не выдержали. И вместе с ними, переворачиваясь и теряя ориентацию в пространстве, леденея и одновременно покрываясь потом, Антон Варфоломеевич полетел в черную и молчаливую бездну.
Пробуждение было тяжелым. Минут двадцать Баулин не мог никак сообразить, где он находится. Лежал и смотрел в потолок. Ждал, что будет. Все тело болело, как после сильных побоев или многодневной пьянки. Голова была пуста и тяжела.
Наконец он отбросил край одеяла. Встал, ощущая легкое, но непроходящее головокружение. Он не пошел ни на кухню, ни в ванную, а как был в пижаме, так и уселся за массивный письменный стол, выдвинул боковой ящик и достал лист бумаги.
Перед глазами стояла слабая пелена. И перед тем, как вывести первую строку, Антон Варфоломеевич тщательно проморгался, погрыз кончик дорогой фирменной ручки. Потом начал:. «Директору… научно-исследовательского института… заявление. Прошу освободить меня от занимаемой долж…» Раздался телефонный звонок.
Баулин поднял трубку.
– Антоныч? – Голос зама был свеж и бодр, совсем не напоминал о вчерашней ссоре. – Ты?!
– Да вроде бы я, – промычал Баулин, подумывая, а не повесить ли трубку.
– Чего раскис?! – Зам рассмеялся грубо и громко. – Не отчаивайся, Антоныч! – просипел он сквозь смех. – Все путем! Глядишь, мы с тобой и еще протянем малость!
– Что случилось? – встрепенулся Антон Варфоломеевич, сердце учащенно, в предвестии радостной новости забилось.
– Грустная весть, Антоныч, – вполне серьезно и со скорбью в голосе проговорил зам. – Новый-то наш перенапрягся с непривычки. Ночью его на «скорой» увезли, сердчишко зашалило, может, инфаркт. Такие вот дела, Варфоломеич! Так что – не состоится запланированное мероприятие-то, мне только что звонили, проинформировали. Ты слышишь?!
Баулин онемел, он не мог произнести ни слова, издать ни звука. Это было спасение! С трудом подавив в себе нахлынувшие чувства, он все же сказал спустя минуту:
– Несчастье-то какое.
– Все под богом ходим, – согласился зам.
Про распри-ссоры и взаимные обвинения-оскорбления оба благополучно забыли. «Беда» снова объединила их. Как и подобает давнишним приятелям, они вновь готовы были делить пополам предстоящие победы, радости, успехи.
– Ну, ладно, будь! – заключил зам.
– Ага, буду, – сказал Антон Варфоломеевич. Потом добавил: – Я на часик задержусь, скажи там моим.
– Сам скажешь, – ответил зам. – Отдыхай!
В трубке раздались гудки.
Но только Баулин положил ее на рычажки, как прозвенела еще трель.
– Антон Варфоломеевич? Все отменяется! – с ходу провозгласила трубка Сашкиным голосом.
– И без тебя знаю, – начальственным тоном произнес Баулин. – Что еще?
– Все-е, – растерялся Сашка.
– Тогда привет! Да скажи там, что буду к обеду!
Самообладание полностью возвратилось к Антону Варфоломеевичу. С брезгливой гримасой на лице он сгреб ладонью бумагу, лежавшую на столе, – свое недописанное заявление, скомкал ее и бросил в корзинку.
Голова прояснилась окончательно. Тело больше не гудело и не ныло. Напротив, с каждой минутой Баулин ощущал в нем прилив сил, энергии. За окном вовсю светило утреннее, умытое солнышко. Весело щебетали птицы. И уже радостно горланили выведенные во двор на первую прогулку детсадовцы – народец простой, беззаботный и счастливый.
Вот таким беззаботным и счастливым ощутил вдруг себя Антон Варфоломеевич. Полной грудью набрал он воздуха и запел:
О да-айте, да-айте мне-е свободу-у!
Я свой позо-ор-р-р сумею искупи-и-ить!
Дальше он слов не знал и потому просто мычал – громко, с вдохновением, извлекая из себя басовые, колокольно-набатные звоны и переливы. При этом прислушивался к ним как бы со стороны – с любовью и восхищением. Что и говорить, нравилось Антону Варфоломеевичу то, как он исполняет арию, очень нравилось. Перефразируя где-то слышанное, он даже воскликнул в голос: «Ай да Баулин, ай да сукин сын!» И ударил кулаком по столу.
Вот так, с мычанием, в состоянии великого воодушевления, Антон Варфоломеевич проделал все туалетные необходимости. Затем проследовал на кухню и принялся за приготовление завтрака. В распахнутое окно била жизнь – она врывалась в квартиру с солнцем и ветерком, со всеми звуками улицы. Даже залетевшая оса жужжала весело и жизнерадостно.
Закончив готовку, Антон Варфоломеевич, расставил все на столе и включил репродуктор. Оттуда полились бравурные марши. Пока он поглощал съестное и пил кофе, смакуя каждый глоток, марши не смолкали. «Надо надеть сегодня лучший, свежий костюм и ту сорочку, что Валюша привезла из Англии, – планировал Антон Варфоломеевич. – А к вечеру откупорить бутылочку коньяка-с! Праздник так праздник!» Все в нем ликовало.
Марши сменились оглушающе звонкой песней:
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!
Антон Варфоломеевич подпевал:
Па-ра-па-пам! Па-ра-па-па-пам-пам!
И пританцовывал. В голове роились тысячи планов, как на сегодняшний день, так и на необозримое будущее. Брился Антон Варфоломеевич с особым упоением и тщательностью. Он будто заново народился на свет – юный и наполненный желаниями, нетерпеливый и упругий, как мячик. Он был готов ко всему, к любым передрягам и трудностям, невзгодам и бедам, но больше всего он был готов к взлету на новые, неведомые вершины, и ничто в этом сладостном полете не могло бы придержать его, остановить или хотя бы расстроить. Все чудесно и распрекрасно! Эх, жизнь-житуха, надо бы лучше, да некуда!
В это время сквозь звуки бесконечной песни прозвучал искаженный хрипами и расстоянием голосок:
– Вам же звонят! Чего не открываете!
Антон Варфоломеевич отложил бритву и, не отдавая себе отчета, воскликнул бодро:
– Бегу, бегу!
И направился в прихожую как и был – в пижаме, с полотенцем на шее, бодрый, веселый, напевающий.
– Кто там? – спросил он громко. А рука уже крутила замки.
– Почта, – откликнулся тоненький старушечий голосок.
– Момент!
Антон Варфоломеевич распахнул дверь, заранее широко и белозубо улыбаясь.
На пороге стоял окопник в длиннополой грязно-серой шинели с винтовкой за спиной и самокруткой в узловатой руке. Лицо у него было морщинисто и добродушно, рыжая недельная щетина делала его округлым, даже благообразным.
– Непорядок, гражданин! – произнес окопник с укоризной. Разве так делают?
У Баулина челюсть отвисла. Но в замешательстве он пребывал недолго. Резко развернувшись, Антон Варфоломеевич бросился было к дверям в спальню. Он уже коснулся почти ручки…
Но двери раскрылись сами. Из спальни вышел пожарник в робе и сверкающей, ослепительно надраенной каске. Он сразу же ухватил Антона Варфоломеевича за ворот пижамы и покачал головой:
– Сбежать, стало быть, хотел? И-эх, интеллигенция еще!
Баулин рванулся, оставил воротник в цепкой руке. Надо было спасаться! Он с разбегу ворвался в гостиную, сбив с ног каких-то двух типов, и вспрыгнул на подоконник. Следующее движение принесло боль – окно было зарешечено, и он сильно ударился о чугунные прутья. Послышался звон битого стекла, посыпались осколки.
Вцепившись руками в прутья, вжавшись всем телом в решетку, Антон Варфоломеевич стоял на подоконнике и вглядывался в то, что было за окном. Никакого солнца! Никакого лета, щебета, разноголосицы детсадовцев! Сумрачная, свинцовая пелена застила все в трех-четырех метрах. Накрапывал мелкий дождь. И пахло помойкой. Где-то внизу орала кошка, словно с нее обдирали кожу. Да каркали в отдалении вороны, не поделившие наверняка какой-нибудь тухлятины. Решетка не поддавалась.
Но Антон Варфоломеевич боялся оглянуться назад. И все рвал и рвал на себя прутья. Из-за пелены вдруг выплыла фигура Ивана Иваныча в робе и, как тогда, в зале, погрозила пальцем. «Иуда! – послышалось Баулину. – Хе-хе-хе!» Иван Иваныч пропал. И его место занял масленоглазый усач. Он был без кляпа, но по-прежнему связанный и возбужденный.
– Что дэлать, уважаэмый, – проговорил он сокрушенно, надо. Надо!
Вид у усача был совершенно безумный. Но голос его звучал твердо:
– Наука трэбуэт жэртв!
Антон Варфоломеевич обернулся.
Румянолицый, одетый в теплое твидовое пальто, с зимней кроличьей шапкой-ушанкой на голове, кивал. Человек в черной куртке и пенсне разводил руками. На выходе маячила краснорубашечная фигура. Но подойти ближе явно не решалась.
– Порядочные люди так себя не ведут, уважаемый Антон Варфоломеевич, – проговорил румянолицый и зябко поежился. Публика собралась, народ, можно сказать, все люди-то уважаемые… А вы? Даже приговора не выслушали! Да кто ж так поступает?!
– Утопить его в нужнике, и дело с концом! – донеслось из коридора.
– Не-ет, придушить контру надо!
Антон Варфоломеевич покорно спрыгнул вниз. Подошедший пожарник при помощи окопника натянул на него какое-то длинное, неудобное одеяние и крепко связал за спиною рукава. «Смирительная рубаха! – сообразил Баулин. – Уж лучше бы кандалы, как у Иван Иваныча!»
Посреди комнаты зияла огромная дыра – та самая, прорубленная окопником. Все вокруг было завалено щепками, какой-то трухой, обрывками обоев. Хлюпала вода под ногами. Со стороны коридора и ванной доносился металлический скрежет. Видно, матрос пилил-таки свои трубы!
Румянолицый достал из кармана пальто круглые часы с крышкой. Крышка откинулась, и часы, на удивление громко, будто куранты, пробили раз пять или шесть.
– Пора! – произнес румянолицый.
– Пора! – согласились с ним все остальные.
И подбежавший пожарник толкнул Антона Варфоломеевича в спину. Так, что тот полетел вниз головой в сырую и мрачную дыру. Следом попрыгали гости, если их так можно было назвать.
Дыра опять заросла паркетом. Мусор исчез. И к приходу Валентины Сергеевны в квартире образовался, как, впрочем, и было до происшествия с Баулиным, полный порядок. Решетки поспадали и растворились. Помоечный запах и карканье ворон улетучились. Кошек внизу, под окном никто не насиловал. И солнце светило ярче яркого на радость совсем разошедшейся детворе. Репродуктор радостно орал восторженную песню, повторяя ее вновь, так, чтобы никто и никогда не заимел сомнения в том, что «мы рождены, чтоб сказку сделать былью», а вовсе не для чего-то иного, непонятного.
А Антона Варфоломеевича с тех пор никто не видал. Ни на работе, ни дома, ни в Москве, ни на его даче – вообще нигде. Валентина Сергеевна немного погоревала да и зажила своей жизнью. Маленький внучок и вовсе не запомнил своего влиятельного, почти всемогущего дедушку. А дети, казалось, даже не заметили исчезновения родителя.
Правда, знакомые и подчиненные судачили и рядили еще долго. Злые языки, ссылаясь якобы на дворовых очевидцев, утверждали, что в то самое утро к дому Баулиных подъезжала санитарная машина. И что вроде бы двое здоровущих мужиков в белых халатах погрузили в нее упирающегося и беснующегося Антона Варфоломеевича, а затем увезли. Но Валентина Сергеевна, втихомолку обзвонившая все психиатрические лечебницы города и окрестностей, а также и прочие угрюмые места, нигде следов мужа не обнаружила. Ничего о нем не знали милиция и даже…
Говорили и о том, что профессора Баулина направили с особо важным заданием за границы отечества, разумеется, инкогнито. И о том, что он просто драпанул во время одной из зарубежных командировок, бросив жену и прочих родственников. Еще болтали о том, что его готовят в обстановке невероятной секретности и неизвестно где для запуска на Марс. Многие верили. А почему бы и нет! Чем не посланец Земли?!
Но большинство сходилось на том, что несчастного Антона Варфоломеевича или прирезали где-нибудь на окраине злоумышленники, позарившиеся на его импортный «дипломат» и не менее импортный костюм, или же он сам после какой-нибудь пирушки сгинул под колесами грузовика, а то и в пруду, речке.
И лишь одна старушка, сидевшая с утра до ночи на лавочке перед подъездом и имевшая как-то беседу с забредшим во двор пожилым солдатом в длинной шинели и с вечной самокруткой в зубах, верила, что Антону Варфоломеевичу сейчас хорошо, что никуда он не попал и не сгинул, никого не предал и ни от кого не сбегал и что в космос его пока запускать не собираются по той простой причине, что он далеко-далеко отсюда и вместе с тем совсем-совсем рядом, в мире, где царят справедливость и добро, где красота уже давным-давно спасла людей и победила зло. Правда, солдат смущенно чесал затылок и говорил как-то излишне твердо, будто уговаривал себя. Но старушка всему верила.
Вражина
Удар оглушил его, в глазах померкло. А самое главное, он не видел взмаха, меч обрушился на голову, будто из тучи стрела Перунова, внезапно. Оставалось читать молитву и, пока сознание брезжило и душа не отлетала от тела, готовиться к смерти. Но нет, спас конь – он отскочил на несколько саженей от страшного места, унес хозяина-седока. И этой секундной передышки хватило – Никита пришел в себя.
Он откинул личину, глотнул воздуха. Свет возвращался в очи, руки наливались прежней силой. Меч, безвольно болтавшийся на паворзне[1], вздрогнул, слившись своей рукоятью с ладонью в кольчатой перчатке, стал медленно приподниматься. Резким кивком Никита возвратил личину на место, расправил плечи.
Вражина гарцевал на вороной жилистой кобыле все там же и даже не пытался приблизиться. Поигрывая мечом, поглядывал из-под козырька блещущего на солнце шелома, не торопился. На сто саженей вокруг они оставались одни, спешить некуда умереть всегда успеется.
Не спешил и Никита. Обернувшись на миг, он увидел краем глаза, что сеча в разгаре, и тут только понял, что лишился слуха: оттуда, издалека должны были доноситься скрежет железа и глухие, но слышимые удары по живому, крики, топот, стоны, предсмертные стенания и отчаянная ругань. Но ничего этого не было, только разгоряченная кровь била в уши, виски, затылок. «Ладно, оклемаюсь, – подумал он, – выдюжу! – И еще, с ехидцей: – А ведь оплошал супротивничек, маху дал, голоменью меча хватанул, плашмя! А то б румянили меня черти на том свете, на вертеле!» Это придало Никите бодрости, он вскинулся в седле, сжал бока Рыжего ногами. Пора!
Рыжий встрепенулся, огрызнулся на седока, чуть было не хватил здоровенными зубами за колено. «Дикарь!» – Никита приложил коня рукоятью промеж ушей. Слегка, в десятину силушки. Тот сразу стал покорным, только прядающие уши говорили, что ему не очень-то хочется лезть на рожон. Острые шпоры довершили дело – конь понес мелкой рысью на противника.
Никита пытался сдержать возбуждение, оно только помеха ратной жатве. Спокойствие главное, расчет. Он внимательно наблюдал за воином на вороной кобыле. И вдруг ему показалось, что тот хочет удрать, – вон натянул поводья, вздымает плечи, головою вертит. Не тут-то было: впереди, от края до края окоема, битва не стихает, позади… А позади, Никита ясно видел, за деревцами чахлой, облезлой рощицы поблескивают копьями да рогатинами пешцы, засадный полк, свой. «Некуда тебе, дружочек, деру давать. Не уйдешь, паскудина!» Рука все крепче сжимала рукоять. «Жаль, копьецо обломилося о вражий бахтерец[2], ох как жаль!»
Из-под козырька на него пристально глядели узкие, сощуренные глаза. Кроме них, все лицо наездника было под кольчужной завесью. Копыта вороной вязли в раскисшей после дождя земле. «Ну чего ж ты? – с досадой и плохо скрываемой за ней гордыней прошептал Никита. – Боишься? Бойся, бойся – правильно делаешь». Резким движением он рванул ремешок на груди – корзно, тяжело съехав по крупу коня, съежилось на земле. «От так полегше будет, сподручнее». И он снова направил Рыжего прямо на врага.
Съехались. Никиту поразило, как оскалилась вороная, разбрызгивая по сторонам пену, – зверина. Он поднял меч, рубанул им воздух, отпрянул в сторону. Противник не поддался на хитрость. Приходилось начинать все сначала. Положив меч поперек седла, он, не суетясь, вытащил из-за спины сулицу. Промахнулся. Вторая вонзилась в середину багряно-красного щита. С третьей Никита опоздал – новый удар покачнул его в седле и… вернул слух: уши заныли от оглушительного рева-храпа-звона, ворвавшегося в них. Никита мотнул головой – цела, цела головушка! Ему стало не по себе. «Заманивает! Играет, как кошка с мышкой! Ну, поглядим, поглядим, кто у нас мышкой будет!» Хладнокровие начинало оставлять его, перед глазами замельтешило.
А незнакомец опять приплясывал на своей кобыле, месил грязь подкопытную на безопасном расстоянии.
«Да пропади я пропадом, – решил Никита, – не прохлаждаться на сечу приперся!» Сердце екнуло. «Щас поглядим, поглядим…»
Стоял на земле Русской цветень, месяц, когда разбухшие почки на деревах выпускали в свет первые нежные листочки и зеленела даль бескрайняя, готовясь встретить лето. Несла свои воды неспешная Липица, звенели над ней спозаранку пичуги, и солнце лучами щекотало молодые побеги. И шел по свету 1216 год от Рождества Христова и 6724-й от сотворения мира и нес новые радости и новые невзгоды. Чего больше, чего меньше – проживешь этот год, тогда и подсчитывать будешь, коль цел останешься, – миру давно не было.
Сошлись на Липице дня двадцать второго апреля-цветеня две силы, два войска. Сошлись испытать судьбу, порешить в сече кто из ведущих их в бой смертный больше прав имеет на великокняжеский престол. А вели рати два Всеволодовича, два брата – Юрий и Константин. Вели, чтоб мечом правду отыскать да им же межу пропахать кровавую меж собою.
За одним братом, Константином, шла вся Новгородская, Псковская, Смоленская, Торопецкая и Ростовская земля. За другим, Юрием, дружины Владимира, Переславля, Бродов, Мурома и Суздаля. Много было и прочих удальцов, присоединившихся не к одному, так к другому. От топота копыт сотрясались дороги и луга, поля и перелески. Давно Русь не видела такой тьмы ратников, собравшихся воедино.
И век бы ей этого не видеть! Второй раз за последние сорок лет становилась Липица свидетельницей лютой усобицы. Отцы рвали землю на клочья, не отстали от них и дети.
Не нам с высоты веков судить их. А сказать надо бы – было то, что было, что должно было быть. Суровы законы истории, не объедешь их на кривой, не вывезет! Время бросать камни, и время собирать их… Была пора – единилась земля общеязыкая, крепла, твердо стояла от теплого моря Русского до студеных морей. Была, да прошла. Настало времечко рассыпаться ей на крохи крохотные, обособиться, чтоб в одиночку силу набирать, матереть, развивать ремесла и искусства не только лишь в центре, повсюду, до самых краев окраинных, в каждом закуточке захолустном, чтоб, слившись потом, поразить мир мощью своей и удалью, неприступностью и гостеприимством радушным.
Но пока станет она такой – немало кровушки прольется. Каждая пядь земли напоится ею не на один локоть в глубину. Не один урожай взойдет на костях сыновей ее и недругов. И от того станет земля в сто крат дороже любой другой.
Никита старался прижать противника к рощице. Не выходило. Выходило совсем обратное – матерый всадник притирал его к сражающимся. Уже не сто саженей отделяло их от гущи побоища, а вдвое меньше, вот-вот и они вольются в ощетинившуюся копьями и мечами громаду.
Казалось, с лихвою пожил на свете Никита, четвертый десяток шел – для воина срок немалый, думал – все познал, не удивишь. АН нет, не понимал он, чего от него хочет враг, сам не наскакивает и боя не приемлет. Но не трус, нет! Кто знает, что у него на уме? Не угадаешь. Да и угадывать было не к месту, не время. Начнешь гадать-судить, глядишь, и с животом распрощаешься. Но Никиту так запросто не уложишь, он за себя постоять сумеет.
Впору было хоть бросать вражью душу да, оборотясь спиной к нему, скакать туда, в общую свалку, к своим. Не догонит, не успеет! Мешало самолюбие, гордыня, которой не усмирить проповедями ни одному священнику. А какой был молебен перед сечей! Никита вспомнил, и аж мороз под кольчугой пробежал услада, нектар неземной. И кто не верил ни в бога ни в черта – и те прослезились, душой воспылали на супостатов, пускай и единокровные они братья-русичи, а враги! Да такие, что и не бывает хуже. Своих всегда больней бьют, пускай чужие боятся. С чужими делить нечего, кроме земли, а эти против своей же веры пошли, против владыки законного, окаянились… Нет, хорошо все-таки говорил поп! Многих за живое взяло.
Неожиданно из общей массы сражавшихся вырвались двое. Оба всадника бились отчаянно, клинки их мечей скрещивались, отскакивали друг от друга, от щитов. Никита, продолжая следить за «своим», как он его уже успел окрестить, поглядывал на бьющихся. Ошибиться он не мог – один из них был брат, Семен. Никита узнал его почти сразу и по коню белому, Роське, и по шелому с еловцем, какой только его брат старший носил.
Первым порывом было броситься на выручку брательнику. «А, хрен с ним, с супротивиичком, не поспеет! Надо Сенюху спасать!» Он было пришпорил коня, но опоздал – помощи уже не требовалось. Здоровущий мужчина, может, новгородец, а может, и псковский, вдруг вытянулся над седлом, побагровел вмиг и развалился на две половины по бокам своей пегой лошадки. Обезумевшая животина понесла вскачь остатки седока к рощице, взлягивая задними ногами, расшвыривая поодаль ошметки вязкой земли. Разрубленный покорно колыхался в такт ее движениям, и трудно было различить, где у него что – голова, руки, тулово…
Семен брата не приметил. Видать, в пылу был. Не стал и добычу догонять, вернулся в гущу. Никита знал: Семен заводной, неугомонный. Крикнуть бы! Да голос в глотке застрял. А как бы они вдвоем ловко расправились с этим чужаком! Никита только зубами скрипнул. «Ништо, и один осилю!» Биться можно лишь тогда, когда веришь в себя. Потерял веру – голову потеряешь. А и спасешь случаем, в другой раз откликнется слабость твоя, аукнется смертным сипом.
А со «своим» пора было кончать. Или самому кончаться. Одно из двух. Другим оборотом не обернется, не жди.
Из одного большого Всеволодова гнезда вылетели Юрий с Константином. Завещал Всеволод стол киевский сыну Юрию. Константину Ростов достался в кормление. Но посчитал себя обиженным старший Всеволодович, подстегиваемый удельным торопецким князем Мстиславом Удалым. Порушил отцовское завещание.
За Юрия вступился Ярослав и прочие младшие братья со своими дружинами. Присылал к нему послов не единожды Константин, просил добром великое княжение уступить по старшинству своему. Выпроваживал братних людей Юрий – в силу свою уверовав, на бога удачи надеясь.
Утро лишь забрезжилось молочным рассветом, а войска Константина, перейдя топкий, заболоченный ручей Туген, встали супротив дружин Юрьевых. И не долго стояли в томлении – в самый центр рати ударили, потеснили стоявшего там во главе большого полка Ярослава. Завязалась битва. Поднял меч новгородец на владимирца, пскович на суздальца, смолянин на муромца… брат на брата, свой на своего. И не опустить уже было этот меч так, чтоб кровью не окропился. Поздно!
Никита полукругом, сжимая кольцо, подбирался к «своему». Сулиц не осталось, вся надежда была на проворный меч и крепкий щит. Да на сноровку свою, годами приобретенную.
И не остановился бы он вдруг как вкопанный, осадив Рыжего, если б не блеснуло в траве что-то. «С нами бог! – мелькнуло у него в голове. – Ну, теперь держись, друг ты мой сердешный! Заказывай, пока дух в тебе есть, панихиду. Не дождется тебя, вражина, жена твоя, да и не жена, почитай, вдова с этого вот мигу!» Он, не слезая с коня, запрокинулся набок, левой рукой уцепившись за луку седла, правой ухватил почернелое древко. Теперь у Никиты было копье. Он вслух, шепотком поблагодарил обронившего его. «Может, и в живых уже нет хозяина, а все равно выручил. Вот вернуся, свечечку поставлю за упокой души безымянной!» Однако меча в ножны не вложил, стальное лезвие покойно покачивалось на крученой коже паворзня.
Уже на скаку Никита решил – бить вороную. Промахнуться невозможно, наверняка удар придется. А падет она, добить пешца – дело плевое. Попробуй перемоги пеший конного, один на один!
Но в последний, решающий миг дрогнуло сердце, пожалело неповинную тварь божию, и он чуть вскинул острие копья. Щит противника разлетелся вдребезги, он сам качнулся в седле, выбросив вверх, будто пытаясь уцепиться за небеса, левую руку, но удержался, только плотнее прижался, приник к своей вороной.
Никита решил ковать победу, пока горяча. Он не стал отъезжать поодаль для разгона, а, круто развернувшись на месте, вздел коня на дыбы и, пользуясь тем, что противник не может достать его мечом, подкинул копье, подхватил его поудобнее и сверху обрушил всем весом кованого наконечника и своей тяжелой руки на шелом врага. Лязг металла был настолько осязаем, что Рыжего передернуло, он захрипел, оглянулся на хозяина. Никите было не до него, чуть не потеряв равновесия от вложенной в удар силы, он не сумел вовремя отдернуть громоздкое древко и сжимал теперь в руках обрубок залосненной скользкой древесины, длиной не больше двух локтей, – «свой», несмотря на чудовищный удар, искореживший весь верх его шелома, успел, изловчился – сверкнувший молнией меч отсек стальное жало.
И все же Никита ликовал. Он ясно видел – вражина выдыхается, он потрясен, а это главное, оставалось лишь довершить дело. Отбросив обломок в сторону, Никита ухватился за рукоять меча.
По лбу, щекам под личиной катил пот, попадал в глаза, мешал смотреть. Но времени утирать его не было, каждое мгновение могло стоить жизни.
Сталь мечей схлестнулась в воздухе, вплелась в общий шум битвы. «Свой» держался, да еще как держался! И если Никита часть ударов принимал на щит, тому приходилось полагаться только на узкую полоску стали в руках.
Уловив момент, Никита резко выбросил вперед лезвие меча и тут же, почти неуловимо для глаза, направил его вниз, потом на себя…
Дрогнули полки Юрьевы, не выдержали натиска конницы Мстислава Удалого. Лишь небольшими островками держались еще лучшие воины владимирских и суздальских дружин. Но участь их была предрешена.
А солнце не успело вскарабкаться и на половину своей обыденной высоты. Свежий ветер дул с Липицы. И не в силах он был охладить пыла наступающих. Кровавая бойня шла к концу.
Уже покинул поле князь Юрий с братией своей, бросив остатки рати. Уже Константин, опьяненный схваткой, торжествовал победу. Но не смолкал звон мечей над истоптанным, усеянным изрубленными телами лугом.
Полюшко покорно принимало в свое лоно багряную влагу, как и тридцать девять лет назад, когда на этом же самом месте сошлись в неистовстве лютом рати Всеволода Большое Гнездо и Мстислава Ростовского. Нет, не забыло оно того ливня кровавого – сколько лет наливались пуще прежнего на нем травы луговые!
Много было на Руси котор и распрей. Немногие из них выливались в смертные сечи. Много чаще другое было – сойдутся два войска, постоят друг против друга день, другой, а то и неделю, и – как камень с плеч – найдут князья-соискатели язык общий, договорятся, отведут косу костлявой хищницы от людей своих, не дадут детям сиротами расти, женам вдовами оставаться. Да, так было чаще.
Но было и иначе. Нехорошей памятью в историю войдет не повинная ни в чем речушка Липица. На века войдет.
…меч сверкнул своей чистотой голубоватой, не запятнался – столь скор удар был. Скор да спор – левая кисть всадника отскочила, будто ее и не было. Рыжему прямо в глаза ударила струйка крови. Он шарахнулся в сторону, запрядал ушами, по нервному длинному телу пробежала волна крупной дрожи. Никита потрепал коня по загривку, шумно выдохнул. «Все! Теперича хошь голыми руками бери, истечет весь – сам свалится». Он заметил, как побежали куда-то пешцы из рощицы, но не придал этому значения – у каждого свое дело, своя дорожка.
И еще он видел Семена, проскакавшего во весь опор мимо на вздымленном, посеревшем Роське. Глаза у Семена были безумные, шелом съехал набок, из-под него торчали выцветшей соломой длинные растрепанные волосы. Семен прокричал что-то на ходу, но Никита не расслышал – не до брательника было. Надо было кончать с противником.
А тот, обмотав плащом обрубок, крутился на напуганной, приседающей на задних ногах кобыле. И все на одном пятачке. И не пытался уже ни бежать, ни молить о пощаде. Тело его время от времени вздрагивало, голова тряслась. Но меча он не выпускал из рук и глядел из-под козырька прямо на Никиту глаза в глаза. Даже жутко становилось…
«Ну, сейчас ты у меня закрутишься, запляшешь!» Никита начинал стервенеть. Пролитая им кровь растравила его – чего ж останавливаться на полпути?! И он вонзил шпоры в бока коню.
Первые два наскока всадник сумел отразить. И хоть слабела его рука (Никита чувствовал, как он теряет силы), «свой» держался в седле. На третьей попытке Никита выбил меч у противника и сшиб его щитом наземь.
И снова промелькнула мимо фигура Семена. Оглядываться Никита не стал. Но он чувствовал, что на поле творится что-то неладное, что лучше, наверное, было бы скакать вслед за Семеном, бросить поверженного врага, ведь не представлял он для Никиты теперь никакой угрозы. Вон, лежит, и не поймешь то ли жив он, то ли мертв? Но нет, вроде бы пытается встать, приподняться.
И Никита не смог сдержать себя, не смог остановиться. Он соскочил с Рыжего и подбежал к лежащему. Ухвативши меч обеими руками, он в исступлении стал наносить удар за ударом по трепещущему, еще живому телу. Он сразу вдруг взмок весь под кольчугой, устал, запарился, но накатившая ненависть душила его. «Получай, получай, вражина! Еще! Еще тебе! За все!» На теле, уже мертвом теле, не оставалось места, не изуродованного жалом меча.
В своем безумии он не заметил остановившегося подле него Семена. Роська раздувал бока, переминался с ноги на ногу, встряхивал головой. Но Семен сидел словно изваяние, кровь отлила от его лица, глаза перескакивали с брата на лежащее искромсанное тело и обратно. Шелом он потерял, и было видно, как на восковом лбу выступала крупная прозрачная испарина. Руки, сжимавшие поводья, закостенели.
Расправившись с телом, Никита рванул застежку у ворота, обтер о плащ лежащего меч и тяжело вскарабкался на стоящего рядом Рыжего. В седле он сразу как-то поник, съежился. Сказывалась усталость Семена он заметил только тогда, когда тот подъехал почти вплотную.
Никита закинул вверх личину, отер перчаткой пот, широко улыбнулся брату.
Тот не ответил улыбкой, лицо его казалось застывшей маской. Приблизившись, Семен вскинул руку и наотмашь, в полную силу, ударил Никиту в переносицу. Никита вылетел из седла и плашмя рухнул на землю, совершенно не понимая, что происходит. Когда он поднял лицо кверху, Семена рядом не было. Но все же, сквозь заливавшую глаза кровь, Никита увидел брата саженях в десяти от себя. Ему показалось, что тот что-то ищет среди убитых.
В бессильной злобе Никита заскрипел зубами. И еще он увидал, как издалека неспешно приближается к нему отряд всадников, человек в семь-восемь. «Чужие! – промелькнуло в голове. – Эти поспеют!»
Двадцать тысяч осталось лежать на поле. Для тех времен, когда все население бескрайней, крупнейшей из всех европейских стран Руси еле дотягивало до восьми миллионов, это было совсем не мало.
Неполных два часа битвы – и двадцать тысяч трупов!
Братья-князья договорятся друг с другом. Юрий уступит старшему, Константину, отцовский великокняжеский престол, а сам уйдет в Ростов. Чтоб просидеть там не так уж и долго, до смерти брата. А потом он снова займет первое место в земле Русской. Не внакладе останутся и бояре, и воеводы, и дружина ближняя – каждому воздается по заслугам его и по умению приглянуться господину своему. Никто обделен не будет.
И только те двадцать тысяч людей останутся навечно в сырой земле подле Липицы-речки. Навсегда. А через семь лет будет Калка, а еще через тринадцать – горящие Рязань, Владимир, Суздаль, Москва, а там и Киев, Чернигов…
Семен поспел раньше тех. Он спешился за десять шагов до все еще стоящего в растерянности Никиты. В руках у него было что-то большое, тяжелое.
Приглядевшись, Никита понял, что это старый, ладно сработанный, дальнего боя самострел. Одного он не мог понять зачем сейчас самострел Семену? И почему он с коня сошел? Голова кружилась, мысли расползались. Оставалась лишь одна, та, что жить ему больше, наверное, не придется. Такое предчувствие не могло быть обманным.
Семен подошел, коротко бросил: «Иди за мной!» Не оборачиваясь, пошел к убитому. Никита следом. Надо было бежать, но он не мог – что-то внутри порвалось, будто натянутая тетива лопнула. А Семен стал на колени, сбросил с лежащего шелом, осторожно потянул на себя кольчужную завесь с лица. Поднялся.
Никита остолбенел, схватился за голову. Потом упал на колени. Перед ним лежал, пускай весь израненный, изменившийся почти до неузнаваемости, но все же он, именно он! Его отец.
Сквозь весь ужас дошедшего до него проступала разгадка так вот почему всадник не стремился вступить с ним в открытый бой, оттягивал время, уводил от общей сутолоки сечи. Он узнал его, Никиту! Но почему, почему он тогда молчал?! Мысли наскакивали одна на другую путались, но Никита судорожно искал ответа, будто надеясь тем самым повернуть время вспять, изменить все… Он забыл о своей временной глухоте, да и не в ней, видно, надо было искать причину, забыл об ослеплении злобой. Так ведь бой! Как же иначе?! Так-то оно так, но легче от этого не становилось. Никита тихохонько завыл.
Сколько же прошло – шесть? Нет, семь лет с тех пор, как они все вместе сидели в доме отчем за общей братиной. И вот она, новая встреча! Новый хмельной пир!
Кровь бросилась к вискам, застучала в них, затуманила глаза багровым маревом. Никита упал лицом в траву. Но пролежал так недолго. Голос брата вырвал его из беспамятства. Он приподнялся на коленях, развернулся всем телом к брату, поднял голову.
В свой последний миг земной жизни он видел одно – не приближавшихся, бывших почти рядом Константиновых дружинников с оголенными мечами и не тяжелое ложе медленно поднимающегося, нацеленного каленой толстой стрелой в его грудь самострела, нет, он видел только глаза брата – ледяные, мертвые. В них не было ни злобы, ни безумия, ни злорадства. В них не было ничего, кроме холода и пустоты. Никита не мог оторваться от этих глаз. И уже на краю смерти он постиг они и не видят его, они сами по себе, как и все остальное на этом жестоком и не таком уж и белом свете.
А Семен, почувствовав каким-то нечеловечьим чутьем выросшего за спиной всадника и его руку с мечом, занесенную над головой, не оборачиваясь, вздернул самострел чуть выше, на уровень лица того, кто еще недавно был его братом, и нажал пальцем на спусковой крюк.
Ловушка
Сделав шаг вперед, Артем налетел на что-то и пребольно ударился сразу и лбом и носом. Испугаться он не успел, но на секунду опешил. Выручило врожденное самообладание. Он ощупал невидимую преграду – та шла от самого пола вверх насколько хватало рук. Он даже подпрыгнул, но края не достал. Не отрывая ладоней, прошелся вправо, потом влево – конца преграде не было. Силовой барьер, решил он. И уселся прямо на пол. Слабость не покидала тела. Влип!
Все здесь было совсем не похоже на то место, где он оставил нуль-капсулу. Там были какие-то мшистые валуны, подернутый рябью песок и темные лужицы через каждые семь-восемь шагов. А тут – только гладкий пол, не земля и не камень, а именно пол, искусственное покрытие, и больше ничего. Капсулы, конечно, не было видно, хотя просматривалась, вся плоскость. Обрывки воспоминаний вертелись в голове, но складываться в целое не хотели: вот он выходит, спускается по трапу, делает первые шаги, оглядывается… какая-то пыль, гонимая ветром, проносится над головой. Нет, стоп – ветра ведь не было? А может, был? Зацепиться памяти было не за что. Две-три минуты – и все!
Артем долго просидел с закрытыми глазами, пытался сосредоточиться, отгоняя смутные тревоги. Потом встал. И снова, как в нелепом сне, – ничего вокруг, прозрачность и пустота. Лишь призрачные тени мелькают где-то вверху, то ли это все кажется. Он задрал голову. Нет, с глазами что-то, наверное, от перенапряжения. Или от удара. Потер ноющую переносицу, провел ладонью по лбу и нащупал на нем внушительную шишку. Все объяснится, главное не паниковать – спокойствие, полное спокойствие! Он подошел к барьеру и, придерживаясь левой рукой, быстро зашагал вдоль него. Сначала напевал под нос какой-то бравурный мотивчик, потом бросил, закусил губу и принялся считать шаги. На второй тысяче окончательно сбился и оставил это бесполезное занятие. Шел долго, без отдыха, почти до полного изнеможения, забыв про время и все прочее на свете. Барьер не кончался. И ориентиров, хоть умри, никаких – тот же пол и та же пустота.
Догадка пришла неожиданно, но принять ее на веру Артем не захотел, все в нем восставало против. И все-таки деваться было некуда – он расстегнул нагрудный карман, вытащил тюбик с завтрашним обедом, бросил его под ноги, засек время и опять двинулся вдоль барьера. Нет, этого просто не может быть, нервы шалят! Откуда здесь, на дикой окраине Галактики… нет! Он начинал терять самообладание, мысли путались, дыхание сбивалось. Через два с половиной часа он пришел к брошенному тюбику с другой стороны. Сомнений быть не могло это ловушка. Но почему? Кто? С какой стати, черт побери?! Ничего глупее просто не могло произойти. Ведь в каких только переделках не бывал, на краю гибели, на волоске! Но там хоть понятно было, там можно было хоть увидеть что-то, пощупать, защититься, вывернуться, убежать, наконец! Артем был близок к отчаянию, огромным усилием воли он сдерживал себя, чтобы не наброситься на преграду с кулаками, не раскричаться, как истеричная баба. Хорошо, ловушка, допустим. Но значит, должен быть и тот, кто посадил в нее, а как же иначе! Артем включил на полную мощность переговорник, вшитый в плотную ткань комбинезона у левого плеча. Сказал тихо, почти прошептал. Но оглушительный рев отозвался острой болью в голове.
– Я гуманоид!!! – прогремело многократно усиленное из динамика.
Ответа не последовало. Артем знал, что если они входят в Звездную Федерацию, то должны понять эту общую для всех фразу. А если нет? Он включил переговорник на авторежим, теперь его слова будут повторяться каждые полминуты. Через некоторое время понял – бесполезно. Стало совсем тоскливо. Кричать без передышки не было смысла – раз он в ловушке, то за ним наблюдают. Раз наблюдают, то и слышат. И если не понимают… Он вспомнил прошлогоднее решение Совета об исключении лучеметов и вообще оружия из числа необходимых для любительских путешествий вещей и тяжело вздохнул. У него не было даже перочинного ножика. А запаса пищи хватит от силы на три дня. Он снова уселся на пол, скрестив ноги, обхватил руками голову. Даже если капсула через сутки, как и положено в случае невозвращения, подаст сигнал бедствия, то где его будут искать?! И где, черт побери, сама эта нуль-капсула?! Может, в километре, а может, и… Артем не стал додумывать, где она могла быть еще, – во Вселенной места много. Оставалось только ждать.
Он вспомнил Таню, и к тоске примешалась грусть. Она не провожала его, даже не обернулась, не посмотрела в его сторону, когда уходил, только рукой махнула. И нельзя было понять, что это означает: может, «пока, до встречи!», а может, и «не мешай, иди себе!». Она была занята – выкладывала в низкой многогранной вазе композицию из полевых ромашек и каких-то серо-желтых веточек. Артем не разбирался и не вмешивался никогда. У нее были свои причуды, у него свои. Их расставания стали привычными, даже скучноватыми. Артем почти каждый вечер после работы отправлялся на два-три часа в любительский поиск. Чего он искал, сам не знал точно. На его счету было уже несколько интересных планет, пригодных для колонизации, были и другие открытия. В Обществе любителей он дважды получал дипломы, кое-что пригодилось для практического освоения… Но какое это имело значение сейчас – Таня, наверное, с ума сходит! Нет, он одернул себя, пока еще спит, а вот утром… И утром она не будет поднимать паники, мало ли что, подумает, что задерживается, так надо, ведь завтра выходной. Уж лучше бы сразу! Сообщили бы – погиб, так и так. Он не знал, как принято говорить в таких случаях, но там бы нашли слова. Так было бы гораздо лучше. А теперь ее будет давить неизвестность – неделю, год, десять лет, долго, мучительно долго. И он ничем не сможет помочь: ни сообщить о себе, ни последний сигнал подать. И дернул же черт выйти из капсулы налегке, без передатчика, без аварийного запаса! Но все, хватит распускать нюни! Артем встряхнул головой. Рано еще хоронить себя.
Он ковырнул пальцем пол и чуть не сломал ноготь. Посмотрел вверх. Тени мелькали по-прежнему, еле уловимые, не похожие даже на самые легкие облачка. Дыхание постепенно выравнивалось, его шум перестал заглушать все остальное. И тогда Артем заметил, что забыл отключить переговорник, и тот чуть слышно, на грани ультразвука, пищит. Он машинально отжал кнопку. Но тут же снова включил устройство, для проверки ведь никаких шумов и помех быть просто не должно. До отказа вывернул регулятор громкости – писк понизился до уровня комариного. Принимать его за сигналы разумного существа было бы наивно. Артем выключил переговорник – придется ждать, пока сами не соблаговолят… Однако роль пассивного, наблюдаемого, может, и вовсе никому не нужного объекта его не устраивала. А время шло.
Ничего, пускай потешатся, сейчас они выжидают, изучают, а потом сами же будут контакт наводить, никуда, миленькие, не денутся, успокаивал он себя, нечего суетиться, ведь им должно быть абсолютно ясно, что имеют дело с разумным существом! Ясно? А кому это ясно, кому «им»?! Еще часа полтора просидел в бездействии, да и о каком действии могла идти речь в такой обстановке! Однообразный, чуть помигивающий свет раздражал, а заодно намекал на то, что ни дней, ни ночей здесь нет все одинаково. Снова включил переговорник и, обращаясь неизвестно к кому, прочитал целую лекцию о том, что он мыслящий индивидуум и обращаться с ним надо соответствующим образом, соблюдая правила общения внутри Федерации. Тишина, пустота безответная. И все тот же комариный писк.
Артем вспомнил про ускоритель речи, вывернул ручку до отказа. Поиск стал прерывистым. Прислушался, но звуки, замедленные в сотню раз, все равно оставались неразборчивыми. Что-то в них было, чувствовалась какая-то система. Теперь он совершенно четко мог сказать – это речь! Членораздельная, принадлежащая существам, не лишенным разума. Несколько минут он напрягал слух, привыкал к пулеметным очередям слов.
Потом разобрал отчетливое: «Как мило, он будто живой…»
Кто живой, что еще за чушь, взбесились они, что ли! С большим трудом Артем заставил себя поверить, что речь шла о нем. Он переключил переговорник и снова заявил о себе. Повторил несколько раз, четко, стараясь говорить как можно быстрее, вслушиваясь до боли в висках. Кровь прилила к голове, тяжело стучала в затылке. «Мне кажется, что он шевелится даже…» Шевелится?! Артем вскочил на ноги и побежал. Натолкнулся на преграду, но не почувствовал боли, отскочил от нее подальше и принялся бегать по кругу. В эти минуты ему мог позавидовать профессиональный спринтер. Зато в голове прояснилось, появилась первая, пускай и небольшая, зацепочка. Все ясно, они живут в ускоренном ритме, может, в другом отсчете времени! И чтоб заметили, надо быстрее, как можно быстрее – и говорить, все время говорить! Через полчаса он выдохся, упал на спину. И долго лежал в одном положении. Тени мелькали над ним, то пропадали, то появлялись снова. Это они и есть, думал Артем, наверняка они, где-то там вверху! Переговорник, молчавший до сих пор, выдал: «Гляди, он, по-моему, чуть сдвинулся, позавчера он был левее…» Чуть? Артема захлестнуло раздражение. Он поначалу даже не обратил внимания на странное «позавчера». Сомневаться не приходилось – он для них неподвижен. А сутки здесь сменяются так быстро, что не поймешь: где вчера, где позавчера, а где послезавтра.
Артем вытащил из карманов все, что могло быть колющим, режущим, и всерьез принялся за пол. Если бы удалось на нем процарапать или нарисовать какую-нибудь геометрическую фигуру, к примеру, треугольник, его бы заметили. Но пол не поддавался. Нельзя было понять даже – пластик это или металл. Здесь не карманные безделушки, плазменный резак нужен! Да и тот взял бы или нет, неизвестно. Больше ничего на ум не приходило. Раздражение и беспокойство постепенно сменяла откровенная злость. Да что же они, на самом деле! Держат здесь, как рыбку аквариумную, как жука в спичечной коробке, хуже! Он вздрогнул от внезапной мысли. Вспомнилось: «Как мило, он будто живой…» Будто?! «Кажется, что шевелится…» Им, видите ли, кажется. Это было невероятно, но иного объяснения найти он не мог. Нет, не рыбка и даже не жук, они вообще его за животное, за простейшее животное – и то не принимают. Он для них неодушевленное что-то, цветок в вазе. Захлестнула обида. Может, и хуже того – красивый камешек, экзотическая раковина на книжной полке под стеклом! Значит, навечно, значит, не выкарабкаться! Эх, Таня, Таня…
Если верить часам, он здесь почти сутки. За это время с ума можно было сойти, и никакое самообладание не поможет! Да лучше лоб в лоб встретиться на тропе с любым чудовищем из обитаемых миров, чем в этой «вазе» пропадать, лучше сорваться с оси перехода и затеряться в ином измерении, лучше… Стоп! Артем с силой сжал лицо ладонями. Ничего не лучше! Он жив, невредим, а это главное. Все образуется, все будет в полнейшем порядке, вот так! А сейчас… Он улегся у самого края невидимого барьера, проделал серию мысленных упражнений. Потребовались огромные усилия, чтобы отключить сознание, но он добился своего, несмотря на сильнейшее болезненное возбуждение, – он заснул. Как в пропасть провалился. И не было в этой пропасти ни снов, ни желаний. Ничего в ней не было.
Проснулся через четырнадцать часов посвежевшим, с ясной головой. Долго лежал на спине, закинув руки за голову, смотрел в бесцветную прозрачную пустоту. И думал, что все это лишь продолжение сна, надо же такому привидеться, даже смешно. Память возвращалась не сразу, но она давила, требовала признать, что все это не сон, все это правда и именно с ним происходит. Артем сразу же взял себя в руки. Вчерашнего отчаяния как не бывало. Есть вход в ловушку, найдется и выход! Он включил записывающее устройство переговорника: «Как он блестит под лампой, погляди, просто чудо!» Больше разобрать ничего не удалось. Артем подошел к барьеру, с силой ударил по нему кулаком, потом пнул ногой – барьер был на месте. И воевать с ним не стоило.
Снять комбинезон, все остальное и разложить в форме какой-нибудь фигуры, буквы? Не хватит на фигуру. Разорвать на лоскуты, чтоб получилось побольше? Поди-ка попробуй разорвать термопластиковый комбинезон, быстрей сам разорвешься. Да и вообще, увидят нечто лежащее отдельно от него, примут за мусор, отходы – и выкинут из «вазы», сиди тогда голый!
Артем перебирал вариант за вариантом, но ничего путного не находил. Главное, учитывать ритм их жизни. Они видели его тысячные доли секунды, для них он был постоянно недвижим. Как тот же цветок в вазе, который за ночь может или немного распуститься, или повернуться чуть к свету, или еще чего… но для человека, любующегося им, он останется неподвижным. Переговорник, одно из сложнейших детищ человечества, способный разложить любую систематизированную речь на составные, проанализировать и дать перевод, и тот еле справлялся, не поспевал. От напряжения у Артема голова трещала. Любуются! Собственное бессилие угнетало. Нет, он не камешек, не цветок, он докажет это. Вот только как?!
Все чаще накатывали воспоминания. Даже самые отдаленные, мелкие. Как-то он подарил Тане колючку для ее букетов-композиций. Таня была очень довольна, жалела лишь, что не нарвал их больше, – она бы такое выложила, все бы от зависти поумирали! Артем сорвал колючку с огромного фиолетового куста на одной из планет Волопаса, и дня три она пролежала у него в кармане. Потом сам же наткнулся, укололся. Колючка была белая с красными точечками на концах иголочек и меняла цвет, когда ее брали в руки или клали рядом с живыми цветами. Она завяла через две недели. И ему, конечно, не то что не было жаль колючки, он про нее и думать забыл. Еще чего не хватало – думать о пустяках! Да он таких сотню наберет! А вот к цветам относился. иначе, цветы всегда вызывали в нем неопределенное, щемящее чувство, пусть и слабое, но неподдельное. Артему казалось не совсем человечным само то, что можно любоваться умиранием чего-то, хоть и бесчувственного, но все-таки живого. Ведь они же умирают, постепенно, неотвратимо, хоть ты воду лей, хоть раствор особый. А мы смотрим, восхищаемся…
Переговорник еле слышно пискнул: «Спасибо, любимый, он так долго не меняется, наверное, он вечный… надо биомассы подлить…» И снова стало тихо. Тени исчезли. А может, их и не было вовсе. Мигающий свет становился все более раздражающим, уставали глаза, опухали веки, У Артема снова упало настроение. Да, его надолго хватит, на месяц-полтора, – для них это целая вечность. А потом? Что делают с цветком, когда он засыхает? Им уже никто не любуется. Его выбрасывают.
Решение пришло неожиданно. Пропади все пропадом, но он выдержит! Артем подошел к барьеру, лег, свернувшись калачиком. Надо держаться хоть до второго пришествия, а там будь что будет. Даже у безмозглых козявок, когда их берут в руки, хватает ума прикинуться мертвыми – это природа, это самое простое и самое верное.
Пролежал он три дня. Иногда вставал, прохаживался. Когда писк стихал. В это время его не должны были видеть. Но всегда возвращался на то же место, ложился в ту же позу. На четвертый день он догадался вывернуть комбинезон наизнанку и надеть на себя в таком виде. Еды уже не оставалось, но жажды, как ни странно, он не чувствовал. Может, это и было действием той самой «биомассы», которая проскользнула как-то в разговоре «оттуда»? Артем устал гадать. Контакта не получалось, ничего не получалось! Ему становилось все безразлично. Согласиться с таким положением было трудно – и он постоянно подзуживал себя, вызывая злость. Ведь он человек, он не может смиряться, он обязан выбраться!
На двенадцатый день появились первые проблески. «Что-то он переменился, – раздалось сверху, – ты не находишь?» Артем лежал. Ничего тяжелее на свете не было. Неподвижность угнетала, сковывала волю, тело цепенело. Первые дни донимал голод, потом он прошел. Пришли слабость, вялость. Комбинезон стал болтаться на нем словно тряпка. Мысли о Тане не давали покоя. Еще через неделю он расслышал: «Совсем скучный стал, наверное…» Артем с трудом сдержался. Сердце забилось чаще.
Но барьер пропал лишь на следующий день – Артем лежал к нему впритык и потому сразу почувствовал исчезновение стены. Первой мыслью было – бежать! Бежать во все лопатки, пока нет барьера! Но приходилось сдерживать себя, не шевелиться. Он понимал, что не убежит, – ведь по сравнению с ними он просто не умел не то что бегать, даже ползать.
Прошли еще сутки. Тени снова пронеслись над головой, расплылись в призрачной пустоте. Артем почувствовал, как его приподняло, тряхнуло, понесло. Ну, наконец-то! Выбросят, а там… полдела сделано, остается еще полдела, самая трудная половина – разыскать капсулу, ведь без нее о возвращении не может быть и речи.
Но самое страшное пришло на ум последним – он вспомнил, что Таня никогда не выбрасывала засохшие цветы куда попало, они всегда отправлялись в утилизатор. Артем стал потихоньку прощаться с жизнью. Его прошибло холодным потом. Не освобождение он себе нахитрил, а смерть! Тряхнуло еще раз, да так, что он потерял сознание.
Очнулся возле капсулы. Это было невероятно, просто отдавало каким-то бредом. Если бы не вывернутый наизнанку комбинезон, сведенный голодом желудок, высохшие кисти рук, он решил бы, что все было наваждением, кошмарным сном.
Артем медленно, будто боясь подвоха, вошел в капсулу. Надо было стартовать сию же секунду, пока еще чего не случилось, немедленно! Но что-то удерживало. Артем включил запись, около часа вслушивался. Помехи, треск, писк… и всего одна разборчивая фраза: «Не ленись, отнеси его туда, где нашел, – может, ему станет лучше, может, оживет…» Артема чуть не подбросило в кресле. Да, ему лучше! Да, он ожил! Мы еще встретимся, пусть другие, пусть специалисты наши, а не он, но встреча все равно будет! Он нажал стартовую клавишу. Перед тем, как его выбросило в подпространство, успел подумать: «А ведь они лучше, чем я предполагал, они, может быть, лучше, чем мы сами».
Маленькая трагедия
Мы же, ища благ, желаем жить близ людей, исполненных достоинств.
Но много нас еще живых, и нам
Причины нет печалиться.
В жизни Кондрашева, сорокалетнего инженера из заурядного московского научно-исследовательского института, это был тот самый звездный час, который ждут долго и терпеливо, к которому готовятся так, как ни одна невеста не готовится к предстоящей свадьбе. Оглядываясь назад, за спину, сам Кондрашев не видел почти ничего сколько-нибудь приметного, выделяющегося из обыденной череды долгих дней… И вот он пришел, настал, заветный час. Из-за беспредельной равнины, плоскогорий, завесы туманов и туч показался своей сияющей вершиной желанный, недосягаемый пик. И приблизился точно в сказке, вырос всею громадой, упираясь главою в небеса… Кондрашев стоял у подножия, оставалось лишь вскарабкаться наверх, веревка ему была оттуда сброшена.
Двенадцать лет он корпел дома по вечерам и ночам – чертил, считал, сверял, писал, рвал, зачеркивал, отрекался от написанного и высчитанного, начинал заново. И никогда не терял веры – то, что забрезжило с самого начала, не давало ему ни сна, ни покоя, вело вперед и только вперед. И все по той лишь простой причине, что Кондрашев – и он сам себе отдавал полный отчет в этом – никогда не был прожектером: то, что он нащупал, тянуло если и не на Нобелевскую, так уж на пару Государственных, без всяких сомнений! И не лавров искал Кондрашев, нет, какие там лавры простому инженеру! Он всем своим житейским умом понимал, что коли прицепит телегу к тягачам рангом повыше, так они вытянут, непременно вытянут! А там и самого Кондрашева не забудут, и ему обломится, и он выдернет пускай самое бледненькое, самое невзрачненькое – и все же перышко из хвоста «птицы счастья завтрашнего дня»! Да и как могло быть иначе, ведь врут все, что нет правды на земле! Как это нет, обязательно есть, хоть немного, но есть, на его-то долюшку хватит – ведь многого и не надо, ведь он же сторицей, куда там, тысячерицей вперед все оплатил за эти двенадцать лет! Ведь как работал, ах, как он пахал, как он вкалывал, черт возьми, приближаясь каждой минутой, каждой секундочкой к коротенькой строчке в газетах – «научное открытие»! Ну да, конец – делу венец! Есть правда на земле, должна быть, да и повыше сыщется!
Вот только с открытиями стало сложнее. Если, скажем, прежде какой-нибудь местный архимед, выскочив из своей местной ванны, мог бежать со своей «эврикой» в народ, осчастливливая его немедленно, в тот самый почти что миг открытия, и радостный плебс подхватывал гения на руки и с восторженными криками нес прямиком на пьедестал под лавровым деревом, где тут же плели венки всех размеров, то теперь дела обстояли иначе. Ужасный век, ужасные сердца! Теперь помимо «эврики» надо было предъявить толстенный рулон чертежей, схем, графиков, наглядных таблиц, а также многотомный свод расчетов, обязательно размноженный по числу членов комиссии плюс еще с десяточек, на всякий случай. Да и не то чтобы народ чувствовал себя осчастливленным, вовсе нет, а и сами члены комиссии, мужи ученые, продирались к истине через весь этот ворох документации с трудом, если вообще продирались. Вот в чем закавыка! Нет, другие времена нынче, на руках к пьедесталу не понесут, дай бог пять-шесть специалистов найдется, авось поймут. Вот они-то и застолбят, они-то и помогут, они-то и подхватят, сбросят конец – и тогда в крепкой альпинистской связке, как ледорубом прорубая путь наверх его, кондрашёвским, открытием, они покорят этот сверкающий пик, и лишь небесное сияние будет наравне с ним, лишь парящие в выси горней бессмертные имена окружат их, чтобы принять в свой сонм… Но это все не сразу, это потом. А сейчас первые шажки, необходимейшие, как первые шажки младенца.
Непосредственный шеф Кондрашева по институту, начальник отдела, поддержал, благословил, направил. Правда вот, подписи своей не поставил – мало ли чего, но на будущее заверил твердо. И Кондрашев знал – не подведет, тут и сомневаться нечего, ведь тот сам подтолкнул его к главной двери, даже чуть приоткрыл ее. Дверь, мимо которой не пройдешь, которую не перепрыгнешь, под которую не подкопаешься, но которая сама распахнется перед ним, будто по волшебному слову «сезам, откройся». И была та дверца не у папы Карло в чулане, а в родном министерстве, родная дверь, родимая. Сколько Кондрашев делал, чтоб она всегда была перед ним распахнута: и отчеты оформлял самому Михаилу Максимовичу, и доклады ему писал на загляденье и заслушанье, и мелкими работенками не гнушался – служба, она и есть служба. Правда, Михаил Максимович по-прежнему смотрел сквозь Кондрашева. Но он из институтских примечать начинал лишь с начальника отдела, не ниже, а потому Кондрашев не обижался, знал – смотри, смотри себе как сквозь стекло, а все равно запомнишь, куда денешься. Ради большого дела чего уж скупиться на труды земные, обыденные!
Без малого полгода Кондрашев поил по пятницам бархатистым пивцом главспеца из управления, унылого и бесцветного Рюмина, которому по его незаметности и растворимости в толпе быть бы неуловимым разведчиком во вражьем стане. Способности Рюмина пропадали в стенах министерства. Пивцо пропадало в ненасытной утробе, не наполняя ее, не утоляя жажды. Но Кондрашев верил в Рюмина.
И вот день настал, тот самый день, когда раздался долгожданный звонок.
– Приезжай! – только и сказал Рюмин своим обычным тусклым голосом.
Но Кондрашев уже слышал и все остальное: «Шеф в отличном настроении, у себя, приемов не предвидится, мероприятий тоже – лови шанс!» Он сорвался с места, быстро вытащил из огромного шкафа свои бумаги, заранее упакованные, связанные. На бегу заскочил к начальнику, просунул лишь голову в щель дверную. Тот все понял.
– Давай, Сеня! – сказал начальник. – Ни пуха тебе! – И как-то всхлипнул даже от торжественности момента, приподнялся.
Кондрашев не стал записываться в «книгу местных командировок», чтобы не терять драгоценного времени, крикнул в пустоту, тому, до кого долетят звуки его голоса:
– Ребята, запишите, я в министерство!
И выскочил на улицу. Поймал такси.
Поднимался наверх с трепетом душевным.
Наивысшее наслаждение, а вместе с ним и напряжение он испытал не в миг озарения, не в те часы работы, когда получалось, нет, а именно теперь, поднимаясь на седьмой этаж великолепного, наисовременнейшего здания, которым остался бы доволен даже сам великий и неповторимый составитель проектов уничтожения «старой» Москвы, блистательный метр и знамя стройавангарда, создатель «машин для жилья» и гений архитектуры всех времен месье Ле Корбюзье.
С каждым шагом Кондрашев рос над собою.
Одухотворялся, наполнялся…
Перед самым носом, когда он уже был в приемной возле секретарши, его опередила неизвестно чем занимавшаяся в управлении очаровательница Наташа.
– Погоди, – кокетливо прошептала она.
И проскользнула к Михаилу Максимовичу, затворив за собою дверь.
Кондрашев не счел нужным расстраиваться. Да и не успел. Появился Рюмин с вечной сигаретой. Протянул пачку «Кента» сначала секретарше Любочке, потом Кондрашеву. И они все вместе отошли поближе к окну, чтобы не слишком окуривать помещение, – в окно, да и из него также, хорошо тянуло. Псевдокорбюзьевский монстр отличался тем, что летом в нем было нестерпимо жарко, зимой – а как иначе, не в Бразилии же, даже не в Париже – довольно-таки холодно. Но зато протягивало без всяких там кондиционеров, насквозь.
– Момент – что надо! – еще раз заверил Рюмин.
– Ага, отошел, болезный, – подтвердила Любочка – маленькая, изящненькая, точеная брюнеточка совершенно неопределяемого возраста. – А ту неделю всю пропсиховал.
– Чего так? – спросил Кондрашев, заволновавшись.
– Да и на коллегии отчитывался, и вообще нервишки трепали… много чего, – ответил Рюмин.
– Тут хохма была, – вставила Любочка. – Подсунули ему…
Было очень заметно, что она хочет поделиться этой «хохмой», прямо горит вся. Но Рюмин поглядел строго на секретаршу, и та сникла.
– Все нормалек, не волнуйся, – сказал он Кондрашеву, выбросил окурок в растворенную фрамугу, вышел, напоследок еще раз взглянув сурово на Любочку.
Та затянулась раз, другой, проговорила:
– Я сейчас вернусь, ты подожди.
И выскочила следом.
Кондрашев вздохнул, оглядывая дверь. Садиться не стал. Главное, все идет как надо, словно по маслицу. Теперь уже немного осталось.
Наташа вошла в кабинет начальника и плотно притворила за собой дверь. Она не успела повернуть головы к Михаилу Максимовичу, как последовал вопрос:
– Ну что там у вас еще?
Наташа улыбнулась, подошла ближе, чуть поигрывая бедрами, обтянутыми зеленым крупновязаным платьем, вздохнула. В зеленоватых, под цвет платья, глазах стояло умиление, на пухлых губках совсем легкая улыбка то появлялась, то пропадала. В тот час в управлении было тихо – только-только по графику кончался обед. А значит, в ближайшие полчаса никого из сотрудников в комнатах не застанешь.
– Ну?!
Михаил Максимович полулежал в кресле, уперевшись коленом в стол, медленно, с ленцой поглаживая ногу. Наташу он терпеть не мог – если бы не ее покровитель! – но никогда этого не высказывал. Да и, собственно, какое ему, большому человеку, дело до какой-то там полукурьерши-полуобщественницы, а в конечном итоге бездельницы, что служит в его «епархии»? Много чести будет – иметь к ней какое-то отношение, козявка, девчонка.
Михаил Максимович изобразил на широком мясистом лице усталость и принялся разглядывать холеные ногти.
Наташа не спешила. Она смотрела на аккуратную, густую шевелюру и успевала отмечать: темный с густой проседью, «пепельный блондин» – самый модный цвет для мужчины во все времена, в любой точке… и как раньше не обращала внимания, ведь шеф – мужик что надо, красавец.
Она предоставляла ему право начать разговор, а уж последнее слово останется за ней. Что-что, а поставить себя Наташа умела, знала – для хорошенькой женщины рангов и чинов не существует.
– Ну что вы молчите? – Лицо шефа стало не просто усталым, но и обиженно-недовольным.
Пора! Наташа подошла еще ближе, оперлась руками о стол серьги-колючки сползли с плеч и повисли на длинных нитях, задрожали.
– Я насчет отпуска, Михаил Максимыч. Деньков на пятнадцать, с понедельника.
Начальник вздохнул, оторвался от ногтей.
– Сколько раз вы в этом году были в отпуске?
Наташа томно закатила глазки, склонила голову набок.
– Не слышу.
– Ну-у… – руки оторвались от стола и изобразили что-то неопределенное.
Сама Наташа смотрела прямо в начальственные глаза и улыбалась уже откровеннее.
– Так сколько раз вы были в отпуске в этом году, я вас спрашиваю? – Михаил Максимович убрал колено, остатки расслабленности покинули его – на волевом, портретном лице появилось выражение значимости и уверенности.
– Ну два, – немного раздраженно, но не переставая улыбаться, ответила Наташа, – вы же понимаете…
– Все, разговор закончен, не мешайте работать. – Михаил Максимович выразительно указал глазами на дверь и принялся ворошить бумаги на столе.
Наташа выпрямилась.
– Ничего я вам не мешаю, не надо! Мне отпуск нужен срочно и обязательно. Ну что вам, веские причины подавать? Для чего? Вы, Михаил Максимыч…
– Выйдите из кабинета, я вам говорю, и никаких отпусков. С ума сошли – очередная коллегия на носу, а они в отпуска. Михаил Максимович осекся, подумал – не слишком ли круто он взял, надо было как-то свести к шутке, наобещать целые горы на будущее. Нет, пора девчонку приучать к порядку. – Тем более уже дважды гуляли в этом году. – Он еще немного помолчал. Застегнул пиджак, поправил галстук. – Отпуска оплачиваемые были?
Наташа молчала, барабанила длинными и тоже зеленоватыми ноготками по полированной поверхности дорогого, редкого стола, который с невероятными трудностями вырвал для Михаила Максимовича из цепких объятий одного подмосковного музейчика его подручный, и ждала. Она-то понимала, что это лишь вступление. А вот сам начальник и не догадывался – к чему может привести его несговорчивость. Зазнался, выкобенивает из себя незнамо что, думала Наташа, вроде бы слушая Михаила Максимовича, а сам занесся, забывает, что он под богом ходит, ну ничего, мы его об землю, отца родного, так приложим…
– Конечно, оплачиваемых, как же иначе. Да и не выйдет с вами иначе, ведь вы свое не упустите, вырвете! Да и не только свое. – Михаил Максимович понял, что несет лишнее, и замолк. Он со страдальческим выражением поднял глаза на Наташу. – Ну неужели вы не можете меня понять? Вы что думаете мне все позволено, все в моей власти? Ошибаетесь, дорогуша.
На всякий случай Наташа решила испробовать предпоследнее средство – лицо ее сморщилось, губы надулись, и из зеленого глаза выкатилась на щеку этакая с прозеленью слеза.
– Мне очень надо, – сказала она горестно, – очень-очень, вы даже не догадываетесь – насколько это важно.
Это было действительно важно – она уже договорилась с компанией и через два дня должна была быть в Карпатах. Но ведь этот сухарь, выскочка, жлоб, начальничек чертов не понимает! Что он вообще понимает, карьерист несчастный! Ах, как хотелось ей, чтоб и предпоследнее средство не сработало! Тогда поглядим еще, кто есть кто! Тогда по-другому запоешь сразу все позволено станет! Но пока Наташа тихо, очень умеренно, чтоб не смыть и не размазать краску, плакала – в две-три слезинки, тут же подхватываемые кончиком батистового зеленого же платочка.
Слезы возымели свое действие. Но обратное. Михаил Максимович почувствовал себя хозяином положения. Теперь, наобещав что угодно, он сможет свысока и небрежно проявить великодушие. Но не на понедельник, а на потом… А когда будет это «потом» – ему решать. Он снова откинулся на спинку, рука заняла привычное место на ноге.
– Решим мы этот вопрос, Наташенька, – медленно проговорил он, смакуя каждое слово, – доверьтесь мне. Ведь хорошо мы все вместе работаем, такой дружный коллектив, ну, не мне вам говорить, по-моему, недовольных нет!
Наташа ждала.
– Через недельку, самое большое две, в общем, после коллегии можете рассчитывать, если…
– Что «если»? – Наташа, позабыв о слезах, пошла напролом. И улыбка снова вернулась на ее хорошенькое личико с точеными, умело подчеркнутыми макияжем чертами.
– Ну что вы, в самом деле?
– С понедельника, Михаил Максимыч, со следующего понедельника, через недельку не надо. – Голос Наташи твердел.
И Михаил Максимович почувствовал – за этим напором что-то есть. Но что? Что могла она, даже при всех поддержках, при всех покровителях? Да чепуха на постном масле! Он молчал, давая понять, что разговор закончен.
И откуда у нее в руках появилась бумага, в пол-листа, с машинописным текстом? Михаил Максимович подался вперед, когда увидел свою подпись. Он узнал эту бумагу.
– Дайте мне! – сказал он жестко и требовательно, как умел говорить, когда приказывал, отметая все сомнения и вопросы, когда ни на секунду не сомневался в выполнении требуемого.
Рука с бумагой приблизилась к самому носу, потом немного вниз – так, будто Наташа послушалась и уже протягивала ему листок. И когда Михаил Максимович смог разглядеть каждую букву, убедиться, что это именно та бумага, когда он уже протянул руку, облегченно вздыхая, листок выскользнул из-под носа.
– На две недели с понедельника! – повторила Наташа.
Ну нет, теперь она не получит ничего. Михаил Максимович привстал было, тут же опустился в кресло. Нет, не получит. Но… столько можно… конец всему, это крах, в пятьдесят лет, после стольких усилий, такого невозможного, но воплотившегося труда. Нет! Нет!
Он рванулся вперед – пальцы сомкнулись в пустоте.
– Я тебя вышвырну из управления, тварь! – прошипел он еле слышно, а показалось, что проревел на все здание.
Наташа подняла руку с зажатой в ней бумагой вверх, победно потрясла ею в воздухе и улыбнулась уже как нельзя откровеннее.
– Кто кого! Пишите – с понедельника, на две недели!
– Отдай немедленно!
Михаил Максимович, заливаясь багровой, не сулящей ничего хорошего краской, перегнулся через стол – ах, как тот был велик, не достать. Наташа отступила ближе к двери.
– Пишите, пишите! – Она была уверена, что начальник полностью в ее руках.
Вместе с последним звуком, вылетевшим из ее рта, Михаил Максимович рванулся вперед что было сил – сначала в сторону, из-за стола, потом к двери. Еще миг и… Но он не учел стоявшего на пути стула, может, сгоряча, может, потому, что в глазах было пусто – ничего, кроме белого листка с его подписью. И стул сделал свое дело – падая, Михаил Максимович успел ухватиться за Наташину руку и повалил ее саму вслед за собой на ковер.
От неожиданно резкого, дикого визга он потерял слух, чувство пространства и остатки разума. Но руку не выпустил, тянул на себя. И одновременно пытался подняться, выскользнуть из этой унизительной позы. В лицо ему били оголившиеся женские колени. И визг, визг… Михаил Максимович подбирался к листку. Но не так-то просто было это сделать. Наташа отчаянно сопротивлялась. И вместо того чтобы подняться, они лишь на мгновение оторвались от пола и тут же снова упали, сцепились, покатились по ковру. Настал тот момент, когда ни тому, ни другому уже не было ни малейшего дела до соблюдения приличий – галстук сразу же уехал куда-то на спину, пиджак затрещал под мышками, посыпались с разорванной нитки разноцветные бусинки. Отнять! Не отдать! Во что бы то ни стало! Ни за что!! Никогда не думал Михаил Максимович, что женщины могут быть так сильны. Не думал он об этом и сейчас – перед ним была не женщина, перед ним был конец карьеры, его благополучия и благополучия всех его близких, конец самой жизни: ведь жизни уже не будет, будет бесконечное, мучительное падение! Ни вывернуть руку, ни притянуть ее к себе не удавалось. Михаил Максимович старался придавить бьющуюся Наташу к полу всем телом, прижать, тогда-то он доберется. И все! И все!! Но она выскальзывала, стараясь хоть на сантиметр, но с каждым движением пробиваться, проползти к двери. И, не желая того, одним из рывков своего сильного, натренированного тела Михаил Максимович помог ей в том – Наташа ударилась спиной в дверь, и они оба выкатились в приемную. Ничего пока не замечая, никого не замечая, а ведь там…
Там, в приемной, с портфелем в одной руке, свертками таблиц в другой, ничего не понимая, ошарашенный, думающий, что это он сходит с ума, что ему уже начинают мерещиться невероятные, жуткие вещи, стоял Кондрашев. Первое, что ему бросилось в глаза, это ноги, бесконечные, занимающие все пространство, так казалось, голые женские ноги. Лишь потом Кондрашев увидел и понял: ему крышка, все! Они могли вытворять что угодно, где угодно – они из одного котла, и это все, черт возьми, их дело! Но он, невольный свидетель… Ему не простят. Кондрашев отвернулся к окну.
Клубок из ног, рук, спин подкатился к нему, ударил под колени. Кондрашев упал сразу, не успев обернуться, все папки и рулоны вылетели у него из рук, рассыпались. Наташа завизжала еще истеричнее, принялась бить ногами.
– Во-о-он!!! – заревел снизу Михаил Максимович.
Кондрашев, ничего не видя перед собой, вскочил на ноги. Бросился к двери. Потом вернулся, опустился на колени и стал собирать бумаги.
В приемную вошла секретарша Любочка в банановом костюме, с ней был незапоминающийся, но вездесущий Рюмин. Двое в дверях, ползающий Кондрашев, двое – на полу в непрекращающейся борьбе.
Но именно в этот миг Михаил Максимович добрался до листка, вырвал его, комкая, сунул в карман брюк. И только после этого встал, принялся отряхиваться. Смотреть на него было невозможно – казалось, еще немного – и его хватит удар, прямо здесь, и тогда… Наташа медленно, опираясь о валики, вползала на кресло, дрожа всем телом. Она уже не визжала, но что-то упорно хотела сказать. И не могла. Кондрашев прижимался к стене.
– Все по местам, – тускло бросил Михаил Максимович, – вы что, не слышите!
Кондрашев, обходя стоящих в дверях, вышел первым. Его состояние было еще хуже, чем у измученного схваткой начальника. Но он расслышал, как Михаил Максимович, тяжело отдуваясь, сказал Любочке:
– Садитесь, печатайте: с понедельника на две недели отпуск, вот этой, сами видите, и мне на подпись, сразу же! Вы что, оглохли?!
Рюмин, проходя мимо Кондрашева, стоящего в коридоре, похлопал его по плечу и поглядел в глаза – то ли с состраданием, то ли с укоризной. Последней вышла Наташа – она победно посмотрела на Кондрашева и помахала перед его носом копией подписанного приказа. Наташа была спокойна и очень довольна собой, и об этом говорило в первую очередь то, что она снизошла до посетителя, заметила его.
Все было кончено.
От подножия блистательного пика Кондрашев летел прямо вверх тормашками в бездну, в такой провал, из которого его не вытянут и десять альпинистских связок. Разум отказывался принимать все случившееся за явь. Но это все было!
Кто угодно мог советовать, говорить что угодно и сколько влезет, но сам-то Кондрашев проработал в этом мире восемнадцать лет и потому знал, что помочь ему не сможет никто, что он может рвать волосы на голове, может биться лбом в двери, стены, требовать созыва сессии Академии наук или даже внеочередного заседания Генеральной ассамблеи ООН, может писать, жаловаться, ходить, молить, попасть в психушку, в зону, на тот свет, выть, резать вены и самосжигаться в знак протеста – ничто ему не поможет, двери этой не обойти!
Рюмин затащил его, безвольного и мрачного, в курилку у лестницы. Там уже желтела нарядом своим Любочка.
– Да ладно, плюнь, живи проще… – посыпались утешения.
Они все понимали… Но от них ничего уже не зависело.
– Так чего это вдруг? – спросил Кондрашев как-то неопределенно, пытаясь хоть немного осмыслить положение.
Рюмин нахмурился, но сказал все же, будто выдавливая:
– Да на той неделе Наташка эта, дура, от полнейшего безделья додумалась на спор бумагу одну подсунуть…
– Ага, – оживилась Любочка, чувствуя, что ее опережают, что не от нее узнают новости, – во балбесы, знают, что сам-то все подмахивает не глядя, ну и подложили в стопу, в ту, что на подпись… Ну он мне и врезал! Они ему в стол сунули потом, для хохмы, второй экземпляр! Он со страху чуть не помер прямо в кабинете, все выискивал – где первый да кто подложил!
– Ну и что там было-то? – спросил Кондрашев.
– Где, в столе? – переспросила Любочка.
– Да не в столе, в бумаге!
– А черт его знает, – проговорил Рюмин, – думаешь, эта стерва так запросто расколется?
– Он и мне-то этот второй экземпляр не показывал, перед носом тряс, а почитать не дал! – сказала Любочка, вновь встревая в разговор. – Говорят, заявление по собственному, дескать, с такой формулировочкой: в связи с полнейшей некомпетентностью и продолжительными… – Любочка прикрыла рот ладошкой, – запоями прошу уволить меня по собственному желанию!
– Да нет! – резко оборвал ее Рюмин. – Все не так. Там жалоба была, вроде бы наш на верхнего своего писал, понял? Через голову, что, дескать, развалил все, аморален, ну и в таком духе…
Любочка замахала руками:
– Да что ты, это ж ему сразу – крышка! Ведь это ж не анонимка, не-е, навряд ли бы посмели! – Она даже прижала руку к груди.
– То-то и дело, что крышка!
Кондрашев ничего не понимал.
– Короче, чего-то там подмахнул на свою шею, – заключил Рюмин, – вслепую! Но ты молчок только, лады?
– Лады, – вяло согласился Кондрашев.
– А эту дуру, – начал было Рюмин, – мы еще…
– Сам дурак старый! – выкрикнула ему в ухо неизвестно откуда появившаяся Наташа. Она была уже одета, шла к лестнице. – Чего валить-то, кто подсовывал-то?! Я сама про эту хохму только позавчера услыхала, а бумагу у корзинки Любкиной нашла, вот так!
– Ну и что там было, Наташенька? – заюлила Любочка.
Наташа на долю секунды задумалась, даже посерьезнела. А потом резко бросила в лицо Рюмину с усмешечкой ядовитой:
– А то, чтоб Наталье Петровне отпуск дали на две недельки, а вам чтоб киснуть тут, в стекляшечке, ясно?!
Она громко рассмеялась и, оттеснив Кондрашева плечом, побежала к лестнице.
Минуты две все смотрели ей вслед.
Потом Рюмин сказал:
– Да ладно, через месячишко придешь, шеф отходчивый, все забудет! Сейчас-то и мне ему на глаза неловко показываться.
Кондрашев знал, что «шеф» отнюдь не отходчивый, наоборот, на редкость злопамятный и подозрительный. Но ему не оставалось ничего иного. Надо было идти в кабинет.
Когда он распахнул дверь, Михаил Максимович сидел в кресле, блаженно улыбаясь, поглаживая прижатый к груди мятый листок бумаги. Заметив вошедшего, он испуганно дернулся, сунул листок во внутренний карман пиджака.
– Опять вы?! – спросил холодно.
Кондрашев не успел и рта раскрыть.
– Не сидится на своем рабочем месте?! – Голос Михаила Максимовича приобрел какой-то злобный оттенок, глаза сузились. – Ничего, я поговорю с вашим начальством, чтобы подтянули дисциплину, ишь разболтались! Выйдите отсюда!
– Михаил Максимович, у меня важнейшее…
– Вы меня не поняли, милейший? – На полном лице появилась спокойная, даже умиротворенная улыбка, хотя голос продолжал дрожать. – Идите, идите! И старайтесь не попадаться мне на глаза! Ну, в чем дело, провожатые нужны?!
Кондрашев в полнейшем помрачении стоял столбом, прижимая к бокам портфель и рулоны.
– Та-ак-с, понятненько, – выдавил Михаил Максимович. Он заметно нервничал, видимо, прокручивая в мозгу самые неожиданные варианты, предполагая, что от него чего-то требуют за молчание. – Поня-атненько! Говори, чего хочешь, что надо? заключил он довольно-таки фамильярно – не раскланиваться же перед очередным шантажистом.
Кондрашев ожил, вновь сверкнула перед его мысленным взором вершина. Пахнуло в лицо горними ветрами. Забрезжило сказочное сияние.
– У меня очень серьезная работа, открытие, Михаил Максимович, двенадцать лет…
Начальник недовольно поморщился, отмахнулся. Он давно не верил ни в какие «открытия». А вот прикрыть могли вполне, запросто.
– Только голову мне не морочь. Слушай, на место этой стервы хочешь, сюда к нам?
Такого поворота Кондрашев не ожидал. Не затем пришел. Хотя предложение было очень заманчивое. Но, с другой стороны, эта самая Наташа ему жизни не даст, только лишь попробуй он…
– Да, верно мыслишь, – прочитал его думы Михаил Максимович, – она нас обоих сожрет, падла. А тебя так и без подливки проглотит, опомниться не успеешь. – Он призадумался, сжав рукой синюшный подбородок. – Может, этого, спеца моего главного… как, потянешь на его должности?
Кондрашев чувствовал, что начальник не в себе. Что это он ни с того ни с сего разоткровенничался вдруг? Не к добру это. Никогда он не простит того, что есть на свете такой вот свидетель. А про обещания забудет.
– Как ты?
– У меня вот… – проговорил Кондрашев, показывая глазами на рулон. Он еще не терял надежды, слишком трудно было отказаться, так вот вдруг, ото всего.
– Выбрось эту хреновину! Тебе дело предлагают, а ты мне в нос свои прожекты суешь!
Кондрашев понял, что все бесполезно, что здесь нужно действовать лишь Наташиными методами, иное – как мертвому припарки. Но он не мог. В самом управлении никто с ним и говорить не станет, если Михаил Максимович не одобрит его идею, идти наверх – опять спустят вниз. Начальник отдела откажется ото всего, никогда не пойдет поперек воли управления. Может, повеситься прямо здесь, перед Михаилом Максимовичем, тогда его точно вышвырнут из кресла, в котором столь удобно сидеть, подмахивая все не глядя!
Бессильная злоба подкатывала к горлу.
– Давайте посмотрим только, Михаил Максимович, это же недолго, наш начальник отдела говорил с вами, от Рюмина вы знаете, это же и вам на пользу будет… – проговорил быстро Кондрашев.
– Что мне будет, я сам знаю, ты о себе думай, – резко оборвал его Михаил Максимович, наливаясь краснотой. – Говори прямо, что надо?! – Его все больше захватывали подозрения, подобного подвоха от такой мелкой рыбешки он не ожидал.
– Вот! – выкрикнул Кондрашев. – Вот!! Вот!!!
Он вытянул вперед руки с рулоном и портфелем. Потом портфель бросил на пол, начал разворачивать свои таблицы, графики. Михаил Максимович его остановил резким движением.
– А ну прекратить! Ты что тут позволяешь! – завопил он вне себя. – Это что еще!
В дверь просунулась Любочка, глаза у нее были удивленно-напуганные.
– Брысь! – заорал Михаил Максимович.
Любочка бесшумно скрылась.
Чувствовалось, что начальник сдерживает себя с большим трудом, что нервы у него уже на пределе и он вот-вот может вытолкать за дверь и самого Кондрашева. И все же Михаил Максимович искал выхода. И не понимал – какие еще козыри на руках у этого наглого типа, чего он добивается и чего от него ждать. Кругом враги!
– Уберем к черту этого Рюмина-осла, годится?! – проговорил он полушепотом. – Он давно тут не на месте. Как?
Кондрашев был на пределе. И ему не нужно было место Рюмина.
– Вы можете меня выслушать? – процедил он сквозь зубы.
– Одно из двух, – гнул свое Михаил Максимович, – или сюда, на место этого главспеца хренова, или я тебя вышвырну вообще из системы, понял? Другого предложить не могу! Я не господь бог! Ух, как вы мне все надоели, вымогатели. Дармоеды! Все подсиживают – от курьера до замов, все!
– Не надо, ничего не надо! – вновь сорвался на крик Кондрашев. – Ни-че-го!!!
Михаил Максимович позеленел, совершенно неожиданно из почти свекольно-красного он стал бледным с прозеленью – в тон платья убежавшей Наташи. Чувствовалось, что он теряет почву под ногами, что его начинает трясти от страха за свою судьбу. Этот нахальный парень должен был сломаться после первого же предложения, но он пер как танк. И это было страшно!
– Так чего же ты хочешь, не по-ни-ма-ю! – чуть ли не взмолился он, вцепившись рукою в воротник рубахи, задыхаясь. – Чего-о?
– Ничего-о! – закричал Кондрашев. – Вот!
Он поднял портфель, принялся его расстегивать.
– Брось, говори напрямую! – просипел Михаил Максимович, сползая с кресла. – Ты что, не доверяешь мне?!
Кондрашев вывалил бумаги из портфеля на стол, принялся объяснять что-то, тыча пальцем в заглавие докладной записки проекта.
Михаил Максимович отодвинул бумаги дрожащей рукой, уставился в глаза Кондрашеву, ничего не понимая, чувствуя, что тот его допечет.
– Тебе мало места главного специалиста? Мало? Ах ты!..
Кондрашев отшвырнул портфель к стене. Из него посыпалось все, что не было высыпано на стол. Происходящее походило на безумный сон, бред шизофреника.
– Это же открытие! – орал он. – Это же Государственная, как минимум! – Слюна брызгала из его рта в лицо начальнику. – Ведь взглянуть, одним глазом, ведь можно!
– Все понял! – так же в упор крикнул Михаил Максимович. Но большего, хоть убей, не могу! Ты слышишь, что тебе говорят – не мо-гу!
Кондрашев потерял контроль над собой. Он подхватил уроненный рулон и со всего маху ударил им Михаила Максимовича по голове.
– Не надо ни-че-го! – проорал он и ударил еще и еще раз. – Ничего!
Михаил Максимович пытался защищать голову руками. Но у него не получалось, Кондрашев бил и бил его тяжелым рулоном свернутых таблиц и диаграмм, сжимая конец рулона обеими руками, как какой-нибудь средневековый пес-рыцарь сжимал свой двуручный меч, вознося его над головою противника. Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю!
– Ни-че-го!!
– Плюс повышенные премии каждый квартал! – жалобно выкрикивал Михаил Максимович.
– Нет!
– Плюс по два отпуска в год!
– Не надо!
– Загранкомандировки устрою!
– Не хочу!
Удар следовал за ударом, Кондрашев потихоньку терял силы – размахивать двуручным мечом-рулоном было нелегко. Но все накипевшее вырывалось наружу, и остановиться он не мог, ничего не видя, ничего не слыша, ничего не понимая… Напоследок он навалился на стол и опрокинул его на сползшего с кресла Михаила Максимовича.
Тот выкрикнул из-под стола:
– Тогда говори прямо!
Кондрашев резко развернулся, вышел из кабинета. Рюмина, Любочку, еще кого-то из управления он не заметил, быстро прошел мимо, сбежал вниз по лестнице… Долго шел, слепо натыкаясь на прохожих, ничего не соображая, продолжая трястись – уже не от злости, а от мерзкого выматывающего бессилия. На него указывали пальцами, глазели вслед, настороженно оборачивались милиционеры и разевали рты малыши. Но он никого не видел. Пропасть, бездна, конец! Замшелый, чудовищный механизм, в котором все ни при чем, никто не виноват и никто ни за что не отвечает, в котором страх за себя превыше всего на свете и кумиром – слепое, безликое ничто, пожирающее сущее и обращающее его в пустоту и безвременье, механизм уничтожения пространства духа и мысли, бесплотный и эфемерный, недоступный отображению никакими изощренно-буйными средствами последователей ясновидящего безумца Сальвадора Дали, механизм удушающий, сокрушающий, безбрежно-безликий и бестелесно-воздушный, не воплощенный в материи, но существующий. О, тяжело пожатье каменной его десницы!
Пройдя два квартала, он совершенно неожиданно для себя заметил, что еще сжимает побелевшими руками истрепанный, разодранный рулон, который никогда ему уже не пригодится. Он бросил ненужный рулон в ближайшую урну, сунул руки глубоко в карманы и пошел дальше, постепенно умеряя шаг.
Наемник
Даброгез бросил поводья – пусть конь сам ищет дорогу, может, он окажется удачливей. Щель между домами по-прежнему оставалась пустынной. И это они называют улицами! Даброгез скривил губы. Половина города была позади, но до сих пор не попался навстречу ни один из его жителей. От смрада и духоты к горлу подкатывал комок. Хотелось избавиться от него, выплюнуть или хотя бы затолкать обратно, внутрь. Но ком распухал, забивая глотку, мешал дышать. Такого отвращения Даброгез не испытывал даже на краю света, в бесплодных и безумных сирийских пустынях, где под равнодушным жестоким солнцем разлагались горы трупов и конь не знал, куда поставить копыто… И там и здесь помогали старые Аврелиевы взгляды. Засевшие в памяти слова, крутящиеся замкнутой цепью, кольцом, без начала и конца: слава – забвение, душа – дым, жизнь война и остановка в пути; жизнь – хаос, сохраняй среди него нерушимый ум, и он тебя проведет по ней, потому что все остальное суета, слава – забвение, душа… Еще как помогали! Там, на подступах к Аравии, было тяжело, очень тяжело. Но все же там было лучше, чем здесь. А когда с моря дул западный ветер… Воспоминания прервал истошный женский визг. С хрипами, с захлебом. Он вырвался из расщелины меж мшистыми домами. Кривясь и пропадая во мраке, расщелина убегала вправо от главной улицы. На коне в ней делать было нечего. Визг перешел в прерывистый сип, но совсем не стих. «В своем городе, своих… – подумал Даброгез, брезгливо сводя губы. Он знал, что здесь нет сейчас колониальных войск, да и соседей, любителей поживиться за чужой счет, не должно быть, а впрочем… Варвары, что с них возьмешь!»
Сильно заныла левая рука, раздробленная под Равенной. Даброгез еле сдержался, чтобы не выругаться вслух. Алеман был по-бычьи силен, а дубина его, утыканная кабаньими зубами, – огромна. Рука зажила быстро, но болеть не переставала вот уже восьмой месяц. Болела так, что порой не хватало ни сил, ни терпения – хоть щит оземь! Мелькнувшая перед глазами картина – оскаленный, пенящийся рот разрубленного чуть не надвое алемана, помертвевшие, побелевшие глаза его и пальцы, судорожно отлипающие от гладкой, затертой рукояти палицы, облегчения не принесла.
Сворачивать Даброгез не стал, и вообще он чувствовал себя очень неуютно – стрелы можно было ждать отовсюду, опасность таилась за каждым домом, в каждой щели, она могла прийти с крыши, из-за угла. И когда распахнулись почти над самой головой набухшие дубовые ставни. Даброгез невольно прикрылся в щит ударила не стрела, не камень – окатило струей густой мутной жидкости. Тошнотворная вонь перебила все прочие запахи. Комок в горле рванулся наружу, вырваться не смог, только напрочь лишил дыхания. Свиньи, дикари! Рука сама собой скользнула в тулу: миг, полмига – но сулица затрепыхалась в плотной древесине, окно уже было закрыто. Свора собак, вынырнувших из темноты и неизвестности, свилась под копытами коня в дерганый, нервно взвизгивающий клубок – помоев было мало, не хватало на всех. Даброгез проехал мимо. Стучать, рваться в дом – бесполезно, что в крепость с голыми руками, да и ни к чему, наверное. Он дернул за поводья, конь пошел веселее, не обращая внимания на свору. Конь был боевой, привычный. «Молодчина, Серый, ну-у, ничего, ничего!» Даброгез похлопал его по шее, расслабился…
Лицо префекта было еще неподвижней, чем обычно. Стеклянные глаза поблескивали то ли на Даброгеза, то ли в пространство, оплывшие белые пальцы не знали покоя. «Иди и разбей этих жалких варваров, город верит в тебя!» – сказал он напыщенно и вяло, посылая на убой центурию. Префекту жить оставалось недолго, но он был готов на любые жертвы, лишь бы продлить этот остаток на час, на полчаса, может быть, на несколько минут. «Лицемер, выродок, – подумал Даброгез, но отдал честь как полагается, ничем не выказал мыслей. – Лжец. Все они лжецы! Поучились бы говорить правду у этих самых жалких варваров!» И ушел. Он был завязан в один узел с ними, в одном клубке спутан – развязать его, расплести не мог, да и не умел. Разрубить? Скорее разрубят, и в самом прямом, обыденном смысле, того, кто осмелится потянуть за веревочку, за кончик дернуть. Даброгез дорожил своей головой. Но чтобы все так кончилось?! Для чего он служил Империи пятнадцать лет?! Чтобы погибнуть в никчемном бою, от исхода которого ничего не зависит?! Для того, чтобы продлить на полчаса жизнь этой напыщенной мумии, префекта?! «Хо! Хо!! Хо-о!!!» орал громадный алеман, и в его глазах не было сомнений, он знал, за что идет в бой…
Локоть заныл так, будто кто-то маленький, но жестокий и сильный изнутри выворачивал кость. «Ну, ну, не время!» Даброгез расслабил руку, потряс ею. А щель вилась змеей, не кончалась. В нише заросшего лиловым мхом дома лоснящаяся бесшерстная собака обжирала чью-то расплывшуюся по земле тушу. Приглядевшись, Даброгез по лохмотьям определил – человечью. Он замахнулся плетью на собаку. Та не отступила, зарычала глухо и яростно. Даброгез опустил плеть. «Ладно, я пошутил. Жри, давись, паскудина, ты умнее своих драных собратьев, рвущих друг другу глотки за глоток помоев, умней!» Пес долго провожал его застывшими, остекленевшими, как у префекта, глазами.
…Алеман был дик и свиреп. На нем ходуном ходила огромная свалявшаяся медвежья шкура. Растрепанные, почти белые лохмы торчали в стороны. И никаких доспехов. Но после первых же ударов Даброгез почувствовал, что варвар либо сам был когда-то на службе Империи, либо его обучал опытный легионер. Он никак не мог понять – почему вообще так получается: одни варвары стремятся во что бы то ни стало, будто ничего важнее для них нет, погубить Империю, разорвать ее в клочья, растоптать, другие – отчаянно, с почти таким же рвением защищают, почему?! А сами подданные Империи, коренные и чистокровные римляне, потомки Рома и Ремула, они-то где?! Подданные, на вершок возвышающиеся над плебеями, грызлись за каждое местечко под солнцем, за самый малюсенький трончик с таким остервенением, с такой изворотливостью – куда там жалкой своре с ее добром из ведра. Подданным было не до Империи. Рушилось, разваливалось на куски то, что создавалось целое тысячелетие, а может, и того больше. У Даброгеза были глаза, он все видел, но объяснить происходящее было выше его сил. «Хлеба, зрелищ!!!» – по привычке многоголосно вопил народ. Но среди этих воплей можно было разобрать и сиплые, пропитые голоса, и голоса свежие, редкие: «Скорей бы уж варвары нагрянули, все лучше, чем это…» И варвары пришли. А может, они пришли не в один день, не нагрянули – и тень наползает не сразу? Может, начали приходить с того момента, когда первый римский легионер переступил границы Империи, да и не Империи, а просто страны своей, и шагнул на север, на запад?.. Даброгез не разбирал законов природы, не разбирал и законов людских, он просто знал – на всякий напор будет и отпор, на силу сила найдется. Сила навалилась в обличий варваров, разноязыких, разноплеменных, непонятным образом сумевших объединиться… Алеман дважды задел Даброгеза, и оба раза вскользь: разорвал кольчугу у плеча, помял панцирь. Тяжеленная палица взлетала с легкостью оливковой ветви, опускалась неостановимой убийцей, ее нельзя было отразить, от нее можно только увернуться. Но с каждым разом сделать это становилось все трудней: Даброгез дрожал от немыслимого, почти предсмертного напряжения, переходящего в острый, сковывающий тело ужас; хрипел под ним Серый, вздрагивал нервно, косил назад налитым, кровавым глазом. А палица все взлетала и обрушивалась чуть не с самого поднебесья – алеман на своем гнедом дикаре был почти на две головы выше Даброгеза – не было ни конца, ни начала, единая, какая-то сверхъестественная исполинская круговерть. И даже после того, как Даброгез по рукоять воткнул свой меч выверенным, неотразимым приемом под ребра алеману, прямо сквозь всклокоченный медвежий мех, и его вдруг откинуло вместе с конем назад, и он чуть не вывернул себе руку, выдирая оружие из развороченных мышц, но все-таки успел рубануть еще, сверху, наискось, через ключицу, вкладывая всего себя, все остатки сил в этот последний удар и заодно прощаясь с жизнью, зная, что больше его не хватит ни на единое самое легкое движение, даже после всего этого палица не выскользнула из руки алемана – это был удар из царства теней. Боли не было, онемела сразу вся рука, потом тело, Даброгеза повело назад, и лишь дернувшийся одновременно Серый, подавшийся от испуга вспять, вернул ему равновесие… Алеман медленно сползал с гнедого, заливая его кровью, а рука будто еще жила, не хотела расставаться с палицей, пальцы разжимались судорожно, неохотно, белые, закатившиеся глаза сверлили белками Даброгеза.
Долго еще помниться тому удару, долго, может и до самого конца, до тех пор, пока будет удаваться водить за нос подлую судьбу-ромейку. Правда, не верил он в судьбу, как и сородичи его. Но ромеи верили, может, правы-то были они? Во всяком случае, с ними она заодно, против…
– Стой, приехал!
Даброгез плохо понимал язык франков, но этот оклик он понял. Незаметным движением вытащил меч из ножен, положил поперек седла. «Гляди-ка, уже и сюда добрались, в галлийскую провинцию. Бывшую провинцию, – усмехнулся мысленно, – быстренько же!»
– Кому говорю, оглох?! Слазий давай!
Даброгез привстал в стременах. Ничего не было видно. Голос долетал спереди, но дробился в закоулках – непонятно было: из какого именно он раздавался. «Хозяевами себя чувствуют!»
– Я центурион великой Римской Империи! – выкрикнул Даброгез на латыни.
– Империи? Центурион? Ха-ха-ха! – Из расщелины справа выскочила звероподобная фигура с арбалетом в руках. – Где она, твоя Империя, центурион?!
Даброгез заметил, что франк жмется к домам, боится выйти на середину улицы.
– Империя везде! – раздраженно процедил он. И тут же передернулся от собственных слов – в них ожил распятый варварами префект… Даброгез видел, как казнили чиновника, он стоял в двадцати шагах от позорного столба. И стоял не в толпе рабов, не в куче пленных, стоял сам по себе – алеманы отпустили его сразу же после боя. Тогда Даброгез не чувствовал боли в перебитой руке, он чувствовал боль в груди – нужно было в поле умереть! Почему они его отпустили, ведь он оборвал жизни не меньше десятка алеманов, и всего-то за несколько, как показалось, мгновений битвы? Почему?! Вождь подошел к нему сам, сказал не по-латыни, не на германском своем тарабарском наречии, сказал на родном языке Даброгеза, громко вскрикивая в конце слов, непривычно, но вполне понятно: «Ты тоже варвар, – скривил губы в усмешке, будто смакуя это ромейское словечко, прилепленное к ним ко всем, таким разным, но вышедшим невесть когда из одного-таки гнезда, ты тоже варвар, зачем служил им?!» Даброгез, напрягая плечи стянутые сыромятными ремнями, от которых несло псиной, выкрикнул в лицо вождю: «Я свободный человек, я сам выбираю место в жизни!» Обида, злость, отчаянье и страх. Да, страх перед неизбежной и мучительной смертью – голову обручем стиснуло. Вождь снова скривился. «Свободный? Ну что ж, иди ищи свое место!» Он кивнул стоящим по бокам пленника стражам: «Развяжите». Даброгез не решился спросить, откуда алеман знает его язык. Он побрел к городу, чувствуя лопатками холодное острие копья. Но копье не притрагивалось к коже. Жизнь – война, жизнь – хаос. Одного из своих дружинников встретил тут же в городе, у столба, на котором извивался потерявший надменность и величие префект. И варвары не на одно лицо, разные…
– Империя заложила ваш жалкий городишко, – сказал он помягче. – Здесь была хорошая крепость, здесь не было грязи и запущения.
Франк раззявил пасть. И пусть доходило до него не сразу, пусть он мешал все известные языки, но говорил бойко.
– Была, да сплыла! Не помню, центурион, сколько живу столько стоит, и все наш. А ну, проваливай!
Даброгез понял, что франк не разбойник – тот не стал бы гнать, наоборот, сзади парочку своих бы завел, чтоб не ушла добыча, да и вообще болтать бы не стал – чего время попусту тратить?! Он оглянулся – позади никого не было. Ни души, кроме собаки с глазами префекта. Собака не обращала внимания на людей: у нее было свое дело, к тому же живые ее не интересовали.
Даброгез и не заметил, когда к франку прибавились еще трое. Новенькие были пожиже. Но теперь они не жались к стенам, перегораживали весь проезд. На них были железные шлемы и толстые, свиной кожи нагрудники. В руках застыли рожнами вперед алебарды.
– Никакой он не центурион! – крикнул длинный, худой, с проваленными щеками. – Те рожи скоблят, а у этого до глаз волосья!
На память снова пришел вождь алеманов – тот тоже не признал в нем римлянина, хотя тогда Даброгез брил лицо.
– Молчи, выродок! – сорвалось с губ.
Тощий побелел, затрясся.
– Ах ты! А ну бери его в копье, ребята!
Алебарды угрожающе качнулись, стали приближаться. Даброгез пожалел, что оставил дружину в овраге за городом. Ну да теперь поздно!
Главным оказался не тот с арбалетом, а тощий.
Даброгез приподнял коня на дыбы.
– Стой! Если вы стража, остановитесь! Я по государственному, важному делу!
Не зря же, в конце концов, он восемь месяцев скитался по провинциям Империи – из Генуи в Массилию, из Виенны в Лугдун, пока не добрался до здешних краев. Правда, варвары перекрестили городишко по-своему, но название пока не прижилось. Или он не туда попал?! «Иди – ищи свое место!» – звучало в ушах. Даброгез не хотел признаваться себе, но тогда, под Равенной, он ждал, что вождь позовет его в свою дружину, пускай простым воином, пусть. Но тот не позвал.
– Не верь ему, все римляне лживы!
– Сам же говорил, будто не ромей он?
Меж стражниками возникла короткая перепалка.
Воспользовавшись ею, Даброгез продвинулся вперед еще на три шага.
– Куда?!
Арбалет взлетел вверх, и тяжеленная, целиком железная стрела раздробила щит, оставила вмятину в наруче, причинив Даброгезу жесточайшие страдания – руку словно в расплавленное олово окунули, в глазах поплыли мутные видения сирийских пустынь. Даброгез стряхнул оцепенение, мгновения не прошло. Все! Обломки щита остались позади, в грязи. Меч врос в руку, налился силой. Двоих он смял сразу же, конем смял. Третьему, главному, пришлось отведать стали – длинные тонкие ноги сделали машинально три шага, тело скрючилось, привалилось к пористой серой стене, а голова осталась на месте, лишь опустилась на четыре локтя ниже, под ноги арбалетчику. Даброгез знал: если тот заголосит, сбегутся остальные, в том случае, конечно, если они вообще здесь есть и не перепились – организация охраны этих провинциальных городков-деревень была хорошо знакома ему.
– Пощади! – просипел под занесенным мечом франк.
Даброгез опустил руку – зачем лишняя кровь? Хотя если подумать, то тот, к кому он сюда приехал, сумел бы по достоинству ее оценить, и чем больше было бы пролито, тем выше была бы оценка – кто из властителей жалеет свою стражу, своих людишек?! Только не по нутру это было Даброгезу. «Старею, подумал он, – пора бы восвояси». И содрогнулся от этой мысли.
Сбитые наземь стражники оправились и потихоньку подбирались к оброненным алебардам. Лица их были заляпаны черной жижей. Даброгез погрозил рукоятью меча.
– Зачем вы здесь? – спросил у арбалетчика.
Тот часто заморгал, осклабился.
– Платят хорошо.
– Теперь заплатят сполна. – Даброгез кивнул на безголового у стены.
Франк угодливо захихикал, но лицо его было напуганным.
– Уравняли длинного, в самый раз, на башку его пустую, прошипел из лужи один стражник, выжимая в кулак намокшую бороду.
И тут франк как проснулся – глаза загорелись, руки дрогнули, пальцы скрючились. Забыв про свой арбалет, он бросился к убитому и в секунду срезал с пояса черный кожаный мешочек. Рука сунулась, было к вороту, чтобы пустить кошель за пазуху, но остановилась. Франк исподлобья глянул на Даброгеза. Расставаться с добычей ему не хотелось, он даже сделал небольшой шажок к брошенному арбалету, но замер и весь как-то сжался, напрягся. Даброгезу показалось, что франк сейчас зарычит навроде той собаки в нише. Он качнул головой.
– А нам, как же это? – засуетились вставшие стражники. Драться при центурионе они не решались – тот все еще не выпускал меча.
– Делись с товарищами, что же ты?! – медленно проговорил Даброгез.
Франк нехотя развязал мешочек, сунул внутрь два пальца лицо его исказилось, нижняя губа отвисла.
– Вынай, чего тянешь! – торопили остальные.
Франк высыпал на широченную, как седло, ладонь с десяток железных наконечников стрел. «А ведь могли перебить друг друга за это железо, – подумал Даброгез, – надеялись, что начальник-то богат, успел натягать, да, видно, в другом месте хранил, с собой не таскал. Впрочем, и железо сейчас недешево». Наконечники разделили. Одежду и доспехи с убитого сняли. Тело отволокли за угол. Туда же франк пинком отправил и голову. «Вот и все! Кто тут судьба… он? А может, я? А может, и впрямь, сверху кто-то? Так не сверху же его под меч подпихнули, сам вылез – поди разберись!» Из темноты щели сверкнули знакомым стеклянным блеском глаза то ли пса-трупоеда, то ли префекта. Ком в горле вырос. И что было хуже ком этот или дергающая, рваная боль в руке, Даброгез не знал. Пока что все было плохо, хуже некуда. Он прекрасно понимал, что если и на этот раз вернется с пустыми руками, дружина за ним больше не пойдет – кому нужны неудачники. Даброгез тяжело вздохнул, склонил голову. А ведь прежде счастье не оставляло его. Из дома ушел с обломком прадедовского меча – не меч, засапожник. Князь усмехнулся, слова не сказал – по дороге, дескать, сам отстанет, мальчишка! А он не отстал. И князя пережил. Гудят над пеплом княжеским желтые сыпучие пески, перекатываются. Тепло ему в могиле на чужой земле под отвесными жгучими лучами, ой тепло! Даброгез не держал на князя зла, да и тот его не прижимал, покуда жив был. А позже родич княжий, занявший место во главе дружины, глядел недобро, но называл по-старому, по-родному – Доброгостем. Да только привык уже юный вой к ромейскому переиначенью, к Даброгезу, в столице звали и по-другому, Даброзием, этого имени не принимал – а какая разница, ведь не гостем добрым пришел в Империю, не за имя меч свой продавал… Княжий родич – сам князь, одно древо. А когда и тому пришел черед, Даброгез заступил надо всеми. Да только князем не стал, князем надо родиться. Так что это – судьба, удача? Было время – искал ответа в книгах, Цицероновы трактаты о богах, о судьбе и предопределении читал, не оторвать, да прошло то далеко оно от жизни было, жизнь не бумага с письменами мудрыми. А что же? А кто знает, может, и впрямь – хаос, война и временная, короткая остановка в пути, чтобы оглядеться, осмыслиться. Чтение расслабляло, уверенность вытягивало из жил – Даброгез его вовремя бросил – не философ он, воин. Ромеям все одно – кто, лишь бы дело знал – какая разница, в чьи руки монеты сыпать, лишь бы руки эти на тебя работали, а голова бы им не мешала. Вот и вынесло наверх, невысоко, но все ж таки повыше других. Молодой был Даброгез, удачливый, беззаботный, а латынь, греческий одолел, из восточных понемногу взял, в мыслях стал заноситься, в столпы попасть возмечтал а что, и до него сородичи легионы водили, в советниках состояли, чем он хуже! Для виду веру новую принял – как платье сменил, а скорее, новое на старое натянул. Хотя вера та и для коренных ромеев внове была… Только вот где коренные, где пришлые? Глядел Даброгез на океан людской – Вавилон, сорок сороков языков и племен. Да что там племена да языки, в императоры чаще из варваров подымались, вот уж лет двести с лишком как. Непонятно это было, но ведь было же! А коли так… мечтать-то не возбранялось, особенно если язык за зубами. Пусть и не признавал судьбы Даброгез, а она, видно, сильнее была его признаний. И не вздымалась Империя в своем могуществе, как молодой душе жаждалось, а корчилась в судорогах, билась в корчах и смертной истомой исходила. Не хотел видеть этого Даброгез, до поры до времени не хотел. Дело свое ценил, был строг к воям, малостей не прощал – оттого из дружины и осталась центурия, а при старом-то князе – пять сотен отборных бойцов было. Часто думал о том Даброгез. Князю места на отчей земле недостало – братьев-дядьев многовато, это понятно. А вот чего он сам искал вдали от дома отцовского, дедовского? Подвигов искал, славы, добычи, чтоб вернуться – нате вот, вон я какой! А слава – забвение, тлен. Что искал, позабыл о том за годы. Многие уходили, кого-то сам гнал. Возвращались редко, большей частью вступали в другие дружины: и к венедам, и к свевам, и к франкам, и к своим тоже; кто-то шел к федертам на границу, кто-то оседал на землях далеких, в колониях заодно с прочими легионерами-стариками. Уходили и для боев, запрещенных властью и церковью, более строгой, чем власть, в гладиаторы: где-то на окраинах ойкумены еще лилась по аренам кровь, несли жертвы старым кумирам, веселым и кровожадным, беспутным и алчным. Теперь Даброгез жалел о каждом, куда бы тот ни подался: люди, дружина – с ними все, без них и золоту цены нет, отберет, кто посильнее!
Он смотрел на бревнообразные ручищи франка, пытался уловить взгляд. Не удавалось – глубоко посаженные, крохотные глазки редко высвечивались под густой щетиной бровей.
– Так похож я на центуриона или нет?! – спросил Даброгез, наклоняя лицо к франку.
Тот утвердительно затряс головою.
– Похож, похож, господин, как это я сразу-то оплошал?! Как есть – центурион!
Даброгезу стало противно – докатился, напрашивается на лесть. У кого? У варвара-наемника, худшего из варваров. «А сам, сам-то не наемник, что ли?!» – ослепило тут же. Нет! Он воин, он не выпрыгивал никогда из-за угла с арбалетом, он не давил слабых и беззащитных. В глазах колыхнулись сирийские пески. И отступили. Нет, он не варвар, не дикарь! Его народ – не грязные франки-убийцы, не алеманы в драных шкурах. А сам он… Он постиг за эти пятнадцать лет искусства Империи, многовековую культуру, слагал вирши, угадывал в пестроте звездного неба силуэты древних богов и героев, он возил за собой книги, свитки… Да, он силен и свиреп, беда вставшему на пути, но он и образован, утончен. Даброгез усмехнулся книги сгорели там, в Бургундии. Слава Всевышнему, сам ускользнул от таких же утонченных и образованных, от ромеев, прислуживавших в Лугдуне ожиревшему развратному невежде, не постигшему ни чтения, ни письма, ни счета. Под невеждой был трон – только и всего! И никого не волновало, что льстящие, ползающие червями во прахе его ног бывшие наместники бывших римских провинций наизусть знали Вергилия и могли бы поспорить с Платоном, выйди тот из мрачного Аида. И сам хорош пытался встать в их ряды. Да оказалось, что и без него тесно. Мельчайшие королевства варваров, только-только народившиеся в колониальных землях и в самом центре, всосали в себя из метрополии почти всю знать, всех образованных и утонченных. Где Рим, где Равенна, где болота Британики?! Все перемешалось.
– Это хорошо, что ты такой понятливый! – Даброгез перекинул ногу через седло и сидел теперь на Сером развалясь, будто на ложе, глядел мимо франк?.. Они прекрасно понимали друг друга на той нелеп смеси латыни и варварских наречий, что ходила по всей бескрайней бывшей Империи. Да и не философские трактаты им обсуждать, куда там! Даброгез прихлопнул себя по бедру, рассмеялся нелепой мысли. – Рекс в городе?
Франк рухнул на колени, челюсть у него отвисла.
– Да ты, небось, короля и в глаза не видывал?
– Нету его, нету, – заторопился франк. Остальные молчали, боялись глаза поднять. – Сигулий за него.
– Кто такой? – Даброгез поморщился: с королями дело иметь верней, чем с их лизоблюдами.
– Да он, того, войском он заправляет, главный…
«Это еще ничего, – подумал Даброгез, – хотя какое там войско – сотни три-четыре оборванцев. Но тем лучше! И это прекрасно, что основные силы варваров громят сейчас юг, им там дел надолго хватит, пока последние клочки Империи не втопчут в пыль, не успокоятся. Ну да ладно, нет Империи, нет и центуриона имперского, прав все-таки, негодяй!»
– Тогда веди к этому Сибудию.
– Сигулий, – робко поправил франк и затряс головой, – не могу, никак нельзя.
– Веди, выродок, к начальнику стражи.
Франк засуетился. И только теперь Даброгез поймал бегающий, недоверчивый взгляд. Это был взгляд животного.
– И не бойся, – проговорил тихо, – веди.
Засосало под ложечкой, и он вспомнил, что дружина перед самым его отъездом в город начала свежевать заколотого по дороге кабанчика. Во рту скопилась слюна. Но комок в горле напомнил о себе, не дал воображению разыграться. Даброгез сплюнул на сторону, провел мелкокольчатой перчаткой по бороде. Ах, какие были пиршества в Равенне. А в Тире, в Пальмире! Да что там вспоминать! И как они вообще могут питаться здесь, в этой богом забытой дыре, как тут жить-то можно?! Даброгез вскинулся в седле. Можно, везде можно.
– Поживей, мужлан! – прикрикнул он.
И франк затрусил впереди, оглядываясь ежесекундно. Грубый самодельный арбалет подпрыгивал на его плече. Трое других rope-стражников прихрамывали позади, точа за собой длинные алебарды, которыми так и не научились толком пользоваться.
Иди – ищи свое место! Легко сказать. Лугдун был не худшим из мест, вернее, не худшей из попыток найти место. Нанятые убийцы подкрались ночью. Наверняка считали, что центурион спать ложится, будто римская знать, в доме с верными слугами, за семью запорами. Ошиблись. Запоров не было. Дружинники вырезали подкравшихся молча – ведь и те молчали. А наутро, полукольцом припирая к единственной каменной стене в городишке, стояла охрана, местные преторианцы. Эти тоже молчали, тряслись. Но Даброгез тогда понял – убираться надо немедленно. Вечером, на приемном пиру римлянин, бывший патриций, улыбался ему, и от улыбки той становилось приторно. Как не отравили, Бог весть! Часом позже тяжелый бронзовый кинжал, отмахнув клок волос, пробил череп стоявшей позади лошади. Лошадь смотрела ошалелым лиловым глазом. Ноги ее дрогнули, потом еще, потом храп… Ничего, ушли. В Массилии было хуже, там уцелело только четверо. Но его, как дурное перекати-поле, гнало по земле горячим ветром непрекращающихся войн. И никакой остановки в пути, ложь все это, сказки! А в глазах миражи, переливы расплавленного тягучего воздуха, в ушах тонкий змеиный посвист ветра в песках: далекая юго-восточная окраина, где можно всю жизнь таять под солнцем, покачиваясь из стороны в сторону в такт тихой музыке. И никуда не спешить. Там центр земли, там пустота и никаких желаний.
– Еще малость, почти дотопали, – бубнил снизу франк. От него несло пивом и падалью.
«Интересно, чем от меня несет – второй месяц лишь пригоршню воды в лицо да пригоршню в рот? – подумалось Даброгезу. Но расстраиваться он не стал: – Пустяки, в таких доспехах – чем бы ни несло!» Он погладил ладонью сияющее золоченое зерцало с грифоном на груди, откинул с колена полу черного бархатного плаща. И здесь был, и не здесь. У-у-у-а-а ныл в висках сирийский поющий песок – а-а-у. И шли чередой люди… нет, разве у людей бывают пустые глаза, пустые лица? И шаг их был неестественно легок, пружинист, и видно было ноги не чувствуют тяжести тел. Даброгез тряхнул головой, с силой провел ладонью по лицу – кожа от прикосновений чешуйчатого металла, нашитого на перчатку, запылала. Хватит, сколько же все одно и то же?! Он снял с пояса маленькую фляжку, изукрашенную тончайшей золотой наводкой, с полминуты любовался филигранной работой, потом сделал глоток. Снадобье всегда помогало. Помогло и сейчас – воспоминания уплыли. Лишь одно на недолгий миг всколыхнуло мозг: отпустил бы его вождь алеманов, коли б знал, что у него далеко за городом, в развалинах языческого храма у рощицы, кое-что припрятано? «Отпустил бы, – решил Даброгез, – а вот его молодцы – так те навряд ли! Эхе-хе, иди и ищи, надо же!»
Город стал непригляднее, меньше несло всякой дрянью. В центре многое напомнило Даброгезу обычные римские постройки, изуродованные, конечно, по вкусу местных владельцев, но узнаваемые. Здесь угадывался бывший форпост Империи, а затем и просто одно из мирных провинциальных поселений, оставшихся глубоко в тылу, мирных по сравнению с другими, теми, что к западу и востоку.
Под копытами Серого застучала привычная каменная мостовая. «Видать, немало покружил по посаду! – посмеивался про себя Даброгез. Строго глядел на раболепствующего франка: – И этот тоже, кружит, обходами ведет, паскудник, городишко-то плевый – за полдня кругом десять раз объедешь!» Сопровождавшие позади стражники выдохлись вконец.
– Я мигом! – залебезил франк перед неширокими дубовыми воротами с уродливыми башенками по бокам.
Уже из-за стены донеслось: «Вот, задержал тут одного, насилу приволок, гада. – Голос франка звучал утробно и нагло. – А еще говорит, дело у него…» Рука сжала рукоять. «Подонок и есть подонок», – подумалось безразлично. Вся эта суета начинала утомлять Даброгеза. Он принялся разглядывать ворота, стены. Над дубовыми створками в стене громоздился грубо выложенный из камня крест. А по краям у башенок сидели восточными истуканами на скрещенных ногах два темных языческих идола. «Эти от галлов остались, – смекнул Даброгез. – Ну франки, ну христиане, все перемешали в одну кучу!» Из голов идолов росли ветвистые, как у оленей, но каменные и потому не такие изящные рога. Идолам на вид было лет по тысяче, не меньше.
Наконец ворота распахнулись. И Даброгеза перестало интересовать окружающее, теперь надо быть начеку. Пришлось спешиться.
Сигулий сидел в зале и вид имел воистину королевский напыщенный и дикий. Тем удивительнее показался Даброгезу ответ, прозвучавший на латыни. Он лишний раз утвердился в догадке, что такой вид здесь правило: раз власть в твоих руках в этот миг – пыжься сколько сил хватает, а то не поймут, не оценят, чего дай еще и скинут!
Временщик был невысок, лыс, багроволиц. Глаза скользили по богатым доспехам Даброгеза высокомерно, но настороженно. «Примеривает на себя, – мелькнуло в голове, – да тебе шлем мой что ведро цыпленку, сморчок, а под панцирем троим таким тесно не будет!» Приветливая сдержанная улыбка не сходила с губ – Даброгез знал этикет и на варварском уровне.
– Нет ничего скромнее моего дара, и все же прошу его принять!
Короб с драгоценными побрякушками по знаку Сигулия подхватил слуга, поставил перед троном, откинул крышку. Сигулий оказался умнее, чем предполагал Даброгез. Он не бросился к каменьям, не стал их пересыпать с руки на руку, судорожно высчитывая, сколько на это можно купить. Нет, он почти не взглянул на короб, тускло выразил благодарность.
– Как здоровье несравненного и могучего полководца? – поинтересовался Даброгез.
– Бог милует, – отозвался несравненный.
– А-а?..
– Плохо, очень плохо, – не дослушав, скорбным голосом пропел Сигулий, лицо его оживилось, – Рекс слаб. Но уповаем на господа.
Он воздел руки к потолку, нависшему закопченными черными сводами, закатил глаза. «Вот ты и попался, сморчок, – полегчало на душе у Даброгеза, теперь он не сомневался, кто здесь властитель, – слава Роду, Христу, Юпитеру и всем прочим! Нет нужды скакать через головы!» Он стал еще приторней: расточал комплименты и не торопился, знал, что когда придет время, этот узурпатор Сигулий сам задаст вопрос.
«Но кто же он все-таки, галл? Не похоже. Не франк, это точно. Может, потомок римских легионеров, заседавших здесь не меньше трех сотен лет подряд?» В сущности, Даброгезу было на это наплевать.
– Что привело столь сиятельного всадника в наши края? спросил наконец Сигулий, и его лиловый нос опустился книзу, навис над рыжеватой щетиной, глаза застыли.
«Префект, снова префект, тот же взгляд! – Даброгез пожалел, что слишком мало хлебнул снадобья, память опять начинала мучить. – Всех, всех их распинать, прав был вождь алеманов!»
– Исключительно желание быть одним из ничтожных слуг владыки могущественного и просвещенного! – Даброгезу стало противно от выдавленной лести, но без нее нельзя, не поймут, не оценят. «Мозгляк, владыка червей и мокриц!» – стучало в мозгу. Он гнал раздражение и презрение прочь – дело прежде всего. А ради такого дела можно пойти и на унижения, а уж потом, потом… Говорил он мягко и разборчиво. – Я и мои люди готовы…
– А много людей-то? – заинтересовался Сигулий, поглядывая по сторонам.
– Я центурион.
– Слыхали, всадник.
– Сотня отборных воинов ждет твоих приказаний. Они здесь, за городом. – Даброгез расплылся в широкой улыбке, которую не могла скрыть даже густая светло-русая борода.
– И каждому плати, – забрюзжал вдруг узурпатор, сбиваясь с надменного тона, – какая же твоя цена, центурион?
«Вот она, торгашеская мелочность, прорвалась». Даброгез расправил складки плаща, выпрямился.
– Они сами позаботятся о своем пропитании. Что нужно простым воинам, привыкшим переносить все и лишь потуже затягивать ремни под доспехами?
– Хорошо вооружены?
Даброгез развел руками, его улыбка выразила чуть обидчивое недоумение:
– Лучшие воины Империи…
Сигулий заерзал, пошел красными пятнами.
– Хватит уже про Империю. Я думаю, мы договоримся. Но к чему спешить, не перекусить ли нам, – он хлопнул дважды в ладоши, и дюжина ражих прислужников втащила под своды тяжелый, крепко сработанный стол: – чем Бог послал?!
Лучшего поворота Даброгез и не ожидал.
– Центурион, – осклабился вдруг Сигулий, – а что, если я прикажу моим людям вырезать твою сотню? Ну чего они там стоят, угроза городу, непорядок, а?
Даброгеза передернуло, он еле сдержался. Из закоулков дворца повеяло тюремной сыростью.
– Это будет непросто сделать, властитель, – сказал он, прижимая руку к груди.
– Ну-ну, я пошутил.
Свора гончих ворвалась в тронный зал, заскулила, заклацала зубами, как одно многолапое, многоголовое тело. Даброгез терпеть не мог этих привычек – есть в компании животных. Еще больше его раздражал обычай отдавать псам после пиршества посуду, чтоб вылизывали до блеска.
– Хороши, – проговорил он, прищелкивая языком и округляя глаза.
Узурпатор не заметил поддельности восторга, он был доволен, ласкал руки, зарывая их в густые вычесанные гривы, тянул за уши и успевал отдергивать пальцы, радовался, щеря черный рот.
Даброгеза удивляло, что в зале собралось мало сановников, вельмож, обычно роем вьющихся вокруг повелителя. В Лугдуне их была тьма-тьмущая. Здесь же – четверо стояли молча, позади, у косых, осевших, а может, по нерадивости так и сложенных колонн.
Ел без опаски – травить, пока не выложил до конца, зачем явился, не станут. Да и голод пересилил наконец отвращение, комок в горле пропал, рассосался. Слева от Сигулия, занимавшего, как и должно, центральное место за столом, появились четверо музыкантов, принялись было терзать струны, барабанить, продувать рожки. Но дикие звуки недолго мучили Даброгеза. Сигулий махнул рукой, не глядя, и музыканты пропали. Огромный сосуд с вином не ставился на стол – безъязыкий прислужник бегал с ним из одного конца в другой, не успевая наполнять кубки. Даброгез пил мало. Он вообще мало пил – это было то немногое, что осталось от родины, от тамошних обычаев. Но кубок вскидывал лихо, касался края губами с таким видом, что слуга-виночерпий тут же мчался в его сторону.
– Тяжкие обязанности, – вдруг начал Сигулий, цыкая зубом, – не дают нам времени для отдыха. Вечно приходится совмещать приятное с полезным, хи-хи, – он пьяно подмигнул центуриону, – но это лучше все-таки, всадник, чем бесполезное с неприятным, а?! – Не дождавшись ответа, Сигулий хлопнул в ладоши: – Эй, кто там, давай по одному!
Створки двери, что была в стене метрах в восьми от Даброгеза, распахнулись, и из-за них вылетел будто от чудовищно сильного пинка человек в черном. Он упал почти сразу же и успел еще несколько раз перевернуться, выкатиться на середину зала, прежде чем его движение остановила упершаяся в спину подошва тяжелого кованого сапога. Собаки заволновались, навострились.
– Ну разве можно править таким народом! – Сигулий притворно искал сочувствия у Даброгеза, жирные губы кривились. Где уважение, где воспитание? Вваливаются, как в кабак!
«Не юродствуй, – подумал Даброгез, – ишь, разоткровенничался». И одновременно кивнул, выражая понимание, мол, да, не легко ты, власти бремя. По-настоящему надо было бы месяцочка три-четыре пожить, приглядеться, разузнать все толком, а потом… Но Даброгезу опротивело ожидание: хватит, надо действовать!
– Кто таков? И почему молчишь, падаль?!
Стражник согнулся в поклоне, а заодно встряхнул старика в черном, вскинул на ноги тщедушное тело. Лысоватая розово-белая голова затряслась. В мутных глазах застыл необоримый страх и больше ничего. Сигулий обгладывал бараний бок. Вопросы его звучали неразборчиво, глухо. И все-таки спрашивал сам, не перекладывая на сановников, – ухищрения Востока покуда не докатились до простоватых северян.
Даброгез сидел с краю. В мыслях не заносился, понимал, что творящееся – лишь прихоть этого жирного и дряблого царька, а он пока что здесь никто, хуже того – предмет кратковременного любопытства. А потом?
– Отвечай, собака, когда спрашивают! – Стражник ткнул старика в спину пудовым кулачищем.
– Проповедник есмь, – пролепетал тот, не смея глаз поднять.
– Народ он мутит, – еле слышно сказал сидящий по правую руку от Сигулия седой, высохший – одни кости – человек, пелагианская ересь расползается по земле! – Голос его возрос, задрожал: – Псы заблудшие, сбивают паству на дьяволов путь. – И добавил тише: – На кол бы его.
– Надо бы, – согласился Сигулий, переходя к дичи, – ему это – один путь в светлое царство.
Даброгез видел, что старик в лохмотьях дрожит, не может унять трясовицы – того и гляди свалится. Лицо его из бессмысленно-тупого превратилось вдруг в обеспокоенно-ищущее. И снова загудели пески, завыл знойный ветер… Где-то видел Даброгез такое лицо. Где? Конечно, там, где же еще! Восточный бродяга, толкователь снов и предсказатель стоял перед ним так же, как перед узурпатором стоит сейчас этот жалкий старикан.
– Проповедуешь, значит?
Старик вздрогнул, глаза высверкнули из-под бровей не так уж и бессмысленно.
– Неразумен, но посвящен есмь – делюсь с людьми…
Сигулий рассмеялся и широким жестом сдвинул со стола объедки. Под ногами ожило – засуетились, заелозили мохнатые тела, дотоле зачарованно застывшие мордами вверх. Хруст разгрызаемых костей наполнил зал, отозвался в закоулках под сводами – будто там уже ломали кого-то на дыбах палачи.
– Сознаешься, бунтовщик? Говори – кто подослал мутить люд христианский? Шпион из Британики?!
Старик рухнул на колени – от него облачком пошла пыль. Даброгез отвернулся. «И тот так же ползал в ногах. Слабы духом-то, а поучать берутся – свет им виден!» Ни презрения, ни злости разбудить в себе не смог. Ведь помнил же, запало в душу, не отвяжешься… Даброгез потянулся к фляге. Но остановил движение руки – неудобно свое пить при этих.
– Сроду нигде не был, аквитанский я…
– Врешь, ублюдок. Палача! – Сигулий снова хлопнул в ладоши.
Побежали за палачом. Сигулия озлило, что того не оказалось на месте, он швырнул кубок наземь, выпучил глаза. Лучше бы переждать, но Даброгез решился вставить слово.
– Много бродит болтунов по свету, – оказал он, стараясь, чтобы голос звучал как можно равнодушно нее, – на Востоке их больше, чем пахарей, ха-ха, – он громко, развязно рассмеялся, – а свет что-то не меняется!
– И не изменится, – твердо проговорил изможденный со своего места.
Палача никак не могли отыскать.
– Ладно, в подвал эту падаль! – распорядился Сигулий рассерженно, повернул жирное, обрюзгшее лицо к Даброгезу: – И почему я должен кормить этих бездельников, попробовал бы кто подсчитать – во сколько обходится казне тюрьма, набитая отбросами? Дармоеды! Эй, – крикнул он в спину старику, которого пинками гнали из зала, – так говоришь, человек безгрешным на свет рождается?
Стражник рывком обернул старика. Тот чуть не упал.
– Да, повелитель, как же иначе… – В голосе было сомнение.
– Хе-хе-хе, – залился Сигулий, хорошее настроение вернулось к нему, – эй ты, скажи-ка этой падали в подвале – коль сумеют образумить убогого, я им… я их, – со стола полетела вторая порция костей, – угощу на славу. После собачек, конечно!
Через минуту появился палач и тут же получил по зубам от одного из сановников, сидящего с краю. Палач в лице не изменился, зато сановник обиженно скривил губы и принялся рассматривать ушибленную руку с таким видом, будто только что снес незаслуженное оскорбление.
Стражники ввели здоровенного, глуповато хихикающего парня. Парень был чернее аравийского бедуина, и тем страннее казались облупленные лоб, щеки и розовые со вздутыми жилами руки.
– Без пошлины в город… – начал было сопровождающий.
– Вор! – процедил Сигулий и ткнул пальцем в черную фигуру с двуручным мечом.
Через мгновение Даброгез получил возможность убедиться, что палач знает свое дело. Тело осело, выпростав розовые руки в нищенском жесте, ладонями вверх, а на губах катящейся к столу головы все еще стояла глуповатая ухмылка. Собаки зарычали, но с места не сдвинулись, лишь шерсть на загривках затопорщилась да сузились и острее стали глаза. Сигулий послал черному со слугой кружку вина. Тот принял подношение молча, вместе с ним исчез за колоннами, в темноте.
Даброгеза передернуло, комок снова занял свое место в горле. И пришла мысль – а чем он лучше черного? Нет, все это бред… Правда, там, на улице, за углом, пес, не такой породистый и холеный, как эти под столом, небось уже догладывает нежданный подарок, полученный от самого центуриона Великой Империи… А ну их, разбираются пускай те, кто не выходит из своей слоновой башни в этот мир, умники! А не выходят-то почему? Руки боятся запачкать?!
Третьим был знакомый Даброгезу франк-стражник. Его волокли двое. Франк ничего не понимал, упирался, крутил головой и не мог выдавить из себя ни слова. Зато Сигулий смотрел на Даброгеза чересчур откровенно и не пытался этого скрыть.
– Тебя зачем поставили? – спросил сановник с отшибленным кулаком и шишкой на лбу, которую Даброгез только заметил до того она была естественна на грубо слепленном и изуродованном излишествами лице.
Франк пролепетал что-то невразумительное, тыча толстым пальцем в Даброгеза.
– Не слышу!
Даброгез сидел и помалкивал, ему было интересно – как тут с порядком, с дисциплиной среди служивой братии.
– Они сами, по государственному… – заверещал вдруг совершенно отчетливо франк, – по делу…
– С ним ясно. – Сигулий махнул рукой в темноту, туда, где угадывалась фигура палача.
Фигура обозначалась явственней, вместо лица – застывшая маска. Даброгезу стало не по себе. И не жалко ему было вовсе зверообразного увальня-франка, себя стало жалко. Может быть, поэтому не захотелось выглядеть бесчестным даже перед грязным, лживым, трусливым наемником.
– Оставьте его мне, – обратился он к Сигулию. Изможденный вмешался:
– Он должен умереть, – донеслось безразлично и жестко.
– Он умрет, куда ему деться, но с пользой – в первом же деле я пущу его на мечи, не все ж моим бойцам на себя удар принимать, они ценятся повыше! – Даброгез говорил полушутливо и без нажима.
Сигулий расплылся в ехидной улыбке. Перепелиный жир заиграл, запереливался по его щекам, на лбу заблестела испарина.
– Любишь своих, бережешь… не слишком ли?
– В бою увидишь, – вывернулся Даброгез, – не в умении погибнуть победа, нет. Мои не любят стелиться под мечами, они любят врага крошить.
– Хорошо, бери.
Палач снова исчез в темноте. «Ну вот и ладно!» Даброгезу припомнился бродяга-философ и его слова: мол, если даже самый плохой и злой человек сделает в день хоть одно доброе дело, то не так уж он плох и зол… «Бредни все!» Но почувствовал Даброгез себя вольготнее.
– Лови! – Сигулий швырнул здоровенную кость под ноги франку. – А то отощаешь – какой из тебя воин!
Франк бросился за мослом. Одна из собак, рыжая с черными подпалинами, опередила его. Но и рука франка уже вцепилась в кость. Он дернул на себя, вскочил на ноги. Губы его сложились в улыбку, но тут же обвисли. Он согнулся и осторожно положил кость перед собакой. Та, сдерживая рык, вернулась с добычей под стол. «А он не так туп, – подумал Даброгез, сообразил, что любой из этих псов дороже хозяину, чем десяток охранников!» Франка увели.
– Остальных потом, – промямлил Сигулий, откинулся на спинку и, не глядя на центуриона, сказал: – Теперь твоя очередь.
Голос прозвучал зловеще. Но Даброгеза испугать было не просто.
– Да, властитель, мне есть что сказать, – проговорил он, склоняя голову, – но, извини, есть вещи, которые не терпят множества ушей.
– А если тебе поможет мой добрый приятель? – Сигулий кивнул в темноту.
Даброгез понял, что стоит дать слабину – и ему не поздоровится. Тело налилось силой, стало свежим и послушным, будто и не было обильной трапезы.
– В таких случаях мне помогает мой приятель, – он похлопал по рукоятке меча. И вовсе не удивился, когда за его спиной вдруг выросли четверо стражников с боевыми топорами на изготовку.
Сигулий смотрел молча и укоризненно, слов не было нужно. С мечом Даброгез расставался с большой неохотой, но сделал это сразу же, без раздумий.
– Мне есть что сказать, – проговорил он, – а тебе услышать.
Сигулий указал глазами на дверцу за своей спиной. Встал. Стражники с топорами расступились. За дверью оказалась крохотная, три шага на четыре, плохо освещенная комнатушка. По стенам висели шкуры и рога. «Охотничьи трофеи, – печально подумал Даброгез, – как бы самому тут трофеем не остаться!»
Сигулий уселся на грубо сколоченный низкий стул. Даброгезу сесть не предложил. Тот устроился сам, на скамье, что стояла у стены. На лице Сигулия не было ни малейших признаков удивления, тревоги, интереса, оно было безразличным.
– Говори.
Даброгез откинул полы плаща, уперся спиной в рыжий олений мех. Сигулий предстал перед ним в своем другом обличье – это был не юродствующий, кривляющийся царек, как там, в зале, и не глуповато-напыщенный властелин, каким показался с самого начала. Даброгез увидел, что это именно тот, с кем можно иметь дело, тот, кого он искал. Слова варвара-алемана колыхнулись в мозгу с сарказмом: «Иди и ищи свое место!» Все, нашел! И он решил окончательно, да и к чему теперь, наедине с этим неглупым узурпатором, темнить и отдавать дань этикету.
– Через месяц, год, может, пять лет, – начал он резко, здесь будут франки. Я знаю, что говорю. Я видел их в разных местах. Это будет конец всему.
– В этом мире располагает Бог, а наша участь – предположения, – отозвался Сигулий. Одутловатые веки почти прикрыли его зрачки, слившись с набрякшими мешками под глазами. – По волнам плывем.
– В наших силах плыть по волнам в угодном Всевышнему направлении.
– И слишком мудрено говоришь для солдата…
– Ты понимаешь меня. Нашествия германских племен не остановить – ни ты, ни вся Галлия с Аквитанией и бургундами вкупе не задержат их ни на один день. Рим пал, а был не так уж слаб…
Веки дрогнули, приподнялись.
– Пугаешь?
– Нет. Разве посмел бы я прийти для того, чтобы пугать? Слушай, Галлия охвачена бунтами, ересь взбудоражила страну, перевернула все, обессилила все, к чему прикоснулась. – Даброгез говорил ровно и размеренно, лишь пальцы теребили складку плаща.
– Я посажу на кол этого мозгляка-проповедника.
– Их сотни, а может, уже тысячи. Они и им подобные, не подозревая того, играют на руку германцам. Ты знаешь сам.
Сигулий снова прикрыл глаза, провел ладонью по обширному животу, прихлопнул.
– Да, я знаю, что творится в моей стране, не ты ли будешь поучать меня, чужеземец? Ты ведь и сам варвар?
Даброгез поежился, серые глаза его подернулись пеленой.
– Ты прав. Но не о том речь. Я хорошо знаю Рим: и метрополию, и провинции. Изнеженные патриции так не знают своей страны, как я. И я знаю варваров. Ты угадал – я варвар, но не франк, не алеман, не вандал… И мои сородичи добивали Империю, их было меньше, чем германцев, они пришли из других земель – ты не слыхал о них. Я – варвар, и я – самый зрячий изо всех римлян. Не гордыня и грезы движут мною – расчет и уверенность.
Сигулий молча встал, отошел в угол, погрел руку над пламенем толстой сальной свечи.
– Скоро зима, – проговорил еле слышно, будто самому себе.
Сверху, с темного отсыревшего потолка, капало. Даброгез дождался, когда глаза Сигулия снова встретятся с его взглядом.
– Галлия обречена, как был обречен и Рим. Лавину нельзя остановить, когда она волей рока низвергается вниз. Нельзя! Но внизу она рассыпается на камни, валуны, песок и пыль. Они не страшны даже ребенку – стоит им только застыть. Волны разбивают самые крепкие корабли, но сами разбиваются о скалы – и остается жалкая, бессильная пена. Лавина варваров рассыпалась по метрополии. Волна их мощи разбилась о Рим. Да, сокрушила его, но и сама обратилась в пузырящуюся пену.
В свете свечи на лице Сигулия заиграли резкие тени. И снова на Даброгеза смотрели безучастные глаза распятого префекта. Сколько он уже встречал таких глаз!
– Ты не просто солдат, ты не в охрану наниматься пришел, – сказал вяло Сигулий, и неожиданно недобрая ухмылка скривила его губы. – А что ты сделаешь со мной потом, после осуществления своих планов?
Даброгез не ждал подобного вопроса. Но был готов ко всему.
– Я верю в твой разум, – сказал он сдержанно, – верю и в то, что ты сам о себе позаботишься. А я, разве я дал повод усомниться в себе? Кто еще вот так, с ходу и начистоту, выкладывал свои намерения перед тобой?!
Сигулий заерзал.
– Я не люблю многословия, говори проще, – сказал он тихо, и маска равнодушия спала с лица, высветив цепкие, колючие глаза.
Даброгез встал – тень от его фигуры заплясала по шкурам. «Мы еще встретимся, вождь. И я не заставлю тебя рыскать по свету в поисках своего места!» Сигулий ждал.
– Ты будешь императором, – сказал Даброгез, склоняя голову, – моя дружина – ядро, костяк. Обрасти его мясом – своим войском, дай телу свое знамя, мой опыт и моя удачливость не подводили меня. Ты будешь императором.
– А ты? Кем ты будешь?
Даброгез сдержал улыбку, опустил глаза.
– Император, надеюсь, не забудет своих друзей.
Сигулий засмеялся, тихо, утробно, будто в брюхе у него что-то заурчало.
– А как посмотрит на это Восточная империя?
Даброгез неплохо знал Восточную империю. Может быть, даже слишком хорошо – три года в воле базилевсов, год в самой Византии, два – в сирийских пустынях. Что двигало рукой равеннских властителей, когда над ними самими нависала глыба? Деньги, золото! В Византии Даброгез почувствовал – что такое порядок, строгость во всем, в мелочах, даже церковь, и та не тянула в свою сторону, внося, как на западе, в государственные дела лишь сумятицу, а служила базилевсам. Там он увидел своих – в Восточной империи не было ни франков, ни алеманов, ни вандалов, зато на каждому шагу встречались уличане, тиверцы, северяне, даже поляне, пытающие судьбу вдали от своих краев. О южных славянах и говорить не приходилось – они составляли большую часть населения, основу империи. Даброгез хотел остаться в Византии, после Рима она показалась ему родной и близкой, но воля властителей бросила его на два года в пески. Позже он никогда не жалел об этом.
Сколько всего осталось в этих песках! Сколько унесено с собой! Тонкая змейка на шее смуглого мудреца и его странные для южанина глаза – синие, глубокие. Смерть, отодвинутая в сторону, когда ей уже ничего не мешало… А может, лучше бы она пришла тогда? Он бы все равно не заметил в забытьи ее прихода. Ну нет, там ли, здесь ли – пускай подождет, успеется!
Даброгез не задержался с ответом – он уже привык жить в раздвоенном сознании, но реальность оставалась реальностью.
– Византия завязла в своем устроении и в подавлении мятежей. Но она тот пример, что стоит подражания, – она не боится варваров, будь их даже в десятки раз больше, это монолит. И он простоит не один век.
– Папа? – Сигулия мучило не праздное любопытство.
– Папа благословит победителя.
Сигулий принялся вышагивать из угла в угол, на дряблом лице появились первые признаки озабоченности.
– Но почему ты пришел именно ко мне?
Даброгез подумал – один лживый ответ может все испортить. А в том, что дело идет на лад, он не сомневался – удача вернулась к нему.
– Я долго мотался по провинциям. Я обходил жалких вождишек, возомнивших себя королями, а клочки земель в несколько стадий – королевствами. Я был и при более могущественных дворах, чем твой, – Даброгез на мгновение запнулся и снова склонил голову в знак уважения к хозяину, – и не скрою, если бы хоть один из них вник в мое предложение, я сумел бы убедить его, и, видят боги, ему не пришлось бы жалеть!
– И ты везде болтал о том же? – губы Сигулия зазмеились в снисходительной усмешке.
– Нет, до этого не доходило. И мои слова – не болтовня.
– А мне, значит, решил открыться?
Даброгез промолчал, теперь его уверения ничего бы не значили. Неужели и тут срывается?!
Сигулий продолжал мерить кривоватыми ножками пол в комнате.
– Я здесь владыка, – сказал он наконец, – а там… что будет там?! Ты любитель авантюр, центурион. А я уже немолод. И я еще, сам знаешь, – он скривился, – не король, увы!
– Есть другой претендент? – спросил Даброгез. Сигулий снова забурчал животом, захлопал тяжелыми веками. Даброгез пошел напролом:
– Решайся, или я буду искать более сговорчивого!
Бурчание затихло.
– Сколько, говоришь, в твоей дружине – сотня мечей? Не густо, совсем не густо…
– От этих мечей ляжет половина твоей армии, – мрачно произнес Даброгез, – можно бы разойтись и дешевле.
– Вот и разойдемся.
Сигулий вышел из комнатушки. Даброгез не успел сделать и шага вслед, как проход загородили две плотные фигуры в доспехах – копья уперлись в грудь центуриону. За спинами стражников маячили арбалетчики, целившие прямо в лицо. Даброгез развел руками, показывая, что он без меча. Локоть заныл, в висках застучало – пески, пески и ветер, яд на конце тонкого, с большую иглу величиной кинжала, смерть, примостившаяся за углом, – слышен ее смех, больно в груди… Они вышли. Плиты застучали под коваными сапогами. Даброгез не смотрел по сторонам. Да никого и не было: ни лысого, обрюзгшего властелина, ни его сановников – и куда только успели подеваться?! Все рушилось. Тонкий вой ветра в ушах, миражи… И зачем он тогда не расправился с синеглазым? Убей он его – и сам бы остался в песках навсегда, под жарким, ласкающим солнцем, и не было бы ничего – ни маеты, ни шатаний, ни унижений, ни позора. Смерть воином, достигшим многого в жизни, не потерпевшим поражения, – вот в этом и была удача! А он-то считал себя баловнем судьбы. Нет, не так это!
Ступенька скользнула под ногой, и Даброгез потерял равновесие, выбросил руку в сторону. Но стена была тоже покрыта слизью – еле устоял на ногах.
– Набрался, гад благородный! – прохрипел за спиной стражник, ткнул в плечо. – Иди, иди!
– Нечего с ними цацкаться! – поддержал второй. – Моя б воля – тут же и порешил бы!
Неохотно растворилась на скрипучих петлях дверь. И Даброгезу показалось, что он ослеп, – недаром темницей зовут. Стоны, грубые выкрики, тяжелое дыхание – все на какое-то время смолкло. Но ненадолго, стоило двери захлопнуться за спиной Даброгеза, и шум возобновился. На нового узника никто внимания не обратил. В дальнем конце подвала во мраке кого-то сосредоточенно и по-деловому били – без суеты, без злобы, будто хлеб жали. Минут пять Даброгез стоял с выставленными вперед руками, прислушивался, давал глазам привыкнуть к темноте. Потом сделал несколько шагов вперед и, не обращая внимания на толчки и возмущение, отбросил от стены двух полусогнутых, взмокших людей – за вороты, не глядя, куда упадут. Он не ошибся – в углу лежал полусумасшедший старик проповедник. Даброгез не видел его лица, глаз, но он сразу узнал несчастного. Почувствовав затылком дыхание, не оборачиваясь, ударил локтем во что-то мягкое, живое, тут же добавил ребром ладони – сзади засипело, захлюпало.
– Кто подойдет – убью! – сказал таким голосом, что сомнения у обитателей темницы отпали сами собой.
Он сгреб ногой к стене кучу соломы, присел, подвернув плащ и ощупав стену, – она была сухой, вытертой спинами узников, прислонился. Мысли были еще там, наверху.
– Господь не оставит тебя, добрый человек, – тонко пропел над ухом голос старика. Проповедник-бродяга собирался еще что-то добавить, но не успел.
– Да пошел ты! – сорвалось с губ у Даброгеза.
Он положил руки на колени, постарался расслабиться. Обдумывать свое положение было бесполезно. Даброгез знал по опыту – начни он сейчас выстраивать логическую цепочку: искать ошибки свои и не свои, разрабатывать линию поведения на ближайшее будущее, метаться туда-сюда в догадках – и запутается окончательно. Решение придет само, не нужно торопить событий – ведь логика действует только там, где можно ожидать логических поступков. С Сигулием сложнее. Тот если не напыщенный дурень, научившийся делать умное лицо и плести интриги, так, значит, большой мастер обескураживать противника. Даброгез вздрогнул – разве он противник!? А кто же еще! Везде так смотрели на него последний год, привык. И к чертям их всех!
В углах камеры тихо переговаривались, поглядывали быстро и боязливо на новенького, спешили отвести глаза. Даброгез знал, что первыми не нападут, теперь они будут ждать, что он предпримет. Ну и ладно, бог с ними. Даброгез постепенно впадал в дрему. Обед был обилен, его надо переварить. И не только обед. Он вдруг вспомнил о дружине, но тут же пресек мысль – дружина будет ожидать до завтрашнего вечера, так договорились. Он доверял дружине, она ему. Да и жизнь показала, что переговоры лучше вести одному – какому властителю понравится, когда за спиною человека, стоящего перед ним, – в его городе! – сотня свирепых вооруженных молодцов. Нет, дружина не подведет. Даброгез забылся в полусне, лишь щелки меж век еле подрагивали, то раскрываясь чуть шире, то совсем исчезая.
…Босоногий мудрец играл на своей дудке, и песок, казалось, обтекал его, не сек тело, не лез в глаза, в уши. И уже чудилось, что песчинки такие теплые, звенящие в тон дудке, и ветер ласковый, нестрашный. А-а-а-у – пела пустыня, дудка синеглазого отвечала: у-у-у-а-а. Сунувшимся было в приграничные районы Империи персам обрубили голову – передовой отряд, и они откатились назад, в свою непонятную, но грозную половину мира. Воевать на Востоке – Даброгез и не знал, что это так приятно. Все тихо и мирно, а в кратковременных вспышках войн больше шума, чем крови. Персы резали своих же воинов, если те не могли исполнить приказов полководцев, далеких от военных дел; да и не приказов, по сути, а прихотей. И потому к грудам трупов, разлагавшихся в песках у границы, ни Даброгез, ни его люди, ни прочие ромеи не имели ни малейшего отношения. Властители персов казнями и резней думали напугать как своих, так и чужих – свои умирали, чужие не боялись. Жизнь – хаос! Жалко было князя. Но тот погиб как воин. Жаль было и его преемника, меньше, но тоже жаль. Оба пали от чужих мечей. Так мог ли ждать Даброгез, что его же слуга-сириец, будто невзначай, кольнет из-под одежды в руку ножичком-иглой! Смех, царапина, но как потемнели глаза у голоногого! А потом бой, и новые пленные, и не пленные даже, а не поймешь что. «Тебя будет мучить память, – сказал бродяга, но не сейчас, и ты будешь жить. Смотри в мои глаза!» Даброгез только выкарабкался из бредовой пропасти, шатался на краю, ловил воздух ртом и не мог остановить взгляда. «Меня и так мучает память…» – прошептал он. Еще секунду назад мать рвала ногтями одежду на нем, молила, плакала, и тучи закрывали реку, дом. «Не ходи, не надо, Добруша, отец сгинул у ромеев, и ты…», и вместо матери билась над пеной разбушевавшихся волн черная, страшная птица, лишь глаза у нее были добрыми, слезливыми. А теперь другие, откуда? Даброгез смотрел в глаза сирийцу, успокаивался. Но в уши бил злорадный шепот слуги: «От этого яда на земле спасения нет, пускай тебе Род помогает в небесных лугах!» Терять тому было нечего, его вели на казнь. Даброгез остановил дружинников, он еще был в силах: «После моей смерти!» А может, и верил в то, во что никто не верил. Противоядий нет! А голоногий осмелел, пробился через строй воинов, не побоялся острых рожнов. «Смотри в глаза, противоядий и вправду нет, ты сам будешь противоядием – смотри мне в глаза, я заставлю твой мозг пересилить смерть – смотри в глаза!» А в глазах шли они, те, что сами пришли в плен. Нет, не сами! Даброгез путался, не мог разобраться. Пустые глаза, мертвые лица, лишенные воли. «Лишенные воли, – вторил сириец, он делал все, что мог, но он сказал прямо, – ты станешь таким же или умрешь». Даброгез отвел глаза, боль разрывала все тело, не оставляя бесчувственным ни единый кусочек плоти. Стон не срывался с его губ, стонал сам мозг – безостановочно, заглушая все. «Не буду, нет!» А череда не кончалась, и глаза из синих фиолетово-черными стали, смотрели сверху… Кто превозмог болезнь – сириец-врачеватель, а может, сам? Даброгез не искал ответа – боги его знают, людям – не дано. И он не стал таким, нет, он остался собой! Врал сириец, а может, и ошибался. Даброгез не винил его, но и благодарности особой к целителю не питал. Кошмары и боль отступили, жизнь вернулась, все остальное было неважно. Даброгез отослал «лишенных воли» ко двору базилевса. Терпеть их у себя не было мочи, не убивать же! Они служат тому, кто обладает властью над ними, и им наплевать персы это или ромеи, им вообще на все наплевать. Сирийца, голоногого и синеглазого, отослал с ними. А слугу выгнал. Дружина роптала, требовала смерти рабу. Даброгезу стоило больших усилий успокоить ее. А зачем? Если бы он знал. Так было надо. В одном сириец не ошибся – воспоминания стали мучить Даброгеза не только по ночам, но и днем, тогда, когда им появляться бы не следовало. «Мы оба изгои, – говорил сириец, – меня вышвырнули из родной Эдессы, ты ушел сам. Но ты не сам выбрал этот путь, то, что внутри тебя, швырнуло на него тело…» – «Судьба? Я в нее не верю! – ответил Даброгез. – И тебе не верю!» Они сидели прямо на песке, а мимо шли и шли живые мертвецы, шли неестественно легко, будто не чуя тяжести собственных тел. «Все рождаются одинаковыми, но одни становятся императорами и царями, другие…» – сириец кивнул на идущих. «Не сами ведь становятся, наверное? Кто-то им помогает?!» Сириец кивал: «Люди, люди все могут – и хорошее, и… Кто имеет право судить? Значит, так надо. Вынуть из тела душу просто, но вынуть так, чтобы тело оставалось живым, – для этого многое надо отринуть в себе, многое постичь. А когда овладеешь вершинами искусства, знания – видишь: не ты овладел, тобою овладели; и сам лишаешься воли, сам игрушка… Я пойду!» Сириец встал, и пески колыхнулись за его спиной. Даброгез не смотрел ему вслед и не жалел о расставании – не друг, не воин – волхв-чародей, от таких лучше держаться подальше или, наоборот, от себя гнать. Он не сказал доброго слова на прощание…
Что-то грязное, вонючее залепило лицо, ребра заныли от сильного удара. Но Даброгез уже был на ногах – трое нападавших рухнули почти одновременно. Добивать их не стал, снова опустился к стене. «Скоты!» Голова гудела. Он отхлебнул из фляги. И будто обожгло – они, там, наверху, взяли только меч и шлем, остальное оставили, а ведь на нем полно всякой мишуры, за которую можно не одного, а целый десяток центурионов угробить! Даброгез глубоко вздохнул. Значит, проверяют или еще что-то, непонятно. Да и неважно что, главное, у него есть выход. А может, отказаться? И определиться просто в охрану, и почитать то за большую удачу и спасение? Ну нет! Он услышал, как судорожно, с бульканьем дергался кадык у сидящего рядом старика, и протянул ему флягу. Темные фигуры, всхлипывая и задевая за что-то, расползались по углам.
– Спасибо, – прошептал старик, – я уже думал – конец. Да все равно, мне не выжить, они…
– Они дерьмо. И нечего из себя новоявленного Иисуса строить! – оборвал его Даброгез. – Надо было отрицать все и славить церковь Божью и этого узурпатора Сигулия, вот и все, был бы на воле.
Бродяга-проповедник покорно кивал, но говорил обратное.
– Нельзя, никак нельзя. Гляди, что творится, во что обернулось учение праведное, ведь благочестия нет, идолопоклонниками были, ими и остались. Все смешалось. И прав был ваш хоть и язычник, а все равно философ, помнишь: с исчезновением благочестия к богам, не веры, заметь, а благочестия лишь, не искоренится ли и вера в человеческое сообщество, и самая совершенная изо всех добродетелей – справедливость? Не то ли и мы видим сейчас? Не вера для очищения, а догматы для порабощения, мало им власти телесной, тщатся и над духом, над помыслами возобладать. Нет, нельзя кривить перед ними, нельзя. Свет истины освещает души, пока живы его источники, света этого, солгал – и снова тьма, снова невежество, насилие, кровь…
– Крови и при свете достаточно. О шкуре своей печься надо, а уж потом обо всем прочем! – Он заглянул в глаза старику и неожиданно для себя увидел, что в них нет и тени безумия. – А впрочем, как знаешь! – добавил Даброгез и отвернулся.
– Человек рождается безгрешным на белый свет, нет на нем никакого – ни первородного, ни иного греха, и смерды и короли одинаковыми приходят в жизнь. А коли так, то не от Бога все это, что творится, не от бога, прежде такого не было, нет! – Старик зло рассмеялся, потом закашлялся, еле дыша продолжил: – Сидят и во мне, сидят покуда церковных блудней ложь и невежество. И не от лукавого то, не от Бога – люди, только сами люди… ни при чем тут промысел Божий.
Даброгез потянулся, разогнул затекшие ноги.
– И ты говоришь обо всем этом где придется, да? Пророком себя, наверное, считаешь, да скорее – безумец ты просто.
– Не спеши, – старик дернул за край плаща, сам испугался своего смелого жеста, – отрицание неправды не есть безумство!
Даброгезу стало скучно продолжать беседу с умалишенным. Он опять прикрыл глаза – через день, большее два он будет наверху, а там – за дело! И в конце концов, не сошелся же свет клином на этом Сигулии с его заурядным королевством.
– Зачем же ты тогда спас меня от этих несчастных, ослепленных невежеством? – спросил вдруг старик после большой паузы.
– Шума не люблю, – лениво ответил Даброгез.
– И только? Нет, не говори так. В тебе проснулось то, что было основой, что и есть человек истинный…
– Слова.
– А ты знаешь, почему распалась ваша Империя? – Бродяга явно решил зайти с другого бока.
– Такая же наша, как и ваша, – отозвался Даброгез.
– Вот-вот, не ваша и не наша. Да потому, что она не нужна стала никому, все устали от нее – и знать, и простолюдины, и сами императоры. И ничего нового-то она предложить уже не могла, выдохлась! Потому и не возродиться ей никогда. Господи, прости грешника за недоброе слово! – Старик осенил себя размашистым широким крестом.
– Так-таки и не возродиться? – Даброгеза начинало злить упрямство старика. – Да ты кто такой, уж и не пророк ли впрямь?!
В глазах его застыл расплавленный воздух, загудело. Даброгез пожалел, что дал глоток из фляги старику – снадобья оставалось мало, надо бы попридержать.
– Я остался жив только потому, что палача сыскать не успели, – сказал старик, – мне ли лгать на пороге смерти? И я не пророк, ты прав. Просто нет той силы, чтобы оживить труп, даже если труп этот – целая Империя.
Даброгез еле сдержался. «А я? Мои люди, мои замыслы, моя воля, мой разум – все бред?!» Он только плотнее сжал губы.
– Я видел живые трупы, – проговорил он неожиданно для самого себя, – они выглядят неплохо, а главное, они есть, старикашка! Где тебе постичь это!
Бродяга засопел, заворочался. Только теперь Даброгез заметил, что он весь, с головы до ног, в соломе – так и не отряхнулся даже!
– Я знаю, на Востоке делают страшные вещи, – ответил он, – можно лишить людей воли, не спорю, сделать их ходячими мертвецами. Но вернуть им душу трудно, и вряд ли это сделает тот, кто сам не знает толком – жив ли он, мертв ли.
Даброгез вскочил на ноги, сжал кулаки.
– Я убью тебя, мразь, – закричал он, не помня себя. И даже занес ногу, чтобы ударить.
Старик затрясся, и глаза его, наполнившись страхом, снова сделались безумными.
– За что, что ты?! – залепетал он, защищаясь тонкими, в набрякших венах руками. – Я же ничем тебя не обидел, да и не мог я…
Даброгез остыл так же быстро, как и взъярился. И он понял, что бродяга, конечно, имел в виду вовсе не его, что это простое совпадение. Да и откуда этому сморчку было понять его, Даброгеза, проделавшего за свою короткую жизнь такой путь, какой и не снился сотням, да что там – тысячам этих бродяг! Он сел, огляделся – глаза настолько привыкли к темноте, что казалось, он видит выражения лиц у сидящих в другом конце подвала. По углам хихикали. Но это не имело значения.
– Не бойся, – сказал он старику, – я вспылил, прости.
– Да-да, ты не такой, как они, – зачастил проповедник. Они все лишенные воли: и те, с кем ты сидел там, наверху, и эти… Не думай, что только там, далеко на востоке, можно увидеть живые трупы. Они здесь, они повсюду. Они сами не знают этого, но живому-то человеку это открыто – ясней ясного. Скажи, ты ведь сразу увидел, что Сигулии и его окружение…
– Да, – ответил Даброгез резко, – сразу, только слепой бы этого не заметил.
– Вот видишь. Так поверь мне, что есть и такие, кто несет истину, кому открыто…
Даброгез снова оборвал старика:
– А я?
– Что ты? – переспросил тот.
– Я могу видеть? Ты же говорил, мол, я не такой…
Проповедник смолк, мелко задрожали старческие веки.
– Говори!
Тяжелый вздох, возня. Старик съежился, поник.
– Ну так что?!
– Ты между одними и другими, ты сам выберешь путь.
Даброгез обрадовался, ему показалось, что он поймал болтуна за язык. Но он не стал злорадствовать, потешаться.
– Ну коли – между, так, значит, бить будут и те и другие, ха-ха, я всегда был удачлив!
Больше они не разговаривали. Даброгез, устав от всего на свете, задремал. И не заметил, как прошла ночь.
– Эй, центурион! – разбудил его сиплый возглас.
Даброгез встал, стряхнул налипшую солому. За спиной проворчали:
– Последним пришел, первым уходит. Не, что ни говори, братцы, а эти богатеи завсегда друг дружку вытянут, а нам… – Последовали злобные ругательства.
Стражник наотмашь двинул копьем, древком. Кому-то досталось, может, и не проявлявшему недовольство, а совсем другому – стон был сдавленный, тихий.
– Пошли.
Сигулий сидел за тем же столом, что и вчера, неторопливо насыщал чрево. Даброгезу кивнул, молча указал на скамью. Слуга забежал сзади, налил в кубок вина. Своры под ногами не было.
– Засиделись, – будто угадав мысли, сказал Сигулий, – они не люди, им надо и побегать.
На Даброгеза он не смотрел, ни о чем не спрашивал. И потому тот решил тоже не спешить, весь сосредоточился на куске кабаньего мяса, неторопливо нарезая его тонкими ломтями и отправляя в рот. Сегодня за столом кроме Сигулия и Даброгеза было лишь двое: высушенный, весь ходячие мощи, в платье, сходном с поповской сутаной, да лысый с шишкой на лбу и отшибленным кулаком – кулак был замотан черной тряпицей. Оба помалкивали.
– А ты, центурион, философ, – проговорил неожиданно Сигулий, отрываясь от тарелки.
Даброгез понял – в подвале сидел человек Сигулия, а значит, передал ему все разговоры, в том числе и с бродягой-проповедником. Но это ровным счетом ничего не меняло.
– Я в первую очередь воин, – сказал он, улыбаясь через силу.
– Угу, – промычал Сигулий, – все мы воины. Ладно, говори, может, надумал что? А то ведь можно дать еще время для размышлений, – он раздвинул губы в тихой усмешке, поперхнулся беззвучным смехом, – там у меня есть такие, что лет по десять – пятнадцать думают.
– Я могу только повторить вчерашнее.
– Вот как?! – Сигулий перестал смеяться.
А Даброгез неожиданно для себя обнаружил – его с самого утра не посещали видения прошлого, не было их и сейчас, память молчала. Он даже выпрямился на жестком деревянном сиденье, огляделся по сторонам – как заново все увидал. Но спохватился вовремя.
– Да, так, – сказал уверенно, – решайся!
Изможденный скрючился, лицо исказилось гримасой – словно костью подавился.
– Не слушай его, он лазутчик.
«Знает? – мелькнуло в голове Даброгеза. – Ну и пусть знает!» Ему внезапно все опротивело, даже план собственный показался вздорным.
– Ты думаешь? – промямлил Сигулий. Глаза его были затуманены.
– Палача надо звать! – тверже сказал изможденный.
Сигулий отозвался тут же, привычно хлопнул в ладоши.
– Эй, палач! – выкрикнул он.
Изможденный то ли засмеялся, то ли зашипел – Даброгез не понял. Ему казалось, что все происходит не наяву, во всяком случае, его лично – не касается. Он не шелохнулся, продолжая заниматься своим делом, – нож был тупой, мясо поддавалось плохо.
Черная фигура метнулась из полумрака к столу. Сигулий повел глазами, и палач, ухватив изможденного за ворот, быстро поволок его куда-то. Тот хрипел, сучил тощими костлявыми ногами, но выговорить ничего не мог – горло уже было стиснуто согнутой рукой, лишь черный острый локоть торчал ниже подбородка.
– Еще мнения будут? – тем же тусклым голосом поинтересовался Сигулий.
Лысый с шишкой на лбу побагровел, съежился, уменьшившись в размерах раза в два.
– Лучшего императора Рим не видел и никогда не увидит! срывающимся голоском, глотая слова, проверещал он, глаза бегали – то к Сигулию, то в темноту за колоннами.
Даброгезу хотелось припуститься во весь опор. Да жаль было бегущего подле коня франка. «Вот ведь навязался! Нет… сам навязал себе». Тот совсем взмок, но не жаловался, только закидывал временами голову назад и пучил глаза. Арбалет при каждом шаге бил его по спине, но франк не догадывался подтянуть ремень потуже, а может, просто не замечал ударов. Даброгез умерил ход коня – пусть отдышится свежеиспеченный дружинничек, ведь при его дородности недолго и удар схлопотать.
Вот и рощица. Даброгез с удовлетворением отметил, что дружины не видно ни вблизи, ни издали, даже следов не сыскать. Молодцы! Но он знал, что его давно приметили, теперь ждут. От порыва ветра навстречу посыпалась листва – замелькало, закружило перед глазами. Франк косил на Даброгеза, конь на франка – не доверял незнакомцу. Но центурион молчал, хотя его распирало, тянуло закричать во весь голос: «Все! Наконец-то!!» За последние пятнадцать лет жизни не было в ней момента более счастливого, радостного, открывающего дорогу вперед. Движение, постоянные перемены – это то, что нужно, и никаких остановок!
– Ну как? – вместо приветствия спросил вынырнувший из-за кустов Радагаст.
Он обычно подменял центуриона в его отсутствие. Лицо Радагаста было хмуро, отягощено мыслями. Но Даброгез ничего сейчас не замечал. Он широко улыбнулся, толкнул в спину франка.
– Сделаешь из него воина!
Франк, не столько от толчка, сколько по холуйской натуре своей, рухнул на колени, ткнулся лбом в кочку.
– Хорош, – безразлично произнес Радагаст.
Дружина собралась на поляне, кругом. Даброгеза встретила сдержанным гулом. Бросив поводья в руки франку, тот вышел на середину.
– Что приуныли, други! – крикнул бодро. Может, чересчур бодро.
Ответа на такой вопрос ждать не приходилось. Две сотни глаз пристально смотрели на своего вождя. И Даброгез не спешил, смаковал заранее, как взорвется восторженным ревом тишина после его слов, засияют лица и все придет в движение. Радагаст дернул его за рукав, повел глазами в сторону:
– Отойдем.
– Да погоди ты. – Даброгез отмахнулся. Глаза его лучились, груди не хватало места под панцирем. – Слушайте, други, мы идем на Рим!
Он сделал паузу, застыл. Но тишина ничем не нарушалась.
Даброгез качнул головой, будто не веря себе, – ведь все так ждали этого, сколько было говорено ночами у походных костров. Он возвысил голос:
– Я убедил короля, выступаем через месяц, сразу после сборов войска…
Дружинники молчали. Большинство не смотрело на своего командира – сидели потупившись, кто-то ковырял ножнами землю под собой, кто-то теребил ремни. Было слышно, как воет в рощице ветер.
– Вы что, оглохли?
Из-за спины послышался тихий голос Радагаста:
– Погоди, послушай меня.
Даброгез резко повернулся к помощнику, на лице у него стояла растерянность. Тот впервые видел центуриона таким. Он отвел глаза, но все же тихо проговорил:
– Дружина не пойдет на Рим.
– Что?!
– Ты не ослышался, это так. Мы возвращаемся.
– Куда?! – Даброгез потерял голос, он не говорил, сипел.
– Хватит боен, хватит смертей. Последний из наших ушел с родины восемь лет назад, а первые – все в земле, по всей Империи и за ее пределами.
На Даброгеза нахлынула тихая, но неудержимая ярость. Он рванул фибулу у плеча, плащ соскользнул на землю. Рука на рукояти меча побелела.
– Вы что, пока я там… за моей спиной… – бессвязно вырывалось из горла.
Радагаст смотрел ровно, в серых глазах ничего, кроме усталости, не было.
– А если бы я не вернулся, вы все равно бы ушли, да?!
– Ты вернулся.
– Отвечай! – Даброгез стиснул зубы, загар сошел с лица.
– Нет, ты сам знаешь, не ушли бы, – ответил Радагаст, мы бы перевернули этот городишко. Не ушли бы, пока хоть один из нас оставался в живых. Но ты пришел. Успокойся, поговори сам с дружиной, – на губах Радагаста появилась тень улыбки, – может, она передумала.
Не успели отзвучать последние слова, поднялся шум – дружинники стучали рукоятями мечей, боевых топоров в щиты, кричали, заглушая друг друга. Даброгез понял – они не передумают. Все было настолько неожиданно, что ему показалось – вот так сходят с ума, еще немного, и перед глазами черти запляшут, и разверзнется земля, и с неба ударит огненный дождь, и… кто знает, какие пойдут страсти. Он тяжело опустился на подставленное услужливым франком седло. Бунт! Как просто… бунт можно усмирить, можно. Но не отпустить домой тех, кто столько раз спасал ему жизнь, дороже кого на этом свете так и не приобрел? Да и как он мог их не отпустить?! Кому он мог сейчас что-то приказать?! Разве только франку… Даброгез мучительно переживал. И знал: ничто не поможет – ни уговоры, ни запугивания, ни обещания богатств и власти. Ничто, не тот случай! Но как просто все рушилось, с какой легкостью. Ему вдруг тоже нестерпимо захотелось домой. А куда же еще подаваться, одному, брошенному на чужбине?
Но знал и другое – ничего, кроме зла, раздоров, крови и горя, на родную землю он не принесет. А кому нужны такие подарки? Пожалуй, ему самому только и нужны. Но не там же, нет, да и нужны ли? Переделывать себя поздно. Как им просто – решили – и ушли! А он? Что теперь он скажет королю? Да черт с ним, с этим ничтожеством, встречаться с ним, видно, не придется, кончено. Со всем кончено!
– Мы уходим, – прозвучал над головой тихий голос, – прости. Хочешь, пошли с нами.
Даброгез с отчаяньем мотнул головой, не поднял глаз кверху. Мимо него один за другим проходили дружинники, отдавая прощальную честь, ударяя в щиты, вскидывая головы в пернатых позолоченных шлемах. «Лучше бы убрались, пока я там, с этими крысами, попусту язык чесал!» Завыли, завели нудную тягучую песню пески в голове, маревом знойным качнулся воздух. Будто снова на краю жизни, будто опять исподтишка кольнул ядовитым жалом подлый раб. Только утешителя-бродяги не видно что-то. Даброгез зло обжег глазами трясущегося рядом, пропотевшего со страха франка. «И эта падаль наемная тут!» Ничего, ничего… но не идти же на Рим с одним лишь войском Сигулия, без ядра, без дружины оно ничто – с таким же успехом можно гнать на бойню стадо баранов! Бежать, бежать отсюда. В Восточную империю, там знают его. А может, в Британику? Или к вандалам? Скоро варварам надоест рыться в развалинах, а остановиться они не сумеют, пойдут дальше – на юг, на восток… С ними, больше некуда! Он им пригодится. Отступившие было воспоминания опять нахлынули, затопили мозг. Мука! Даброгез сжал виски руками. К черту всех этих бродяг-проповедников, и восточных, и западных, всех к черту! К черту воющие пески! Иди, ищи свое место. Дважды, там, в песках, и позже, под Равенной, после схватки с алеманами, смерть подхватывала его, тащила к себе ледяными крючьями. Но он вырывался. Он не стал Другим, он остался собой. Так что же теперь, ждать третьего раза?! А может, он уже был, в темнице? Нет! Его меч, его ум и воля пригодятся, он вырвется. И людей наберет, дружина лучше прежнего будет. Вон, один уже есть!
Даброгез горько усмехнулся – раб, наемник, подлый, жалкий, трусливый раб… Франк сидел, весь подобравшись, лишь губа нижняя отвисла да руки скребли растрескавшуюся кожу пояса, на котором болтался широкий нож в чехле. Франк ничего не понимал и все старался поймать взгляд центуриона. В город ему возвращаться было никак нельзя.
Даброгез оторвал глаза от земли, огляделся. Куда спешить, у него уйма времени, и никто этого времени не сможет отнять! Нахлынувшая волной память разбилась, разлетелась на брызги и ушла насовсем, чтобы уже никогда не вернуться. Опустело внутри. Накатило безразличие. Он уставился на свои руки несколько раз с силой сжал и разжал пальцы. Они слушались, но он почти не чувствовал их. Омертвело что-то внутри, потухло, осветив последней вспышкой волнистые барханы и идущую будто поверх песка череду людей в одних набедренных повязках. Все! Один. Сам по себе. Даброгез нахмурился – а может, так было все пятнадцать лет? Может, так и было. Какая разница.
Он медленно повернул голову вправо, пристально поглядел на испуганно ждущего франка. Наемник не отвел глаз от бывшего центуриона Великой Империи, удачливого и блистательного воина.
Даброгез отцепил с пояса кошель, бросил его франку, тут же отвернулся. Его конь, Серый, медленно, поминутно оглядываясь, уходил прочь по примятой дружиной траве, уши у него напряженно подрагивали, будто ждали оклика… Но хозяин молчал.
Круговерть
В голове, сполохами разрывая липкое забытье, вертелись навязчивые слова: «С завтрашнего дня, с завтрашнего…», а что именно, что «с завтрашнего дня»! – Николай вспомнить никак не мог. День вчерашний, сегодняшний день, а заодно с ними и несуществующий, далекий день завтрашний сплетались в единую серую круговерть сменяющихся дней и ночей, не несли ничего нового – все один к одному: удручающе тяжкие с утра, терпимые к полудню и блаженно-тоскливые по вечерам.
Он сделал отчаянную попытку выковырнуть из залубеневшей памяти хотя бы число, день недели. Попытка успеха не принесла, зато отозвалась а затылке тупой корежащей болью. Захотелось выть: тихо, протяжно, на одной ноте, не умолкая до тех пор, пока не придет облегчение. Но то, что облегчение само собою не явится, Николай знал точно. Знал и другое – чем дольше будет лежать расслабленный, под натиском гнетущих мыслей, тем большую власть возьмут они над телом, волей и не будет уже сил им противиться. А тогда… Николай не мог себе представить, что будет тогда, – сознание ставило барьеры, уводило мысли в сторону. Не мог он решиться и на единственное: совладать с собой, вырваться из омута бессилия, встать.
Не мог, откладывая все это на потом, оттягивая мучительные минуты и оттого мучаясь еще сильней.
Стоило закрыть глаза, и в черной пугающей тьме, выныривая откуда-то сбоку, возникал клубок бешено извивающихся красных червячков, вспыхивали, разрывая мрак, белые и голубые молнии. Червяки вспышек не боялись, не отступали, и чем дольше Николай не разжимал век, тем быстрее были их движения, конвульсивнее, и уже не клубком копошились они, а свивались в подобия чьих-то лиц, тел… Видения судорожно сменяли друг друга, пугали своей реальностью.
Он разлепил вялые набухшие веки, вырываясь из власти наваждения, скосил глаза на будильник, стоящий на полу у изголовья, – в каком бы состоянии Николай ни возвращался к себе, будильник заводить он никогда не забывал. Это был один из рефлексов, выработанных за последние годы, с тех пор как они расстались с женой. Сколько же прошло? Два, три? А может… Нет! Два с половиной, точно – два с половиной года! Николай смотрел на тусклый циферблат и не мог справиться с мельтешением стрелок. Опять усилие, опять боль в голове – стрелки показывали десять минут девятого. Рано. Слишком рано! Он в лютом изнеможении мотнул головой по подушке и уставился в стенку, на жирное пятно, расползшееся по обоям.
Пятно было похоже на старческий ведьмачий профиль с хищным заостренным книзу носом. Сейчас на этом носу сидела омерзительная муха и старательно вычищала задними лапками свое зеленое шевелящееся брюшко. Николай явственно слышал скрежет, издаваемый наглой тварью. Стало противно до тошноты. Но мысль о том, что можно двинуть рукой, прогнать нахалку, убить ее, наконец, размазать ударом ладони по ведьминой морде, была еще противней, рождала брезгливое бессилие.
Он отвернулся от стены, уставился в потолок. Боль отпустила затылок, и на ее месте в мозгу поселилась унылая пустота.
Комната, в которой лежал Николай, была так же пуста и уныла. Залежанный диван, прожженный в нескольких местах, засаленные тусклые обои, висящие по углам клочьями, да три гвоздя в стене. На двух – пиджак и спецовка, уворованная со стройки, где он работал как-то с неделю, пока не выгнали, на третьем – криво наколотая репродукция с картины Рембрандта «Автопортрет с Саскией», выдранная из «Огонька», – подарок Витюни. Николай давно собирался снять ее, но по утрам было не до картинки. А вечерами, когда он заявлялся в свою конуру в приподнятом настроении и художник со стены, обнимая сидящую у него на коленях аппетитную женушку, приветствовал вошедшего поднятым кубком, все виделось в ином свете. Николай подмигивал Рембрандту, приговаривая: «Ничего, мы еще им всем…», плюхался на диван и, если не проваливался сразу же в забытье, курил, зажигая одну сигарету от другой до тех пор, пока последняя не вываливалась из руки – благо, что гореть в комнате, кроме дивана с лежащим на нем хозяином, было нечему.
Единственное богатство, неприкосновенное и служившее мостом в прошлое, состояло из книжной полки, притулившейся на полу в противоположном от дивана углу комнаты. Книг было немного – около тридцати. Но это были те книги, которые Николай зарекся трогать. В самые светлые свои минуты он подходил к полке, садился возле нее на корточки и, отодвинув стекло, любовно водил рукой по корешкам. Читать их, перечитывать он давно уже перестал.
Когда им завладела вновь навалившаяся полудрема, неожиданно по ушам ударил заполошный дребезг дверного звонка, вогнал в грудь тупую иглу и вышиб из кожи лба капли холодного пота. Сердце екнуло и, захлебнувшись внезапно прилившей кровью, забарабанило в грудную клетку, пытаясь вырваться наружу. «Ну, кого еще там несет?!» – с мучительной досадой и страхом подумал Николай. Но тут же воробышком трепыхнулась надежда. Надежда на то, что его еще помнят. Кому-то он нужен. Кто-то может помочь, спасти…
Надо было идти к двери, открывать, ловить мимолетный кивок судьбы, если только он был возможен вообще.
Николай сел на диване, уперся в него обеими руками. В глазах поплыло. «Слава богу, одеваться не надо – все на себе», – подумал он и попытался встать. Качнуло, ноги не слушались. «Сейчас, сейчас! Не уходи, погоди малость, иду уже!» – молил он неизвестного вслух, шевеля обтрескавшимися сухими губами.
Опираясь о стены, он добрел до кухни. Крутанул кран и подставил рот под струю воды. В желудке заурчало. Стало немного полегче. «Сейчас, иду иду же…» – снова зашептал он, осторожно передвигая дрожащие, слабеющие ноги. Сердце подкатывало к горлу вместе с выпитой водой. Перехватывало дыхание. В глазах опять поплыли зеленые и синие круги. Все это было знакомо ему, но опыт облегчения не приносил – каждое утро липкий страх сковывал голову обручем, заставлял прислушиваться к ударам сердца – живо ли оно, сколько сможет еще выдюжить? Слабость, изнуряющая, опутывающая все члены слабость приносила мучения неизмеримо большие, чем любые, даже самые жестокие боли. Николай знал лишь одно средство, от которого зависела его жизнь, и средством этим был заветный эликсир, в любом его виде – лишь бы он был! Был, и ничего другого не надо! Ничего! Все остальное придет потом, после…
Надежда довела его до двери. Минута, в течение которой он проделал весь путь от дивана, через кухню, сюда, была минутой для кого угодно, для всех, но не для него – сердце, пытаясь обогнать само себя, успело отмерить гораздо больший срок, словно жило оно в своем измерении.
Николай нащупал в темноте головку замка и повернул его. Свет с лестничной клетки ослепил, заставил прищуриться, сквозняк обдал холодом мокрую от пота грудь, рубаха облепила ее и начала темнеть.
На пороге стоял Витюня – друг, приятель, братан, один из тех немногих, кто еще разделял с Николаем заботы, жил его жизнью. Витюню украшал свежий вчерашний синяк под левым глазом. Он разлился поверх позавчерашней, уже пожелтевшей отметины. Подбитый глаз был характерным отличием Витюниного лица. Лишь временами синюшное пятно сменяла распухшая губа или кровоточащая бровь. Бывало и так, что они соседствовали, но обойтись вовсе без таких красот Витюня не мог, характер не позволял – весь день искал он того, кто смог бы доставить ему это удовольствие, а получив свое, вновь становился кротким, смиренным и вполне безобидным человеком. Лет сорока с виду, невысокий, коренастый, но уже заметно обрюзгший Витюня был чрезвычайно деятельной личностью, без которой Николай не мыслил себя, – приятель неизменно появлялся в тот момент, когда он уже опускал руки и уходил в себя. Счетов между ними не было. Все добытое Витюней проматывалось с невероятной быстротой, безо всяких сбережений на потом.
Николай скривился, пытаясь выдавить улыбку.
– Привет, старик! – гнилозубо ощерился приятель. И даже в темноте прихожей стало видно, как заиграли на его лице краски: свекольные щеки и нос выгодно оттенялись радужными переливами фингала. – Ты только погляди – кого я тебе привел! В голосе играли благодетельские, отеческой заботой пропитанные нотки,
Витюня скользнул в прихожую и, не глядя, ткнул рукой в выключатель. Свет еще раз резанул по близоруким глазам Николая. Они заслезились, и уже словно сквозь пелену он разглядел стоявшего за Витюниной спиной парня. Тот был в светлом легком костюмчике, выглаженный, выбритый, очень чистый. В его левой руке покачивался черный «дипломат». Смотрел парень на Николая недоверчиво, будто решая – заходить внутрь или же уносить ноги, пока не поздно.
– Давай, давай – чего в дверях-то стоять! – командовал Витюня. Рвение так и распирало его.
В глазах парня Николай отчетливо прочитал, что тот думает о них. «Теперь этого не скрыть, – невесело и равнодушно подумал он, – да и ни к чему!»
– Здрас-те, – неуверенно произнес молодой человек и оглянулся назад, будто высматривая пути к отступлению.
Николай нервно дернул головой, получилось что-то наподобие кивка. Слова застряли в горле. Он посмотрел с надеждой и тревогой на Витюню – в чем дело? Тот подмигнул, буркнул в сторону парня: «Момент!» – и потащил Николая на кухню, дыша в ухо густым многолетним перегаром.
– Везуха, Колюня, гулять будем! Я ему еще вчера про твое добро намекнул – возьмет, точно возьмет! – Витюня по-хозяйски распоряжался чужим имуществом – сам отдавал все, ничего не прося взамен, потому и от других ожидал того же. – Вчера, как тебя отволок, тут его и встретил. В соседнем подъезде живет. Ну, слово за слово – и вот…Чего молчишь?
– Нет, не годится… – вяло проговорил Николай. В голове у него стоял дым, смрад. Думалось лишь об одном.
– Да не психуй ты, не все же он их уволокет, ну две, три, а может, вообще, одну тока!
– Не пойдет, нет, – Николай боролся с собой, голос его пресекался, звучал квело, – да и все равно рано еще, сам знаешь.
– Ну, это не твоя забота!
Витюня, почуяв слабину, счел, что разговор закончен, и хлопнул Николая по спине.
– Все будет в самом лучшем виде, не отчаивайся, Колек!
Николаю захотелось врезать Витюне в рожу, под правый глаз, чтобы установить наконец симметрию на ней. Но зная, что от размаха упадет сам, стоял на месте, руки тряпками болтались вдоль тела.
– Э-э-э-х-э… – выдохнул он и уныло мотнул головой. Витюня осклабился, бросился назад в прихожую, на ходу толкнув ногой дверь в комнату. Та, скрипнув, неохотно распахнулась.
– Пошли!
Парень сделал вид, что вытирает ноги о скомканный протертый половичок в прихожей, потоптался и побрел за Витюней. Ему было не по себе. Но это быстро прошло. Увидев полку, он оживился, глаза засияли внутренним светом. Он не стал приседать перед полкой на корточки, а отошел на два шага назад, согнулся в поясе, заложив одну руку за спину, другой упираясь в поставленный на пол «дипломат», и уставился на книги.
«Брюки боится помять, пижон!» – злобно подумал Николай и поглядел на свои штаны, в которых спал, наверное, дней пять кряду. На них стрелка угадывалась с трудом, да и была, по сути дела, не стрелкой, а так – какой-то темной жирной линией, оставленной неизвестно кем на серединах брючин. Он сидел на диване, стараясь сдержать нервную дрожь, пробегающую от левого виска через все лицо, вниз, к шее, к нарывающей там тонкой дерганой жилке.
А Витюня хлопотал около покупателя и не знал, куда руки деть: то удовлетворенно потирал ими перед своим сизым носом, то прятал назад, за спину, но и там продолжалась суетливая игра коротких отекших пальцев.
Парень оказался шустрым.
– Вот эти бы я взял… – начал он уверенно, не ожидая возражений.
– Одну! – твердым голосом оборвал гостя Николай. Парень недоуменно уставился на сидящего. В комнате повисла тишина. Витюня с лицом, выражающим отчаянную тоску, крутил указательным пальцем у виска. Нужно было разрядить обстановку, но…
– Одну, – повторил Николай. Решительность уже оставила его, и он, опустив глаза, принялся разглядывать что-то несуществующее под ногами на полу.
Парень покачал головой, перевел взгляд на Витюню. Тот разводил руками, но в то же время успокаивающе кивал: «Ничего, все уладится, не спеши».
– Тогда вот эту, – в руках у парня оказалась книга в дорогом, прекрасно сохранившемся черном переплете.
Николай поднял голову и исподлобья уставился на руки покупателя. В них была зажата «Жизнь двенадцати цезарей» Гая Светония Транквилла. Парень выбрал явно не лучшее из содержимого полки. «Ладно, лишь бы сейчас ожить, перетерпеть утро, а там наверстаем», – без особого воодушевления подумал Николай. Парень ждал. Нужно было что-то сказать, но Николай не знал что.
– Экх-мэ-э! – прочистил горло Витюня. – Червонец!
Слова его прозвучали как-то излишне уверенно, выдавая в Витюне человека, не знающего цены товара. И парень не замедлил воспользоваться этим.
– Нет, больше пяти дать не могу.
В его голосе были участие и сожаление, но «что поделать рад бы, ребята, да большего она и не стоит». Николай захлебнулся от обиды – на черном рынке такую вещь с руками бы оторвали за четвертной. Парень, несмотря на молодость и внешнюю застенчивость, показал себя хватом.
– Ставь на место и уматывай! – раздраженно буркнул Николай и отвернулся к стене, к «ведьме». Муха как ни в чем не бывало продолжала сидеть на ее носу и не спешила закончить свой утренний туалет.
Времени не существовало, застывший миг длился нескончаемо.
Парень растерянно шагнул к выходу, но Витюня заслонил ему дверь своим могучим торсом.
– Ну, чего ты, в натуре? – сипел он. – Ну, давай семь, и порядок, ну, в натуре?! Мы же интеллигентные люди!
Витюня нервничал, книга была в его руках, и он настырно тыкал ею в нос молодому человеку, так что тому приходилось отодвигать голову назад, закидывая вверх костистый подбородок. Видно, задетый тоном Николая и чувствуя, что без него все равно дело не обойдется, парень метнул недобрый взгляд в сторону хозяина, процедил:
– Пять!
Витюня метался глазами от одного к другому. Растеряный, ошеломленный, но несдающийся, он искал выход из положения.
– Ладно, годится! – наконец выкрикнул радостно, будто его осенило. – Пошли! Коляня, я мигом, не отчаивайся!
– Книгу оставь, падла! – в бессильной ярости сорвался на крик Николай, но опоздал – дверь захлопнулась.
Без взмаха, коротким ударом ладони хлестнул он по ведьмачьему носу и почувствовал под рукой противную мокроту раздавленной твари. Нос стал еще отвратительнее, гаже – теперь на нем красовалась бугристая желто-зеленая бородавка с двухкопеечную монету. Николай уткнулся лицом в колени и заплакал. Это был не плач даже, а просто сухое содрогание тела, внутренний душевный озноб, истерика без слез.
Витюня примчался, как и обещал, мигом. Дверной звон вернул Николая к действительности. Всем своим видом Витюня являл подарок: «Нате, берите, вот он я!»
– Ну что?! – Николай задрожал от нетерпения. – Что?!
Витюня улыбался, кривя толстые черные губы. Руки его, глубоко засунутые в карманы брючин, жили там своей жизнью.
– Во! – восторженно дохнул он в лицо Николая, вытягивая левую руку с зажатыми в ней двумя новенькими трешками.
Николай повел по сторонам пустыми глазами и уже с почти безнадежной тоской опять выпялился на Витюню.
– И – во!!!
В правой руке приятеля подрагивал на треть опустошенный флакон одеколона. Николай облегченно вздохнул и вцепился в дверной косяк – слабость вновь лишила ног.
– Я сразу унюхал: ну, думаю, несет от тебя, парень, видать, после бритья мажешься, – тараторил Витюня. – Тоже мне, пижон! Но молодчага, не поленился, сбегал к себе на третий этаж. Так что живем, Колюнчик!
Витюня хмыкнул, отодвинул Николая с дороги и уверенно зашагал на кухню, крича на ходу:
– Для него это наружное средство, а для нас, хе-хе, в самый раз внутрь будет. А то я уж совсем собирался было коньки откидывать, хе-хе!
Руки Николая затряслись крупной рваной дрожью. Не в силах справиться с замком, он всем телом толкнул дверь, минуту постоял, пришел в себя и пошел вслед за Витюней, опасаясь, что чудное видение растает и он вновь окажется наедине с самим собой и нечеловеческой мукой, поселившейся в теле.
Витюня стоял, согнувшись над подоконником, пытался сдержать возбуждение и разлить содержимое флакона в два мутно-белесых стакана. Николай с напряжением следил за ним, машинально отмечая, что ни единая капля не проливается мимо. По шее и затылку у него побежали мурашки, спина одеревенела.
Отставив флакон, Витюня потянулся к чайнику. Плеснул из него понемногу в стаканы. Замер благоговейно. Жидкость на глазах окрасилась в молочный цвет. Готово! Теперь оставалось последнее, самое главное – донести все это до рта, не дав рукам-предателям расплескать драгоценную влагу. Тогда все!
Николая передернуло. А Витюня присел у подоконника, вцепился в стакан обеими руками. Голова его замаячила на уровне посудины, на коротко остриженном затылке выступили капли пота.
– Ну, вздрогнули! – прохрипел он, выдохнул гулко и, закинув назад голову, резко опрокинул содержимое стакана в себя. Отодвинулся.
Николай проделал то же. Зубы лязгнули, в голове помрачилось, и… по телу побежал живительный огонек. Николай замер, ожидая «прихода», прислушиваясь к глубинным изменениям внутри своего полумертвого тела.
Витюня сидел с выпученными глазами, также вглядываясь в себя. Стало совсем тихо, будто даже на улице все замерло и остановилось в осознании торжественности момента. Сейчас, еще миг!
Николай постоял немного, расслабился и блаженно плюхнулся на табурет, чувствуя, как постепенно, не вдруг в ноги вливается сила, проясняется голова. «Теперь можно жить! Хватит ненадолго, конечно, но это потом, все будет потом, а теперь…» И еще – «Пропил я „Цезарей“, пропил!» – сверкнула беспощадная мысль. Сверкнула и погасла, ушла туда, откуда столь внезапно вынырнула.
– При-и-ишло!!! – застонал в экстазе Витюня. Счастливая слеза задрожала на его дряблом нижнем веке. – Да мы с тобой, Колюнька… – начал было он, но захлебнулся в собственном восторге, жалостливо всхлипнул и умолк.
И Николай его понимал. Хотелось плакать от счастья, петь, улыбаться, целоваться со всем светом. Окружающее вновь обрело свои краски, заиграло, обнадеживающе повлекло к себе. Он приподнялся, упираясь руками в колени, и пошел в комнату. Будильник показывал без десяти девять.
Николай присел перед полкой. Он не видел корешков книг, все внимание притягивало к себе пустое место. То место, где стоял проданный Светоний.
– Нас утро встречает прохладой! – заполошно завыл с кухни Витюня. – Эй, кудрявый, что делать-то будем?!
Николай сидел перед своими книгами и беззвучно смеялся. По щеке, оставляя промытый светлый след, ползла мутная слезинка.
На улице было пусто, лишь какая-то бабка, спешившая из булочной со своей увесистой авоськой, косо дернула глазами в их сторону и затрясла подбородком. Мамаши, прогуливающиеся обычно во дворе с колясками, видно, еще не проснулись, а если и проснулись, то выходить не спешили. Рабочий и служивый люд схлынул, заняв свои места по заводам, фабрикам и учреждениям. Было свежо и вольготно.
Сверху, из окна на восьмом этаже, вырывались магнитофонные вопли: Ян Гиллан безуспешно рвал голосовые связки, пытаясь образумить человечество. Но здесь на него не обращали внимания.
– Студент резвится, – доверительно шепнул Витюня, указывая глазами на окно, – знаю его, он под эту музыку по утрам здоровье зарядкой гробит. – И добавил ни с того ни с сего со злобой, нажимая на «р»: – Мр-рракобес!
Николай почуял, что Витюня заводится, – не обойтись ему и сегодня без тумаков. Но до битья далеко, а вот как сподобиться в этот ранний час прожить шесть рублей, лежавших в Витюнином кармане, об этом надо было думать сейчас, не откладывая.
Не сговариваясь, оба повернули в сторону магазина, закрытого для них до двух часов. Николай шел ссутулившись, заложив руки за спину, стараясь придать лицу благонамеренное выражение, – привычки потомственного интеллигента все еще довлели над ним. Витюня был проще – рубаха расстегнута до пупа, благо июнь на дворе, руки в карманах. А в руках этих два заветных «трюльника», наверняка давно утративших свою хрупкость и провонявших потом Витюниных ладоней.
– Ну что… – прохрипел Николай и надрывно закашлялся, побагровел от натуги, вытаращил налившиеся кровью глаза так, что Витюня даже испугался за него, принялся наколачивать по спине. Но Николай отмахнулся от него, отпихнул рукой и просипел-таки сквозь слезы слабеньким прихлюпывающим голоском: – Ну что, попробуем?
– Чего это? – удивился Витюня.
– Сам знаешь чего!
– Опять дуришь?
Николай дернул носом, заморгал.
– Не, друг Колюнька, завязывать мы с тобою начнем со следующей недели, лады? Или завтрева! Сегодня чего-то не в кайф. А с завтрева – точняк завяжем! Ну че ты, в натуре, у меня слово – кремень, сам знаешь, ежели чего порешил и сказал, так заметано! Мы с тобой зазря, что ли, этому хмырю отвратному наши книжки загнали, а?!
– Это какие такие наши? – не понял Николай.
– Да ладно уж, – замял дело Витюня, – не важно! Ты тока гляди у меня, не подведи! Чтоб с завтрева как начнем завязывать, чтоб ни-ни! Понял?! А сегодня уж гульнем, Колюнька, напоследочек! Отведем души наши немытые!
И снова потянулось резиновое тягучее время.
– Пойду студенту харю бить, – вдруг сорвался Витюня. Заколебал своими буржуазными идолами!
Под взглядом Николая он постепенно остыл, махнул рукой:
– Хрен с ним, пускай загнивает. Была охота с молокососами связываться!
Николай старался избегать соседей и вообще тех людей, которые его знали прежде. Сознание собственной неприглядности угнетало его, пригибало к земле и угасало только к вечеру, с наступлением темноты. Но вечер в июне не близок, и потому Николай чувствовал себя неуютно под немыми взорами пустых глазниц дома.
За каждой занавеской мерещились чьи-то любопытствующие глаза. В ушах стоял ехидный шепоток: «Вот он – забулдыга, пьянь подзаборная!» Виделись торжествующие женские лица, и читалась в них убежденность: «Уж своих-то мы не упустим, катись, катись, алкаш, подальше отсюда!» Мужчины за этими занавесками представлялись безропотными, молчаливыми. Но все это казалось только – окна были пусты, у хозяев квартир были свои насущные проблемы, к тому же в этот ранний час большинства из них и не было дома.
– Во! Гляди-ка, Борька! Ну, ежели он нас не выручит, то я не знаю…
Витюня не пояснил, чего он «не знал» насчет Борьки. С Борькой было тяжело, и хотя в конце концов он всегда выполнял просьбы клиентов, но покуражиться при этом успевал вдосталь. Вот и сейчас Борька, будто не замечая надвигающейся на него парочки, стоял на своем ежедневном месте среди заваленного пустой тарой заднего входа в магазин. В заскорузлом черном халате на голое тело, взъерошенный, с «беломориной» во рту. И во всем его облике ощущалась вальяжность и ублаготворенность.
– О себе он, скотина, не забывает, – зловещим шепоточком гудел Витюня, своротив губу в сторону Николая. – Ну, выпьет он у меня теперь за наш счет, жлоб поганый!
Борька скосил глаз, и Витюня тут же расплылся в самой искренней, непритворной улыбке. Замахал рукой. Борька сделал вид, что собирается уходить. Витюня вприпрыжку бросился к нему, на ходу сгибаясь все ниже и ниже, приобретая гнусный, подобострастный вид.
«Тварь, у-у, тварь!» – подумал Николай. Борька всегда вызывал в нем отвращение своими замашками. «Ничтожество, а тоже – строит из себя благодетеля!» Было стыдно за Витюню, а еще больше за себя, несмотря на то, что знал – самому в прямой контакт с грузчиком магазина вступать не придется. Но омерзение не проходило. Выпитое с утра улетучивалось, дрожь снова начинала занимать свои позиции в конечностях. Николай присел на пустой дощатый ящик из-под бутылок и, не удержавшись, заискивающе кивнул Борьке. Тут же ругнул себя за это.
Остальное было делом Витюни. Он справится!
– Молиться за тебя буду…
– Не, сегодня никак.
– Спасай, Боря, погибаем. Вон Коляня уж и стоять не может, ты глянь только.
– Ни-е-е.
Слова обрывками долетали до Николая, раздражали, нагоняли дикую злобу на Борьку. «Ведь самому выгодно, гаду, – не в ущерб себе приторговывает-то. Не прохлаждался же он тут, не зря стоял – поджидал ведь нас да других таких же, чтоб с утра ручонки свои шелудивые погреть. И сколько же за день через них проходит, с ума сойти! Сука!» Николай заводил себя, закипал.
– Не, не могу…
А Витюня потел, махал трешниками перед Борькиным носом, постыдно клянчил, пуская слезу. И старался не понапрасну.
Минут через десять Борька, видимо усладив свое непомерное честолюбие, небрежно сунул деньги в карман халата и шмыгнул за дверь.
– Паскуда! – с ненавистью глянув на захлопнувшуюся дверь, проскрипел Витюня и облегченно вздохнул, присел рядом с Николаем. Все его словесные запасы вылились на Борьку, и теперь он молчал.
Грузчик вышел скоро, ждать себя не заставил. В руках его был большой кулек. В кармане халата угадывался стакан.
– Только, мужики, давай подальше отсюдова, – сказал он и пошел вперед, в уголок двора, к старенькой беседке, заслоненной от посторонних взоров густой кроной раскидистого клена. Шел он, пританцовывая, подпевая неумолкающему магнитофону, – зарядка у студента что-то затянулась.
В кульке оказалась четвертинка водки, две бутылки пива, хлеб и тонко нарезанная колбаса, граммов на сто, не больше.
«Уплыли наши денежки», – с тоской подумал Николай и судорожно сглотнул слюну. В животе опять заурчало. Он сплюнул и громко выдохнул, избавляясь от тошнотворных остатков выпитого одеколона.
Во двор начали выходить первые утренние мамаши со своими чадами в колясках. Мамаши щурились на солнце, поправляли что-то внутри колясок и не спеша, с горделивым видом, направлялись к скверику, не замечая, а может, и просто не обращая внимания на троих мужчин, что-то делающих в это утро в беседке.
– Мне чуток! – брезгливо поморщился Борька, однако стакана не отодвинул, и треть содержимого бутылки оказалась в нем.
Витюня угодливо осклабился, подморгнул. «Благодетель» с кислой физиономией, оттопыривая корявый мизинец, выцедил водку, нюхнул хлеба и положил его обратно, на мятую бумагу бывшего кулька. Оставшиеся капли он небрежно стряхнул на пол беседки, поставил стакан на скамейку и ушел, не сказав ни слова.
– Ну и черт с ним, – вяло проговорил Николай. – Давай расплескивай – у меня что-то опять мандраж пошел.
Он не помнил, когда перешел на это язык, поначалу так коробивший слух. Не помнил. А теперь сам не замечал словечек, вросших в него. Так было проще – ведь не станешь же в чужом племени изъясняться на своем языке – все равно не поймут. А может, и начинал забываться уже тот, свой язык? Может быть, но так было проще, так его понимали и он понимал с полуслова, так можно было выразить целую гамму чувств и ощущений одним коротким словом. Да и не нашлось бы уже в голове прежних слов.
Для пущей убедительности он вытянул руку. Пальцы подрагивали. Посмурневший Витюня первым делом откупорил пиво, глотнул из бутылки, выругался матерно и стал аккуратно разливать водку, показывая, что он все-таки не такой наглец, как Борька, и обделить друга себе никогда не позволит. Это Витюнино качество было хорошо знакомо Николаю, за него он и питал что-то навроде уважения к приятелю, которого уважать-то, собственно, больше было не за что.
Витюня разлил и протянул наполненный наполовину стакан.
«Ну, цезари, – еще раз за вас!» – мысленно произнес тост Николай, а вслух сказал:
– Чтоб ему провалиться!
Витюня одобрительно хмыкнул и недобро уставился на груду искореженных деревянных ящиков, догнивающих у черного входа.
Через десять минут Николай забыл окончательно, что утром он еле встал и готов был прощаться с жизнью. Будто не было этого. Он разрумянился, стал смотреть веселее.
Витюня не долго предавался созерцанию природы из беседки. Он был «мотором» в их небольшой компании. Николаю же доставалась роль балласта, в лучшем случае подручного.
– Все. Хватит. Пошли.
Николай покорно встал, ожидая, куда его повлечет неугомонный приятель на этот раз. Витюня направился в сторону мебельного магазина. Они там бывали часто. Когда появлялась необходимость быстро сшибить деньгу, мебельный выручал. Тамошние рабочие-грузчики пренебрегали мелкой работенкой, когда, например, нужно было перенести тумбочку, пару кресел или стулья на небольшое расстояние. Они не разменивались, как сами говорили, на пустяки. Тут-то и нужно было ловить момент. И хотя грузчики не жаловали чужаков, но когда заказ не сулил им крупных барышей, они закрывали глаза на всевозможных витюнь.
Магазин был открыт. Даже больше того – часть товара уже красовалась перед входом – три дивана с красной броской обивкой, пара столиков, трюмо. Рядом суетливо прохаживались хозяева, которым доставка силами магазина сулила увидать приобретенную вещь в своей квартире не ранее, чем через два-три дня.
Витюня подмигнул Николаю.
– Вот он, народец, измученный материальным благополучием. Стоят, родненькие, нас дожидаются.
Но когда Николай сделал попытку выйти из-за угла, Витюня одернул его, приструнил:
– Ну чего ты, как первый раз замужем. Приглядеться же надо. А то захапают за милую душу, оглянуться не успеешь!
Николай находился в том блаженном расположении духа, когда ему было совершенно безразлично, что с ним будет дальше. Но Витюню он послушался, спрятался за кирпичную стену и даже вытащил из кармана очки, надел их. Окружающий мир сразу же приобрел четкие очертания.
– Вроде тихо, нет никого, – проговорил наконец Витюня.
Но тут пришла очередь Николаю одернуть приятеля. То, что он увидел, выбило его из колеи. Но все же решил приглядеться повнимательнее – вдруг ошибся. Он чуть приподнял очки и отодвинул их на сантиметр от переносицы, так было резче, лучше видно. Нет! Ошибки никакой не было – это она, его жена, Ольга. Что могло привести ее в этот час сюда? Николай точно знал, что живет она совсем в другом районе. За два с половиной года разлуки он не только не встречался с ней ни умышленно, ни случайно, но даже не звонил ни разу.
Сердце защемило. Подойти? Николаю до невозможности захотелось сделать это. Услышать хоть слово из ее уст. Вглядеться в лицо. Ведь он, несмотря ни на что, продолжал любить, думал о ней. Подойти сейчас же! Николай уже сделал первый шаг, но вовремя опамятовался – ничего, кроме отвращения, жалости, а может, и презрения, он не мог вызвать своим теперешним видом. Он ударил ребром ладони в стену. Лицо исказила гримаса боли. Но боль была не физическая, не от удара о кирпичи.
– Да чего ты? – Витюня был удивлен.
– Молчи!
Поняв, что тот не шутит, Витюня прикусил язык и уселся у стены на корточках, прислонившись к ней спиной. Он сидел и поцокивал языком, будто осуждая приятеля за раздражительность, пустую и бестолковую, на его взгляд.
А Николай следил за каждым движением Ольги. Он и радовался, замечая, что она совсем не постарела, даже, напротив, изменилась в лучшую сторону, стала женственнее, стройнее, вновь обрела свою, знакомую со студенческой скамьи живость, и злился одновременно, чувствуя, что пропасть, разделяющая их, становится все глубже, все шире. Он различал даже ее голубые, сияющие глаза, когда она поворачивала лицо в их сторону. Ольга его не видела. И Николая вдруг ожгла мысль – а узнала бы, если даже и подошла совсем близко, вплотную? А вдруг нет? Вдруг скользнула бы равнодушным взглядом и отвернулась, приняв за одну из тех теней, что маячат в подворотнях и боятся дневного света? Могло быть и так.
Он уже совсем успокоился, и все чувства, овладевшие им поначалу, перелились в одно – в режущую, томительную печаль, когда произошло то, что его окончательно добило. Из магазина вышел лысоватый мужик в синей футболке с надписью «Адидас» и джинсах, под мышкой он держал две чешские книжные полки в пенопластовой упаковке и с яркой зеленой наклейкой. Николай сперва не придал значения этому покупателю. Но когда тот подошел к Ольге, поставил полки на асфальт, придерживая их телом, и взял его жену, его Ольгу за локоть, а та в ответ чмокнула незнакомца в щеку, Николай не выдержал. Он отвернулся, зашел за угол. И опустился рядом с Витюней.
– Да чего ты в самом деле? – Витюню не на шутку встревожило поведение приятеля.
– Жена… – выдохнул Николай, ничего не поясняя.
– А-а-а-а, – многозначительно, с уважением протянул Витюня, – тогда другое дело.
Он не смог сдержать любопытства, выглянул за угол.
– Это беленькая-то? С фрайером этим? С полками?
Николай кивнул. Причем кивнул он один раз, но голова сама по себе склонилась второй, третий, задрожала будто лист лопуха под порывами ветра. И он не сразу смог унять дрожь.
– Ушли. Полки купили и ушли. А ты чего переживаешь, расстались, и бог с ней!
Николай промолчал. Он смотрел вдаль и ничего там не видел.
– Знаешь, Коляня, как говорят англичане, – снова подсел к нему Витюня, – если леди выходит из дилижанса, дилижанс едет быстрее. Хе-хе!
И сам же засмеялся первым.
Один из грузчиков, вышедший покурить и случайно подслушавший разговор, придвинулся ближе, долго смотрел на Витюню и вдруг, поперхнувшись дымом, залился высоким пронзительным смехом.
– Ну, пошли, что ли?
Николай не прореагировал, казалось, что он заснул.
– Да не бабься ты! Пошли, пока работенку не увели из-под носа, – настаивал Витюня.
– Не пойду! – ответил Николай.
Он встал и направился во двор, к беседке. Витюня вприпрыжку следовал за ним, жужжал на ухо:
– С тобой не разбогатеешь. Пить-то хочешь! А вкалывать тебя нету, книжки продавать – нельзя! Я что тебе, в няньки нанялся?
Николай резко повернулся к нему:
– А ты вспомни – сколько моего добра пропили, а? Ты тогда по-другому что-то пел. А сейчас, как у меня пустые стены остались, так в няньки, говоришь?
Витюня стушевался. Он знал, что когда Николаю попадет шлея под хвост, с ним лучше не связываться. Они молча вошли в беседку, сели.
До открытия магазина оставалось чуть больше трех часов. Надо было что-то предпринимать. Предпринимать сейчас, пока в жилах после выпитого играет кровь. Позже будет тяжелее, придет надоевшее бессильное уныние, тоска, которую недаром называют зеленой. И оба прекрасно это понимали. Но каждый по-своему: Витюня горел от нетерпения, ерзал на лавочке, чесался, пыхтел; Николай, напротив, оттягивал всяческую суету на потом – хотелось продлить блаженное ничегонеделание, сладкую пустоту. Он сидел, прижмурив глаза, радуясь утреннему ласковому солнышку, переваривая свои ощущения. Долго ему пребывать в таком состоянии не пришлось.
– Лафа! – радостно всхлипнул Витюня и вскочил с лавки. Вот это, корешок, то, что нужно!
Николай разлепил веки. Долго блуждал непонимающим взглядом, пытаясь уловить направление, обозначенное Витюниным пальцем. Уловил. У дальнего подъезда стояла женщина, в ногах у нее покоилась какая-то здоровенная коробка. Надписи на картоне отсюда разобрать было невозможно.
– Ну, полетели!
Витюня дернул приятеля за рукав, да так, что тот чуть было не свалился с лавочки.
– Догоняй!
И перед Николаем только мелькнула широкая спина. Витюня уже был около подъезда, что-то говорил, сочувственно кивал головой.
Когда Николай подошел ближе, он расслышал:
– Эх, хозяюшка, это горе – не беда! Считай, что тебе, красавица ты моя, крупно повезло, поможем от всего сердца. Лады?
Николай неуверенно топтался рядышком, стараясь не глядеть на женщину.
– Понимаете, – обратилась она к нему, – на двери объявление, мол, стиральная машина, в отличном состоянии, недорого. Ну вот я и пошла, – она всхлипнула, – договорились мигом, и правда недорого. Мне такая как раз нужна. Что с того, что подержанна. Они даже мне эту дуру здоровую вытащили и на лифте спустили вниз. А потом «привет» говорят – и домой. А я?
Николай укоризненно покачал головой, но в разговор вступить не решился.
– Да уж сама виновата, надо раньше было думать, а сейчас и муж на работе, и вообще никого нигде. Хоть назад возвращай!
«Надо же, какая разговорчивая! – подумал Николай. – И чего объясняется?!» Ему стало не по себе. И если бы рядом не было Витюни, он бы и один поволок эту машину куда надо. За так, даром.
– Вы уж помогите мне, пожалуйста. – Женщина затеребила сумочку, пытаясь ее открыть.
– Не печалься, хозяюшка, три рублика подкинешь – все будет на мази.
Витюня уже примеривался к коробке, будто вопрос был решен.
– Да тут же… – женщина обомлела, – вон мой дом, соседний.
Николай опустил глаза. Витюня с пониманием развел руки, горестно вздохнул. Трояк заработали мигом.
Вернулись. Уселись на лавку. Музыка не кончалась. Можно было ни о чем не думать, а просто слушать. Слушать, слегка покачиваясь в такт ударнику, не замечая окружающего. Это было на самом деле приятно. И Витюне понять этого было не дано.
Мамаши со своими колясками попрятались по квартирам, наверное, увезли детей на второй завтрак. И во дворе стало совсем пустынно. Лишь на короткое время промаячила вдоль кирпичных стен сутулая фигурка участкового, так что даже пришлось пригнуться в беседке – не дай бог увидит. Но сегодня капитан Схимников не заметил притаившейся парочки, прошел мимо.
– И слава богу и всем чертям в преисподней, – проводил его Витюня, – нас голой рукой не возьмешь! – Потом вздохнул с присвистом. – Что ж это за жизнь собачья? И-эх!
А Николай вдруг вспомнил, что пивной бар уже десять минут как открыт. И от мысли этой даже облился весь потом.
– Может, в автопоилку, – робко спросил он, – по кружечке? Ну чего ждать, пока магазин откроется?.
– А мы на все согласныя, – пропел в ответ Витюня, сплюнул, выбил руками по груди, а ногами по скамеечным доскам какую-то немыслимую чечетку. – Потопали, может, кого из мужиков стренем, поутряночке они, голуби, все там. Может, и сгоношим чего!
Николай скривил губу. Надеяться на мужиков особо не приходилось – такая же голь перекатная, как и они с Витюней. А вот уплывут три заветных рублика, где тогда новые искать? Деньги в это утро на дороге не валялись. И все же в пивнушку тянуло очень. До судорог в желудке.
Неожиданно Витюня хлопнул себя по лбу.
– Фу-ты, черт! Забыл совсем. Слушай, Коляня, мне тут на секундочку домой забежать надо. Подождешь?
Николай промолчал.
– Я мигом! – бросил Витюня уже на ходу.
«Да бог с ним, – подумал Николай, – куда он денется!» Хотя его и кольнуло то, что деньги-то были у Витюни, а значит, беречь его надо было пуще зеницы ока – мало ли что! Задним умом он постиг это, забеспокоился, только поздно. Витюня всегда опережал его своими действиями. Николай и сам стал замечать – последнее время соображает туго: не поймать, не собрать сонных мыслей.
Витюня, когда ему попадались собеседники, любил поплакаться, выжать слезу. Николай наизусть знал все его бесчисленные истории: и о трагической любви без взаимности, и о травле на работе за правду, за критику начальников, и многие другие. Рассказывал Витюня всегда с жаром, в лицах. И сам верил всему рассказываемому. Но Николай-то знал, что правда была только в том, что Витюня был в свое время первоклассным столяром, и в том, что вышибли его за длительные запои. А все остальное – накипь, легенда, которую Витюня придумал не столько для слушателей, сколько для себя. Не было ни роковой любви, ни жены – мучительницы и изверга, не было правдоискательства и несправедливостей, не было гонений за критику. А было то же, что и у всей их братии, – постепенное и, главное, постоянное «принятие», которое затмило собою все. Но Витюня свою легенду лелеял и чем больше разукрашивал ее, тем больше в нее верил. Романтик!
Николай предпочитал молчать. Он не любил распространяться о себе. Хватит того, что сам знает правду. И какое дело до нее другим!
Прождав Витюню с полчаса, он совсем отчаялся, встал и побрел домой. Он не думал, зачем его туда несет, просто не сиделось.
Идти Николай старался как можно ровнее, не покачиваясь, хотя ноги ему отказывали. И не от выпитого, а от слабости, может быть, и оттого, что он уже давненько не ел по-настоящему. Только есть ему не хотелось, аппетит пропал давно, да так и не появлялся с тех пор.
Хотелось полежать, отдохнуть, а уж потом во что бы то ни стало разыскать Витюню, пока деньги еще целы. Если они целы. Он услышал за спиной легкие шаги, сдержанный смех.
– Дядь, почем пол-литра?
Николай вздрогнул, но не обернулся. Детский высокий голос вонзился иглой в затылок.
– А он язык проглотил – вместо закуски! – раздался второй голосок, звонче прежнего.
Чуть сбавив шаг, Николай прислушался. Он различал шепот, которым мальчишки переговаривались между собой.
– Ну его, Петька, чего связываться! – шептал один.
– Испугался? – подтрунивал другой.
– Да ты что!
– Не бойся, он же еле на ногах стоит. Даже если распсихуется – нас не догонит.
– Да-а, вон длинный-то какой, ноги как ходули, – гнул свое первый.
– Дурак ты, Петька! Эти пьянчуги все хилые, погляди-ка, он даже и догонит, так ничего не сделает, слабак.
– Не слабей нас.
– Да я ему головой в живот ткну, он…
«Какие же они жестокие! – подумал Николай и тут же стал себя успокаивать: – Все дети жестоки, они не понимают, что причиняют боль. Мучают родителей, учителей, терзают кошек. Меня вот…» Объяснить словами можно было все на свете, но понять, оправдать? Николай не мог. Ему было мучительно жалко себя, своей беспомощности. На детей ему было наплевать.
– Шли бы вы домой, уроки учить! – крикнул он, обернувшись.
Голос сорвался, прозвучал хлипко и неуверенно. Мальчишки захохотали, они рассчитывали на реакцию и добились своего. Николай понял – он допустил ошибку, промолчи он, и они бы вскоре отцепились. Теперь другое дело.
– Нашелся учитель какой!
– Сразу видно – сам в школе отличником был!
Николай заставил себя не оборачиваться больше. Ему очень хотелось поймать мальчишек, хотя бы одного, оттрепать за уши. Но он знал – не выйдет, и они были уверены в своей безнаказанности.
– А ну кыш, мелочь пузатая! – прикрикнула с лавочки одинокая бабуся, давно наблюдавшая за событиями во дворе. – Чего к человеку причепились?!
У Николая от сердца отлегло – какая-никакая поддержка, все легче, а вот попробуй он проучить мальчишек, погнаться за ними – и бабка шум поднимет, сразу же примет сторону его несознательных мучителей.
Ребята притихли. Но ненадолго. На всякий случай перешли на другую сторону улочки, подальше от скамеек, стоящих у подъездов.
– На троих сообразим? – снова пропел звонкий голос.
– Дядь, давай споем «Шумел камыш», – вторил другой.
Мальчишкам было лет по двенадцать, не больше. Проводя каникулы в городе, они жаждали развлечений и завидовали тем, кто сейчас в пионерских лагерях.
– Не споткнись, дядя!
Николай, как нарочно, чуть не упал посреди улицы – нога подвернулась. Это его разозлило. Но все же он не оглянулся назад. Ему показалось вдруг, что нечто подобное с ним уже происходило. Остро резануло под ложечкой. Он напряг память, силясь зацепить кончик ускользающей нити. Было, было точно! Но что, когда, где? Вспомнить он, как ни старался, не смог.
– Ха-ха-ха! – в два голоса прогромыхало за спиной.
– Вот я вас! – крикнула издалека бабка. Вставать ей было лень, но видно, глаза у нее оставались достаточно зоркими.
Ребята на окрик внимания не обратили – бабка была далеко. Но она не могла смириться с тем, что ее слова не имеют должного действия, – бабуся была суровая.
– Вот я вашим родителям-то все расскажу! – пустила она в ход свое самое верное оружие.
Ребята перестали хихикать.
– Ладно, ну его, пойдем лучше в теннис сыгранем!
– Ща, Петька, – обладатель звонкого тенорка нагнулся. Дядь, лови подарок!
Николай почувствовал боль между лопаток – консервная банка с рваными краями, отскочив от спины, загремела по асфальту. Он все-таки обернулся, стараясь унять трясущиеся губы. Ребятишки с нарочито громким смехом, размахивая руками и строя на ходу рожицы, убегали от него в сторону спортплощадки.
Домой идти расхотелось. Он злобно пнул ногой консервную банку и быстро зашагал обратно к беседке. Со стороны могло показаться, что у идущего человека нервный тик: при каждом шаге правое плечо его резко вздрагивало, поднималось кверху, а голова закидывалась назад. Прошло это не сразу.
Витюня уже был в беседке.
– Ну чего, перепугался? – захихикал он. – Нет, ты скажи думал, денюжки тю-тю?
Он перестал улыбаться, поскреб ногтями волосатую грудь.
– Доверять надо друзьям. Ладно, на первый раз прощаю, пошли в автопоилку.
Николай сунул руки в карманы.
– А ты чего убежал-то?
Витюня сплюнул, сказал, нервно подергивая губой:
– Да соседке-заразе замок починял. Договаривались на рупь, а как сделал, говорит, нету сейчас, потом отдам. Знал бы, я ей так бы починил, она у меня бы домой к себе не попала неделю, стерва!
– Да ну ее, не переживай.
– Чего? Я? Ни в жисть. Пошли-ка!
По дороге к бару Витюня деловито застегнул пуговицы на рубахе, однако голая жирная грудь не хотела прятаться под выцветший ситчик – пуговиц не хватало. Это Витюню нисколько не расстроило – мало ли, ерунда какая. Он даже насвистывал, наверное и сам не замечая этого, одну из привязавшихся мелодий нетерпимых им «буржуазных идолов» со студенческого магнитофона. Получалось неплохо, пожалуй, даже бодрее.
Николай с трудом отмечал все это. К горлу опять подкатывала тошнота, голова кружилась. Ног он не чувствовал, они были сами по себе, где-то внизу, доступные глазам, но не связанные с телом. Такое приходило не впервые и всегда до жути пугало, Николаю казалось, что он вот-вот умрет. Еще немного, совсем чуть-чуть…
Но он не умирал, да и ноги топали, не сбиваясь с выбранного направления. И страх слабел. Скукоживался. Но никогда не исчезал насовсем. Идти было надо, и он шел, почти как путник в пустыне, который знает, что если он остановится, то никогда не добредет до спасительного оазиса, и от этого будет хуже только ему и никому больше на целом свете. Надо было идти. Заветный оазис уже замаячил на горизонте. И чем меньше до него оставалось расстояния, тем шире становился шаг жаждущих.
– Тока по одной! – с серьезным видом предупредил Витюня и шумно сглотнул слюну. Так, что Николай понял – пока они не просадят в пивнушке все имеющиеся три рубля, они ее не покинут.
– Угу, – сказал он.
«Голуби-мужики» в баре что-то не проглядывались. Зато в углу, сдвинув три столика кряду, веселилась пестрая компания молодых людей. На их лицах было написано, что им очень хорошо. Ребята стояли, облокотившись на столик и оттопырив зады, облепленные фирменными джинсами, – будто напоказ выставив разнообразнейшие броские ярлыки.
– У-у, – протянул Витюня, – и здесь эта студенческая поросль. Нигде от них спасу нету!
– Брось, – обрубил его Николай, – лучше вон погляди на себя в зеркало.
Витюня намека не понял. Пошел разменивать рубль.
Ребята не слишком дружелюбно покосились на вошедших – их мир был красив, моден, молод, им не нравилось, что в него без спроса входят какие-то серые, помятые личности с клеймами неудачников на лицах. Но длилось это не больше секунды, смотревшие отвернулись, и Николай смог наконец поднять глаза. Даже теперь, зная почти наверняка, что путей-то назад нету, он не мог задавить в себе стыд. И от этого страдал втрое.
Николай не в первый раз видел этих ребят в баре. Он был здесь постоянным клиентом, и многие лица уже давно примелькались. Да, Витюня прав, это студенты. Опытным взглядом человека, когда-то вкусившего плоды студенческой жизни, Николай мог четко определить: первый-второй курс, не старше. Сам он начал баловаться пивком только на последнем. Тогда они, студенты начала шестидесятых, были другими.
– Держи монету, – пробасил Витюня, протягивая двугривенный и одновременно пытаясь почесать подбородок, на котором удобно устроилась маленькая желтая мушка. В другой руке Витюня нес пару кружек, – второй не получишь, как уговорились.
Струя шваркнула из автоматного соска, и из кружки полезла пена. Казалось, что, кроме нее, в стеклянном бочоночке ничего нет.
– Ведь во, заразы! – восторженно хмыкнул Витюня. – Ведь во чего придумали, чтоб трудовую копейку у рабочего человека вышибать. Да с таким напором за ту же цену можно и по четверти порции наливать. Ну дают, торгаши!
Гривастые головы вновь обернулись, теперь они смотрели почти с одобрением, ожидая, что же дальше будет.
Но на большее Витюни не хватило. Он неожиданно засмущался, умолк. В один присест вылакал содержимое, стер тыльной стороной ладони пену с губ, выдохнул и скосил глаза к полу.
– Спекся оратор, не доорал! – съязвил кто-то из соседей.
– Придется еще по одной?! – будто не слыша обращенных к нему слов, предложил Витюня.
Николай кивнул. И они перешли к другому автомату. Тот оказался сознательнее – выдал почти все, что ему полагалось выдать. С кружками в руках приятели пристроились у окна. Закурили. Потом взяли еще по одной, потом еще и еще раз… С последней решили не спешить, Николай отставил свою кружку, присел на парапетик у оконной рамы. Его разморило. Со стороны можно было подумать, что человеку плохо, что надо вызывать неотложку, по крайней мере помочь ему добраться до дому. Но Николаю было хорошо, именно сейчас ему было очень хорошо – он переступил порог, за которым уже не было ни болей, ни страха, ни слабости. Он опять чувствовал свое тело и боялся пошевельнуться, прислушиваясь к току крови в жилах, боясь спугнуть «второе пришествие». И он не хотел верить, что это все ненадолго. Живи, пока живешь, остальное потом.
Витюня испытывал примерно то же самое, но был при этом более непробиваемым и самокопаниями не увлекался, его тянуло к действию. И что именно делать, для него не было столь уж важным. Просто не сиделось. Он дважды подходил к студентам, пытаясь поговорить по душам, не вышло, отбрили, у них были свои темы.
– Уйди, старичок, – сказали они ему в последний раз, не прерывая игры в подкидывание над столом спичечного коробка, – и не мозоль нам глаза, добром просим.
Витюня знал, что такое «просить добром», а потому и удалился безропотно. Он умел быть послушным, когда того требовали обстоятельства. Но тосковать на пару с унылым приятелем ему было не по силам.
Взгляд его начал шарить по столам. Наконец на чем-то остановился.
– Ну-ка, поглядим! – прошептал Витюня.
Он разворотил на одном из ближайших столиков кучу мусора, объедков, скомканных бумаг, и глаза его просветлели.
– Во!
Витюня помахал у Николая перед носом полуобглоданным хвостом воблы. Сделал попытку разломить его пополам.
– Не нужно, – отвернулся Николай, он не любил нищенских замашек приятеля.
– Хозяин – барин, – довольно проговорил тот. – Ох, хороша рыбка!
Облизнулся. Придвинул кружку ближе и намочил губы.
– Рыба посуху не ходит, Колюня, хе-хе.
Управился с находкой он быстро. И снова затосковал.
Выручил случай. Откуда-то из-за двери, на которую Витюня глядел с затаенной надеждой, вдруг вылетел белый теннисный шарик и, пролетев через весь зал (а Витюня цепко проследил за его траекторией), звонко шмякнул одного из студентов прямо в лоб.
Из дверей раздался оглушительный хохот, и одновременно там же возник и хохотавший – очкастый рыжий парень с кожаной сумкой через плечо.
– Привет от ректора! – восторженно заорал вошедший. – Я там за них на семинаре отдуваюсь, а они пивко сосут.
Парень быстро приближался, потрясая в воздухе ярко-красным пластмассовым пистолетом, из которого, по всей видимости, и вылетел шарик. Он был настолько рад этой безобидной детской игрушке, что сам казался непомерно большим и безобидным дитем.
Витюня не мог оторваться от происходящего, прислушивался к обрывкам фраз, долетавшим до него.
И уж совсем защемило в его груди, когда он увидал, как парень достает из своей сумки одну за другой целых три бутылки портвейна. Кадык судорожно заходил в моментально пересохшем горле, перед глазами замелькали черные и красные точки. Витюня отмахнулся от них, задел локтем дремавшего Николая.
– А-а-а, че-ерт слепой, – простонал тот и тоже уставился на ребят.
Одна из бутылок тут же была разлита по пустым кружкам и выпита. Вторая ополовинилась и вместе с еще не початой третьей исчезла в сумке пришедшего.
– Вот ведь малышня, – просипел Витюня, – и выпить-то по-людски не могут. Полторы бомбы на столько рыл. И-эх!
Его тянуло к этой черной сумке, но подойти просто так, ни с того ни с сего, Витюня опасался. И поэтому страдал молча.
А рыжий не унимался.
– Все коробочек подкидываем? А еще интеллектуалы называются! Дедовскими игрищами забавляемся?! Чего б вы без меня делали, мелюзга?
В его руке вновь появился пистолетик. Рыжий крутил игрушку на пальце, поминутно целясь то в одного, то в другого. Чувствовалось, что он уже навеселе.
– Предлагаю новый аттракцион! Давай пустую кружку!
Все кружки были под пивом. Головы завертелись.
И тут не оплошал Витюня:
– Сей момент. – Он уже был возле сдвинутых столиков и услужливо протягивал посудину.
– Опять ты! – раздраженно проворчал здоровенный детина в джинсовой куртке. – А ну…
– Да что ты, Петенька, – мягко оборвал его рыжий, – старших нужно уважать. Давай-те кружечку. Вот так. – А здоровому добавил еще: – Этот дядя нам может очень сгодиться, Петя.
– Я сгожусь, – подобострастно хихикнул Витюня и поглядел на рыжего влюбленными глазами.
– Ну вот, видишь!
Рыжий отошел метров на семь и с ходу, не целясь, влепил шарик в пустую кружку, да так, что тот зажужжал в ней словно озлобленный дикий волчок.
– Учитесь, салаги!
«Салаги» загомонили восторженно, захлопали кто чем мог, кто в ладоши, кто кружками по столу. Рыжий остановил их порыв, к себе не подпустил, пистолетика не отдал.
– Это все семечки, – проговорил он сквозь зубы, чуть оглянулся, заметив, что из разменного окошечка высунула голову любопытная буфетчица, подмигнул ей, отчего та неожиданно покраснела, и кивнул Витюне: – Скажи-ка, дядя?!
– Чего? – навострил тот уши.
– Обещал сгодиться?
– Ну, – Витюня был смекалистым малым.
– Спорт требует твоего носа в жертву, дядя! Ну чего тебе нос, зачем он тебе?! Усек?
– Э-э, не-е, – заупрямился Витюня, – такого уговора не было.
Парень выразительно покосился на сумку.
– Смотри, дядя, просить не станем.
– У, черти, – взвизгнула от восторга буфетчица, – ведь чего делают!
– Я согласный, – скороговоркой прокричал Витюня, – только наперед стакашек протвишку для храбрости и устойчивости.
– Не пропадет за нами, старичок, становись в позу!
Витюня вытянулся и замер. Лицо его побагровело. Николай в своем углу громко сплюнул на пол. Ребята молчали.
Рыжий поднимал пистолет не спеша, щурил глаз, кривил губы, короче, играл на публику. Это был его «звездный час». И когда Витюня уже не ожидал выстрела, его по носу пребольно щелкнул шарик, так что из-под набрякших век сами собой брызнули слезы. Он опустил голову, плечи затряслись.
– Маэстро, туш! – Рыжий был на вершине успеха. – Впрочем, не надо оваций. – Он ленивой походкой пошел к столу. – Кто повторит?
Ребята молчали. Витюня стоял словно каменный истукан.
– Да вы чего? Это же совсем просто! Чик и…
– Да брось ты, – вяло оборвал его здоровяк Петя и повернулся к Витюне: – А ты давай иди отсюда, дядя.
Рыжий сник, как-то завял сразу, зло обжег глазами Витюню. Потом достал из сумки начатую бутылку, налил полкружки, молча двинул ее по столу в направлении своей бывшей мишени.
– Ну чего вы, ребят?
Он откупорил последнюю посудину, подождал, пока допьют пиво, налил всем. Выпили молча, оглядываясь на дверь, из-за которой в любую минуту могла появиться фигура дежурного милиционера.
– А ну его, – снова пробасил Петя, – давай забирай свое, дядя.
Витюня опомнился и торопливо схватился за кружку.
– А я ничего, ребят. Да это ж игра такая. Чего мне – носа жалко?!
Он жадно хлебнул. Покосился на Николая. Тот смотрел в угол, на мусорный бачок. Витюня торопливо допил содержимое кружки и поплелся к приятелю. Присел рядом с ним. Николай отодвинулся.
– Не обижайся, Колюнь, что не оставил. Я ж страдал, а ты… ты ведь и не поддержал словечком даже.
Он всхлипнул, размазал слезы по щекам, потупился. Веселье в компании было нарушено. Студенты потянулись к выходу, шли, не глядя на тех двоих. Только рыжий задержался.
– Я, мужики, сейчас, мигом, догоню, только в туалет сбегаю.
Он и вправду скрылся на минуту за дверью туалета. Но тут же вышел, убедившись, что в зале никого, кроме него самого и двух забулдыг, нету. Подошел к Витюне.
– Ну что ж ты, дядя? – просипел он. – Чего ж ты меня так подвел? Схохмить не мог, жертву из себя корчить начал? Всю затею мне опошлил, изломал, алкаш, так?!
Витюня виновато развел руками, скроил жалкую улыбку.
– Это хорошо, что ты сам осознаешь свою вину, дядя! Только таких, как ты, учить надо.
Он без размаху, резко и зло ткнул кулаком в лицо Витюне. Тот качнулся, привстал, выкинув от неожиданности ладонью вверх правую руку. Парень быстро вытащил что-то из кармана и пришлепнул протянутую ладонь.
– Опохмелись-ка, дядя! Ты честно заработал это.
Сверкнув глазами по Николаю, он быстро вышел.
– Ведь чего делают?! – уже в экстазе выдохнула буфетчица. – И куда только милиция смотрит!
У Николая от сердечного перестука потемнело в глазах. Ему случалось быть битым. Били на глазах и Витюню. Но так расчетливо и холодно это не происходило никогда. Он не мог отличить яви от какого-то сумасшедшего бреда, творившегося то ли взаправду, то ли нет. А Витюня чему-то молча улыбался и глядел своим вытаращенным даже сквозь оплывший синяк глазом на металлический рубль, лежащий на его широкой ладони.
«А ведь я трус, – подумал Николай, – самый что ни на есть трус!» Ему стало мучительно жалко себя. Не Витюню, а именно себя. «Дошел! Казалось, некуда уже, ан нет! Есть куда. Еще катиться и катиться! А ну и хрен с ним! Что с того, что трус? Ну что?! А эти лучше? Не-ет, пускай каждый сам себя жалеет!» Он выхватил из Витюниной ладони рубль и пошел его менять.
– Шли бы вы отсюдова! – проворчала буфетчица. – Вот придет участковый, он вас наладит!
– А мы его и дожидаемся, – ехидно улыбнулся Николай и сгреб обменные двадцатники.
Откуда-то вдруг стал прибывать народ. Бар заполнялся. Дымовая завеса становилась гуще. Гул десятка голосов колебал воздух над столиками, убаюкивал.
Николай с Витюней выпили еще по кружечке. Ничего не изменилось.
– Ладно, пойдем, – сказал Витюня и осекся: – А впрочем, постой.
Он подбежал вдруг к столикам, за которыми недавно стояли студенты. Что-то блеснуло в его руках.
Николай особо не присматривался к приятелю и его суетливым движениям, но когда подошел ближе к размену, обратил внимание, что Витюня там чего-то выклянчивает:
– Ну, приглядись, хозяйка, это ж не просто так – фирма!
Та водила носом и даже не глядела на зажатые в руках посетителя очки. Витюня настаивал, лебезил. И, как всегда, добился своего.
– Ладно, давай. Трояка тебе с лихвой хватит!
– Да ты чего, мать? Это ж маде ин оттуда, гляди, и стеклышки затемненные.
– Ты лучше-ка скажи, кто их темнил, да и вообще, откудова они у тебя, а? Ни за что б не взяла, если б ребятишки поскромней себя вели, вернула бы. Да уж пускай получают, чего заслужили, в воспитательном плане, на пользу пойдет. Только по этой причине и беру.
– А-а, годится! – вздохнул Витюня.
На улице припекало. От свежего воздуха застучало в висках, в глазах зарябило. Немного постояли в тени, привыкая к свету, к зелени, к чистоте. Солнце забралось повыше, и лучи его били почти в самую макушку. Легкий ветер играл податливой листвой. Надо было что-то придумывать, но думать не хотелось. Даже Витюня ненадолго скис.
– Эх, Колюнька, у меня от кислорода этого спазмы в мозгах, – прогундосил он, – хочется, знаешь, к выхлопной трубе припасть.
Невдалеке от пивного бара темнел небольшой овражек. Туда они и свернули. Захотелось отдохнуть. Поваляться на пригретой травке. Народ в овражек не захаживал, да и постовые с участковыми были там не частыми гостями. Тихое место.
Николай прилег за чахлыми кустиками, вздохнул облегченно. Теперь он чувствовал себя почти в норме. А когда это случалось, на подвиги еще не тянуло. Витюня мусолил в руках трехрублевую бумажку, пересчитывал мелочь. Через полчаса отдых ему приелся – деньги руки жгли.
– Ну, ты как хочешь, а я пошел, – сказал он, – только не линяй никуда.
– Ладно, уговорил, – вяло промолвил Николай, – не слиняю.
И Витюня убежал. А Николай погрузился в сладкую дрему, даже и не подумав, почему он решил прикорнуть тут, неподалеку от людной улицы. Почему не пошел домой, подальше от чужих глаз? Ведь дома было бы спокойней и вообще… Но он и не хотел думать о таких мелочах, не желал, и все тут. Здесь было хорошо, а больше ничего и не требовалось.
Впервые за последние дни и ночи ему снился приятный сон. В чем заключался этот сон, Николай навряд ли сумел бы объяснить, но было в этом наваждении что-то чистое и безмятежное, не связанное со всеми его нынешними хлопотами и невзгодами. Может быть, это было далекое лучистое детство, граничащее с младенчеством, а может, и вообще что-то потустороннее, не передаваемое словами.
Лишь в самом конце сновидения кое-что прояснилось. Словно подернулась рябью, а затем спала совсем розоватая дымчатая пелена. Вместе с ней тело покинуло оцепенение. Вялость и безмятежность улетучились. И Николай почувствовал себя сильным, необыкновенно добрым. Он вдыхал полной грудью воздух и радовался тому, как он свеж, как напоен резкими, пронзительными запахами жизни. Он стоял во дворе своего детства. И деревья-исполины нависали над ним могучими зелеными кронами, и небо было высоким-высоким, ослепительно голубым. Краски, которых он не ощущал последние годы, обрушились на него лавиной, ошеломили. Но он не почувствовал даже легкого головокружения, он принимал весь этот пробудившийся мир как нечто должное. Вот она, жизнь! Наконец-то! Все, что было прежде, лишь жуткий кошмарный сон. Да-да, именно затянувшийся сон, от которого, казалось, невозможно избавиться. Но он прошел, он кончился и больше никогда не вернется! Сердце забилось ровно, успокоенно и перестало ощущаться, его затравленная, измученная жизнь осталась позади, в прошедшем кошмаре, а теперь оно стало упругим, молодым. Николай провел рукой по груди, мышцы напряглись, ожили. Словно со стороны он вдруг увидел себя – загорелым, стройным, крепко стоящим на ногах. Глаза голубой прозрачностью наполняли чистое спокойное лицо, на котором была улыбка – безмятежная и легкая. Вот она, вот его жизнь! Теперь это навсегда! Этому не будет конца, это вечно! Он упал лицом в густую траву, и кожа тут же впитала в себя терпкую зеленую прохладу. Перед самыми глазами на упругом порыжевшем стебелечке висел вниз головой кузнечик. Его матовые темные бусинки удивленно пучились на странное существо, упавшее сверху, неестественно выгнутые назад голенастые лапки подрагивали в напряжении. Николай дунул на кузнеца, и тот исчез. Зачем? Куда ты? Николай любил сейчас и это бессмысленное создание, и щекочущие его кожу травинки, и землю, и небо, и высоченные деревья. Он перевернулся на спину, замер. Издалека донесся детский смех и оживленные женские голоса. Меж деревьев взметнулась стайка птиц и тут же растворилась в синеве. Да, это именно тот самый, незабываемый двор его детства. Двор, в котором все манит, влечет, в котором все интересно. Как же он очутился тут? Мысль мелькнула и пропала. Разве это важно?! Ведь он здесь, он снова живет, это главное, все остальное – суета, детали: где, что, почему? Да какая разница! Лишь бы оставалось все так, как есть. И больше ничего не надо! Николай снова уткнулся лицом в траву, застыл. Нет! Надо, обязательно надо! Первым делом разыскать Олю, вернуться к ней. Без нее весь этот яркий, радостный мир будет не полон, без нее… И еще – институт, его институт, где друзья, работа, где все, что ему дорого и интересно. Обязательно туда, к ним. Но ведь он же и не расставался с ними, ни с Олей, ни с друзьями, ни с работой! Ведь это был липкий сон! И ему по-прежнему двадцать шесть. И как только могло привидеться такое, почти десять лет мрака, страха, животного оцепенения и нескончаемой муки? Он отряхивался от остатков жуткого кошмара, сдирал с себя, как омертвевшую кожу. Свободен! Все впереди. Ничего и не кончалось. В голове было ясно и светло. Послушное тело ждало приказаний, было готово на все. Сейчас. Еще немного. Николай упивался своей легкостью, здоровьем. Сейчас. Хватит валяться на травке. Пора туда, к людям. Пора! Он привстал, уперевшись локтями и коленями в землю. Но какая-то сила бросила его назад, распластала. Что такое! Он сделал еще одну попытку подняться, потом еще и еще… Но его снова и снова бросало на землю. Он не мог ни на сантиметр оторваться от нее. За что?! Немой бессильный вопль застыл в горле. Почему?! Николай не прекращал борьбы, почти не замечая, как потускнели все краски и уплыл куда-то такой знакомый двор с голосами и птицами. Он лежал на голой бурой земле. И руки – чем сильнее они упирались в эту землю, тем глубже погружались в нее. Не хочу! Земля уже была не землей, а вязкой хлюпающей трясиной, вбирающей в себя понемногу все тело. Она леденила, чавкала, чмокала, пузырилась. Она была не только внизу, но и с боков, и сверху. Она была всюду! Не хочу!
Смертельный ужас охватил Николая. Он уже не мог и даже не пытался отличить, где сон, где явь. Его трясло и засасывало. Он кричал, бесновался, звал на помощь. И не мог вырваться из цепких объятий трясины…
Пробуждение было как удар молота. В мозгу что-то разорвалось, лопнуло – пронзительная боль застряла в затылке. Сердце стучало не только в груди, но и в висках, в глазах, в желудке – все тело было одним загнанным, тяжело бьющимся сердцем.
Николай перевернулся на бок и, с трудом встав на четвереньки, пополз по склону оврага наверх. Перед глазами все мельтешило, вертелось, не могло стать на свои места. Боли он уже не чувствовал, какое-то странное отупение взяло над ним власть.
Сверху кто-то звал, говорил что-то. Но Николай не мог различить ни слова. Все звуки сливались в неясное бормотание, издаваемое кем-то расплывчатым, похожим на человека. Николай не мог окончательно прийти в себя, он все еще оставался в щупальцах наваждения. Пытался вырваться из них и потому-то карабкался по склону, в кровь обдирая руки, уродуя давно не стриженные ногти.
– Руку, руку давай! – доносилось как сквозь вату. Николай сощурил глаза, всмотрелся – там наверху сидел на корточках старик и тянул ему широкую узловатую ладонь. Именно эта живая, подрагивающая ладонь и убедила Николая в том, что сон позади, что он выкарабкался из черного омута. И это было как открытие, он перестал рваться наверх, сразу ослабел, сполз на дно оврага и, уткнувшись лицом в землю, беззвучно зарыдал.
– Да ты чего? – неслось сверху. – Чего с тобой? Ну, погоди, я спущусь!
Николай не слышал слов. Истерический припадок был позади. И он уже забыл, как катался по земле несколько секунд назад. Все отступило перед одним – сон, до последней его фазы, был настолько явственным, что Николай уверился в нем, уверился в своем здоровье, в своей силе… И теперь, после того как он почувствовал себя, пусть ненадолго, пусть во сне, но все-таки человеком, возвращаться к своему обыденному состоянию было невыносимо! Почему, почему он не умер в этом сне?! За что он должен снова возвращаться в себя, в свое изношенное, истерзанное тело! Он рыдал и рвал руками траву. Растоптать, уничтожить все вокруг, взорвать этот мир! Весь! Но его сил не хватало даже на то, чтобы выбраться из оврага.
– Эй, дружок! Да ты здоров ли?
Николай почувствовал на своем плече тяжелую ладонь. Старик все-таки спустился вниз и теперь хотел помочь ему. Но Николай помощи ни от кого принимать не желал. Желание было одно – остаться в этом овраге навсегда. Умереть в нем.
– Уйди! – сквозь зубы бросил он старику и дернул плечом, стряхивая ладонь.
Но она даже не шелохнулась.
– Ух ты, горячий какой!
– Что вам от меня надо? – не выдержав, закричал в голос Николай, чувствуя бессильную, закипающую мутной пеной ярость.
– Ну-у, теперь точно вижу, перебрал парень. Я-то сомневался поначалу, а теперь… Я-то думал, вдруг приступ какой, падучая, к примеру. Ну да чего там, вставай!
Николай отвернулся, вцепился в траву.
– Подымайся-ка, нечего тут, пойдем. – Старик просунул руку под мышку Николаю и приподнял его. – Раз уж я к тебе слез сюда, так чего ж, бросать? Пошли!
Николай понял, что старик вредный, прилипучий, от такого не избавишься. Он поддался. Встал, оперся на плечо. В голове сильно гудело, но ноги ничего, ноги держали.
– Вот и молодец! – обрадовался старик. – Пошли-ка, посидим на скамеечке, отдохнешь. Совсем в себя придешь. Ох ты, дела!
Николай уперся и недоверчиво посмотрел на старика. Тот был пониже его, в соломенной шляпе и с короткими сивыми усами. На лацкане буклястого серого пиджака поблескивала медаль ветерана.
– Да ты не пугайся! Тут наверху лавочка есть, за деревьями. Посидишь проветришься…
– Там милиция, – хрипло выдохнул Николай и стал вырывать руку.
– Дурачочек! Да тебе самому надо к ним идти, там определят, направят лечиться…
Николай рванулся сильнее. В глазах его застыл испуг, ноги ослабли, стали разъезжаться в стороны.
– Да не ершись ты! Я ж тебя никуда силком тащить не собираюсь, дурачина. Пошли.
Они долго, оскальзываясь и опираясь временами о кочки, придерживаясь за жидкие кустики, выбирались наверх. Старик взмок, сдвинул шляпу на затылок. Он тяжело дышал, с присвистом, с надрывом.
– Садися!
Николай плюхнулся на скамейку, вытянул ноги. Его охватило полнейшее безразличие ко всему и прежде всего к себе. Зачем с ним возятся? Какой толк от этой возни? Как они не понимают сами!
– Вот и порядок. – Старик стер рукавом испарину, приободрился. – Что ж ты с собой делаешь? Ведь молодой еще! Небось, немногим за сорок перевалило?
– Тридцать шесть, – машинально ответил Николай.
Старик покачал головой, промолчал.
– Я пойду, – попытался встать Николай.
Но старик дернул его за рукав, и он не удержался на ногах – спинка скамьи больно ударила в спину.
– Ну куда ж ты пойдешь, куда!
Они просидели молча несколько минут. Николай чувствовал себя не в своей тарелке, но не мог ничего связного проговорить – и мысли и слова путались в голове, язык не слушался.
– Я вот уже седьмой год на пенсии, – начал старик, подергивая просмоленный ус, – не поверишь: шесть классов образования, всю жизнь формовщиком, а тут так увлекся книжками ни днем, ни ночью оторваться не могу. Гулять и то себя силком понуждаю. Всю сыновью библиотеку перечел, за внуковы книжки принимаюсь. Он большой уже у меня…
Николай согласно кивал, не вслушиваясь в слова. Его совершенно не интересовали ни сам старик, ни его увлечения, тем более какие-то книжки, внуки. Николай страдал, он жалел, что всю мелочь оставил Витюне и сейчас даже не на что сходить выпить кружку пива.
– … не поверишь – Достоевского, Федора Михалыча, от корки до корки все собрание осилил. Матерый мужичище был, надтреснутый, правда, с болью большой в сердце, но матерый…
Какой Достоевский? О каком Достоевском мог рассуждать этот старик с шестью классами! У Николая отчаянно ломило в висках. И размеренный неспешный голос сводил его с ума, забивая гвоздями в раскаленную голову каждое слово. Но он не мог собраться с силой и прервать рассказ своего «спасителя». Где же Витюня, где черти носят этого предателя?! Николай в бессилии заскрипел зубами, ударил кулаком по лавке.
– Ты чего? – испугался старик. – Ты не шебурши, брось! Он тут же успокоился, видя, что Николай не собирается ничего предпринимать, а сидит тихо. – Так он ведь как писал – наш человек душевный, понимающий человек наш, весь народ наш такой, у него и преступник, у народа-то, и пьяница пропащий, он прежде всего несчастный. Он, конечно, преступник, и наказан поделом, и пьяница, он тоже не в почете. Но нашего-то человека, народ наш, он за несчастных их считает, он не отказывается от них. Ты только встань на путь честный, будь пьяница, преступник, все тебе позабудется, коль увидят люди, что за ум взялся, все простят и еще теплее встретят… Как верно пишет, а! Только я еще скажу, от себя – терпение-то не бесконечно у людей, не надо его, терпение-то, испытывать.
Николай был готов встать и убежать. Но куда бежать, что делать – он не знал. Старик говорил ему то, что он хорошо понимал, о чем читал не раз, да и в самом народе слышал. Но почему-то именно эти негромкие, глуховатые стариковские слова звучали убедительнее, чем призывы самых красочных и пугающих плакатов.
– Я вот до войны-то, помню, по-другому было. Я тогда в деревне еще жил. Сейчас, как говорят, вся Русь-матушка испокон веку топит себя в питии хмельном, мол, обычай, то да се… Неправда это. Сколько в деревне жил – не помню, чтоб пьяный хоть раз появился на людях, на праздниках и то больше пели, чем пили. Да и мать моя и отец то же про старину сказывали. Обычай?! Враки все – нету такого обычая! Старик разволновался, даже привстал со скамейки. – А вот с вас почему-то пошло-поехало, с после войны. Ведь казалось, живи да радуйся, все есть, чего нету – то будет, вкалывай себе, солнышку да миру радуйся! Ну нельзя так. Тридцать шесть всего-то! Да это же…
Николая начинал снова одолевать сон. Он был согласен со стариком. Согласен полностью, с каждым его словом. Но ему хотелось выпить, заглушить боль, слабость, отчаяние… Или провалиться в забытье, чтобы ничего не чувствовать, чтоб уйти из этого жуткого мира, хоть ненадолго, но уйти.
– … сам себя через неделю не узнаешь, другим человеком почувствуешь. Да что там другим – просто человеком! Ведь ты сейчас кто…
Николай уронил голову на грудь. Он еще не спал, но уже и не мог справиться с дремотой, высасывающей остатки сил. Слова еще долетали до него, но он уже не был в состоянии осмыслить их. Через минуту он потерял и возможность слышать. Он провалился в бездонный мрак, пустоту, без сновидений, без слов, без мыслей.
Старик рассуждал еще долго, он не остановился даже когда заметил, что его не слушают. Старику надо было выговориться. И говорил он не столько для незнакомого спящего мужчины, сколько для себя. Двенадцать лет назад у него погиб сын, по пьянке.
Старик говорил и для него, он до сих пор не мог смириться с бессмысленной смертью, не верил в нее.
Он просидел еще полчаса. Помолчал, думая свою думу. Потом вытащил из кармана яблоко, обтер его о рукав, положил рядом с Николаем. После этого ушел, держась рукой за сердце и чуть прихрамывая.
А Николай спал, развалившись, подергивая временами то рукой, то ногой. И никто его не обеспокоил, никто не потревожил его сна. Ни участковый Схимников, ни один из вечно меняющихся постовых, ни случайный прохожий. Николай проснулся сам.
Рядом уже сидел Витюня. Увидев, что друг открыл глаза, он ласково, с хрипотцой протянул:
– Баю-баюшки-баю, слушай песенку мою.
Николай, отгоняя дурман, весь превратился во внимание. Порадует ли его приятель, может, разжился чем? Он ощупывал глазами карманы брюк, заглядывал за пазуху. Но ничего не мог обнаружить.
– Ага, вот и закусь! – сказал Витюня, заметив яблоко, лежащее подле Николая. И быстро сунул его в карман.
Николай чувствовал себя значительно лучше, чем после первого пробуждения в овраге. Сон возвратил ему силы, прояснил голову. Не совсем, конечно, совсем она не прояснялась уже давно, очень давно, – но все же до терпимой степени. Он был готов к новым поискам, хождениям, ко всему тому, что он называл про себя «трудностями».
– Не отчаивайся. Все путем, поводов для беспокойства никаких, – частил Витюня, поглаживая через ткань брюк яблоко. – Помыть бы…
Николай выдавил ехидную улыбку, глядя на давно не мытое лицо приятеля.
– Да у тебя, Витюнь, такой иммунитет, что ты вперед от него дуба дашь, чем от любой заразы. Говори лучше толком как у тебя?
Витюня заегозил.
– Ничего…
Николай встрепенулся, застыл.
– Ничего у меня не вышло, но не беда, корешок, через три минуты магазин открывается. Давай очухивайся.
Винные пары еще не выветрились, но тело уже было не то, опять возвращалась слабость. Николай встал, деланно бодро потянулся. Махнул рукой. Разбухший, заполнивший собою весь рот язык только мешал говорить.
– Пошли!
У магазина их ожидал неприятный сюрприз, на двери висела табличка: «Буду через полчаса. Уехала на базу». Витюня присвистнул.
– До другого переть – не меньше выйдет. Ну чего, будем ждать?
Чтоб не мозолить глаза прохожим, они зашли во дворик. Николай при каждом шаге громко шаркал стоптанными подошвами и сам не замечал этого. Закрытый магазин его расстроил окончательно.
– Вот ведь невезуха, ну не прет…
И тут Витюня разинул рот. Николай не мог понять его изумления. Насторожился.
– На ловца, Колюня, и зверь бежит. Гляди-ка – старая знакомая. Эту мы счас в оборот возьмем!
Витюня, подтолкнув приятеля локтем, устремился к груде порожних ящиков. Его стриженый затылок вновь залоснился, побагровел. Ловец! Николай последовал за ним, вжимая на ходу голову в плечи. Наконец он увидал, что привлекло Витюнино внимание. Это была женщина неопределенного возраста, примостившаяся среди ящиков, невзрачная, из тех, от кого сразу же отводят глаза, будто боясь испачкаться. На людных улицах таких встретишь не часто.
– Здрасьте вам наше с кисточкой! А ты все хорошеешь, Зинулька!
Женщина, не поднимая головы, исподлобья окинула недобрым взглядом подошедших. Восторга от встречи она не испытывала. Николай заметил, что Зинулька торопливым жестом спрятала что-то в свою видавшую виды суму.
– Чего надо? – спросила она неожиданно сиплым голосом.
И Николай понял – это наша, отмеченная особой печатью, а значит, и пыжиться перед ней не стоит – глаз был наметанный.
– Да так, ничего, Зиночка. Посидим, покумекаем. Мы тут с приятелем гоношим… Может, и ты в компанию войдешь?
– Еще чего?! – женщина отвернулась.
Витюня вытащил трешку и полпригоршни мелочи.
Тряхнул все это на ладони.
– Боюсь, самим многовато будет. Если чего – присоединяйся!
В глазах, почти прикрытых пухлыми верхними веками, блеснул интерес.
– Вам верить – себе дороже.
– Ну, как хочешь, нам больше достанется. У Коляньки вон еще рублец есть. Да и я недаром бегал – вон, взгляни, в ящичке, почти под тобой, левей, левей – шесть бутылок из-под портухи и пара с-под пива.
Женщина придирчиво осмотрела содержимое ящика. Сокрушенно покачала головой.
– Эх, раньше б знала…
Николай в разговоры не вступал. К чему эта лишняя обуза им? Да и, честно говоря, делиться предстоящей «покупкой» не особо хотелось. К чему? Но Витюня повел себя иначе.
– Зин, я ж тебя чую, доставай – чего там припасла. Да не боись – все честь по чести будет. Мне не веришь, вот Коляне поверь – да он прирожденный интеллигент. Такой не подведет.
Николай кивнул. Его не прельщало пить в обществе незнакомой грязной бабы. Но действовала мужская солидарность. Да и выпить хотелось очень сильно.
– А чего это у твоего интеллигента все ручищи в земле? Ой, да и кровь на них запеклася! Ты чего?
Николай смутился и спрятал руки за спиной.
– Сходил бы сполоснул, хоть в луже, – и то дело!
– Не графья! – вставил Витюня и выразительно уставился на сумку.
– А, была не была! – Женщина достала бутылку «Белого крепкого». – Но глядите!
После первого стакана она подобрела, разулыбалась:
– Пропади все пропадом, эх, мать ты моя. Давай по второму, чего тянуть?
Продавщица из магазина не подвела – ровно в тридцать пять минут третьего она уже была на месте. Общих денег хватало на бутылку водки и бутылку портвейна, черного, как смоль, девятнадцатиградусного. Все это перекочевало в Зинкину суму.
– С вами еще влипнешь. Пойдем ко мне – все равно украсть нечего.
И они пошли. Зинка чуть впереди. А они сзади, оглядываясь, шаря глазами по каждому кустику, будто ожидая, что оттуда вынырнет ни с того ни с сего фигура милиционера и сорвет им предстоящий праздник.
Идти было недалеко. Но у самого подъезда неизвестно кого дожидавшийся капитан Схимников остановил Зинку:
– Опять ты тут?!
– А где ж мне быть? Вы меня, товарищ участковый, не трожьте. Инвалид я, на законном отдыхе.
– Знаю я про эту инвалидность. И про то, чем ты себя до нее довела, тоже знаю! Твое счастье, что последние полгода от жильцов жалоб не поступало…
Зинка сделала вид, что хочет отпихнуть милиционера плечом. Тот невольно отшатнулся, и она прошла, помахав ручкой на прощание.
Схимников только головой вослед покачал, прошептал: «Дождешься ты у меня». И пошел своей дорогой, хлопот у него хватало.
Витюня с Николаем заблаговременно спрятались за углом дома, притихли.
Вся показная веселость и бесстрашие мгновенно слетели с Витюни. Он побледнел, челюсть затряслась. Николаю тоже было не по себе. Глаза его забегали и совершенно случайно остановились на коричневой доске объявлений, висящей тут же на стене. Обычно там красовались беленькие четвертушки листа, вещавшие о ремонте, отключении воды и злостных неплательщиках. Но сейчас Николаю в глаза бросился красный цвет, которым была выведена Витюнина фамилия.
– Гляди!
– Чего там еще? – Витюня с уходом Схимникова ожил, нахальство и безмятежность вернулись к нему.
Николай указал пальцем. Объявление гласило: «Четырнадцатого числа в ДЭЗ-37 состоится разбирательство антиобщественного поведения гр. Жбанова В. А. Явка…»
У Николая мурашки побежали по спине. Но все же он вздохнул с облегчением – мимо него прошли, есть еще время. Он затравленно оглянулся, вздрогнул от прикосновения к плечу Витюниной руки. Витюня стоял и чесал загривок, шумно, не щадя кожи.
– Что будешь делать? – спросил Николай.
Витюня расплылся, хлопнул себя по жирным бокам.
– А я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, – просипел он, безбожно коверкая какой-то знакомый мотив, – а от вас, дорогие общественнички, и подавно уйду!
Николай поежился, смолчал.
– Ну, чего вы там? – раздался тихий голос из окошка второго этажа. – Смелей давай.
Зинка жила в коммунальной квартире. Она и предупредила об этом сразу же, без намеков.
– Ежели чего – глядите!
Убранство в ее комнатушке было несравненно богаче, чем в квартире Николая. Особенно его поразил дешевенький электрофон с колонками. Под ним лежала куча пластинок. Лежала вповалку. Посреди комнаты стоял круглый стол, и бутылки уже покоились на нем, не откупоренные, но очень аппетитные. Витюня потер ладони. В углу примостился диванчик, а у стола стояли два обшарпанных стула и какое-то казенного вида кресло.
Зинка тщательно заперла дверь. Сдвинула занавески. И от этого Николаю стало как-то не по себе, он вдруг почувствовал себя взаперти, в клетке. Захотелось сбежать. Но бежать было некуда и поздно. И Николай взялся за бутылку.
– Не, мальчики, – вдруг сказала довольно-таки звонко Зинка, – начнем с беленькой. Ну, а не хватит – залакируем. И не спешите. Пускай сегодня все как у людей. – Она полезла под столик за пластинками, и Николай увидал ее еще совсем приличные, крутые даже ноги. – Ну вот. – Она помедлила. – А ты чего ошалел, милок? И не узнал, что ли?
Зинка смотала с головы платок, похожий скорее на помойную тряпочку, и по плечам ее рассыпались не очень чистые, но еще густые светлые волосы.
– Ты не смотри на лицо-то, Коленька ты мой Новиков, думаешь, старуха-алкашка? – Она расхохоталась, действовало выпитое. – Да я же, отличничек ты мой, на класс моложе в одной школе с тобой училась!
Она снова засмеялась. А Витюня стал заговорщицки подмигивать, подтверждая Зинкины слова кивками.
– Это ж ты у нас один такой слепенький, ничего не помнящий. Тетерюшка ты наш. Весь двор, да и вся улица с прилежащими, все тебя знают. А ты крадешься все по закоулочкам, секретного агента из себя делаешь. А ты плюнь, голубь! Ты гордись и плюй в их поганые рожи. Ежели нам такая житуха нравится – наше дело. И стыдиться тут нечего. Понял?!
Она поставила пластинку на вертушку. Звук был неважнецкий, но настрой он поднимал. По комнате приглушенно растекалась какая-то цыганщина.
– А ну, Витька, разливай! – Было заметно, что Зинка не просто навеселе, а уже хороша.
Первые полстакана она выпила не присаживаясь. Витюня задрал кверху большой палец:
– Молоток, Зинуха, – и, выглотав свою долю, перевел дух.
Николай никак не мог решиться, он знал, что уж эта доля, не полстакана, конечно, а все предстоящее, выведет его из колеи надолго. Но взвешивать свои поступки он отвык, соблазн был сильнее. Водка даже не обожгла неба, протекла внутрь, как вода.
– Вот это по-нашему, не люблю кислятины.
Витюня подобострастно хихикнул. Получил в свою сторону одобрительный взгляд хозяйки и потянулся опять к бутылке. Закуской шел еще не совсем квелый лук, полбуханки черняги да разрезанное на три части стариково яблоко.
– Не гони коней, еще на заходик оставь!
Зинка, так же небрежно, как и платок, сбросила свой полинялый плащ. Оправилась. Под плащом был мятый цветастый халатик с пуговками сверху вниз, из тех, что носят не слишком опрятные домохозяйки.
– Ох, мужички-мужички, хошь какие, а все веселей. – Она расслабилась, лицо размякло. – Да чего уж там, выбирать не приходится, и сама…
Зинка сбилась и зашлась в приступе плаксивого смеха, отчего складки и морщины на ее лице стали глубже, обозначились даже те, что не были заметны до этого. Щелки глаз сузились, у переносицы выступило несколько крупных слезинок. Они подрагивали на пористой, шелушащейся коже щек в такт захлебывающемуся смеху, похожему на частую и крупную икоту. Николай скосил глаза в сторону – зрелище было настолько неприглядно, что он не мог его выдержать дольше. Витюня же смеялся вместе с Зинкой. Он вообще отличался смешливостью, именно про таких говорится – покажи палец… Витюне было смешно, и это почему-то бесило Николая.
– Ну ладно, хватит. – Зинка перебарывала приступ, продолжая часто и порывисто вздыхать, подергивая вверх головой. Она уже не хохотала, как прежде, но все тело ее не переставало содрогаться, будто по нему волнами прокатывались судороги. – Хорошо, повеселились, и будет. Я вам сейчас кой-чего расскажу забавная штука. Я как вспомню, так прям удержаться не могу.
Витюня замолк. Потянулся к горбушке черного хлеба, надломил ее, начал терзать короткими опухшими пальцами кусок, кроша на скатерть, на пол. Нижняя челюсть у него отвисла, глаза подернулись мутной пленкой, стали бессмысленными, но внимающими, ждущими чего-то.
– Вот слушайте. – Зинка придвинулась ближе к столу, наваливаясь на него своей могучей оплывшей грудью. Грудь заходила ходуном, словно растревоженный студень. Но рассказчица не обращала на это ни малейшего внимания. – Живет тут у нас один, ха-ха. Этажом выше. Зашибала. Не может пить, щенок. Все пьют. И мы пьем. Только мы ж умеючи, нормально. А этот огрызок – молодой, но дурной, свет таких не видывал. Как наберется, себя не помнит, не соображает ни на грош. Я-то поначалу, когда они к нам переехали, приглядывалась что к чему. Думала, может, случаем он такой бывает. Так нет. Раз в неделю, как штык, нарезается до помрачения. Остальные-то дни сухой ходит, трезвый. А по пятницам волю себе дает, праздник устраивает…
– Чего воду толчешь! – стукнул ладонью по столу Витюня, он не любил длинных и подробных повествований.
– Не мешай, – отмахнулась от него Зинка, – сиди и не вякай, имей к хозяйке уважение.
Голос ее звучал прерывисто, со взлетами и падениями, сказывалось и выпитое, и расшатанные нервы, и еще невесть что.
– Так вот. Года два назад, может, меньше, первый раз он с осоловелых глаз этажи перепутал и ко мне ломится. Мол, я здеся живу. Я ему культурно так, дескать, давай проваливай, щенок, пока шум не подняла. – Зинка передохнула, уставилась на пустые стаканы, но налить не предложила. – И что вы думаете? Утром встречаю его, заговариваю – ничего не помнит. Бог ты мой! Ну, думаю, погоди – ты у меня память-то обретешь, прочухаешься.
Николая стало утомлять бестолковое лопотанье хозяйки. Он даже чуть было не задремал. Но вовремя спохватился – спать нельзя, а то допьют без него, будить не станут. Он с трудом переборол сонливость, попытался вслушаться.
– Разика два-то я еще пропустила, для проверки. А потом… – Зинка снова захлебнулась смехом, но быстро оборвала захлеб, даже ухватилась рукой за щеку, будто сдерживая себя. Глаза ее сузились еще больше, не стало видно даже зрачков. Только какие-то вспыхивающие зеленые искорки пробивались из-за сомкнувшихся век. – А потом заходит в один распрекрасный вечер, опять со стуком, мол, моя квартира! А я дверь распахиваю да с ходу ему кулаком в лоб! Да по носу!
Витюня вздрогнул, оживился, заерзал на стуле.
Глаза его прояснились.
– Ну, Зинка, ну, молодчага!
Зинка подняла руку ладонью к Витюне. На лице ее появилось самодовольное выражение, щеки зарозовели.
– Погоди! Слушай дальше, – продолжала она. – Тут он и остолбенел. Глядит – не кумекает ничего, как с потолка сверзился. А я еще разок, да еще! Рука у меня тяжелая, – она вытянула руку, и Николай убедился – не врет, не рука, а ручища, целая лапа, набухшая, красная, с сетью склеротических синих вен.
Витюня одобряюще зачмокал губами. В его глазах Зинка приобретала все больший вес.
– Вот так. Он у меня мигом свой дом нашел. Да не поумнел. Не буду врать, не каждую пятницу, но раз в месяц точненько прет ко мне. А я ему в рожу, да в поддых, да коленкой, да с лестницы спускала сколько. Лучше всякой комедии и цирка, не соскучишься!
У Николая начинало нарастать зло к Зинке. Он не мог больше терпеть этого смакования издевательств над бесчувственным, пускай и пьяным, человеком. Он даже поставил себя на место Зинкиного соседа, и ему стало жутко. Ведь он тоже теряет память после больших возлияний, он тоже не в состоянии вспомнить, что с ним было в предыдущий вечер. А эта! Нет, надо заткнуть ей рот, заставить помолчать. Но когда он уже собирался осуществить свое намерение, его будто громом ударила мысль – тогда его прогонят, не дадут допить. Это было страшнее любого другого наказания. И он смолчал, даже заставил себя несколько раз улыбнуться натянутой, заискивающей улыбкой.
А Зинка вошла в раж. Глаза расширились, блестели и казались уже не просто пьяными, а безумными.
– Тихо, тихо! – вещала она, боясь, что кто-то перебьет ее несвязную речь. – Тут главное не в этом. Тут соль-то в том, что не помнит ни хрена! Я у него утром-то, после каждого такого случая спрашиваю, мол, Толь, а Толь, чегой-то у тебя синячище такой огромадный да шишка на лбу? Ой, да и хромаешь ты маленько? Чегой-то? Да ты никак с лестницы упал иль еще откуда? А сама хохочу про себя. А он говорит, упал вчера, случайно, мол. А сам смущается, не помнит, хоть расшибись в лепешку! А я ему – ну, ну, гляди, милый мой, больше не падай, что ж ты такой неловкий?! А сама…
Витюня взвизгнул и задохнулся от восторга, выпучив покрасневшие белки. С полминуты они с Зинкой молча глядели друг на друга какими-то родственными, одинаковыми глазами, а потом снова и надолго зашлись в хохоте.
Николай вежливо, замученно улыбался и думал про себя: «Сволочи! Оба сволочи!» Внутри у него все дрожало, и он боялся, как бы переполнявшее его раздражение не вырвалось наружу. Даже мысленно давая определения своим собутыльникам, он пугался этих мыслей, отгонял, спохватываясь ежесекундно не произнес ли их вслух. Все горело в нем, все содрогалось. Но на лице застыла подобострастная, виноватая улыбочка.
Николай пытался вспомнить эту женщину, точнее, ту девочку, которой она когда-то была. Ведь не врет же она про школу! Неужели эти недолгие годы могли сотворить такое? Не верилось. Когда он ее увидал впервые у ящиков, дал бы полсотни с лишком, ну никак не меньше. Эх, время, что же ты делаешь?.. Нет, время здесь ни при чем. В этом надо признаться честно хотя бы самому себе – тоже мальчик какой, спортсмен выискался!
Он чувствовал, как хмель забирает над ним все большую власть. Но отмечал при этом, что напарники его тоже не трезвеют.
Зинка что-то нашептывала на ухо Витюне, обтираясь об него своей свободно колышущейся под халатиком грудью. По щекам ее струились слезы. Витюня сочувственно кивал, не проявляя при этом никакого оживления, и любострастно глядел на бутылку.
– А ведь я… ведь за мной… – бубнила Зинка.
Николай не мог уловить окончаний предложений, да и не пытался этого сделать. Он думал лишь об одном: сидеть бы так подольше, да чтоб никто не беспокоил, не тревожил душу – в этом, наверное, и заключалось для него счастье на сей момент.
Убедившись, что растрогать Витюню не так-то просто, Зинка расплескала оставшуюся водку по стаканам. Сменила пластинку – воздух сотрясло что-то напоминающее «диско», что именно, Николай понять не мог, а Витюня тем более. После этого хозяйка вернулась к столу и, уже покачиваясь, но одновременно наполняясь какой-то неуемной удалью, зацепила, чуть не расплескав содержимое, свой стакан.
– Да неужто вас ничем и не расшевелить! – хохотнула она. – А ну, пить со мной! – Подождала пока Витюня с Николаем опорожнили свое, лихо залила в горло синеватую жидкость, брякнула стакан об стол и, к ужасу Николая, рванула на себе халат сверху донизу, от ворота до подола. – Полюбуйтесь-ка на Зинку! А?! Есть еще на что поглядеть!?
На что поглядеть действительно было. Николай уже не помнил, когда в последний раз видел обнаженное женское тело. Его захолонуло. Да и Витюня сидел выпучив глаза.
– Вот так и пропадает, – Зинка запахнулась, – даже и показать-то некому. Где вы, мужики?! Ох же, как тоскливо бабе, да откуда вам понять-то это!
Она торопливо запахнулась еще раз – пуговиц как не было.
– А и черт с ним! – Зинка мигом откупорила бутылку портвейна, разлила по стаканам, выпила, не дожидаясь остальных, сделала звук в проигрывателе погромче и сказала, махнув рукой, так, что полы халата совсем разлетелись и открытая тяжелая грудь заходила ходуном. – Давайте-ка плясать! Или на это уже не способные?
Витюня скосился на свой стакан, будто не слыша призыва. И получил в ответ презрительный, брезгливый взгляд хозяйки. Зинка направилась прямиком к Николаю. Он сидел как завороженный, не в силах оторваться от этого колышущегося тела. Стакан все же отставил в сторону. Встал. Мягкие руки обволокли его шею, плечи.
– Ну как, мой милый?
Николай молчал. От всей его былой уверенности в отношениях с женщинами не осталось и следа.
Зинка обволакивала его все сильнее.
– Мужикам без баб – тоска, – слюнила она в ухо, – ну а нам и вообще в петлю впору. Ты не гляди на Витюню, хрен с ним.
Ее руки становились настойчивей.
– Погоди. – Николай на долю минуты вырвался из объятий, отхлебнул половину из своего стакана и вновь прильнул к женщине.
Халатик с нее к той поре окончательно слез. А в глазах появилась мольба. И вдруг Николай понял, что это не только пьяная блажь. Она хотела тепла, настоящего мужицкого тепла. И как раз в эту минуту он подумал – а почему бы и нет?!
– Выйди! – сказал он Витюне.
Тот оторвался не сразу, не спеша прихлебывая свое пойло.
– Тоже мне цаца нашлась, не помешаю.
– А ну рви когти отсюда! – взбеленилась Зинка и вдруг успокоилась, глядя восторженными глазами на Николая. – Зайдешь через полчасика.
Витюня нехотя побрел к двери, озираясь на остаток в бутылке.
Очнулся Николай в кресле. Времени, наверное, прошло уже довольно-таки много. Это было видно по солнцу, проглядывавшему сквозь ветви приземистых деревьев за окном. Он долго не мог понять, где находится. Тело ломило, в голове стоял звон, заглушавший все на свете. Николай с силой потер переносицу, удивленно поглядел на свои исцарапанные, грязные руки.
Память путала все: что было сегодня? что вчера? Он даже пугался скосить глаз в глубь комнаты, опасаясь чего-то такого, чего не переживет. Лишь одно знал Николай твердо, будь то сегодня, будь хоть неделю назад, а то и год, – в переделки он никогда не встревает. Никогда, в каком бы состоянии ни был! Вот Витюня, тот другое дело. Но Витюня мастак из них выкручиваться, прямо талант. А синяки да шишки для него ничто. Но разве дело было в Витюне, по сути, Николаю на него было плевать, он повернул голову.
Сразу вернулась память, от сердца отлегло, но и стало вместе с тем малость тоскливо. Все было безразлично и неинтересно, кроме боли, засевшей в голове, и слабости во всем теле. Все!
На диванчике, в уголке комнатушке, лежала Зинка. Как он ее оставил, так и лежала – в чем мать родила. Она спала, постанывая во сне. Разлохмаченная, какая-то обрюзгшая и еще более старая, потрепанная, чем каких-то несколько часов назад. Рядышком пристроился бочком Витюня. И осторожно, боясь разбудить, шарил ладонями по ее телу. Он не замечал, что Николай проснулся, да и навряд ли это смутило бы его. Витюня был увлечен. Он сопел, пыхтел, обливался потом, стараясь ухватиться сразу за все, за что только можно, вжаться в спящую бабу всем телом. И тут Николаю стало его жалко. Он понял, что приятель на большее и не способен. А он-то его считал почти всемогущим.
Вся эта возня продолжалась бы еще долго, если бы не Витюнин внушительный вес. Он явно переборщил со своими ласками спящая проснулась.
– И-и-и, – непонимающе проверещала она, тихо, будто в удивлении случайном. – А ну-у!!
Слов Зинке явно не хватало. Но возмущение ее захлестнуло. Это было видно по быстро, отрывисто вздымающейся груди.
Она отпрянула к валику у стенки, поджала колени.
Витюня моментально сел подальше, но совсем дивана не покинул. Молчание длилось с полминуты.
Николай щурил глаза, показывая, будто он ничего не видит, спит. Но все кончилось довольно скоро.
– У, мерин! – вырвалось какое-то злобное, не же некое. В воздухе мелькнула голая, толстая нога. И пятка впечаталась Витюне под тот же самый злополучный левый глаз. Он повалился на спину, вцепившись руками в подушку.
– Пошел вон, падаль!
Лицо кричавшей было искажено гримасой дикой злобы.
– Ну, чего ты, в натуре? – только и успел выдавить Витюня, скрываясь за дверью. Тон его был обиженный, жалобный.
Зинка уселась на диване, широко расставив ноги и уперевшись в них локтями. Лицо ее покрывали красные пятна. Николая она будто и не замечала.
И он затаился. Выжидал, что же будет, напрягаясь до дрожи. Однако гнев Зинкин был обращен только на Витюню.
– Вот всегда так, – проговорила она жалобно. Что именно «всегда так», Николай не понял, а переспрашивать не решился. Одеваться Зинка, по-видимому и не собиралась. Она отошла к столу. Села за него и откуда-то из-под низу достала бутылку, пустую на треть.
– Ну, за приятное знакомство? – улыбнулась криво.
Молча выпили.
Николай не знал, куда ему деваться. Мало того, что он был не в себе от выпитого прежде, но он к тому же совершенно не мог заставить себя смотреть на эту нахально развалившуюся бабу. Не мог, и все тут, хотя совсем недавно лежал рядом и даже, помнится, шептал что-то ласковое.
– Ну ничего, ничего, – сказала она, – не сразу к дружке дружка притирается.
В этих словах послышалось что-то зловещее, то, чего Николай не хотел, то, за что уже корил себя. Он не желал ее видеть больше никогда! Однако вино выпил и сказал полувопросительно, срывающимся тенорком:
– Ну, я пошел?
Робко встал, не оглядываясь, двинулся вперед. Она его проводила до прихожей, по-прежнему голая, размякшая, с тоскливо-измученным лицом. И уже там в прихожей, Николай понял, что хоть и училась она в той же школе на класс моложе, сейчас она была старше его, намного старше.
– Ох и обрыдло все, надоело, – запричитала она в дверях, – удавиться мало! За что, за что, Господи, наказание мне, черт бы вас всех побрал!
Витюня ждал у подъезда. И это оказалось очень кстати Николаю была нужна помощь. Мало-помалу, но за день спиртного набралось с лихвой, и он уже не очень ясно представлял себе сейчас дорогу к дому.
– Это ты? – бессмысленно пролепетал он.
– А кто же, ну даешь!
Витюня вел себя так, будто у Зинки ничего не произошло. «Непробиваемый, – смутно подумалось Николаю, – как же ему хорошо, все нипочем».
Они поплелись, раскачиваясь из стороны в сторону, спотыкаясь, стараясь держаться в темноте. Солнце уже село. Но фонари не включали. На улице сгущались сумерки, и только в прогалах между деревьями высвечивалось тусклое, постепенно темнеющее небо.
– Куда мы идем? – неожиданно спросил Николай.
– К тебе, куда еще!
Витюня начинал злиться. Ему не улыбалось растягивать путешествие, он надеялся успеть еще кое-что сделать в этот вечер.
– Стоп!
Они остановились.
– Не хочу. Не хочу домой. Не веди меня туда, мне страшно.
– Ох ты, напугался, корешок. Не боись, пока со мной.
Они зашли на детскую площадку и уселись на деревянный барьерчик, огораживающий песочницу. Посреди серой, перепаханной кучи песка торчал одинокий, кем-то забытый, совочек. Он уже не отбрасывал тени – темнота сгущалась все больше. Усаживаясь, Николай потерял равновесие и чуть не опрокинулся назад. Удержался с трудом, и тут же его облило холодным потом, сдавило в висках. Он вцепился руками в деревянные края с такой силой, словно кто-то пытался его оторвать от песочницы и увлечь куда-то далеко, в страшные мрачные места, откуда не возвращаются.
– Знаешь, Витюнь, – выдавил он не своим, глухим голосом, – умру я.
Витюня качнулся и ударил плечом в плечо Николая, затрясся в мелком козлином блеянье. От толчка Николай съежился и напрягся еще больше.
– Гляди-ка, шустрый какой, – проговорил Витюня, – а обо мне подумал?
– Ты не пропадешь, ты деловой. А я – точно дуба дам.
Витюня забеспокоился, лицо его пугливо сморщилось, глазки забегали.
– Ты это брось, ты что! Ишь ты какой – он загнется, а меня тягать начнут: что, мол, да откуда, по какой причине? Ты и не думай об этом!
Николай понял, что Витюня заботится только о своей шкуре, дрожит за нее. Такое отношение к его «предстоящей смерти», а значит, и к нему самому, его покоробило.
– Пошел ты! – резко сказал он, не поворачивая головы.
Ну почему рядом нет Оли? Почему нет рядом никого из тех, кого считал самыми близкими друзьями? Почему он так привязан к этому подонку, шагу ступить без него не может? Почему? Обида захлестнула сознание. Николай почувствовал тяжесть в затылке. Она нарастала, становилась нестерпимой. Совсем неожиданно из носа хлынула кровь, прямо на рубашку, на брюки.
– Ты чего? Чего это? – Витюня быстро вытащил из кармана скомканную тряпочку, вложил ее в руку Николая и вместе с рукой поднес к носу.
Николай ничего не слышал, не чувствовал. Он машинально прижимал тряпочку к лицу. Она становилась все влажнее, пока совсем не намокла и с нее не стали стекать темные капельки.
– Ну, я побежал! – заторопился вдруг Витюня. – Ты посиди тут, отдохни…
Он встал и быстро скрылся из виду. Николай остался один. Первые звезды высыпались белыми крупинками по темному полотну неба. Они становились все ярче и многочисленнее. А все вместе напоминало летнюю южную ночь, что для этих краев было явлением не частым. Но Николай не замечал внешних красот. Он сидел, уткнувшись лицом в ладони. Кровотечение прекращалось, стихало и наконец совсем прошло. Он ощутил легкость в теле, голова прояснилась, стала будто бы прозрачной, продуваемой всеми ветрами. Казалось, что она оторвется сейчас и взлетит вверх, будто воздушный шарик. «И чего это я окрысился на Витюню? – подумал. – Он, что ли, виноват во всем? Такой же…» А голова становилась все легче и яснее. Она тянула вверх. И Николай задрал голову к небу, к звездам. Как только сделал это, его опрокинуло назад, и он упал спиной в песочницу. Широко раскрытыми глазами он глядел в темную бездонную пустоту и ничего не видел. Лишь намного позже стал различать отдельные звезды. Он напряг зрение, и они проступили отчетливей.
Неожиданно на улице, за деревьями вспыхнули фонари. Николай вздрогнул, несмотря на их тусклый свет, он ощутил себя как под прожекторами на сцене. Приподнялся на локтях, сощурил глаза. Голова закружилась сильнее. Но то, что открылось его взору, остановило головокружение, он застыл, боясь пошевельнуться. По улице шли дружинники. В свете фонарей их красные повязки бросались в глаза. Их было трое, и они не спешили – негромко переговаривались, посматривали по сторонам.
Николай, собрав остатки сил, перевалился через барьерчик песочницы и пополз в сторону, к кустам. Охватившая тело дрожь изнуряла его. Но он полз. Пять-шесть метров дались ему с невероятным трудом. Воздуха не хватало, и понапрасну раздувалась и сокращалась грудь – он никак не мог отдышаться. Ноги онемели и плохо слушались. Панический, животный страх сковывал все существо Николая. Неожиданно севший на руку ночной мотылек заставил его содрогнуться всем телом, поверг в ужас. Дрожь усилилась и не думала прекращаться. Он на все лады проклинал покинувшего его Витюню.
Дружинники заглянули на площадку, но, ничего не заметив, ушли. У них был свой маршрут, свой район патрулирования. Николай знал, что они вернутся через некоторое время, и все же, выждав минут десять, он приподнялся на четвереньках. Потом – медленно, придерживаясь за куст, встал в полный рост. Качнулся, утверждаясь на слабых ногах, и поплелся к песочнице. На песке было мягче. Он снова лег спиной в серую кучу, уставился в небо, пытаясь усмирить бешеный галоп загнанного сердца.
Чем дольше он всматривался в звезды, тем беспокойней становились они, начинали срываться со своих мест, кружиться, пока не слились все в едином необузданно-стремительном хороводе. Николай быстро, но сильно протер глаза. Не помогло. Звезды не останавливались, совсем наоборот, они словно посходили с ума и уже не только вращались вокруг невидимой оси гигантского небесного водоворота, но и надвигались на него, обрушивались сверху вниз, грозя раздавить, расплющить. Они уже не были просто звездами. В своем мельтешений они образовывали непонятные, пугающие силуэты. И падали, падали… Но самое ужасное было то, что они обрели голоса. Они кричали в уши, не щадя барабанных перепонок. Они давили своими угрожающими пронзительным тембрами, многоголосицей, сливающейся в невыносимый вопль: «Ты еще жив? Почему, почему ты еще на этом свете?! Тебе нет места на нем! Ты умрешь! Ты уже умираешь! Ты уже умер, окочурился, сдох!!!» Николай с силой сдавил ладонями уши, зажмурил глаза. Но ни видения, ни голоса не пропали. «Тебя нет! Нет! Нет!! Нет!!!» Такой неистовой нереальной пытки Николай не переносил еще никогда. Совершенно отчетливо представилось, что он и на самом деле умирает. Сознание оцепенело, истерически зарыдало: «Не хочу! Нет! Не надо!» Но звезды не слушали, да и не слышали его. Они надвинулись вплотную, оставался один миг. Николай резко выбросил руку в сторону, хватая торчавший в песке металлический с деревянной ручкой совок, и швырнул его вверх, в своих мучителей. Почти сразу же он почувствовал острую боль в подбородке – совок вернулся назад и ударил его своим острием. Николай смахнул совок с груди, не обращая на ссадину внимания. Приподнялся на локтях. Видения исчезли. Звезды, как им и положено, висели в недоступной высоте. Некоторые из них будто подмигивали Николаю, напоминая о том, что привиделось.
Через полчаса пришел Витюня.
– Балдеешь? – спросил он. – А я думал, тебя того… Ну да ладно. Гляди, чего у меня.
Николай с надеждой уставился на руки Витюни. Но в них был всего-навсего небольшой белый листочек.
– Повестка! Соседка-стерва передала. Там без меня участковый приходил. Обложили со всех сторон!
– Везет дуракам, – прошептал Николай.
– Это почему же? – На «дурака» Витюня не обиделся.
– Ты знаешь. Пускай, силком, но на ноги поставят. Сами-то мы… – Николай не договорил, махнул рукой.
– А чего сами? – встрепенулся Витюня. – Мы ж договорились – завтра, как штык, в диспансер.
Николай иронически ухмыльнулся.
– Крест на пузе! Ты мое слово знаешь, – божился Витюня. Да ежели я со своего сверну, да мне… – Он захлебывался в собственном хмельном красноречии, путался, сбивался, но всячески пытался доказать, настоять на том, что его слово нерушимо.
Николаю эта болтовня надоела. С Витюней или без Витюни, но он завтра обязательно пойдет, так он решил. Во что бы то ни стало!
– Ладно, пойдем, – проговорил он, опираясь на жирное плечо.
На этот раз Витюня не бросил его. Силенки хватало, вот он и тащил обезножевшего приятеля, в голове которого все помутилось окончательно. Они долго возились у входной двери, искали ключи. Наконец ключи нашлись. Николай успокоился, огляделся, будто не у себя, и побрел на кухню. Там он смочил голову под краном, но от этого мысли его не посвежели. Войдя в комнату, по привычке приветственно помахал Рембрандтову автопортрету, попытался улыбнуться, мол, не все еще потеряно.
– Да ты ложись, Колянь! – Витюня услужливо подвел его к дивану.
Николай оттолкнул приятеля, подошел к стенке и зачем-то поправил висевшую на гвозде спецовку, отчего та совсем перекосилась, сползла на пол. Николай поднял ее и снова накинул на гвоздь. Спецовка опять упала. Так повторилось трижды, после чего Николай оставил гвоздь в покое и натянул, с трудом попадая в рукава, спецовку на себя.
– И на работу, обязательно на работу, – тоном, не терпящим возражений, проворчал он, – заново эволюцию проходить от… хмэ, неважно, до человека. Только труд!
Он сполз по стене на пол. Витюня снова подхватил его под мышки, подтащил к дивану.
– Не надо! – отмахнулся Николай.
Он выпрямился, немного постоял, будто прикидывая, что еще осталось несделанным. Поглядел в окно и зевнул.
Рухнул на свое лежбище Николай сам, без посторонней помощи. Он даже успел нашарить под диваном будильник, старательно завел его, разговаривая с бессловесным механизмом, как с живым существом. О Витюне он позабыл.
Было уже совсем поздно, когда Николай разлепил глаза. Он тихонечко завыл, увидев перед носом привычный ведьмачий профиль, заскрипел зубами и перевернулся на другой бок.
Перед ним с двумя бутылками в руках на корточках сидел Витюня.
– Вставай, болезный ты мой, нетрезвый! – Витюня был, как всегда, в духе. – Можешь, Колянька, поздравить нас…
Николай пришел в оживление при виде бутылок.
Но что-то было такое в Витюнином голосе, что его насторожило. Что – он понять не мог. На полу лежала газета, сплошь заваленная мелкими, вялыми кильками.
– Откуда такое богатство? – спросил Николай, сам не узнавая своего голоса.
– Да ты ешь-пей! Потом спрашивать будешь.
Одна из бутылок была откупорена, и Николай глотнул прямо из горлышка. В голове прояснилось.
– Ну вот, давай мне! – Витюня облизнулся. – Обмоем мою повесточку, а заодно и наш завтрашний поход.
И тут Николай увидел откуда растут ноги. Его полка, книжная полка была больше чем наполовину пуста.
– Где?! – спросил он.
– Только спокуха, только…
Витюня быстро вытащил из кармана четыре червонца.
– Это ж нам на неделю! А потом и оставшиеся пристроим.
Все заходило ходуном перед глазами Николая, он вырвал деньги из Витькиных лап, бросил их на пол. Потом свернул газету и вместе с кильками выбросил ее в распахнутое окно.
– Мотай отсюда.
– Ты чего? – в голосе приятеля сквозило явное непонимание.
– Не догадываешься?! – угроза зазвучала серьезней. Николай вдруг четко осознал, что последний мостик горит, дотлевает уже. И в этом, как показалось ему, виноват был Витюня.
Он подошел ближе и, не выпуская из кулака бутылку, размашисто шлепнул костяшками левой руки под правый глаз оторопевшему от неожиданности Витюне. Симметрия на его лице восторжествовала. Николай сам видел, как не сразу, постепенно наливалась опухоль вокруг глаза. Видел и довольно улыбался.
– Ну все! Ну все! – Витюню, кажется, это доконало. Не оборачиваясь, он вышел из комнаты, громко хлопнул входной дверью.
А Николай, успокоенный и сразу обессилевший, опять лег.
Он пил из горлышка портвейн, курил одну за другой, не глядя, куда падают угольки. И думал, что не все еще потеряно, что нечего из мухи слона лепить – ведь не такой же он алкаш, как этот прохвост Витюня!
Он сумеет выправиться и еще заживет на зависть прочим. Да так заживет, что ахнут! Он обретет прежнее уважение и не будет никого и ничего бояться. Он не будет пугаться каждого шороха и вздрагивать при виде собственной тени. Он пройдет по улице прямо, гордо подняв голову и не отводя от прохожих глаз. Все будет, все… От этих мыслей становилось теплее, легче.
Убаюкивая себя, он рисовал перспективы… И продолжал посасывать из горлышка. И с каждым глотком планы становились шире и объемнее, надежды радужнее. Ему казалось даже, что он уже начал эту новую светлую жизнь. Что он уже живет в ней. И только совсем крохотный, почти погасший уголечек, где-то на окраине сознания, жег, напоминая, что никогда он не сможет, никакими силами, ни отчаянными понуканиями одряхлевшей, расслабленной воли избавиться от Витюни, от этих сулящих хмельное липкое забытье сорока рублей, а главное, от самого себя. Не сможет никогда! Ни за что! И только затуманенное воображение насылало дурман, льстило: «Все будет хорошо, ты еще успеешь, еще сможешь взять себя в руки!» Портвейн подкреплял эту веру. А потому он прикладывался все чаще. Пил и мечтал. И опять пил. И все казалось не таким уж и страшным, преодолимым. Он даже простил Витюню за проданные книги. И окончательно уверился в том, что завтра тот сдержит свое слово. И снова пил, Пил и курил долго. И под конец решил завтра!
И уснул с этой мыслью.
Снилось ему что-то легкое, смутное, как в детстве, о котором он почти ничего и не помнил. И лишь иногда, совсем нечасто, это забытье сполохами разрывали навязчивые слова: «С завтрашнего дня, с завтрашнего…»
Чудовище
Даже самая распоследняя божья тварь, я думаю, имеет хоть какую-то, пускай ничтожную и бессмысленную для окружающих, но все же свою, собственную цель в жизни. Ведь правда? Даже если это и не жизнь вовсе, а одно мучительное недоразумение! Даже если это никакая не цель для прочих, а один туман на палочке. Все равно! Ведь не может же быть иначе?!
Меня, я думаю. Божьей тварью навряд ли кто назовет. Уж скорее наоборот. Только мне это без разницы. Мне наплевать на них на всех! Они – это они! А я – это я! И у меня тоже есть своя цель! И я так думаю, она не хуже, чем у других. Ведь я живу только ею, этой своей мерцающей впереди целью. Если она и покажется кому-то бессмысленной и ничтожной, так пусть подавится своим смыслом, черт с ним! А я делал это и буду делать. Я буду бить их, крушить, расколачивать вдребезги! Я разобью их все до единого, на самые мелкие осколки разобью! Когда это будет? Не знаю. Потому что я вообще ничего не знаю! Откуда взялся этот мир? Зачем он? Зачем все его обитатели?! Я не знаю даже, сколько живут такие, как я. Почему? Да потому, что я никогда не видел себе подобных и не слышал о них. Моя мать была совсем другой, не такой. Она говорила, что и отец был совсем другой, пока он не сварился живьем у своей трубы. Все – были и есть совсем другие!
Но я думаю, что не подохну до тех самых пор, пока хоть одно из них будет стоять целехоньким! Где б оно ни стояло, где б оно ни лежало, хоть на самом краю нашей бескрайней резервации! И не может быть иначе, и не будет иначе! А вот когда я сокрушу последнее и мир перестанет двоиться, тогда я выберу самый большой и самый острый осколок и перережу им собственную глотку…
Я думаю, что это все случится не скоро. Пускай пройдут годы, ничего. Но я сделаю это, я вытерплю все мучения на пути к своей цели. Пусть хихикают болваны и недоумки. Им не понять меня. Я сделаю это – и с радостью и с надеждою уйду из этой мерзкой, поганой жизни. И пускай они тогда смеются над бессмысленностью моей цели – мне уже будет все равно!
В нашем распроклятом местечке я обошел все уцелевшие дома и облазил все развалины. До сих пор мои конечности, и нижние и верхние, дрожат от напряжения. Ах, как я их бил! Как я их колотил! Порезался даже, вон сочится какая-то пакость из третьего левого щупальца, зеленая и вонючая. Тьфу, мерзость! Самому противно. Ну да ничего, я думаю, заживет. А нет, так и к лучшему. Чего мне ждать? На что надеяться? Какие я радости вижу? Ни черта! Эти хоть по вечерам получают свою порцию, присасываются к краникам у труб – и всю ночь балдеют. А я?! Для меня даже трубы не нашлось. А чем я хуже? Что я, не умею, что ли, краны вертеть да за швами присматривать?! Да это любой оболтус сможет, любой мальчуган, если у него хоть одна конечность имеется. А у меня их одиннадцать! Да я бы за десятком труб мог следить! Так нет, рожей, видать, не вышел! Слишком уж не такой, как все! Чихать хотел! Катитесь вы куда подальше!
…Кстати, о мальчуганах. Распустили молодежь. Вчера привязалась свора – куда я, туда и они. Улюлюкают, свистят, камнями бросаются – им и невдомек, что я боль только изнутри чувствую. Грозят! А чего грозить-то? Напугали! Один, маленький совсем, колобком катится, двумя ножками по земле скребет – клоп, вонючка, а туда же. Да его мне коготком подцепить – и все, хана, крышка клопу. Нет, не отстает. Не понимает. А жалко ведь мелочь пузатую. Мне их жалко. А им меня – нет! Хотя чего жалеть-то? Их всех у труб пристроят, коли не передохнут, конечно, до шести лет, до совершеннолетия. Всем местечко достанется. Каждый будет свой краник посасывать. И никто их не назовет чудовищем, никто не бросит камня вслед. Они – нормальные, обычные! Им хорошо на этом свете!
Ну да ничего. Я в этом вшивом местечке не задержусь. Вот переколочу завтра оставшееся в наипоследнем домишке, в руинах на окраине – и в путь. Только меня и видали! А на новом месте, глядишь, по-новому заживем. Только я одно могу сказать точно: если меня там и приставят к трубе и даже свой краник при ней подключат, я дела не брошу, цели своей не оставлю, нет! И в гробу я всех видал, пускай потешаются. А я бил их и буду бить! Колотить!! Расколачивать!!!
Они застукали его на развалинах старого, еще дореформенного дома-громадины, в котором уже много поколений никто не жил. Был день, и потому они отлично просматривали всю местность метров на восемь. Дальше силуэты и очертания терялись в пелене, но грех было жаловаться – денек стоял ясный, не то что обычно. Чудовище, выставив, видно для обороны, на всякий непредвиденный случай, четыре щупальца назад и мерно раскачиваясь из стороны в сторону, вытаскивало что-то большое и плоское из груды камней, кирпичей и прочего строительного мусора.
Пак, самый старший из них и самый хитрый, зажал клешней хобот, чтобы не сопеть, как обычно, трубно и надрывно, и медленно, не спуская глаз с чудовища, отполз назад.
– Попалась, гадина! – заговорщицки сообщил он остальным и пригрозил другой клешней. – Ша!
Коротышка Чук взвизгнул было от восторга, засучил хилыми лапками, но Пак тут же огрел его по загривку, зашипел озлобленно.
– Где Грюня? – спросил он, убедившись, что оплеуха подействовала и дополнительных мер принимать не надо.
Волосатого Грюни нигде не было. Могло сорваться все дело. Близнецы-Сидоровы в нетерпении кусали друг друга за уши и хищно скребли когтями землю. На ней оставались глубокие борозды. Но шума не было. Каждый понимал ответственность момента. Даже безмозглый и безъязыкий перестарок Бандыра и тот молча скалил обломки желтых зубов и мелко подергивал прозрачными веками. Никто не знал, что надо делать.
– Я сбегаю, поищу? – предложил шепотком Гурыня-младший, изгибая длинную шею и заглядывая в глаза хитрому Паку.
– Тока втихаря, – согласился Пак и трубанул-таки хоботом.
На минуту все припали к земле, напряглись. Но чудовище, скорее всего, не расслышало. Хитрый Пак вздохнул тихо, с облегчением и закатил, видно от избытка чувств, еще одну оплеуху Коротышке Чуку. Тот беззвучно захныкал, зажимая лапками пухлый рот-клювик.
Гурыня-младший пополз, не оглядываясь, огибая камни. Но далеко ему уползти не удалось. Волосатый Грюня, будто с него уже содрали шкуру и расстелили ее по земле, лежал за ближайшей обвалившейся стеной, раскинув лапы в разные стороны. И спал. Причем блаженно и безмятежно похрапывал при этом.
Гурыня кусанул его за пятку. И тут же зажал Грюне рот, чтоб не развопился. Грюня был голосист.
– Ты че, падла, – шепнул в ухо Гурыня, – завалить всех удумал?!
Волосатый Грюня бешено вращал единственным глазом, пытался вырваться.
– Пак тебе рожу поскоблит-то щас! – заверил Гурыня-младший на полном серьезе.
И Волосатый Грюня затих. Он вжал мохнатую голову в не менее мохнатые плечи, поджал лапы и оттого превратился в поблескивающий шерстью клубок.
– Где сеть?
Грюня затрясся, повел неопределенно глазом. Вечно он спал! И вечно не мог толком проснуться! Даже теперь, в такую ответственную минуту. Гурыня-младший кусанул его еще разок, посильнее.
– Мероприятию срываешь, жлобина! – прохрипел на ухо, помня наказ Пака. – Убью!
Впрочем, убивать перепуганного и все еще заспанного Грюню не пришлось. Гурыня-младший сам увидал серую суму, в которой лежала свернутая сеть. Она валялась в трех метрах на куче щебня и песка. Видно, Грюня потерял ее, засыпая на ходу. Выяснять обстоятельства дела времени не было. Гурыня-младший подхватил суму, по тяжести почувствовал – сеть на месте.
– А ну, живо, падла! И чтоб молчком!
Они быстренько доползли до основной группы. Получили по затрещине от вожака Пака.
– Чего застряли? Уйдет щас!
Роли они расписали заранее. Но хитрый Пак вкратце напомнил каждому, что надо делать и как. Для выразительности пощелкал легонько перед их носами своей клешней. Все поняли.
Легче всех было Близнецам-Сидоровым. Их поставили охранять выход из развалин, а точнее, в силу ширины и неповоротливости, просто заслонять путь, если чудовище вырвется и бросится убегать. Правда, Близнецы по своей простоте не понимали, что им может грозить, коли чудовище наткнется на них. Но Пак сказал, что все будет нормально. И Сидоровы поверили.
Остальные разделились на три группы. В первую входил самолично хитрый Пак, и больше никто. Он брал на себя основную тяжесть, не слишком-то доверяя сотоварищами. Размотанную, но еще свитую в трубку сеть он положил на плечи и теперь выравнивал, расправлял ее, помогал себе хоботом. Сеть была металлопластиковая – газовым резаком не перережешь!
Во вторую группу входили Гурыня-младший, Гурыня-старший, Бумба Пеликан и балбес Бандыра. В общем-то, с их заданием мог бы справиться и один надежный парень. Но Пак решил подстраховаться – народец в его ватаге был хлипкий, попробуй доверься им, обалдуям!
В третью – группу отвлечения – входили Коротышка Чук, Волосатый Грюня и пузатый трехногий подмастерье-переросток Хряпало – орун и визжала неслыханный. Его и взяли с собой только из-за луженой глотки. Роль этой группы была совсем проста. Но и достаточно опасна. И хотя хитрый Пак говорил, что не было еще случая, чтобы чудище обидело кого-нибудь, пристукнуло или, хуже того, сожрало с потрохами, но… кто его знает, ведь на такое поглядишь – и этого с лихвой хватает, ощущение – будто тебя наполовину уже пережевали. Пак-хитрец не зря отобрал тех, кто зрением послабее да и ценности из себя особой не представляет ни для его ватаги, ни для будущей работенки у заветной трубы.
– Как крикну в голос, так и начали, ясно?!
Пак всмотрелся напоследок в каждого. И каждый кивнул.
Они осторожненько поползли вперед.
А чудище, дрожа, хлюпая и хряпая, распространяя вокруг себя зловоние и мокроту, ковырялось в обломках и никак не могло вытащить застрявшего в искореженной и ржавой арматуре большого, в старинной массивной раме зеркала. Оно поворачивалось и так и эдак, изгибаюсь, раздувалось, отчаянно манипулировало всеми конечностями, включая и нижние. Но вытащить зеркало не удавалось.
Хитрец Пак уже давным-давно заметил эту страсть к зеркалам у чудища, эту какую-то непонятную ненависть к ним. Все в местечке прекрасно обходились вообще без зеркал, всем было просто наплевать на эти тусклые стекляшки – о чем бы голова болела, ха-ха! Тем более что и без них все прекрасно видно, а битого хлама и так предостаточно, хоть завались им! Но на этой вот ненормальной страсти и было построено все замышляемое. Недаром же Пака звали хитрым!
Само место располагало к действию. С трех сторон чудовище было загорожено обломками каменных стен, лишь с четвертой оставался проход – правда, довольно-таки широкий. Между стенами было метров шесть. Многовато, конечно, но ничего, если действовать слаженно, все пройдет отлично. Стены вот только обросли склизким противным мхом, можно и навернуться с них. Но совсем без риска-то и не бывает ведь, так? Пак готов был рискнуть ради небольшого развлечения. А почему бы и не поразвлечься немного, пока к кранику не подпускают, кроме как по особо торжественным дням? Не-ет, можно и поразвлечься.
Не спуская глаз с чудовища, он стал карабкаться на стену, на этот каменный обломок, торчащий справа и такой скользкий. Не так-то легко было это сделать. Пак даже порвал свой новенький комбинезон о какой-то крюк, торчавший прямо изо мха. И очень расстроился этим. Но горевать было некогда. Обломок был метра в четыре вышиной. На верхушке его росло чахленькое деревце без листвы. В его ствол Пак и вцепился клешней, когда основной путь был позади. Подтянулся, чуть не упустив сеть с плеч, но вовремя успев придержать ее хоботом.
Сверху все было отлично видно. Да и чудовище не казалось отсюда столь страшным, как снизу. Пак обернулся – Близнецы-Сидоровы стояли на посту живым двухголовым изваянием, растопырив по сторонам руки-ласты. Они всегда относились к порученному делу серьезно, иногда даже чересчур серьезно. Пак не сдержал улыбки. Но за тылы можно было не беспокоиться. Он снял сеть с плеч, расправил ее в широко расставленных клешнях.
Противоположная стена была на метр-полтора ниже. Но Гурыня, Пеликан и Бандыра что-то явно не спешили. Олухи чертовы! – подумал про них Пак. Он начал нервничать. Краем глаза он отметил, что Хряпало, Чук и Грюня заняли свои места. Даже отсюда было видно, как всем телом дрожал Волосатый Грюня, толстяк и соня. Ну да ничего, пускай привыкает!
Наконец над краем противоположной стены появилась глуповатая рожа Бандыры. Он вертел головой и все время стукался костистым подбородком о каменный край, видно, оскальзываясь. Из-за Бандыры неожиданно показались змееобразная голова Гурыни-младшего, потом все тело. Следом на стену влезли Гурыня-старший, отличавшийся от брата лишь толщиной и неповоротливостью, и Хряпало. Судя по всему, Бандырой они пользовались как лестницей. Но и ему Хряпало протянул лапу, помог вскарабкаться.
Надо было начинать.
Чудовище, ничего не подозревая, копошилось внизу. Оно уже почти высвободило свою находку. Оставались минуты, если не секунды.
Пак напряг свои бугристые мышцы, закинул клешни с сетью за голову, вскинул хобот вверх…
Но не успел он подать знака, как произошло совсем не предусмотренное событие: балбес Бандыра с воплями и визгами, размахивая двухметровыми суставчатыми руко-ногами и изгибаясь так, будто у него нету позвоночника, сверзился вниз, прямо на чудовище. То резко передернулось, колыхнулось всем Своим волдыристо-бородавчатым зеленым телом. Но перепуганный и истошно вопящий, не помнящий себя от ужаса Бандыра, размахивая своими складными граблями, подскочил на его спине, оттолкнулся что было мочи и помчался прочь из каменной ограды прямо на Близнецов-Сидоровых. Близнецы исправно выполнили поставленную перед ними задачу и Бандыры не пропустили. Образовался жуткий живой ком, из которого торчали руко-ноги, костистые лапы, ласты, волосы и неслись хрипы, писки, крики, угрозы и жуткий, леденящий сердце вой: видно, Бандыре-балбесу почудилось, что он попался-таки в лапы жуткого чудовища.
Все это произошло в доли секунды. Само чудовище не успело даже шевельнуть своими выставленными за спину конечностями и повернуть бугристую слонообразную голову. И только Пак собирался подать наконец свой сигнал – ведь надо было делать дело, – как с трех сторон завопили на разные голоса Коротышка Чук, визгливый нытик, ревун Волосатый Грюня и заменитель сирены – Хряпало.
Но именно они спасли положение. Потому что чудище, уже поднимающее голову вверх, вместо того чтобы заметить главную опасность и среагировать, отвлеклось. Все это и решило дело.
– Эге-гей!!! – заорал, перекрывая всех, хитроумный Пак. И бросил конец сети на противоположную стену. Команду он подал раньше, чем надо. Но теперь это не имело ровно никакого значения.
Обоих Гурынь тяжелым концом сети опрокинуло за стену – они исчезли мгновенно, будто их и не было. Пеликан Бумба устоял. Он вцепился в сеть одновременно обеими когтистыми руками и широким хрящевым клювом. И так, вместе с зажатым концом сети, громыхнулся вниз. Следом за ним сиганул Пак. Чудовище было накрыто! Но оно еще могло выпутаться, сбросить с себя металлопластиковую крупноячеистую сеть. Конечности его напряглись, выпрямились, само оно вскинулось во весь рост… Но не оплошали братья Гурыни – выскочили из-за стены, все в ссадинах и синяках от падения, вцепились в сеть с разных сторон и принялись бегать по кругу, окончательно запутывая молчаливо сопротивляющееся чудовище. Вместе с ним они чуть было не запутали и Бумбу Пеликана. Но тот вывернулся, чудом успел выскочить, расцарапав весь свой широченный клювище и измазав до невозможности в грязи и без того несвежий комбинезон.
Дело было сделано! Хитрый Пак торжествовал. Еще бы, такая победа! Предания о ней будут переходить из поколения в поколение, а значит, и его имя не исчезнет вместе с ним! Теперь можно было и не суетиться – опутанное чудовище лежало на земле, даже не пытаясь высвободиться. Соображает, подумал про него Пак, с металлопластиком шутки плохи, нечего и трепыхаться! Он отступил на несколько шагов – полюбоваться на дело своих рук.
Но спокойно любоваться ему не дали. Дикий ор, доносившийся снаружи, из-за стен, отвлек его. Пак выглянул: там происходило невообразимое. Близнецы-Сидоровы что было сил мутузили балбеса Бандыру. Тот яростно отбивался. Коротышка Чук и Волосатый Грюня дубасили Близнецов. Хряпало лежал рядом, на вид бездыханный – ему было уже все равно, он получил, видно, свое. Конца мордобою не предвиделось.
– Отставить!!! – заорал Пак.
Его трубный глас возымел действие. Куча мала распалась. Все тяжело дышали, обливались потом и глазели на Пака. Пак в четверть силушки треснул клешней балбеса Бандыру прямо по темечку. Тот, похоже, не почувствовал, но почтительно присел на полусогнутых.
Близнецам-Сидоровым Пак сказал:
– Объявляю благодарность за службу! – и похлопал их по плечу.
Сидоровы зарделись от счастья, победно поглядели на поникшего Бандыру.
– Операция прошла на славу! – продекламировал хитрый Пак, водя хоботом из стороны в сторону. – Все держались молодцами! Ни единой осечки, как по маслу… Все поняли?! – Он помолчал для выразительности, давая оценить торжественность момента, и добавил: – Лютое чудовище, терроризировавшее всю округу и готовившее подлый, злодейский план по прорыву наших всенародных труб, поймано! Всех поздравляю!
Ответом было громоподобное ликование. Особенно старались герои дня Близнецы-Сидоровы – хоть и одна пара лап была на двоих и одна лишь пара рук, зато глотки были две.
– Ладно, пошли! – сказал Пак уже неофициально.
И они побежали к добыче.
Вокруг чудовища суетились оба Гурыни и Пеликан Бумба. Непростое это было дело – расправить концы сети, закрепить их. Попробуй вбей крючья в стены и пол кривыми обрубками, которые не то что крюка, а и камня-то толком удержать не могут! Но Гурыни старались, помогая себе и ногами и зубами. Дело клеилось! Чудовище сопело, пыхтело и воняло. Несколько раз оно пыталось вырваться. Не получалось.
И все равно было страшно. Волосатый Грюня дрожал вовсю. Ну ладно Грюня – он и всегда дрожит! Не по себе было и самому Паку, мурашки так и бегали у него по спине. Близнецы и те ступали как-то настороженно, по-куриному. И даже безмозглый и бесчувственный балбес Бандыра был не в своей тарелке и чаще обычного моргал прозрачными веками, скалился.
Но чем прочнее крепили сеть, тем смелее становились, разговорчивее. Ободранный и грязный Пеликан Бумба гоготал, захлебываясь и роняя слюну:
– Ловко я его, а? Ловко?!
Гурыня-младший считал, что главную роль сыграл он, и потому огрызался:
– Ловко гробанулся со стены – вот и ловкость вся твоя! Тут не на дураков рассчитано, тут с умом…
Впрочем, до выяснения отношений дело не дошло. По той причине, что всех объединяла неприязнь к чудовищу. И эта неприязнь становилась тем сильнее, чем беззащитнее делалось вздрагивающее чудище. Первым бросил камень Коротышка Чук.
– Получай, падла! – метнул свой Гурыня-младший. Старший слепо повторил бросок брата.
Камни грудой посыпались в пленника.
– Вот так!
– Держи подарок!
– Х-хэк!!
– Ловко, ловко я его!
– Прям щас и забьем падлу! Чего с им возиться! Распалялись на глазах, подзуживая друг друга, переглядываясь и перемигиваясь, толкаясь локтями и путаясь в распяленных концах сети.
– Ща я его приложу! Ща!! – взъярился Гурыня-младший, размахивая подобранной железякой и намереваясь воткнуть ее прямо в зеленый бородавчатый горб.
– Брось! – цыкнул на Гурыню хитрец Пак. Он один не принимал участия в процедуре «побития камнями». – Брось, тварь, кому говорю!
Обиженный Гурыня отбросил железяку. И ухватил булыжник поздоровее.
Чудище на камни почти не реагировало, лишь вздрагивало чуть-чуть, когда были особо сильные и меткие броски. И все же, выбрав коротенький миг затишья, оно бросило обидчикам:
– Дураки вы все! Плевать я на вас хотел!
Паковская команда взъярилась пуще прежнего. Безмозглый Бандыра от избытка чувств вспрыгнул чудищу на горб и принялся дубасить его своими складными граблями. Кончилось тем, что он запутался, и его пришлось тащить из сети, будто репку. Бандыра выл, словно пришел конец света. Но ни одна из его граблей не оторвалась при вытягивании, наверное, они оказались покрепче металлопластика.
Вытащив балбеса Бандыру, все уцепились за руки, клешни, лапы, ласты – и закружились в бешеном, дикарском хороводе вокруг огромной жертвы, попавшейся в их тенета. Восторг был неописуемый, особенно предавался ему Коротышка Чук – он визжал, как никогда в жизни, не поспевая своими хлипкими лапками за другими и оттого то взлетая в воздух, то волочась по грудам разбросанного мусора.
Остановились лишь тогда, когда вымотались все до единого. Когда окончательно лишились сил. Так и попадали на землю вокруг чудовища – тяжело отдуваясь, закидывая головы и закатывая глаза. К этому времени приполз искалеченный Хряпало, он был не в лучшем состоянии, чем другие. Но ему захотелось хоть немного поторжествовать. Хряпало запустил камень в чудовище. И обполз его в эдаком медленном, но выразительном круге почета. Затем и он распластался, перевернувшись на спину.
– Как есть дураки! – заключило опутанное чудовище.
Препираться с ним не стали.
– Ну, взялись, что ли?! – предложил Гурыня-младший.
– Чего? – не понял его Пеликан.
– Чего-чего… кончать пора, падлу!
Пеликан Бумба промолчал.
– А чего, глядеть на него, что ли?! – не унимался Гурыня.
– Стало быть, пора, – неуверенно согласился с братом Гурыня-старший. – Эй, Пак, ты самый умный! Ты и говори!
Хитрый Пак многозначительно оглядел всех, повздыхал, посопел, потрубил слегка своим хоботом для важности и сказал, переворачиваясь на другой бок:
– Кончим, не волнуйтесь! Только попозже немного. По правде говоря. Пак и сам не знал, как им прикончить чудовище. Камни его не брали, резака им никто не даст своего, и утащить навряд ли получится! Долбить, его арматурой? Или ковырять острой железякой, как это собирался Гурыня-младший? Так ведь неизвестно, проковыряешь ли – вон какой здоровый, толстый! А как начнешь ковырять да колоть, так сразу зеленая дрянь какая-то чуть не фонтаном бьет, аж не продохнешь! Эх, голова, голова, вари, кумекай, соображай!
– Чего это позже?! – заволновался Хряпало. – Когда позже? Я, может, к вечеру окочурюсь! Что ж это мне, так помирать, что ли! Я даром орал, что ли, громче всех! – Хряпало даже привстал, раззявился, обращаясь ко всем сразу: – И вы тоже! Думаете, вечные, что ли? Вон Мартышка тоже так думал, все о кранике мечтал, а вчера конька отбросил! А Гугоря с Болявкой забыли? Или не вы их на той неделе в отстойник отволакивали? Все сдохли. И мы сдохнем! Чего ж тянуть-то?!
– Правду говорит! – поддержал Хряпалу Гурыня-младший.
– Верно!
– Да чего там, засыпем камнями с головой, само сдохнет! – взвизгнул Коротышка Чук.
– Цыц!
Пак встал и щелкнул сразу обеими клешнями.
– Мы его так просто на тот свет не отпустим, проговорил он, то бледнея, то зеленея. – Мы ему пытку устроим!
Все замерли, ловя каждое слово.
– А ну, Грюня, Бумба, Близнецы!
Названные повскакивали с мест, подошли ближе, выражая готовность, граничащую с покорностью.
– А принесите-ка сюда ту штуковину, что оно вытащить хотело! – скомандовал Пак-хитрец.
Никто не понимал затеваемого. Но Паку верили.
Огромное, в два роста, зеркало, обрамленное резную массивную раму, несли все, кроме побитого ослабленного Хряпалы. Поставили перед умным Паком.
Зеркало было мутное, запыленное – ничего в нем видно не было. Пак ухватил клешней за шкирку Волосатого Грюню, который уже умудрился заснуть, и протер им гладкую, матово поблескивающую поверхность. Грюня толком проснуться не успел, как дело было сделано. Но ему пришлось долго и мелко трястись, очищая свою шкуру.
Пак заглянул в зеркало. На него смотрело лицо как лицо, не хуже других, даже посимпатичнее: высокий, абсолютно лысый лоб до самого темени, два ряда круглых умных глаз, морщинистый широкий хоботок, свисающий ниже подбородка. Пак от удовольствия шевельнул сходящимися к макушке ушами и широко улыбнулся, раздвигая серые толстые губы – из-за хобота улыбка была почти не видна. Но все равно – Пак себе понравился. Сейчас все меньше оставалось таких, как он, и все больше рождались самых настоящих уродцев на вроде обоих Гурынь, Близнецов-Сидоровых или же Коротышки Чум. Во всяком случае в их местечке.
Ждали его слова.
И Пак не задержался.
– Тупари вы все тут! – сказал он с ленцой. – Кретины безмозглые…
Безмозглый Бандыра обидчиво заворчал, поежился. Но Паку до него дела не было.
– Кончать! Да это любой обалдуй сможет. А мы над ним опыт проделаем! Думаете, он что, просто так зеркала по всему городишку колотит? От нечего делать, да? Остолопы вы, вот что я вам всем скажу!
– Да ладно уж, – пробурчал Пеликан Бумба, он был второй по уму в этой компании, но скромный. – Не тяни.
– А чего тянуть? – покладисто провозгласил Пак. – Мы щас зеркальце поставим перед ним да поглядим – в чем дело! Ясно, тупари?
До большинства не дошло, но и они закивали.
Огромное зеркало водрузили прямо перед невыносимо мерзкой пакостной рожей чудовища. Пошевельнуться, отпихнуть зеркало да и просто отвернуться оно не могло, путы мешали.
Когда зеркало установили, все расступились, словно по команде, хотя ее и не было.
С полминуты чудовище перекатывало водянисто-желтые, мутные глазные яблоки подсырей прозрачной кожей отвратительной морды. Потом кожа полопалась, источая вонючую зелень, сразу в трех местах, глазища: прорвались наружу, налились красным. Бесчисленные жвала задергались, задрожали, покрываясь желтой пузырящейся массой, распахнулся смрадный багровый зев, усеянный зеленоватыми бородавками и бледными шевелящимися полипами… И чудовище дико, надрывно взревело.
Но длилось это недолго. Глаза тут же пропали под кожей. Зев закрылся. Из сомкнувшихся жвал пробулькало:
– Дураки вы все же! И гады порядочные!
Гурыня-младший громко расхохотался. На него реакция чудовища произвела самое приятное впечатление.
– Ура Паку! Молодчага! Это надо ж умыслить такое! Вот голова, вот ум!
Умный Пак помалкивал. Он был доволен собою. Знал, что чудовище выбрало самую простую тактику – не смотреть в зеркало. Так, будто его и нет вовсе. Но Пак знал и другое – всю жизнь-то не просидишь с закрытыми глазами!
И они решили ждать. Устроились поудобнее. Послали Волосатого Грюню в поселок, разжиться чем-нибудь съестным. Но Грюня совсем пропал, видно, заснул по дороге. Ничего, терпели, развлекались, побрасывая камушки в чудовище, пересказывая давно всем знакомые истории и байки.
До вечера чудовище лишь дважды выкатывало свои бельма и ревело жутким образом, дергалось, пыталось вырваться – не получалось. Веселью не было ни конца ни края.
Но к ночи все устали и решили отложить развлечение до утра. Утомленные и довольные, разбрелись по домам.
«Ушлепали. Дурачье! И этого недобитка своего, Хряпалу, уволокли. Подонки! Ублюдки! И все же что взять с этик мальчуганов?! Они хоть говорить не разучились, не то что их папаши и мамаши. Те долакались, доприсасывались – последние мозги порастеряли. А впрочем, какое мне дело. Наплевать!»
Чудовище медленно высвободило одну конечность, пропихнуло ее в ячейку и с легкостью выдернуло из заросшего землей пола ближайший крюк. Все это оно проделало с закрытыми глазами, на ощупь. Следом за первым повыскакивали из стен и пола еще несколько крюков. Натяжение сети ослабло. Чудовище тяжело и прерывисто вздохнуло, судороги прокатились по его крупному телу.
«Умники, хитрецы! Другой надавал бы вам тумаков да шлепков, чтоб неповадно было. Да теперь уж ладно, чего там. Попробуй-ка я побушевать в этом каменном ущелье, помахать щупальцами – да половина из них костей бы не собрала, пришлось бы потом соскребать со стен! Но не понимают, не соображают! Думают, победили, поймали! Мелюзга! Злобные растут, дикие и беспощадные. Но других-то нет, и этих осталось – по пальцам перечесть. А что они народят? Поди-ка угадай! Глядишь, и я со временем в красавцах ходить буду. Да что с них возьмешь! Кто из них читать выучился? Никто! Даже этот, хитренький, с хоботом, не смог сладить! Да и кто их научить-то мог! Так, я думаю, еще два, от силы три поколения – и некому будет у труб вахту нести. Хотя, черт их знает, бабка говорила, время от времени снаружи к нам подбрасывают всяких там, сброд разный, что во внешнем мире по своей пакостности и ублюдству не удержался. Вот их-то и к нам, под колпак, на развод. А кто знает, может, на этом только и держится? Может, никого бы уже давным-давно не осталось в резервации, кроме механизмов да всяких там автоприслужничков на подземных заводах и в хранилищах? Никто ничего толком не знает. А они, мальчишки эти, и вовсе слыхом не слыхали про внешний мир. Да и кто им расскажет? Если и видали, так туристов одних, когда те по своим трапам разгуливали. Да и то наверняка ничего не поняли. Только я их в этом не виню. Им кажется, что все здесь всегда так и было, что так везде есть и так оно и должно быть. Олухи несчастные! Откуда им знать! Никогда не прощу своим, что выродили меня такого на свет! И то, что жить оставили! А пуще всего, что бабка с матерью читать научили да порассказали много всего разного. Они-то сохранили кое-что, они сами, к краникам не прикладывались, тем, что у труб. Только таких ведь больше не найти, уж в нашем местечке – точно! Выучили, рассказали… Дескать, чтоб хоть кто-то память хранил. А зачем? Кому все это надо?! Я когда читал всю эту муть – а я ведь читал и днями и ночами, подбирал в развалинах книжки, журналы и читал – так вот, когда я грезил над этими желтыми страничками, я себя таким же ощущал, как те, что писали, и как те что на картинках были! А как же иначе, ведь в голове у нас – одно! А когда-то и все у нас одно было! За что же, за что? Я ж после этих грез ненавидеть стал не только себя, а всех! Всех до единого! Но больше всего я ненавижу свое отражение! Мир не видывал ничего пакостнее и страшнее! Меня начинает трясти, рвать, когда я вижу себя в зеркале! Меня выворачивает наизнанку, и я не могу терпеть этой муки! И потому я буду их разыскивать везде, повсюду, находить, вытаскивать, выкапывать – и бить, бить, бить! Пускай смеются и издеваются! Я знаю, что не то что любить и терпеть, а и просто выносить меня невозможно. Но разве я в этом виноват? Пока я был маленьким, бабка и мать еще терпели меня, ходили за мной. А потом и они сказали, чтобы убирался из дому, – кто хочет жить вместе с чудовищем, под одной дранкой, в одной тесной землянке? Кто?! Ну да ничего, наплевать! Я уже знаю, что буду делать. А вот эти несмышленыши? Они как дальше-то?! У них нет ничего, ни прошлого, ни будущего. И откуда им знать, что раньше здесь была большая страна, жило много народу, росли леса, текли реки? Конечно, и я не видал ничего из этого, но я столько прочитал и просмотрел, что как будто бы и видал. Во всяком случае, я знаю. Но мне трудно представить, чтоб среди этих развалин потекла вдруг река. Голубая, чистая вода? Тут и цветов таких нет. Тут развалины и трубы, трубы, трубы… На черта им столько труб?! Все чего-то гонят из-под земли, из хранилищ. Все гонят и гонят. Я и не знаю толком – что. Когда прорвало отцову трубу, его стометровый участочек они вдвоем с матерью обхаживали. Прорвало-то – всего ничего, струйка одна и пшикнула – а папашу заживо сварило. Вот так! Только у него штуковина-то эта, что с рождения всаживают под кожу и при совершеннолетии подправляют, когда к трубе уже допущен, так вот она и сработала. Мигом железный прислужничек приперся, мигом все заварил. А на хрена тогда папаша нужен был, я спрашиваю? За каким чертом?! Хотя и чего ему свет коптить было, он ведь из краника исправно высасывал порцию – уже и не говорил, и не пел, лишь хихикал все да на карачках вдоль трубы ползал! Так мать говорила. Сам не помню. Зато, рассказывал там, за колпаком, – никаких труб, все чистенько, все свеженько! Никаких заводов и хранилищ. Красота! Я, правда, в эти байки не очень-то верю. Как это без труб?! Так не бывает! Но мало ли чего! И в книгах тоже разное пишут. Будто бы раньше везде были и трубы, и заводы, и бункера, и фабрики там какие-то, а потом к нам переводить стали – сначала одно, потом другое, потихоньку-полегоньку, не все сюда, все сюда… Так решили, видно. Им виднее было. Но еще до этого всякие-разные появляться на свет стали: Вначале никто не знал почему. А потом – хотя и знали, да молчали, чего панику сеять. И все сюда, все сюда… Может, и верно? Зачем всем подыхать-то? Наверное, так и надо было. Тогда и к трубам приставлять начали да к краникам присасывать – чтоб от труб не убежали! Хотя какая польза, в толк не возьму! Так и приспособились. Кто пошустрее, так те умотали во внешний мир, там получше житуха-то, ясное дело, вот они и переселились. А кто у краника – куда ж ему, ему и тут хорошо! Правда, колпак позже появился, намного позже, когда поползли облачка прям, из сердцевины резервации на внешний мир. И то не сразу дело делалось-то! А большая страна была! Даже не одна, говорят, страна, много разных народов жило, непохожих… Не знаю, верить или нет? Теперь все разные, все непохожие – ну чего общего у Хряпалы с этим клопом на ножках?! Ничего! А у меня с хитрецом ихним? Ноль! Только теперь по-другому деление-то, теперь два народца-то: те, что за колпаком, и те, что тута! А может, тут лучше, а? Может, там вообще жизни нету?! Ведь никто из наших там не бывая. Они-то вот, однако, бывают. Редко, но бывают. Я на них зла не держу, ведь и в самом деле – не всем же подыхать в одной яме?!»
Чудовище освободилось полностью. Но сеть с уродливого горба не сбросило, и та колыхалась на нем дырявой накидкой, шалью.
Осторожно, чтобы не разбить, чудище приподняло зеркало в раме, поднесло его к стене и повернуло стеклом к камню.
«Пускай постоит. В темнотище его расколачивать – и радости-то никакой! Не увидишь, как мерзкое отражение рассыпается на мириады кусочков и исчезает. А это надо видеть! Иначе и смысла нету. А вот рассветет, и тогда…»
Чудище почувствовало мягкое ворсистое прикосновение, замерло. Кто-то подошел совсем близко и на ощупь пытался тянуть на себя сеть. Краешком глаза, перекатившегося под кожей почти к самому горбу, чудище увидало одного из своих давешних мучителей, того, которого называли Волосатый Грюня и которому за день от вожака и прочих досталось немало оплеух. Грюня нащупывал крюки, отбрасывал их. Почти ничего не видел, мало того что он был соней, он был и слепышом,
– Чего тебе? – не утерпело чудище.
Грюня с перепугу заорал благим матом, упал лицом в землю. Его трясло такой дрожью, что становилось страшно за него – еще выскочит из своей, волосатой шкуры!
– Не бойся, – произнесло чудовище мягче, – чего ты боишься?
Волосатый Грюня лежал ни жив ни мертв. Во всяком случае, дар речи он потерял надолго.
– Ну ладно, не хочешь – не отвечай.
Чудище засопело. Стало устраиваться на ночлег – прямо тут же, в развалинах, на том месте, где его мальчишки опутали сетью.
Но Грюня через некоторое время пришел в себя, осмелел.
– Я только хотел крючья повыдергивать, – сказал он, приподнимая заросшее шерстью лицо. – Не все, штук восемь. Чтоб ты сам потом выпутался… А я б убежал.
Чудовище засопело сильнее.
– Ну спасибо. А чего это так вдруг? Чего подобрел-то? – спросило оно.
Грюня не нашелся. Но он уже не дрожал. В темнотище чудище было совсем и не страшным. С ним можно было запросто побеседовать. Оно совсем не собиралось, похоже, проглатывать его, разжевывать, топтать, рвать когтями или еще как-либо уродовать.
– Хитрец Пак сказал, что завтра приведет сюда туристов, – промямлил нерешительно Грюня. – Или послезавтра, когда они придут… Мне страшно. Я не знаю, зачем он их хочет позвать, но мне очень страшно.
– Да ладно уж, не бойся, – проговорило чудовище. – Ты их видал когда?
– Угу. Только раз.
– Ну и что?
– Ничего.
– Вот и на этот раз ничего не будет. Не надо бояться. Они сюда глазеть приезжают. Чего их боятся?
– Ну, тогда я пошел? – просительно произнес Грюня.
– Иди, – согласилось чудовище.
Волосатый Грюня, оглядываясь ежесекундно и втягивая голову в плечи, натыкаясь на мшистые каменные обломки стен, поплелся в сторону поселка.
– И не бойся ничего! – крикнуло ему вслед чудовище.
Оно еще долго не могло после этого уснуть. Думало.
«Хороший мальчуган. Добрый. Сколько-то он протянет тут? Его можно было бы научить читать. Рассказать обо всем. А потом он бы научил кого-нибудь из мальчуганов, следующего. Ведь память должна храниться. Ведь должна? Или… Не знаю. Обрекать на мучения еще одного? А чего ради? Каких таких целей ради? Вот свою цель я понимаю, пускай не все с ней согласятся, но она понятная. А вот память – зачем? Нет, лучше, наверное, не стоит. Добра в мире от нее что-то не прибавляется. Но и без нее не так-то много на свете этого продукта! Поди разберись, что лучше! И к чему это он упомянул про туристов? Ведь они же никогда не сходят с трапов, натянутых прямо над трубами? Ведь они же всего на свете боятся? Как это они придут сюда? Бред! Не придет никто. У них свои дела, у нас свои. Никто не придет, кроме самих мальчуганов. А они заслуживают того, чтобы их попугать немного! Попугаем! Вот только пусть заявятся! Я думаю, они сделаются подобрее после этого. А как же!»
Начинало холодать. И чудовище ежилось под сетью. Ему было зябко а неуютно на этих продуваемых мокрыми ветрами развалинах – ведь и оно было живым существом.
Хитрый Пак проснулся еще до рассвета. Папаши в лачуге не было, он сегодня дежурил в ночную. Это означало, что он не получил очередной порции из краника вечером и должен был бродить по своему участку всю ночь, до тех пор пока не сменят. А как сменят – сразу можно будет хлебнуть горячащего и забыться! Хуже всего было вот в такие пересменки, раз в полгода, когда приходилось выдерживать больше суток без пойла. Пак это уже понимал по состоянию своего молчаливого драчуна-родителя, хотя и сам мало вникал в такие дела – ведь к кранику его не подпускали.
И потому он поднялся сразу, без мучений, был бодр и свеж. Первым делом он вылизал вчерашние миски, там оставалось немного баланды. Раздача откроется лишь днем. И потому ждать нечего. Он выскочил на улицу. Голова закружилась от тошнотворных аммиачных испарений. Снова прорвало где-то, решил он. И побежал будить Пеликана Бумбу и братьев Гурынь. Они жали ближе всех.
К рассвету ватага была в сборе.
Протирали глаза, жмурились, зевали, кряхтели, волосатый Грюня пошатывался, норовил плюхнуться прямо на землю. Его поддерживали, щипали за мясистые ляжки и прочие места. Переросток Хряпало, как и ожидали, ночью окочурился. Тело отволокли вниз, через два пролета, к отстойнику и сбросили его в люк. О Xpяпале тут же забыли, были дела поважнее.
– Пошли кончать гадину! – предложил Гурыня-младший, вытягивая длинную шею и покачивая своей змеиной головкой.
– Успеется, – ответил Пак-хитрец. – Есть новость.
Все навострились. В их местечке новостей почти не бывало.
– Ночью с пересменки приходил Доходяга Трезвяк. Сами знаете этого болвана, что вкалывает за просто так, за миску баланды.
– Слыхали о придурке, – подтвердил Пеликан.
– Так он сказал, что сегодня туристы придут. Вон Грюня слыхал, не даст соврать…
Грюня испуганно вытаращил глаз, круглый и заспанный. Промолчал, лишь кивнул.
– Да вы еще не все про туристов-то слыхали? – презрительно скривил хобот Пак. – Молокососы! Ну, чего помалкиваете?
Выяснилось, что, кроме Пеликана Бумбы и Гурыни-старшего, никто толком не представлял – что это за существа такие, туристы.
– Ладно, увидите, – сказал Пак, – объяснять долго. Ходят тут по трапам, глазеют. Им у нас интересно. Трезвяк сказал, что они сегодня в нашем местечке будут отлавливать уродов всяких, тех, кто к трубам не приписан, сами знаете.
– Давно пора! – согласился Гурыня-младший. – Развелось дряни поганой!
– Ага! – встрял Коротышка Чук. – Сам видал – рычат, плюются, говорить не могут! – Он скособочился и вымолвил: – Да чего там, у меня брательник такой, из дому сбежал! Давно пора поймать гаденыша!
– Резаками их надо резать, вот что! – сказал Гурыня-младший.
Безмозглый и безъязыкий Бандыра; хлопал своими жабьими веками, тряс головой и помалкивал – ему явно не нравилось то, о чем говорил умный Пак. Но и уйти из ватаги он побаивался.
– Короче, отведем туристов к чудовищу! Поглядим, как они с ним… если не околеет, конечно, за ночь! – завершил Пак.
Ватага, как и обычно, согласилась с ним. Близнецы-Сидоровы озабоченно гоготали, похлопывала руками-ластами. Гурыни приплясывали вприсядку, сплетались шеями. Пеликан Бумба щелкал клювом и корчил рожи. Волосатый Грюня мирно похрапывал в ногах у балбеса Бандыры.
Одного Пак не рассчитал. Он устроил сборище невдалеке от папашиной трубы, на пути к лачуге.
Папаша Пуго возвращался с работы. Его качало из стороны в сторону. Руками, свисавшими до земли, папаша поддерживал равновесие. Шел целенаправленно, глядя в одну точку.
– Веселый! – воскликнул Коротышка Чук.
Только тогда хитрый Пак заметил родителя и обернулся. Но было поздно. Папаша подскочил к нему а, уперевшись в землю тремя конечностями, четвертой выдал сыночку такую затрещину, что тот полетел прямиком в канаву.
– Гы-ы-ы, гы-ы! – утробно порадовался папаша Пуго и пошел своим путем.
– Принял из краника, – завистливо проговорил Бумба.
Вылезший из канавы Пак врезал хорошенько ему и Коротышке Чуку. Погрозил вслед папаше клешней.
– Вот его бы первым под отлов… – просипел тихо.
– Его нельзя, – рассудил Бумба. – Он работник.
Туристы появилась лишь после того, как открылась раздача и всем выдали по миске баланды – работникам и их детям.
Грюня, будто завороженный, смотрел снизу вверх, на трапы и на тех, кто по ним шел. Он никогда в жизни не видел таких прекрасных существ. Сегодня ночью в развалинах, он соврал чудовищу. А теперь стоял и любовался, забыв про сон.
Туристы были все совершенно одинаковые, у них не было ни хоботов, ни змеиных шей, ни даже когтистых лап. Все они были высокие, стройные, у каждого было по паре длинных ног и по паре коротковатых, на Грюнин взгляд, рук. Головы и лица же вообще были абсолютно сходны. Те, кто наблюдал такое единообразие, поражались – и каких только чудес не бывает на свете!
Правда, умный Пак пояснил:
– Не знаю – врет Доходяга Трезвяк или нет, но у каждого на роже маска напялена, какая-то дыхательная. Им наш воздух не нравится!
– Падлы! – возмутился Гурыня-младший
Один из туристов приостановился и бросил что-то в ватагу. Пак кинулся первым, подобрал кругляк в бумажке и пихнул его за щеку. Вкус был неприятный, необычный. Но Пак жевал, потом проглотил – раз съедобное, надо есть. Ему завидовали остальные.
Туристы водили из стороны в сторону какими-то поблескивающими штуками, останавливались, приседали, кидали еще и еще кругляки и прочие вещи. Но Паку больше не досталось. Староста согнал к трапу чуть не весь поселок – толчея была невообразимая: народ любопытствовал, глазел на туристов, те глазели на согнанный народ, все время показывали то на одного, то на другого, приседали, подскакивали, раскачивались и, похоже, были очень довольны и веселы.
Как ни кричал им Пак, как ни размахивал клешнями, то бил себя в грудь, то указывая в сторону развалин, все было напрасно – туристы не спускались вниз. Они лишь кидали да кидали кругляки да вертели своими штуковинами.
– Обдурил Трезвяк! – сделал вывод Пак-хитрец. – Доходяга чертов!
– Еще посчитаемся, – сказал Гурыня-младший. – Со всеми посчитаемся!
Туристы ушли к башне, от которой шел трап, и скрылись в ней. Нагляделись. Народ стал потихоньку расходиться. Многим в ночь надо было идти, ничего не поделаешь – смена, работа. Повеселились немного, отвели душу, пора и честь знать!
– Айда к чудовищу! – скомандовал Пак.
Близнецы-Сидоровы возбужденно загоготали. Коротышка Чук прижал лапки к груди и от избытка, чувств испортил воздух.
– Я не пойду! – прошипел Гурыня-младший. – Надоело в бирюльки играть, цацкаться!
Он резко развернулся и стал быстро удаляться.
– Пожалеешь! – крикнул ему вслед Пак.
Гурыня не ответил.
Его старший брат не посмел уйти, а может, и не захотел просто. И они все направились к развалинам.
Но они не нашли чудовища на месте. Между тремя каменными стенами лежала брошенная сеть да поблескивали мелкие осколки разбитого зеркала. По этим осколкам было сразу видно, что зеркало не само упало, что его долго и старательно расколачивали – чуть ли не в пыль.
– Ушла, гадина! – зло выкрикнул Пак и выругался.
Безмозглый Бандыра захлопал своими складными лапами высоко над головой, завыл протяжно.
– Живо обыскать все! – дал команду Пак.
Облазили все окрестности. Но чудовища нигде не было.
Начинало смеркаться. Идти по домам не хотелось. И Пак решил устроить на развалинах короткий привал. Улеглись прямо на грудах мусора. Спешить было некуда, каждый знал, что лучше прийти немного попозже, когда родичи, вернувшиеся от труб, забудутся под действием своего каждодневного пойла. И потому лежали, отдыхали, думали о своем. Паку представлялось, что его назначат старостой и он будет важный и толстый, станет покрикивать не только лишь на эту малышню, а на всех обитателей поселка. Близнецам-Сидоровым грезилась огромная, с корыто, миска баланды. Грюня спал, и ему ничего не снилось – темнота и пустота царили в его мозгу. Старший Гурыня думал о брате и о том, что у них не сегодня, так завтра обязательно будет стычка и придется младшему накидать хорошенько, чтоб не своевольничал. Коротышка Чук мечтал о том, что вырастет в великана и всем покажет! Бумбе представлялось, что он справился бы с обязанностями главаря ватаги ничуть не хуже хитреца Пака, может, и лучше. Бандыра ни о чем не думал, ему и так было хорошо.
Стемнело.
Чудовище выставило глаза из своего укрытия. Оно могло их вытягивать на стебельках-ножках, но не слишком далеко. В подвале, о котором из жителей поселка никто не знал, было сыро. Но чудовище терпело. Оно ждало ребятню с самого утра, намереваясь, как и было задумано, немного попугать нахальных и жестоких мальчишек. Но не дождалось. Решило спрятаться. Перед этим лихо расправилось с зеркалом – самым ненавистным своим врагом.
Уже сидя в подвале, оно решило – если пугать, так в темноте! При свете от такого «пугания» кого-то из мальчуганов могла и кондрашка хватить. А чудовище не хотело никому зла.
И вот наконец стемнело. Самая пора была выскочить из укрытия и с ревом броситься на них, размахивая щупальцами и топоча! То-то кинутся врассыпную!
«Пора! Чего ждать? Неужто за все мучения и унижения я не имею права немного поволновать этих сорванцов? Имею! Глядишь, и проснется в ком-нибудь из них сострадание, поймут, что не только лишь на силе и злобе мир держится. Пора! Хотя нет, надо выждать, пусть отдохнут, пускай, а вот когда встанут, начнут собираться… Эх, плюнуть на них на всех да по своим делам идти! Чего мне в этом городишке делать?! Нечего! Сегодня последнее раскокал! Не хватало еще с мелюзгой связываться!»
Чудовище собиралось уже вылезти. Но вдруг замелькали какие-то вспышки, пробились откуда-то лучи света – широкие и яркие, явно не те, что днем иногда пробиваются сквозь свинцовые тучи. В одном из таких лучей бежал змееголовый Гурыня-младший. Своим корявым обрубком он указывал на что-то. Кому? Это было непонятно.
Лишь мгновением позже чудовище разглядело странные машины на гусеницах. Но не те, что доводилось видеть на пожелтевших картинках, – а совсем другие – приземистые, обтекаемые, с башенками и торчащими вперед стволами. Чудище решило, что вылезать пока не стоит.
То, что произошло дальше, уложилось в одну-две минуты. Свет стал до невыносимости ярким. И Гурыня-младший нырнул из его лучей во тьму. Лишь вопль его сотряс воздух:
– Все, падла! Каюк!
В этом ярком свете заметались в трех стенах фигуры, отбрасывая резкие причудливые тени. Пружинистый четырехлапый Бандыра первым почувствовал опасность и прыгнул прямо на стену, вцепился в ее край. Тут же раздался отрывистый треск, и Бандыра, обливаясь черной на свету кровью, сразу прекратив мигать и хлопать своими прозрачными веками, сполз по стене. Его удивленно-глупая морда была обращена к машинам. Остекленевшие выпученные глаза посверкивали словно пуговицы.
– Шухер!!! – завопил хитрый Пак и метнулся к выходу из западни.
Из первой машины выскочили две фигуры – стройные и длинноногие, в одинаковых дыхательных, как и было сказано Паку, масках. В руках туристов были зажаты короткие трубки с рукоятками. Из них полыхнуло. Снова раздался треск. Но Пак выскользнул. Он был уже в темноте.
Одна из машин, резко подав назад, принялась шарить прожекторами, выискивая беглеца. Стреляли наугад. От безумной пальбы, сопровождаемой невероятным треском, можно было сойти с ума. Оцепеневшее чудовище не верило ни глазам своим, ни ушам. То, что происходило, не укладывалось ни в какие-рамки.
Оно видело, как в луч прожектора внезапно попал Гурыня-младший, словно привидение, вырванное изо тьмы. Его тут же скосила отрывистая очередь. Гурыня привел их, Гурыня погиб от них! Странное происходило дело.
Совсем далеко, на пределе, нащупали прожектором Пака. И погнали, и погнали – одна из машин пропала в темноте. Оставшиеся две освещали каменный тупик. Туристов было уже четверо. Они стояли полукругом, преграждая выход. Но не стреляли.
В каменном тупике, сбившись в кучу, жались к стене Волосатый Грюня, глуповато-доверчивые Близнецы-Сидоровы, Бумба Пеликан, вовсе не радующийся исчезновению вожака, смирный Гурыня-старший и съежившийся колобком Коротышка Чук. Бежать им было некуда.
Издалека доносились приглушенные выстрелы. Туристы чего-то выжидали.
Чудовище поглядывало из своего подвала. Ему было как никогда жутко.
Первая очередь раскрошила камни над головой, заставила пригнуться и опуститься на колени. Вторая – фонтанчиком ударила перед стоящими в загоне, обдала их осколками гравия, щебня.
– Не надо! – выкрикнул Бумба Пеликан. – Вы ошиблись! Это не нас надо отлавливать!
– Мы из поселка! – пробубнил Грюня. – Не надо!
Третья очередь заставила опуститься их еще ниже.
Первым не выдержал Гурыня-старший. Он дернулся в сторону, потом вперед, норовя перевернуться на лету через голову и кубарем выскочить в темноту. У самой границы света и тьмы он распластался, вытягивая в последний раз свою шею и судорожно подергивая обрубками. Его тело зацепили крючьями и забросили в большой металлический короб на корме машины. Туда же последовал и мертвый, полуодеревеневший Бандыра.
Машины чуть отъехали назад, высвобождая проход пошире, но не ослабляя света прожекторов. Доверчивые Близнецы-Сидоровы, расставив свои ласты, пошли следом, пригибая головы пониже, на полусогнутых… Сначала убили одного. Голова его совсем свесилась, изо рта на комбинезон текла густая кровь. Но тело, управляемое второй головой, еще шло, и ласты так же топорщились… Дико заверещал Коротышка Чук, вжимаясь в стену, захрапел Бумба Пеликан. Но снова раздался треск. И вторая голова закинулась назад. Близнецы, немного постояв на опористых когтистых лапах, обмякли, словно опустевший внезапно мешок, тело их съежилось, запрокинулось набок.
В этот момент чудовище и выскочило из своего укрытия. Оно даже успело заметить, что не все из туристов стреляли, что двое водили какими-то штуковинами, лежавшими у них на плечах. И из этих штуковин не вырывалось пламя и не трещало, не гремело… Но было не до мелочей, не до деталей. В один прыжок, не помня себя от ярости, чудовище смяло своим тяжелым телом двоих, стоящих в центре, – их трубки не успели даже повернуться в его сторону. Захватив боковым щупальцем третьего, чудовище размозжило его о стену. Четвертый, резко развернувшийся лицом к нападавшему, стрелял прямо в дрожащий зеленовато-серый бок, усеянный бородавками. Понадобилась доля мгновения, чтобы обратить его в кусок жижи, трепыхающийся у гусениц машины. Боли чудовище не почувствовало. Лишь онемели два щупальца.
И тогда начали стрелять из башенки. Но не по чудовищу. Оно стояло слишком близко, и ствол мог лишь упереться в него боковиной, но никак не отверстием.
Завизжал пуще прежнего Коротышка Чук. Молча упал Пеликан Бумба. Пополз, оставляя кровавую дорожку, Волосатый Грюня. Он был, наверное, сильно ранен. Но полз к выходу. Единственный круглый, широко раскрытый глаз смотрел с мольбой.
Чудовище чуть качнулось – и ствол уперся в броню машины, теперь он был скорее не стволом, а крюком, во всяком случае, стрелять из него было нельзя.
Грюня еще дышал, когда чудовище подошло ближе.
– Зачем? – пролепетал он. – Кому мы мешали?
– Ничего, все пройдет, ты же живой, – проговорило чудовище.
– Пак сказал, что будут отлавливать тех, кто не годен…
Из огромного глаза текли слезы.
Чудовище хотело сказать еще что-то. Но оно заметило, что глаз начинает стекленеть, и отвернулось…
«Несчастный Грюня! Его-то за что?! Отлавливать? Врете, не отлавливать! И даже не отстреливать особо деградировавших! Это все враки! Чистая ложь! А чего ж не поохотиться, коли тут резервация?! Коли тут все для охоты есть?! А какие трофеи?! У вас там, во внешнем мире, за колпаком, такие и не водятся! Так вот вы какие. Раньше вы на нас смотрели как на племя уродцев, несчастных, как на дармовых, за глоток сивухи и миску баланды, рабов! А теперь и так перестали! Теперь как на зверей смотрите, позабыв, что предки-то у нас одни, что прапрадедушки и прапрабабушки наши были сестрами и братьями! Ну ладно, давай! Тешьте себя! Поглядим еще – кто на кого охотиться будет!»
Погнавшаяся за Паком машина возвращалась. В тишине ее лязг был особенно слышен. Наверное, находившиеся в ней уже сообразили, что дело неладно.
Чудовище спряталось за стеной. Оно знало, что надо делать.
Когда машина подъехала ближе и остановилась, чудовище подпрыгнуло и обрушилось всей массой на башенку. Броня выдержала, но ствол, торчащий из нее, превратился в кривую загогулину. Почти сразу чудовище сползло назад. И не ошиблось – люки откинулись. И наверх выскочили трое с трубками. Они ничего и никого не боялись здесь. Они знали, что обитатели резервации не имеют никакого оружия, что это вырождающиеся мутанты, не способные толком защитить себя… И они просчитались. Их смерть была мгновенной и почти безболезненной. Все! С туристами было покончено.
Чудовище заглянуло в короб на корме. Там лежал скрюченный Гурыня-младший в изодранном очередями комбинезоне, со свернутой шеей. Рядом полусидел умный и хитрый Пак – хобот его был рассечен надвое, на лысом огромном лбу зияла дыра. Видно, в последний миг Пак успел повернуться к преследователям лицом. Но теперь это не имело ровно никакого значения.
«Сволочи! Они всегда были сволочами! И мы виноваты тоже!»
Чудовище по одному отнесло тела мальчуганов к потайному подвалу, спустило их вниз… И завалило камнями, обломками кирпичей. Сверху накатило огромный сцементированный кусок стены. Чужаков-туристов оставило как они и были.
Потом оно немного передохнуло. И, не оглядываясь, побрело прочь из городка.
«Все будет как прежде. В поселке и не заметят пропавших. Кому какое дело до них! Ну и пусть! Они сами по себе, а я сам по себе. У них там свои дела, своя работа. А у меня все свое, собственное. Нам рядом не ужиться. Эти, конечно, придут еще. Все расследуют, все определят. Будут искать. Пускай ищут! Плевать на них! Пуская отстреливают, отлавливают! Пускай охотятся! И пускай знают – и на охотников охотник сыщется! Я не пугаю. Мне до них нет дела. У меня своя цель. И я ее не собираюсь менять. У меня нет другой цели. Я буду их бить! Крушить! Расколачивать вдребезги! По всем городкам! По всем местечкам! По всей нашей бескрайней резервации! А когда я расколочу последнее и мир перестанет двоиться, я выберу самый большой, самый острый осколок и перережу им собственную глотку!»
Душа
Пахомыч сошел с тропинки, сбросил с плеч ненавистный мешок и уселся на облюбованный еще издали замшелый пень – половину протопал, теперь и отдохнуть не грех. До дому оставалось километра три: ежели налегке – ничто, а с двадцатикилограммовой ношей за спиной – солидный путь, да и годы…
Пахомыч вздохнул, отер рукавом пот со лба и достал из кармана брюк яркую, скукожившуюся при ходьбе пачку в поблескивающем целлофане (в станционном ларьке, кроме «Мальборо» по рубль пятьдесят, ничего не было). Он попытался еще раз связно произнести надпись на пачке, наткнулся на нелепое сочетание «рлб» в середине слова, запнулся, выматерился и бросил эту безнадежную затею.
Негнущиеся заскорузлые пальцы неумело оборвали фильтр, и он полетел в жухлые кусты по ту сторону тропинки. «Беломорину» бы или, на худой конец, «Дымок» щас, а этой пакостью рази же продерешь глотку! Пахомыч цыкнул зубом, сунул сигарету в рот, прикурил, обломав две спички, с третьей. С первыми затяжками одышка улеглась, полегчало.
Уперевшись локтями в колени, старик опустил голову, уставился в землю. Там, внизу, меж чахлых стебельков и травиночек, огибая пожелтелые иголки палой хвои, полз своей, только одному ему известной дорожкой муравей. Полз, скособочившись, упираясь и мелко суча растопыренными ножками, волоча за собой жирную дохлую личинку. Несмотря на заметное усилие, натугу, полз он быстро и как-то очень по-деловому.
Пахомыч добродушно ухмыльнулся: работяга! Все в дом, не то что иные! Он не мог отвести глаз от насекомого, конечно, не подозревавшего, что за ним следят.
И вместе с сочувствием и уважением к трудяге-мурашу откуда-то из глубины, из потаенных закоулков сознания выплыла зависть. Пробилась махоньким росточком и пошла, поперла и вверх и вширь, заглушая все остальное. Как же это? Тля, букашка безмозглая – и на тебе! Тащит эдакую дуру, да она ж раз в десять боле его!
Пахомыч аж заерзал по пню, жадно затянулся подрагивающей в скрюченных пальцах сигаретой. И не то чтобы ему в диковинку показалось, куда там – Пахомыч из года в год выписывал популярные журналы «Знание-сила» и «Техника – молодежи», заглядывал даже в «Юного натуралиста»; а там было ясно прописано про муравьев и прочих букашек-силачей. Да и сам бы он мог многому поучить, повидал немало, а уж живность всякую, поселившись на лоне природы, знал, может, и не хуже кой в чем специалистов, наблюдал не единожды. Но прихватило, заело: прет себе – и хоть бы хны! А тут вона, с мешком в четверть от себя, может, чуток поболе, как проклятущий, умаялся! Где ж тут справедливость?! А еще говорят: человек, мол, венец природы, то да се! Да какой он, к лешему венец, ежели самая ничтожная тварь здоровше его?!
Пахомыч совсем сник. Вот так вот – тыщу раз видеть… и один раз увидеть, и понять вдруг, что хошь ты и во сто крат умней, а по сравнению даже с мурашом жалким – слабак и немощь хилая. И если бы только это – полбеды! Ведь что делает, упирается, тянет зубами и ни о каких отдыхах на пеньках замшелых не помышляет, а ведь нелегко, и муравейника поблизости не видать, но ведь без передышки будет тащить, жлобина, пока не допрет до дому, а допрет, так тут и обратно побежит – еще чего искать. На душе становилось муторно. Разобрало аж до слез почти, до обиды.
Пахомыч в последний раз втянул в себя непривычно слабый дым заморской сигареты, сотворенной на московской фабрике, надолго задержал его в легких.
Перебарывая накатившую слабость, с присвистом выдохнул почти не разжимая затвердевших губ – и резко ткнул окурком в муравья. Личинка противно зашипела под угольком.
Мешок не стал легче. Пахомыч, покряхтывая, забросил его за спину, оглядел пустыми глазами поляну, дважды провел ладонью по лицу, избавляясь от ненужных мыслей. На минуту представилось, будто и сам он, как тот муравей, ползет по своей, одному ему ведомой дорожке, а сверху кто-то большой и невидимый – ведь не видел же муравей его, на пне сидящего, следит внимательно. Следит, думает, небось, о чем-то, а потом… раз! И трепыхнуться не успеешь! На лбу выступила холодная испарина от внезапной бредовой мысли, захолонуло в груди. Мешок многопудовой гирей потянул к земле. Но нет, не-е-ет, сказки, вымысел, подумалось почему-то невесело, без облегчения. И вслед за этим пришло другое, совсем несуразное. Ведь коли мураш в десять раз тяжелее себя тянет, а ему, Пахомычу, и полтора пуда перебор, так что ж эдакой махины бояться, да она ж своей сигареты не подымет, с собственной рукой не сладит, куда там! Сердце отпустило, и мешок стал будто полегче. Пахомыч даже распрямился, губы размякли в довольной улыбке. «Не-е-е, шалишь, венец я, а как же иначе-то, венец!» Он бодро зашагал по знакомой тропе к дому.
Но, метров с полтораста пройдя, встал – кольнуло в груди. Да не телесной болью кольнуло. И сразу же прошибло потом. «Что же это? Что же это я?!» Он сбросил проклятущий мешок и побрел назад. Но не дошел до замшелого пенька, снова остановился. И стало ему вдруг до того нехорошо, до того тягостно и хлипко, будто сама душа в теле скукожилась наподобие мятой и лишней заморской пачки в кармане.
Немного фантазии
– Ты гляди у меня, нечисть болотная! Чтоб все по уговору было!
Илья Муромец выразительно поглядел на свой пудовый кулак, застывший перед носом трясущегося и жалкого Соловья-разбойника.
Соловей был невысок, в плохонькой, затертой до блеска одежонке какого-то басурманского покроя. За плечами у него в большущей холщовой суме висело что-то тяжелое, вроде сундука, но поменьше малость. Безбородое лицо с зеленоватым, как и положено нечистой силе, отливом выражало покорность и безнадежную усталость. На тощеньком запястье болталось зачем-то железное кольцо.
«Вериги он, что ли, таскает? – взглянув на кольцо, подумал Илья. – Тьфу! Тоже мне – святой угодник!» К Соловью Муромец уваженья ни малейшего не испытывал. «Рази ж это Разбойник, туды его в корягу? Висит себе на суку и свиристит окромя шуму, от него никакого зловредства». Голой рукой взял полонника: волосьев из бороды натолкал в уши, чтоб не лопнули, – да прям с коня, не выная меча-кладенца из ножен, и сшиб с ветви злодея.
Дума эта не веселила седобородого богатыря. Получилось, что вроде бы сам провинился – этакого хлюпика князю на потеху добыл да в стольный град припер Правда, ради красного словца загнул служивым из дружины: мол, три дня и три ночи кряду единоборствовал с супротивником окаянным, насилу одолел – столько в ем силы колдовской накопилось. Но на душе от этого не становилось легче.
Семь дней добирался из тмутараканской погибели, из болота зловонного, и все чтоб мозгляка этого ко двору князь-Владимира, Солнышка Красного, доставить. Семь ден души хрестьянской живой не видал, а ентот срамник в одночасье седины богатырские осрамить могет! Не доверял Илья Соловью.
– У-у! – гудел он на несчастного. – Не нравишься ты мне, морда разбойничья. И где ж в тебе злоба лютая? И чего ж ты смиренный такой?!
А Соловей стоял, да глазами лупал, да все мешок свой ощупывал. «За добро боится. Будто не знает, что добро это нечистое для души удалой богатырской – тьфу! И ничто более».
– Ты щеки-то посильней раздувай! – Муромец багровел от натуги, показывая на себе что к чему. – Да пальцы в рот вкладай! Вот так. Эх, осина по тебе плачет, чертово семя! Из такой дали, все понапрасну, туды тя в корягу!
Но вот стражники секиры свои развели, и двери в хоромы княжьи распахнулись. Илья подтолкнул ладонью пленного и, разгладив сивую бородищу, шагнул вперед. Склонился в земном поклоне.
– Вот, княже! На потеху тебе Одихмантьича приволок. Не обессудь, уж ежели чего!
Князь сидел во главе стола, заставленного яствами, какие и за три дня не под силу было бы съесть гостям приглашенным. Высокие боярские шапки качнулись, одутловатые лица обернулись к вошедшим. Князь милостиво взмахнул платочком.
– Ну, давай, нечистая! – Илья вполсилы, но от сердца хрястнул по заплечному мешку Соловья.
Там что-то захрипело. Соловей рухнул на колени… И засвистел.
– Зафиксирован второй сигнал от 07071-го. Первый, посланный семь оборотов планеты назад, оказался ошибочным и был вовремя прерван биоразведчиком. Место выбрано, – четко доложил 07072-й командиру многоцелевого трансметагалактического суперлайнера. Тот поглядел на пульсирующий экран входного контроля и протянул правую указательную присоску к кнопке с надписью «Автоматическая посадка»…
Редактор снял очки, отложил их в сторону, потер покрасневшую переносицу. Работы, как и всегда, было невпроворот.
– Пришельцы, – неопределенным тоном проговорил он и дружелюбно улыбнулся, – а в мешке что – передатчик какой-то? Так-так, первый сигнал, значит, был, когда его Илья заметил «на суку семь ден» назад, а второй… ясно.
Редактор скосил глаз и увидал у ног автора раздутый черный портфель.
– А это не рукописи случайно? – В глазах его высветилась нешуточная тревога.
Автор придвинул портфель ногой еще ближе к себе, энергично замотал головой:
– Нет-нет, это так… кой-какие личные, знаете, вещички.
Редактор облегченно, но так, чтобы это было не слишком заметно, вздохнул.
– Много работаете, наверное, давно не отдыхали?
Лицо автора было на самом деле землистым, зеленоватым даже. Такими бывают лица у людей или просиживающих ночи за письменным столом, или у неумеренно предающихся возлияниям. В последнее не очень-то верилось.
Автор смущенно пожал плечами, заерзал на стуле.
– Так, хорошо, ну а почему он у вас свистит? Что – сверхцивилизация инопланетная не знакома с радиосигналами или там, не знаю, еще каким-то более совершенным способом связи? Непонятно.
– Тут дело, видите ли, вот в чем, – засуетился автор, они, цивилизация эта, развивались совершенно по-другому. Этот принцип, видите ли, тут не свист, это что-то наподобие ультразвука, но… они сами его не воспринимают, только приборы. Сейчас я попробую объяснить.
Он быстро вытащил из кармана ручку и на листке бумаги начал рисовать какие-то схемы, стрелочки, писать что-то.
– Ну-у, зачем нам технические детали, – мягко остановил посетителя редактор, – разве в них суть? Тут в другом дело. Задача литературы – психология человека, образы, сюжеты, в конце концов. Даже в таком жанре… Постойте, мне кажется, что нечто подобное описываемому вами уже встречалось… Да и пришельцы не ново. А почему бы – не люди будущего, или, скажем, из параллельного мира, так это называют фантасты?
– Я как-то не очень знаком с этим.
– Ну, вот видите. А если развить тему, глубже взять, убрать этих, с присосками. И дать, к примеру, чисто историческое, былинное толкование?
Автор растерялся, глаза его забегали, но лицо продолжало выражать покорность и безнадежную усталость.
– Ведь пусть небольшая, но основа есть. Еще немного труда, немного фантазии… – продолжал редактор.
Совершенно случайно взгляд его упал на руки посетителя сдвинутый рукав пиджака обнажил худое костистое запястье, на котором болталось внушительное, не по размеру, металлическое кольцо, тусклое и не похожее на браслеты, какие носят порой данники моды. «Вериги он, что ли, таскает?» – в недоумении подумал редактор. И невольно еще раз взглянул на портфель. Тот и вправду был большой, чуть меньше сундука.
Робинзон-2190
Оторваться от книги было непросто, не хотелось отрываться. И Славка не спешил – ну что, в конце концов, значат лишние три минуты! Он перечитывал ее в четвертый раз. И знал, что будет читать и в пятый, в шестой… Вот это жизнь: как наяву! Нет, лучше, значительно лучше, наяву так не бывает, только в старинных романах! Где-то далеко-далеко и давным-давно – остров посреди океана, диковинные животные, солнце, попугаи, стихии, с которыми надо бороться. И вообще, каждый час, каждый миг трудности, неизвестность. Да что там говорить – вот романтика! А пожелтевшие за столетия страницы – в них самих уже тайна, неведомое, а язык – разве сейчас так говорят и пишут? Куда там! Правда, староанглийский Славка учил во сне, потому как ленив был и неприлежен. Но разве это важно? Нет! Попади он туда, куда занесла судьба героя старинной книги, да он бы и не такое выдавал! А что здесь? Тьфу! Славке и думать не хотелось, что через минуту-другую надо будет отложить затертый, потрепанный томик и выйти наружу, приступить к своим ежедневным и нудным обязанностям. Однако работа есть работа. Последний раз вдохнув в себя запах дальних странствий. Славка не глядя нащупал на столе увесистый кругляш, сунул его между страниц, чтоб не искать потом, где остановился, и решительно отодвинул книгу. Затем машинально влез в защитный костюм, нацепил на всякий случай маску и вышел из станции.
Отброшенный дверью фиолетовый спрутокрокодил взмявкнул обиженно и опрометью бросился в чащу, сшибая на своем пути выросшие за ночь огурцы. Название Славка придумал сам, они были просто продолговатыми и с пупырышками, вылитые огурцы, но росли прямо из земли и вкусом напоминали вареники с вишней. Каждый вечер Славка старательно выкладывал из огурцов сложный геометрический узор, втыкая их в питательный слой. И если ночью никто не хозяйничал в огороде, узор становился фантастически красивым и еще более сложным, какой разве на экране дисплея увидишь.
Огурцы то ли делились, то ли почковались, Славка не помнил, хотя ему растолковывали сведущие люди. Да и неважно это было, главное, размножались очень быстро и причудливо. Но редко огуречная плантация по утрам оставалась нетронутой. Славка не знал, кто занимается безобразиями, а потому часто грешил на Кешу – прибившегося к станции спрутокрокодила. Приручать его Славка и не думал, как-то само собой получилось. А теперь от Кеши невозможно было избавиться – прописался под дверью. И, вдобавок ко всему, стоило Славке только выйти из станции, прилипал и не отходил ни на шаг. Ну ничего, думал Славка, после сегодняшнего пинка полдня обижаться будет, хоть отдохнуть от него удастся! Спрутокрокодил попался с характером.
Собрав с десяток огурцов, Славка протолкнул их в лючок возле двери – к обеду интегратор сотворит что-нибудь съедобное, надоели уже вареники! Потом не меньше пятнадцати минут возился с четырьмя биолокаторами, торчавшими по углам от станции. На одном были следы повреждений – опять кто-то любопытный приходил из чащи. Пришлось менять реле, подключать к Центральной системе – пускай она ищет неполадки, а потом и устраняет их.
Центральная система знала и умела все. Славке вообще было непонятно – зачем его тут держат? Запустили бы на полный автоматический режим всю станцию – и дело с концом! А то, видите ли, им лучше знать! На всякий случай! На всякий случай! Для практики, мол! Но надолго расстраиваться Славка не стал. Да и не умел он надолго расстраиваться. К тому же надо было обойти дальние концы, поглядеть, что там и как.
Первым делом Славка решил сходить на поляну, проведать коз. Он свернул с тропинки и топал по серому, пузырящемуся мху – так ему больше нравилось: мох сильно пружинил, подталкивал. Можно было даже остановиться и попрыгать. Если таким обложить прыжковые сектора на, стадионах, рекорды бы долго не устояли, сам Славка и стал бы рекордсменом – и Земли и всей Звездной Федерации. А можно было подпрыгнуть и упасть на спину, как на батут. Многое можно, да жаль, время от времени включают связь-обзор из Центра, а стало быть, могут увидеть. Потому сегодня Славка решил не дурачиться, все-таки практикант, а не приготовишка какой, надо посолиднее быть.
Из черных ветвей выпала резиновым шлангом лиана, поползла навстречу. Но он не обратил внимания на это глупое полурастение-полузмею. Лиана вечно поджидала в одном и том же месте и уже порядком надоела. Никакой фантазии, вяло подумал Славка и топнул ногой. Лиана, шипя и извиваясь, втянулась в крону над головой. По ее понятиям, жертва всегда должна пугаться, застыв на месте, или убегать, а раз ни того ни другого не следует, значит, это и не жертва вовсе.
Славка боялся за коз. Он считал, что большую часть здешних тварей давно бы пора отправить к их создателям. А вот коз любил. Правда, толку от них ноль – ни молока, ни шерсти, но уж больно симпатичные!
Рядом брел дубль-X и тяжело, с присвистом сопел. Славка старался его не замечать. Дублей он презирал и не помнил, чтобы кто-нибудь, где-нибудь, исключая, конечно, инструкции и прочую канцелярскую писанину, называл эти малоприятные создания дублирующими хамелеонами. Их звали просто – упырями. Скукотища!
Фантазии у упырей было ненамного больше, чем у лиан. Вот и сейчас горе-упырь брел в таком же защитном костюме, что и на Славке, был так же лохмат и сутул, как оригинал, и вдобавок имел точно такой облупленный нос под прозрачной маской. Попробуй отличи! Но Славка знал, что упыри по своей природе халтурщики. Глядишь на него прямо – ну до мелочей все верно, копия! А чуть скоси глаз, так, чтобы не заметил, – и сразу увидишь: или проплешина в теле, или еще что, выдающее с головой. Вот и сейчас на локте упыря была дырка и в ней что-то мигало. «Тоже мне, Пятница!» – пробурчал Славка под нос и отвернулся.
Чьих рук творением были упыри, никто не знал. А главное, никто и сознаваться не хотел. Лет пятьдесят назад, когда на планете командовали ученые мужи из Института Экспериментальной Генетики, еще можно было найти виновника, но только не сейчас.
В Славкины обязанности входило примечать новые виды биоматерии, если таковые обнаружатся, и классифицировать их. Появляться им вроде было неоткуда, но они появлялись, и довольно-таки часто. А вот исчезали редко. Поначалу экспериментаторы из института отбирали самое ценное, что могло пригодиться в метрополии или при заселении новых пустынных планет, и внедряли свои создания, куда надо и не надо, стараясь, по мере сил, не нарушать баланса. Потом запутались, бросили все как было и перебрались продолжать научный поиск в новые места. Галактический комитет по охране жизни и общей экологии бушевал, метал громы и молнии. Но ничего поделать не мог – каждую молнию отражал обоснованный ответ, громы приглушались публикациями и голофильмами, в которых рисовались радужные перспективы человечества, ведомого исследователями из ИЭГ к окончательной гармонии.
Ученым мужам негде было развернуться. Новое, неизведанное манило их. Со Славкиной планеты они ушли еще до его рождения, понадеявшись, что все ненужное само собою вымрет, ведь ни по каким законам оно не сможет образовать устойчивой экологической системы. Как бы не так! Проще, казалось бы, уничтожить все, придать планете ее первоначальный благообразно-пустынный облик. Но на это у генетиков руки не поднялись. Так и ушли – с опущенными руками и извиняющимися улыбками на лицах… Создания их оказались не только живучими, но и способными порождать нечто новое, выходящее за пределы всякой фантазии.
До полянки оставалось не больше двадцати минут хода. Но Славка не спешил. Временами он останавливался, подбирал валяющиеся рядом у тропинки камни и далеко зашвыривал их в чащу. Один из таких разноцветных голышей испуганно заверещал на всю округу.
Но Славка уже разжал пальцы, и непонятная тварь скрылась за верхушками стреловидных папоротников, тут же замолкнув. На писк обиженного «камушка» чаща отозвалась оглушительным, долго не смолкающим ревом: «И-и-э-э-гх!..» Рев был утверждающ и лих. Давным-давно кто-то из младшего персонала генетиков заложил в самосовершенствующуюся модель исполинского экскавазавра этот вопль, прославляющий родной институт.
Упырь плелся по-прежнему рядом и временами принимал обличия тех, о ком думал Славка, этакий упырь-телепат. Славка просто не мог постичь умом, зачем все это было нужно? Но верил – не было бы нужно, не сделали! Генетиков он уважал. А вот упыря нисколечко.
Чтобы избавиться от дубля, Славка очень образно представил себе большой мыльный пузырь и, когда упырь радужно засиял рядом, переливаясь тонюсенькой оболочкой, ткнул в него пальцем. Пузырь лопнул. На кончике пальца осталась мыльная капля. А упырь образовался Славкиным двойником по другую руку и вздохнул как-то особенно тяжело.
Славке вдруг стало не по себе. Он потерял способность двигаться, думать… и замер. Капля была мокрой! Он чувствовал ее кожей сквозь перчатку – чего никогда не бывало, никогда, даже если сунуть руку в лужу, в кипящую лаву, в серную кислоту. Он медленно провел ладонью по поясу – так и есть, кармашек пустой, силовика не было. Стало холодно и страшно. Все это означало одно: защитному костюму цена не больше, чем простой тряпке, а самому Славке остается жить до первой встречи с каким-нибудь не слишком дружелюбным зверем. Он вспомнил, как засунул силовик в книгу между страниц. И схватился за голову. Зачем он его туда сунул? И так не забудет – сто восьмая страница, зачем?! Но раскаиваться было поздно, да и не в чем – случайность. Никогда Славка не думал о смерти, а вот сейчас накатило.
Нет, он вовсе не хотел умирать, так ничего и не сделав, не повидав толком мира! Вон у большого арматурного дерева клубится туман – это колония пиявок-оборотней. Пять шагов вперед, и конец! Вынырнут из тумана цепкие щупальца, втянут к себе, в белое марево, все! В глазах потемнело. Славка так и сел, где стоял.
В мозгу билось, пульсировало: бежать, бежать на станцию, пока не поздно! Но он не мог встать, ноги отказывали, било крупной дрожью. Рядом сидел пригорюнившийся упырь и тоже трясся всем телом. Славка впервые испугался дубля, отшатнулся. Тот резко отпрянул в противоположную сторону, замигал дырками сильней. Нет, упырь пока не тронет, подумал Славка, ведь и лиана же не тронула, а могла… надо поувереннее, собраться надо!
Он вспомнил, что в первые дни на него часто нападали здешние хищники – но костюм был им не по зубам. И, наверное, потому многие отступились, выработали условный рефлекс. Теперь утешения в этом мало. Все равно ему до станции не дойти, не дадут! Тот же упырь, как только смекнет… Славка совсем иначе видел все привычное, окружавшее его целый месяц. К козам идти нельзя! Какие там козы, скорее назад!
Он встал и медленно пошел по тропинке, удаляясь от станции. В руке сжимал подобранный камень, настоящий, не голосящий ни с того ни с сего. Проходя мимо колонии пиявок, он швырнул камень в туман. Белое марево заклубилось, вспучилось, но Славку пропустило. Вслед первому камню полетел второй, брошенный упырем. На упыря щупальца среагировали – черные мясистые отростки облапили дубля. Но утащили к себе пустоту. Упырь, как и в случае с пузырем, рассредоточился и собрался уже на семь шагов дальше, рядом со Славкой, запыхтел, засопел. Впервые у Славки появилась мысль – а чего он, собственно, его все время копирует, мало, что ли, других, взялся бы за пиявок, например. Нет, упыря бояться пока нечего.
У края арматурного дерева он остановился и долго возился с прямой увесистой ветвью, пытаясь обломить ее – какая-никакая палка, а пригодится. Дерево было старое, засохшее, потому минут через десять Славка ветвь отодрал. Потряс в воздухе оружием, почувствовал себя уверенней. А заодно мысленно и выругал и поблагодарил халтурщиков, программировавших дерево, – уж если он сумел отодрать кусок арматуры, значит, надежного дома на таком скелете не поставишь. А впрочем, им виднее. Славка не спеша двинулся вперед.
Козы, как и обычно, паслись на поляне. Славку встретили довольным блеяньем. Огромные пуховые воротники на шеях у них раздулись, наверное, в знак удовольствия от встречи, так всегда казалось Славке. Он пожалел, что поленился, не набрал огурцов – козы очень любили вареники с вишней.
Упырь приотстал, застрял на краю поляны, постепенно теряя четкие очертания. Ладно, решил Славка, усмехаясь, и без него обойдемся. Он. улегся на траву между коз. Если эти беззащитные неженки целы и пасутся себе мирно, значит, и опасности никакой. Можно передохнуть немного, успокоиться.
Славка лежал и прислушивался к стуку собственного сердца. Оно постепенно входило в привычный ритм. Да и голова прояснялась. А может, не идти никуда? Зачем возвращаться? Ведь самое большее через час-полтора на станции обнаружится его пропажа и те, кто в Центре, примут меры. А с козами так хорошо, так спокойно. Он перевернулся на спину, прикрыл глаза.
Одна из коз, тяжело переваливаясь на перепончатых лапах-ластах, подошла вплотную, наклонила кудлатую голову. И Славка сквозь маску ощутил шершавость раздвоенного зеленого языка. Он протянул руку и почесал у козы за ухом. Та тихо, с восторгом заблеяла на высокой ноте. Стали подбираться другие, ближние. Они тоже клонили головы, просили ласки. Славка махнул рукой.
– Все, хватит! Идите, паситесь! – проговорил он негромко, но твердо.
Козы были на диво послушные, разбрелись. Славка отыскал глазами притихшего на краю поляны упыря. Остался доволен собой – неопытный глаз навряд ли различил бы дубль-хамелеона в серой кочке с голубеньким цветком наверху. Но Славку не проведешь – в нижнем листочке, у стебля, сияла дырочка, и там была мигалка. Точно, он! На какое-то время Славка даже позабыл, что попал в серьезную переделку.
К реальности вернул жуткий вой из чащи. Вой приближался и становился сильнее. Никому иному, кроме стаи болотных шакалов, он принадлежать не мог. Хуже некуда! На Славку накатила волна почти панического ужаса. Шакалы жили в единственном на планете болоте и были там мирными травоядными. Но иногда, очень редко, с ними происходили удивительные превращения. Они вдруг выползали из болота, скидывая с себя старую оболочку, как змея кожу. Они становились похожи на самих себя меньше, чем лососи до нереста походят на обезображенную остроклювую горбушу, пробившуюся сквозь пороги и водопады к месту своего рождения. И все же они оставались собой, болотными шакалами. Они жили всего два-три дня. Но эти дни превращались для обитателей чащи в жуткий кошмар – шакалы пожирали все на своем пути, им нужен был запас жира, чтобы отложенное потомство могло безбедно перезимовать в болоте.
Славка уцепился за палку. Он понимал, что она ему не поможет. Но что ему могло помочь?! Он видел краем глаза, как метался снова принявший облик человека упырь, как он взмахивал руками, подпрыгивал… Но будто невидимая стена выросла по краям поляны, и упыря эта стена не пропускала. Да и что с него толку! Славка почувствовал, как вспотела сначала спина, а потом и все тело. Пот со лба тек в глаза, мешал смотреть.
Стены, не пропускавшей упыря, для болотных шакалов не существовало. Приземистые, распластанные по траве бурые тела, вскидывая безлобые головы с черными хитиновыми жвалами в три ряда, приближались. Ни лучемета, ни гравизащиты, ничего, кроме палки… И это был конец! Палка пойдет на закуску. А потом… Нет, подождем пока, решил Славка, они ведь на коз сначала набросятся. Ему стало до слез жалко этих беззащитных, пушистых козочек, таких неуклюжих на своих ластах, таких милых, плюшевых. И он забыл о себе.
А козы, казалось, не замечали приближающихся шакалов, так же мирно щипали травку. И если одна поднимала голову и начинала блеять, глядя в поднебесье, другие прислушивались, кося изнизу глазом, а потом дружно поддерживали товарку.
Славка уткнулся носом в землю, чтобы ничего не видеть. Палку сжимал в кулаке, ждал – вот сейчас завоют, захрипят, заголосят раздираемые козы, и тогда… Но было тихо. Лишь вой шакалов стал каким-то надтреснутым, нестрашным.
Он осторожно приподнял голову. И ничего не увидел. И справа, и слева, и вверх сплошной стеной вздымался, вился не пригодный ни на что козий мех. Он вскочил на ноги, отталкивая от себя лезущую в лицо шерсть, пригляделся. Нельзя было ничего понять. Славка быстро вскарабкался на спину ближайшей козе, придерживаясь за ухо, встал на ноги.
Пришлось долго тянуть шею, прежде чем он что-то высмотрел. Козы разделились на две большие группы, освобождая шакалам проход, и одновременно невероятно раздули свои воротники. К ним невозможно было подступиться, шакалы вязли в море шерсти, соскальзывали с нее, отчаянно рвали пух и шерсть жвалами, но ничего поделать не могли. Временами то один, то другой из обезумевших хищников получал из-за непреодолимой завесы увесистую оплеуху ластом и откатывался назад. В рядах коз Славка не заметил ни малейшего волнения.
Он слез с лохматой спины, уселся на землю. Тоже мне, друзья, думал он, это так-то у вас от радости воротники раздуваются? Эх вы, за чужого принимали! Но обида была наигранной, внутри у Славки все пело. Вот тебе и беззащитные неженки.
Через полчаса шакалов и след простыл. А козочки, чуть поубавившись в размерах, продолжали пастись на лужайке как ни в чем не бывало. Славка обошел каждую. Подолгу чесал за ушами, похлопывал по спинам. Иным способом выразить свою благодарность он не мог. Но надо было возвращаться – стыдно, чтобы из-за тебя переполох устраивали.
По следам в траве Славка определил, что болотные шакалы ушли влево от тропы. А значит, их бояться больше нечего, они не сворачивают с пути. Он помахал козам на прощание и направился к тропе.
Упырь встретил Славку таким яростным сопением, будто он собственноручно отогнал стаю, а на обратном пути закатил валун на высокую гору. На этот раз Славка был рад попутчику. И даже благодарен за заботу. Он подмигнул дублю. Тот засиял, умерил сопенье. И они двинулись вперед.
По дороге Славка подобрал несколько живых камней, которые тут же прозвал пищалками. Надо будет сунуть их в биолокатор – тот определит, кто они, эти новые жители планеты. А может, и не новые? У Славки голова гудела. И никак не проходил озноб.
– И-э-гххх! – громыхнуло совсем близко.
Славка вздрогнул. Но все же нашел в себе силы сойти с тропы, немного углубиться в лес. Из-за мшистых корявых стволов он разглядел экскавазавра. Тот гигантской и плоской нижней челюстью рыл никому не нужный котлован. Прямо посреди леса.
Сам трудяга был с четырехэтажный дом и почему-то без хвоста. Славке он прежде представлялся более устрашающим, похожим на древних ящеров. Завр делал свое дело и не забывал пережевывать и глотать корни, попадавшие в пасть вместе с грунтом. Землю выплевывал в сторону, там высился порядочный холм.
Неподалеку от завра можно было посидеть, отдохнуть – ну какой смельчак из хищников рискнет подобраться близко к этому чудовищу с камнедробительными челюстями. Славка завра не боялся, знал, что животное проектировалось для строительных нужд. Считал его совершенством, большим достижением генетиков-экспериментаторов. И вправду, ну зачем везти на дальнюю планету, за сотни световых лет экскаваторы и другую технику? Куда все это класть? А тут запихнул в транспортный отсек яйцо величиной с тумбочку, прилетел, включил подогрев – и через пару недель у тебя незаменимый помощник, которого хлебом. не корми, дай чего-нибудь вырыть.
Дважды, пока отдыхал. Славка отгонял палкой лиану, норовившую вцепиться в его ботинок. И убедился, что на лиан палка действует не хуже гравизащиты. А когда та сделала третью попытку. Славка представил большие ножницы… Рядом что-то металлически блеснуло, и конец лианы в добрых два метра остался на земле, сразу же перестав извиваться. Упырь, за минуту до того пропавший, вновь сконденсировался из воздуха, засопел. Неужто он? – думал Славка. Ну дает!
Пиявки-оборотни на обратном пути представились не белым облаком, а большим аппетитным фруктом, напоминавшим гибрид клубники с ананасом. Фрукт был как живой, даже дышал. Но Славку и упыря пропустил.
Однако упырь, на этот раз по собственной инициативе, бросил-таки камнем в колонию оборотней. Камень отскочил как от резинового мяча, ударил по ноге. Славка погрозил упырю кулаком. И тот стал на глазах бледнеть, а потом спрятался за спину практиканта и долгое время старался не попадаться ему на глаза.
Славка не держал зла на упыря. Он думал о другом – пройдена почти половина пути назад, какой окажется вторая половина? Ведь что ни говори, а защита нулевая, и надежда только на случайность да на себя. Но он чувствовал, что страх проходит, что если держать себя в руках, то не так все и ужасно, как в инструкциях расписано.
Славка шел и беззаботно насвистывал. Вернее, пытался насвистывать беззаботно, на деле выходило прерывисто и фальшиво. Но все-таки это помогало в какой-то мере сохранять бодрость духа. Пищалки перекатывались в глубоких и вместительных карманах комбинезона. Славка про них и думать забыл. Только когда его резко подкинуло ввысь, машинально вцепился в незастегнутые клапаны на брюках. Лишь потом испугался.
Упырь бестелесно застыл в воздухе, рядышком. До земли было метра четыре. Славка болтал ногами, извивался всем телом. Не помогало. Когда он немного успокоился, то заметил невдалеке от себя спрутокрокодила, висящего на тоненьком суставчатом стерженьке. Это был не Кеша, другой, побольше размерами и пурпурной масти, с желтыми огоньками на чешуйках. Спрутокрокодил уже порядочно прокоптился в лучах местного светила, сомлел.
Славка сообразил, в чьих он лапах. Где-то у обочины завалился в спячку паук-лакомка. И что бы ни произошло на белом свете, разбудить тридцатиногого паука невозможно. Он зарылся под землю метров на пять, не меньше, и выставил свои огромные суставчато-телескопические грабли наружу. Они у паука живут в собственном режиме – неосторожных путников мимо не пропускают. Зато когда лакомка соизволит проснуться, ему не надо будет думать о пропитании – на всех тридцати конечностях будут висеть сушеные лакомства. Даже если птицы склюют кое-что из добычи, лапки успеют наловить новую.
Испугать Славку спящим пауком было трудно. Но отцепиться он никак не мог. Упырь вертелся рядом, пыхтел, но ничего не предпринимал. Да и чего от него ожидать! Нет, рассчитывать надо только на себя. Славка изо всех сил выгнулся, чуть не свернув себе позвоночник, и уцепился за черный блестящий коготь. Подтянуться – дело секундное.
Но стоило усесться на скользком хитине, как на него, хлопая перепончатыми прозрачными крыльями, налетела нахальная стрекоза.
Для начала Славка сунул ей кулаком прямо в лоб. Стрекоза отлетела на метр и зависла в воздухе. Крылья ее затрепетали с такой скоростью, что пропали из виду.
Славка, не дожидаясь новой атаки, вытащил из кармана пищалку и с размаху залепил ею в стрекозу.
Бедная пищалка не успела разразиться воплями, как стрекоза заглотнула ее, оглушительно щелкнув пластинчатым клювом. Славку передернуло, и он решил не сдаваться, приготовился сражаться до последнего.
Но по-настоящему бедной, несчастной в конце концов оказалась не пищалка, а сама стрекоза. Крылья у нее вдруг замерли, обмякли, выпученные глаза и вовсе вылезли из орбит. И она рухнула вниз.
С высоты своего положения Славка отлично разглядел, как бок у застывшей стрекозы неожиданно набух, вспучился, прорвался… и оттуда, изнутри, выкатилась живая и невредимая пищалка. Она не осталась лежать на тропе, а тут же скользнула в траву. И пропала.
Обдумывать ее поведение было недосуг. Славке надо было в первую очередь освободиться. Рвать ворот костюма ему не хотелось – было жалко новенький комбинезон, да и небезопасно. С силовиком или без него, костюм продолжал охранять от вредоносных бактерий, вирусов. Поэтому Славка осторожно тянул ворот на себя, отчего костюм на нем окончательно перекособочился, и трудно было понять, где рукава, где спина, где что.
Последний рывок Славка не рассчитал. И, заваливаясь спиной вниз, полетел на землю. Доли секунды хватило, чтобы он представил себе совершенно четко большой кусок мягкого пластикона. И он не ошибся – упал именно на пластикой. Тот, смягчив удар, тут же выскочил из-под тела – рядом со Славкой на тропе, потирая спину, сидел крайне утомленный упырь. Сейчас у него мигало разом в пяти или шести местах.
– Ладно, чего уж там, – примирительно проговорил Славка, – пошли домой. А то посидишь тут на свою же шею!
Он встал, отряхнулся, поправил маску. Кругом непролазной чащобой стоял мрачный запущенный лес – навряд ли генетики признали бы сейчас в нем свое детище и рискнули бы зайти дальше первых деревьев.
Где-то в глубине леса стонала какая-то сумасшедшая птица. Звук был жуткий, с всхлипом. Шумели верхушки деревьев – на одной ноте, мягко, зазывно, но и настораживающе.
Раньше Славка как-то не приглядывался к лесу. Он был для него ненастоящим, вроде декораций к спектаклю. Теперь понял, что очень и очень ошибался. Понял до дрожи в коленках. И хотя абсолютно точно знал, что первым делом генетики закладывали в модели неагрессивность по отношению к человеку, даже страх перед ним и, уж само собою, полное послушание… Но! Попали бы они на его место! Кто вообще разберется с этими гибридами, которые наплодились тут в невероятных количествах за последние тридцать лет! Может, неагрессивность в них как раз и не перешла? Может, не унаследовали они послушания, а?! Вон паук, ему что безмозглый спрутокрокодил, что человек, было б чего пожевать – и точка! Невеселые думы одолевали Славку. Дорога назад казалась бесконечной.
Упырь плелся по пятам, не высовывался. Но Славка не был спокоен за тылы, оборачивался ежесекундно. Пугали малейшие шорохи, треск ветвей наводил ужас, проклятая птица все стонала без умолку, предвещая нечто кошмарное.
От напряжения у Славки тек по спине холодный пот и почти не сгибались ноги. Нет, так нельзя больше! Он присел на корточки прямо посреди тропы – надо передохнуть, собраться. И вообще, никуда он не тронется с места, пока не пройдет этот прилипчивый унизительный страх. Вот так и будет сидеть, хоть до вечера, хоть до ночи!
Славка старательно твердил формулы расслабления, успокоения, даже приборматывал их вслух. Но совсем не мог сосредоточиться, хоть плачь от обиды! Кто их придумывал только, к чему их зубрить заставляли, толку-то! Это все на пользу, когда в мягком уютном креслице сидишь, да чтоб креслице стояло в тепленькой уютненькой комнатке, да чтоб… эх, пропади все пропадом!
Несколько минут Славка усиленно терзал себя за малодушие. А потом вдруг почувствовал, что страх пропал – ну нисколечко не осталось. Даже удивился. Вон же он, лес, надо бояться! Нет, не боялся и все тут, наоборот, накатила непонятная злость – эх, сейчас бы ему в руки этих паучков-лакомок противных, этих шакалов зловредных, да он бы их в бараний рог! Славка даже молодецки размахнулся, чтоб хлопнуть по плечу упыря-соратничка, сидевшего за спиной. Но упыря не хлопнешь, отскочил, дружок, и откуда такая реакция! Славкина ладонь пропахала воздух, глухо шлепнула по утоптанной земле. Это не раздосадовало Славку.
Он уже собирался встать и идти дальше, когда увидал, как в метрах в тридцати, впереди по курсу, на тропу выползло нечто настолько омерзительное и незнакомое, настолько громадное и непонятное, что он застыл на четвереньках и открыл рот.
Был бы в кармане силовик, все бы прояснилось – достаточно включить малый локатор, вшитый в костюм, и на станцию пошел бы сигнал, в котором все по полочкам разложено, все обмерено, засвидетельствовано, зафиксировано – классификатору оставалось бы лишь обработать информацию и сказать свое веское слово – кто это. Но силовика не было. Приходилось соображать самому.
Славка был озадачен до крайнего изумления. С чем сравнить несравнимое?! Гора живого мяса беспрестанно меняла форму и цвет. Какие-то отростки, то тонюсенькие и дерганые, то жирные и ленивые, выпучивались из разных мест горы и тут же втягивались внутрь. Эта туша видела Славку – где-то под кожей у нее блуждал глаз. Прорывался он в разных местах огромного тела, хлопал морщинистыми лягушачьими веками и пропадал, чтоб появиться в тот же миг на пять метров левее или ниже. Глаз был большой, мутный, с фиолетовым зрачком. И все это колыхалось, дергалось, переливалось и противно, на Одной ноте, пищало, в перерывах всхлипывая мощным басом. Храп перерастал в оглушительный, какой-то болезненно-нервический кашель с захлебом, стонами и прерывистыми частыми вздохами и снова сменялся пронзительным писком.
Судя по всему, чудовище готовилось к нападению и запугивало жертву.
Ну, иди сюда, иди! Славка стиснул зубы и решил, что с тропы не уйдет. Пока живой.
Гора медленно сдвинулась с места. Ни ног, ни лап у нее не было – студенистая масса перекатывалась, дрожала, наползала.
Славка рассмотрел ее получше, повнимательнее. Страха он по-прежнему не испытывал, ему было теперь все равно – от такой твари никуда не денешься!
Взгляду не на чем было остановиться. Какие-то спутанные мохнатые водоросли покрывали тело чудовища. То сверху, то сбоку раскрывался кожистый морщинистый клапан, и изнутри вырывался бурый зловонный пар. Глаз, выдвинувшись на сером тоненьком стебельке, гипнотизировал Славку. До ушей и ноздрей донеслось бульканье и тяжелое, спертое дыхание.
Упырь сидел рядом и тоже пялил глаза на чудище. Любопытный, отметил машинально Славка, скривил губы. Приходил его последний час на этой планете, да и в жизни вообще. Он успел почему-то вспомнить коз – какие они ласковые, добродушные и как умеют защищаться от всяких наглющих и прожорливых тварей. Как с ними было безопасно! Надо было оставаться там и ждать! Но поздно.
Гора застыла в трех метрах, нависая над Славкой мясистой, колеблющейся стеной и душераздирающе заорала.
Он закрыл глаза и приготовился к смерти. И почти сразу же его облапило чем-то скользким, мокрым, подхватило, завертело, понесло… Когда он открыл глаза, было темно, с трудом дышалось. Проглотила, тварь! Славку стало бить частой, нервной дрожью. Живьем слопала! Но по-настоящему испугаться не успел – забрезжил свет и он скатился по липким водорослям на траву.
Это была поляна, в нескольких метрах паслись козы. Они удивленно задирали головы и смотрели на Славку, будто впервые увидели, раздувая потихоньку воротники.
Чудовище колыхалось рядом и издавало такую гамму звуков, что Славке чуть не стало дурно. Смотреть на эту уродину он больше не мог. И какой черт его дернул сегодня выйти из станции, сидел бы себе да книжку почитывал, ну что за наказание! Увидит ли он когда-нибудь еще эту самую станцию или нет?!
Обдало отвратительным влажным вонючим паром. От рева заложило уши. И снова пропал свет, снова облепило его чем-то противным, затрясло, закачало… и выплюнуло на лужайке у станции. Двух минут не прошло, вот это скорость! Славка отказывался верить. Но доказательство моргало мутным глазом и хрипело совсем рядом.
Славка вскочил на ноги и опрометью бросился к биолокаторам. До них оставалось не больше сотни шагов – вот, вот его спасение! На бегу у него мелькнула шальная мысль – а где же упырь-то? Что ж, он так и сидит сиднем в лесу?!
Славка не успел додумать. Сзади облапило, подняло, вобрало внутрь и снова понесло куда-то.
Теперь конец, подумалось Славке. Ему стало все безразлично. Нелепость происходящего могла доконать и более стойких, более опытных людей. Наплевать! Но задохнуться он и на этот раз не успел – чудище выплюнуло его на тропе, посреди леса, прямо перед скучающим упырем.
Славка ошалел. Упырь таращил на него глаза. Но он был немой, объяснить ничего не мог, а может, и сам ничего не понимал – что способно понять такое чучело! А вот Славку прошибло – ишь ты послушное какое, ишь услужливое! Ну, экспериментаторы! Он истерически захохотал, срывая с себя ошметки водорослей.
– А ну брысь! – заорал он, еле сдерживаясь, чтоб не накинуться на чудище с кулаками. – И чтоб духу твоего не было, бры-ысь!!!
Гора разразилась испуганным писком и ринулась в чащу, круша все на своем пути. Позади нее оставалась довольно-таки широкая, для двух планетоходов, просека.
Упырь стоял на краю тропы и грозил вслед горе пальцем.
Славка хохотал еще долго. И смех этот был нервный, злой. Когда же остановился, растирая глаза руками, дергая носом, то подумал – что же он, дурачина, наделал?! Ведь мог бы уже на станции быть! Он стал мысленно призывать услужливое чудище. Но все без толку – видно, то с перепугу забилось в такую даль, куда и телепатические сигналы, даже усиленные, не доходили.
Славка в изнеможении рухнул на землю. От комбинезона противно воняло, местами он был мокрый. Упырь сочувственно качал головой, но держался подальше.
И все-таки надо было идти. Еще минут двадцать, от силы полчаса, и его примутся разыскивать. А тогда позор на весь белый свет! Как он покажется перед друзьями, с какими глазами?! Нет, надо было или сразу «сдаваться», попросту говоря, ждать, когда тебя подберут, или уж выбираться самому.
Чтобы избавиться от вони, он перевалился несколько раз по тропе, собирая на влажные места комбинезона песок, потом встал, долго отряхивался. Но остался доволен – вид был вполне приличный, не скажешь, что в чреве мерзкой твари побывал. Проверил пищалок. Те были на месте, в карманах.
– Ну что, Пятница, потопали?! – предложил он упырю и подмигнул ему.
Упырь ответил утвердительным многократным миганием.
Все! Хватит приключений, решил Славка, прямиком на станцию! И тут же свернул с тропы на просеку, оставленную живой горой. Взыграло любопытство.
Он прошел с десяток шагов, осторожно, словно на ощупь. Никто не прыгал на спину, никто не набрасывался с боков, впереди вообще ничего предосудительного не проглядывалось. Да и упырь беспечно семенил рядом, а ведь он обычно чутко реагировал на малейшую опасность. Правда, доверять ему не приходилось – от шакалов он сбежал, против чудища не помог. Что делать, каждый заботится только о себе, пришел к выводу Славка, а тем более этот тип мигающий, хамелеон, не человек же он, не товарищ. Рассуждая так. Славка потихоньку, с оглядкой продвигался вперед.
Пятачок сине-зеленой сочной травки не вызвал у него подозрений. Еще шаг – и он потерял опору под ногами, деревья резко ушли вверх.
Падение было мягким, как в кучу песка. Славка даже не сразу понял, что он провалился. Просто стало темно – лишь светлый круг над головою. И совсем тихо.
– Пришли, – произнес он глубокомысленно.
Вытянул руки и нащупал земляные стены. Сверху в отверстие заглядывал упырь. Но даже если бы тот сообразил подать руку, Славка бы не допрыгнул до нее.
Вдавливая пальцы в грунт, упираясь ногами, он сделал отчаянную и лихую попытку выкарабкаться из ямы. Но сорвался. Не удалось выбраться и на второй, и на третий раз… Славка присел на песочек, стал думать, искать выхода.
Глаза постепенно привыкали к темноте. До противоположной стенки было метра полтора, не больше. И что-то у этой стенки шевелилось. Славка затаил дыхание, всмотрелся. Какое-то хлипкое длинноухое и длиннохвостое существо неистово дрожало всем телом и безумными посверкивающими во тьме огромными глазами молило о пощаде. Первый раз в жизни Славка видел, что его так боятся.
– Ну что, заяц, попались мы с тобой, а?! – вопросил он каким-то начальственным тоном.
Потом улыбнулся, показал рукой вверх – прыгай, дескать. Существо съежилось в комок и принялось дрожать еще неистовее.
– Ну, как хочешь, – Славка развел руки, – а я тут надолго оставаться не намерен.
Он повернулся к длинноухому спиной и начал выковыривать в плотной земляной стене первую ступеньку. Он сделал ее наполовину, когда почувствовал плечами мягкое, воздушное какое-то прикосновение, толчок – вполне ощутимый, от которого опрокинулся на спину. Мелькнул длинный хвост, смазав Славку по глазам, и трусливое существо исчезло.
Ах, хитрюга, подумал Славка, какой умненький-разумненький зайчик попался! Ступеньку он прорыл, решил испробовать – неподатливая земля под сапогом тут же поддалась, осыпалась. Не так-то все было просто!
Сверху бесплотной тенью спустился упырь. И уставился на Славку.
– Приветик! – сказал тот.
В темноте упырь немного светился, и от этого стало лучше видно. Славка откровенно обрадовался. Снова плюхнулся на песок, прижался спиной к стенке. Упырь сидел напротив, подмигивал.
– Что делать-то будем? – спросил Славка. – Может встать тебе на плечи, как думаешь?
Упыря он совсем перестал бояться. Но как ему объяснить?! Славка не стал объяснять, он осторожно повернул упыря к себе спиной. Тот, как ни странно, не пугался, не отскакивал. Потом оперся на плечи, подпрыгнул и поставил туда же носок сапога. Только хотел выпрямиться, как почувствовал, что упырь оседает ленивым тестом под его тяжестью. Славка вцепился в стену, не щадя пальцев, несколько мгновений проболтался в подвешенном состоянии. И снова упал.
Все это сильно его разозлило.
– Тюфяк ты, а не Пятница! – бросил он упырю.
Тот согласно закивал, но не ответил.
Сверху кто-то заглядывал, по-хозяйски заглядывал.
И Славке стало нехорошо. Наверняка пришел тот, кто вырыл эту яму-ловушку, охотничек!
Длинный и трубчатый то ли клюв, то ли нос медленно, обнюхивая стены, спускался вниз. В узеньких кошачьих глазах отражался зелеными огоньками дневной свет.
– Эй, кто там? – еле слышно прошептал Славка.
Ответа не было.
Он вжался в землю. Ему стало страшно – как никогда до этого! Положение складывалось серьезное. И кончиться шуткой или розыгрышем не могло – Славка это нутром чуял. Он вскинул вверх руки, готовый защищаться насколько хватит сил.
Клюв приближался.
И тут упыря вдруг раздуло. Он превратился в какое-то подобие шара, оторвался от дна ямы и стал подниматься вверх, заполняя собой все отверстие. Поднимался он неторопливо, будто каждое движение стоило ему больших усилий. Но главное, он потихоньку вытеснял это смертоносное, ужасное жало-трубку, чем бы оно там ни было.
Упырь продолжал светиться, и потому Славка все хорошо видел. Светящийся шар забил отверстие у самой поверхности, не пропуская устроителя ловушки внутрь.
А Славка принялся рыть в стене нишу. Работал он отчаянно, не жалея перчаток. Потом скинул их, ковырял пальцами, обдирая в кровь. Дело продвигалось медленно.
Он постоянно вскидывал голову, поглядывал на шар. Тот вел себя странно. Казалось, он с трудом сдерживает натиск – подрагивает, подается то вверх, то вниз. Надо было спешить. Но что Славка мог поделать!
В отрытую нишу пока можно было спрятать лишь сброшенные перчатки. О том, чтобы укрыться самому, не могло быть и речи. Да и тварь эта могла бы с легкостью его достать, даже если бы он спрятался в углублении…
Шар прорвало! И снова над Славкой навис ужасный трубчатый клюв. Почему он опускается так медленно, ну почему?! Крик чуть не вырвался из горла. Стало светлее.
Вдруг кто-то оттолкнул Славку, начал вгрызаться в землю, выбрасывая ее комьями прямо в лицо. Неужто упырь? Славка отступил к стене, стал с напряжением ожидать развязки. Скорее! Только бы скорее!
Земли становилось все больше, она уже засыпала Славку по пояс. Клюв опускался – медленно и неотвратимо.
В последнюю секунду Славка юркнул в вырытое отверстие, вцепился, не глядя, во что-то вибрирующее, плотное, выскальзывающее. И его потянуло наверх!
От свежего воздуха закружилась голова. Славка даже не поверил своему освобождению. Он лежал возле огромной кучи вывороченной земли. Рядом крутилось нечто неописуемое, на глазах обретавшее очертания упыря. Он, точно, он! Славка готов был броситься ему на шею. И только теперь заметил, что неподалеку, метрах в пяти, прямо над предательской лужайкой покачивается ядовито-желтый бочонок на тоненьких ножках. Это и был его враг!
Он подхватил здоровущий сук, сбитый еще чудищем, ломившим здесь словно танк, и со всей силы ударил им по бочонку. Внутри твари что-то хлюпнуло. Второй удар нанес упырь. И он оказался решающим – бочонок прорвало, потекла зеленая жижа с аммиачным запахом. Славка зажал нос и отскочил в сторону. Ах ты клоп!
Он вернулся на тропу. О перчатках, брошенных в яме, не жалел. Главное, сам спасся – чего хорошего оказаться в утробе такого бочонка: высосет и не поймет, кого высосал, что наделал! Но упырь! Молодец! Славка поглядывал на него с восхищением и не знал, как отблагодарить. Но сначала надо было попасть домой.
Камни в карманах иногда попискивали. Но Славка внимания на них не обращал. Долго сдерживаемое напряжение все же сказалось, и он вприпрыжку бросился по тропе.
Он бежал, все мелькало в глазах, и было совсем не страшно, а даже весело – накатила какая-то странная бесшабашная удаль… Он не заметил широко раскрытой редкозубой пасти, вынырнувшей из-за угла. Лишь увидал тень упыря, скользнувшую вперед. Пасть с оглушительным лязгом захлопнулась.
Мелкий гравий заскрипел, полетел из-под рифленых подошв Славка припустился так, как он никогда еще не бегал. Он не оглядывался назад. Да и впереди себя ничего толком не видел. Остановился, когда чаща осталась позади. Замер. Вдалеке на поляне маячила станция. Четыре биолокатора языческими истуканами охраняли ее, будто древнее капище.
Оставалось пройти несколько десятков метров, и он будет в безопасности. Но Славка не мог пошевельнуться.
Он стоял, растерянно оглядываясь по сторонам. Чего-то не хватало. А вот чего, сразу сообразить не мог. Вытащил одну пищалку, бросил ее в серый мох. Пищалка замерла – камень камнем.
И тут Славка понял, чего не хватало, – нигде не было видно упыря. Он даже протер глаза и тряхнул головой. Но его вечный спутник не объявился. Неужели погиб в этой мерзкой пасти? Не может быть, ведь он такой, такой… неистребимый он, вот какой! Комок подкатил к горлу. И Славка уже не знал, что ему делать: возвращаться на станцию или бежать снова в чащу, разыскивать несчастного дубля. Эх ты, Пятница! Славка медленно побрел к станции. Рыскать по чаще бесполезно – он понял это как-то неожиданно и четко.
Сдернув маску на шею, он еле плелся, ничего не замечая вокруг, размазывая по лицу слезы. Так и забрел на огуречную плантацию. Там был страшный беспорядок. И Славка машинально, как робот, долго возился с огурцами, втыкал в землю. Спрутокрокодил Кеша мешал ему, терся о ногу, щурил выпученный белый глаз, норовил щупальцем с присоской залезть в карман.
Славка вспомнил про пищалку. Пришлось бросить огурцы и идти к биолокатору. Кеша плелся следом, семеня пятью бугристыми конечностями, и жевал на ходу огурец. Тот был зажат в трех щупальцах сразу.
Пищалку Славка запихнул в приемную камеру, набрал код. И стал ждать. Даже уселся на траву, чтобы дать покой уставшим ногам. Спрутокрокодил усиленно натирал спину между лопаток шершавым боком, сладостно урчал. А Славка не мог избавиться от охватившей его апатии.
Он лишь немного удивился, когда из выходной ниши выкатился большой клубящийся ком и с ходу превратился в упыря. Сердце вздрогнуло. Славка чуть было не подпрыгнул. Но вовремя сдержался – упырь был не тот, совсем новенький, без дырок и мигалок, да к тому же еще не умевший добиваться полного сходства с оригиналом – у упыря было три ноги и одна рука. Но он тут же исправил ошибку, превратился в нечто более человекообразное и скромно уселся на траве в метре от Славки. Из щели вылезла карточка. Славка, не глядя, сунул ее в карман. И стал ждать, что же скажет классификатор. Упырь-новичок тоже слушал с большим интересом.
– Дубль-хамелеон обыкновенный, свернутый, код XC 7657, монотонно выдавал скрытый динамик, – приведен в рабочее состояние…
Славка сорвался.
– Ты толком говори – кто такой! – почти выкрикнул он, приподымаясь на коленях.
– Группа сложности 00, высший индекс, – бубнил свое классификатор, – автор-проектант пожелал остаться неизвестным, модель представлена на конкурс под девизом «Доброжелатель», предназначена для охраны гуманоидных членов экипажей на планетах с повышенной агрессивностью среды, Научным Советом не утвержден как средство малоэффективное, энергоемкое, к массовому производству не допущен…
Славка ткнул пальцем в выключатель, всхлипнул – на него опять накатило. Новенький упырь сидел рядом и совсем натурально рыдал заодно со Славкой.
Через полчаса Славка, отогнав обнаглевшего Кешу, вошел в станцию. Сбросил прямо на пол костюм и подбежал к столу. Так и есть – силовик лежал закладкой в книге. Славка вынул его, вяло перелистнул страницы, остановился на одной.
С полуистертой картинки на Славку смотрел бородатый человек в шкурах. Он был в меховой шапке и с меховым зонтиком в руках. И снова накатило – заискрилось миллионами огоньков море, донесло откуда-то соленые брызги… и качалась над головой пальма, и завис в ослепительной вышине настоящий, всамделишный орел… Славка вздохнул.
До конца практики оставалось еще полмесяца. Целых полмесяца до начала школьных занятий.
Давным-давно
Совершенно исключительный исторический интерес представляют сказки, в которых врагами русского богатыря являются не Змеи, а змеихи, жены и сестры убитых Змеев, или Баба-Яга, ездящая верхом на коне во главе своего воинства… что неизбежно наводит на мысль об амазонках, живших у Меотиды.
XIX век.
– Ну расскажи, деда-а-а. – Маленький Ивашка теребил Данилу за рукав, выдергивая его из привычной старческой полудремы.
Мать с отцом возились во дворе со скотиною, и потому в полутемной избе оставались они вдвоем – старый да малый. Изба топилась по-черному, но маслянистая сажа заволакивала лишь три вышних венца сруба, и в самой горнице было тепло и чисто. Ивашка слышал дедовы сказки не раз, да уж больно вечера были долгими.
– Про Ягу, деда-а, – тянул внучок, – да не спи ты!
Данила, прогоняя остатки сна, уселся на лавке поудобнее, привалился спиной к печи.
– Слухай, Ивашка, да запоминай – придет черед, и ты мальцам баять будешь. Хоша и больша жизня моя была, а каплей она малой в ручейке том, что сказ сей до нас донес. Слухай. Ивана-то, дурака, не по то дураком кличут, что дурен был, сам понимаешь, а за то, что чином-званьем не вышел. Только кода прозвали уж, не переимянешь, так-то. Вот. и пошел, значит, Иван-дурак-то по указу царя в самое девичье царство, чтоб Красу-Моревну добыть да и царю тому в жены привесть…
XIV век.
…Это так для складу говорица-то, что один он, Ванька, побрел судьбу пытать, а ты смекай, Николка, – был тот Иван в войске царевом, потому как таки дела в одиночку-то – рази провернешь? А было то исчо до Батыя поганого задолго, глубоко в веках затерялося. И прадед мой, Митроха, что бесерменский наход пережил и самого Батыя окаянного в глаза видал, и тот не ведал – где корешки поведанья сего.
В лесу дремучем, на полянище – изба, да не проста, а на курьих лапах стоит. Иван-то и обомлел…
Х век.
…а эта самая Яга как заверещит звериным рыком – птичьим клекотом: «Поворотися ко мне лицом, а к Ваньке-дурню задом» – да в ступу свою – скок! Эх, внучатко милай, тута у меня память отшибло чтое-то. Вот дед мой, Славята, упокой Господи его душу некрещеную, хоть и язышником поганым был, а складно молвил – ему-то сам прадедич наш Твердыня, что с Ольгом-князем Царьград примучивал, сказывал о том. Да ить скоко годин пронеслося…
V век.
…и почал он рубать головы-то у ягишен, дочек кровных самой Яги. Одну долой с плеч – а с половинок тела разрубленного – две новы встают. И такое их множество великое, что застили-то свет весь белой… Что? Нет, Всеславушка, князюшки нашего Кия о ту пору и в помине не было, да и валы Трояновы, что ромеи поставили при прапрадеде моем на сторожу себе, не высилися тогда стеною каменною. Только старый Улеб говаривал, помню, что – быль сие, не баснь попусту набаянная. Ты слушай да запоминай хорошенечко – род памятью жив.
…век.
…А было то, Вячко, с дедушкой моим по материной ветви. Он один из роду нашего вернулся назад в те годы лихие. Он и рассказчик един был – хочешь, верь, хочешь, нет – других не осталося: все полегли у Большой воды в Поле Диком, только и к нам не пустили ворога. А стоял-то он у земель наших столько, сколько наше племя живет на свету белом и под своим именем вящим себя помнит. И сколько помнит, с ворогом тем, что с восхода на день обступил рубежи наши, бьется. Мирится и опять бьется. И так всегда. И не знает никто уж – новый ли ворог пришел на смену али старопрежний стоит…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ба-Баян-Га, старейшая из великих воительниц, доживала свой век. Уже минуло девять весен, как ее не брали в набеги. Редко кто из воительниц дотягивал до ее лет, обрекая себя тем самым на безрадостную тусклую старость в вечно кочующем походном становище. С ней еще считались ее более молодые соплеменницы и никогда не обходили при дележе добычи, ее приглашали на совет, и никто не смел прерывать ее слова, как бы длинно оно ни было. Но разве шло все это, вместе взятое, хоть в какое-нибудь сравнение с бешеным вольным ветром, бьющим в лицо, когда полудикая кобылица несет тебя во весь опор по бескрайней степи, с отчаянным, горячащим кровь и опьяняющим душу азартом всегда внезапного, молниеносного наскока на беспечных чужаков и такого же стремительного, несмотря на полон и захваченный ясак, отступления, почти бегства, но не простого, а восхитительного и ничем неостановимого бегства победителей?! А сам миг битвы, когда меч в сильной проворной руке подобен беспощадному жалу, а лицо и полуобнаженное тело ласкают брызги вражеской крови, когда не чувствуешь собственных ран и увечий, потому что сознание, будто сильнейшими порошками Востока, одурманено видом чужих смертей?! Собственная всегда придет незаметно, в сладчайшее мгновение сечи, и унесет вырвавшийся наконец, свободный, только дочерям их племени ниспосланный дух в лучший изо всех заоблачный мир… Всем ее подругам было даровано это мгновение, всем сверстницам, всем, кроме нее самой. И потому дух ее, остававшийся в немощном теле, вынужден был терпеть все это никчемное стадо рабов, верблюдов, негодных для битвы коней и мужчин племени, всю эту суету, и рабынь, вскармливающих своим молоком детей ушедших воительниц, и тягучее время.
Ба-Баян-Га возилась у походного котла, высокого, вытянутого вверх, с узким круглым дном. Такую работу можно было доверить и рабыне, но старая воительница находила в приготовлении пищи особую да и, пожалуй, единственную утеху. Время от времени она подбрасывала в варево коренья и травки, только ей известные, – они придадут, сил усталым после набега соплеменницам. Если те, конечно, надумают вернуться сегодня.
Три дня назад ушли они во главе с Ай-Ги-Ша, дочерью старейшей воительницы. И только один ветер степной знает, где их можно отыскать теперь. Он всюду летает, и нет ему преград. А ей, а что ей? Ба-Баян-Га не может теперь без посторонней помощи даже на коня взобраться – девять весен назад чей-то меч, в схватке и разглядеть не успела, прежде чем сознание ее затмилось, отхватил начисто правую ногу почти у самого колена. Три недели – уже даже тогда старая – Ба провалялась в беспамятстве. Нетерпеливая дочь ее готовила тризну – ведь небо требовало души предводительницы племени. И праздник должен был превзойти все предыдущие погребения знатных женщин их рода. Но тризны не получилось, небо распорядилось иначе и послало на помощь больной раба-лекаря. Раб был с берегов Дальнего Океана, оттуда, где племя великих воительниц кочевало весен двенадцать назад, но, не выдержав сырости и зноя, поворотило коней на север. Раб был искусен в своем деле, но помощью его пользовались редко, больше на судьбу полагались да на горячую, неукротимо-здоровую кровь. На этот раз раб пригодился. Он не только залечил рану, но и научил других невольников, как сделать из тяжелого бивня тех огромных зверей, что водились на его родине, ногу, почти что настоящую, только без ступни. Полгода привыкала Ба-Баян-Га к своей новой ноге. Ходить-то стала, припадая, терпя боль, но привыкнуть так и не сумела. Уж лучше б ей тогда голову снесли!
Ай-Ги-Ша умело водила племя. И мать, глядя на нее, тайком радовалась – такая не ведает жалости к врагам, славная замена. Вот только стянутые тугой повязкой, а если распустить разлетающиеся до крупа коня смоляные волосы Ай уже тронула седина, но Ба-Баян-Га знала, что ее дочери предстоит долгая еще жизнь. Жизнь настоящая, не у котла и арбы, а там – в степи.
У самой старейшей воительницы и волос-то почти не осталось – из-под повязки выбивались в разные стороны грязно-седые, поблекшие клочья, спутанные, никогда в жизни не знавшие, ласки водяных струй. Были, были и у нее косы не хуже, чем у Ай, а может, и лучше! Но где то время? Были и глаза чернее ночи и жарче огня. А теперь один мутно выглядывал на мир, а второй заплыл под багровым, со лба на щеку, рубцом памяткой уже здешних мест. Нос набряк и вытянулся к острому, поросшему за последние годы редкой, но колючей седой щетиной подбородку… Ба-Баян-Га давно не смотрела на себя в начищенный рабынями медный таз. Она и без того знала о себе все, и, главное, то, что годы красоты не приносят.
В ее распоряжении были богатейшие ткани всех стран и народов, драгоценнейшие шелка и узорчатые парчи, золотые побрякушки и каменья, которых хватило бы на то, чтоб украсить не только всех воительниц, но даже и их рабынь и кобылиц. У нее было все, чего она так страстно желала в свои юные годы. И ничего этого ей уже не было нужно. Ба-Баян-Га была в том, уже полуистлевшем, превратившемся в лохмотья платье, в котором ее вынесли с поля боя. Даже пятна крови, почерневшие и заскорузлые, были те же. Худое тело ее перетягивал боевой кожаный пояс, на котором рядышком покоились ножи и связки зубов-талисманов, вырванных изо ртов покоренных вождей чужих племен. Да на шее висела тяжелая железная цепь. Та цепь, которой был прикован к арбе раб, подаривший ей жизнь. Она сама сняла цепь с него и отпустила. Не из жалости, нет. Отпустила, чтобы никого больше из племени не постигла ее участь. Ведь она была так близко к небесным вольным лугам, где ее ждали ушедшие туда раньше, ждали затем, чтобы вместе и уже вечно нестись по лугам этим, преследуя обреченных врагов и радуясь новой, неземной жизни.
Она снова подошла к котлу, помешала в нем длинным костяным, с бронзовым наконечником жезлом. Потом тяжело опустилась на землю, выбросив вперед негнущуюся желтую ногу. Прикрыла глаз. Из становища доносились рев верблюдов, женские голоса, плач детей… Как ей все это надоело! И кто сможет узнать об этом? Ведь ни соплеменницам своим, ни дочери, ни внучкам она никогда не скажет ни слова. Да и не поймут ее. К чему слова!
Воительницы вернулись в этот день. Как она и предполагала. Значит, не зря готовила для них кушанья. Благодарности не ждала – оценят ли они, возбужденные и радостно-злые, как и всегда после похода? Нет, и не заметят. И не надо.
Ба-Баян-Га увидала пыль над степью первой. Она не вышла навстречу. Так и осталась у костра, со своим жезлом в руке. Щуря глаз, вглядывалась – большой ли полон, много ль скота пригнали, добычи привезли? Но ни того, ни другого, ни третьего не было. А привезли, скорее даже принесли, соплеменницы из набега совсем другое, то, чего старая Ба никак не ожидала.
Четверо из них, а впереди две ее внучки, дочери Ай-Ги-Ши, ведя коней круп к крупу, держали между ними что-то на куске белого, залитого кровью полотна. Когда они спешились и подошли ближе, Ба-Баян-Га увидела, что они несли. Она не стала ни рыдать, ни голосить, из ее единственного глаза даже не выкатилось слезинки. Те, кто видел старейшую со стороны, и не подумали бы, что она не такая, как прежде. И только сама Ба чувствовала, как сжало тисками ее сердце и помутилось в голове. Она усилием воли оставалась на ногах, но лицо ее не размякло – наоборот, черты заострились, приобрели хищное выражение. Выказывание своих чувств не поощрялось в племени.
На полотне, расстеленном прямо на траве, лежала ее Ай. Лежала уже мраморно-белая, со сведенными судорогой губами и торчащим из-под ключицы обломком широкого обоюдоострого лезвия. Расспросы были ни к чему.
– Вот он, – сказала Баян-Ша, дочь убитой и внучка старейшей, указывая пальцем назад. Из-за ее спины вытолкнули и бросили на колени пленника. – Остальных мы решили не брать.
Ба-Баян-Га молча кивнула и отвернулась.
– Стой, – резко сказала внучка, – теперь моя очередь, старейшая! Скажи им свое слово!
– Совет решит, – жестко ответила старая Ба, – готовьте тризну, все должно быть по обычаю!
Она поглядела на пленника – он был среднего роста, это было видно, несмотря на то что голова его сейчас доходила ей лишь до пояса, светлокудрый, с волосами до плеч, стянутыми кожаным ремешком на лбу. Чистые серые глаза смотрели не мигая. На шее, обмотанной арканом, висела рукоять меча с обломанным лезвием. «Гляди, гляди, – подумала старая Ба, – это и хорошо, что ты ничего не понимаешь, а то корчился бы сейчас в ногах, извиваясь от ужаса, – завтра этим обломком, часть которого осталась в груди моей дочери, тебя раскромсают во время тризны на части! А твоя голова с запавшими глазами и такими светлыми, шелковистыми кудрями станет отличным украшением становища, торчать ей на колу посреди уже ссохшихся голов и изъеденных вороньем черепов». Но она ничего не сказала. Лишь показала глазами, чтобы пленного бросили у ее арбы.
– Ба! – снова воскликнула за ее спиной Ша.
– Уходи, – тихо ответила та.
И услышала, как заскрежетали в злобе и нетерпении зубы ее внучки. Ничего – закона она не нарушит, не посмеет!
Убитую унесли – к утру надо было подготовить тело для погребения. А заодно и тех рабынь, что были ей близки, и скот, и принадлежащую ей часть сокровищ. Никто не стонал, не убивался – все знали, что это лишь переход в лучший мир, что это праздник для самой Ай, для всего рода. Многие из воительниц, даже самые молодые, завидовали сейчас своей старшей сестре. Они называли друг друга сестрами, ведь в роду все были связаны кровными узами, от самой знатной и удачливой до самой простой из воительниц. И различие между ними было совсем невелико.
Иан открыл глаза. И долго не мог понять, где он находится. После резкого тычка в затылок он потерял сознание. И вспоминал случившееся с трудом. Голова отказывалась соображать да и вообще воспринимать окружающее. Стянутые за спиной сыромятным ремнем руки ныли. Все тело горело, каждый кусочек кожи отдавался болью. Но это было терпимо. Самое худшее впереди. Ведь он в плену, у них…
Он, насколько сумел, приподнял голову, огляделся. Поблизости никого не было. Никого, кроме страшной, высохшей патлатой старухи. Она что-то толкла и мешала в высокой, поблескивающей бронзовыми боками ступе, стоящей в полупогасшем, пышущем углями костре. В руке у старухи была длинная клюка, которой она ворочала свое варево. До Иана донесся тошнотворный запах. Клубы дыма смешивались с паром, застилали старуху, искажали ее фигуру так, что казалось, будто она парит в воздухе со своей ступой.
Он попытался встать, но из этой попытки ничего не вышло ноги были тоже опутаны. На шум старуха обернулась. Она уставилась единственным, налитым кровью глазом на Иана. Ноздри на выжженном солнцем лице раздулись. Старуха криво усмехнулась, ощерила большие, крепкие, пожелтевшие от старости зубы. Но ничего не сказала. Иан услышал, как на груди ее звякнула тяжелая цепь. И он все вспомнил.
Они должны были встретиться в двух переходах от Роси с вождем Склавином. Иан был сотником. Склавина никогда не видел. Но он знал, что тот должен был привести к речушке, граничащей со степью, свой род, точнее мужчин рода – полторы тысячи воинов. Тогда бы в их войске было уже не менее двух с половиной тысяч мечей. А этого вполне хватило бы, чтоб посчитаться со степняками. Венд, их вождь, ждал Склавина восемь дней. Ждали вместе с ним и все остальные. Не отдыхать пришли – огородились тыном на поляне, неглубокие рвы выкопали, установили сторожу. Но Склавина все не было.
Венд трижды слал гонцов к нему. Но и гонцы не возвращались. Ждать дальше не было смысла – там, на своей земле, оставались почти беззащитными, с малой горсткой мужчин, их жены, матери, сестры, дети. И тогда Венд принял решение – он не порушил клятвы, он ждал дольше, чем было условлено, но он все же решил уйти. На тот случай, если Склавин хоть и с опозданием, но придет. Венд и оставил Иана с его сотней. Оставил как самого опытного, пусть молодого еще годами, бойца, побывавшего не в одной схватке. Перед уходом наказал укрепить стоянку – кто знает, может, и она со временем станет порубежной заставой, одной из многих отгораживающих славянские роды от степных непоседливых соседей.
Иан не мог ослушаться старшего. Его сотня принялась за работу. А Склавина все не было. Временами Иан с десятком конников выезжал к тихой речушке Калинке, что была еще на полперехода к степи. Искал старый брод, знакомый ему с позапрошлого года, когда они совершили дальнюю и удачную вылазку в Дикое Поле. И не находил.
А застава постепенно обрастала строениями, крепла. И покидать ее было жалко. Ров становился все глубже, тын встал высоким двойным забором, острившимся кверху. Да и вместо временных землянок росли бревенчатые, с узкими бойницами-окнами жилища. Иан даже подумывал, не послать ли ему к Венду, чтоб выделил заставе жен тех воинов, у кого они есть, и девушек для молодых – да и зажить своим родом. Такое бывало и прежде. Разве же Венд осудит его?! Все роды едины и племя одно. И Венд в нем не самый старейший. Он один из многих, входящих в союз родственных племен. Так почему и Иану не стать таким же? Ну не таким, чуть поменьше – все равно! Идея была заманчивая. Да вот место небезопасное. Но это Иана не пугало. Все чаще и чаще он выезжал с малой сторожей к молчаливым берегам Калинки, объезжал пологие скаты и вздыбы, погруженный в свою думу. Но не забывал и к местности приглядываться. Да и молодцам своим велел ухо востро держать – не хозяева покуда еще! Хоть земли исконные, да стрела могла в любой миг нагнать и засада появиться внезапно.
И вот – хотел он этого, не хотел ли, а оно случилось. Случилось после того, как брод разыскали да по ту сторону Калинки перебрались.
Всего не предугадаешь. А Иан хоть и испытанным воем был, но не ясновидцем все ж, не вещуном. Конница выскочила внезапно, из-за небольшого холма, где и укрыться-то, казалось, нельзя. Как неожиданное облако по краю неба, прокатила она по мураве. Иан смекнул – человек пятьдесят, не больше. Это мог быть только передовой отряд, но судить и рядить времени не было – приходилось принимать бой.
Развернувшись, они встретили противника лицом к лицу, для изготовки места не хватало. Сверкнули мечи. Расстояние между противниками было настолько мало, что о луках и сулицах и думать не приходилось. Иан наметил себе передового конника с алой повязкой на голове. Он несся во весь опор, еще издалека метнув дротик в Иана. Да только тот увернулся, щитом смерть отвел. И теперь в руке конника искрился под солнцем меч.
Преимущество было на стороне скачущего с холма противника, и поэтому Иан уклонился от прямого удара, взял влево, на скаку полоснув по плечу одного из всадников. Но тот, в красной повязке, явно искал встречи с ним, с Ианом, видно признав его за воеводу. «Что ж! – подумал Иан. – Смертушки ищешь? Сейчас найдешь!» Он видел, что его десяток окружен и воины отбиваются что есть сил от наседающего противника.
А из-за холма поспевали все новые и новые отряды. «Не уйти! – с безнадежной удалью подумал Иан. – Будь что будет!» Из десятка оставалось человека четыре. И они были обречены.
На очередной выпад красноголового Иан припал на бок коня и тут же, вскинувшись, выбросил руку с мечом вперед. Удар достиг цели, но в руке у Иана остался лишь обломок меча. «Хорош доспех, – невольно подумал он и глянул в лицо поврежденного, голова которого запала набок, но тело все еще держалось на коне. – Баба!» Это было последнее, что он успел подумать. Несколько арканов одновременно впились в его шею, стянули руки, тело. Он упал наземь.
Ба-Баян-Га заметила, что пленник очнулся. Первым ее желанием было подойти к нему ближе, ткнуть острием жезла так, чтоб взвыл, замолил о пощаде. Но, вспомнив его светлые спокойные глаза, она поняла – все это будет напрасно, не замолит, не взвоет. Ну и пусть, пусть лежит. Острая досада резанула ее по сердцу – почему в их племени нет таких мужчин? Почему они только и способны на то, чтобы пасти стада да ублажать рабынь, чтоб не оскудевало кочевье?
Старая воительница не могла ответить на этот вопрос. Сколько она себя помнила, в племени всегда верховодили женщины. На мужчин поглядывали свысока. И не обращали внимания, когда рабыни несли от них. Сами они считали возможным для себя любовные утехи лишь с храбрейшими из врагов, с теми, кто предпочитал смерть рабству. И потому род их не ослабевал, а наливался все большей силой. Правда, враги оставались врагами, и если бы их накапливалось в племени слишком много, то неизвестно еще, как бы повернулось. Потому их со временем убивали, приносили в жертву Священной Небесной Матери, покровительнице рода. Другое дело рабы – на тех просто не обращали внимания, это был всего-навсего двуногий скот и ничего более. Недалеко от них ушли и собственные мужчины племени. К счастью, их было мало – воительницы рожали в основном дочерей. Иногда они брали к себе и дочерей рабынь – самых сильных, выносливых, со свободной, не рабской душой. И те становились равными в роду. И род не оскудевал.
Ба-Баян-Га не думала о погибшей дочери. Из ума не выходила молодая Ша, внучка. Если Совет примет ее, старейшей не долго придется ковылять на своей негнущейся ноге. Внучка молода и безжалостна. Еще только тридцать весен встретила она на своем пути к небесным лугам. И Ба-Баян-Га не раз замечала, что та тяготится зажившейся бабкой и притворно зевает, когда старейшая рассказывает о былом, дает наставления. Нет, она ее долго терпеть не будет. Почему удар, нанесенный девять лет назад, не стал смертельным!
Ба-Баян-Га подошла к пленнику, склонилась над ним, долго рассматривала его белое лицо, почти такие же волосы и глаза, простые, как небо, и холодные, как снег на вершинах гор. Взгляда тот не отводил. Она потрогала обломок меча на груди у лежащего – меч был простой, без украшений. Таких она не видала у утонченных восточных воинов, а тем более у их военачальников. Там были бесценные клинки, рукоятки, усыпанные драгоценными каменьями. Но по сравнению с этим обломком показались ей вдруг те богатые, изящные мечи всего-навсего игрушками. Нет, подумала она, у настоящего воина должен быть именно такой меч! Простой, как сама душа бойца, как сеча, которой он отдается до конца, без оглядки! Она еще раз погладила изуродованное лезвие. Отошла.
Начинало темнеть. Старая Ба не расслышала за спиной шагов. Но от голоса не вздрогнула, она была приучена ко всему.
– Скоро Совет, – говорила Ша тихо, с достоинством, в спину старейшей. – Но тебя решили не звать. Ты зажилась, Ба-Баян, ты выжила из ума. И твой голос не нужен Совету.
Старейшая резко обернулась. В глазах внучки застыло злорадство. Она стояла, уперев руки в бока, и меч у ее ног висел как влитой, словно часть этого молодого здорового тела.
– Ты поняла меня?
Ба-Баян-Га молча отвернулась.
– Совет знает, что делает, – надтреснуто прошептала она. – И все же я пойду!
– Нет, старейшая. Чтоб тебе не было скучно, я оставлю двух собеседниц для тебя.
Словно из-под земли за спиной старой Ба вынырнули две тени.
– Хорошо, – сказала она еще тише, – ты права, внучка, делай, как знаешь.
Ша тихо рассмеялась, она давно отвыкла от такого обращения. Перед уходом процедила:
– Да не забудь бросить этого, – она указала на пленника, – в повозку. Я не хочу, чтобы он околел за ночь. Нам завтра предстоит потолковать с ним, беседа будет веселой, ха-ха!
Ба-Баян-Га кивнула. Она стояла, уставившись на свои жилистые, бугристые руки в многочисленных шрамах. Сколько жизней унесли они? Старая Ба никогда не считала, даже когда была молодой. Много, очень много! Но сейчас они тряслись. Старейшая не могла поверить своим глазам.
Но нет! Они трясутся не от слабости! Неправда! Они еще смогут взять пару душ, чтобы забросить их далеко вверх, откуда никто пока не возвращался. И она решилась.
– Разверните арбу, – сказала она приставленным к ней воительницам, – мне это уже не под силу.
Иан слышал гортанные голоса женщин. Ему были знакомы отдельные слова. Но смысла их речей он уловить не мог. Да и какой толк в том? Что его ждет страшная и долгая казнь – он не сомневался. Он с безразличием смотрел на редкий тын, огораживающий кочевье: на узких, кривых жердях различной высоты – головы, головы… оскаленные, сморщенные, жуткие. Пленники – чем он лучше их. Завтра и его голова…
Но до утра пленника трогать не будут. Иан знал пусть не все, но некоторые обычаи этого племени, ведь и его народ одерживал победы, брал полон. А к утру он соберется с силами, и не вымолвит ни слова, даже если от него будут отрезать по кусочку от рассвета до заката, – душам его предков не будет стыдно за него. А там… Кто знает, что там?
Он видел, как две молодые женщины подошли к странному сооружению, напоминающему довольно-таки большой дом без дверей и окон, и, ухватившись с задней стороны за торчащие оттуда длинные палки, развернули его – дом был на больших колесах. С другой стороны оказалась дверь или, скорее, просто прикрытый навесом вход. Такого ему видеть не приходилось, чтоб по команде какой-то старой лохматой карги сдвигались, поворачивались жилища. Там, где он жил, такого не водилось.
Потом его взяли за руки и за ноги. Оторвали от земли. Иан и предположить не мог, что у женщин такие сильные руки. С размаху его бросили под навес, на что-то жесткое. И он вновь потерял сознание.
Ба-Баян-Га присела к костру, бронзовым наконечником жезла разворошила угли. Воительницы сели рядом. Они молчали. Молчала и старейшая. Она ждала. И ее руки больше не тряслись. У нее прошла злоба на молодую Ша – ведь так оно и бывает в жизни, что молодые приходят на смену старшим, когда-то это должно было случиться и с ней. Вот это и случилось. Так что ж пенять на судьбу?
Она вспомнила дочь. Та была совсем другой. Не питала нежных чувств к матери, но она уважала ее, слушала. Между ними была нить. Но, видно, теперь пришли другие, те, кого ей не понять. Она должна еще гордиться, что ей доверили охранять пленного… Ей? Старая Ба нахмурилась – от задуманного не уйдешь, а уйдешь, так перечеркнешь всю свою жизнь прежнюю, все то, что было в ней настоящего, живого.
Она снова взглянула на свои руки и почувствовала, как они наливаются силой. Конечно, эти девчонки ни в чем не виноваты, им приказали. Но они встали на ее пути, на пути старейшей из воительниц. Ба-Баян-Га сделала вид, будто что-то ищет у себя на поясе. Охранницы не повели глазом. Тогда она резким движением одновременно выкинула в стороны обе руки…
Сидящей слева нож пронзил горло, та, что была справа, с недоумением смотрела на торчащую из груди рукоятку. Глаза ее уже стекленели. Обе не успели издать ни звука.
Ба-Баян-Га оттащила их по очереди в темноту, за повозку. Провела по лицу, будто вспоминая запахи и вкусы молодости, окровавленными ладонями.
Завтра она примет смерть. Вместо пленника. Таков закон. А тот за ночь успеет уйти далеко. Она тоже уйдет, уйдет в заоблачный мир вместе со своей дочерью, с Ай-Ги-Ша. И та сумеет ее понять.
Рефлексор
«Рефлексия – 1) размышление, самонаблюдение, самопознание; 2) форма теоретической деятельности человека, направленная на осмысление своих собственных действий и их законов».
Сашка Кондрашов не любил своего начальника. Больше того, временами он его просто ненавидел. А по утрам, когда начальник, обойдя женщин отдела с дежурными комплиментами, пожав каждой ручку, добирался до него и по инерции с приторной улыбочкой вытягивал: «Вы сегодня прекрасно выглядите!» Сашка готов был его убить. И не в каком-то там переносном смысле, нет, просто взять и задушить на глазах у всех. Через пару минут схватывало сердце и кончики пальцев леденели от страшной, к счастью, не осуществившейся мысли. Но это было позже. А в тот миг с затаенным сладострастием он представлял, как сползает на затертый линолеум рыхлое тело, как кривятся синеющие губы и голова громко, затылком, ударяется об пол, а потом его уводят, ну и пусть… Нет, все не то! Видения растворялись в собственном сарказме – стоило начальнику приблизиться, сказать слово, и Сашка терял остатки сил и воли, куда там – ручка выпадала из пальцев! Сколько раз клял он себя за малодушие, топтал не жалеючи… и тут же воспарял, рисовался в собственном воображении отчаянным малым, героем – все попусту. Пытался внушить себе, что безразличен он начальнику, что нет поводов для трепета и, тем более, для страхов, даже самых ничтожных, – ведь кем он был для того, одним из сорока четырех винтиков, и все! Были, правда, винтики, близкие начальственному сердцу, – единицы, были почти не замечаемые, не было вызывающих раздражение и неприязнь, точнее, не стало. А остальные – винтики как винтики. Да и сам начальник-маховик не был ни грубияном, ни зажималой, начальник как начальник, даже демократом сумел прослыть. Но все равно, стоило ему появиться в комнате или в коридоре, когда Сашка курил там в компании таких же отравителей институтской атмосферы, и подгибались ноги, надолго портилось настроение и вообще хотелось убежать, зарыться куда-нибудь с головой и пятками. А чего убегать? Было ли хоть раз, чтоб начальник попрекнул Сашку затяжными перекурами? Не было. Тот и мимо-то проходил, словно по следу шел, в пол уставясь. А внутри что-то срывалось, накатывало раздражение, и разговор уже не клеился, Сашка бросал окурок в огромную мраморную урну, которой место где-нибудь во дворце, и плелся к себе.
Институт был, как про него нескрываемо говорили, бабий процентов на семьдесят одних женщин, в основном и живших тут же поблизости. Это тоже било в цель: все видят, попробуй заикнись о мужском самолюбии, нет, сиди себе, в тряпочку помалкивай! И работал Сашка в чисто женском секторе под крылышком обаятельной заведующей неопределенных лет. К слову, держала она себя вовсе не по-начальнически – Сашка обращал на нее внимания не больше, чем на остальных сотрудниц. Милашка-завсектором распределяла работу, будто о личном одолжении просила. Но чаще задание выдавал сам Николай Семенович. И вот тут Сашка терялся, мямлил что-то, мысленно обзывая себя тупицей, все старался подсунуть написанное или отпечатанное, лишь бы поменьше говорить, а значит, и путаться поменьше. Но путался и косноязычил так, что дальше некуда. То, что само с языка слетало за порогом, в кабинете Николая Семеновича превращалось в сбивчивые междометия или маловнятные длиннющие монологи, которые тот все одно мимо ушей пропускал. Сашка, сверля себя со стороны начальническим глазом, ничего, кроме законченного дебила, случайно оказавшегося в научной конторе, не видел. А раз не видел он, так, само собой, не видел и сам начальник! Убеждаясь в этом все больше, он сбивался окончательно… Начальник был спокоен и уверен в себе, его можно было брать на роль сверхположительного героя в любой фильм или роман, хотя Сашка точно знал, что из года в год он гонит наверх липу, а в рабочее время занимается исключительно улаживанием личных дел. Сам же Сашка не мог соврать, не покраснев, даже по мелочи, даже для пользы дела, а уж выглядел при этом злостным рецидивистом-махинатором, скрывающимся от правосудия. Во всяком случае, ему так казалось.
Однако работу Сашке поручали серьезную, да и результатами вроде были довольны. Как-то раз даже премировали сверх обычного за квартал. Сашка не входил в число лиц особо доверенных и потому остро воспринял эту премию, недели две ходил виноватый, будто украл несчастный двадцатник или получил его от Николая Семеновича в момент вспышки барственного великодушия. Торт, конечно, женщинам из сектора купил. Грустно ел свой кусок, поглядывал на сослуживиц, размышлял: рады сверх меры, много ли надо человеку – кусок сладкого теста с кремом – и вот уже глаза сияют небесным огнем, лица горят, эхе-хе… И ощущал себя где-то над миром, сверху, или, на худой конец, сбоку, острым взглядом резал слои бытия.
Полдня продремал за столом. Немного пришел в себя, хотя голова оставалась прежней, несвежей и тяжелой – казалось, без нее было бы гораздо легче. Потом принял привычное уже решение – пора жизнь устраивать, и гнездо вить пора, а с кем, неважно, лишь бы без заскоков была, таких пока хватает, да хотя бы Светка, чем не пара, к тому же и ухаживать не надо, все налажено и все встречи с цветочками позади. Да, пора, а то эта затянувшаяся беспорядочность угробит его, и так уже нервы ни к черту! На том и успокоился. Попил с женщинами чайку.
Женщины сочувственно кивали и улыбались деликатно. С ними было легко – они готовы поверить во что угодно, лишь бы собеседник был мил и приятен. А Сашка и был мил и приятен. Кроме того, никогда не портил ни с кем отношений, не забывал похвалить восторженно, если кто являлся в обновке, рассказывал смешные и жуткие истории, с сотрудницами бывал красноречив, но без надобности в женские разговоры не встревал, не забывал интересоваться здоровьем детей и их успехами. За то Сашку и любили, оберегали при случае от нападок – какой-никакой, а все ж таки мужичонка в секторе, единственного и побаловать можно.
После чая вышел покурить. Толик Синьков из соседнего отдела уже погасил чинарик о край дворцовой урны, оставив на белой в прожилках поверхности грязное пятно. Но, увидев Сашку, опять полез в карман.
– Чего там у вас? – осведомился заботливо.
Сашка махнул рукой, прикурил, морщась то ли от едкого дыма, то ли от общего неудовольствия.
– То же, что и у вас, тоска беспросветная.
Синьков важно, с пониманием склонил голову.
– Не говори! И что обидно, еще тридцать лет до пенсии. Во, гляди, такими вот будем!
По стеночке тихонько пробиралась серая личность, одна из тех, что не запоминались по именам да фамилиям, – институт по своему народонаселению еще два года назад перевалил за тысячу, а теперь уверенно и неостановимо набирал вторую, шел к следующему крупному рубежу.
– Ведущий инженер, – добавил Толик, прерывисто выпихнув из горла дым. – Слушай, а ты не заметил, что у нас тут всего две категории, два типа мужиков – или вот такие, пыльным мешком огретые, или шустряки лощеные, все крутятся без передыху.
Сашка отвернулся к окну. Внизу «инженерно-технический состав» отдела информации убирал территорию. После строителей, так ничего толком и не построивших, о загрузке сотрудников-подчиненных руководство могло не беспокоиться – фронт работ был обеспечен лет на десять вперед.
– …я к тому, что мы с тобой, пожалуй, только и есть, кто не вписывается в схему.
– Впишемся со временем.
– А может, хрен с ним, с институтом. Знаешь ведь, держишься, цепляешься, а непонятно – за что?! Пропадем, что ли?
Ага! Сашка помнил – лет пять назад, когда Синьков впервые завел эти свои разговоры, их около дворцовой урны собиралось не меньше десятка, кто-то прислушивался, задумывался. Интересно, кому Толик будет лапшу на уши вешать, когда один останется? А ведь останется – и через сколько-то лет тихо-тихо, по стеночке, по стеночке… А если серьезно, Сашка уже обдумывал подобные варианты. Все связанное с уходом грозило страшной возней, суетой, хлопотами, а потому и пугало больше, чем обычные сегодняшние неприятности, вместе взятые. Но Толику в подобном духе отвечать не годилось.
– Да хоть сейчас, чего ждать, пока выгонят!
Выгонять ни того, ни другого никто не собирался. Оба были работниками повыше среднего – планов не срывали, задания выполняли, как говорится, на должном уровне, а иногда и выше. И Сашка и Толик прекрасно понимали – будь хоть сокращение очередное, их не тронут, и потому на «выгон» надежд не питали.
– Везде одно и то же, – успокаивающе сказал Толик. На том и замолчали, временно закрыв бесконечную тему. Только Сашка, снова выглянув в окно, сказал скорее себе самому:
– Где-то чего-то дует, что-то меняется, а у нас тишь да гладь, несокрушимая контора. – Он опять глядел на мир сбоку, усталым понимающим взглядом.
Мимо, распутывая невидимую нить на паркете, проскользил Николай Семенович. Головы, само собой, не повернул. Сашка помрачнел. Стоять у урны и далее становилось неловко.
– Минут через сорок выходи, – бросил в спину Толик.
В комнате женщины брали на абордаж стол начальницы. Сашкиного прихода не заметили. Он заглянул через головы. Журнал был порядком затрепан, видно, прошел через кучу рук. Сашка нахмурил лоб: «Интересно, засечь бы время, когда он по второму кругу обернется через весь институт к нам?»
Сашка уселся за стол, вытащил листок бумаги, принялся рисовать чертиков. Те выходили не смешными, а совсем наоборот, угрюмыми и уродливыми. «Надо что-то делать, – подумал он, может, к невропатологу? Нет, не годится, узнают – от вопросов не избавишься, а главное, от сочувственных взглядов за спиной. Нет, надо самому». Он вспомнил, что где-то, у Толика или у Светки, видел тощенькую книжицу с приказующим названием «Учитесь властвовать собой». Хорошо бы! Но Сашка знал, что эта книжка и ее советы – для тех, кто и так умеет властвовать собой, а у него ничего не получится, самое большее, на два-три денька впряжет себя, но дольше не выдюжит.
– Ну, вижу – работа на износ! – в комнату заглянул начальник.
Женщины порхнули от стола – абордаж был отложен до лучших времен. Журнала и след простыл.
– Да вот, ставлю задачи… – заулыбалась завсектором.
Николай Семенович одобрительно склонил голову, немного постоял, подошел к Сашке. Тот уже листал какую-то инструкцию, а про себя гнал начальство из комнаты куда подальше. Но Николай Семенович не спешил подчиниться мысленному приказу. Лишь убедившись, что аудитория, по-видимому, созрела, он кашлянул пару раз, набрал в грудь побольше воздуха:
– Ну все, нас, кажется, обошли…
– Ура, – прошептала из-за своего стола завсектором.
– …да, штаты отстояли, я же неоднократно констатировал – только дифференциальный подход во главу угла, вот так!
Сашка новость принял равнодушно. Да и какая это для него новость, даже если бы и сократили кого-то – не беда. Любое сокращение выливалось в перепихивание сокращенного из отдела в отдел и, как правило, возвращение восвояси. Но и это для многих было жизнью – кипели страсти, все бурлило, институт оживал.
Палец Николая Семеновича завис в полуметре от Сашкиного носа:
– Кстати, сколько у тебя сейчас?
Будто не знает! Сашка ничего, кроме пальца с блестящим холеным ноготком, не видел. Вот дернуть бы сейчас за него! Или нет, лучше линейкой наотмашь, мол, по какому праву в меня пальцем тычешь?! Он опустил глаза, голос задрожал, как обычно:
– Сто шестьдесят.
Николай Семенович сделал удивленное лицо. Настолько удивленное, что можно было подумать, он ожидал услышать; триста, четыреста, но уж никак не названную сумму.
– М-да-а, ничего, к новому году сынтегрируем что-нибудь, – начал он несколько неуверенно, а закончил на мажоре: – Бумагу я подал, а там – как решат, – он мотнул головой в неопределенном направлении.
Сашке бы радоваться, благодарить. А он сидел как оплеванный, даже над стулом не приподнялся, слова к языку прилипли. Только кивнул. И почувствовал, что кожу у висков начинает жечь. Ну почему он вечно должен быть кому-то благодарен, ну за какие такие грехи?!
– От радости в зобу дыханье сперло? – Начальник, кроме всего прочего, был шутником и постоянно подчеркивал свой демократизм, не деликатничал – мол, все мы, ребята, из одного котелка кашу хлебаем. Кому-то нравилось.
– Спасибо, – выдавил Сашка, жалея, что под рукой нет ничего тяжелого. А если б и было? Нет, обмяк и растекся по стулу – хоть плачь, хоть смейся, прямо гипноз какой-то. Ведь не подхалим, не карьерист, чего дрожать! Да и не дрожат те, уж кто-кто, а они себя чувствуют уверенно. И нужна ему эта прибавка, ну повысят, а потом не денешься никуда, на крючке, знай себе вечное спасибо в сердце носи, а лучше на языке. Сашка вскипал. Но кипенье это не придавало сил, а, напротив, лишало их, мутило ум. – Николай Семеныч, а остальным?
Глупее вопроса он задать не мог. Почувствовал, как напряглись, одеревенели спины у сидящих впереди женщин. Но Николая Семеновича не собьешь.
– Каждому по заслугам, как и было сказано – дифференцированно, никого не обойдем! – заявил он во всеуслышанье и пошел к двери.
Провожал начальника восторженно-приглушенный гул. Но только дверь захлопнулась, оживление стихло и тишина, непривычная, тяжелая, повисла в комнате.
– Как там решат… – вяло проговорила завсектором, вздохнула, добавила: – А я за тебя все равно рада.
И Сашке стало совсем плохо. Он почувствовал себя полнейшим ничтожеством, втянул голову в плечи.
– Да чего раньше времени говорить? – Старался, чтоб слова звучали беззаботно. Но сам уловил фальшь.
Женщины вернулись к столу с журналом.
«Рада она! Теперь будут языки чесать, тема подходящая, мрачно давил себя мыслями Сашка, – втихаря изведут». Он разорвал в клочья бумажку с чертиками. Швырнул комок в корзину под столом, задел ее рукой – и прессованная пластмассовая пустышка перевернулась, вывалила из себя содержимое, накопленное за неделю. «Вот зараза!» – разозлился на нее Сашка. Стал собирать мусор, перепачкал руки, раскраснелся. На него не смотрели – и то хорошо. Пошел в туалет, отмываться.
За дверью с сигаретой в зубах стоял Толик. «Этот уже здесь, бездельник, – подумал Сашка о приятеле, – за день пачки три, небось, высаживает!»
Толик заулыбался, повел рукой:
– Погляди-ка…
Сашка уставился на стенку – проплешина в кафеле разрослась: с утра не хватало четырех плиток кофейного цвета, а сейчас и не сосчитать сразу, не меньше десятка. Навряд ли плитки выпали сами.
– Да не туда, вот же. – Палец Синькова целился в сушилку. – Ну дают! – Голос подрагивал от смеси восторга и возмущения. – Мастера!
– Кто? – не понял Сашка, глядя на сушилку пустыми глазами.
– Опять зеркальце сперли. И ручку вон от двери, видишь, отвинтили!
– Да черт с ними, не сторожей же ставить. – Сашка начинал успокаиваться. Пока мыл руки, долго и тщательно, как хирург. Толика не слушал, бичевал себя: ведь неплохо же к нему относятся, все, без исключения, так нет, мерещится что-то, сам же и выискивает не поймешь чего – ну что начальник, ну что он ему плохого сделал?! Сашка отчаянно ругал себя. Потом обрушился на Толика. – А может, ты и отвернул? – спросил ехидно. – А чтоб выкрутиться, на других валишь?
Глаза у приятеля застыли.
– В другом месте я б тебе…
– Место в самый раз, подходящее, – усмехнулся Сашка и сам сообразил, что сморозил очередную глупость. – Да ладно, я пошутил.
Толик был отходчивый, простил. Но они сразу же и разошлись.
В комнате ничего не изменилось – журнал был толстенный, до конца рабочего дня. Оставшиеся полтора часа Сашка просидел в одиноком молчании. Корил себя, сладострастно подергивал за болезненные жилки и упивался самоуничижением. Лишь под конец работы юродствовать надоело. Но тут в дверь просунулась голова:
– Все на профсоюзное собрание! – и скрылась.
Этого еще не хватало! Сашка собрал «дипломат», встал. Улизнуть не было никакой возможности. Женщины из сектора не расстраивались – не все ли равно, где досматривать журнал.
Собрание было отдельским, привычным. Николай Семенович мастерски усыплял публику.
– Товарищи, за истекший период времени текущего квартала, – с чувством говорил он, – массив проделанной работы перекрыл все номинальные показатели типовых характеристик научно обоснованного планового графика исследовательских тем и опытно-конструкторских разработок, нацеленных на достижение коренного перелома, резкого повышения и качественного скачка… Так в чем же, товарищи, алгоритм успеха?
Сашка слушал и не понимал – при чем тут профсоюз, его члены и он, Кондрашов, лично!
– Да-а, – прошептал сидящей рядом машинистке Леночке, глубокомысленно и опять-таки как бы со стороны, – тут дело, конечно, в алгоритме.
Начальник обладал острым слухом и хорошей реакцией.
– Кондрашов желает что-нибудь дополнить, уточнить? Прошу!
Сашка перепугался, сник, замотал головой.
– А алгоритм успеха вот в чем…
Выступления он не слышал и не слушал, своих проблем хватало. Выход виделся один – надо менять что-то, иначе вконец изведешься. «Твердость, воля, непреклонность и, главное, абсолютное безразличие ко всему на свете, что бы ни происходило! – решал он, натягивая куртку и заматывая поверху толстый белый шарф. – Строгий, спартанский образ жизни – и за недельку нервишки перестанут трепыхаться».
– Счастливо, Сашок! – кивнула на прощание Леночка. Она к нему неровно дышала.
Сашка чуть склонил голову – начинать, так прямо сейчас. И пошел на выход. По дороге забежал в буфет. Хозяйка пищеблока Наташа сидела и читала книжку, спешить ей было некуда.
– Привет, подруга, – с ходу бросил Сашка, протягивая мятый трояк, – мне парочку.
Наташа сначала одернула свою белую форменку, пригладила волосы, а уже потом удивилась.
– Ты что?!
– Спокуха, я видел, как завозили.
– Так это для руководящего состава!
– И для нас парочка найдется, так? – Улыбка довершила дело.
Быстро запихнул две бутылки пива в «дипломат» и убежал, не попрощавшись. Буфетчица Наташа долго смотрела на оставшуюся открытой дверь.
В автобус Сашка влез перед самым носом начальника, чего раньше никогда не бывало. И от этого почувствовал себя если не героем, то, по крайней мере, человеком, способным на поступок. «Вот так и держать!» – подбодрил себя, не догадываясь, что начальнику было по большому счету наплевать – впереди ли него какой-то там Сашка Кондрашов или позади. На четвертой остановке выскочил из автобуса, уверенно раздвигая штурмовавших двери.
– Эй, полегче! – прохрипели в затылок.
Сашка ответом не удостоил, прошел мимо, к метро. После темной улицы свет казался чересчур нахальным, приходилось щурить глаза.
В метро Сашка чувствовал себя неуютно, выставленным напоказ. Особенно когда было мало народа: сиди и смотри на целый ряд незнакомых людей, а они на тебя пялятся – кино наоборот. Хорошо, когда читают или спят, хорошо, но всегда найдется тип, а чаще этакая неестественно прямо сидящая дама – и начинают перебирать глазами каждую черточку лица, складку одежды, да при всем при том вовсе не пытаются скрыть своего отношения к увиденному, отношения, как правило, малоприятного. Нет, не любил этого Сашка. В толчее было лучше – уставишься кому-нибудь в затылок или в стенку и стоишь себе.
Но самое худшее, когда ни то ни се, когда народу средне. Читать Сашка в метро не мог, спать или притворяться, что спишь, тем более. И его обжигало на каждой остановке. Двери разъезжались, люди входили… и хорошо, если это была молодежь – тогда он спокойно сидел – или пожилые, беременные, с детьми на руках – тогда он сразу вскакивал, но было и нечто среднее, не вписывающееся в категории, заставлявшее мучиться сомнениями – то ли уступить, то ли это будет смешно выглядеть. Он клял про себя моложавых старцев и подтянутых загримированных старушек, ругал последними словами эту дурацкую широченную моду в женской одежде, когда самая юная и стройная школьница выглядела будущей мамашей, направляющейся прямехонько в роддом. Но чаще поднимался, лишь бы не сидеть, не мучить себя. Вставал всегда первым, даже если рядом сидели пионеры-всемпримеры, солидные абитуриенты и уже подрастерявшие солидность студенты-старшекурсники. При этом всегда завидовал их выдержке, а себя казнил за слабость характера. Каждая поездка домой превращалась в пытку, не очень страшную, не грозящую лютыми последствиями, но изощренную и затяжную. На работу ехать было приятней – в транспорте, исключая редких ранних пташек пенсионного возраста, толпился лишь здоровый и моложавый служиворабочий люд.
Но сегодня все должно быть иначе! Сегодня Сашка решил задавить в, себе уколы и трепыхания совести. Твердость, воля, непреклонность, безразличие… Пускай мелочь, вот с мелочей и начнем. Ведь удается же другим, да почти всем, а он что, хуже?!
Проскользнул в дверь, не дожидаясь, пока все выйдут, и уверенно плюхнулся на свободное место. В ту же секунду над ним нависла чья-то раскормленная до чудовищных размеров фигура в сером буклястом пальто. Старичок, сидевший рядом, покосился на Сашку, но головы не повернул и ничего не сказал. Не выдержал сосед слева, уступил. «Так и держать, – отозвалось победно в груди, – выигрывает тот, у кого выдержки побольше. Главное, чувствовать себя на своем месте!» Но радовался недолго. Перед ним застыла пожилая женщина с двумя сумками в руках и усталым лицом. «Ну чего, спрашивается, места мало? – Да вон же, оборотись – три девчонки сидят, самое большее семиклассницы, ну что же вы молодежь-то не хотите воспитывать, привыкли, что одни и те же уступают, и когда им по десять было, и по двадцать, и по тридцать пять, привыкли, что они не откажут, а другие поколения как же, как сидели в двенадцать, так и в двадцать пять и в сорок сидеть будут! Ну чего не перед ними встала-то, ведь помоложе, ну до каких же…» Сашке стало не по себе. Угрызения совести терзали его нешуточно. «Ну нет, хоть наводнение, хоть пожар, триста беременных инвалидов – не шелохнусь!» Старичок вновь покосился, вздохнул протяжно, еле слышно. Сашка опустил глаза, чувствуя, как судорогой сковало шею и затылок. Девчонки напротив трещали без умолку, похохатывали, елозили по сиденью. «Ведь вот же, хоть бы что, ну почему им все до фонаря, а я как на сковородке, как на скамье подсудимых?! А паренек в конце сиденья? Уперся в свой детективчик – и трава не расти, а на лице – игра интеллекта, увлеченность. Ведь могут же люди! Эх, неврастеник законченный, ладно, тихо. Спокойствие, безразличие…» Через две остановки женщина вышла. А взамен нее в дверь не вошел, но прямо-таки ввалился и двинул к Сашке, чуть не падая, пошатываясь на трясущихся полусогнутых ногах, еле живой пенсионер, подслеповатый и с палкой в руке. «Чуют они, что ли?! Нет, нет, нет, держаться!» Сашка склонил голову еще ниже. Старик рядом вздохнул протяжнее и встал.
На душе было слякотно и гадко. Девчонки по-прежнему щебетали, паренек упивался чтивом, а Сашка пылал на костре. И казалось ему, что все в вагоне наслаждаются созерцанием его медленного и мучительного самосожжения. Безразличным и спокойным оставаться не удавалось. Куда там! Он не помнил момента, когда чувствовал себя поганее.
Вышел на три остановки раньше в наипаскуднейшем настроении, взвинченный до предела. Пробираясь к эскалатору, каждый случайный толчок воспринимал как пощечину. С большим трудом сдерживал себя – еще не хватало вспылить, наделать глупостей. И опять ему казалось, что все смотрят на него, и не только осуждающе и насмешливо, но вообще как на чокнутого. «К черту все! Не к невропатологу надо, а в психушку, сразу, без всяких там консультаций!» Его сильно тянуло наверх, глотнуть чистого холодного воздуха, выбиться из толчеи, постоять где-нибудь в безлюдье, в темноте.
Милиционер, застывший у будки, из которой просвечивала красная метрополитеновская шапочка, покосился на Сашку. И у того вовсе ноги ослабели. «Докатился, за пьяного Принимают. А чего такого, может, так и есть, может, с ходу надо таких в вытрезвитель тащить!»
При входе на эскалатор он споткнулся и толкнул грудью женщину, стоявшую впереди. Та обернулась, раскрыла было тонкий яркий ротик, но промолчала. А он как застыл с виноватой улыбкой на первой ступеньке, так и выкатился с нею на площадь. «Доэкспериментировался, к черту, надо увольняться и в глушь: в Сибирь лесником, на Камчатку смотрителем маяка, подальше от людей! Или вообще…» Последнее вытащило Сашку из бешеного ритма самобичевания и рассмешило. Он вдруг почувствовал облегчение. Все показалось пустяками нестоящими, семечками. Он сменил виноватую улыбку на бодрую, даже самодовольную, вдохнул поглубже, зажмурил глаза и… полетел на тротуар – поскользнувшийся парень сбил его с ног, но сам удержался, побежал дальше, бросив обычное «извините». Сашка был готов расплакаться. Встал, отошел к барьерчику, присел на него. В глазах зарябило, домой ехать расхотелось.
Он порылся в карманах, вытащил пригоршню медяков. Двушек было полно. Метнулся к телефонной будке. Но тяжелая заледенелая дверь дрогнула перед самым носом – две студенточки с тубусами под мышками заговорщицки переглядывались за стеклом, на Сашку внимания не обращали. Через пять минут ожидания он постучал монетой, показал на часы. От него отвернулись. Четыре пушистых разноцветных помпончика, свисающие с шапок, мелко тряслись над воротниками. Когда хохот становился столь громок, что вырывался из будки, тряслись и сами шапки, и воротники, и спины. Сашке было совсем не смешно. Бежать к другому автомату? Только отойдешь, эти болтушки выскочат, а какой-нибудь шустряк влезет, нет! К Светке, все остальное побоку! Сашка как загипнотизированный вперился в спины. Ветер выдувал слезу, но он не отворачивался, не прятал лица. Лишь на миг его оторвал от созерцания неуемного веселья визг тормоза. И этого хватило.
– Извиняй, приятель, спешу, – хлопнув Сашку по плечу, в будку влез-таки шустряк в необъятной шубе.
Выпорхнувшие девчонки будто по команде развернулись, с восхищением глядя на шустряка. Тот одной рукой придерживал дверь – на случай, если «приятель» будет рваться внутрь, другой крутил диск – трубка пропала в зарослях воротника и длинных лохм, свисающих из-под несерьезной, как с детсадовца снятой, пестренькой шапчонки. Когда подруги заметили Сашку, настроение у них явно испортилось.
– Пошли, – брезгливо сказала одна, повыше, и бросила на Сашку такой взгляд, словно он ей на ногу наступил.
Сашка повернулся к уходящим студенткам боком – в спину ударила дверь, ручкой промеж лопаток – он чуть не упал, шапка съехала на висок.
– Спасибо, браток, выручил, – крикнул на ходу шустряк в шубе, – с меня рупь! – и слился с толпой.
Забыв про боль и обиду, Сашка нырнул в будку. Три двушки автомат слопал. На четвертую и пятую отзывался короткими гудками, но монеты не возвращал. Сашка взмахнул кулаком терпению его подходил конец… но вдруг виновато оглянулся. За стеклом в темноте белело суровое лицо с разлохмаченными бровями и бородавкой на верхней губе. Глаза застывше следили за кулаком, бородавка подрагивала. Сашка обмяк – рука нехотя опустилась, полезла в карман.
На гривенник автомат отозвался густым, даже каким-то сиропным баритоном:
– Вас слушают.
Сашка ударил пальцем по рычажку, черт, не туда попал! В щель полетела еще одна десятикопеечная монета. Набирал номер со всем тщанием. На этот раз сиропа в баритоне было поменьше.
– Да говорите же! – донеслось из трубки так явственно, будто обладатель баритона в ней и сидел.
Сашка опешил – ошибиться он не мог; но ведь Светка всегда одна: ни друзей, ни подруг, ни родственников…
– Ну говорите, наконец! – взвыл баритон совсем без сиропа.
А потом, уже тише, будто издалека, трубка поинтересовалась Светкиным голосом:
– Кто там?
– Молчат, шутники! – баритон оборвался.
И внутри у Сашки все оборвалось. Нет, он не ошибся – это был Светкин телефон, Светкина квартира, Светкин голос. Но кто же тогда? Голова гудела.
– Болтают часами! – бородавка запрыгала вместе с губой. Тунеядцы!
С кем его отождествлял старик, Сашка не понял. Да и не расслышал он толком сердитой фразы. Под ногами бешено закружилась поземка, задуло под брючины.
От кого угодно мог ждать чего угодно, но Светка! Он никогда не испытывал чувства ревности, поводов не было, а тут накатило – да такой жгучей обидой, что завыл бы, да неудобно перед людьми. А те спешили с работы по домам так, словно все как один оставили на столах включенные утюги. Вместе с обидой пришла растерянность, вслед за ней острая жалость к себе. «Все они… сговорились будто…» – закружило в мозгу поземкой. «Ну и пусть! Ничего нет и не было, хватит! Твердость, воля безразличие…»
Вопреки настроению, даже наперекор ему, он решил заглянуть в книжный магазин – благо по дороге. Там в отделе книгообмена у него стоял «прогрессовский» сборник под названием «Английский политический детектив». Сборник пользовался среди детективщиков и менял огромным спросом и на черном рынке стоил четверть Сашкиной зарплаты. А просил он «Пьесы» Булгакова, книгу тоже ценную, но все-таки не такую дорогую – примерно в одну пятую той же зарплаты. Не несли. Вот уже полтора месяца. И через пятнадцать дней срок истечет, придется выкупать ненужный детектив, если, конечно, по странной случайности, он не пропадет под конец срока, как это часто случалось в обменах, и особенно с остродефицитными книгами твердой валютой черных рынков.
Сашка брел, не замечая прохожих, часто натыкался на них, извинялся, но осмотрительнее не становился – мозг не поддавался волевым командам, перебирал одно и то же. Перед каждым очередным походом в книгообмен настроение у него резко падало, внимание рассеивалось. «Да на таких условиях любому другому в тот же день бы пару Булгаковых принесли!» – думал он. И, в общем-то, был прав – условия сверхльготные.
– Извините, я нечаянно, – промямлил он на очередной толчок, склонил голову.
– Смотреть надо под ноги! – проскрипело над ухом.
Сашка еще раз улыбнулся виновато, ссутулился. «Интересно, почему это под ноги? – подумал вскользь. – Что они, под ногами, что ли, ползают?» Холод пробирался под куртку. Сашка ежился. И одновременно чувствовал, как его начинает потихоньку бросать в жар. До дверей магазина оставалось несколько метров.
На ходу он вытащил очки, нацепил их – зрение, в целом, было нормальное, но когда приходилось высматривать что-то вдалеке, давали о себе знать недостающие диоптрии. Перчатки сразу же, чтоб не мешались, сунул в карман.
В дверях он долго не мог разминуться с низенькой старушкой. Та почему-то выносила из книжного две авоськи, раздутые, как шары, и была очень вежливой, все норовила пропустить входящего Сашку. Тот, со своей стороны, демонстрировал собственную вежливость. Очки начинали запотевать, как и всегда при входе с мороза в теплое помещение. И оттого Сашка полуослеп. Они со старушкой еще долго бы деликатничали в дверях, но помог бородатый верзила, который впихнул обоих в магазин и, даже не заметив своего решительного поступка, тут же устремился к прилавку.
Часть собранной воли Сашка уже порастерял. Долго топтался за спинами покупателей-обменщиков. Потом протиснулся-таки и, отыскав на полке свой номер, увидел пустое место. «Неужели?!» – трепенулось в груди. Он протер очки, еще раз вгляделся, убедился окончательно.
Продавщица, она же товаровед, очень миленькая и очень фирменная, вся в сплошных этикетках, девушка, старательно втолковывала пожилому человеку в черной папахе и черном старомодном пальто очевидное для клиентов, толпящихся тут же, возле прилавка:
– Да поймите же вы, ну кто принесет за вашего Гоголя Дюма, ну что вы?!
– А я не понимаю, чем Дюма лучше? – стоял на своем старик.
Продавщица изо всех сил старалась быть вежливой. Молодые люди по краям прилавка, знакомые все лица, наперебой совестили настойчивого клиента.
– Бессмысленно ставить, вы понимаете? – говорил один, тараща покрасневшие от чтения глаза и потрясая в воздухе тоже красным, припухлым пальцем. – Вы только двадцать процентов потеряете… ну-ка, сколько это там, – он повертел книгу в руке, – ого, шестьдесят копеек! И все, понимаете?!
Упорство пожилого свидетельствовало о старой закалке и крепких нервах. Он не кипятился, не обижался и продолжал стоять на своем:
– Нет, это вы не понимаете, молодой человек: магазин, государство получает двадцать процентов, или шестьдесят копеек, как вы изволили милостиво подсчитать, – и слава Богу, я за! Всем польза. А не поменяют, расстраиваться не буду. Тем более что и места свободные есть. – Последнюю фразу он произнес тверже и обратил ее к продавщице.
Та закатила глаза, забарабанила пальцами по пухлому журналу. Неимоверная усталость и безграничное терпение отразились на ее юном, гладком лице. «И почему они все такие симпатичные?» – подумал неожиданно Сашка, совершенно позабыв и про Светку, и про все остальное. Но сказать слово старику в поддержку не решился, боялся сглазить удачу. Да и вообще ему хотелось побыстрее завершить всю эту процедуру и уйти отсюда.
Красноглазый молодой человек тяжело отдувался, пожимал плечами. В очереди начинали беспокоиться.
– Других не уважаете, так хоть себя уважайте! – сказал кто-то.
– Хватит уже с ним одним возиться! – поддержала женщина в искусственной шубке, стоявшая последней.
«И когда они только набежать успели? – удивленно подумал Сашка. – Десять минут назад всего трое было». И его прорвало.
– Вы стоите, и человек стоял! – сказал он резко, полуобернувшись к очереди. – У нас у всех вон полные портфели книг, а у него всего одна-дела на полминуты…
Оборвал неожиданно. Его речь, вместо очереди ударяла по продавщице – а это вовсе не входило в Сашкины планы.
– Ладно, давайте вашу книгу.
Оформление квитанции, как Сашка и предполагал, занял не больше полминуты. Причем «спасибо» старик не сказал, он лишь чуть склонил голову, отворачиваясь от прилавка. А на Сашку взглянул очень по-доброму, даже как-то не по-стариковски, а по-детски, беззащитно и веряще.
И тот почувствовал себя не виноватым перед всеми на свете, а нормальным, уверенным человеком, протянул квитанцию. Девушка в наклейках полистала журнал и сказала:
– Платите в кассу, два шестьдесят.
Сашка дернулся было, но с места не сошел, стоял, потирая руки, чувствуя, как они становятся влажными. «Дипломат» коленями прижимал к прилавку, не хотелось ставить на слякотно-затоптанный линолеум.
– А посмотреть можно? – проговорил он вкрадчиво.
– Ну что там смотреть? – Продавщица все же полезла куда-то под прилавок, на секунду задержала там руку. – Что просили, то и принесли, чего смотреть!
Сашка начинал потихоньку краснеть. Сдвинул шапку набок.
– Ну, знаете кота в мешке… – попытался он отшутиться, хотелось бы взглянуть.
Книга выпрыгнула на прилавок. Продавщица не сводила глаз с Сашки, прямо-таки прожигала насквозь. Красноглазый, видимо, прописавшийся навечно у прилавка, шумно засопел, скривил губы в добродушно-пренебрежительной улыбочке. Сашка повернулся к нему спиной. Он все еще не верил своим глазам: перед ним лежал Булгаков, тот самый, нужный ему, но что это была за книга – на ней не только ели, сидели, пили, но, наверное, и спали: затертая, обмусоленная, перекошенная…
– Но я же просил… – голос дрогнул, – ведь я ставил совершенно новую книгу, я же просил, чтоб и мне в хорошем состоянии!
В очереди шумно обсуждали Сашкины дела, посмеивались. Но он ничего не слышал.
– А это, по-вашему, плохое?! – Продавщица двумя пальчиками с серебристыми в блестках ноготками, как дохлую крысу за хвост, приподняла книгу над прилавком и… блок выскользнул из обложки, полурассыпался.
– Им лишь бы состояние, – послышалось из очереди, – лишь бы на полочку поставить и никому не давать.
– Для престижа, – поддержала женщина из конца очереди.
– А я вот для детей собираю, а должна часами тут стоять! Да что вы с ним возитесь!
– Не хочешь, парень, оставь, я возьму, – со смешком проговорил из-за спины красноглазый.
– Избаловались чересчур!
Сашка не знал, куда деваться, что делать. Да лучше бы на толкучку пошел, на руках сменял, чем такое… И эти хороши, радуются. А сами если так же, что тогда, а? Краска все больше заливала его лицо.
– Сколько платить? – спросил он жестко.
– Забыл уже, – пропел красноглазый, – ну дает!
– Два шестьдесят, – сказала продавщица, оторвав наконец-то от Сашки взгляд, – сколько раз повторять можно!
– А уценка за состояние?
Продавщица отвернулась.
– Он к тому же глухой, – уже без раздражения, с заботой даже проговорила последняя женщина.
Сашка пробился через толчею и, не обращая ни на кого внимания, задрав голову, направился в другой конец зала, к кассе. Там было посвободнее, чем у книгообмена.
За кассовым аппаратом сидела по виду родная сестра продавщицы-товароведа. Только ноготки у нее были зелененькие и этикеток да ярлыков поменьше. Она не обращала внимания на оживление в другом конце магазина, мило беседовала с пареньком, замотанным до глаз светлым вязаным шарфом. Пареньку редко приходилось вставлять свое слово, но когда приходилось, он был вынужден сильно вытягивать шею, чтобы освободить нижнюю часть лица из-под шарфа, потом снова утопал в светлом пушистом раструбе.
Сашка стоял и терпеливо выжидал. Ему было неловко прерывать беседу, тем более что краем уха слышал – речь шла о чем-то своем, близком для обоих. «А может, это ее, судьба? вяло думал он, забыв про свои мелочные передряги. – Может, тот единственный человек? А я лезу…» Ему стало немного стыдно. И он отступил на два шага назад, прислонился к стенке. Кассирша немедленно среагировала:
– Ну что там у вас, давайте. – Она обаятельно улыбнулась Сашке, на лице было внимание и доброжелательность.
«Вот ведь умеют. – Сашка раскис, разулыбался в ответ. Отличные девчонки. И чего я, на самом деле, брюзга какой-то! Добрее надо с людьми, ласковей, и они…» Паренек, высвободив подбородок, тоже улыбался.
– Мне два шестьдесят, пожалуйста, в книгообмен. – И, получив сдачу, добавил: – Большое спасибо.
Продавщица была занята, и пришлось тянуть чек через головы, не стоять же снова в очереди. Сашка старался ни к кому не прислоняться, никого не задевать. Куртку он расстегнул и шарф распустил – в магазине было жарковато и душно.
– Будьте добры.
– Что вам? – поинтересовалась продавщица, отрываясь от заполнения квитанций и вертя в пальчиках Сашкин чек.
– Да все то же, «Пьесы» Булгакова, забыли? – Сашка даже улыбнулся, хотя и очень сомневался – видна ли фирменной девушке его улыбка из-за спин.
– А куда пробиваете?
– Что куда?
– Чек – куда?!
– К вам, куда же еще, – промямлил Сашка, ничего не понимая.
– Вот что, идите и перебейте на книгообмен, – сказала продавщица равнодушно.
Сашка забрал чек.
– Но я же и выбивал на книгообмен.
Последняя женщина не выдержала, развернулась, невольно отпихнув Сашку от прилавка:
– Ну что вы людям головы морочите! Ну сколько можно?!
На этот раз он не стал дожидаться, пока парочка обратит на него внимание.
– Мне, пожалуйста, на книгообмен перебейте, – проговорил, стараясь сдерживаться. В голове уже мутилось, и хотелось бросить все к чертовой матери и выскочить на улицу, на мороз, продышаться немного.
Кассирша не улыбалась. Да и паренек стоял, нахмурив брови.
– А о чем вы раньше думали?
Сашка закипел:
– О чем я думаю, это мое дело. Я вас и в первый раз на книгообмен просил выбить!
Было видно, как паренек сжал кулаки в карманах голубенькой дутой куртки, – готовность защищать любимую подругу так и поперла из него, он уже не хмурился, а просто убивал Сашку взглядом. Кассирша была более опытной в общении с капризными посетителями и оттого более спокойной – тоном опытного экскурсовода прозвучало на весь зал, бесстрастно и холодно:
– Надо яснее произносить – куда, а не предъявлять тут претензий!
– Он что там, еще и претензии предъявляет?! – донесся не менее громко голос продавщицы, у которой, по-видимому, был изумительный слух. – Да-а, и тут себя показал, и там!
Безо всякой паузы следом пророкотало:
– Я его выведу сейчас, с такими иначе нельзя!
Красноглазый хотел еще что-то добавить, но не успел, Сашка с чеком в руках стоял уже рядом и смотрел прямо в налитые, выпученные глаза. Те краснели все больше. В магазине стало тихо.
– Спасибо огромное! – внятно проговорил Сашка, получая книгу. Тут же развернулся. Тишина сопровождала его до самой двери.
На улице валил снег. Крупные белые плюхи ударяли в разгоряченное лицо., таяли, стекая струйками со лба и щек на подбородок. Сашка не замечал этого. Его крупно и неостановимо трясло. По дороге он перелистал книгу – в самом начале не хватало тетрадки, из середины был выдран порядочный клок, конца вообще не было. Да и сама книга казалась толстой лишь потому, что ее, видно, основательно проварили в какой-то кастрюле с чем-то жирным и дурно пахнущим, отчего она и разбухла. Сашкиного терпения хватило до угла, до урны – он швырнул книгу с ходу, не замедлив шага, и она, рассыпаясь и трепеща страницами, полетела в черноту отверстия.
«К черту книгообмены!» – раз и навсегда решил он. Но через двадцать шагов одумался. Вернулся. Жаль все-таки книгу, да и при чем тут она! Если уж и срывать на ком-то зло, так… ладно, хватит об этом. Сашка вытер мокрый подбородок. Полез в карманы за перчатками – одна была на месте, другой и след простыл. «В книжном оставил, точно». Он дернулся было от урны в сторону магазина. Но что-то остановило его. Да бог с ней, с перчаткой, что угодно, только не возвращаться туда! Он топтался на месте, чувствуя, что начинает привлекать к себе внимание.
Доставать книгу из урны на глазах у прохожих было как-то неловко, и Сашка не знал, что делать. Это центр, людской поток не прекратился ни на минуту до самой ночи, вот если бы на окраине, там другое дело… Он несколько раз заглядывал в урну, стараясь особо не нагибаться. Но заставить себя сунуть руку в нее не мог, не слушалась рука. К тому же метрах в двенадцати маячил милиционер в огромном черном тулупе. Были видны даже его смерзшиеся, покрытые инеем рыжеватые усы, свисающие по краям рта сосульками. Милиционер временами поглядывал на Сашку как-то пристально, из-под шапки, и тот чувствовал себя человеком, который явно не в ладах с законом. Но зато дрожь и раздражение постепенно покидали его, дыхание становилось спокойней, еще пять минут – и он будет в норме!
Чтобы как-нибудь оправдать стояние над урной, Сашка достал сигарету, закурил. Спичку бросил не глядя. Через секунду из урны вырвался язычок пламени, повалил дым – и все это назло снегу и морозу. Милиционер, поигрывая радиотелефоном на боку, стал приближаться. Сашка развернулся и быстрым шагом пошел прочь. Пропала книга!
Он уже не жалел ни о чем, наоборот, радовался – отпали все проблемы. А в магазин – ни за что! Да пускай он таким же пламенем вместе с перчаткой! Два квартала Сашка пронесся так, что и не заметил, каждым шагом вышибая из памяти неудачный обмен и все прочее, более важное. На углу третьего натолкнулся на длиннющий хвост какой-то очереди. Пристроился на всякий случай.
– Чего дают? – спросил у стоящего впереди мужика в кепаре с пуговкой.
Тот охотно развернулся, смерил Сашку взглядом, даже обрадовался будто. Но ответил напыщенно, через губу:
– Чего-чего, Стендаля дают – кому по томику, а кому и подписку целую!
Сашка мужику в кепаре не поверил. Но из очереди выходить не стал. За ним уже пристраивались.
Отстояв минут пятнадцать и став таким же белым полусугробом, как и все передние, Сашка вместе с очередью вышел на финишную прямую. И увидал надпись над входом: «Вино». Ему захотелось врезать по роже шутнику.
– Что ж ты, э-эх! – просипел он.
Мужик обернулся, сдвинул кепарь на затылок, на лице у него застыла очень довольная и очень доброжелательная улыбка. Бить по такой улыбке было не с руки.
– Эй, ты куда? – крикнул он вслед Сашке. – Совсем чуток осталось, ну, парень, дает!
Сашке было наплевать на эти призывы. Он медленно, обретя некоторое подобие равновесия, брел вперед.
В метро спускаться не стал, влез в переполненный троллейбус. «Твердость, воля, спокойствие и безразличие. К суете этой надо только философски, только со стороны, ни в коем случае на сердце не брать, только так…» – бубнил он про себя, пытался расслабиться и полюбить окружающий мир, по всем правилам аутотренинга, даже не садясь в позу кучера на облучке.
Сзади поднажали, и Сашка впечатался в толстяка, на котором светофором пылала яркая рыжая куртка, придавил его к поручню. Толстяк стоял спиной, но, наверное, именно на ней у него и располагались глаза.
– Поаккуратней, молодой человек! – закричал он, не оборачиваясь, опереточным фальцетом.
– Уже набраться успел, – поддержала ехидная бабуся с высокого заднего сиденья, озирая Сашку младенчески чистым глазом.
Нажали еще раз, и он чуть не оказался на коленях у бабуси. Та взвизгнула, прикрылась раздутой авоськой – в лицо Сашке полезла растрепанная и комканая газетная бумага.
Сил на препирательства и самозащиту не было. Последним усилием покидающей его воли старался не смотреть ни на кого, упирая глаза в тусклый потолок. Но толстяк в куртке не прекратил борьбы за существование – поднатужился, выгнул внушительных размеров зад, и… Сашкин «дипломат» полетел вниз, одним углом ему же на ногу, другим кому-то еще. Ручка осталась в кулаке. Сашка боль стерпел, но «кто-то еще» саданул локтем в бок и турнул «дипломат» ногой.
– Высадить его, и все тут! – заверещал толстяк, отгоняя «дипломат» от себя. – Хулиган, сундуком своим пассажиров калечит!
Троллейбус возмущенно загудел. Даже на передней площадке громко и непримиримо требовали приструнить дебошира, вывести его вон. Сашка видывал в транспорте настоящих дебоширов, пьяных и страшных в своей неуправляемости, диких и озлобленных, при них пассажиры предпочитали помалкивать и отворачиваться к окошкам. Забыв про свой портфель, жалел об одном, что окошко такое маленькое, не пролезть, а то бы на ходу сиганул. Подбородок у него вдруг принялся дергаться, голоса не стало.
– Ну что вы, на самом деле, на человека напали?! – громко сказала женщина в очках, соседка бабуси. – Стоит, никого не трогает, никому не мешает, ему же и ручку оторвали, а вы…
Троллейбус угомонился, стало тихо. Видимо, каждый решил, что и вправду не из-за чего шуметь-то, тем более что прежней давки на площадке уже не было – рассасывались помаленьку. От неожиданной защиты Сашка отчаянно покраснел и полез за «дипломатом», хотя бы для того, чтоб скрыть смущение от любопытных глаз, копьями тычущих со всех сторон. Разогнуться не успел – на остановке толстяк в светофорной куртке, выходя сам, вынес могучим животом и Сашку. Следом чья-то добрая рука в уже закрывающиеся двери выкинула «дипломат». Сашка поймал его на лету, придержал коленями – бутылки с пивом чуть звякнули внутри. Уходящий толстяк покрутил пальцем у виска, кивая в Сашкину сторону, глядя не на него, а на людей у остановки, будто представляя им случайно оказавшегося на улице постояльца психушки.
Хорошо, что остановка была нужная, своя, до дому пять минут ходьбы. «Точно сговорились, – докручивалось под черепной коробкой. – В тайгу! На маяк! К лешему в болото!» Стараясь держать «дипломат» подальше от себя, он побрел к сугробам. Ручка лежала в кармане. А вот второй перчатки там уже не было.
Через минуту от белизны сугроба ничего не осталось «дипломат» порядочно изъелозился по мокрому, ребристому полу троллейбуса, а теперь был блестящ и сыр. «Как мало надо, чтобы столько белого и чистого испохабить»! – думал Сашка с грустью. Долго оттирал руки. Лицо просило снега и холода. Он набрал полные пригоршни и не поднес, а ткнулся в них лицом, прямо носом в снег – обожгло. «Ну, Светка! Ну, начальничек! Ну, менялы книжные! Пойти нарезаться, что ли?! Нет, домой, только домой – и спать!» – талдычил он про себя, зная, что все равно не уснет.
Перед самым домом снова влез в телефонную будку.
– Алле, алле, правильно номер набирайте, – отозвался баритон вполне мирно.
Но Сашке не нужен был этот баритон, ему нужна Светка! А она не подходила. Он попытался представить, как тихо и спокойно на лесной заимке, как потрескивают поленья в печке и никуда не надо спешить, а рядом лежит теплый мохнатый пес и преданными глазами… Нет, не представлялось. Там тихо и покойно, а здесь все дрожало и дергалось. «Ну, Светка, ну, подруженька дорогая!» Сашка ругал ее на чем свет стоит, не мог сдержаться, а в глазах стоял и ухмылялся рыжий противный толстяк из троллейбуса. А Светка не хотела являться, не складывалась из ничего перед взором мысленным.
У самого подъезда Сашку подкинуло, развернуло, вырвало из-под мышки «дипломат» и опустило на спину. Да так, что шапка покатилась под уклон колесом, к мостовой, а «дипломат» совсем не дипломатично поначалу треснул металлическим углом по колену, а потом развалился на две половины, осыпав Сашку своим содержимым – бумагами, книжечками записными, свертками с сыром и колбасой. Лишь бутылки с пивом упали сбоку. И дружно раскололись.
Сашка сидел на ледяном вздыбе у двери и смотрел себе в ноги. Вставать не хотелось. Даже голову поворачивать не было желания. Сидел с минуту. Потом медленно приподнял глаза. Рядом, на кирпичной стене, было выведено мелом: «Сашка – дурак!»
На голову что-то положили.
– Дяденька, на!
За плечом стоял карапуз в шубке, перевязанный красным шарфом, как партизан пулеметными лентами. Вытаращенные глазенки восхищенно ощупывали сидящего Сашку. А тот и не делал попытки встать – в голове мельтешило глупое: что сначала, собрать в «дипломат» разлетевшуюся утварь или же подняться самому, а потом уж собирать.
За спиной затревожился молодой женский голос:
– Петя, Петя, ко мне немедленно, ну, я кому сказала, это плохой дядя!
Петьку-партизана подхватили руки и вынесли из поля зрения. «Ну почему сразу плохой? Что они, с ума посходили?» Сашка впихивал вещи в останки «дипломата».
Свою ношу он бросил в прихожей, прямо на пол. Глянул в зеркало – там отразился субъект с красным набрякшим лицом и безумными глазами. Сашка скривился. Нервы, все они! Не раздеваясь, он заметался по своей однокомнатной малогабаритной квартирке, которую выменял два года назад, после разъезда с родителями. Смутно представлял, что ему нужно, но искал. В голове спутался в клубок дворницкий инструмент: всякие лопаты, ломы, совки. Ничего этого, конечно, не было. Но под ванной нашлось именно то, что нужно. Ура! Сашка взвыл, вскинул вверх руку, потрясая топором.
Выскочил на улицу. У подъезда никого не было. Легкий снег потихоньку припорашивал лед в том месте, где он сидел пять минут назад.
Колоть было неудобно. Поначалу пробовал делать это, согнувшись в три погибели, потом присел на корточки, а под конец, не жалея брюк, плюхнулся на колени. «Вот тебе, вот!» Крошево летело в стороны, норовило попасть в лицо, глаза. Но Сашка только головой вертел да пыхтел. Шапка осталась дома, волосы растрепались. Получай, толстяк рыжий! И бабуся! И Светка, и еще раз Светка! И баритон сиропный! Он не выкрикивал вслух имен и прозвищ, но на каждое топор с силой вонзался в лед. О сохранности лезвия Сашка не думал. «Еще раз, еще разок, и Светке, и начальнику, и менялам, и прохожим, и попутчикам, и старику с клюкой!!!» Руки сводило, топор выскальзывал, но Сашка не останавливался. А толку было мало – лед иззубрился, изрезался белыми перехлестнутыми шрамами. Но не сходил. Тогда Сашка приноровился бить наискосок, просовывать широкое лезвие между льдом и асфальтом, откалывая пластами. В глаза затекал пот, мелкая крошка липла к разгоряченному лицу. И черт с ней! Всем досталось, никто не был забыт – от самой двери до бордюрчика, отделявшего мостовую от тротуара, протянулась ровная, в два шага шириной, полоска асфальта.
Сашка вскочил на ноги. Сморщился и закусил губу – в затекшие колени как ломом ударило. Он пошатнулся, принялся растирать ноги. На брючинах расплылись темные влажные пятна. Топор в руке подрагивал, норовил выскользнуть.
– Мама, вон опять дядька плохой! – пропищало сзади.
Скосив глаз, Сашка узнал по-партизански перетянутого Петьку, подмигнул. И бросился собирать осколки разбитых пивных бутылок, перепровождая их в стоящую у стены отнюдь не дворцового покроя урну.
Женский голос отозвался не сразу:
– Нет, Петенька, этот дядя хороший, гляди-ка…
Сашка тяжело дышал, промокал лоб рукавом. Но от слов таких его будто молнией прожгло, насквозь, нестерпимо больно. «Не нужны мне ваши похвалы! – чуть не сорвалось истерично с губ. – Не нужны!» Силы неожиданно вернулись, топор перестал дрожать.
Остановиться Сашка не мог, нет, – пока не выдохнется окончательно, не измочалит себя работой, не будет покоя! Пошел, почти побежал за угол. Там в темноте была еще одна наледь, которая вырастала ежегодно и которую кляли все жильцы с первого дня зимы по последнего, жаловались в разные инстанции, корили друг друга, но она была, видно, непобедима. Сашка накинулся на эту ледовую скользень, как на лютого врага, которого не милуют и в плен не берут, а только жестоко расправляются с ним, чтоб неповадно, чтоб навсегда, на веки вечные! Рубанул сплеча, из-за головы, во всю силу, вовсе не думая, что топор может соскочить и покалечить его самого, как в бою рубанул, не оставляя замаха про запас, чтоб с первого удара, чтоб… Топор будто в пустоту скользнул, не встречая ни малейшего сопротивления, раскраивая лед, пласты асфальта, землю, чугунные трубы теплотрассы, саму кору земную и то, что под ней… и потянул за собой Сашку. «Все! успел подумать он, проваливаясь в черную глубь, в неведомую преисподнюю. – Вот, оказывается, как это бывает, а я-то, простофиля, надеялся еще лет тридцать протянуть, как же так, как же? Все!»
Он не чувствовал ни тела, ни усталости, ни раздражения, ничего не чувствовал. И не видел ничего – ни рук своих, ни кончика носа, словно и не было тела, словно некто подцепил его, высосал мозг из черепной коробки во тьму и пустоту да там и оставил его лежать бесчувственным, ослепшим, оглохшим. И каким-то безразличным, сторонним.
Ничего вокруг. Только он сам, только его разбухшая, непомерная голова – будто гигантский, занимающий весь мир зал. Пустынный и всеми оставленный, никому не нужный и совершенно темный зал – омертвевшее пространство. «Вот так сходят с ума, – тоскливо подумалось Сашке, – как все просто и незатейливо, без предупреждений и симптомов. Бац – и готово!»
И еще он ощущал странное раздвоение. Он был одновременно и непомерным, чудовищно огромным залом, и кем-то жалким, крохотным, сиротливо притаившимся на полу в этом зале. Такое раздвоение в сознании окончательно убедило Сашку в том, что дела его плохи. Но предпринимать что-либо он не собирался. Да и что он мог предпринять?
Время шло, но глаза к темноте не привыкли, мрак не рассеивался. Зато появились первые, неясные, словно выплывающие откуда-то издалека, из-под сводов зала звуки. Что-то слабо потрескивало, шуршало. Чуть позже ему показалось, что он слышит как сквозь вату невнятные, переругивающиеся голоса. Сашка затаился, насколько это можно было сделать в его положении, стал прислушиваться. Голоса приближались – в зале кроме него были еще двое, теперь это различалось довольно-таки определенно. Но ведь зал был его головой! «Что они тут делают, откуда?! – Сашка разволновался. – А может, я уже в психушке, может, это?..» Ему захотелось заорать на непрошеных гостей, затопать на них ногами, выпихнуть вон. Но ничего он сделать не мог. Оставалось лишь ждать своей участи и радоваться, что хоть что-то ощущает, а следовательно, и надежда какая-никакая есть.
Голоса становились разборчивыми, можно было уловить даже отдельные фразы:
– …семнадцать – тридцать один – на дубль. Левую двести шестую врубай да проверь подсвязь, – бубнил один.
– Учи ученого, – хрипло откликался другой, – двести шестую снял.
Снова что-то треснуло, зашуршало. Сашке даже показалось, что его кольнуло, будто легким разрядом ударило. Что они тут вытворяют?! Он чувствовал приближение незнакомцев, так вольно орудующих в его зале-голове.
– Руби двести четырнадцатую, – равнодушно пробубнил первый.
– Готово, – отозвался второй, хрипатый. Помолчав, добавил: – Ну, чего, пошли, что ль?!
– Успеется еще, ты не халтурь! Чего там с техдокументацией? Отмечаешь?!
Сашка не разобрал ругательства хрипатого. Опять что-то у него в голове щелкнуло, треснуло. Опять кольнуло.
– Кто вы? – робко спросил он. И голос его прозвучал столь же странно, как и голоса незнакомцев, – как-то внутренне, беззвучно, как звучит в мозгу человека мысль.
– Не твоего ума дело! – отрезал хрипатый. – Ишь чего захотел, ты погляди!
От неожиданности Сашка опешил, он не рассчитывал получить ответ. И потому на грубость вовсе не обиделся. Даже обрадовался чуть-чуть – возможность обоюдного контакта сама по себе воодушевила его.
Темнота не давала разглядеть, чем же занимаются незнакомцы. Но Сашка каким-то неведомым чутьем чуял, что они не просто копошатся и переругиваются, а делают некое вполне осмысленное дело. Вот только какое?
– Как же не моего?! Ведь вы-то здесь, во мне! Что же, и спросить нельзя?! – взмолился Сашка.
– А чего тебе знать, балбес? Все едино память отшибет, чего ты любопытный такой, мать твою! – скороговоркой прохрипело совсем близко.
– Да ладно тебе, – оборвал скороговорку первый, занудный, – чего набросился?
Он помолчал немного, потом, обращаясь уже к Сашке, добавил:
– Из ремонтной службы мы, стало быть, слыхал? То-то, не слыхал. Параллельный мир, стало быть. У кого если мозги набекрень, так вправляем. Навроде вашей «Скорой помощи», со спецуклоном.
– Ой-ой, разговорился перед… – хрипатый выругался матерно. – Давай-ка пробу лучше. Позиция один – ноль! Пошел!
На этот раз Сашку кольнуло чувствительно, аж передернуло.
– Э-эй! – прокричал он. – Да вы что?! У вас же цивилизация! У вас общество гуманным быть должно, вы что делаете!
– Ученый больно! – хрипатый ехидно рассмеялся. – А работать трудовому человеку мешаешь. Думаешь, твои-то мозги так легко промывать, балбес? Да я б тебя…
– Проба – норма, – перебил его первый. И с некоторой обидой сказал: – У вас тоже не везде полное обезболивание, терпи, стало быть. Потом спасибо скажешь.
– Скажут они, дождешься, – проворчал хрипатый. И вдруг, будто взвалив на себя нечто тяжелое, резко выдохнул: И-е-ех!!!
Сашку ослепило – словно где-то совсем рядом полыхнула молния. Он снова ощутил себя. Каждой клеткой ощутил, каждым нервом. Уши сдавило, в груди что-то хрустнуло и растеклось горячим. Но он был счастлив, как никогда. Даже боль была живой, настоящей, не потусторонней. А стало быть, как приговаривал зануда, все в полном порядке, жить можно!
Он еще помнил все. Бред! Кошмарное, обморочное сновидение! И привидится же такое! Но постепенно воспоминание ускользало, терялось. Сашка пытался удержать в памяти хоть что-то, хоть самую тоненькую ниточку сохранить, зацепиться за нее. Но нет, тут он был не властен. Как иной пугающий до холодного пота сон, помнящийся с утра, но полностью выбрасываемый из памяти к полудню, так и его кошмар, бред, дикое видение, ушло. С той лишь разницей, что для ухода этого потребовались секунды, а не часы, почти мгновения.
Он стоял на коленях, на том же самом месте и с тем же топором в руках. Долго не мог понять – зачем ему топор. Усталости не было, лишь легкая дрожь пробегала по телу да стыли колени.
Рядом стоял давешний Петька-партизан, качал головой и в такт ей помахивал своей лопаточкой. Глаза у него были совсем круглые, удивленные.
Сашка встал. Отряхнул брючины.
– Что ж ты, Петр, – сказал он вдруг неожиданно бодро и уверенно, – такой крепкий, здоровый парень, наверное, октябренок будущий, а вот старших не уважаешь, как это?! Бери-ка свою лопатку да разгреби льдышки! Вот тебе первое поручение, боевая, так сказать, задача. Ну, что же стоишь, вперед, за дело!
Петька словно зачарованный бросился разгребать своей маленькой пластиковой лопаткой осколки льда.
– Утром проверю, – официальным тоном, но с долей некоего отеческого тепла и веселости проговорил Сашка и, не оборачиваясь, не глядя на застывшую Петькину маму, пошел к своему подъезду.
Домой возвращался как ратник, уложивший тьму врагов на поле боя, – выложившийся в работе на совесть, довольный собою и умиротворенный.
В лифте сосед, живущий этажом выше, боязливо косился на топор, но помалкивал, даже на приветствие отвел глаза, кивнул в сторону. Только Сашке это было безразлично. Дышал он свободно и легко, сам чувствовал, как от тела пышет жаром, тут сказывались и морозец уличный, и нелегкая работа. Правда, еще больше она отразилась на зазубрившемся лезвии топора.
Голова была холодной, просветлевшей. Казалось, вылетело из нее все давившее, гнетущее, и стала она чем-то наподобие воздушного шарика – пустой и легкой, легче окружающей среды.
Топор полетел под ванну, зафырчали краны под напором белесой тугой струи. Из зеркала на него смотрел на этот раз несколько изможденный, но уж вовсе не безумный тип. До совершенства еще было далековато, но все-таки лицо не было столь набрякшим, да и выражение его было вполне уместное для здорового, но вымотанного делами человека. Вот только глаза, с ними было что-то не так. Сашка не помнил у себя подобного взгляда. Но заниматься ненужными исследованиями он не стал ванна была уже полна.
Но только Сашка погрузился в невесомость, как затрещал телефон. Вылезать не хотелось. «Развели трезвон! Ничего, подождут, назвонятся вдоволь – самим надоест», – лениво шевельнулось в голове. Он опять попытался представить заимку, печку, верного пса в ногах… Пес почему-то смотрел Светкиными глазами, даже нос морщил так же. Но дальше не представлялось, фантазии не хватало, не вырисовывалась вся картина. Ну никак! Расплывались заимка и печка, и только глаза… Телефон снова задребезжал – кому-то не надоедало. Сашка нехотя вылез из ванной.
– Ты? – удивленно спросили в трубке.
Поначалу Сашка решил вообще не отвечать. Сам звонок даже ему показался странным, после всего сегодняшнего… Но вопрос повторился, и он не выдержал.
– Ну а кто же еще! – проговорил с ехидцей, но как-то вяло.
Светка на том конце провода обрадовалась, залепетала что-то чувствительное, но малоразборчивое, что именно, Сашка не понял. Прервал на полуслове:
– Что у тебя?!
Светка и не подумала обижаться.
– Я к тебе собиралась, да вот все звоню, звоню. – Она говорила очень быстро, накручивая множество ненужных, лишних слов, но словно не замечая этого. – Хотя нет, давай не так, лучше ты ко мне, хорошо?!
«Ну, подруженька милая, ну пригрел на груди! – думал про себя Сашка, но прежнего раздражения почти не было. – И как ни в чем не бывало, главное! Святая простота!» Концом полотенца он машинально тер мокрую голову. С него текла вода. На полу у ног образовалась уже целая лужица.
– А я вам не помешаю там? – Сашка постарался вложить в голос как можно больше яда, но получилось-то у него не слишком выразительно.
– Кому это вам? – опешила Светка. – Ты чего?
– Скажешь, автоответчик приобрела? Не напрягай воображения, не стоит, я и так все понял…
– Так это ты названивал-то! – Светка почти кричала в трубку, и голос ее был почти радостным. – Ты что, Иван Макарыча не узнал, соседа? Да ты что? Он у себя грохнул об пол бутылку лака, ремонт делает, – в квартиру не войти! Все окна нараспашку, вытер все, вынес, хоть за противогазом беги ничего не помогает. У меня пересиживал, ты что, Саша, ну даешь!
Сашка знал Иван Макаровича, безобидного старичка с сочным, артистическим баритоном. И как он мог не узнать?! А почему, собственно, он его мог узнать, ведь встречались лишь на лестничной клетке, к Светке он не заходил, по телефону его голоса Сашка никогда не слышал! И все равно оплошал! Но это как-то не обрадовало Сашку. Мысли полезли в голову странные. Вот будь бы у него в «дипломате» бутылки не с пивом, а с лаком, они бы уж, точно, не рядышком грохнулись – и прощай тогда новый югославский костюм, а заодно с ним и куртка.
Ехать к Светке ему сейчас не хотелось. А почему бы, собственно… Мысль возникла внезапно. Когда еще такой случай представится?!
– Сосед, говоришь? – медленно, с расстановкой проговорил он, будто раздумывая.
В трубке стояла тишина. Видно, Светке надоело оправдываться, и она выжидала.
Мысль созревала. И Сашка уже почти решился. Но длительного выяснения отношений он сейчас не хотел. И потому сказал лишь одно:
– Разберемся, ладно. – Голос его стал мягче. – Сегодня я занят. Позвоню потом. – Он помолчал, добавил: – Сам позвоню. Ну пока.
И положил трубку.
«Все правильно, только так», – подумалось холодно и расчетливо. Он почти высох и даже замерз немного. Заглянул в прихожую – входная дверь была приоткрыта, оттуда и тянуло. Он захлопнул дверь и пошел в ванную.
Лежал не шевелясь, расслабившись. Думал о себе, о Светке. Все казалось уже решенным. «К черту заимку, и маяк туда же, потрепыхаемся покуда тут!» Подползла дрема, помутилось в глазах. И мерещилось чудное: как год назад бродят они под руку по Третьяковке, еще не закрытой на ремонт, глазеют на картины. Но все иначе, лучше, чем в действительности. И вместе с тем непонятно и странно. Картины оживают, их персонажи переходят одни в другие, меняются рамками, и где-то в этой празднично-нарядной толпе теряется, исчезает Светка, выскользнувшая из-под руки… Но самое интересное, что Сашка воспринимает ее уход как нечто вполне естественное, более того, необходимое. И ему хочется помахать ей вслед рукой. Но рука не поднимается. Он весь расслаблен, пропитан блаженством и теплом… Фу, Сашка включил холодную воду, сунул под струю голову. Хорошо! Еще немного – и пора вылезать.
Телевизор в этот вечер Сашка не включал. Лег пораньше, чтобы хорошенько, впервые за последние недели, выспаться. И уснул сразу.
Сны бывают разные. Кому-то снятся безмятежные луга, кому-то периодические системы и гениальные симфонии, кому-то бесконечные полеты и падения. Сашке впервые в жизни ничего не снилось. Медики считают, что во время сновидений человеческий мозг освобождается от излишней, накопившейся за время бдения ненужной информации. Сашкиному мозгу, видимо, уже не от чего было освобождаться. Он спал сном младенца.
Утром Сашка встал минута в минуту, без спешки позавтракал, побрился. И с некоторой долей удивления отметил, что не испытывает ни малейшего подобия страха опоздать на работу. Это было настолько ново и неожиданно, что Сашка громко расхохотался, не считая нужным сдержать свой порыв. Чета соседей, до того суетливо обсуждавшая за стенкой поведение сына-двоечника, тут же замолкла. И молчала до самого Сашкиного ухода. В отличие от Сашки, они, наверное, и не подозревали дотоле о звукоизоляционных свойствах стенки.
«Дипломат» пришлось оставить дома. Вместо него Сашка перекинул через плечо легкую сумку на длинном ремешке. Руки оставались свободными, и он засунул их в карманы. Выходя из подъезда, вспомнил про наледь и заглянул за угол. Петька-партизан явно не довершил начатого.
– Эх, молодежь, молодежь, – проворчал под нос Сашка, не снижая темпа, – никакого вам доверия.
Думал он о чем-то совсем ином, не обретшем пока четких очертаний, ускользающем. Обрывки каких-то разрозненных планов путались в его голове. А вдобавок ко всему там же звучал легкий, веселенький мотивчик, мешая все прочее в одну кучу.
Троллейбуса ждать не пришлось – они одновременно подошли к остановке: Сашка с одной стороны, троллейбус с другой. Народу, как и всегда по утрам, была тьма. Сашка выждал, пока троллейбус основательно не заполнится, и только потом, уцепившись за поручень на задней площадке, намертво застрял в дверях. Можно было бы и еще малость протиснуться вперед, «внутрь салона», как любили выражаться водители общественного транспорта. Но он не стал этого делать – и так битком,
– Все, товарищи, невпротык! – самым доверительным тоном сообщил через плечо.
Ему поверили, штурм прекратился. До следующей остановки он уже успел пристроиться поудобнее, стоял, размышлял. «Светка, так-с, гнездышко, ага! Новый образ жизни, так-так, что же еще, ага – заимка! – Получался ералаш какой-то, путаница. – Ладно, со Светкой пора…» Точки он не поставил, а как-то взял и отвел сам вопрос в сторонку. Все прочее – заимки, гнездышки и новые, спартанские образы жизни – как бы они ни выглядели прекрасно в воображении, просто-напросто выкинул прочь из головы и решил к ним больше не возвращаться. А со Светкой? Со Светкой – там видно будет.
У метро он выскочил одним из первых. Быстренько достиг эскалатора, пока еще возле того не образовалась пробка. И впервые в жизни не стоял на движущейся вниз ленте, а бежал по ней, ловко огибая иных крупногабаритных пассажиров на своем пути. Так, почти с разбегу, и влетел в вагон.
Ему посчастливилось, на только что освободившееся место ринулись было двое, справа и слева, но Сашка, выставив локти на их пути, извернулся, исхитрился и опередил конкурентов. Это придало ему дополнительный заряд бодрости. Сашка с умеренно скрываемым торжеством поглядел снизу вверх на конкурентов-неудачников. Те смотрели в неопределенную даль, но на лицах их было все отражено. «Что же еще, ага, начальничек ключик-чайничек, так-с, ведь заметил все-таки, стало быть… что стало быть?! Так-так, что-то очень знакомое, ну, еще немного, напряги, напряги память… Нет! Ну да ладно, повышать ведь собрался, это дело». Мысли оставались по-прежнему бессвязными, одно путалось с другим.
Только теперь Сашка заметил стоящую перед ним пожилую, если не сказать, совсем старенькую, женщину, державшую за руку мальчонку лет пяти. «Нехорошо, – подумал он, – совсем нехорошо». Мальчонка жевал варежку и глядел прямо на Сашку, в глаза.
– В садик, с бабушкой? – ласково спросил Сашка и протянул руку, пытаясь отвести варежку от лица малыша.
Тот отпрянул, уткнулся бабушке в пальто, лишь одним глазом с любопытством и недоверием посверкивал на Сашку.
«Нехорошо, – еще раз промелькнуло у того в голове, – непорядок». Он принялся высматривать жертву. На это ушло совсем мало времени. Рядышком сидел паренек в черной кроличьей шапке с опущенными ушами и старомодных, дедовских очках. По отвисшей нижней челюсти и запрокинутой голове было видно паренек задремал в пути, ничего не видит, ничего не слышит. «Годится». Сашка легонько саданул локтем в бок. И уставился в лицо парню. Теперь он разглядел его получше: примерно ровесник, чуть помоложе и наверняка тоже из мелкой чиновной братии, на работягу не похож. Сашка смотрел на него пристально, с укоризной, вытянув шею вбок, чуть покачивая головой. Парень, разумеется, не выдержал. Встал.
– Садитесь, пожалуйста, – сказал он старушке с малышом.
– Большое вам спасибо, – ответила та. Но обращалась она к Сашке. – Я вам очень признательна.
– Ну что вы, это мой долг. – Малышу он шутливо погрозил пальцем: – Варежку сосать нельзя. На-ка вот тебе! – он нащупал в кармане куртки конфету-ледяшку, невесть когда полученную на сдачу в ларьке, протянул ее.
Теперь оба, и бабушка, и ее внук, были покорены окончательно. Про недогадливого парня все забыли, тем более что того что-то не было видно, должно быть, вышел на своей остановке. Правда, бабушка тут же отобрала конфету у малыша, дескать, после завтрака съешь, нечего сейчас аппетит перебивать. Но все равно еще раз заглянула в глаза Сашке – одновременно с признательностью и как бы прося прощения, что перехватила подарок, предназначенный внуку. Сашка разрозовелся. Он был готов и дальше заниматься благотворительскими делами… но пора было выходить.
На подступах к конторе его нагнал Толик. Он был запыхавшийся, малость взвинченный, как, впрочем, и всегда по утрам. Сашка даже удивился: и откуда это в людях, ведь ни одного еще на его памяти не выставили из конторы, ни одного не расстреляли и не сослали на Колыму, так откуда этот вечный страх опоздать даже тогда, когда совсем не опаздываешь? Ну и ну, народец пошел! Он как-то отделил себя от этого «народца» и снова глядел сверху и со стороны, но уже иначе, никого не осуждая, никого не порицая, а так, сожалея немного, совсем капельку сочувствуя.
– Ну что, старичок, пишешь? – спросил Толик на ходу.
– Что пишешь?
– Заявление, что ж еще, хе-хе. – Толик начинал приходить в себя. – Пора, брат, пора!
Сашка ему ничего не ответил. Впереди показалась фигура начальника, шедшего навстречу. Сашка чуть склонил голову, приподнимая свободной рукой на полсантиметра над головой шапку. Начальник приметил его, кивнул в ответ.
– Погоди-ка, – Сашка придержал Толика рукой, – потом…
Он ускорил шаг и почти у самого подъезда нагнал начальника.
– Доброе утро, Николай Семенович!
– Доброе, доброе, – ответил тот и тут же озабоченно спросил: – Сколько на ваших, не опаздываем?
– С опережением идем, Николай Семенович, – сказал Сашка, придерживаясь на полшага позади, с должным для подчиненного почтением.
– И это самое главное, – важно заключил начальник, – сейчас, сами знаете, никаких послаблений. Перестраиваться надо начинать с самого утра – вот что во главе угла!
Сашка закивал головой. Разумеется, он полностью разделял взгляды своего руководителя. Чуть забежав вперед, но без тени услужливости, он распахнул дверь, пропустил Николая Семеновича.
– Конечно, с утра. Утро – оно мудренее, – проговорил он почти про себя, как бы размышляя вслух. – Николай Семенович, вы знаете, я вчера даже растерялся как-то, не ожидал, честно говоря… – голос его приобрел оттенок смущенности, вполне искренней. Сашка говорил медленно, словно с трудом подбирая слова.
– А что такое? – Начальник явно понял, о чем речь, но все же переспросил.
– Спасибо вам, Николай Семенович, за хлопоты.
Они миновали вахтера, шли в раздевалку, на ходу расстегиваясь, отвечая на приветствия, улыбаясь встречным. Толик Синьков плелся позади, прислушиваясь.
Пока поднимались вверх по лестнице, Сашка подробно поведал Николаю Семеновичу, за что он ему благодарен и как близко он принимает к сердцу такую заботу. Слова уже сами подыскивались, не приходилось ломать голову.
Толик плелся сзади, разинув рот от удивления. Довольный руководитель чуть кивал в такт Сашкиным словам, временами вставляя:
– Сейчас у нас на повестке – кадры… но подход дифференцированный… во главе угла…
В свою комнату Сашка шел с чувством облегчения: на сегодня, судя по всему, приветствиями с Николаем Семеновичем они обменялись в достаточной степени и ему не придется выслушивать обычных утренних пожеланий и наставлений. А это уже очень и очень неплохо!
Женщины сектора сидели за своими столами, прихорашивались, все как одна рассматривая себя в одинаковых, на Сашкин взгляд, маленьких кругленьких зеркальцах с откидными крышечками.
Поздоровавшись, Сашка прошел к своему столу, повесил сумку на стул. Какое прекрасное утро! Как упоительно чувствовать себя свежим и бодрым, готовым горы свернуть, ах, как хорошо! Энергия переполняла его, рвалась наружу. Для начала Сашка раздобыл тряпку и старательно, впервые за многие годы, протер стол, спинку стула. Потом той же тряпкой вытер свои ботинки и бросил ее в корзинку. Бросок был мастерский, такому позавидовали бы и прославленные американские баскетболисты-профессионалы. Сашка от удовольствия широко, плотоядно улыбнулся.
Николай Семенович вовсе не собирался лишать себя маленьких радостей, получаемых от утреннего ритуала. Для него это, по всей видимости, было священнодействием, от которого трудно отказаться. Правда, сегодня он пришел в комнату минуты на три позже обычного. Но зато галантен был как никогда – женщины буквально на глазах расцветали от его комплиментов, пусть иногда и явно преувеличенных, все равно! Осчастливив каждую рукопожатием, добросклонной улыбкой и ласковым словом, Николай Семенович добрался до Сашки, крепко сжал его руку, будто позабыв, что виделись уже, а может, не желая выделять его. И уже было начал:
– И вы сегодня прекрасно… – Но вдруг осекся, улыбнулся еще шире. – Тут вот какое дело. Ваша заведующая звонила только что. Хочешь не хочешь, а приходится констатировать малоприятный факт – она на бюллетене. Придется сынтегрировать следующее. – Он строго поглядел на Сашку, словно оценивая его со всех сторон, потом отошел на шаг, кивнул, утверждаясь в выборе. – Недельки две будете исполнять ее обязанности, вот так.
«А на черта мне лишние хлопоты! – чуть было не сорвалось у Сашки. – Нашел исполняющего!» Но вместо этого он лишь пожал плечами, округляя глаза, раскрыл было рот… Но начальник опередил:
– Справитесь, справитесь. – Взгляд его стал пристальнее, голос глубже и проникновеннее. – Да-а, Кондрашов, признаюсь, недооценивал вас.
– Не подведу, Николай Семенович, – выдохнул Сашка почти влюбленно. И не временное назначение воодушевило его. Нет, одна лишь забота, проявленное к нему внимание. Сашка даже растрогался.
И это не прошло незамеченным для Николая Семеновича, тот лишний раз убедился, что знает толк в людях, умеет работать с кадрами. А это было большей отрадой для сердца, чем иная благодарность по службе.
– Будут вопросы, заходи.
Николай Семенович ушел. А Сашка все стоял и смотрел на дверь. И как он только мог испытывать неприязнь к такому обаятельному, хорошему человеку?! Недалек, правда, так это не беда, где они, «далекие»-то? Сидят по своим дырам да завидуют всем подряд, на весь свет белый надуты, всем обижены. С людьми ладить надо, тогда и они к тебе с добром.
Машинистка Леночка вырвала его из потока грез.
– Растешь, Саша, прям-таки на глазах, – произнесла она не без иронии, – ба-альшой человек стал!
Сашка подмигнул ей, дескать, ирония ваша понятна, но не совсем уместна.
– Сама понимаешь, дело-то в алгоритме!
Леночка рассмеялась, рассыпая по плечам шелковистые светлые пряди – она всегда при смехе закидывала голову назад. Ее поддержали остальные. Никто Сашке не завидовал, никто не хотел замещать заведующую – своих дел хватало, да и ничего это не предвещало, кроме лишней нервотрепки и нагоняев.
– Ладно, надо перекурить это дело, – сказал Сашка и направился к своему месту возле дворцовой урны.
Синькова на привычной позиции почему-то не оказалось. А Сашке не терпелось выложить новость приятелю. Он даже растерялся на мгновение, но потом сообразил, где искать Толика. Отворив дверь в туалет, он тут же пожалел об этом. Увиденное поначалу оттолкнуло его, чуть было не заставило выйти, но Сашка превозмог себя, тихонько притворил за собой дверь.
Толик ничего не видел, ничего не слышал – он был увлечен. Согнувшись в три погибели, намурлыкивая что-то под нос, он большой отверткой ковырялся в стене, другой рукой придерживал плитку, чтоб не упала, не раскололась.
– Ты чего, в штукатуры-отделочники переквалифицировался? – мягко, чтобы не напугать, спросил Сашка.
Толик на мгновение съежился, застыл. Но, видно, был не из пугливых, тут же нашелся. Причем не оборачиваясь.
– Да вот – на полу валялась, – он щелкнул пальцем по плитке, – приладить хочу.
Плитка под действием отвертки Толика только что отлетела, и потому приладить ее было довольно-таки трудно, тем более без цементного раствора. Обернулся Толик лишь через несколько секунд, когда полностью совладал с собой.
– Не выходит, – откровенно и нагло заявил он Сашке в лицо. И сунул плитку в карман.
– Ладно, пошли посмолим, – предложил Сашка.
– Пошли, – согласился Толик и добавил: – Вон, кстати, зеркальце-то в сушилку вставили. Ящик их у них, что ли?
Сашка пропустил Синькова вперед. Сам задержался, заглянул в зеркало. Лицо было свежим, даже румяным и непривычно уверенным. Да и вообще сегодня он выглядел отлично, как на самых лучших фотографиях времен золотой юности. Вот только что-то странное было в лице, незнакомое. А что именно – Сашка никак не мог понять, ведь вроде бы все в порядке, даже лучше, красавец удалой – купец молодой! Так в чем же дело? Тьфу! Он не стал заниматься самокопанием. Все в норме – и точка!
Когда подошел к дворцовой урне, прежде чем прикурить сигарету, очень тихо бросил Толику:
– Я ничего не видел, понял?
Тот молча кивнул, опустил глаза.
За окошком на этот раз убирал территорию общий отдел – их пореже, но все-таки привлекали к трудовой деятельности. Хотя Сашка знал, что изо всех отделов, пожалуй, лишь этот работает добросовестно и кропотливо – входящие-исходящие, куда от них денешься, – но ему не было жаль канцеляристов, пусть разомнутся немного! Авось в этот день меньше на его стол ляжет бумаг для исполнения!
– Вот сачки подобрались, гляди-ка, вшестером метлу тащат. – Сашка толкнул Толика в плечо, решил развеселить немного, а то уличенный приятель никак опомниться не мог. Про свои новости Сашка решил ему ничего не говорить, обойдется.
В этот раз он докурил сигарету очень скоро – стояние у урны почему-то не казалось привлекательным.
– Ты куда? – придержал его за локоть Синьков. – Только начали, постой.
– Хорош травиться, – улыбнулся Сашка.
Толик локтя не выпускал.
– Трепаться не будешь? – спросил вдруг сдавленно и заискивающе.
Сашка промолчал, лишь поглядел на Синькова выразительно. Тот расслабился, вздохнул.
– С паршивой овцы хоть шерсти клок, – сказал он уже другим тоном.
– Ковыряй, ковыряй, Толя, – доверительно проговорил Сашка на ухо приятелю, – глядишь, скорее развалится один из столпов бюрократии. Мне не жалко.
Говорил он одно, но в глазах стояло неодобрение. И Толик это почувствовал. Друзьями особыми они не были. А теперь, видно, и в приятельских их отношениях трещинка образовалась.
– Ну все, пошел! – Сашка высвободил локоть.
Леночка встретила его укоризненным вопросом:
– Ты где шлындаешь, чучело? Николай Семенович заходил!
– Ну? – не понял Сашка.
– Чего нукаешь? Отпрашиваться у тебя! – Леночка снова запрокинула голову, хвастаясь точеными беленькими зубками. Короче, он в министерство уехал, к концу дня, может, вернется, понял? Просил передать. Ведь ты у нас теперь за главного.
– Вот последнее – точно, я крутой бугор! – отшутился Сашка. – Всех в ежовые!
Выждав полчаса, Сашка записался в «Книгу местных командировок», на ходу оповестил женщин сектора:
– Я на согласование в управление, через часика… нет, к обеду скорее всего буду. Привет!
– Привет, бугорок! – за всех ответила Леночка и помахала рукой.
Сашка успел почти впритык – через минуту институтский «рафик» должен был отъехать. Он курсировал между институтом и министерством постоянно, было и расписание поездок, конечно, но водитель «рафика» не ждал ни минуты, к этому все были давно приучены.
– Дверь плотнее прикройте, – и это было все, что можно услышать от молчаливого водителя.
Тронулись. Сашка сидел с краю, поглядывал в окошко. Никого из близких знакомых в машине не было, и уже за одно это можно было благодарить судьбу. Чиновный люд сидел тихо и степенно, придерживая на коленях портфели и папочки. Маршрут был привычный до тошноты. Так же благообразно и тихо поедут назад. Изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год все одно и то же.
Прежде это послужило бы Сашке поводом для тоскливых и занудных размышлений, но только не теперь. Сегодня он был полон желания действовать, причем суетливости как раз не было. Поглядывая на занесенные снегом улицы, на голые черные деревья и пустынные к этому часу остановки, Сашка еле заметно улыбался чему-то своему, щурил глаза. Привычной утренней сонливости как не бывало, можно было смело переписываться из разряда «сов» в «жаворонки». «Ну, ну, спешить не будем, подумалось внезапно, – один светлый день в году и у самого отпетого неудачника бывает!»
Сашка первым выскочил из машины, придержал дверь, пока выйдут остальные. Не торопясь раскурил сигарету, несколько раз подряд глубоко затянулся, выпуская дым струйками через ноздри. А когда за последним из приехавших на «рафике» захлопнулась министерская дверь, швырнул окурок в урну и быстрым шагом свернул за угол. До троллейбусной остановки было рукой подать.
Первое, на что он обратил внимание, войдя в магазин, была его собственная перчатка, мирно лежавшая на подоконнике. Смятая и перекрученная, она вызывала жалостливое чувство, как брошенная хозяином собака, – на подоконнике перчатке было неуютно и одиноко. Сашка тут же ликвидировал эту несправедливость и сунул перчатку в карман.
Красноглазый был на своем месте у прилавка. Он внимательно изучал журнал поступлений книгообмена и громко сопел при этом, отдуваясь тяжело время от времени. Продавщица копалась в книгах, перекладывала их с места на место без видимой системы. Столь же фирменная, как и вчера, но не повторяющая в сегодняшнем своем наряде ни единой вчерашней этикетки, она походила на манекен, выставленный в витрине на обозрение.
– Здрасьте, – еле слышно проговорил Сашка, прислоняясь к стене.
Продавщица не ответила. Красноглазый окинул вновь прибывшего клиента мутным взглядом, пробурчал невнятно что-то похожее на: «А-а-а, приперся дебошир, чего еще?» И отвернулся.
Сашка не прореагировал на слова красноглазого. Он просто стоял и в упор смотрел на продавщицу, не говоря ни слова. И на душе у него при этом было спокойно, даже весело немного дескать, вот он я, пришел, а как там будут разворачиваться события, мы с большим интересом и огромнейшим удовольствием поглядим!
Клиентов почти не было, если не считать робкой женщины в сереньком пальто и сереньком платочке, почтительно выжидавшей, когда фирменная продавщица соблаговолит ею заняться. Красноглазый пыхтел, сопел и косился на Сашку. Он первым заподозрил что-то неладное.
– Что вам? – наконец заметила Сашку продавщица.
Он помотал головой, не отводя глаз.
– Ровным счетом ничего.
– Ну-ну… а у вас там что еще? – продавщица снизошла до серенькой женщины. – Вы карточки заполнили? В четырех экземплярах? Нет?! – Возмущению не было предела. – А для кого инструкции и правила во всю стену пишут?!
Женщина пугливо заозиралась и принялась каяться в своей несуществующей вине, вымаливать прощение у надменной и гордой хозяйки обменного пункта. На лице у нее появились слезы, голос дрожал. До Сашки дошло, что карточек у женщины нет, а попросить их у грозной продавщицы она не решается.
– Обслужите клиента, – проговорил он тихо и очень ровно.
Продавщица посинела, потом позеленела, кулаки ее сжались, руки задрожали. И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы Сашка одновременно со всем этим не достал из кармана записной книжки. Проделал он это неторопливо и как бы нехотя. Раскрыл книжечку на чистой странице, поднес почти к глазам так, чтобы никто не видел, что он там будет писать. И очень аккуратно, почти каллиграфическим почерком, закусив от усердия губу, вывел сначала цифру один, потом жирную точку и вслед: «Какое же мы все-таки дурачье, прости Господи!» Подумал – не стоит ли еще чего добавить. Решил, что хватит, и спрятал книжечку обратно.
Продавщица скорее всего ничего не поняла. Правда, и испугаться не испугалась. Но заготовленный было в ее груди крик там и умер.
Не часто доводилось Сашке видеть подобные существа в растерянности. Но он не бросил спасительной веревочки, промолчал, все так же серьезно, без тени улыбки глядя в глаза этой хорошенькой, но чувствующей себя человеком особого сорта девчушке.
– Да он мне работать мешает… – неуверенно проговорила она, бросая взгляд, ожидающий поддержки, на красноглазого.
Но за тем было наблюдать еще забавнее, чем за ней. Казалось, что его кто-то невидимый одной рукой держал за горло, чтобы помалкивал, а другой поливал сверху кипятком – багровое лицо, выпученные бессмысленные глаза, раскрытый, но беззвучный рот.
– Нате, вот вам карточки! – вспомнила продавщица про серую женщину.
Та подхватила четыре листочка плотной бумаги и, не переставая кланяться и шептать слова благодарности, заспешила к подоконнику заполнять их «в соответствии с правилами».
– Ты чего тут? – наконец еле выдавил из себя красноглазый. – Чего ты? – в голосе его не чувствовалось угрозы, лишь полнейшее недоумение и растерянность.
– Чего надо, – заверил его Сашка.
Продавщица уселась и принялась судорожно листать свой журнал, делать там какие-то пометки. Сашка внимательно наблюдал за нею, хотя та прикрывалась поднятою страничкой.
Через минуту он снова вытащил ручку и книжку. Красноглазый на этот раз оказался шустрее. Налег на Сашку огромным животом, припер к стене.
– А ну топай отсюда, гад, да прячь давай свою книжку, ты чего, падла! – понес он на одной ноте, быстро-быстро, вытаращивая глаза настолько, что Сашке стало, страшно за него.
– Лопнешь, дружок, – сказал он миролюбиво и ткнул без размаху, но сильно и резко кулаком в бок обидчику. Отшатнуться ему не дал, придержал за лацкан пальто. – Ты не расстраивайся, главное, тебе это вредно.
Никто ничего не видел – и это ошеломило красноглазого. Сашка хорошо знал подобный тип людей, которые работали на публику и без ее поддержки оказывались самыми жалкими трусами. Вот и сейчас у красноглазого затрясся подбородок, он опять беззвучно раззявил рот.
– Ты вот что, дружок, скажи мне честно и откровенно, тихо начал Сашка, не отпуская от себя толстяка, – у тебя здесь что – весь околоток куплен? Нет? Так что же ты, гнида, – голос его стал злым, но не повысился ни в малейшей степени, – что же ты, шакал вонючий, тут свои порядки заводишь?! Давно на параше не сидел?! Осмелел?! Что дуешься, пузырь, лопнешь ведь!
Красноглазый с надеждой уставился на продавщицу. Но та сама ничего не понимала, ничего почти не могла разобрать. Она перегнулась через прилавок и с любопытством следила за происходящим. Помогать красноглазому явно не собиралась.
– Ты вот что, дружок, сейчас тихо-тихо поплывешь отсюда, понял? И при мне тебя здесь не будет, понял? – Сашка уже без злости, почти дружески ткнул красноглазого в другой бок, – а возникать будешь, лафе твоей конец придет, понял? Ты сколько тут за день огребаешь? – Не дождавшись ответа, он легонько отпихнул от себя красноглазого, повернул его лицом к двери, подтолкнул к ней. – Прощай, мой друг любезный, когда мы свидимся еще, о-хо-хо!
Книголюб-завсегдатай послушно направился на выход. Сашка даже не стал смотреть ему вслед, знал – не осмелится ослушаться. Ну и конечно, переждет на улице где-нибудь, потом вернется. Но это уже потом, без него… Он обратил внимание, что за все это время не выпустил книжечку из рук, она даже смялась немного. Посмотрел на любопытную продавщицу с осуждением, качнул головой и вывел цифру два. Потом столь же старательно написал под нею: «Нет, по капле раба не выдавишь из себя, одним махом его давить надо, проклятого!» И снова спрятал книжку в карман.
– Да вы что-о?! – брови на лице продавщицы поползли вверх. – Вы что там пишете?
– Да вот инструкцию со стены переписываю, – без тени смущения ответил Сашка.
– Я с вами шутки шутить не собираюсь, – продавщица всерьез начинала нервничать, – не положено!
– Что именно? – поинтересовался Сашка.
Та поняла, что сморозила глупость. Но привычка оказалась сильнее.
– Я сейчас директора позову, акт составим за хулиганство, вон, женщина! Эй, к вам обращаются, женщина, вы свидетелем будете!
Услыхав подобное, напуганная жизнью женщина в сером мышкой выскользнула из магазина, позабыв на подоконнике все четыре карточки. Сашке стало очень жаль ее, он чуть было не побежал вслед, еле сдержал себя.
– Вызывайте, он вам же нахлобучку и устроит. – Сашка мило улыбнулся.
– Вы меня отвлекаете, понятно?! – с угрозой выдавила продавщица. – Я на работе!
– Работайте на здоровье, а я постою еще, с инструкцией вот, – он, не глядя, ткнул пальцем в стену, – ознакомлюсь.
В окошко поглядывал с улицы красноглазый. Сашка погрозил ему, и тот пропал. Еле сдержался, чтобы не посмотреть на часы, ведь время-то шло! Но этот маленький жест мог бы испортить все.
– Журнальчик можно посмотреть? – обратился к продавщице со всей возможной приятностью.
– Не положено, – буркнула та, – никому, кроме сотрудников.
– А этот вот, – Сашка махнул в сторону окна, – ваш сотрудничек, видать?! Внештатный, надо думать?! Или как – добровольный помощник и бескорыстный соратник в борьбе за всеобщее окниживание?!
Не дожидаясь ответа, Сашка старательно вписал под цифрой три: «Все мы, конечно, большие гуманисты, но рабов давить надо не только в себе». Подумал и поставил знак вопроса. Потом перечеркнул его очень тоненьким крестиком. Краем глаза видел он, как старательно следила за его движениями продавщица – напряглась, сжалась, подалась вся вперед – вот-вот и взлетит. Сашка снизу дописал: «Положение спорное, но привлекательное».
– У вас, говорят, премии маленькие? – задал он неожиданный вопрос.
– Сейчас милицию вызову, – предупредила продавщица, – издеваться в служебное время над работниками торговли…
– Да бог с вами, нужно еще – издеваться! Зовите скорее интересный разговор получится.
Продавщица пристукнула кулачком по журналу и из бледной сделалась сначала розовой, потом красной. Она уже не могла смотреть на Сашку, отводила глаза. Чувствовалось – еще немного, и она не выдержит.
– Навязался на мою душу, юный следопыт! – За помощью к администрации она обращаться, похоже, не собиралась. Сашка рассчитал все верно. – Не нравится что-то, вон в кассе книга жалоб и предложений, берите и пишите, что хотите.
– Да нет уж, мне совсем другая книга нужна. А написать я еще успею, да и куда написать – найду!
Сашкина улыбка стала лучезарной.
– Нате! Берите!!
Продавщица хлопнула вытащенной книгой по прилавку. И зарыдала – всерьез, без фальши.
Но Сашка не спускал с нее глаз и книги не брал. Что-то ему подсказывало – маловато за все перенесенное, нет, так запросто не откупятся! Он начинал чувствовать, что только лишь набирает силу и что власть его с каждой минутой будет расти…
– Вот! Все! Больше ничего нету!
Продавщица сунула что-то между страниц книги и выбежала из-за прилавка, рыдая и хлюпая, скособочась и вжав голову в плечи. Юркнула в подсобку – лишь дверь хлопнула ей вслед.
Сашка взял томик, между страниц лежала плотная картонка. Он присмотрелся – это был абонемент на пятитомник Булгакова, на тот самый, желанный, но недоступный, объявленный, но тут же растворившийся во мраке и пучинах великой и загадочной книготорговой сети.
Он вышел из магазина, причем дверь перед ним услужливо распахнулась. Сашка увидел, что это женщина в сером так его уважила, и буркнул ей что-то неопределенное, потом протянул книгу. Картонку спрятал во внутренний карман.
Женщина мелко кланялась ему, потерявши дар речи от неслыханного счастья, норовила припасть губами к руке. Но Сашка брезгливо отдергивал ее.
Погода была на загляденье! Сияло совсем не зимнее солнце, щебетали пичуги, а воздух… Воздух московский будто бы высосали гигантским насосом, а взамен поднакачали набранного где-нибудь под Майами-Бич или, по крайней мере, в канадских нетронутых лесах.
С визгом подкатила машина – большая и черная. Открылась дверца. Выскочил шофер в кепке и с усами серпом.
– Куда прикажете?! – вежливо поинтересовался он.
Сашка принял машину с шофером за галлюцинацию и отмахнулся, потряс головою. У него еще было в запасе время, и он решил немного пройтись, продышаться. Потом позвонить Светке. Никакой скользоты под ногами не было, тротуар темнел свеженьким, будто только уложенным, асфальтом. По такому не грех было пройтись.
Прохожие обтекали Сашку, не задевая, предупредительно и вежливо. И это было непонятно, но приятно. Он не торопился, дышал полной грудью. Поравнявшись с той самой урной, что он вчера ненароком поджег, Сашка заглянул в ее зев. Пепла, угольев и вообще черноты он там не обнаружил. Зато на высокой куче бумажно-хозяйственного мусора лежала солидная пачка ассигнаций. Сашка даже не сразу сообразил каких. Он никогда не видел столько плотненьких бежевых сторублевок. Надо было брать. Или проходить мимо.
Сашка взял. Сунул в карман. Когда поднял глаза, увидел знакомого милиционера со светленькими усами-висюльками и улыбнулся ему будто ни в чем не бывало. Милиционер вытянулся по стойке смирно и с некоторой грациозной важностью отдал Сашке честь, приложив руку в огромнейшей перчатке к шапке. Сашка помахал ему в ответ.
Телефонная будка была пуста. После третьего гудка Светка сняла трубку.
– Это я, – представился Сашка.
– Да узнала, чего там? – вяло проговорила Светка.
– Нет, ничего, – сказал Сашка. – Я тут недели три буду занят, ты не обижайся… И звонить пока не надо, лады?
Светка повесила трубку.
«Ну и ладненько, – подумал Сашка. – Ну и прекрасненько, сама отпадает. Так даже лучше!» Он вышел из будки.
Знакомый лимузин стоял у кромки тротуара; улыбался из-под кепаря усатый шофер. Сашка ему тоже улыбнулся и пошел дальше, медленно и солидно. Автомашина, будто на поводке, еле-еле двигалась за ним – и вот чудо! – ни единого «Жигуленка» или «Москвича» на обочине, обычно забитой припаркованной автотехникой, не было. Пачка приятно оттягивала карман, ее наличие придавало еще больше уверенности. Но ходьба уже начинала утомлять Сашку.
– Ладно, поехали! – бросил он через плечо.
И машина тут же остановилась. Вновь распахнулась лаковая точеная дверь. Внутри было хорошо, просторно и свежо. Шофер не спрашивал, куда ехать. А Сашка не говорил ничего, да он и сам видел, что движутся они в нужном направлении. Покачивало. Убаюкивало. Со всех сторон текла чуть слышная приятная музыка. Сашка поглядывал на себя в зеркальце. Никогда еще он так хорошо не выглядел, как сейчас, – румяное лицо, здоровая кожа. А эти складки у губ и бровей! А волевое выражение! Одно слово – супермен! А глаза?! Вот с глазами было что-то не так, непривычными они показались… Но Сашка не стал задерживать своего внимания. «Это только начало, – думал он, – теперь все пойдет, побежит-поедет самым лучшим образом!» Вытащил пачку, начал пересчитывать ассигнации. Но на половине бросил это занятие, надоело – мелочи! Сунул пачку обратно, отделив одну купюру и небрежно перебросив ее на сиденье рядом с шофером. Тот и глазом не повел.
Через несколько минут они подкатили к зданию института. У входа встречал сам директор со всеми своими замами. Еще машина не подъехала и не остановилась, как все встречающие дружно закивали, принялись разводить руками и мило улыбаться.
«Неплохо! Но не слишком ли темпы неумеренные? – подумалось Сашке. – Эдак через денек придется и за Нобелевской премией в Стокгольм ехать! Чего это они?!» Впрочем, размышлениям он предаваться не стал – раз так, значит, так оно и есть, так оно и должно быть.
«Контакт!» – щелкнуло в мозгу, кольнуло. «Нет, все в порядке, все в полном порядке!»
– Александр Иваныч, – директор, снимая ондатровую потертую шапку, согнулся в полупоклоне. – Прошу вас! – И ухватил Сашку за локоток. Все засуетились, запричитали, стараясь попасться Сашке на глаза. Встреча была на славу. Не хватало, пожалуй, лишь цыган с «Величальной».
Чуть не на руках его подняли по лестнице. В вестибюле играл духовой оркестр. Дирижировал им Толик Синьков – он старательно размахивал руками, мотал головой из стороны в сторону, приседал, наклонялся, подпрыгивал и, оборачиваясь ежесекундно, строил восторженные гримасы. Из кармана пиджака у него торчал краешек кафельной плитки.
Стоящие по краям лестниц институтские женщины в восхищении округляли глаза, закидывали свои уложенные и холеные головки и негромко, но с чувством рукоплескали триумфатору.
Перед дверью, обитой коричневой натуральной кожей, Сашку опустили, поставили на ноги.
– Ваш кабинет готов, – учтиво произнес директор, простирая руку в сторону двери и поблескивая обширной розовой лысиной. – Всегда к вашим услугам, Александр Иваныч!
Непонятно было, что именно он имел в виду. Но Сашка не стал уточнять – какая разница! Главное, все так славно складывается. Он даже распорядился, чтоб ему в кабинет прислали обед и машинистку. Сухо попрощался с провожающими и закрыл за собой дверь. Сначала одну, потом другую, потом третью кабинет был, как и полагалось, с «тамбуром».
– Вот так и будем жить теперь, – пробормотал он себе под нос довольным, уверенным голосом.
В кабинете было три больших дивана, длинный Т-образный стол, кресла, стулья, телевизор, еще что-то… Сашка прошел к слаборазличимой дверце в стене, распахнул ее. Там оказались спальня, сауна, ванная.
– Не-дур-ствен-но! – пропел он громко. Вернулся в кабинет и включил телевизор.
Диктор Кириллов строго и торжественно зачитывал текст:
– Сегодня, в семь часов тридцать две минуты московского времени, в Советском Союзе был произведен запуск космического корабля в сторону планеты Марс. Пилотирует корабль летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Александр Иванович Кондрашов.
На экране появилась Сашкина фотография в мундире и с погонами.
– Ну, это уж слишком, – проворчал он и переключил программу.
На другой – показывали какой-то жутко красочный и чувствительный до дрожи фильм. Главную роль исполнял, разумеется, Александр Кондрашов, загримированный чуть ли не оперным любовником. Смотреть это было невыносимо.
Третья программа показывала Сашкину встречу с президентом заокеанской державы. Президент явно проигрывал по внушительности, обаятельности и масштабности своему именитому гостю. Четвертая и пятая программы также демонстрировали Кондрашова во всех ракурсах. Увидав себя в роли нервного и дерганого пианиста, с невероятной виртуозностью насиловавшего рояль в зале Консерватории, Сашка вырубил телевизор вообще.
Подошел к приемнику. Щелкнул ручкой.
– Товарищи, только что произошло радостное событие! – ликовал кирилловский голос, мужественно и игриво переливаясь тембрами. – Только что приземлился спускаемый отсек корабля, вернувшегося с планеты Марс. Мы все сейчас станем свидетелями знаменательного момента – вот-вот распахнется люк, и нам навстречу выйдет наш герой, наш любимец, которого мы не видели целых четыре года! Вот он, вот он уже показывается, четырежды Герой Советского Союза, наш соотечественник дерзновенный Александр…
Сашка явственно разглядел, как сползла с приемника лицевая панель и оттуда, изнутри, показалось бледное, усталое, но до невыразимости благородное лицо. Его лицо!
Он зажмурился и потряс головой. Видение исчезло. Приемник был цел и невредим. Но Кириллов продолжал захлебываться от восторга.
Сашка подошел к встроенному шкафу. Открыл дверцу. С внутренней ее стороны было большое зеркало. Он стал пристально вглядываться в себя.
Отражение как отражение. Сашка даже улыбнулся сам себе. Пригладил волосы и похлопал себя по животу. Потом скорчил рожу, высунув язык. Подмигнул. Все было в норме. Лишь глаза. Снова ему показалось, что с глазами что-то не то, не его какие-то глаза! Он отвернулся, чтоб рассеяться, дать зрению передышку, даже смежил веки на минуту.
Потом снова заглянул в зеркало. Глаза были явно чужие. Холодные, нечеловеческие. Будто две стеклянные пуговицы с яркими, но совершенно ледяными зрачками-пятнами. Таких глаз он ни у кого никогда не видел. Ему стало страшно. Рука совершенно непроизвольно подхватила со стола телефонный аппарат и с силой обрушила его на зеркальную поверхность.
Послышался звон разбиваемого стекла, посыпались осколки. Стало темно и сыро. Кабинет, телевизор, кресла и диваны пропали куда-то, даже кирилловский голос замолк…
Сашка стоял на негнущихся ослабевших ногах. Зрение постепенно возвращалось к нему. Но очень медленно. В горле было сухо. Голова гудела, раскалывалась. Шапки на ней не было, и падающий снег ложился прямо на волосы, не таял.
Он стоял перед разбитой витриной книжного магазина. И руки его были в крови. Рядом, прямо на земле, лежал красноглазый толстяк – он хрипел, захлебывался пеной, и мелко сучил короткими ножками. Лицо его тоже было в крови – не разберешь, где нос, где губы, где лоб. «Фирменная» продавщица из обменного отдела, вцепившись в косяк дверного проема, истошно вопила, совсем не заботясь, как она при этом выглядит.
Один к другому, кольцом, сбивался любопытствующий народ. На глазах темнело. И все вокруг было как-то сыро, глупо, ненужно и необъяснимо.
Сон, или Каждому свое
Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного…
Он просыпался несколько раз за ночь. А может быть, и ни разу, может быть, это был один сплошной, прерываемый кошмарами сон, бесконечный, как сама вселенная, свернутый в чудовищную спираль, витки которой перемешались, нагромоздились один на другой – и породили такую путаницу, что не простому смертному было в ней разобраться.
Он уже успел позабыть, где заснул. В первый раз он пробудился у себя, в своей собственной постели, от тягучего, липкого сновидения, в котором ему отводилась роль безропотной жертвы, приносимой невесть кому, невесть за что… Пробуждение сбросило тяжесть с груди, будто с самого дна океана он вынырнул на поверхность, глотнул воздуха. Но когда обрывки страхов почти затерялись где-то в закоулках сознания и он хотел встать, чтобы напиться воды, боковая стена дома вдруг обрушилась беззвучно, рассыпаясь каменьями, и в комнату полезли рожи, хари, дикие уродцы, – нацеливаясь на него, угрожающе выставив вперед корявые лапы. Еле успел сигануть в распахнутое окно, в ночь, слыша за собой топот, повизгивание нетерпеливое, хрюканье, стоны… Почти сразу же пришла мысль, что это никакое не пробуждение, лишь продолжение кошмара, но раздумывать и рассуждать не было времени, за ним гнались.
…После этого он просыпался еще, еще и еще – и все время в разных местах. И всегда казалось, что вот оно, настоящее, что наконец-то круг разомкнулся и ему удалось выбраться из этого лютого хаоса. Не тут-то было! Все начиналось сначала, и каждый раз по-новому. Погони и преследования перемежались чем-то и вовсе несусветным, не имеющим к нему никакого отношения, но, тем не менее, происходящим именно с ним. Воспаленный мозг не давал ответов на вопросы, да и не брался за решение непосильных для него задач. Его хватало лишь на то, чтобы кое-как разобраться в сменившейся обстановке, осмыслить ее хотя бы поверху, связать с предыдущим. Но нет, рушились все связи, и выхода не было.
Он успел, наверное, побывать во всех уголках земли и всего остального мира, во всех временах. В череду отрывочных мигов укладывались целые жизни, и сама ночь была уже не отрезком земного времени, в котором его половина планеты была погружена во тьму, нет, она стала неизмеримо большим, и потому как это была поистине несоизмеримость, она стала самой Бесконечностью. И была эта Бесконечность помножена на его страдания, на его боль и его бессилие.
И вот на каком-то сумасшедшем витке спирали мука пресеклась, его выбросило за пределы страшного несуществующего мира. На этот раз, он верил, чуял, знал, – по-настоящему. Пришло пробуждение, разорвалось кольцо ужаса и сумятицы. Но облегчения он не почувствовал.
Было мерзко и пакостно спросонья. Широченная ветвь, под которой он пристроился засыпая, уплыла куда-то в сторону, и солнце, обезумевшее от ненависти ко всему живому, лупило со всей силы прямо в глаза, мелкой теркой скребло кожу лица, рук.
– У-у-угхр-ы-ы, – прохрипел он в бессилии запекшимся, пересохшим ртом, перевалился несколько раз через бок, не глядя, на ощупь, пытаясь вернуться в спасительную тень, – на несколько секунд наступило облегчение. Мелькнуло вчерашнее: долгое, шумное застолье, клятвы в верности, лобызания, призывы, гомон, хай, пьяное бормотанье – и вера, сумасшедшая, ненормально-железная вера в то, что все будет как надо, что и идет-то все как надо, лучше и некуда. И остается лишь ждать себе, покуда спустится с небес царствие, светлее которого не бывало и не будет никогда, вот оно – уже спускается, и они видят, и они верят, потому что страстно хотят видеть и верить. И опять суета, хрип, одергивание и перебивание, и каждый лезет вперед, норовя попасть на глаза Учителю, выкрикнуть ему в лицо восторженно и слепо: нет, никогда, я ни за что не предам Тебя! Не было у Тебя вернее и преданнее ученика и друга! И каждый норовит оттереть другого своими объятиями и поцелуями, от которых Учитель лишь чуть отстраняется рукой, и они зависают в воздухе со всей их хмельной слезливой искренностью, дрожащей мокрогубостью и невероятной – ни одному актеру не сыграть – правдивостью чувств, разожженных до экстатического восторга, до сладостного самоистребления и уничижения во имя Его, во имя дела Его, ставшего делом Общим. И казалось так – не дюжина их, не двенадцать избранных, а легион – легион легионов непобедимых и жаждущих избавления, уже несущих его в своих сердцах, на своих руках, губах людям, человечеству, всем этим малым, сирым, неуютно скопившимся в темноте по задворкам, дрожащим в убогости и слабости своей по щелям. Да приидет царствие Твое! А чего там, ждать недолго – вот Оно, вон уже краешек златосияющий показался! Лови Его! Не упусти! Верь!.. И как хорошо верилось. Сейчас, когда чугунная голова тянула в ад, в пропасть и хотелось лишь одного – забыться, эта вера казалась какой-то нереальной, невзаправдашней. А вчера он в упоении кричал Ему: до конца вместе! не предам! не отступлюсь! все как один! Ах, как он был счастлив вчера, это было единение, это было торжество…
– Вон он, валяется под оливой, – еле слышно проговорил кто-то вдалеке насморочным гугнивым голосом.
– Ага, – отозвалось голосом потверже, – лежит, падаль!
Над лицом, как привязанный липкими невидимыми нитями, завис жирно-мохнатый, противно зудящий шмель. Страшно было даже чуть приоткрыть глаза, казалось, тварь тут же вопьется в них своим мерзким ядовитым жалом. Но и терпеть уже было невыносимо. Резким взмахом руки он разодрал все эти липкие нити, связывавшие реальность с бредом, а заодно и прогнал наглое насекомое, привлеченное остатками вчерашнего вина, запекшегося в его бороде и усах. Ох, как было противно все вокруг и внутри, невыносимо противно!
– Дергается, гаденыш! – как-то радостно и почти без злорадства прошелестел гугнивый. – Очухивается, видать, господин центурион. Никак продрыхся, голубок!
Он приподнял голову и в мареве из синих, зеленых, оранжевых кругов и молний, дергающихся в ослепительном солнечном сиянии неправдоподобно яркого дня, увидел стоящих в нескольких шагах людей. Совершенно незнакомых, пристально-внимательных. Никого из друзей, соратников, вчерашних единоверцев рядом не было. Даже следов их пребывания не было заметно, и не было самого главного, не было Учителя. Где все они? В чем дело? Тяжелая, свинцово-опустошенная голова ответа не давала, только гулко, каким-то эхом гудело в ней вчерашнее: все вместе! До конца!
– Ну вставай давай, пора, – мягко проговорил легионер в короткой пластинчатой юбчоночке, державший под мышкой красивый шлем с гребнем.
Оружие из ножен никто не вынимал, да и вообще вид у служилых людей был вполне добродушный.
– Слыхал, чего сказано! – развопился вдруг гугнивый, припадая на левую, подбежал вплотную и с маху несколько раз, кривя сморщенное коричневое лицо, ударил в бок жесткой заскорузлой сандалией. – Подымайся, гнида! Ты еще тут изгиляться, гад, над господами хорошими?! Убью-у-у!
Обожгла не столько боль, сколь отчаянная наглость кривоногого гугнивца. Резко поднимаясь на ноги, он, почти не глядя, со всей силы ткнул кулаком в сторону обидчика, промахнулся, чуть не упал плашмя. Но с того хватило – гугнивый отскочил, как блудливый, всего боящийся кот, спрятался за стволом дерева, яростно тараща оттуда свои базедово-лупоглазые, выпученные, почти вываливающиеся наружу глаза: две маслянисто-черные сливы, заключенные в желтушечные яблоки белков. Шестерка! Холуй!
– Пойдем с нами, – еще мягче сказал легионер без шлема. И даже несколько смущенно пожал плечами, дескать, что поделаешь – служба!
Двое подскочили с боков, схватили под руки. Сзади послышался ехидный смешок гугнивого – острая боль пронзила все тело, удар пришелся в копчик, в самую косточку, зверский удар, от которого он чуть не упал прямо вперед, на легионера со шлемом под мышкой. Двое с боков стиснули сильнее, не давая обернуться.
– За что?! – невольно и визгливо вырвалось у него. – За что?!
– Кому положено, знают, за что, – спокойно и вежливо пояснил главный легионер, которого гугнивый называл центурионом, явно завышая его в чинах по своей холуйской натуре. Пошли, там разберутся.
И его поволокли неожиданно быстро, с необъяснимой и несуразной спешностью, подгоняя тычками, пинками, короткими и небольными, но обидными зуботычинами. Главный столь же быстро шел рядом, поглядывал, часто моргая обожженными солнцем, почти безресничными веками. В его светлых, выгоревших глазах стояла тяжелая и, казалось, вечная тоска, отражающая всю мировую скорбь. Нелегок, видно, был гребнистый шлем, нелегок.
– Ты зла не держи, парень, – проговорил главный неожиданно сипло, с видимой натугой, наверное, поборов в себе многое, – мы тут и ни при чем, получается, понимаешь? По рукам – по ногам опутаны, до седьмого колена. Повязали, бесы! Это видимость только, что власть наша, – ни хрена, парень, все повязаны, хоть в петлю! Вот и пляши себе на здоровье под дуду, хоть с улыбочкой, хоть со слезами, а пляши! – По щеке легионера и впрямь, наверное от жгучих лучей, прокатилась слезинка, след тут же подсох, да вот в глазах тоски не убавилось. – Так что прости, парень, не обессудь.
– Чего плетешься еле! – сзади последовал еще один пинок гугнивого. – Это тебе не на вечерях рассиживать, сволочь!
Ответить ему не было возможности. Главный легионер вырвался на несколько шагов вперед и уже не оборачивался: спина и шея его были неестественно напряжены, будто и его гнали пинками и тычками по этой пыльной тропинке. Сады уже закончились. И дорожка вилась меж холмов, на которых стали появляться первые зеваки. С каждой минутой их становилось все больше.
Зрелище они из себя являли необычайно разноликое и пестрое. Толпы множились и уже покрывали собою почти все склоны холмов. От молчаливого созерцания они постепенно переходили к более активным действиям – воздух, и без того прокаленный и тяжелый, наполнился гулом тысяч голосов. И из этого гула уже можно было выделить отдельные крикливые возгласы, злобные и плаксивые, торжествующие и сочувствующие, но по большей части возгласы и вопли алчущие. И становилось до обидного больно – до чего же не терпится этим людям, до чего же алчут они чужих страшных мук, будто в этом есть какое-то облегчение для себя!
– Попались наконец-то! – вопило истошно злорадство. – Так им! Вот посодют на кол-то, тода нарушать не станут!
– Да чего там, ребята, бей их камнями! – вырывалось из чьей-то груди нетерпение, жажда деяний.
– Жечь их, дотла жечь!
– До двенадцатого колена, гадов!
– Погодь, погодь ты, быстрые очень! Тут надо медленно, тут надо жилы драть, тянуть потихоньку – вот тогда осознают!
– Рви их в клочья!
Кого их? Он ведь один, его одного волокут по этой пыльной и непонятной дороге. Нет, все бред, все помутнение разума, галлюцинации. Не может быть такого, не может!
– Вишь, как тебя привечают! – Гугнивый оказался совсем рядом, сбоку. Тощей, но костляво-мохнатой рукой он обвил плечи и приторно шептал в ухо, омачивая его теплой, вонючей слюной: – Ничто, пострадаешь за всех, малый, искупишь их грехи. Не-е, ты тока погляди на них, голубь, как они тебя любят, ты погляди тока! Неужто за таких и пострадать жаль?! Хе-хе-хе!
Он ничего не понимал. Это была какая-то страшная ошибка: куда его волокут, зачем? Откуда эти жуткие рожи по краям дороги? Где те сирые и убогие, за которых они готовились заступиться? Где вдовицы, несчастные и страждущие, где сироты и обездоленные? И главное, почему он один?! Почему вся эта лютая злоба и ненависть направлены на него и только на него? Почему столь злорадно улюлюкают вслед невесть откуда появившиеся мальчишки-несмышленыши, им-то он что сделал? Голова и тело не выдерживали такого чудовищного напряжения, ему казалось, что еще миг – и он упадет, умрет, тут же, под ногами рассвирепевшей толпы. Но он не падал, не умирал. Он так же быстро бежал, подталкиваемый своими неутомимыми стражниками и вездесущим гугнивым бесом.
– За что? Почему меня? Это ошибка! – почти прокричал он осипшим, не своим голосом.
Гугнивый тут же обдал жаром и мокротой ухо:
– Ну и ошибочка, ну так что ж теперь-то. Кого надо, сам знаешь, не нашли, упустили, стало быть, – голос его все добрел, мягчал, наливался сиропом, – а чем ты хуже, голубочек, ну чем, и ты сойдешь! Вон, вишь как народ тебя встречает уже и полюбить успел, ты ему кланяйся за это, голубок, кланяйся!
– Распять его! – вопила толпа. – Распять! Жечь!! Жилы драть! Чего-о тя-я-янете-е! Распя-я-ять!!!
Гугнивый вдруг отскочил в сторону, засуетился, громко покрикивая:
– Ну что тут?! Сработали, что ль? Ну лады, мужики, по полбанки каждому! – Насморочный голос его взлетал и срывался совсем расхлюстанно и беспорядочно, не выдерживая даже положенных интонаций, будто окончательно захлебнувшись в мокроте и слизи. – На совесть, мужики? Ну лады! Вот вам еще на пузырь. А ну давай, поднесли, подняли, и-э-эх!!!
На плечи, на спину, на самый хребет обрушилось вдруг что-то неимоверно тяжелое, твердое, угластое. Ноги подогнулись, он упал лицом в пыль, придавленный холодной и жесткой тяжестью. Но пролежать долго не удалось: его рванули под руки, обрушили на все тело град пинков, тычков, откуда-то появились плети, и моченная в рассолах витая кожа впилась под ребра, принося острую, нестерпимую боль. Шатаясь, ничего не видя вокруг, с залитыми потом и кровью глазами, он привстал и, придерживая одной рукой холодное дерево на хребте, другой тяжело опираясь о колено, сделал шаг вперед, потом еще шаг, еще, еще…
– Живей, живей, голубок, – вился рядышком гугнивый, – не заставляй ждать людей, ну давай, давай же!
– Не хочу! – прохрипел он сдавленным горлом сквозь стиснутые судорогой зубы. – Не хочу!
– Да ты не боись, милай, не боись! Нешто мы варвары какие! – Выпученные глазища желтели перед самым лицом, и казалось, в них появилось даже некоторое сострадание, сочувствие к жертве. – Все будет путем, мы тебе в каждую ладошку по полпинты новокаина закатаим – и не почуешь ничего, голубь, будешь себе болтаться, как в ясельках, на радость людям!
– Распять его!
– На кол! На кол!
– Да не спеши ты…
Сил не было. Но он шел, не веря в происходящее и не видя выхода, понимая, что именно это и только это и есть самая доподлинная реальность, самая материальная и живая. Да кто же они?! Откуда они?! Он напряг силы и присмотрелся. И по краям дороги, и впереди стояли, прыгали, терлись друг о друга и заглядывали вниз, ему в лицо самые обычные люди. Одеты они были кто во что горазд: повсюду мельтешили и туники, и халаты восточные, пестрые и теплые, и серые заурядные, но экзотические в этой средиземноморской глуши ватники и душегреи, распахнутые по случаю особого климата. В землю били, топтали ее нетерпеливо тысячи сандалий, загнутых турецких туфель, то тут, то там, среди множества босых ног, ерзали нетерпеливо сапоги всех покроев и кож, даже валенки и те угадывались в сплошной толчее ног. В воздух взлетали тюбетейки, чепчики, ушанки, гребнистые шлемы и самые обычные шляпы. Отдельной группкой стояло человек двенадцать в костюмчиках, при галстуках, с «дипломатами» в руках. Они были очень выдержанны и лишь сочувственно и с нужным пониманием благожелательно кивали в ответ на возгласы, как бы всемерно одобряя народное мнение, но сами не кричали. Когда они стали ближе, увидели его, то у всех, будто по команде, на лицах появился немой укор, неодобрение. Толпа была разнолика, многообразна и непонятна, до боли непонятна.
– Не сумлевайся, голубок, гвоздочки как в маслице войдут, не почуешь даже. Сам видишь – все для тебя делаем! Ничего не жалеем! – Гугнивый бес прослезился, захлебнулся и вовсе соплями, прочувствованно смолк, прогундосив лишь: – Не подведи-и-и!
Он шел только потому лишь, что видел в нескольких метрах перед собой неестественно напряженные шею и спину тоскливого легионера, как бы слыша его грустный голос: положено, так надо, браток, терпи. И тот впрямь обернулся на ходу, кивнул и впервые за все время надел на голову свой красивый сверкающий шлем.
– Вот и пришли почти. Гляди-ка!
Он приподнял голову, распрямился. Впереди высилась гора, высвеченная ослепительным солнцем, сияющая в его лучах, будто не земное, а некое небесное творение.
– Держи, голубок! – Гугнивый с размаху опустил ему на голову что-то колючее, тяжелое, причинившее жгучую боль. – Вот твоя корона земная! Ты добился своего! Смотри, как тебя привечают облагодетельствованные тобой. Они ждут! Они жаждут, голубок! Иди, искупи их грехи, они достойны этого, они воздадут тебе! Хе-хехе, – гугнивый захлебнулся в мелком, бесовском смехе. Это был его час, его ослепительная минута бытия, ради которой жил. И он торжествовал.
Многопудовый крест сам сполз по хребту, уперся в землю. Стало на мгновение легче, но только на мгновение, потому что сам хребет и без тяжести чувствовал ее, и без груза был пронзен болью. Рука машинально впилась в терновый венец, сорвала его, раздирая в кровь кожу головы, отбросила в сторону.
– Нет! Не хочу! Оставьте меня, оставьте! – Такого отчаяния и злости еще никогда не было в нем. – Почему я должен умирать за вас за всех, искупать ваши грехи, нет! Не хочу!!!
Гугнивый не гнал его, не подстегивал, не взваливал креста на плечи. Он стоял рядом на полусогнутых, кривеньких ножках с открытым щербатым ртом, и в глазах его был дикий, неописуемый восторг, казалось, вот-вот и он завизжит, как хряк в миг оргазма. Смотреть на него было тошно.
– Не-ет! – Он заорал во всю глотку, на всю вселенную. И в крике этом было исступленное отчаяние, он не хотел умирать ни за кого, ни даже за самого себя, а уж тем более ради этой беснующейся, осатаневшей толпы. – Не-е-ет!
Тоскливый легионер стоял совсем рядом. И грусти в его глазах было еще больше, и скорби тоже – еще больше, чем прежде. Щеки его были мокры. И он не утирал их. Но он – молчал, ничего не говорил, он только смотрел, мелко моргая своими красными голыми веками.
– Не-е-ет! Никогда! Не хочу!!!
Сияющая вершина горы как-то неожиданно погасла, превратилась в обычную макушку холма. Небо заволокло сначала серым, потом черным. Вдалеке ослепительно ярко вспыхнула молния, громыхнуло. Гора медленно поползла вниз, засыпая своими обломками, градом камней, песка, пыли толпу, что стояла у ее подножия. Но никто не кричал. Было на удивление тихо – ни звука, ни возгласа, ни шелеста, ни шепота. И так до тех пор, пока совсем не смерклось, пока тьмой не заволокло все окрестности, и самое сознание, отказывавшееся понимать что-либо в этой нелепой и страшной картине, воспалившей воображение и вдруг угаснувшей. Только напоследок мелькнуло что-то похожее на сожаление: а ведь могло быть? Но нет – не было, ничего не было, ничего не произошло, ничего не случилось.
Кругом было темно и пусто.
Выходные данные
Юрий Дмитриевич Петухов.
Чудовище.
Издается в авторской редакции.
Художественный редактор А. С. Чувасов
Технический редакторе С. Казовская
Художники: Дмитрий Цирин и Елена Кисель.
Сдано в набор 09.02.90. Подписано к печати 04.05,90.
Л03063, Формат 84 x 108 1/32, Бумага газетная.
Гарнитура «Тип таймс». Печать высокая.
Усл. печ. л. 20,16. Учи. изд. л. 20.90.
Тираж 70 000 экз. Заказ № 314, Цена 10 р.
«Метагалактика», приложение к журналу «Приключения, фантастика».
111123. Москва, 2-я Владимирская, а/я 40.
Отпечатано с готовых диапозитивов в Московской типографии № 13 ПО «Периодика».
107005, Москва, Денисовский пер., 30.
Примечания
(1) Паворзень – ремешок, которым оружие крепилось к руке.
(2) Бахтерец – пластинчатый доспех.