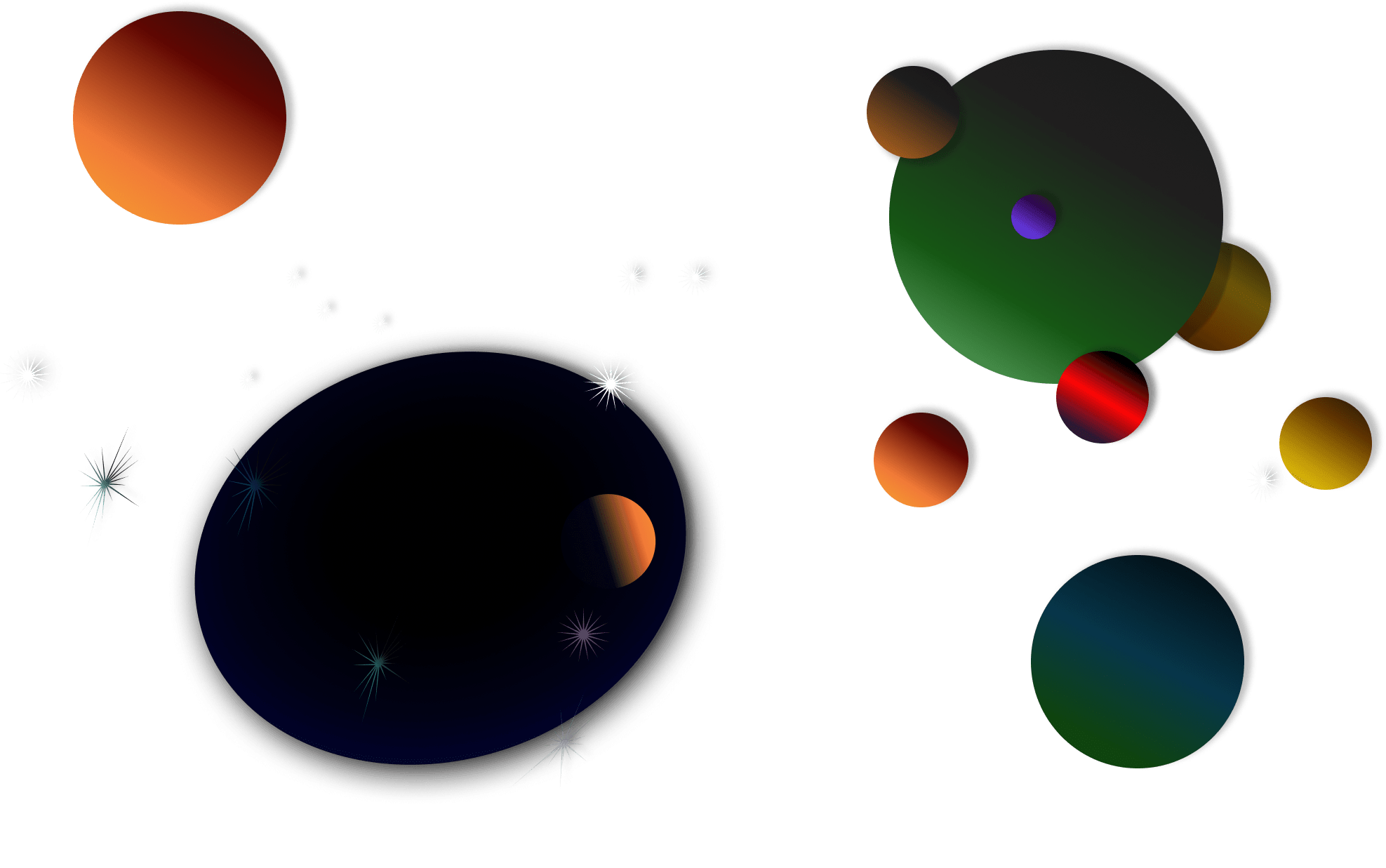Содержание

Юрий Петухов
Измена, или Ты у меня одна
Пролог
Проводы
Он не собирался устраивать шумного застолья, но так уж получилось. Ребята приволокли два ящика водки, рюкзак бормотухи и для приличия – пару бутылочек коньяку, дешевого и неестественно красного.
– Серый, олух, ведь это ж раз в жизни бывает! – заявил ему друг Коля, тряся за плечи. – Нет, ты осознай, балбесина! Себя не уважаешь, хрен с тобой, уважь нас!
Коля горел, его распирало и от дружеских чувств, и от обилия спиртного, а прежде всего от горячечного зуда в преддверии грандиозной попойки.
А Сергею было не до того. Он наотрез отказался справлять не слишком радостное событие у себя дома. Еще чего! Там обстановка была неподходящая. Но друзья уладили и это – сняли на вечерок помещение в ближайшей столовке. Почти задарма – пару пузырей водяры отдали и две красненьких наличными, – за все про все вышло сорок рубликов, по нынешним деньгам вообще ничто: четверть штанины от грошовых индийских штанов или две магнитофонные кассеты.
Бескомпромиссная и непримиримая борьба с пьянством завершилась, и по стране океаном разлилась сивуха: пей до захлеба – не хочу! И потому проблем не было. Водяру брали тут же, в молочном. Бормотень давали в соседнем овощном магазине.
Закуси каждый принес из дому, что мог. Да и в столовке им оставили ушат позавчерашнего салата, непонятно из чего наструганного, плюс к нему – шесть ящиков пива-долгожителя, хранившегося, наверное, еще с доуказных времен. За это пришлось платить особо, по двойной цене.
Но ребята не скупились – и вправду, раз в жизни!
– Все по-людски будет. Серый! Не пожалеешь!
Организатор Коля был доволен.
Кого не понабилось только в крохотной обшарпанный зальчик! Сергей не то что по именам да фамилиям не всех помнил, но и в лицо не каждого признавал. Одно дело, что и незнакомцы приходили не с пустыми руками, а кое-кто и вовсе уже готовыми! Не тесно было и не скучно. Веселись, честной народ!
Любу он не позвал – знал, во что выльются проводы, сам не раз бывал на подобных мероприятиях, только не в качестве главного действующего лица.
Через полчаса после «торжественного открытия» вечера половина гостей была в дымину пьяна.
– Серега! – Один из школьных приятелей влез ногами на стул, поднял стакан с непроницаемой бормотенью. – Серега!!! Служи! Защищай нас! А мы тут остаемся. Серый! В натуре! На самом переднем крае борьбы с этой вот… – Он ткнул указательным пальцем другой руки в поднятый стакан, потерял равновесие и сверзился к всеобщему удовольствию со стула.
Хохот сотряс воздух в прокуренном помещении, задрожали, зазвенели стены. Но оратор встал, оправился и с четвертой попытки вновь влез на стул.
– Все до единого помрем! – Он всхлипнул трагически. – В борьбе за святое дело поголовного уничтожения зеленых змиев! Не-е, ты понял, Серега-а-а?!
На этот раз его скинули насильственным образом, а точнее, стянули за полу пиджака. Больше оратор не поднимался. Но никто не сожалел об этом – здесь собрались те, кто не любил длинных тостов. Наливали и пили, пили и снова наливали – а вспоминали о виновнике торжества или нет, кому какое дело. Удалая шла гульба!
Сергей сидел совершенно трезвый. Не лезла в него в этот день сивуха – ни прозрачная, ни подкрашенная. Так, пригубил немного коньячку, да и то чуть не выворотило наизнанку, не принимал сегодня организм отравы, ну ни в какую не принимал! И потому ему было странно смотреть на все происходившее, на эти у кого побагровевшие, а у кого позеленевшие рожи, на глуповато поблескивающие глаза, на всю эту сутолоку и бестолковость. Ох, тяжко в пиру трезвым-то, тяжко! Но и не уйдешь, коли все за-ради тебя устроено.
Мишка Квасцов, сидевший по левую руку, тискал какую-то девицу, примостившуюся у него на коленях. Всю помаду с губ слизал. Но девица томно поглядывала почему-то на Сергея, все ловила его взгляд. Она была явно глупа и в трезвом виде, а сейчас выглядела и вовсе дурочкой. Сергей старался не встречаться с ней глазами.
Справа Коля пожирал невесть из чего сотворенный салат-винегрет прямо из ушата. Он был настолько увлечен своим занятием, что забывал наполнять стакан. Соседи рвали у него из рук ушат, им тоже хотелось. Коля держал пластиковое корытце мертвой хваткой. Но при этом успевал после каждой проглоченной порции высасывать полбутылки пива. Груда пустой сосуды перекатывалась, позвякивала у него под ногами. Со стороны Коли несло кислятиной. Кончилось все тем, что на Колю напала жуткая и непреодолимая икота. Тут-то он и спасовал, корытце с остатками травянистого месива у него отвоевали.
– Серега! Скажи слово! – выкрикнул некто малознакомый с другого конца сдвинутых столиков.
– Ага! Пускай скажет! Давай, Серый! – посыпалось отовсюду.
Пришлось встать. Наполнить до краев стакан красноватым псевдоконьяком якобы грузинского производства и подмосковного розлива. И произнести короткую речь.
– Я еще вернусь, ребята! – закончил он.
Все дружно приложились к самым разнообразным сосудам, сосудикам, посудинкам, но в основном к граненым стаканам. И одновременно врубили магнитофон.
И-эх! Одесса – жемчужина у моря!
И-эх! Одесса!!
Немногих девиц подхватили, вынесли на свободное пространство и принялись уже совершенно беззастенчиво обжимать и лапать в темпераментном и диковатом танце. Девицы повизгивали, похохатывали и были явно довольны. Нет, невмоготу было на все это смотреть сухими глазами. Сергей налил себе стакан водки и медленно, по глоточку выпил его. Немного прихватило, начало пробирать. Он сразу же повеселел.
– Получай, сучара! На тебе, на тебе!
В углу за его спиной втихаря били все еще икающего Колю. Сергей развел драчунов. Ему сегодня подчинялись, он был на особом положении. Коля, освободившись, принялся заливать икоту кислым пивцом, и его совсем разобрало, а потом и вывернуло наизнанку. Теперь сидеть в этом углу было невозможно. Но Сергей не осуждал Колю, знал, что тот прикладывался с самого утра, понемногу, немудрено было и сломаться.
Закончилось все диким и жутким мордобоем, в котором непонятно было, кто и кого бил. Но кулаки находили рожи, а рожи напрашивались на кулак. Побоище закончилось погромом, битьем посуды, переворачиванием столов… Но, разумеется, ни одна хотя бы и немного наполненная бутылка в этой битве не пострадала. Утихомирившись и утерев сопли да кровь, допили оставшееся, прихватили обмякший рюкзачок с собой и шумной гурьбой, сокрушая на своем пути все, что попадалось, не давая проходу прохожим, отправились по улицам и площадям – провожать…
Кого, куда?! Оставалось непонятным. Но провожали, пели, горлопанили, задирались, падали, шли шатаясь и цепляясь друг за друга толпой, стадом, оравой – одуревшей и по-пьяному бесшабашной.
А Сергей сидел в разгромленной столовке. Ждал Любу. Она обещала прийти под утро, к концу торжеств. Рядом с ним присоседился какой-то забулдыжного вида мужичонка, неизвестно как втершийся в кампанию да и обезножевший от обильной дармовой поиловки. Он смотрел на Сергея мутными и слезливыми, умильными глазками.
– Чего празднуем-то, никак не пойму?
Сергей отвернулся.
Но мужичонка был приставучий. Пришлось ответить.
– Провожают в армию, понял или нет?
– Чего ж непонятного тут!
Забулдыга сцедил из десятка бутылок почти полный стакан полупрозрачной от водки бормотени, вылакал его с прихлебом, скосоротился, поскреб ладонью в корытце и сунул в рот пучок зелени.
– Майский, стало быть? – вопросил он задумчиво.
– Чего – майский? – Сергей нервничал.
– Набор, говорю, майский, стало быть? Весенний?
– Угу, я и сам майский, – уточнил Сергей.
Мужичонка покряхтел, посупился, пошмыгал трубно носом и выдавил многозначительно, но совсем трезво:
– Родился в мае, значит, парень, всю жизнь тебе маяться!
Глава первая
«Зеленее травы»
Так выкладываться, как в этот бесконечный, суматошный день, ему еще не доводилось ни разу в жизни. Даже тогда, когда он занимался одновременно в секциях плавания и борьбы, когда приходилось, толком не отдышавшись и не усмирив дрожи в разгоряченных мышцах, бежать с одной тренировки на другую. Нет, там было легче. И проще. Там он знал, что может остановиться в любую минуту, в любую секунду расслабиться, передохнуть или, в конце концов, сославшись на недомогание, вообще уйти – неважно куда: домой, в кино, бродить по улицам, глазея на витрины и прохожих, да в тысячу самых различных мест! Здесь деваться было некуда. Сказывалось, наверное, и нервное напряжение – с непривычки, от бесконечной смены новых впечатлений, от резких, будоражащих душу команд, окриков, коротких и раздраженных перепалок с малознакомыми, по существу, ребятами, такими же внутренне взъерошенными и настороженными. Стоило лишь на мгновение остановиться, и накатывала непомерная, свинцовая усталость, сами собою слипались веки и повисали руки… И все же он нашел в себе силы и в краткий миг передышки уже перед самым отбоем примостился у тумбочки и на половинке тетрадного листа в клеточку вывел непослушными, негнущимися пальцами: «Люба, милая, любимая! Вот и прошел один день. Утром ты провожала меня, знаю точно, что сегодня утром! А кажется, будто год прошел, нет два, три года, целая вечность, все понятия о времени перепутались в моей голове, и лишь теперь я начинаю понимать, что это такое – теория относительности, это как в космосе: кто мчится на световых скоростях, теряет дни, недели, а для оставшихся проходят века и тысячелетия. Только с нами все наоборот: там у вас – минуты и часы, здесь – года, впрессованные в мгновенья. Может, это лишь поначалу так, а? Не знаю, ничего не знаю и не понимаю пока. Один день вечность! Так сколько же этих вечностей нам придется прожить…»
– Носок! Носок тянуть!
В легкой, но уверенной походке сержанта ощущалась вальяжность и даже некоторая снисходительность к стоящим перед ним «салажатам». Он слегка щурил глаза, переводя взгляд с одного новобранца на другого, и краешки губ на обветренном и загорелом уже в мае лице чуть подергивались так, будто сержант вот-вот улыбнется, а то и вовсе расхохочется. Но он не улыбался. Да и вообще упрекнуть его в чем-либо было невозможно: четкий неспешный шаг, прямая подтянутая фигура, ладно сидящая форма, серьезное лицо говорили сами за себя – сержант работал. Работал на совесть, и ему было так же нелегко, как и стоящим на плацу под пекущим солнцем молодым, только-только призванным солдатам. Даже не солдатам еще, а так, карантинникам.
– Рядовой Ребров, выше ногу.
Сержант ткнул кончиком сапога в подошву стоящего перед ним, и тот качнулся, раскинул в стороны руки, стараясь удержать равновесие.
– Стоять!
Казалось, стоять так стоять, чего проще: левая нога вытянута вперед, правая рука согнута в локте – кулак у блестящей пуговицы гимнастерки, левая рука – наотмашь назад. Просто, да непривычно. А вдобавок носок тянуть надо, да следить, чтобы вытянутая нога не гнулась в колене, да чтоб спина не прогибалась и чтоб не качало… Морока!
Капля пота выкатилась из-под пилотки с остриженного взмокшего лба, повисев немного над левой бровью, спрыгнула вниз, на ресницу, на ней и застряла. Моргнуть Сергей не смел – сержант смотрел на него в упор, прямо в глаза. И лоб у сержанта был абсолютно сух.
– Так, хорошо. Бодрости, бодрости больше!
Сержант хмурился, супил выгоревшие брови, но в глазах его не было ни злости, ни даже сердитости. Глаза как глаза – ясные, голубые, отражающие весь плац, а заодно и стоящего в журавлиной позе Реброва.
Капля наконец сорвалась с ресницы и темным пятнышком застыла на новехонькой хлопчатобумажной гимнастерке, прямо над сжатым кулаком. Сергей скосил на пятно глаз, и тут же из-под пилотки выкатилась вторая капля… «Неужели не узнает? – свербило в его мозгу. – Второй день ведь, и ни слова!» Сержант удовлетворенно хмыкнул себе под нос и отошел. Теперь он так же придирчиво всматривался в стоящего справа от Сергея лопоухого парня, нескладного, мешковатого, покрасневшего от натуги. Парень под сержантским взглядом чувствовал себя явно не в своей тарелке и краснел еще гуще, мучительнее.
– Дела-ай… – Сержант выдержал паузу и зычно рявкнул: – Д-два!
Дробное эхо прокатилось по плацу, подошвы впечатались в его бетонные плиты – строй сменил ногу. И смена эта отозвалась гулким выдохом облегчения.
«Ну хорошо, полтора года, ну и что? – Сергей мучился от наплыва тягостных мыслей сильнее, чем от изнурительной и надоевшей позы. – Что это, сто лет, что ли! Ведь не мог забыть, ведь я-то его помню, как не помнить? Пускай изменился, пусть форма эта, привычки новые и все прочее, но мозги-то ведь не отшибло, поди!» Пот уже заливал лицо. Струйки его стекали по вискам к подбородку, одна капелька повисла на носу, и, как Сергей его ни морщил, как ни раздувал ноздри, стряхнуть ее не удавалось.
Солнце пекло в затылок, его лучи сушили гимнастерку на спине, даже хотелось передернуть лопатками, чтобы отогнать их как назойливых мух. Так ведь дергай не дергай, а не отгонишь. И солнце как лампочку не выключишь! Было до того неуютно и тоскливо, что временами казалось: вот сейчас кто-то посторонний, но всесильный добродушно-веселым голосом из-за спины пропоет тихонечко: «Ну, ребятушки, дорогие, соколики ненаглядные, поиграли немного, и хорош! Мотайте домой живенько, небось, мамки вас заждались там!» Но голоса такого не раздавалось почему-то, и все происходящее было далеко не игрой – реальностью. Неприятной, гнетущей, но все же реальностью.
Все, что было дорого, любимо и привычно, оставалось где-то за бортом: и Люба, и друзья-приятели, и родные, и надежды с мечтами, даже неосуществившиеся попытки поступить в институт или продлить отсрочку, – все, все было за бортом, в какой-то совсем другой жизни. А на смену дорогому и любимому пришли плац, палящее солнце, пыльный, не приносящий прохлады ветер, незнакомые парни, жмущие сапоги и натирающий шею ворот гимнастерки… и сержант Коля Новиков, упорно не желающий узнавать Сергея.
Сейчас сержант был далеко, на левом фланге, но казалось, что и оттуда он следил за каждым застывшим в разомкнутой шеренге солдатом. И от этого пристального внимания становилось совсем не по себе.
Солнце забралось высоко – тени стоящих напоминали уродливых карликов с короткими ногами и непомерно большими головами. Карлики карикатурно повторяли движения своих хозяев, смотреть на них было и смешно, и противно. Сергей не смотрел, да и вообще ему было не до смеха.
Наконец сержант дал команду шеренгам сомкнуться и, когда все во взводе застыли плечом к плечу, более или менее напоминая воинский строй, произнес негромко:
– Вольно! – и глубоко вздохнул, будто ему предстояло сказать нелегкую правду. – Ничего, ничего не первый раз, – вяло начал он, поглядывая поверх голов, но с каждым новым словом ужесточая тон, – но, доложу я вам, дорогие товарищи курсанты, одной ногой вы пока еще на гражданке стоите, не вышли еще из вас с потом домашние пирожки и пышки, ватрушки и крендебобели. Зелены еще, ох зелены! И намучаюсь же я с вами – прям мурашки по телу уже сейчас бегают! И откуда вас понабирали на мою голову? За что наказание такое?! Ведь вы ж мне последние полгода дожить не дадите. Ведь угробите ж! Ой, зеленые, ну и подобрали зелень! – Сержант говорил жестко но ощущалась в его голосе вовсе не злость и не издевка – нечто мягкое, успокаивающее, как бы говорящее: пора привыкать, ребятки. Он впервые, пожалуй, слегка раздвинул губы в улыбке, но не стал от этого менее начальственным, внушающим уважение и даже легкий трепет. – Да вас по вашей зелени прям хоть в траву клади – не отличишь, где вы, где трава, это ж и маскировки не надо! – Говоря все это, он прохаживался вдоль строя, присматривался, то поправляя ремень кому-то, указывая на скособочившуюся пилотку или еще что. Остановившись совсем рядом с Сергеем, возле лопоухого и краснощекого парня, сержант вздохнул совсем тягостно и, переводя взгляд с одного на другого, добавил печально и тихо: – Да еще и позеленее травы будете, та хоть под солнышком немного дошла, точно, зеленее!
Будто окончательно утвердившись в своих подозрениях насчет новобранцев, он покачал головой и отошел подальше от стоящих, оценивая всех их вкупе.
Сергей глядел в пространство, стараясь не встречаться глазами со своим теперешним командиром. Ноги у него ныли, в спине что-то покалывало.
– Взвод, слушай мою команду!
Сержант отдернул рукав и уже в который раз посмотрел на часы, потом задрал голову к солнцу и, видимо, убедившись, что ни часы, ни солнце не врут, скомандовал:
– Нале-е-ево! Правое плечо, шагом… арш!
Занятия по строевой подготовке окончились. На сегодня, по крайней мере. Сергей шел, уставившись в затылок лопоухого паренька, и думал лишь об одном – как бы не сбиться с ноги.
– Раз! Раз! Раз, два, левой! Раз…
Перед казармой, после чистки сапог и очередного тщательного осмотра, их распустили. До обеда оставалось минут десять. Ничего лучшего, кроме того как провести их в курилке под старым, разросшимся кленом, Сергей, придумать не смог. Он мечтал сейчас лишь об одном, чтоб его оставили в покое хоть ненадолго, дали бы собраться с мыслями, расслабиться, передохнуть. Но, как назло, время, такое тягучее и нескончаемое на плацу, в минуты отдыха летело, будто сорвавшееся с цепи после длительного и вынужденного застоя.
В курилке кроме Реброва было еще двое парней из второго взвода. Сидели они обособившись, трепались о своем, не обращая внимания на соседа, лишь дым сносило ветерком, да так, словно смолила целая рота.
Сержант появился незаметно, бесшумно. Сергей даже слегка вздрогнул, когда перед ним возникла фигура в выцветшей, почти белой гимнастерке, фигура, будто сконденсировавшаяся из знойного и тягучего воздуха вездесущим призраком. Призрак этот имел вполне реальные очертания, был весом и зрим.
– Ну, Серега, привет, что ли?! – сказал сержант.
Но руки Реброву не протянул.
Когда все это было? И было ли вообще? Может, вся предыдущая жизнь – лишь прелюдией прозвучала или просто пригрезилась в коротком сне перед самым подъемом, в те считанные минуты, когда душераздирающий крик дневального еще не вырвался из его горла, но уже вот-вот готов вырваться? А почему бы и нет, ведь сны, как говорят сведущие люди, за доли секунды могут прокручивать в головах спящих целые жизни? Да, давно это было.
Ребров познакомился с Любой у нее в институте, на предновогоднем вечере. Он попал туда благодаря своему приятелю. Мишке Квасцову, студенту, лодырю и повесе, человеку крайне уверенному в себе и до подозрительности не уверенному в окружающих. Всех таковых Мишка не слишком-то уважал, и по большей части из-за того, что подозревал в недостаточном к его собственной персоне внимании и любви. Причем Сергей не был исключением. Но с кем-то надо было поддерживать дружеские отношения.
Вот Мишка их и поддерживал. Был он невысок и плотен, но какой-то сыроватой плотностью, словно из теста слепленный. Темные редкие волосы слегка вились, падая прядышками на лоб и уши, но не прикрывая последних, а лишь топорщась над ними. Широкое, плоское лицо ничем примечательным не отличалось, пожалуй, лишь два зеленовато-карих глаза, живых и подвижных, придавали лицу какое-то особое, настороженное выражение. Короче, был Мишка Квасцов самой заурядной личностью, каких на белом свете пруд пруди.
Перед тем как заявиться на вечер в институт, они основательно посидели в соседнем баре, задрипанном и совершенно не пользующемся популярностью у местной молодежи. Бар этот, когда-то бывший молодежным кафе, захирел постепенно и превратился в обычную распивочную точку, пристанище ханыг-алкашей и редких залетных прохожих, уже разгоряченных и желающих добавить. Но он был рядышком с институтом, и потому особого выбора приятелям делать не приходилось, да и, что там скрывать, ни Мишка Квасцов, ни сам Серега брезгливы не были, как не были и избалованы в отличие от некоторых своих сверстников распивочными, проходившими по интуристовскому ведомству.
Идти «на сухую» в институт им не хотелось – настроение было не ахти какое, тем более что в этот непродолжительный период своей послешкольной жизни бывших подружек порастеряли и теперь пребывали в одиночестве.
Для пущей коммуникабельности не хватало как раз двух-трех коктейлей, которые им и приготовил с видом огромного одолжения забулдыга-бармен, уже осоловелый, с набрякшим лицом самодовольного и пыжащегося перед окружающими неудачника.
Но Мишке с Сергеем было наплевать на такие мелочи.
Они принимали жизнь такой, какая она есть.
В предыдущий вечер Сергей с Мишкой бесцельно болтались по центру, искали развлечений. Но так ничего особого и не нашли. Популярные злачные места были забиты до отказа, не проскользнешь, а в большинство из них и вовсе не пускали по причине коренного происхождения выдать себя за малайцев или хотя бы финнов им не удавалось никак. Хотя множество шустряков именно таким образом проходили в престижные трактиры и увеселительные заведения для людей особого сорта, обладающих отнюдь не местной пропиской.
Но плевать на все это хотели и Мишка и Сергей. Очень нужно! Во дворике за Моссоветом они раздавили бутылочку красного крепкого, утерлись рукавами, посидели, покурили и уже в приподнятом настроении влились в толпу на Тверской – куда вынесет. Часа полтора их носило и крутило, не прибивая ни к какому берегу. Потом людская волна выбросила их прямо на магазинчик где-то у Солянки, и не магазинчик даже, а тесненькую винную лавчонку. Пришлось взять еще парочку бутылок, на этот раз вермута розового, но тоже крепкого – в девятнадцать градусов.
Не откладывая в долгий ящик важного дела, они пехом протопали две остановки и в «Шашлычной» у Яузских ворот выглушили содержимое бутылок под двойную порцию пельменей и один стакан компоту – бледненького, видно, прямо из-под крана налитого.
Не так часто Мишка с Сергеем встречались. И потому позволили себе в этот день немного расслабиться. В забегаловке было невероятно грязно. Но зато там было спокойно: местные блюстители знали, что персонал забегаловки живет не только с обвеса, но и с посуды, оставляемой посетителями, и потому никого не трогали, им, видно, тоже обламывалось кое-что.
И не стоило бы обо всем этом упоминать, если бы события предыдущего вечера не повлияли на день последующий. Причем самым определенным образом.
Друзья собирались просидеть в «Шашлычной» долго, может и до закрытия, – благо магазины рядом, всегда можно пополнить запасы выпивки. Но не понравились чем-то местным завсегдатаям или, кто знает, просто подвернулись под горячую руку.
Какой-то толстый и обрюзгший лицом малый в латаных варенках и расхлюстанной клеенчатой – под кожу куртенке подсел за их столик. Со своим стаканом подсел.
– Плесните, ребятки! – попросил он плаксиво. – Душа горит.
Мишка оттопырил нижнюю губу и сказал просто, без обиняков:
– Вали на хер отсюда!
Толстяк все понял и свалил. Но через две минуты он подсел снова. И уже не один. Два пропитых и явно уголовных типа приволокли свои стульчики и пристроились по бокам от толстяка. Оба выглядели близнецами: спутанные волосы, черные и сальные, красные глазки, щетина, наколки на руках. У обоих не хватало не меньше трети передних зубов. Короче, те еще ребятки.
– Ну что, суки?! – прямо в лоб спросил тот, что сидел левее.
Сергей сжал в кулаке ножку стула под собой, чтобы в случае надобности тут же его выдернуть и обрушить на визитеров, – ничего более серьезного под руками не было. Мишка полез в карман. Сергей знал, ничего у него там, кроме ключей, нету.
Но толстяк смягчил обстановку.
– Вы нам по стакашку налейте, ребят, и лады! – предложил он вполне миролюбиво.
Его дружки щербато заулыбались, закивали. Первый дополнил:
– По-божески, кореша, ну чего вы в натуре! Угостите инвалидов соцобщежития!
Лучше всего было разойтись спокойно, без потасовки.
И Сергей уже полез во внутренний карман за бутылкой.
Но Мишка все испортил.
– Хрен вам моржовый, а не по стакашку! – сказал он.
И неожиданно сильно и резко толкнул от себя стол.
Противоположным краем столешницы всех троих опрокинуло вместе со стульями назад. Грохот и крик, мат, ругань переполнили забегаловку.
– Валим! – выкрикнул Мишка.
Сергей вскочил на ноги и пару раз двинул ближнему к нему близнецу-блатарю ногой в бок. Мишка отделывал другого вымогателя тем же образом. Но длилось это долю секунды.
– А-а!!! – сиреной завопила с раздачи краснолицая тетка. – Убива-ю-ют!!! Милиция! Бандиты! Эй! На помощь! – И непонятно было, кого же она звала.
Многочисленные посетители с интересом наблюдали за происходящим. Но никто не приподнялся со своего места.
Правда, толстяк успел вскочить и загородил Мишке проход. Но тут же вновь полетел на пол – развоевавшийся Мишка пнул его пяткой в живот, а потом, уже падающему, навесил хорошенько по загривку.
– Фраера! Суки! Порежу! – развопился один из блатарей.
Но было поздно, приятели выскочили из забегаловки. Сергей собирался рвануть прямо по улице, без оглядки.
Но более хитрый Мишка придержал его за локоть.
– Куда, осел?! Сразу накроют!
Они спрятались тут же за «стекляшкой», решили переждать хотя бы минутку, не высовываясь и не привлекая к себе внимания. Только когда два постовых неспешно прошли внутрь заведения, Мишка сказал тихо:
– Ну, теперь пошли! Только, Серый, спокойненько, отдышись, не дергайся!
Они не заметили, как сзади появился один из беззубых блатарей.
– Ну что, суки?! – прошепелявил он, загораживая проход к площади.
Глаза блатаря были безумными, то ли от пьянства, то ли от злобы. Он был весь в мусоре и объедках, так, видно, и не почистился, после того как на него опрокинулся стол.
– Ну, что? – повторил он. – Приехали, фраерочки?!
В руке у блатаря был зажат нож – настоящая финка, какие умеют выделывать лишь специалисты в зонах, тесак тесаком с хищно выгнутым острием.
– Ша! – выпучив глаза, прошипел Мишка. – Менты, кореш, сзади обходят. Шухер!
Блатарь лишь чуть скосил глаза в сторону. Но этого хватило. Сергей со всей силы ударил его ногой в пах так, что заболели пальцы. Мишка ударом в челюсть сбил «кореша» с ног, каблуком вдавив в землю руку, сжимавшую нож. Но нагибаться не стал. Для надежности они слегка попинали его по ребрам ногами. И ушли – потихоньку, стараясь сдерживать шаг, не суетиться. Что там творилось внутри забегаловки – им, по понятным причинам, выяснить не удалось.
На Ульяновской забрели в тихий уютный дворик с качелями. Отдышались. Сергей посокрушался спьяну:
– Зря мы их так, зря!
Мишка был настроен практичнее.
– Ничего, в следующий раз, когда тебя будут бить по левой стороне рожи, подставляй правую – сразу искупишь грешки! – проворчал он. – А вообще кончай. Серый! Ушли-и слава богу! Давай, распечатывай!
Тут же на качелях они допили розовый вермут, отвоеванный-таки у алкашей-блатарей, явно полубессильной и дошедшей до ручки братии, на которую и обижаться-то по их убогости не следовало. Если б только не нож…
– Все! Забыли!..
Мишка встал. Выйдя из-под арки, натолкнулись еще на один магазинчик-клетушку. Взяли алжирского крепкого.
Там же увидали и побитого толстяка – ушел, видно, от милиции, или отпустили. Толстяк скромно потупил набрякшие очи, предпочел не узнать.
Но Мишка ему шепнул на выходе с усмешечкой:
– Еще плеснуть?!
Толстяк вздрогнул и отвернулся.
Бутылку решили не распивать сразу, оставить. Поехали по Мишкиному предложению на «три бана» – в просторечье на трехвокзальную площадь, к Ленинградскому, Ярославскому и Казанскому. Там было проще всего подхватить парочку недорогих, а то и вовсе бесплатных девочек – но поприличнее, не шушеру привокзальную, рублевую и затасканную, а приезжих искательниц приключений и развлечений.
Чтобы не тратить понапрасну времени. Мишка сразу вытащил бутылку, зажал ее в одной руке, другой принялся накручивать на пальце ключом. Объяснений для смышленых девочек не требовалось. Но не каждая шла на ключик как на приманку, многие боялись чужих квартир и предпочитали подъезды, чердаки, стройки, подворотни или, в лучшем случае, собственные комнаты. Только Мишке, так же как и Сергею, надоело в этот день подзаборничать и отирать пыль на лавках. И потому Квасцов – не особо щедрый в трезвости, но купечески разгульный в подпитии решил привести компанию, если она состоится, к себе.
Состоялась!
– Стаканчик к бутылочке не нужен? – спросила девочка в черненькой шапочке, похожая на школьницу-активистку, но явно не малолетка – малолеток Мишка сторонился, закон есть закон.
– Вот именно стаканчика нам и не хватало! – умильно прошептал он. – А еще лучше, парочку!
Сергею девица не понравилась, но он тоже улыбался, пялил глаза. Второй «стаканчик» по мановению первого неспешно, покачивая бедрами, подрулил к стоявшим от газетного стенда.
– Отличненько! – заявил Мишка сиропным голосом и прихватил появившуюся блондиночку в мохеровом платочке за талию.
Та рассмеялась, кокетливо попыталась высвободиться – ну и, конечно, не получилось. На долю Сергея осталась «активисточка» с черными живенькими глазками, сочетающимися с ее шапочкой.
Разговора о деньгах не было, и Сергей отчетливо понял, что они имеют дело не с профессионалками, а с такими же искательницами приключений. Оно и к лучшему было – во времена-то сексуальной революции, совпавшей с эпохой СПИДа! Впрочем, о всех страстях после розовых и красных крепленых просто-напросто забывалось. Ну их, страсти-мордасти эти! Чай, не в Африке живем, где каждый первый сифилитик, а каждый второй – спидонос, и не в Индии даже, где проказа за насморк почитается! Так думалось не только Сергею, но и Мишке.
О чем думали девицы – вообще неизвестно, если и думали о чем-то, так это должно было проясниться позже.
Пришлось заехать по дороге в магазин и взять еще пару бутылок – на этот раз ничего, кроме кагора, не было. Но Мишка клялся, что у него в конуренке припрятана бутылочка пятизвездного коньяку. Ему не слишком-то верили. Но девицы были уже навеселе – так что должно всем хватить, ну, а не хватит, так и к таксистам недолго сбегать деньжата пока имелись.
– Посидеть бы для начала в ресторанчике, потанцевать! Или в баре?! – предложила блондиночка, которую звали Вика. Явно напрашивалась на дорогие развлечения.
Но Мишка сразу пресек эти притязания.
– Лапушки, щас не пробьешься, опоздали! – прошептал он на ушко. Но так прошептал, что вопросы отпали сами собой.
А Сергею подмигнул: ишь, мол, хитрюги, «мотористки»! Знаем эту породу – попить, поесть, погулять, за счет фраеров-лопухов, да и отчалить?! Не-е, так не пройдет, девочки! И те, видно, поняли это. Сразу спало еще присутствовавшее поначалу напряжение.
В троллейбусе Мишка посадил блондиночку на колени, запустил ей под курточку руку, выражая всем своим лицом неподдельный восторг от испытываемых ощущений.
Блондиночка таяла, млела, закатывала глазки и все время подставляла ушко под Мишкины губы. Тот ей шептал что-то приятное. Сергей не слышал. «Активисточка» черноглазая прижималась к нему, смотрела снизу вверх огромными глазищами. Чего-то ждала. Звали ее Светой. А может, и совсем иначе, ведь никто ни у кого паспортов не спрашивал – была нужда!
Сергей пытался себя распалить, дважды обнимал Свету за плечи, поглаживал по спине, пробовал шутить, рассказывать анекдоты… Но что-то не удавалось растормошиться.
Лишь когда они ввалились в Мишкину «конуренку», а по сути, вполне приличную и вместительную однокомнатную квартиру, и когда Света сняла свое пальтишко, он начал оживать. И еще бы – под пальтишком оказались такие формы – грудь, бедра, талия – все скульптурное, точеное, наполненное и притягивающее, что он закатил глаза и показал Мишке поднятый большой палец. Но тот не заметил, был увлечен Викой, бесстыдно поправляющей чуть приспустившиеся колготки, – жесты были явно рассчитанные, манерные, но это не меняло дела.
Через минуту они сидели за столом. Мишка не обманул насчет коньяка ~ запыленная порядком бутыль была выставлена в центре, посреди самого простецкого угощения – грубо нарезанного черного хлеба, капусты, двух неумело распотрошенных когда-то и уже подсохших селедок и трех или четырех сморщенных яблок. Зато аппаратура у Мишки была классная, японская, от папаши. И потому мягкая, обвораживающая музыка лилась, казалось, из самих стен.
– Ништяк! – выдохнула Вика из пухлых губок. – Мне тут нравится.
– То ли еще будет! – заверил Мишка и разлил для начала бутылку кагора.
Зелье оказалось не таким уж и плохим – в головы шибануло здорово. Видно, настаивали кагор не на монастырских травках, а как меньшее, на табаке или курином помете, да и потом щедро разводили на спирту. Сергей начинал косеть не на шутку, в глазах поплыло. Но усилием воли он вернулся в сознательное состояние. Привалился к Светочке, охватил ее пониже талии рукой, губами прильнул к шее – стало тепло и сладостно. Она положила ему руку на плечо, легонько поглаживала.
– Уф! Жарища! – пробасил Мишка и стянул через голову свитер.
В комнате и на самом деле было жарко, топили так, будто за окном Оймякон или Якутск, по меньшей мере.
Но форточка в этой квартире открывалась лишь в знойные летние денечки – Мишка смертельно боялся сквозняков, по этой части у него просто заскок был какой-то.
Сергей расстегнул ворот рубахи на две пуговицы. Нашептывания певца становились все интимнее, мелодия вкрадчивей.
Мишка снова оторвался от раскрасневшейся блондиночки.
– Не-е, не могу! – заявил он. – Если дамы не возражают. – Последовали взгляды в стороны «дам», и плотоядная улыбка свела его губы. – Если дамы не возражают, я разоблачусь немного.
Мишка стянул через голову рубаху и остался по пояс голый, немного грузноватый, но в меру, с сохранившимся еще с лета загарчиком.
– Представим, что мы на пляже в Сочах! – протянул он певуче и вновь приник к Вике. – Палит ласковое южное солнце, аромат магнолий щекочет ноздри, плещутся волны, набегают на желтый горячий песок.
Вика, расслабленная и безвольная, вдруг резко отшатнулась, вскочила на ноги. Глаза ее были туманны.
– Я тоже хочу в Сочи! – провозгласила она немного капризно, притопнув каблучком и свысока поглядела на улыбающегося Мишку. – Под магнолии, на песочек! Хочу-у!
Она расстегнула «молнию» на зелененькой бархатистой кофточке, аккуратно сняла ее и не менее аккуратно повесила на стул, стоявший у стены. Потом вернулась к Мишке.
Совсем узенький и полупрозрачный бюстгальтер почти не скрывал ее высоких и полных грудей.
Вика прислонилась к Мишке спиной, и он, простонав нечто неопределенное, изловчился и через плечо опустил ей руку на грудь, еле касаясь кожи и чуть перебирая длинными ухоженными пальцами.
– Солнышко припекает, – еле слышно пролепетала Вика и прикрыла глаза.
Света поглядела на Сергея. Но он, ощутил вдруг непонятно почему какую-то искусственность, надуманность ситуации, не стал следовать Мишкиному примеру, а прошептал ей на ухо.
– Потанцуем?
Света сразу же встала, протянула к нему руки. Они перебрались на свободное место, прильнули друг к другу. В этот миг из-за спины послышался томный громкий стон-подвыванье. Но это был уже не Мишка, это вытягивала рулады Вика.
Невнятный и нечленораздельный стон послужил будто сигналом для Светы. Она резко отстранилась от Сергея, отпихнула его обеими руками. Глаза сверкнули зло, она сразу перестала напоминать школьную комсомольскую активисточку и стала похожей на разгневанную, но ждущую чего-то женщину.
– И я хочу на пляж! – почти выкрикнула, с вызовом, упрямо.
Сергей пожал плечами и улыбнулся. Он заметил, что пальцы у нее подрагивают и лицо становится каким-то нервным, беспокойным.
– Ну так… – пробубнил он, глядя ей в глаза.
И этого оказалось достаточно. С каким-то непонятным вздохом облегчения Света дрожащими руками стянула с себя свитерок и небрежно бросила его на диван. Сергея снова повело – под свитером не было ничего, совсем ничего, кроме чистого белого женского тела: над плоским животом, переходящим в узкую и гибкую талию, чуть покачивались от резкого движения два неожиданно больших полушария грудей с темными влекущими сосками… Но она не дала ему времени рассматривать себя, снова привлекла, прижала. Они закачались в ритмах нехитрой и чарующей мелодии.
От прикосновения нежного и упругого женского тела Сергей на какое-то мгновение протрезвел. Он почувствовал, как она впилась ему пальцами в плечи – с силой, страстно и уверенно, будто требуя от него чего-то.
Но в это время Мишка крикнул от стола:
– Бокалы полны, товарищи отдыхающие! Просьба отольнуть от дам и прильнуть к ним.
Сергей почти на руках поднес ее к столу. Усадил себе на колени. Она по-прежнему вжималась в него, словно стыдясь наготы, не желая поворачиваться к Мишке, к Вике.
А Вика распустила свои белокурые волосы и стала похожа на русалку, только что вышедшую из реки или омута, не хватало лишь чешуйчатого хвоста.
– Вздрогнули! – произнес тост Мишка и проглотил смесь коньяка и кагора. Крякнул, закусил яблоком.
Света с Викой выпили по полстакана, не церемонясь, без упрашиваний. Сергей плыл, его будто по волнам несло.
Он потянулся было к стакану, наполненному до краев. Но Мишка вдруг, заглянув в глаза, сказал глухо:
– Может, пропустишь?! Нет? Ну смотри, чего-то ты кислый какой-то!
Света, чуть отпрянув и не обращая внимания на разговоры, расстегивала рубаху на Сергее.
– И мы хряпнем! – сказал он.
И выпил. До дна. До последней капельки вытянул, пролив лишь с наперсточек ей на спину. Света вздрогнула, но тут же прижалась плотнее – она наконец-то стянула с Сергея рубаху.
– Ну, тогда и мы повторим! – Мишка снова разлил всем. Всем, кроме Сергея. Тот мотнул головой.
Вика первой выпила. Поморщилась. Но тут же рассмеялась.
– А теперь я хочу в море! – проговорила она, сюсюкая, как маленькая девочка. – Хочу в воду!
– Вперед, лапка! – приободрил Мишка и слегка отпихнул ее от себя.
– В море-е! Все в море! Купаться! – объявила Вика и полезла на стол.
Она раскачивалась в ритме музыки из стороны в сторону. И никак не могла справиться с молнией на юбке, при этом грудь, с которой уже давно сполз бюстгальтер-полоска, она шаловливо и кокетливо прикрывала другой рукой.
– Стриптиз! Номер люкс! – громогласно проговорил Мишка, встал и поклонился так, будто он сам раздевался на виду у всех.
– Нет! В море! – вновь притопнула ножкой Вика. – В ласковые волны! Все! Купаться!
У Сергея пересохло в горле. И он в два глотка осушил стакан, в котором было налито для Светы. Она и не заметила этого, вывернув шею и продолжая тереться об него грудью, она наблюдала за Викой, губы подрагивали, тянулись куда-то.
– Опа!
Вика наконец справилась с «молнией», через голову сняла юбку и принялась накручивать ею вверху, сжимая краешек в вытянутой руке. Почти в такт этому вращению вращались и ее полные бедра, обтянутые полупрозрачной и ничего не скрывающей тканью колготок.
– В море! – еще громче выкрикнула она и спрыгнула со стола. Тут же уселась Мишке на колени.
– Море принимает купальщицу! – доложился Мишка и чмокнул ее в щеку. – Ну, поехали!
Он вытянул свой стакан. Потом поднес другой стакан к губам Вики, она выпила из его рук, потом слизала капельки вина с пальцев.
Сергей плеснул себе коньяку, выпил. Он уже не понимал, что делает. Ему вдруг стало плохо. До того плохо, что он спихнул Свету с коленей и побрел, придерживаясь за стены, в ванную – думал, сейчас начнет рвать. Но нет, его не рвало, лишь мутило – очень сильно. В голове все смешалось, перепуталось. Но он еще понимал, что происходит вокруг. И потому расслышал Мишкины слова, обращенные к уже натянувшей на себя свитерок Свете.
– Прогуляй дружка, лапа, прошу тебя! Через десять минут он будет огурчиком, точно говорю. Ну давай, давай! А мы с девочкой Викой, ягодкой, – он зачмокал ее в ухо, пока передохнем немножечко на диванчике, лады?! Потом в мы продляемся! Ну, вот и славненько!
Мишка вдруг прильнул к Свете а долго, взасос целовал ее, потом выпустил, подтолкнул к Сергею.
– Ну-у, вперед!
Это было последнее, что помнил Сергей.
Правда, он очень смутно ощущал какое-то время Свету рядом с собой. Они сидели на заснеженной лавочке, потом пытались идти куда-то, он падал, она его поднимала, и снова, и снова… Потом вообще образовался черный провал, в котором не было никого, ни Мишки, ни Вики ни Светки, ни даже улиц и домов.
Прочухался Сергей к утру. Еще не рассвело. Но знал каким-то образом – вот-вот должно рассвести. Ничего не было. И вдруг все появилось вновь! Он стоял посреди двора – того самого, Мишкиного. Шапка была не на голове, она торчала из кармана. И, пришлось ее вынимать, расправлять, натягивать на обледеневшие и оттого мокроватые волосы. Было страшно холодно, его просто трясло самой крупной дрожью, какая только бывает. Да и вообще он был весь в снегу, тело болело, ноги ныли. «Бросили! – молнией мелькнуло в мозгу. – Сволочи!» Ведь он же мог подохнуть здесь, в любом из этих сугробов! «Вот ведь сволочи!» Теперь Сергея трясло не только от холода, но и от злости.
Кое-как совладав с собою, нетвердой подходкой он направился к Мишкиному подъезду.
Дверь в квартиру оказалась незапертой. «Видно, не слабо и Мишаня поднабрался!» – подумалось на ходу. Он пнул дверь ногой. Потом прошел в комнату. Ничего не видя, нашарил на столе бутылку, выпил остатки прямо из горлышка. И только тогда включил торшер. Слабенький зеленоватый свет залил комнату.
То, что увидал Сергей, не прибавило ему спокойствия. На широкой, раздвинутой тахте лежал Мишка. Лицом вверх. И даже не лицом, а рожей – именно так можно было назвать одутловатую физиономию, помятую и перемазанную помадой. Он был по пояс под одеялом. Слева от него обвивая руками шею спящего, лежала голенькая и беззащитная в своей наготе Вика – сейчас она напоминала размякшую сдобную булочку – сладенькую, но очень привлекательную. Она вздрагивала во сне, подергивала посиневшей ножкой. На каждое такое подергивание Мишка хмурился, морщился, но не просыпался.
Но не это взбесило Сергея, вовсе нет! Справа от Мишки, а точнее, наполовину на нем, на его груди, примостилась столь же откровенно и бесстыдно Светочка – и во сне жаркая, волнующая, вся словно состоящая из живых перекатывающихся шаров. Она спала, но и в этом состоянии продолжала впиваться губами в Мишкино плечо. Черные волосы были растрепаны.
«Ну сволочи!» Сергея чуть не перевернуло. Он там, можно сказать, околевал во дворе! Его бросили! И никто не вспомнил! А они тут!
Сергей вцепился рукой в эти черные, спутанные, но густые, будто конская грива, волосы, дернул, сильно дернул, зло. Она слетела с тахты, не успев толком проснуться. И тут же завизжала, заголосила, прикрываясь руками.
Проснувшийся Мишка выразительно, сразу сообразив, что к чему, показал ей кулак. Визг смолк. Вика сидела, ничего не соображая, – голая, с глупым ненакрашенным лицом. И вся эта картина своей экспрессией, напряженностью вполне заслуживала, чтобы ее увековечил живописец, по крайней мере, фотограф.
Сборы были недолгими. В три минуты девицы и оделись, и привели себя в порядок. Мишка, знавший, что сейчас приятеля лучше не трогать, не задерживал их. На Сергея было страшно смотреть.
– Привет, шизоиды! – попрощалась Вика и утянула-таки со стола сморщенное яблоко.
Света ничего не сказала. В глазах у нее были боль и страх. И вместе с тем она все еще была пьяна – что взять?!
После того как дверь захлопнулась, Сергей подошел к Мишке и без размаха ткнул ему кулаком под глаз. Тот отшатнулся к стене. Но промолчал.
– Сучары! – процедил Сергей.
– Это точно, – закрепил Мишка, – чего с них возьмешь, шалавы!
Он явно не принял слов Сергея на себя, хотя тот имел в виду и его. И от этого Сергей размяк. Упал на тахту, развалился. Ему очень хотелось спать.
– Все, Сергей, – заверил Мишка на полном серьезе, – с этими мочалками уличными больше не связываемся, лады! Все! Ты меня убедил, Серега! Они нас с тобой до гробовой доски доведут. Все! Ну их на хрен, шалашовок! Развелось, понимаешь, на наши головы! И надо же – умеют подкатить, тю-тю, сю-сю! Не-е, на хрена нам эти удовольствия?!
Под эти заклинания Сергей и уснул, окончательно уверившись в невиновности Мишки и в его твердом дружеском плече.
Проснулся он в четыре часа дня. Свежим, бодрым.
Будто и не было ничего. Мишка прибрался в комнате, почистил одежду.
– Ты помнишь, куда мы идем? – спросил он.
Концерт самодеятельности пропустили, подошли к началу танцев – веселые и самоуверенные, не вызывающие подозрений у дежуривших в дверях института старшекурсников, так как пригласительными билетами Мишка запасся заблаговременно, а легкий винный запашок отбили мятными конфетами. Институтские оперативники явно принюхивались, водили носами и раздували ноздри, у них было указание – не пропускать подвыпивших. Но то ли они сами слегка подзарядились перед вечером, то ли просто ничего не заметили, одним словом, Квасцов и Ребров миновали их благополучно, пронеся к тому же с собой еще и бутылочку сухого, которую тут же, не откладывая на лучшие времена, и распили в туалете, среди таких же парней, озабоченных поднятием тонуса.
Ребята из институтской рок-команды с привычно ненормальным для подобных групп названием «Каменное облако» расставляли в углу зала свою громоздкую аппаратуру. В отличие от их коллег из «Пинк Флойда» они не имели штата грузчиков в сорок человек, все приходилось таскать на собственном горбу и двигать своим же животом. Но ребята были настоящими подвижниками, им ли привыкать!
Аппаратура не желала настраиваться – что-то дребезжало, фонило, громыхало, потрескивало, скрипело… и в совокупности создавало предстартовую атмосферу – в воздухе прямо-таки носились заразительные вирусы предстоящего буйства.
Публика постепенно собиралась, и чем больше студентов и студенток, а также и прочих приглашенных скапливалось вдоль стен, тем отчаяннее музыканты терзали свои инструменты, не желающие поддаваться настройке. И когда какофония достигла наивысшего предела, за которым ничего осмысленного и гармоничного быть не могло, не имело права, – все будоражащие, раздражающие своей дикостью звуки слились воедино и сотворили чудо, породив мощный и чистый, вырвавшийся из немыслимого хаоса аккорд. Он прокатился под сводами зала, подавил гул голосов, выкриков, смеха и резко оборвался, уступая место хриплому и словно сдавленному баску склонившегося над микрофоном лидера-гитариста:
Развеет ветер облака И в клочья тучи разорвет, И нас с тобой одна рука Сведет и снова разведет.
Ведь мы на каменном облаке По Вселенной плывем…
Ударник выбивал почву из-под ног, требовал подчиняться его ритму. В центре зала свободного места уже не было, танцующих пар тоже. Была сплошная человеческая масса, содрогающаяся в такт ударнику, было колышущееся море голов и плечей – все двигалось, прыгало, вертелось, извивалось, тряслось и дергалось. Но главное, всем было приятно и весело до самозабвения. Некоторые, особо возбужденные, в тщетной попытке перекрыть многоваттные усилители, пытались подпевать лидеру группы. Слышали их только самые ближние.
Свет как-то сам собою пропал – над танцующими царил полумрак, разрываемый яркими вспышками, разноцветными молниями. И это ослепляло, лишало ориентации и кружило голову. Мельтешение красок могло свести с ума. Хоть глаза закрывай!
Песня была коронным номером рок-команды, ее визитной карточкой.
И если облако расколется, Две половины разлетятся, Дай Бог, паи на одной остаться И не теряться, не теряться!
Ведь мы на каменном облаке По Вселенной плывем…
Песня была бесконечной, изматывающей, и в то же время она завораживала, не давала бросить танца и отойти к стене, где в степенных позах, важно и неприступно, стояли немногие из преподавателей, осмелившихся прийти на этот безумный вечер.
Сергей взмок, выпитые коктейли и сухое вино улетучились, но в голове было ясно и пьяняще весело. Он успел мельком подумать, что в бар, в общем-то, заходили зря можно было обойтись и без допинга. Рядом топтался Мишка – деловито и сосредоточенно, как, впрочем, всегда и во всем.
Оборвалась песня так же неожиданно, как и началась, вызвав шумный рев и рукоплескания. Начало было положено, вечер обещал быть таким, какого все и ожидали, – веселым, шумным, бесшабашным.
Сергей подошел к Любе не потому, что она чем-то особенным привлекла его внимание, нет. В зале было полным-полно и стройных, и красивых, и просто привлекательных и модно одетых девушек – веселых, искрящихся, обаятельных. Но не что-то внешнее послужило причиной, нет, просто следующий танец был медленный, передышка после «облака», и нужна была пара. А Люба стояла ближе всех, и он, не раздумывая, протянул ей руку:
– Потанцуем?
Она кивнула, даже не скрывая своего расположения, – не придется стоять и ждать приглашений. Да и партнер сразу приглянулся ей, видный парень, чего еще желать для обычного двух-трехминутного танца! Высокий, худощавый, но совсем не тощий и хилый, а, наоборот, подтянутый, крепкий. Приятное и умное лицо, чуть насмешливое – но в самую меру, мягкие, еще совсем юношеские губы, прямой небольшой нос со шрамиком у переносицы, густые светлые волосы, подстриженные немного небрежно и оттого кажущиеся взъерошенными… Рядом уже танцевали.
Сергей положил обе руки на талию девушке и, не давая ей времени на кокетничанье и отказы, мягко, но властно привлек к себе.
Люба посмотрела вверх, в лицо этому чересчур самоуверенному парню, собираясь сказать что-нибудь резкое – не слишком обидное, но достаточно колкое. Первым порывом пришло желание сбить с него спесь…
Ее решимость потонула в очень добрых, чуть прищуренных серых глазах, широко поставленных на склонившемся над нею бледном и немного усталом лице.
«Командиру учебной роты
старшему лейтенанту Каленцеву ЮА.
от рядового 1-го отделения 3-го взвода
Реброва С.В.
РАПОРТ
Прошу перевести меня из-под командования сержанта Новикова Н.Н. в любой другой взвод вверенной Вам роты.
17 мая 199… г. Подпись».
– Так в чем дело, Ребров? Сержант не по нраву пришелся?
– Все сложнее, товарищ старший лейтенант.
– Загадками говорите. Может, он придирается к вам?
– Никак нет.
– Но должна же быть причина – дыма без огня не бывает, согласитесь.
– Причина есть, товарищ старший лейтенант.
– Ну?!
– Она личного характера, не могу ее назвать.
– Да-а! Ну Хорошо, идите. О решении сообщу позже.
– Ну а вы, сержант, толком можете объяснить, в чем дело?
– К рядовому Реброву у меня претензий не имеется: исполнителен, дисциплинирован… в общем, все как полагается!
– А на личной почве – что там у вас?
– Считаю, что между командиром и подчиненным должны действовать отношения, обусловленные уставом, а не личные, товарищ лейтенант.
– Хорошо, понятно. Идите.
Резолюция на рапорте рядового Реброва С.В.:
«Отказать за отсутствием объективных причин.
Командир 1-й учебной роты
старший лейтенант Ю. Калеяцев
17 мая 199… г. Подпись».
Борис Черецкий, жилистый и дерганый парень со злыми, колючими глазами, завалился с маху на кровать поверх одеяла, закинул ноги на железную спинку так, что его пудовые сапожищи чуть не уткнулись подошвами в лицо Лехи Суркова, сидящего на табурете, и крикнул хрипато в сторону Слепнева:
– Эй ты, салабон, зелень огуречная, а ну подай дедушке огоньку! – В пальцах он крутил сигарету, то поднося ее к губам, то отодвигая в сторону.
– Ну, не вижу усердия!
Мишка Слепнев на приказание «дедушки» не среагировал, даже не посмотрел на Черецкого. На вид тихоня, он был явно себе на уме. Хлебников же, наоборот, резко повернулся к Борису, тараща на него глаза.
– Охренел, что ли? – спросил он без вызова, с каким-то робким изумлением.
– Ну, я жду! – процедил сквозь губы Черецкий и заехал-таки краешком подошвы Суркову по уху.
Тот отодвинулся молча, стерпел.
Слепнев показал Черецкому кукиш и добавил выразительно:
– Ежели ждешь, так и дождешься, понял!
Черецкий дернулся, чтобы встать, но Сергей придержал его за плечо и тут же отвел руки, приподнял их вверх, примирительно.
– Ты хоть нам-то скажи, чего случилось? Может, съел чего втихаря или выпил, а? – проговорил он, улыбаясь. Черецкий убрал сигарету, закинул ногу на ногу.
– А чего тут непонятного, – сказал он с ленцой, будто через силу заставляя себя разъяснять очевидные и обыденные вещи бестолковым ученикам. – Ну чего?! Думаете, коли нас всех тут одногодков почти да однопризывников собрали, так и законы для нас не писаны? Думаете, коли учебка, так и все уж равны? – Он выждал с полминуты, будто рассчитывая на ответ, потом продолжил: – Дурачье, везде старики и салаги есть, это точно. И если у нас тут не строевая часть, где все вперемешку, а учебная, так все равно! Зелень пузатая! Правильно про вас сержант толковал!
– Ну-ну, ты не очень, – обиделся Сергей. – А то он тебя не имел в виду?! Чего выпендриваешься, Боря! Мы все тут зеленее травы!
– Врешь!
– Могу доказать, – сказал Сергей, приподнимаясь.
Черецкий не среагировал.
– Все врешь! – вновь процедил он. – Жизнь сама разделяет на дедов и салаг, понял?! Я про тебя не говорю, приглядимся еще. А вот эти два салабона… – он поочередно ткнул пальцем в Слепнева и Суркова, – они и есть салаги, зелень необученная, дерьмо в проруби!
Слепнев встал и сошел на Черецкого. Но Хлебников преградил ему дорогу, обхватил за руки. Тот быстра отошел, успокоился.
– А может, ты сам зелень? – тихо спросил Хлебников.
– Чего?!
– А того! Сам зелень пузатая, а пыжишься, корчишь из себя деда, чтоб не признали тебя, чтоб твоей зеленой ботвы не увидали, а?!
Черецкий заволновался, заерзал на койке, засучил ногами.
– Да я за такие слова… – начал он, задыхаясь от злости, – да я тебе щас!
– Ты потише ногами-то! Опять по уху задел! – вставил обиженно Сурков, отодвигаясь еще дальше.
– Чего?! Да ты щенок, деревня, молчи, пока не спросят! Понял?! На кого тянешь, колхоз?!
Сурков залился багрянцем, глаза забегали, словно отыскивая лежащий где-то в комнате ответ, но не нашли его.
И Сурков смолчал, только спина его напряглась, одеревенела.
– Да я из тебя, салабон, окрошку нарежу! Развесил лопухи, внученочек ты мой сельский, пахарь хренов! – Черецкий нашел наконец, на ком можно безответно сорвать злобу, и это подхлестнуло его, повело. – А закон божий ты в своей церковноприходской школе изучал, а? Ну скажи, чего примолк-то?!
– У нас нормальная школа в селе была, чего ты прицепился?! – пробурчал побагровевший Сурков.
– Ах, нормальная, ах, школа! Значит, это ты просто оказался ненормальным в нормальной школе?! Салага! Щенок! Дешевка! Ты с дедушкой не спорь! Тебе сказано салагой будешь, и кранты, и точка! Усек, пугало огородное?!
Сурков молчал, надувался, казалось, сейчас слезы брызнут из его глаз.
– Ну? Чего молчишь? А ну повторяй: я салага, салабон зеленоперый, лягушка перепончатая… Ну?! Не слышу! – Черецкий приложил ладонь к уху, корча из себя столетнего глухого деда. – Ну? Не утомляй старика!
– Отвяжись от него, – вступился Сергей.
– Тебя не спросил!
– Напрасно.
Черецкий сел на постели, резко повернулся к Сергею.
Лицо его, и без того бледное, даже желтоватое, болезненное, совсем утратило следы жизни, побелело, на скулах заиграли желваки.
Ребров встал, заложил большие пальцы обеих рук за ремень, он ждал продолжения.
Медленно приподнялся и Черецкий. Нижняя губа у него лихорадочно подергивалась.
– Ну, ребята, ну, спокойней, – между Сергеем и Черецким втерся бочком Хлебников, – ну чего вы? Спор-то пустячный… Обычная дискуссия на тему морали, как по телику, ну чего вы?
Хлебников виновато улыбался, будто сам был причиной ссоры и теперь вымаливал прощение. Черецкий быстро вышел из комнаты. Хлопнула тяжелая дверь.
– Поговорили, – на выдохе протянул Сурков.
В комнате стало тихо. Тоскливо стало. Никто не решался первым продолжить прерванный разговор, а новая тема не шла на ум. Сергей, притопывая сапогом, принялся насвистывать какой-то веселый мотивчик, взгляд его блуждал по пустой свежевыкрашенной стене. Настроение ушло, оставив в обитателях комнаты неухоженную вялую пустоту. Черецкий вернулся минут через пять и с порога бросил:
– Ладно, мужики, кому я должен – всем прощаю!
Натянуто хихикнул, уселся на табурет. На лице его играла нагловатая улыбочка. В руке он вертел брелок на цепочке.
Примирения не получилось. Первым ушел Сергей, продолжая насвистывать. За ним потянулись – сначала смущенный и мешковатый Сурков, потом Хлебников со Слепневым.
– Та-ак! – Обида захлестнула Черецкого. Он остался в комнате один, как оплеванный. – Ну, лады!
Пока он бродил в одиночестве по коридору, разноречивые чувства бурлили в его груди: и злость на сослуживцев, и досада на самого себя за то, что не сумел «толково им все доказать и разобъяснить», а вместо этого сорвался, психанул. Он терзался, бередил душу, думал о мести и одновременно раскаивался, разжигал в себе болезненные страсти, на что был мастак и на гражданке, и вместе с тем мучился от собственной неуживчивости. Но в итоге понял, что обиженного строить из себя нелепо и смешно, а для явного раздора, а тем более – драки, вроде бы и причины нет. И решил вернуться… Так ведь нет, не приняли, вот она, награда за простоту!
Теперь, сидя в пустой комнате, Черецкий занимался самоуничижением: он клял себя за слабость, за то. что первым решил пойти на мировую, не выдержал характера.
Борьба с самим собой продолжалась бы до бесконечности, если б в комнату не зашел сержант Новиков. Черецкий вскочил вытянул руки по швам.
– Вольно, – сказал Новиков и, увидев смятое одеяло на койке, скривился: – Немедленно выровнять! Это еще что?!
Черецкий бросился исполнять команду, забыв про свои страдания. А что еще оставалось? Хорошо, что сержант не стал выяснять, кто валялся днем на постели, а то бы и наряд недолго схлопотать.
– Что в одиночестве сидим? Настроение? – поинтересовался Новиков, одновременно сдувая несуществующую пылинку с собственного плеча и разглаживая ладонями гимнастерку.
Сознаваться в своих слабостях Черецкий не умел, да и не желал.
– Надо ж и одному побыть иногда, товарищ сержант? Или запрещено уставами? – пробубнил он, глядя исподлобья.
– Нет, не запрещено в свободное время. Но лучше не стоит. – Сержант явно думал о чем-то своем и разговор продолжал по инерции. – Со всеми-то полегче, что ни говори! – Он как-то грустно улыбнулся и добавил: – На миру-то, говорят, и смерть красна… Ясен смысл?
– Да чего уж там непонятного! – кивнул Черецкий. Мы-то погодим еще пока, нам-то рановато, мы зелененькие еще.
Сержант с ним согласился:
– Это точно!
Он собрался было уходить, но, словно вспомнив что-то важное, застыл в дверном проеме вполоборота к Черецкому и сказал:
– Вы мне Реброва найдите, да не тяните – одна нога здесь, другая там. Я у себя буду, в сержантской.
И вышел.
Ребров сидел в бытовке, пришивал подворотничок к гимнастерке. На вошедшего он глянул косо, изнизу и тут же отвел глаза.
Черецкий решил вести себя как ни в чем не бывало.
– Серый, шлепай к бугру, зовут-с, – проговорил он тихо.
– А чего ему?
– Не доложился, – съязвил Черецкий, – знаешь, не удостоил как-то. Ты живей давай, пошевеливайся!
Сергей торопливо прометал последние стежки, натянул гимнастерку. Понукание задело его за живое: сам того не желая, он резко пихнул Черецкого в грудь, освобождая себе проход. Тот качнулся в сторону, извернулся, но успел цепко ухватить Сергея за локоть левой рукой. Правая, сжатая в кулак, взлетела вверх. На позеленевшем лице снова что-то резко задергалось, искажая его неприятной и страшной гримасой.
– Ну?! – Сергей не сделал попытки высвободить локоть. Не смотрел он и на занесенный над ним, совсем близко от глаз маячивший кулак с синеватыми острыми костяшками. Он уже успел внутренне собраться, ждал.
Черецкий обмяк как-то сразу, отвернулся, запихав дрожащие руки в карманы, лишь пробурчал через плечо с хрипотцой:
– Ничего, успеется.
Сергей не стал выжидать. Застегивался он уже на ходу, машинально потирая локоть.
Новиков сидел в сержантской один, листал записную книжку и что-то сверял с тетрадью, лежащей сбоку, на столике.
– Разрешите войти, товарищ сержант? – подчеркнуто безразлично спросил Ребров.
Новиков молча указал на свободный табурет.
– Слушай, Серега, – сказал он, – помнишь, тогда – на второй день, в курилке? Мы так с тобой толком и не договорили… А ведь надо было бы, как думаешь? От крепкой беседы все одно не уйти.
Сергей сморщился, повел глазами.
– Мы сейчас как говорить будем, как подчиненный с командиром или…
– Или, – оборвал Новиков, – как знакомые. – И добавил: – Бывшие знакомые.
– Ну, тогда, Колюня, я тебе сразу скажу – не получится разговора, ты уж прости.
Новиков прислонился спиной к стене, скрестил руки на груди. У него тоже был характер.
– Как хочешь. Только знай: жизнь нас с тобой еще схлестнет! Да так схлестнет, что я тебе не позавидую! – сказал он.
– Все?!
– А это от тебя зависит, я могу и дальше.
– Ну значит, все!
Ребров поднялся и вышел из сержантской. Зла в нем на Николая не было, но видеть его он не хотел.
Новиков догнал Сергея в коридоре, остановил и спросил почему-то шепотом:
– Слушай, если не секрет, чего тебя так поздно призвали?
Отвечать не хотелось, но Сергей пересилил себя:
– Мать болела, а брат тогда в другом городе жил – по найму, вот мне и дали полтора года. Не бойся, не сачковал и не увиливал. Теперь все?
– Все, – ответил Николай и повернул назад. Он пожалел, что задал свой вопрос.
Мишка Квасцов ушел с вечера так же, как и пришел, один. Не помог ему талисман – лежавшая в кармане связка ключей от пустующей родительской квартиры. Ушел, затаив обиду на Серегу Реброва, – «везет дуракам!».
На этот раз им оказалось не по пути – Сергей провожал Любу, с трудом отделавшись от ее любопытных и назойливых подружек, выказывавших желание прогуляться всей компанией, нажив в Мишке завистливого недруга, но довольный собой и своим выбором.
Только теперь, в тишине и полутьме, после сумасшедшей вакханалии звуков и красок, не дававшей сосредоточиться на чем-то одном, он по-настоящему разглядел и понял: это именно то, чего ему так не хватало.
Люба была чуть выше его плеча, несмотря на то, что каблуки ее туфель были далеко не низкие, даже не средние. Стройная и грациозная, она тем не менее не производила, как подавляющее большинство ее сверстниц, впечатления холеного и неразвитого юнца-мальчишечки, а была не по-модному женственна и мягка, без этой показной и напускной угловатости, манерности. Может, ему это все только казалось? Сергей и не пытался анализировать свои чувства, ему было хорошо с ней – и большего он не желал. А когда она легким движением головы откидывала назад длинные распущенные волосы и заглядывала ему в глаза, он лишний раз утверждался в мысли, что недаром пошел на этот вечер. И пусть завидует Мишка – он и всем-то завидует! Пусть суесловят любопытные подружки – какая разница!
Он видел эти темные, чуть влажные глаза, он весь растворялся в них, забывая про все на свете. Да и что, в сущности, представлял собой весь этот белый свет в сравнении с ее глазами, ее улыбкой? Да ничего! Так, суета и колгота, мелочи и дрязги, недостойные внимания. Другое дело она – его случайная, а может, вовсе и не случайная, дарованная самой судьбой, самим провидением спутница. Смотреть на нее было наслаждением. И наслаждение это усиливалось с каждой секундой. Все происходило словно в сказке.
Перед тем как выйти из института, они минуты на две расстались. Ей надо было немного привести себя в порядок. А Сергея Мишка уволок за локоток. Завел в тот же сортир, где распивали сухое давеча. И достал из кармана четвертинку водки.
– Во! У ребятишек откупил! В полторы цены! – радостно сообщил он.
Сергей замахал руками.
– Не-е, отдай, им самим наверняка не хватит, всегда не хватает чутка!
– Я ее лучше в окошко выкину, чем отдам, понял? – Мишка сорвал крышечку и глотнул прямо из горлышка.
У Сергея судорожно дернулся кадык. Его со вчерашнего да уже и с сегодняшнего немного покачивало – ночное происшествие оставило-таки следы. Устоять было непросто.
Мишка отпил немного, на треть.
– Ладно! – решился Сергей. – Хряпнем для поправки пошатнувшегося здоровья.
И он в момент проглотил остатки. Мишка недовольно поморщился, ткнул в бок.
– Увлекся! – поворчал он. – Ладно, с тебя трояк!
Сергей отшутился и убежал. Там его ждала новая знакомая, нехорошо было задерживаться. На бегу сгрыз мятную конфетку.
Мишка с ее подружками нагнали уже внизу.
Когда все это сопровождение окончательно надоело и ей и ему, Сергей шепнул Любе на ухо:
– Побежали?!
Она кивнула, заговорщицки подмигнув.
И они побежали.
Скрылись за ближайшим углом, в тени. Но их никто и не пытался догонять или разыскивать.
– Славный вечерок был! – проговорила Люба, закатывая глаза. Она еще вся была там, кружилась в танцевальном вихре.
Сергей смотрел на нее и вспоминал черноглазую «активисточку» Свету. Хоть та и была с явным заскоком, очевидного нервического темперамента, но с ней все же было легче, чем с этой… Эта была совсем не такая, иная. Но может, так казалось?
Они зашли во дворик. Там, на лавке, сидела парочка – парень в бурой необъятной шубе и девчушечка в курточке, примостившаяся у него на коленях.
Сергей с Любой на минуту остановились.
– Чего надо?! – недружелюбно поинтересовался парень.
– Не возникай! – ответил Сергей.
– Пошли отсюда, – потянула его за рукав Люба. – Пошли!
Они вновь вышли на улицу. И снова он смотрел на нее и не мог налюбоваться. Нет, что бы там ни говорили, а существуют все же люди, созданные друг для друга. Сергей никогда не верил подобному, никогда! А сегодня и ему верилось. Это был какой-то праздник.
На улице к ним сразу пристал пьянющий мужик в телогрейке. Он был настроен очень доброжелательно, но, видно, душа рвалась наружу, требовала откровенной беседы.
– Ты мне это дай зак-курить? – сказал он Сергею, обнимая его за плечи.
Сергей руку спихнул, но сигаретой угостил.
– Да, ладна-а, – не обиделся мужик, – я те вот что скажу, клевая у тебя телка, парень, клевая! Поверь моему опытному глазу! – Он замолк, уставился на Сергея ошарашенно, будто только теперь разглядев, потом вытащил из брюк бутылку водки. – А хочешь – во! Не пожалею! – проговорил он с таким видом, словно предлагал мешок дукатов. – Давай меняться: я те пузырь, ты мне телку, лады?! Обижаться на пьяного пустомелю был грех.
Сергей подморгнул Любе и сказал с ленцой, будто раздумывая:
– Ну, ежели не шутишь…
– Да ты чего?! Какие шутки! Забирай! – Мужик протянул бутылку и уже ухватил Любу за рукав, притянул к себе – она рассмеялась в голос, – но тут же опомнился: Только ты это, мне тоже дай хлебнуть чуток, а?
Сергея упрашивать не пришлось. Он сорвал пробку, протянул бутылку мужику. Тот присосался. Но половину пролил на себя, на телогрейку.
– У-уфф! – провозгласил он, оторвавшись. – На!
И двумя руками прижал к себе Любу, глядя не на нее, на Сергея.
– Все! Моя телка! Как договорились?! – Он словно не верил привалившему счастью.
Люба хохотала в голос, еле заметно отстранялась.
– Да забирай, чего там! – согласился Сергей.
Он тщательно протер горлышко и приложился к нему.
Сделал глотка три-четыре.
– Не пей! – совсем строго прикрикнула Люба. – Слышишь?!
Сергей удивился. Но отвел бутылку от губ.
– Чего! – переспросил он с глуповатым видом.
– А ничего! Вот уйду с ним и взаправду, тогда будешь думать! – Люба, видно, немного обиделась на него, а может, просто ей были неприятны выпившие.
Сергей привык иметь дело с девицами попроще, без капризов и потому не прочувствовал до конца.
Но он отдал бутылку пьянчужке.
– Ладно, мы пошутили, – сказал дружелюбно.
Тот не обиделся, похоже, даже обрадовался, что заветный пузырь, пусть и на две трети опустошенный, но все же вернулся к нему. Он хлопнул Любу пониже спины и подтолкнул к Сергею.
Люба показала мужику кулак.
Но тот глубокомысленно провозгласил:
– Кле-евая тел-лка, точняк! – и глотнул из бутылки.
– Ну привет, ценитель женского пола! – Сергей помахал мужику рукой. Он и сам опьянел порядком – на старые дрожжи развезло. Но в пределе развезло, в меру, так казалось.
– Задешево ж ты меня готов продать! – пожурила его Люба, заглядывая в глаза – лукаво, с ехидством.
Они сразу как-то нашли общий язык и обращались друг с другом запросто, без церемоний. И это было приятно обоим.
Сергей обнял ее и без слов, без уговоров поцеловал в полные горячие губы. Она не отвечала. Но и губ не прятала, не отворачивалась, только руки вдруг безвольно повисли вдоль тела да глаза прикрылись наполовину.
– Холодно, – сказал Сергей. – Пойдем на минутку зайдем, погреемся в подъезде, а?
Она не ответила. Но он уже направился к ближайшей двери. Та была заколочена. Пришлось искать другой вход. Они обошли половину дома, но нашли. Подъезд был старинный, с деревянными перилами и высоченными потолками, без лифтов.
– Пошли повыше, – предложил он.
И они поднялись на второй этаж. Он посадил ее на деревянный подоконник. Стал расстегивать пуговицы на пальто – темные шарики, обшитые тканью.
– Зачем? – удивилась она.
– Жарко, вспотеешь, – проговорил Сергей на ухо.
Когда он расстегнул до конца, запустил руки под пальто, обнял за талию и поцеловал. Она снова не ответила, напряглась.
Сергея не удивило это.
– Не бойся, – сказал он шепотом, – сейчас поздно, и никто сюда не войдет, понимаешь. Тут старенький домик, живут одни бабушки и старички, они уже седьмые сны видят. Не бойся, нам никто не помешает, я точно говорю!
– И все?! – спросила она каким-то не своим голосом.
– А что еще? – удивился Сергей. Он уже пробрался под платье и расстегивал лифчик на спине. – Все будет путем, не волнуйся.
– Нет, – Люба отодвинулась. И его руки выскользнули из-под платья. – Нет, не надо… Поцелуй меня.
Сергей прильнул к ее губам – надолго, жадно и даже хищно. Она и не заметила, как он сдвинул вверх подол платья, лишь почувствовала тяжелое прикосновение горячих рук к ногам, выше колена, – руки были настойчивые, уверенные. Она оторвалась от жадных губ. Отпихнула его.
– Нет!
Сергей опешил. Он стоял и смотрел на нее. Подоконник был высокий, и ее полные влекущие ноги белели прямо перед ним – она даже не оправила платья, так и сидела.
– Но почему?!
– Отойди! Нет! Сначала застегни, там, сзади!
Сергей, совершенно обалдевший от такого оборота, послушно запустил ей руки за спину, под платье, и с трудом дрожащими пальцами застегнул бюстгальтер. Он ничего не мог понять – все шло так хорошо, как обычно, и вот на тебе! Чем он мог не угодить ей, ну чем?!
Он пригнулся немного и коснулся губами пухлого, округлого колена. Почувствовал, как оно вздрогнуло.
Люба спрыгнула с подоконника. Он подхватил ее и совсем нежно прижал к стене, рука легла на грудь, но как-то настороженно и с опаской.
– Я не хочу этого! – сказала она резко, оттолкнула руку.
Сергей отвернулся. Его вдруг заело – он к ней так хорошо отнесся, он ее так… а она! Она! Выпитая водка усиливала обиду. Конечно, он мог ее прижать здесь, в этом подъезде, – и ничего бы не случилось с этой недотрогой, ничего, сама бы потом руки целовала, сама бы липла… Но нет, он не хотел с ней так, он не хотел так, как это бывало с виками и со светками, с бесчисленными Мишкиными подружками и их общими знакомыми. Почему? Это было загадкой. Но это так! И в какую-то минуту он вдруг испытал острую радость оттого, что это не случилось здесь, в подъезде, что все это еще будет, что самое главное впереди, что не надо спешить, не тот случай!
– Ты меня прости, – сказала она нежно и тихо, – не обижайся.
Сергей повернулся к ней. Он смотрел в ее открытое и такое близкое лицо и готов был не отрываться от него, в нем было все: его прошлое, его настоящее и будущее. Нет! Врут, подлецы, что не бывает любви с первой встречи! Все врут! Ведь он же не слепой, он все видит, все понимает и чувствует. Сколько девиц и женщин он держал вот так, скольким заглядывал в лица, но никогда, ни с одной он не испытывал ничего подобного. На сам деле, это было словно в сказке! Нет, надо Мишке поклониться в ножки и поставить ему ящик коньяку! Ну да ничего, успеется! С Мишки с самого за ночное причитается, пока не отплатил!
Да черт с ним вообще!!! Сергей смотрел на нее… и плыл, плыл, как вчера после непомерного возлияния.
– Ну, пойдем? – предложила она, застегивая пальто.
…С той поры они встречались больше двух месяцев, ежевечерне. Устраняя всевозможные преграды, откладывая срочные дела, все важное, необходимое на потом – лишь бы видеть друг друга, быть рядом, говорить, не придавая значения словам, а только вслушиваясь в звучание любимого голоса. К их услугам были кафе, кинотеатры, дискотеки, улицы и площади, зимние заснеженные и большей частью безлюдные парки – все, весь мир, кроме того единственного уголка, который мог бы стать для них большим, чем все остальное, вместе взятое.
Сергей вовсе не собирался вить семейного гнездышка.
Если бы ему кто намекнул на это, он бы в лицо рассмеялся простофиле – еще чего не хватало! Нет, потом, конечно, можно, но не в ближайшие годы. А тут что-то вдруг перевернулось в нем. Он не участвовал больше в Мишкиных «забегах». А потом и вовсе созрел.
Без какой-либо торжественности и натянутости, даже без необходимого, казалось бы, внутреннего усилия, Сергей предложил Любе подать заявление и зарегистрироваться. Сказал он об этом как бы между делом, полусерьезно-полушутливо. Но Люба, уже достаточно хорошо знавшая его, прочитала в любимых глазах, что Сергей решил твердо и сразу за обоих.
Ее реакция была странной: и испуг и радость одновременно, желание уйти от прямого ответа и непонятная для него внутренняя борьба с собой – в расширившихся зрачках все было написано настолько ясно, что Сергей даже опешил. Он ожидал чего угодно – восторга, радости, кокетливого ломания, слов о том, что, дескать, надо все хорошенько обдумать, взвесить, а уж потом решать, и прочего, прочего, всего, кроме того, что он увидал на лице любимой девушки.
– Что с тобой, ты против, что ли? – спросил он чужим, заискивающим голосом.
– Ну что ты, Сережа. – Люба почти плакала. И была совершенно непонятна причина ее волнения. – Что ты! Просто – потом, но не сейчас…
Раздражение захлестнуло Сергея черной едкой волной.
– Но я хочу, чтобы ты была моей, совсем моей! И не потом! Что случилось, в чем ты сомневаешься? Может, нам вообще не встречаться?!
– Нет, ты не так меня понял, какие сомнения, почему не встречаться, ведь я люблю тебя, я уже привыкла к тебе, голос у Любы дрожал. – Я прошу тебя только об одном – не торопи меня сейчас, ну чего так вдруг?! Дай время, немного, совсем немного.
– Через два месяца отсрочка кончится, понятно? И меня заберут в армию! Ты этого ждешь, да?! – Сергей схватил Любу за плечи и с силой сжал их. – Ты слышишь меня? Или нет?! Через два месяца – все, тю-тю! И на два года – это самое меньшее! Чего ждать?!
– Я все слышу, я все понимаю. – Люба уткнулась лицом Сергею в плечо, в жесткую колючую ткань пальто.
Она уже и не пыталась скрыть слез, рыдания сотрясали худые плечи и спину. – Хорошо, Сереженька, хорошо, я буду твоей, совсем твоей. Ну а тебе, скажи, кто нужен: печать на бумажке или я, ну скажи, ведь все так хорошо у нас, ну чего еще желать, ну чего?!
Ребров никогда не был у Любы дома, не приглашала.
Но он знал, что она живет с сестрой, одинокой молодой женщиной в двухкомнатной квартире где-то на Басманной. Знал и то, что сестра часто разъезжает по командировкам – в составе каких-то комиссий на приемку каких-то – Люба ничего не могла толком объяснить – объектов, строящихся то тут, то там по всей стране. Да и зачем ему было вникать, а тем более навязываться – ведь не сестра ему была нужна?
И теперь они шли туда, к ней, шли молча, тесно прижавшись друг к другу. Настолько тесно, что Сергей почти сердцем ощущал содрогания ее тела.
Люба взяла себя в руки, перестала плакать, ее глазам вернулась обычная чистота и ясность, даже прозрачность. Зато в душу, видно, вкралась болезненно-неистовая одержимость – где-то внутри что-то продолжало конвульсивно содрогаться, словно от долгого и необратимого озноба.
Она вела его. Вела решительно, не обращая внимания ни на что окружающее, внешнее, вела так, будто волокла за собой неодушевленный, но тяжелый предмет, инертный и безличный.
Она растворила старый и облупленный шкаф, вытащила махровое полотенце и накинула его на плечо Сергею.
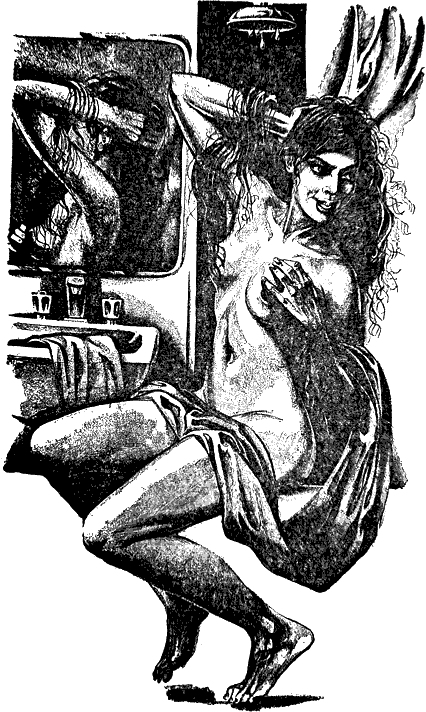
– Иди-ка, сполоснись! Я пока тут приготовлю.
Сергея покоробило. Все получалось какого чересчур буднично, по-семейному. По дороге в ванную он сообразил неожиданно – впервые это должно случиться без предварительных выпивок, без компаний, танцев-шманцев и прочей шелухи. Он даже вернулся, заглянул в дверь, спросил:
– А у тебя, случаем, этого не припасено? – Он прищелкнул себя пальцем по горлу.
– Не водится! – ответила Люба.
– Да я так, – вдруг смутился Сергей. Он сам себе в эту минуту показался пошляком и остолопом. Влез со своим дурацким вопросом.
В ванной он включил душ. Потом разделся и встал под тугие струи, до отказа вывернул кран с горячей водой обожгло, но он стерпел.
Небольшое овальное зеркальце, висевшее над умывальником сразу же запотело. На кафельных желтоватеньких стенах осели капельки воды. Сергей включил холодную. Чуть не выскочил из-под струй. Но и тут устоял – на полминуты хватило. Лишь тогда он наконец сделал нечто среднее, расслабился.
Она вошла минут через десять – в длинном, до пола, махровом халате в каких-то неопределенных цветастых пятнах, с распущенными почти до пояса волосами. Сергея не удивил ее приход.
Она молча взяла губку и без мыла, в сухую, совсем легонько принялась натирать ему спину, поясницу. Потом она выронила губку. Но нагнуться не успела – Сергей неожиданно подхватил ее за локти и одним сильным движением перенес к себе, в ванную, прямо под тугие струйки.
– Сумасшедший! – вскрикнула она, вздрогнув всем телом и заглядывая в глаза. – Совсем плохой!
Она сразу же промокла насквозь. Волосы стали блестящими, змейками заструились вниз, заслонили лицо. Он прижал ее к себе, не давая снять халата, сжимая плечи.
– Пусти! Ну пусти же!
Она отпрянула на пол-локтя и с усилием, обеими руками сбросила прямо под ноги тяжеленный, пропитанный водой халат. И лишь теперь Сергей увидел по-настоящему то, что ему досталось волею случая. Он никогда не встречал такого совершенного тела, это было видно даже здесь, под струями, в полутумане, вблизи, – это было какое-то чудо, скрытое до того всевозможными тканями, полотнами, накидками и прочими вещами, чудо неожиданное и оттого еще более сверхъестественное. Но Сергей не был ни поэтом, ни сочинителем, и он не мог описать этого чуда. Он просто приник к нему всем своим мускулистым, тренированным телом, растворился в нем.
Она рассмеялась почти в ухо – громко, непринужденно. И от этого он пришел в себя, голова прояснилась. Он опустился на колени, охватил руками ее бедра, чувствуя, как в нем поднимается горячая, жгучая волна – от кончиков пальцев на ногах до макушки.
Она положила руки на его плечи, сверху – нежно, но властно, притянула его голову к своей груди, прижала. Он целовал, целовал это упругое, нежное тело, не мог остановиться, он дышал запахом этой кожи и не мог надышаться… Сверху лилась вода, не хватало дыхания, но он ничего не замечал, он не мог оторваться от этого чуда – она была его госпожой, его властительницей. Но не было ничего на свете покорнее этой властительницы.
За окном валил снег. Отдельные крупные снежинки ударялись в стекло, таяли, не оставляя следов.
Сергей лежал на затертом диване в углу комнаты и машинально прослеживал путь умирающих снежинок. Люба сидела рядом, за небольшим овальным столом, в полурасстегнутом байковом халате, протертом на локтях, с распущенными волосами, утомленная, безвольная, но ни о чем не жалеющая, – сидела и думала о нем.
А он молчал, не мигая провожал снежинки в последний путь – говорить ему сейчас не хотелось. Хотелось вот так лежать и глядеть в окно. Он боялся, что Люба прервет эту спокойную вязкую тишину, что надо будет отвечать на ненужные вопросы, думать о чем-то, а может, и вообще встать. Больше всего ему хотелось покоя.
– Не пойдем сегодня никуда, а? – проговорила Люба.
– Конечно, нет. Зачем? – отозвался Сергей, не отводя глаз от окна. – Не пойдем ни-ку-да!
И покой пришел. Люба его ни о чем никогда не спрашивала, с ней было легко, без нее пусто. Постепенно она все хлопоты взвалила на себя, даже те небольшие развлечения, какими они иногда заполняли вечернюю пустоту, организовывала она. Звонила ему на работу по нескольку раз на дню, беспокоилась, суетилась, бегала, доставала вечно дефицитные билеты то на новую постановку в театре, то на какой-нибудь еще до выхода нашумевший кинофильм.
Никогда беззаботность не заполняла Сергея так глубоко, не расслабляла в блаженной истоме вечного бездумного праздника. Он доверял Любе безгранично, видел, что все эти мелкие хлопоты доставляют ей огромное удовольствие.
Она была создана для того, чтобы опекать кого-то, вести его по жизни, ограждая от лишних волнений и оберегая от житейских неурядиц. И теперь с упоением отдавалась своей женской природе, обрекая любимого на покорное и сладостное бездействие.
Сергей бросил рули и плыл по течению. Будущее больше не волновало его – что будет, то и будет, главное, чтобы сейчас, сию минуту, было хорошо.
И ему было хорошо. Любина сестра половину времени проводила в командировках. Квартира была в их полном распоряжении, и Сергей уже не представлял себе иной жизни.
Их было двое. И вдвоем они были единым целым.
Когда эта целостность не нарушалась, царил покой, обоюдная умиротворенность убаюкивала их, да тихое уверенное счастье без всплесков и провалов сулило вечную незыблемость существования. Восторженное, беспокойное и неуправляемое чувство ушло, уступив место трезвому довольствованию сложившимся положением.
Прежнего разговора о заявках и регистрациях Сергей не возобновлял, полагаясь на саму жизнь, вручив судьбе ключи от своего и Любиного будущего. И ее это вполне устраивало, судя по всему. Она не стремилась к большему. Главное, что ее теперь занимало – благополучие любимого человека: ему было хорошо – ей тоже. Занятия в институте отошли на второй план, круг знакомых все суживался и суживался, лишние и ненужные связи сами отпадали.
Шумные и веселые компании не привлекали ни его, ни ее. Привычный уклад нарушался приездами сестры, нервной, измотанной после очередной командировки.
При сестре Люба не решалась приводить Сергея в дом на Басманной. И в такие дни возвращалось прежнее, он начинал ощущать на себе всю зыбкость их положения. Становилось не по себе. И бессильное бешенство охватывало Сергея.
В свой дом, где лежала почти не встающая с постели, изнеможденная болезнью мать, пригласить Любу он не мог. Да и стыдно было за свои молодость и беспечность, счастье и здоровье перед, по всей видимости, угасающей жизнью, немощью и безысходным отчаянием.
Выручал выплывавший откуда-то из темноты и безвестности Мишка Квасцов, нутром чующий чужие радости и чужие неприятности. Но Мишка был корыстен от природы, таковым уродился. Переделать его не представлялось возможным. Ключи от квартиры, в которой жили во времена коротких наездов из-за границы на родину Квасцовы-старшие, перекочевывали в Серегин карман. Все это сопровождалось бесконечным Мишкиным нытьем, что его, дескать, не ценят и что вообще: «Он для всех – все! всегда! а для него никто – ничего! и никогда!» Сергей, зная характер приятеля, терпеливо сносил мелочные обвинения. Взамен Люба в очередной раз знакомила Мишку с одной из своих подруг, и тот опять пропадал из виду. Что у него там было с этими новыми знакомыми, никто не знал, а сами они помалкивали. Впрочем, Любе до них не было дела, она все больше отстранялась от былых подружек и постепенно замыкалась в своем мирке. Все ее существо был обращено к нему, к Сергею. Он это знал и видел, но другого отношения и не мыслил, все, что объединяло их, казалось естественным и обыденным, как снег за окном, как ежедневная обязанность ходить на работу, как они сами – живые, чувствующие, нужные друг другу.
«Командиру учебной роты старшему лейтенанту Каленцеву Ю.А.
от рядового 1-го отделения 3-го
взвода Реброва С.В.
РАПОРТ (повторно)
Настоятельно прошу выполнить мою просьбу и перевести меня в любой другой взвод вверенной Вам роты. Мой перевод ни в коей мере не повлияет на служебные дела, напротив – разрядит сложившуюся обстановку. В случае отказа прошу Вашего разрешения обратиться к командиру части с просьбой (рапортом) о переводе в другую роту.
20 мая 199… г.
Подпись.»
– Я не понимаю, чего вы добиваетесь, Ребров? Что за причина? Мы что с вами, в детские бирюльки играем, что ли?!
– Я уже говорил, товарищ старший лейтенант, что причина имеет личный характер, и я вам не могу всего раскрыть, это не меня одного касается.
– Может, вы, сержант, растолкуете поподробнее?
– А мне к прежнему, товарищ старший лейтенант, добавить нечего, могу только повторить: к Реброву у меня претензий по службе нет.
– А личных?
– Чего – личных?
– Претензий, личных – тоже нет?
– А причем тут личное, товарищ старший лейтенант, мы разве не на службе? Я вас не понимаю.
– Логично. Ребров, ведь должны быть основания – неужели трудно такое простое дело уяснить? Вы думаете, я сейчас начну по прихотям и личным пожеланиям перебрасывать людей с места на место? И вы думаете, с меня не спросят за такой кавардак? У нас не институт благородных девиц! Да, я думаю, и там не всем капризам потакали…
– Это не каприз!
– Ну, снова – здорово!
– Разрешите тогда обратиться к командиру части.
– Ваше право. Но, уверен, решение будет то же самое. Вот сумеете толком объяснить свое поведение и письменно изложить просьбу с вескими аргументами, тогда другое дело – да хоть в другую часть переводитесь, раз эта не по душе. Сумеете?
– Нет.
– Ну, а на нет – и суда нет, верно, сержант?
– Вам виднее, товарищ старший лейтенант, а я ни на кого не жалуюсь, но никого и не держу, для меня все равны.
– Да-а, вот и толкуй с вами… Ребров, может, еще чего сказать хотите?
– Мне добавить нечего.
– Ну, тогда идите, оба. Свободны!
Резолюция на рапорте:
«Причин для перевода не имеется. В просьбе отказать.
Командир 1-й учебной роты
старший лейтенант Ю.Каленцев
20 мая 199… г. Подпись».
Когда Новиков впервые увидал из окна казармы Серегу Реброва, стоящего возле автобуса, что привез новобранцев в часть, он почему-то подумал: так оно и должно было случиться. Хотя причин для подобных фатальных мыслей не было абсолютно никаких.
Они не дружили и не приятельствовали, но время от времени жизнь сталкивала их – учились в одной школе, в разных, правда, классах, занимались плаванием в одной секции и даже какое-то время в одной группе. Ни из одного рекордсмена не вышло, дальше «подающих надежды» они не пошли – и занятия оба бросили: сначала Ребров, а потом и Николай. И тот и другой совсем чуток не дотянули до первого разряда. Но зато поднабрались и силенок, и выносливости.
Случай свел их еще раз после школы – вместе сдавали вступительные экзамены в институт, в одном потоке. Оба сдали, и оба не прошли по конкурсу, баллов не набрали. Той же осенью Новикова призвали на службу.
С тех сор полтора года пролетело. Многое изменилось. Изменился и сам Николай – стал сдержаннее, спокойней. Привычка не выставлять своих переживаний напоказ сделалась необходимостью, Но были и у него слабости, не из камня же человек! Да и попробуй-ка в такой ситуации быть кремнем! Ну, день, два, неделю – может, и выдюжишь, а потом? Нет, не каменный человек, из плоти и крови он. А еще – из нервов!
Серьезный разговор был неизбежен. Потому Новиков и пошел на него. Первым, еще тогда – в курилке. И понял, что Серега о нем ничего и не знал, что надо было смолчать, не раскрываться. А он-то, простофиля, в открытую попер, сам себе свинью подложил. Но это – ладно, это себе. Но ведь он-то по-честному! А наткнулся на глухую стену… Короче, разговора не получилось.
Серегины рапорты, хотя тот и не жаловался, не плакался, окончательно убедили Новикова в том, что общего языка найти не удастся. Он вообще не знал, как быть. Позиция Сергея его обескураживала – ведь в конце-то концов это он, именно он, Новиков, должен был затаить злобу на ловкача-соперника, испытывать к нему неприязнь. Но не наоборот!
Все это сбивало с толку. Иногда Николаю хотелось отыграться на этом наглеце. А почему бы и нет?! Разве он не заслужил этого?! Или все прощать, подставлять левую щеку?! Ведь ему, как сержанту, как командиру, ничего не стоит загонять волею судеб посланного в его взвод обидчика до полного изнеможения, до того, чтоб отстал, наконец от… Нет, осознание того, что слепая, тупая ревность и дурацкая, годная для французских романов месть осложнят и без того крайне запутанные отношения не только лишь с самим Ребровым, но и с отдалившейся теперь от него, Новикова, Любой останавливало. Николай сдерживал себя, мучительно искал выход. И не находил его, выбиваясь из колеи, нервничая и кляня все на свете, но затаив свои переживания в себе.
Ни один человек в части не смог бы сказать, да что там – сказать, подумать даже, что с сержантом творится неладное. Николай внешне, как и обычно, был подтянут, уравновешен и непроницаем. На занятиях эта его подтянутость служила примером. А в свободное время он и смеялся и шутил наравне со всеми, будто и не лежал камень на сердце.
Две недели они сосуществовали под одной крышей, будь то казарма, столовая или солдатский клуб, под одним небом – на плацу и в поле, да и везде: в бане, в наряде, в курилке, сосуществовали, стараясь не встречаться взглядами. И все равно каждый ощущал присутствие другого.
Бежать от этого было некуда.
Разговор в курилке стал для Сергея откровением. Все обрушилось на его голову столь неожиданно, что он, подобно застигнутому хищником ежу или дикобразу, сразу же ушел в себя, выставив наружу лишь колючки – для самообороны, чтобы хоть как-то скрыть пылающую рану. Если бы не строжайший, не оставляющий почти ни минуты свободного времени распорядок дня, если бы не чрезмерные, выматывающие после беззаботного житья в последние месяцы на гражданке нагрузки, которые вышибали из сознания все мысли, кроме одной, – мысли об отдыхе или, по крайней мере, короткой передышке, если бы не все это, он бы не выдержал. Именно это спасало его, не давало раскисать, вытягивало из болота самомучительства и душевных терзаний.
Он с нетерпением ждал, когда они примут присягу, когда кончится этот занудный, тоскливый карантин. После этого будут пускать в увольнения – и все можно будет выяснить на месте, все можно будет разузнать у самой Любы.
Внутренне он почти смирился с ее прошлым, ранее неведомым ему – ну мало ли, бывает и так. Донимала досада, что узнать об этом прошлом привелось не от нее самой. В глубине души он давно уже простил ей это прошлое и, наверное, смог бы себя заставить забыть о нем… Если бы не живое напоминание, присутствующее рядом в образе сержанта.
Сергей намеренно избегал встреч с ним, чтоб не бередить свежую рану, уже начинавшую затягиваться, – ведь что было, то было, и не ему винить ту, которая заслонила собою все вокруг, ведь если что и было, так это же до их знакомства, а раз так, то, почитай, и не было! Но как не встречаться в одном взводе с сержантом?!
И еще Сергея пугала возможность повторения такой же истории с ним самим: ведь он здесь, а она – там, одна, молодая, привлекательная, притягивающая к себе… Сергей настойчиво гнал от себя эти мысли, но они возвращались вновь и вновь. Да еще это проклятое, совершенно ненужное и нелепое чувство вины перед Новиковым! Ну в чем он виноват?! Он что, отбил у солдата его суженую? Что, вот так, взял и отбил, как последний подлец?! Ведь нет же! Нет!! Откуда он знал?! Может, он и вообще к ней не подошел бы тогда, если б знал?!
Все перепуталось. И ни единого кончика из этого нелепого клубка не торчало, не за что было потянуть, чтоб распутать.
А до присяги было еще далеко. До окончания учебки еще дальше.
Но время шло. День за днем. Одинаковые и заполненные занятиями – проходили минуты и часы, складывались в сутки, а потом и недели. И порой тягостные мысли покидали его надолго – жизнь брала свое.
Ошметки глины не хотели отставать от полотна короткой саперной лопаты. Приходилось постоянно обтирать ее о траву, это утомляло больше всего.
Сергей, скашивая глаза направо, завидовал Суркову.
Тот был всего в полуторах метрах, но как раз через них пролегала невидимая граница в грунте – Сурков метал из-под себя жирный и мягкий чернозем. Он уже наполовину вырыл свой окоп. А у Сергея и первая и вторая половина были еще впереди.
Отрывая от неподатливой земли по крохотному кусочку, он частил, надеялся быстротой взять свое и не отстать от прочих. Спина взмокла, по лицу катил смешанный с пылью пот. Копать приходилось лежа на боку, как в «боевой обстановке».
Сержант издалека наблюдал за работой взвода, и под его внимательным взглядом переменить положение или хоть чуть приподняться не было возможности. Приходилось выносить и боль в затекшей пояснице, и пот, застилающий глаза, и все прочие неудобства. Сержант засек время и следил теперь, чтобы все постарались уложиться в нормативы. Объяснения и неудобства в расчет не принимались.
Сергей знал об этом и вгрызался в глину с остервенением, с лютой злостью на нее, не обращая внимания на усталость.
– Ну до чего ж ты ретивый малый, как я погляжу! – донеслось слева.
Там ковырялся в такой же глине Черецкий. Слова его прозвучали зло, несмотря на явную одышку.
Сергей молчал, делал свое дело, даже не повернул головы, будто Черецкий не к нему обращался.
Но тот был настырным.
– Слушай, Серега, ну чего выкладываться? Мы ж в этой глине, как черви, завязнем, все равно не уложимся. – Черецкий заговорил мягче, ему было так же нелегко. И он искал поддержки.
– Дело хозяйское, – не оборачиваясь, буркнул Ребров. Черецкий сорвался:
– Да ты, баран, простых вещей усечь не можешь! Не соображаешь, что ли, если мы все скажем, что грунт паршивый, что только динамитом возьмешь, – ну чего он нам сделает?! Ты оглох, что ли?! Серый, балда! На нас же, на дураках таких, мир стоит! А мы – терпеть, да! Пускай другой участок дает! Вон хотя бы как у этого салабона Сурка!
– Встать нельзя, а то б я тебе по роже дал, – без особого пыла произнес Сергей. – Тебя ж никто не обзывает!
– Да ладно, фрайер нашелся, обиделся на слова! Я ж не со зла, а ж для общей пользы…
– Да как хочешь! А я буду здесь рыть, уложусь или нет – видно будет, не расстреляют же, чего боишься? Не-е, Боренька, сам ты фрайерок!
Черецкий перевалился на спину, раскинул руки по сторонам. Ему надоело упрашивать и разобъяснять – верно говорят, каждый сам за себя, думалось ему.
– Ну и рой, чтоб тебя…! – процедил он уже без злости, почти спокойно.
Сурков доканчивал свой окоп. Он вполз в него и старательно оглаживая лопатой земляную насыпь перед собой, бруствер укреплял. Уши его, обычно нежно-розовые, побагровели, он тяжело, но удовлетворенно сопел, поглядывал по сторонам.
– Радуется, ударничек, всех обошел… – с сарказмом выдавил из себя Черецкий. На лице его горела недобрая ухмылка. – Эй, Сурок, ты чего это там – быстрее положенного, что ли, перестраиваешься?! Думаешь, на лычку больше дадут или в прорабы назначат, а? Эй, Хомяк, твою мать! Ты что, старших не уважаешь? А ну ползи сюда, старику подмоги!
Несмотря на то что предложение Черецкого об искусственном разделении ребят в учебном взводе на «стариков» и «салаг» не прошло в силу своей очевидной бестолковости и надуманности, сам автор этой новации не отказывал себе в удовольствии иногда помечтать, вообразить себя старослужащим, даже «дедушкой». Правда, на этой почве Борька уже получил пару оплеух, да и сам раздал не меньше – но уж очень ему, видно, было приятно, ну никак не мог смириться.
– Ничего, Боренька, тебе-то вот настоящие старики, как распределят по частям после учебки, устроют житуху, попомни мое слово! – сказал Сергей, не переставая орудовать коротенькой лопаткой, будто заводной.
– Я сам кому хошь устрою! А эту помесь Сурка с Хомяком сегодня же вечером научу быть почтительным, он у меня еще солдатской присяги не проходил! – отпаривал Черецкий. Он по-прежнему отдыхал, благо, что сержант на дальнем фланге возился с кем-то, что-то показывал и растолковывал. – Он у меня настоящим солдатом станет!
– Тебя самого присягать надо! – выкрикнул молчавший до этого Леха Сурков.
– И это запишем, и это учтем! – Черецкий залился ехидным, нервически-деланным смехом.
– Боря!
– Чего тебе?
– Я все хотел спросить у тебя – чего это ты такой злой-то, тебя чего, обделили чем-то в розовом детстве или папа тебя с яслей пивком подпаивал, да не допоил?! Ответь, пожалуйста! – Сергей, перевернувшись на другой бок, уставился на Черецкого.
Тот ошалел, выпучил глаза – то ли от неожиданного вопроса, то ли от прямого попадания.
– Ну, не хочешь – не отвечай.
Сергей снова судорожно вцепился в лопату. Опустил лицо вниз: из-под глины начинал проступать песок. Он копнул еще несколько раз и, убедившись, что не ошибся, крикнул:
– Нажми, Борька, дальше легче пойдет!
Черецкий недоверчиво поглядел на Реброва, но, увидав выбрасываемый тем наверх желтенький песочек, схватил брошенную лопату и с силой вонзил ее в глину.
Новиков не спускал глаз с циферблата часов, наверное, время, отпущенное уставами на окапывание, подходило к концу. Проще было самому рыть землю, чем наблюдать за этим процессом и бездействовать, по крайней мере, ему так казалось.
Наконец он приподнялся с бугорочка, на котором сидел последние пять минут, и не спеша пошел вдоль линии окопов, отмечая что-то у себя в блокнотике.
Сергей чувствовал, что он не успевает, но поделать ничего не мог – Новиков подходил все ближе и ближе. И если бы в запасе оставалось хотя бы две-три минуты, он отрыл бы до конца эту ненавистную земляную щель. Но в запасе не оставалось и минуты!
Черецкий уже понял, что дело безнадежное, и сидел рядом с неглубокой своей ямкой, прямо на травке, терпеливо ожидал приближения сержанта. Но не так-то он прост был. Сергей заметил, что Борька успел вымазать грязными, глинистыми руками все лицо и принялся вдруг дышать словно загнанный жеребец, почти так же поводя боками, а уж рот разевал – куда там жеребцу! Но получалось довольно-таки натурально.
Когда сержант подошел вплотную, Черецкий с маху ткнул лопаткой в землю, да так, что попал в камень или кирпич – конец лезвия чуть согнулся, и Черецкий будто в сердцах хлопнул ладонью по колену.
– Кремень, зараза! Ну не берет, товарищ сержант, хоть ты лопни!
Новиков поковырял мыском глиняные комья и кивнул понимающе, поставил галочку в своем блокноте.
Черецкий почти сразу же перестал «задыхаться» и чертыхаться и незаметно подмигнул Сергею: знай, мол, наших.
– У вас, Ребров, то же самое, грунт тяжелый? – на ходу произнес Новиков, уже собираясь поставить еще одну отметку.
– Нормальный грунт, – ответил Сергей, глядя в сторону. Ему только ваньку валять еще не хватало. – Глина с песком.
– А что ж не уложились-то? – Новиков хотел, чтобы вопрос прозвучал как можно более бесстрастно. Но ему это не удалось – легкий оттенок сожаления лег сверху и придал его словам некоторую глумливость.
Сергей не оправдывался.
Неизвестно, как бы складывались события, но многие ребята из взвода уже сгрудились вокруг, прислушивались. Новиков успел пожалеть, что не поддержал просьбу Сергея о переводе в другой взвод, его рапорт Каленцеву. Но сказал то, что должен был сказать:
– Придется повторить.
Все замерли. Кто-то присвистнул. И ждали, ждали продолжения. Черецкий из-за спины сержанта выразительно пощелкивал себя пальцем по лбу. Сурков сочувствующе разводил руками. Хлебников виновато улыбался.
– Зачет сдавать будете сегодня, в свободное время. Лично мне, рядовой Ребров. Ясно?
– Так точно, товарищ сержант, – ответил Сергей.
У него в глазах мельтешила нахальная, ухмыляющаяся рожа Черецкого. И никак Сергей не мог избавиться от этого гнусного видения.
«Салага, зелень пузатая, котелок медный! – И снова: Салабон! Внучек! Учить тебя и учить! Зелень! – звучало у него в ушах противным шепотком. И шепоток тот по тембру и высоте явно принадлежал Борьке Черецкому. Са-ла-женок!» Но сам Борька стоял себе рядышком и рта не раскрывал, лишь кривился и щурился – эдак по-стариковски, поглядывал свысока. И надо бы ему врезать было хорошенько! Да не место и не время. Сергей только сплюнул под ноги сильно похлопал себя ладонью по пояснице.
Новиков объявил перекур и вновь двинулся вдоль окопов, вытаскивая на ходу из кармана брюк пачку сигарет.
На фоне серого облачного неба фигура его казалось черной.
В обед Сергею передали письмо.
– Ты извини, – сказал парень из второго отделения, принесли вчера еще, да тебя не докричались, я дневальным был, вот запамятовал немного.
Сердце екнуло и забилось часто-часто. Сергей не обратил внимания на извинения – какие мелочи! Но… письмо оказалось от брата:
«Сергей, привет, братуха!
Видишь, как получилось, – я приехал, ты в армию ушел, забрили, что называется. Ну да ладно, служи! Мне все четыре довелось отпахать на флоте – от звонка до звонка, сам знаешь. А пишу тебе не просто так. Так бы и не стал зря сантименты разводить. Хочу тебя порадовать – мать пошла на поправку, и врачи-то не ожидали, и никто. Хотя ты, я знаю, этого еще не просек, ты вечно сам в себе. Но все равно, не бревно же ты, должен чувствовать. Скоро она сама тебе напишет… Ну давай, не буду тебя отвлекать от службы да про дом напоминать, а то еще, глядишь, и расплачешься, а тебе еще трубить и трубить, только начал. Пока! Привет отцам-командирам и братишкам-годкам!
Ю. Ребров (без даты)».
«Не то, чего ожидал! Но все же, дай бог, мать поправится. Что ж это ему выпало-то – и с одной стороны, и с другой, и с третьей! И сам – хорош гусь! Все о себе да о себе, про мать и вовсе не думал, верно Юрка пишет: бревно оно и есть бревно!» Сергею стало хуже, чем было, хотя казалось, что хуже некуда. Но нет, есть, есть куда. Он представил себя со стороны, ну как бы сам посмотрел на такого? Как? Да очень просто – гад он и есть гад: невесту у служивого человека увел? увел! мать чуть не в гроб ложилась, уже при смерти была, а он? хоть бы хны! все о себе да о себе! друзьями надежными, верными – и то обзавестись не сумел! Точное есть выражение: дерьмо в проруби! Очень точное! А Новикову Коляне надо в ножки еще поклониться, что чан не своротил на сторону, а ведь своротил бы – и правда его! Совсем Сергей расстроился, донельзя.
Пересдавать зачет, как и сказано было, пришлось после обеда, когда все отдыхали. А отдых мимолетный в первые месяцы службы почитался за высшее благо, за дар несказанный, чуть ли не сказочный.
Ребята провожали Сергея сочувствующими взглядами.
Мишка Слепнев задрал вверх большой палец: мол, не отчаивайся, все путем. Ему легко было желать удачи, сидючи-то в курилке!
Обед был сытный – каши не жалели, гороха тоже, отпускали всю пайку на пятьдесят шесть копеек в день, как и полагалось. А потому и голодных не было, каждому желающему, если, конечно, укладывался по времени, без скаредности наливали добавку – одинаково жидко-вязкую: где суп, где каша – спервоначалу и не разберешь. И теперь большинство сидело у казармы – немного осоловелые, разморенные. Какой-то счастливчик или просто нахальный тип умудрился даже вытянуться на травке, под прикрытием кустов. Сергей, разумеется, завидовал ему. Но случай у него был особый, и потому молить сержанта о снисхождении было совестно, невмоготу. Да и не желал он никого просить!
Шли молча, Новиков чуть впереди, Сергей за ним. В поле было безлюдно и ветрено. Новиков остановился у облюбованного им пригорочка, уселся на траву и жестом предложил Сергею сделать то же самое. Сергей сел.
– Ну что, потолкуем, – сказал Новиков, – здесь нам никто не помешает.
Сергей вздрогнул. И надо бы пойти навстречу, и мешало что-то.
– Я сюда пришел окоп отрывать, – тихо проговорил он, расстегивая чехол саплопаты.
Новиков занервничал:
– Да погоди ты, нароешься еще за два года, горы земли перелопатишь! Думаешь, я слепой? Думаешь, не видел, что и у тебя грунт был паршивый, похуже, чем у этого Черецкого?! Считай, все в порядке!
– Ну, если в порядке, так пошли назад, я тоже имею право передохнуть малость.
– Та-ак, не хочешь опять, значит? Уворачиваешься? А чего ты боишься?! Ты же мне подлянку подкинул, а я теперь вокруг тебя должен на цыпочках ходить да уговаривать?! – Новиков вцепился рукой в плечо Сергею, повернул того к себе лицом, закричал, брызжа слюной и стервенея: – Я тебя, сука, обхаживать должен?! А у меня, думаешь, нервы железные?! Ну ты, тварь!
Ярость налетела внезапно, помрачив рассудок. Сергей резко вскинул саплопату над головой… еще бы секунда и он размозжил бы череп этому потерявшему над собой контроль крикуну. Но Новиков тут же перехватил его руку.
– Ты та-ак?! – выпалил он в лицо. – Да я ж тебя придавлю, гада, и тут же закопаю! Ишь чего удумал, на кого руку поднимаешь?! А ну, начинай окоп отрывать, живо! Засекаю время!
Вспышка безумия, овладевшая Сергеем, была мимолетной. Он почти сразу же расслабил руку, сжимавшую черенок лопаты, и отвернулся от Новикова еще прежде, чем тот разразился своей тирадой.
– Отпусти! – сказал он.
Новиков лишь теперь разжал пальцы. – Все, время пошло! – выкрикнул он.
– Пошел ты сам к черту! – ответил Сергей. – Если хочешь, чтоб все по службе было, так и сам давай-ка по-уставному, чего орешь-то и оскорбляешь? Вырвался в командиры, так и глотку драть можно? Врешь, Колюня! Так у тебя не получится!
Новиков опешил.
– Ладно, – проговорил он помягче через минуту, – что наорал на тебя, так извиняй. Тебя, вижу, ничем не проймешь. Может, правда, попросить ротного, чтоб он тебя перекинул куда подальше с глаз моих, а? Мне пять месяцев всего-то трубить осталось, а из-за тебя концы отброшу или в дисбат еще попаду!
Такой поворот удивил Сергея. Но в нем словно черт какой-то поселился. И откуда взялось это тупое, самого его раздражавшее упрямство?
– Да чего теперь-то пыль поднимать? Мне в учебке чуток поболе трех месяцев осталось, продержусь, – сказал он.
– Ага, начать и кончить! – съязвил Новиков. – Ну, как знаешь. Только мне на глаза помимо службы не попадайся, понял?! Ладно, пошли!
Разговора опять не получилось.
Да и нужен ли он был, разговор этот самый?
«Люба, здравствуй!
Прости, что не писал две недели. Была причина. Ты, наверное, и сама догадываешься – какая. Довелось мне встретиться тут с одним нашим общим знакомым, узнать кое-что… Ничего, встретимся, поговорим. Месяца через полтора, раньше не получится. А может, ты напишешь, как дело было? Ну что мне, все из третьих рук узнавать? Думай! У меня все нормально. Служба идет.
Сергей, 30 мая 199… г.»
Славка Хлебников был на полгода моложе Сергея, в июне ему должно было исполниться девятнадцать. Когда его спрашивали, почему он попал в армию не со своим призывом, а на год позже, Славка отшучивался и сокрушенно пожимал плечами, дескать, он вообще никуда и никогда не поспевал вовремя, и ничего удивительного нет в том, что его и здесь обошли!
На полголовы ниже Реброва, худой и мосластный, Хлебников не выделялся среди остальных солдат. А внешне ему можно было дать и восемнадцать, и даже меньше. И только глаза, зеленовато-серые, с чуть расширенными, наверное от легкой близорукости, зрачками, были не по возрасту глубокими, грустными. Постоянная хитроватая улыбка на лице сглаживала это впечатление от глаз. Но те, кто знал Хлебникова ближе, давно приметили, что улыбка была всего лишь маской, за которой скрывался не очень-то веселый по своей натуре человек.
Сергей не искал дружбы со Славкой. Но относились они друг к другу по-приятельски и вместе с тем со взаимным уважением. Если бы пришлось кому-либо во взводе раскрыться, довериться, то Сергей свой выбор остановил бы, пожалуй, именно на Хлебникове. Постепенно их отношения начинали перерастать в дружбу. Нет, они не липли друг к другу с дружескими излияниями и откровениями, но каждый знал, что в случае чего есть на кого положиться, а ощущая рядом надежное плечо и служилось полегче.
К отбою выматывались до изнеможения. И все-таки не так, как в первые дни, приходила привычка.
– Еще денек долой! – Черецкий, заштриховав в календаре число, щелчком закрыл блокнот и аккуратненько запихнул его под подушку. – Тянуть лямку остается – всего-навсего, э-э семьсот три денечка, так-то салаги!
День, на который по его расчетам приходилась демобилизация, был обведен красным кружочком. Для пущей убедительности рядом стоял огромный восклицательный знак, а сбоку на полях краснела приписка: «дембель!» В отделении ни для кого не было секретом, что с первого дня службы Черецкий, как, впрочем, и множество других новобранцев, вел этот счет. Но не у каждого хватало выдержки и последовательности, чтобы изо дня в день заштриховывать квадратики да еще и дрожать постоянно за свой «дембельский календарик», который рано или поздно отберут – если не сержанты здесь же, в учебке, так «старики», которые не допустят всякой там «салажне» по первому году свой счет вести, «старики» в тех частях, куда их распределят после окончания учебы.
– Считай не считай, а время – оно все равно наше, хоть ты здесь, хоть дома, – пробасил из своего угла Слепнев.
Он уже лежал под одеялом, ждал, когда свет выключат.
– Много ты понимаешь! Молодой еще! Наше? Вот вернусь на гражданку, тогда – точно, мое будет. А пока казенное!
Черецкий поправил сложенное на табурете обмундирование, откинул край одеяла, лег. Пружины панцирной сетки заиграли под ним, заскрипели.
– Шоферить буду, вас, олухов, катать, – сквозь зевоту продолжал он, – деньжат скоплю, свой мотор куплю. И все остальное…
– Да слыхали, Боря, надоел уже. Ты б чего новенькое загнул!
– Ага, разбежался! В другой раз… – Черецкий вдруг встрепенулся, приподнялся, свесил ноги с кровати. – Чуть не забыл! – Он хлопнул себя по лбу. – Эх, старость – не радость! Сурок, а ну-ка припомни, зеленка, ты сегодня, когда тебя просили, помог старшим, а? Чего молчишь?!
Леха Сурков помалкивал, наверное, уже спал. А может, и просто затаился.
– Не-е, на этот раз у тебя номер не пройдет! Ты же в коллектив не вписываешься! Ты ж товариществом армейским не дорожишь! Да ты спроси у любого, вон, хоть у Слепня спроси: пошел бы он с таким в разведку?! Чего примолк – язык в задницу уткнул, что ли?!
– Отвяжись от него, – сказал Сергей с ленцой, вставать ему не хотелось. А не вставая, он знал, Черецкого не урезонишь.
– Ты сам помалкивай, салабоном себя показал перед всем взводом, так и дыши в тряпочку! – отпарировал Черецкий.
Очень не хотелось Сергею вставать.
– Эй, Хомяк!
Суркову надоело, видно, и он ответил:
– Ори, сколько хочешь! А если кличками звать будешь, так, считай, что я тебя не слышу, Чирей!
– А-а-а, вот ты как заговорил, деревня! – Черецкий начинал заводиться. – Ну, лады! Ну, придется тебе, точно, присягу устроить! А ну вставай, салага! Вставай, кому говорю!
Сам он лежал. Да и знал, конечно, что Сурков не встанет. А если встанет, так добром дело не кончится. Но надо было как-то свернуться, так, чтобы и достоинство сохранить, и Суркову досадить. И он решил этот вопрос просто.
– Ладно, село, уговорил дедушку. На первый раз прощаю, не стану о тебя пачкаться. Но проинструктирую на будущее, понял?!
– Да заглохни ты! – проворчал Слепнев. – Славик, руби провода!
Их рота размещалась на втором этаже старого, еще довоенного здания. Скорее всего, постройка была вовсе не казарменного типа и лишь позже она перестроилась под солдатское жилье. На каждый взвод, а то и отделение приходилось по комнатушке или, как называли некоторые, по кубрику – совсем по-флотски. Первые дни свет гасить приходил сам сержант, иногда он присылал дневального. Потом стали доверять. Но проверять. Дольше пяти минут после вечерней поверки и отбоя свет гореть не должен был. И точка! Никаких объяснений не принималось в расчет. А тем, у кого на сей счет было иное мнение, запросто устраивались учебные подъемы и отбои на время. Рисковать и играть с судьбою не стоило.
Хлебников, лежавший на крайней койке, почти у самой двери, протянул руку и щелкнул выключателем. Разлившаяся темнота отозвалась скрипом, шуршанием одеял – устраивалиь поудобнее, предвкушая целую ночь отдыха – ночь, такую долгожданную с самого утра, желанную после заполненного до отказа беготней и занятиями дня и наконец-то наступившую.
– Итак, инструкция для салабонов по принятию солдатской присяги! – торжественно объявил Черецкий. – Слушайте старика, да запоминайте хорошенько! Это ж не хухры-мухры, это же традиция!
– Да не болтай ты! Традиция! – проговорил Хлебников. – Вот из-за таких, как ты, болтунов всякие газетчики шустрые и позорят армию, понял. Сами-то они не служили, и детишки их! Наслушаются таких вот парашников…
– Не мешай, – коротко оборвал Черецкий. – Я для Сурка говорю. Да и Слепню не мешает прислушаться, тоже зеленка еще та.
Слепнев громко и показушно вздохнул.
– Солдат должен быть готов к любым испытаниям, ясно, салажня?! А ежели для него самая обычная солдатская присяга страшна, так на хрена в армию пошел?! Какой из него защитничек? Не-е, не каждый может с честью пройти через это, прямо скажу, почетное и нелегкое испытание! – Черецкого понесло. И остановить его было невозможно, это уже знали все. И потому думали: пускай травит, лишь бы рукам воли не давал.
– Короче, Сурок, запоминай. Вот, табурет, сечешь? Ставим его на попа, эт-то, значит, ножками кверху, ясно?!
– Заткнись ты! – не выдержал Сергей и сунул голову под подушку. Все равно все было прекрасно слышно.
Но Черецкий снизил тон, хотя уверенности не поутратил, будто давая понять, что он здесь хозяин и плевать хотел на всякую там мышиную возню из угла.
– Так вот на этот табурет ставим салагу. То есть молодого бойца.
– То есть тебя самого и ставим! – вставил Хлебников.
– Не надо, Слава, не надо, и помоложе найдутся. Значит, ставим салагу – скажем. Сурка! А делается эт-то так: чтоб всеми четырьмя конечностями он на торчащих вверх ножках табурета стоял. Усекли? Поза, я думаю, ясна! Первый элемент присяги – выработка уважения к солдатскому хлебушку. Чтоб от домашних галушек поотвыкли! Берем ложку, черенок – к полотенцу покрепче привязываем, а потом за другой конец этого полотенца – и с оттяжечкой, раз десять, с отмашечкой по заднице! Чтоб уважал!
– Э-хе-хе, ну и обалдуй же ты, Боря! – сказал Слепнев. Но Черецкий уже никого и ничего не слышал. И слышать ничего не хотел.
– А в эт-то время сводный оркестр салабонов зеленопузых, не прошедших присяги, вовсю марши наяривает – на губах, расческах, да кто на чем сумеет. И в руках у самого достойного – знамя всей объединенной полковой салажни, оно же швабра с полотнищем из мешковины – реет, реет над головами! И чтоб стоять на табурете насмерть! Не шелохнувшись! Иначе – все насмарку, все по новой!
Чья-то подушка на мгновение попала в голову Черецкому и заткнула ему рот. Но лишь на долю секунды! Он тут же послал подушку обратно, в темноту.
– Второй этап – все то же самое, но сапогом. Чтоб, значит, одежку казенную ценили да обувку не стаптывали почем зря! Ведь вам, салажне, в сапогах этих топать и топать еще, верст по тыще!
– Бред какой-то! – возмутился снова Слепнев.
И Сурков застонал вполголоса.
– Тихо! Старика не уважаете! – деланно обиделся Черецкий. – Я им, можно сказать, по-отечески все растолковываю, а вместо благодарности – одни упреки! Ну, дела! Ну, молодежь! Да разве ж мы такими были, а?!
– Да не скули ты! И не паясничай! – прервал его Хлебников. – Давай уж досказывай по-быстрому и закругляйся, хватит!
– Да, чуть не забыл! – спохватывается Черецкий. – После каждого раза надо с табуретки-то соскочить, обежать вокруг нее круга по три да к знамени приложиться! Ну вот, хорошо вспомнил… На третий раз – бляхой! Тоже десять раз! С отмашечкой! Видали бляху мою ременную?! Блестит не хуже лампочки нашей! Так вот, чтоб и у салажат на лицах блеск и удовольствие сияло, ясно? И опять пробежечка. Эт-то чтоб привычка к марш-броскам была! Ну, дальше я особо останавливаться не буду, там еще несколько вариантов есть – флягой, и саплопатой… Последнее, хе-хе, это Сереге нашему дорогому Реброву не помешало бы, чтоб копать научился…
Сергей привстал и ударил Черецкого подушкой по голове. Но тот успел подставить руку, смягчил удар.
– Чего ты волнуешься? Эт-то еще пока только инструкция, ты потом волнуйся, когда до практики дойдет!
– А это тебе волноваться надо, такому болтуну – точняк, достанется, нарвешься! – беззлобно сказал Сергей, снова укладываясь.
– Ничего, ничего! – продолжил Черецкий, вошедший в раж. – Ваше место на табурете, заняли? Продолжим! Сейчас начнется испытание по-серьезнее! Берем кого поздоровее, скажем, Васю Удалова из второго взвода, битюга, и привязываем для него к полотенцу каску. Ну, тут держись, Сурок, тут главное – не скувырнуться, а то пиши пропало, заново все! Итак, противогаз на голову, а сверху ведро! Позиция та же! И держаться, держаться! Вася отпускает для начала касочкой десяток горяченьких, чтоб шрапнель не брала. А потом… Внимание! – Черецкий от возбуждения перешел чуть не на крик, он в упоении, в грезах, в своем нелепом представлении по уши. – Внимание! Имитация ядерного взрыва! Запоминай, Сурок, на учениях и покруче придется! Короче, берем мы эт-то с Васей табурет, вздымаем… Да сверху, по ведру – хлобысь!
Слышно его тяжелое дыхание.
Но Сергей уже снова вскочил, застыл рядом с койкой Черецкого, навис над ним.
– Щас я тебя самого так хлобыстну табуреткой по чану, что и ядерный взрыв будет и имитация вместе, усек?!
Черецкий устал, выдохся.
– Лады, отставить! – проговорил он. – Мое дело проинструктировать, а внедрять в жизнь потом будем. Отбой!
Минуты на две воцарилась долгожданная тишина. Сергей начал успокаиваться. Но заснуть ему так и не дали. На этот раз Славик не дал. Говорил он, правда, шепотом, но как уснешь, когда каждый шорох напряженные нервы чуют?
– Да-а, – говорил Хлебников, – ты, Боренька, находка кое для кого, таких ценят у нас, особенно в прессе, когда хаять армию начинают, там таких-то и подавай. Не спорю, есть и дедовщина, и всякое случается, на гражданке, кстати, почаще даже раз этак в сто, а то и в двести. Но кое-кому выгодно, чтоб армию хаяли, чтоб недоверие сеяли между служивыми и штатскими. Это вот точно! А таких, как ты, болтунов они как тараны используют, как бревно, понимаешь, возьмут его, раскачают – да как долбанут в армейскую стену, разок, другой! К общественности возопят, похиляются на нелегкую службу чьих-то там сынков… А сами колотят и колотят, брешь пробивают. Я вот давненько думаю: а чего это такую кампанию развернули, а? Чем это им армия именно так не угодила? Ты, Боренька, тоже на досуге-то подумай.
– Подумаю, – отозвался Черецкий грубо.
– А традиции не трожь! Ты русских армейских традиций не знаешь, не слыхал, видать, о них. А лапшу на уши вешаешь. Вся Россия, весь Союз на армии нашей держится, все развалится, а если она устоит, сохранит свои традиции, так и Россия устоит и другим народам пропасть не даст. Так что, не трожь ты традиций российских и не пачкай их, а парашу свою присяжную для себя прибереги да для тех, кто на анекдоты падок, понял?!
– Славик точно говорит, – согласился так же, шепотом, Мишка Слепнев.
Черецкий помалкивал. Утомился, видно.
Сергея начинала одолевать дрема. Но как-то не до конца, оставляя краешек сознания свободным. Вместе с темнотой к нему обычно приходили одни и те же мысли, мешали уснуть – и даже когда им сопротивлялось все тело, измученное дневными нагрузками, требовавшее покоя и сна. Чем старательнее Сергей пытался избавиться от этих мыслей, тем навязчивей липла к нему клейкая смесь воспоминаний и представлений о расплывчатом, непроницаемом, как эта послеотбойная темнота, будущем.
Словно через стенку до него доносились притихшие голоса товарищей, больше по инерции, чем по необходимости, продолжавших переговариваться, травить байки на сон грядущий. Эти голоса переплетались в голове Сергея в путаном клубке с внутренними голосами, и все терялось в невообразимой мешанине слов, мыслей, предчувствий. Но, как ни странно, путаница эта приносила с собой облегчение, погружала мозг в дремотное оцепенение, за которым следовал глубокий, без запоминающихся сновидений беспробудный сон. Так было всегда, весь последний месяц бесконечный и очень нелегкий. Так было бы сейчас, если бы из общего легкого гомона не выделился один голос, подчинивший себе все остальные и потому звучавший теперь в одиночестве, мягко и убаюкивающе, так, что не сразу доходил смысл. Поневоле Сергей начал прислушиваться, пытаясь понять, о чем речь идет. Но дремота брала свое, и он мог уловить лишь малосвязные обрывки, немало удивившие его.
Говорил Славка Хлебников – неторопливо, без нажима, говорил будто с самим собой про какую-то зубчатую стену, из-за которой выползало солнце, и про зарубки на каких-то непонятных и не воспринимающихся сего дня, всерьез копьях, про неспешные и ласковые воды Дуная, и осаду никому не известной крепости со странным названием… Сергею даже показалось на мгновенье, что кто-то из них двоих бредит: или Славка, или же он сам. О чем они обычно трепались? О футболе и экономике, с ее вечно меняющимися моделями, о службе, о былой гражданской житухе и, разумеется, о женщинах, о тех девчонках, что ждали их, да и о тех, что не ждали, – о многом трепались. Но такое Сергей слышал впервые. Славка говорил как-то просто, не выбирая нужных слов, лишь бы передать смысл рассказываемого. Но в голове у Сергея все складывалось в невероятную картину и звучало совсем иначе – образно и красиво, складно, будто в книгах, нет, еще лучше! И он не понимал – и в самом ли деле он слушает чей-то рассказ или же ему просто-напросто снится необыкновенный сон, в котором звучит совсем иной, сказочный голос и видится все, как наяву, лишь ускользает смысл, суть видимого и слышимого, но остается ощущение, вполне реальное, что все это имеет и к нему, Сергею Реброву, какое-то отношение – и потому: треп ли это, бред или просто сон не имело ровно никакого, ни малейшего значения… солнце выползало из-за бревенчатых зубьев высоченной стены, той, что у Западных ворот, освещало лагерь ромеев на холме, прокатывалось по невидимой дуге небосвода и падало за такую же зубчатую стену, но уже с другой стороны. И когда оно посылало сквозь бревенчатые бойницы свои последние угасающие лучи, многие делали очередную зарубку на древке копья – прошел еще один день.
А всего их прошло в этой крепости восемьдесят и еще семь.
Восемьдесят семь дней и ночей стояли друг против друга два огромных войска, восемьдесят семь дней и ночей чаши весов склонялись то в одну, то в другую сторону, но ни одна из них не могла перевесить.
Месяц назад в крепость, зажатую в кольцо осады, пробралась голодная смерть. И с тех пор не проходило ни единой ночи, ни одного дня, чтобы она не уносила из жизни тех, кто прошел от полянской земли до дальних берегов Русского моря через Муром и Булгар, через Итиль и Белую Вежу, через Хазарское царство и Тмутараканское княжество, тех, кто пришел со Святославом сюда, на болгарскую землю, задавленную тяжелой пятой Византийской империи, тех, кто выжил в кровавых сечах. Были и те, что прошли этим путем, знакомым русичам еще задолго до князей киевских Аскольда и Дира. не первый раз, что доходили с Олегом и Игорем до самого Царьграда и оставляли на его воротах щиты свои. Их тоже уносила смерть, не разбирая – юнец ли ты безусый, ветеран ли, видевший полмира и ведущий счет годов своих многими десятками.
Не довелось на этот раз дойти до великого города. Второго Рима. И всего-то оставалось верст сто с небольшим, когда выросла на пути русского воинства огромная и «непобедимая» армия императора Иоанна Цимисхия, армия, собранная со всех концов необъятной и могущественной империи. Той самой, что завоевала чужими руками за свое неправедно нажитое золото полмира, а теперь намеревалась, опустошив Болгарию, запустить кованые щупальца в землю Русскую, неприступную пока еще для вражеских полчищ. Сам Иоанн Первый, невысокий огненноволосый крепыш, выходец из Армении, оставил на время в цареградском дворце, одном из чудес света, свою пурпурную мантию базилевса и нацепил золоченые доспехи, чтобы собственным присутствием вознести боевой дух разноплеменного воинства на высоту, достойную противника-«варвара».
Дважды становились лицом к лицу русские полки с не имеющим числа врагом: сначала под белыми стенами Аркадиополя и потом – у Преславы. Дважды удача улыбалась Цимисхию и отворачивалась от русичей. Сдержать натиск железных ромейских полчищ было, видно, не под силу и самому, не знавшему поражений, Святославу – русскому барсу, как его называли хазары. Не было подмоги, не было надежной защиты за спиной, редело войско… Шаг за шагом приходилось уступать болгарскую землю, оставляя в ней тела лучших воинов, и отходить все дальше и дальше на север, пока не преградил пути полноводный, могучий Дунай. На его берегу стоял город-крепость Доростол – и был этот бревенчатый городок последним кусочком болгарской земли, не завоенным ромеями. Для болгарских дружин, что плечом к плечу сражались рядом с русичами, что прошли в одном строю с ними Балканы и Македонию, а потом и весь тяжелый обратный путь, – дороги дальше не было.
Объединенный совет воевод и выборных ото всех дружин решил: быть битве! Здесь, под стенами Доростола. И было это еще до начала осады.
Южная ночь пролетает быстро. С первыми лучами солнца засверкали на холме против русского лагеря десятки тысяч начищенных ромейских шлемов. Затрепетали на ветру разноцветные знамена, и слышно стало, как ударяют одновременно бесчисленное множество бронзовых рукоятей мечей о щиты – подобно раскатам грома звучало это приветствие византийского войска, встречающего своего военачальника и базилевса.
Радомысл, загоревший до черноты, так, что его короткая русая борода и усы казались седыми, всматривался из-под ладони вдаль, щурился – зрение что-то начинало сдавать. Но все же он различал многое, даже детали. Обернувшись к своему десятку и припав на искалеченную под Аркадиополем ногу, он сказал:
– Ишь ты, умеют туману напустить, вояки! И нам бы поучиться тому.
– Нам это ни к чему, не битьем в тазы битвы выигрывают и не перьями на шеломах, – ответил Вех, один из дружинников, входивших в десяток Радомысла, его одногодок, лишь две весны назад ставший воем. Был он крепок, плечист, ясноглаз и, хотя бывал в серьезных переплетах, ранений не имел – один из немногих. Видно, судьба благоволила к нему. Не признавали русичи власти какой-то неведомой им, чужой богини Судьбы. Но что-то ведь помогало одним и обрекало других на смерть. Что? Кто знает!
– Нет, есть чему поучиться, не говори. Это ж не просто бряцание, это ж и веру в силы дает, в единение.
– Коли их нету! – завершил Вех.
Он тоже глядел на ромеев.
Цимисхий на белом тонконогом коне впереди многочисленной пышной свиты объезжал строй. И как багровое пламя полыхал в утренних лучах его императорский плащ.
Будто предвещая, что недалек тот час, когда это поле, поросшее молодой зеленой травой, побуреет от пролитой крови.
– В фалангу строятся, – отметил Радомысл.
Далеко – на обоих концах горизонта, и справа и слева от закованной в железо пехоты, – пестрели своими вычурными нарядами отряды конных.
Проезжая вдоль рядов, император что-то кричал: гортанные звуки вырывались из его горла, эхом прокатывались над головами, и в ответ тысячеустые полки сотрясали еще прохладный после ночи воздух воинственным и дружным ревом. В небо взлетал лес копий. И казалось, даже кони ромеев грозно скалили зубы на русичей. Три полета стрелы отделяли лагерь Святослава от византийской армии.
– Много их, – погоревал вслух Радомысл, – никогда так много ромеев не видал.
– И хвала Роду, сами себе мешать будут! – твердо заверил Вех.
– Верно! – быстро согласился с ним десятник. Он только сейчас, после слез друга, понял, что не след воев самому-то запугивать. Правда, знал – особо и не запугаешь, у каждого своя голова, свои глаза да свой непростой опыт.
Князь появился, когда воеводы уже выровняли ряды и каждый занял свое место в строю. Он неторопким шагом выехал из крепостных ворот, опустив поводья и держа в правой руке железный, со множеством отметин, шлем.
Левой он опирался на рукоять меча – простого, без украшений, такого же, как и у простых воев, выстроившихся в привычную для них пешую «стену». Прядь совсем светлых волос свисала с его выбритой головы, слегка подрагивая под порывами ветра. Когда князь поворачивал голову влево, в его ухе под лучами солнца поблескивала маленькая серебряная серьга. Темно-русые усы, свисавшие к подбородку, делали его лицо серьезным, даже хмурым. Он не смотрел в сторону ромеев, глаза Святослава были опущены к гриве серого в яблоках коня, на котором он восседал.
– Гляди-ка! – Радомысл ткнул Веха в бок, указывая направо.
Оттуда навстречу князю скакали двое дружинников.
Первый держал в вытянутой на отлете руке длинное черное древко с княжеским стягом. Когда они поравнялись, Святослав спустился наземь и бросил поводья второму дружиннику. Через минуту тот скрылся на левом крыле войска.
А князь, так же понурив голову, шел прямо в середину строя, на Радомысла и Веха. Красное корзно свисало с его плеч, будто неподвластное ветру. Под ним была плотная железная кольчуга, надетая прямо на белую холщовую рубаху.
Князь шел медленно, в полной тишине, по-прежнему сжимая рукоять своего меча. Если бы не его княжеский плащ, навряд ли бы кто из ромеев смог догадаться, что это сам Святослав – предводитель двадцатитысячного русско-болгарского войска.
Когда оставалось сделать два-три шага до стоящих, князь приподнял голову. И Радомысл ступил в сторону, освобождая место. Он был рад оказанной чести, еще бы биться плечом к плечу с прославленным витязем – не каждый день приходится, почитай, раз в жизни такая удача и выпадет-то!
Молча кивнув, князь занял место в строю и, расстегнув пряжку на груди, сбросил корзно. Багряная плотная ткань мягко сползла к его ногам. Теперь ни один чужеземец, не знающий князя в лицо, не смог бы его отличить от тысяч других воев, замерших в «стене».
И каждый из стоявших знал теперь: князь с ним, в первых рядах!
Спешившиеся дружинники оставили коней и встали позади Святослава. Один из них подал князю высокий красный щит с ликом солнца, точно такой же, как и у прочих русичей. Кони заметались перед строем, потеряв из виду своих хозяев, и, видно, решив, что их место не здесь, умчались туда, откуда минуту назад принесли своих седоков.
– Добрый знак, – тихо, будто сам себе, сказал Святослав. И, чуть помедлив, добавил: – Ну что же, пора. Перун и души бесстрашных предков, не знавших поражений, с нами. Пора!
Он отпустил рукоять меча и, взяв шлем в обе руки и оглядев его, надел на голову. Одновременно черное древко в руке знаменосца выпрямилось – и когда княжеский стяг взвился вверх и затрепетал на ветру, будто по команде развернулись над полками русскими боевые знамена. Прокатился вдоль рядов гул, сдержанный, но выдающий все же сокрытую в воинстве немалую силу и мощь.
– Эх, навьи чары! – прошептал Вех Радомыслу. – Ну и жатва сегодня будет, то-то Волос-в своей преисподней возрадуется!
– Не впервой! – отрезал Радомысл так же, в четверть голоса. – Смотри-ка чего там?!
Из гущи ромейского войска вырвались резкие пронзительные кличи труб. Необозримая черная фаланга, всколыхнувшись, будто непомерный, исполинский студень, сдвинулась с места и поползла, поползла. Даже у бывалых бойцов стало тяжко на душе при виде этой пятидесятитысячной громады, ощерившейся мечами и копьями, неумолимо надвигающейся, грозящей смести все живое в воды Дуная.
Святослав, вырвав меч из ножен, резко выбросил его в правой руке в сторону византийцев – будто молния блеснула и погасла в центре русского войска. Теперь ничто не могло остановить надвигающейся сечи.
Князь по-прежнему молчал. Все указания да советы он раздал еще накануне. И теперь только прислушивался, присматривался к ходу отлаженной им машины – войско, прошедшее через десятки битв и тьму испытаний, действовало четко, уверенно.
Медленно сближались две людские массы. Солнце карабкалось по небосводу вверх, будто для того, чтобы лучше рассмотреть оттуда, что творится на зеленой равнине, заполненной тысячами людей.
Но вот на него набежала тень – это вышедшие на свои рубежи стрелки пустили из тугих дальнобойных луков первые стрелы: воины, прикрывавшие стрелков щитами, бросились наземь, передние лучники стали на одно колено, вторые ряды пригнулись, третьи стреляли, в полный рост стоя, задние – посылали свои стрелы заметно вверх, чтобы они разили не прямо в грудь неприятелю, а сыпались в его ГРУДУ с небес. Стреляли по команде, все разом. И тут же щитники вскакивали на ноги, крепко упирая в землю большие красные щиты. Лучники успевали изготовиться к следующему залпу. Издалека не было видно – большой ли урон приносят врагу каленые стрелы. Лишь едва уловимые содрогания черного студня говорили о том, что выстрелы достигали цели.
– Эх, лиха беда – начало! – процедил Радомысл, ободряя десяток. Он уже настроил себя на бой, лютый бой.
Щека у него чуть подергивалась, плечи и шея напряглись. Ему верили, за ним шли. И все же ближайшие вой, нет-нет да и скашивали глаза на князя: как-то он, что делает, что замышляет? Расстояние сокращалось, и стрелы с той стороны стали доставать русичей. Сначала упал один из лучников – посланница смерти вонзилась ему прямо под ключицу, в зазор между кольчужными завесями. Потом рухнул другой, третий… И вот уже стрелы начали падать у самых ног основных рядов, возле «стены». Русичи умерили шаг.
– Ромеи-го оплошали, – проговорил Радомысл, раздвигая заветренные губы в улыбке, – видать, не успели подтянуть катапульты. А то б они давненько нас угостили! Ну ничего, полегче будет.
Вех молча кивнул. Десятник был прав: ни одной каменной глыбы еще не свалилось с небес. Но метательные машины могли подойти и позже.
Святослав первым остановился и выставил вперед щит.
– А мы вот так! – проговорил он в усы. – А ну!
Его примеру последовали во всей первой шеренге – с краю до краю, отгораживаясь красной, в рост человека, стеной от ядовитых жал. Задние вскинули на вытянутых руках щиты вверх – стало темно, словно в глухом дубовом срубе, и лишь резкие удары железных наконечников об эту подрагивающую крышу, будто просыпавшийся с разъяренных небес железный горох, говорили о том, что внешний мир не только существует, но и грозит за малейшую неосторожность смертью или увечьем.
– Вперед!
Медленно, не разрушая спасительного строя, сдвинулись с места, пошли. Сквозь маленькую бойницу с краю щита Вех видел, что все больше и больше русских стрелков не могло подняться после порывистых ударов железного града.
– Эко их повыкосило! – не смог удержаться он.
Они приближались к лучникам. Стали видны опустевшие колчаны-гулы за спинами стрелков. Те сделали свое дело, теперь очередь была за «стеной». Сейчас Вех жил одной мыслью – уцелеть, не свалиться прежде времени, успеть дойти до ромейских рядов, это главное. А там? Там вся надежда на собственные руки, на силу и ловкость, на крепость и увертливость, да на хладнокровие, спокойствие. Но это будет потом…
– Ну, други, пошли! – громко выкрикнул князь. – Вперед!
– По-ошли-и! – заорал Радомысл.
– Пошли-и! По-оыли-и-и! – загремело со всех сторон. – Впе-ере-е-ед!!!
Князь первым перешел на легкий бег. Под звуки удаляющихся голосов, передающих команду и налево, и направо, и в глубь войска, остальные последовали его примеру.
Шумное дыхание заполнило глухое и темное, движущееся укрытие. Стало душно, свежий утренний ветер лишь слегка касался ног бегущих, не проникая за стену щитов.
Бежали мерно, придерживаясь за древки копий и не нарушая рядов. Каждый знал, что его падение может разорвать строй не только в десятке, но и во всей сотне и тем самым откроет доступ смертоносному дождю на головы, плечи, спины сотоварищей. Удары стрел слышались сверху все реже, то ли они кончились у ромеев, то ли те, понимая тщетность своей пальбы, решили приберечь их на будущее.
Добежали до лежащих в траве лучников и щитников.
Половины из них можно было недосчитаться – что же, на то и бой! Плакаться не время! Щиты по командам десятских отодвинулись, отодвинулись влево, открывая дорогу меж рядов. Раненых несли по двое, по трое, убитых оставляли до конца сечи. В рядах сразу стало тесно, запахло свежей, еще не запекшейся кровью. Теперь место лучников было позади – пополнят колчаны, передохнут малость и будут поддерживать наступление. А надо, так и с мечами пойдут, с копьями…
Близился последний, решающий миг! Почти ничто уже не отделяло бегущих первыми от упругого, ощетинившегося строя византийцев. Все ближе, ближе – сто шагов, шестьдесят, двадцать…
– Копья! – раздалось со всех сторон, так, что и непонятно было, кто же подал команду, может, и сама ока прозвучала в ушах бывалых бойцов.
– Ко-опья-я!!!
Из-за красной брони щитов высунулись вперед длинные и острые ножны. Древки копий сжимали руки сразу нескольких воев в каждой из колонн, и потому сила их удара была таранной, попробуй выдержи!
Уже ускользали из-под ног Веха последние пяди земли. Пять шагов, три, один… Все! Стена сошлась с фалангою, железо ударилось о железо – раскат грома прокатился под безоблачным небом. Рухнули, развалились первые ромейские ряды; уцелевшие от удара пятились, вклинивались в задние порядки.
Вех отбросил ненужный теперь в ближнем бою большой и тяжелый щит. Сдернул со спины малый, круглый – он в самый раз для рукопашного – и по брошенному щиту, лежавшему на телах убитых ромеев, будто по мосту через реку, разделявшую мир живых и мир ушедших ранее, бросился вперед.
Сеча!
«Сереженька – миленький, любимый!
Не сердись, прости меня, если сможешь! Запуталась настолько, что сама не знаю, что делать надо. Разве думала, могла помыслить я, что судьба сведет тебя с Николаем! Да что ж это такое… Сама не знаю, что пишу, – все не то, все не так. Ты прости, что никогда тебе о нем не говорила, ведь на что надеялась – все прошло, все быльем поросло. Теперь вижу – нет! Значит, так и надо мне, значит, заслужила. Ну ладно. Остается выложить все как на духу, а там сам решай. Как решишь, так и будет!
Вчера он опять был у меня. Не прогонять же! Только ты не думай, пожалуйста, ничего такого не было и быть не могло. Вот разговор состоялся у нас, очень серьезный разговор. Но ни к чему мы так и не пришли. Да и как без тебя-то! Он ушел злой, не попрощавшись Но сказал, что его как пылинку с рукава не стряхнешь. Обещал еще прийти. Такие вот дела. А я совсем не могу заниматься, уже вторую неделю пропускаю институт. И только сижу дома да все плачу и плачу. Через полгода, нет, уже раньше, он вернется насовсем. А ты? Два года! Ведь можно с ума сойти за эти два года! Ты даже ни разу не приезжал в увольнение. Почему? Не хочешь, что ли, видеть меня?
Ведь он постоянно бывает, не реже, чем два раза в месяц. Ну почему ты не приедешь ко мне? Почему???
Да, я была с ним знакома еще два года назад. И потом все время был только он, он один. До того самого, помнишь, предновогоднего вечера. И пока мы с тобой были вместе, я и не вспоминала о нем. Правда, он звонил, заходил. Но я предупреждала сестру, чтоб говорила, будто меня нет дома. Я и вправду его любила, очень, очень сильно, мы жили с ним, прости за то, что я скрывала, а теперь – за правду прости. Но ведь все это было до тебя! Потом, понимаешь, потом ничего не было! Ни-че-го! Ты один, только ты один был рядом: и в сердце, и в душе. Я хотела его вычеркнуть из своей жизни, забыть навсегда. Но он, понимаешь, он-то этого почему-то не хотел! Я не знаю, что теперь делать, как быть. Отчего ты редко пишешь? Ты разлюбил меня? Из-за этой всей истории?! Я не верю, не верю!
Но ты далеко! А он будет скоро совсем рядом. Что же мне делать? Два года. два года – такая пропасть времени!
Но ты знай, что люблю я только одного тебя, помни об этом всегда, и я буду с тобой рядом.
Сереженька, попробуй поговорить с ним сам. Вы же в одной части! Неужели вы не можете разобраться? Как я его боюсь! Он придет, он заставит забыть тебя. Он очень сильный, у него характер – о-го-го! Это точно! Помоги мне, ты моя надежда! Я не знаю, что мне делать!!! Он мне снится каждую ночь, снится: стоит и молчит, только смотрит – долго, пристально, будто укоряет. Но взгляд у него добрый, прощающий. Я знаю, он согласен все забыть, только бы нам быть вместе. Каждую ночь он смотрит на меня! Приезжай, молю тебя, приезжай, и ты все переменишь, вернешь себя мне. Ну, верни же, что же ты?!
Люблю, целую, навсегда твоя Люба.
И еще. Сергей, твой этот тип наглющий. Мишка Квасцов, мне просто проходу не дает. Болтает обо всем, позорит по институту, сплетни распускает – самый настоящий подлец! Но хватит о мелочах… Ты помни, все зависит лишь от тебя, только от тебя! Ну ладно, прости еще раз, Сереженька!
…Как же нам быть-то?! (без даты)».
Глава вторая
Друзья и недруги
Июнь принес с собой дожди и прохладу. Небо затянулось пасмурной пеленой, стало низким, давящим.
– Май все тепло летнее съел, – приговаривал Сурков и вздыхал.
Ему верили, потому и не возражали, – кому ж знать причуды погоды, как не уроженцу деревни. Но в глубине души каждый надеялся, что лето, еще такое долгое, только-только начавшееся, порадует Подмосковье не одним солнечным деньком. На это намекал и неумолкающий утренний гомон птиц, мокрых, взъерошенных, но не унывающих, снующих тут и там по своим суетным птичьим делам. От их щебета становилось легче, вольготнее, даже дождевая вода под подошвами сапог, казалось, хлюпала бодро и весело, вызывая желание пробежаться босиком по прозрачным радужным лужам, как не в столь уж далеком детстве.
И бегать приходилось: по утрам, на физзарядке, и днем, на занятиях по тактике, и в пока еще коротких примерочных марш-бросках, и просто – бегать, бегать и бегать в повседневных кроссах, сгоняя с себя допризывный жирок, чувствуя, как на его месте затвердевают под распаренной кожей жилистые желваки мышц и приходит выносливость, приходит вместе с загрубевшими на ногах мозолями, с ожившими под тугими струями ветра легкими, с уверенностью, что всегда можно пробежать чуть-чуть больше.
Беготня сменялась сидением в классах. И тогда наваливалась всей тяжестью сонливость, затуманивала голову, спутывала липкой паутиной слабости тело.
Шел второй месяц. Незаметно для себя втягивались парни в армейскую жизнь.
Не так просто было получить разрешение. Но Сергей добился своего. Он считал, что имеет право на этот звонок. И его уверенность подействовала.
Он долго не мог заставить себя набрать номер. Наконец решился.
– Алло?
К телефону подошла сестра.
– Валя, здравствуйте, это Ребров. Будьте добры. Любу!
– Сережа? Откуда вы?
– Простите, у меня всего две минуты, из дежурной части звоню, – Сергей приглушил голос и для пущей надежности прикрыл трубку ладонью, – тут это не полагается вообще-то.
– Все поняла, Сережа, одну минутку!
В трубке послышались торопливые удаляющиеся шаги, а потом еле различимые голоса: «Люба, тебя!» – «Ну я же просила не подзывать меня к телефону!» – «Это Сергей!» «Меня нет ни для кого, поняла – ни для кого!» Хлопнула дверь.
– Сережа, вы слушаете? Любы нет, наверно, только что вышла…
Ребров стиснул зубы. У него в голове вертелось навязчивое «ни для кого, ни для кого, ни для кого!».
– Сережа, что с вами? Вы слышите меня? Позвоните завтра! Или через пару дней. Алло?!
Сергей молча положил трубку на рычажки.
Дежурный старший лейтенант, пряча насмешливую улыбку под густыми русыми усами, спросил:
– Не повезло?
Можно было и не спрашивать – в эту минуту все, что творилось у Сергея внутри, все, что застилало туманом мозг, было написано на его лице.
Выходя из дежурки, Сергей почувствовал тяжесть в левой стороне груди, там, где во внутреннем кармане гимнастерки лежало зачитанное Любино письмо.
После обеда сидели в курилке под навесом, молчали, слушали, как барабанят по жестяной кровле крупные, но редкие пока капли.
Слепнев широко зевал, потягивался и тоскливо думал о том, что все вроде бы неплохо, но если бы ввели послеобеденный сон, было б совсем хорошо.
Сурков, уставившись отрешенными от всего земного глазами в мутную пелену, заунывно вытягивал какой-то бесцветный мотивчик.
Ребров с Хлебниковым притулились в углу курилки, молча попыхивали сигаретами, пуская белые клубы дыма вверх.
Черецкий маялся перед входом – несколько раз доставал из кармана брюк пачку сигарет, потом прятал обратно, обегал взглядом сидящих в курилке, будто желая сказать что-то важное, но ничего не говорил.
Вот пачка вновь очутилась в его руке, и, как бы помимо воли хозяина, от еле заметного щелчка в донышко из нее вынырнул белый цилиндрик. Слепнев, словно завороженный, следил за Черецким. Капли забарабанили сильнее, чаще.
Черецкий размял сигарету, постучал ей зачем-то по тыльной стороне ладони, потом понюхал с вожделением, прикрыв при этом глаза, и сунул обратно в пачку.
– Опять решил завязывать? – поинтересовался Слепнев.
Ответа он не дождался. А Черецкий будто бы вдруг, только теперь заметил Хлебникова, сидящего в углу, оживился, подошел к нему и устроился рядышком, лениво откинувшись на спинку и положив ногу на ногу. Глаза его подернулись дымкой, лицо расслабилось и приняло безучастное выражение, именно такое, какое приводило Суркова в тихий ужас.
Но на этот раз Черецкий на Леху не обращал внимания, видно, ему самому надоело уже подтрунивать над простодушным и безответным деревенским увальнем, и он решил выбрать жертву покрупнее. Не зная, как начать, а может, и просто оттягивая удовольствие, он молчал. И в самом молчании этом таилась какая-то злая веселость, граничащая с открытым вызовом и одновременно с кошачьей вкрадчивостью, с готовностью отступить, спрятать коготки.
Сергею на миг показалось, что, несмотря на неподвижную и внешне миролюбивую позу, Черецкий напоминает собой крупную хищную кошку, приготовившуюся к прыжку. И невозможно было определить, что эта кошка сделает в ближайшую минуту: прыгнет на жертву или же мягко отпрыгнет в сторону.
Черецкий для начала выбрал первое.
– Был у нас в школе учитель истории, – издалека начал он безразличным тусклым голосом, как бы пытаясь подавить зевоту, – мастерюга был, да-а!
Выдержал паузу, ожидая клевки на заброшенную им приманку. Но реакции не было. Все ждали дальнейшего. Слепнев даже протер рукой заспанные глаза и раскрыл их пошире, опасаясь прозевать самое интересное.
– Но с нашим Славиком тягаться – куда ему!
– Да ну? – нарочито удивленно выдохнул Хлебников.
– Просто в подметки тебе не годится!
– Во дает! – подал голос Слепнев.
– Да-а, – продолжил Борька, – хоть тот и сорок лет науку долбал, но куда там до нашего светили! Славик собственными глазами все видал, без науки допер, вот в чем штука. Это ж надо, как нам повезло! С каким человеком служим! Слыхал, Сурок? У себя в колхозе расскажешь, не поверят! Он же со Святославом лично знаком был, хе-хе, тыщу лет назад познакомился!
По лицу Черецкого поползла самодовольная ехидная улыбка. Он бросил в костер затравку и теперь ждал, что этот костер разгорится и спалит в своем пламени умника Хлебникова.
Но тот, повернувшись к Черецкому, недоуменно спросил:
– О чем ты, Боря? Загадками говоришь.
И хотя каждый прекрасно понимал, о чем говорит Черецкий, Славкина невозмутимость загипнотизировала садящих в курилке. Никто не мог понять толком, к чему этот разговор, и потому предпочитали не вмешиваться до поры до времени. Лишь Сергей несколько раз бросал в сторону Черецкого раздраженные взгляды, порываясь осадить того. Но и его останавливало, словно какое-то невидимое препятствие, спокойствие Хлебникова.
Напускное безразличие начинало покидать Черецкого – не было того главного, на что он рассчитывал: поддержки в розыгрыше. И оттого розыгрыш этот терял остроту в вообще грозил перерасти в какую-то глупую пустую нелепицу.
– Ты что, забыл, как нам лапшу на уши вешал после отбоя?! – стараясь вложить в голос побольше сарказма, выдавил Борька.
– Ну как же, дедушка, у тебя, наверное, старческий склероз? Я обычно сплю после отбоя, – сказал Хлебников и еле заметно моргнул глазом Слепневу. Тот расплылся в улыбке, дошло. – Может, тебе чего приснилось со дедовской немощи, так это бывает в твоем возрасте, Боря.
– Ага, – сквозь смех процедил Слепнев, – вот мне тоже намедни…
– Ты брось это! – оборвал Слепнева Черецкий, обращался он к Славке. – За дурака меня держишь, за дешевку?!
– А ты?
– Что я?
– За кого ты меня держишь? – На лице Хлебникова не дрогнула ни одна жилка. Он сидел все в той же обмякшей позе.
Черецкий не ответил. Резко поднявшись на ноги, он сунул руку в карман, вытащил оттуда сигарету и нервным порывистым движением поднес к губам.
– И осады не было?!
Вместо ответа Хлебников услужливо протянул зажигалку.
– Значит, ни князя, ни битвы – ничего?!
Славка пожал плечами, спрятал в карман отвергнутую зажигалку. Вздохнул.
– Ну, а ты. Сурок, тоже спал, скажешь? Тоже не хрена не слышал?! – отвернувшись от Хлебникова и ломая спичку за спичкой в тщетной попытке прикурить, выпалил Черецкий. На Реброва он даже не смотрел, ждать от того подмоги не приходилось.
Сурков побагровел, уставился в цементный пол. А потом совершенно неожиданно для все сунул Черецкому прямо под нос сжатый кулак.
– Видал! – сказал он тихо, но с несвойственной уверенностью. – Чирей занудный! Тока обзови еще!
Здоровенный кулак, маячивший перед Борькиным лицом, говорил сам за себя, не требовал пояснений.
Черецкий отвернулся, что-то прошипев сквозь зубы. Теперь он был обнаженным комком нервов – ссутулившийся, вздрагивающий, затравленно озирающийся, потерявший точку опоры.
– Так, значит, это мне одному все приснилось?! – почти выкрикнул он. – Ну, лады!
Он вылетел из курилки под дождь и быстро зашагал к казарме – сгорбленный, с засунутыми в карманы брюк обеими руками, не разбирая дороги и шлепая прямо по лужам.
– Переборщили, – не выдержал Слепнев и бросился вдогонку.
– Ничего, в самый раз, – зло произнес Сергей, не глядя ни на кого. – Впредь наука.
Хлебников стоял с опущенными руками, на лице его застыла смущенная улыбка.
Дождь лил не переставая, и пузыри на лужах были похожи на ожившие лунные кратеры.
– Нехорошо получилось, – вяло произнес Славка.
– Да хватит уже о нем! – вырвалось у Сергея помимо воли. – А тебе, Леха, – добавил он, обращаясь к Суркову, надо было дать свой кулачище понюхать в первый же день.
– Да ладно, – промямлил Сурков. – Я пойду, через десять минут построение, почиститься надо.
Сергей только рукой махнул.
Когда Леха вышел, он подсел к Хлебникову поближе:
– Славик, тут такое дело, понимаешь…
– Ну так давай выкладывай!
Сергея насторожила эта поспешность.
– Ничего, потом как-нибудь.
– Потом так потом.
Сергей нахмурился, вздохнул тяжело. Но показывать настроение не следовало.
– Так скажи, откуда набрался всего этого? – увел он разговор в сторону, желая узнать то, что не удалось выведать Черецкому. – Я что-то в учебниках этого не встречал.
Славка ответил сразу, будто ждал вопроса.
– Да какие там учебники, шутишь! Из книг посерьезнее. Знаешь, каждый по-своему с ума сходит: один марки собирает, другой без рыбалки сохнет, а для меня история это все! После армии в университет поступать буду.
– Ясно. Значит, до призыва не прошел. Поступишь еще. А вообще вся эта история нам до фени, все равно не упомнишь ничего. Тут своими историями по горло сыт, не знаешь, как из них выпутаться.
– Свои – они всегда при нас, дело житейское. – Славка помолчал немного. – Знаешь ведь, как бывает: растет дерево, долго растет, корни запустив в землю, впитывая соки. Ствол могучий, крепкий, вверх рвется. И никто не видит этого дерева, мимо проходят. А тут возьми да распустись на нем цветочек, яркий такой, малюсенький, – глядь, и толпа вокруг: ах, как мило! ах, как красиво! А про само дерево-то и забыли, не видят его…
– Да-а, красиво, но туманно.
– А ты не спеши. Цветочки это мы, вернее, нам так кажется, будто мы цветочки – венец творения, усек?
– Ну, положим, – Сергей натянуто улыбнулся.
– И все-то нас любят, восхищаются нами. А мы и рады, думаем, так оно и есть. Но посуди сам, что мы без ствола-то и без корней?
– Ты палку не перегибай, как это без корней! – Сергей даже обиделся. Брови сдвинулись к переносице, образуя над ней вертикальную складку. – А вообще-то ты прав, наверное.
– К сожалению, – вздохнул Хлебников. И добавил неожиданно и твердо: – Давай-ка свою историю выкладывай, чего жмешься!
Сергей молча протянул Любино письмо. Но Славка не успел его развернуть – со стороны казарм раздался сигнал к построению.
Не было у Славки особого опыта в любовных делах. Но одно он почитал за большую удачу. То, что узнал об измене единственной близкой ему за месяц до призыва! Доведись этому случиться здесь, в казарменных стенах, наложил бы на себя руки. А там, на гражданке, пронесло какого, да и друзья отвлекли.
С Галочкой он ходил с девятого класса. Больше года ходили. Ну, а потом и вовсе сошлись. Ее отец даже, поймав какого Славку во дворе, набил ему морду – тот и сопротивляться толком не мог, как сопротивляться будущему тестю. А ведь Славка верил: будет ее отец тестем ему, будет, а как. же?! Бил тестюшка не жалеючи, с оттяжкой. Бил да приговаривал: «Вот тебе, донжуан хренов!» Да и еще кое-что покруче!
Но Славка вывернулся и сам огрел будущего, как ему казалось, но несостоявшегося в действительности родственничка. Хорошо огрел, от души! Уж слишком тот его допек. На том и разошлись.
Галочка, когда он ей рассказывал про этот случай, хохотала во все горло, до слез из глаз. Была она вообще смешливой. Невысокая, рыженькая, с зелененькими кошачьими глазками, вся какая-то живая, бурлящая, кипящая. Но на Славку смотрела еще с девятого класса как на существо высшее, уважала. Может, тем и взяла? Чего гадать!
И всего-то несколько недель у них длилось счастье тихое, скрытное, не каждодневное. Но Славка чувствовал: влип, накрепко влип. И сам понимал: не красавица, так себе, да и характером не подарок. Но сердцу и впрямь, наверное, не прикажешь. Так бы и ушел счастливым на службу.
Но в тот денек, слякотный и поганый, решил заглянуть к приятелю Костику. Заглянул.
– Чего тебе? – спросил Костик из-за двери.
– Отворяй, потом разберемся!
– Не могу, – заявил Костик басом. – Говори, зачем пришел?
Славка вытащил прихваченную бутылочку «Агдама», постучал ею в дверь.
– Слыхал? Булькает!
И Костика сгубила жадность. Он открыл.
– Ты чего это в трусах гостя встречаешь? – поинтересовался Славка.
– Да ладно, не барин. Пошли на кухню!
Они пришли через коридор, сели за стол. Костик сам открыл посудину, разлил. Выпили сразу по полному стакану. Поболтали о том о сем. Потом еще по чутку добавили. Потом Костик пошел в уборную. «На миг!» – предупредил он.
Но этого мига хватило. Славка, ничего не подозревая, прошел в комнату, приоткрыл дверь – они с Костиком не церемонились, были друзьями с первого денька учебного, с самого первого класса.

Он чуть не упал, настолько это было неожиданно – на стуле посреди комнаты, обклеенной фотографиями знаменитых боксеров и культуристов, сидела совершенно голая Галочка с бигудями в волосах и только-только начинала натягивать на свои крошечные ступни темно-синие колготочки – до щиколоток не успела натянуть, обомлела, откинулась назад и вдруг прикрыла ладонью лицо.
– В глаз захотел? – раздалось из-за спины.
Там стоял Костик и тяжело дышал. В руке у него была бутылка.
Славка ничего не сказал. Он просто вышел. В тот вечер он впервые в жизни попал в вытрезвитель. Правда, друзья от него не отходили, до самого призыва.
А ведь оттаял! Словно вообще ничего не было. Вычеркнул из памяти, забыл. Ну чем он мог помочь Сереге с таким опытом? И кто тому вообще мог помочь?!
Черецкий дня три подряд ходил нахохлившись, не вступал в разговоры. На вопросы отвечал односложно, с таким видом, будто все ему предельно надоели. После отбоя, забравшись на верхнюю койку двухъярусной кровати, он демонстративно отворачивался к стене и накрывался с головой одеялом.
Во сне к нему приходил отец. Приходил таким, каким запомнился с пятилетнего возраста: высоким, уходящим куда-то под небо, – Борькина голова была на уровне отцовских коленей. С тех пор прошло много лет. Мать, пока он рос, постепенно уменьшалась и наконец застыла, едва достигая своим вечным, туго скрученным пучком черных с проседью волос Борькиного подбородка. А вот отец навсегда остался великаном.
Во сне он никогда не заговаривал с сыном. Тихо шел рядом, поглядывая свысока, чуть через плечо. Или беззвучно смеялся. Борька силился привлечь его внимание, дергал за рукав, громко кричал, вернее, ему только казалось, что он кричит, потому что все звуки тут же тонули в какой-то ватной пустоте – так, что сам кричавший ничего не слышал. И эта бессильная немота порождала странный безотчетный страх, сжимала сердце в тисках, сковывала волю. Борьке оставалось одно – молча идти рядом с тем, кто ушел навсегда из его жизни тринадцать лет назад и с тех пор наяву никогда не приходил.
На все вопросы мать отвечала одной заученной фразой, слышанной Черецким в детстве сотни раз: «Для нас с тобой его нигде нету, понял?!» Малышом он верил. Отав чуть постарше, он сам перестал задавать вопросы, уяснив наконец-то для себя, что где-то отец все же есть, обязательно есть. Возможно, он ходит теми же московскими улицами, дышит тем же воздухом, разговаривает с теми же людьми.
И, наверное, можно вот так, запросто, повстречаться с ним, привести домой… Борька часто бродил в одиночестве по тротуарам, вглядываясь в лица прохожих, надеясь, что если не в этот раз, так в следующий ему обязательно повезет.
Но везение не приходило.
Годам к четырнадцати он оставил свои детские надежды. Прежнее чувство собственной обделенности стало покидать его, пока совсем не пропало.
Но сны оставались все те же – выматывающие, непонятные. И что странно, как ни старался Борька, не мог он во сне уловить черты отцовского лица. Оно было расплывчат тым, постоянно меняющимся. Лишь глаза оставались постоянными, даже когда отец смеялся, – грустными, усталыми, с застывшим в них вопросом. А на вопрос этот Борька ответа нет знал. Но тоже задавал его себе: что он? кто он? где его место в жизни? И вообще есть ли у людей это особое для каждого, определенное свыше или ими самими место? Все было очень непросто.
Просыпался после таких снов усталым, с ноющей пустотой в груди. И еще с каким-то яростным желанием доказать всем, и прежде всего себе, что место это он выберет для себя только сам, без чьей-либо помощи, и никому его не уступит.
«Привет бравому вояке от вечного студента!
Серега, ты сам знаешь, я писать не любитель. И уж коли взялся за перо, так неспроста. Тебе там, конечно, не до мирской суеты – замуштровали, небось, вусмерть! Но ты выбери все же минутку и прочти мое послание.
Я буду короток и ненавязчив. Вчера днем свел нас всевышний – совершенно неожиданно для меня – с твоей ненаглядной Любашей. Кстати, Серый, что-то она на меня зуб точит, и уже давно, не разговаривает, косится все, а глазки злющие! С чего бы это? Ну да ладно, я ей прощаю.
Скажу только, что поводов для такого неприятия своей персоны не давал. Ну так вот, продолжаю. Иду я, значит, по Кировской, иду себе посвистываю. А у почтамта лоб в лоб сталкиваюсь с твоей пассией. Мне то что? Но она, как увидала меня, остановилась, позеленела вся, вот-вот грохнется. Только суть не в этом, сам догадываешься. Рядом с нею – кто бы ты думал?! Знаю, что сам угадаешь – небезызвестный тебе герой плаца и немалый в ваших краях военачальник сержантского звания. При всем параде и при всех надраенных значках! Он как увидал, что такой конфуз приключился, так за плечико мадам нежненько подхватил – и дальше по прешпекту, а на меня ноль внимания. Так и ухряли!
Ты это все на ус-то мотай, но особливо не расстраивайся. Дело обычное. Я тебе как другу пишу, чтоб тебя какой болван не огорошил без подготовки-то. Не горюй, Серый! Жизненная мелочь того не стоит. У нас тут первокурсницы – закачаешься! Я к твоему приходу такую герлу сыщу все позабудешь. Это ежели меня не попрут из нашего учебного сарая. Кстати, я и твою подруженьку в аудиториях давне-енько не видывал. Но это дело ее да сержантово. Нам без разницы. А вообще эта учеба у меня костью в горле, еще за прошлый семестр хвосты висят. Все экзамены да зачеты, пересдачи, нервотрепки… Тьфу! Одна надежда пахан из-за кордона прибудет, нажмет на рычаги.
Но это так, к слову. Главное, надеюсь, ты понял. Так что держись, Серый! Не скорби и не рыдай! Как там у вас говорят – дембель неизбежен!
С тем и остаюсь…
P.S. Серега, забыл совсем, ежели меня вышибут все же из клоповника нашего – вся надежда на тебя! Ты там расстарайся – законопать для меня тепленькое местечко, желательно на гаупвахте, ха-ха, ладушки?!
…твой друг Мих. Ан. Квасцов, 14.06.199… г.».
Бежать по скользкой глинистой земле было нелегко.
Многие уже несли на себе ее бурые влажные отметины. У одних они были на локтях, у других на коленях, у третьих – и тут, и там. Не падали лишь на спину – успевали подхватывать бегущие сзади, натыкавшиеся на потерявших равновесие. Бежали, видя впереди прыгающие поблескивающие каски да приклады перевернутых вниз стволами автоматов. Бежали молча, сосредоточенно, вразнобой, время от времени задирая лица вверх, подставляя их под тоненькие струйки дождя, прохладного, смывающего липкий пот.
Новиков бежал во главе своего взвода, поминутно оглядываясь назад, подбадривая уставших. Сам он усталости не чувствовал, как не чувствовал и собственного тела, – оно машинально выполняло свою работу, оставляя голову свободной, не отягощенной, как у его молодых подопечных, единственной навязчивой мыслью, одним желанием – поскорее остановиться, дать отдых ноющим ногам и рвущемуся из груди сердцу. И потому дыхание было ровным, глубоким, тело послушным. Николай испытывал настоящее наслаждение от долгого, изнуряющего непривычных бега.
За спиной раздался короткий сдавленный крик. Новиков обернулся, а потом и остановился – рядовой Хлебников сидел на земле, ухватившись обеими руками за левую ногу. Рядом, не зная, как им реагировать и что делать, скучивались солдаты взвода.
– Не останавливаться! – крикнул им сержант. – Ребров. Сурков, Черецкий – ко мне!
Взвод, обтекая сидящего на земле, побежал дальше.
– Ногу подвернул, может сломал, – ответил Хлебников на немой вопрос сержанта. И по лицу его было видно – не шутит.
– Да чего там! – сказал вдруг Черецкий, приседая. – Давай цепляйся за плечи!
Хлебников не заставил себя упрашивать, влез на закорки.
Черецкий побежал, явно намереваясь догнать взвод, роту, батальон, несмотря на весомую и не слишком удобную ношу. Лицо его побагровело, ноги как-то согнулись, подошвы скользили и разъезжались по хлюпкой грязи. Но Черецкий не сдавался.
– Отставить! – выкрикнул сержант.
Сергей с Сурковым бросились к Черецкому, чтобы поддерживать его и Хлебникова с боков. Но не успели догнать.
– Отставить! – еще громче крикнул Новиков.
Черецкий шлепнулся наземь, прежде чем отзвучала повторная команда. Теперь они оба сидели на мокрой глине грязные, промокшие, тяжело дышащие. Хлебников чему-то улыбался, Черецкий был хмур и зол. Он тоже себе чего-то там вывернул – лодыжка горела огнем.
Подбежавший сержант погрозил пальцем:
– Ну теперь оба из нарядов не вылезете! Это что за самовольство?!
Черецкий раздраженно буркнул:
– Сам погибай, а товарища выручай, так, что ли?
Сзади, фыркнув моторами, остановился «уазик» медсанчасти. Вылезли два санитара с носилками.
– Которые тут раненые? – крикнул с ходу высокий, усатый. – А ну, полезай!
Но санитар сразу же осекся, увидав «раненых». Посмотрел на другого – пониже и потолще, в круглых очках. Тот важно сказал:
– Не-е, пускай сами лезут в машину! Еще носилки пачкать! Вот сачки!
– Сам ты сачок! – огрызнулся Черецкий. Он уже ковылял к машине, почти не опираясь на больную ногу, подпрыгивая на здоровой. Ему помогал Сурков.
Сергей с Новиковым «загрузили» Хлебникова. Машина потихоньку поехала за батальоном. Обгоняя ее, побежали вперед отставшие.
Неожиданно для себя Николай почувствовал усталость.
И была она не физической Черецкий виду не показывал, но в глубине души надеялся, что у него сложный перелом и удастся месячишко-другой отдохнуть в госпитале. Ну даже пускай небольшая травма – все равно дадут же недельку поваляться в санчасти?! Надоела вся эта беготня! Хотелось покоя и отдыха.
Но врач ни у него, ни у Хлебникова ничего серьезного не нашел, выправил легкие вывихи, смазал ушибы какой-то вонючей и противной дрянью да и выпроводил за двери, сказав:
– Передайте там своему командиру, чтоб вас сегодня не слишком загружал, пусть связочки отдохнут. Ну, не болейте!
Черецкий возвращался из санчасти в казарму расстроенный. Хлебников тоже был угрюм и молчалив. Ни тот, ни другой не нашли доброго слова, так и не обменялись им, хотя всего лишь час назад, в общем строю, готовы были поддержать друг друга, да и любого парня своего взвода, несмотря на усталость, дождь, грязь, тяжеленную выкладку и прочие тяготы.
После обеда чистили оружие. Но еще до этого Хлебников, прочитав оба письма, одно за другим, вернул их Сергею со словами:
– Ну и чего ты хочешь-то, совета?
Ребров молчал. Он и сам понимал, что советовать в таком случае не всякий возьмется. А если и возьмется, так пользы от этого будет мало. Что может придумать, пускай и друг, но человек посторонний в этом деле. Деле, касающемся только двоих! Сергей поймал себя на промелькнувшей мысли – двоих? Нет, врешь, не двоих, а троих! В том-то вся и загвоздка, что троих. Поневоле он горько усмехнулся. Славка принял это на свой счет.
– Ну так если что – на меня рассчитывай всегда, – сказал он. – Помогу, коли смогу.
Ребров кивнул. Но как рассчитывать? Ведь не морду же бить Новикову они собираются! Рассчитывать в этом трудно, да и с чего начинать, где точка отсчета? Открываясь другу, Сергей подсознательно верил, что это принесет ему облегчение. Держать накопленное внутри себя было не под силу. Временами хотелось кричать от вынужденного бездействия или бежать туда, где сейчас была Люба. После Мишкиного письма все обострилось, на душе стало поганее – не помогали больше ни занятия, ни жестокие нагрузки, ничто! Он перестал доверять себе – казалось, выдержка оставляет его напрочь, что вот сейчас, в следующую минуту, будет срыв, и что тогда… Сергей не хотел даже думать об этом. Ему было все без разницы, выхода он не видел, будущее рисовалось в мрачных тонах. Порою приходила мысль, что ему, Сергею Реброву, в этом будущем места не будет.
_ – Знаешь, Серега, – сказал вдруг Хлебников, – а от разговора с Новиковым тебе не уйти.
– Черт бы его побрал! – процедил Сергей.
Им овладевало тусклое безразличие. Хотелось бежать, как бежал сегодня, как бегал все эти долгие дни, но бежать от самого себя – и чем дальше, тем лучше. Он устал от бесконечной борьбы, полем которой была его же душа. Последнее время все чаще и чаще в нее стали закрадываться сомнения: а люблю ли я ее? может, все лишь пригрезилось, может, все было обычным увлечением? или может, еще хуже – вклинился в чужую жизнь, перевернул все вверх дном, а сам попусту терзаюсь от надуманных чувств?
Сергей гнал от себя навязчивые мысли. Но они не уходили. И тут не мог помочь ни Славка Хлебников, ни кто Другой.
– И чем раньше ты с ним все обсудишь, тем… – Славка не договорил, лишь положил руку на плечо.
Сергей встал. Сунул руки в карманы брюк и отвернулся к окну. В эту минуту солнце, выглянувшее из-за, казалось, непроницаемой пелены, подмигнуло ему своим лучом – мол, все будет, как надо, все наладится, не печалься и скрылось снова за своей серой совсем не летней завесой.
Хлебников, наверное, неплохо отдохнул после пробежки. А может, просто у него было настроение и не было сна. Но в этот вечер Сергей узнал продолжение истории, столь от него далекой, чем-то завораживающей. И опять он видел все по-своему, будто в полузабытьи или же в фантастическом цветном сне…
…Вех очнулся в крепости на широком дворе, прямо под уходящей в небо зубчатой стеной. Снаружи доносился глухой шум, чуть слышный – будто отдаленный гул прибоя, в него вплетались отдельные крики, лязг металла. «Неужто битва все еще продолжается? – подумалось Веху. – Но почему же я здесь? Ведь я же был в самом первом ряду, около князя и Радомысла!» Он вспомнил, как бросил щит и устремился вперед.
Несколько раз взмахнул мечом, несколько раз опустил его и не без толку! А потом? Ничего последующего он не помнил.
Вокруг раздавались тихие сдержанные стоны, кто-то хрипел. Вех приподнял голову и увидел, что он лежит среди множества раненых на площади. Одни из лежащих пребывали в беспамятстве, другие сидели или лежали в самых разных позах, кто-то пытался встать. Всюду ходили болгарские женщины с кувшинами в руках, разносили воду, омывали раны…
Сделав усилие, Вех приподнялся, оглядел себя – вроде бы все было цело. Вот только левая нога выше колена была перетянута грубой холстиной и не ощущалась. Холстина побурела от запекшейся крови. Вех хотел подозвать женщину, напиться, расспросить. Но слабость бросила его на спину, а потом погасила свет в глазах – он впал в забытье.
Вечером пришел Радомысл. Почерневший, с горящими дикими глазами, он был словно в лихорадке – руки подергивались, по жилистому телу волнами пробегала дрожь.
– Ну что там?! – спросил Вех.
Радомысл махнул рукой, нахмурился.
– Начали дело, а кончить не смогли – ни мы, ни они. Видно, придется еще встретиться, потолковать!
Только теперь Вех заметил, что на груди Радомысла белела вовсе не рубаха, а такая же, как и у него, широченная холстина, обмотанная несколько раз вокруг туловища и над правым плечом, пропитанная кровью. В крепости было темно.
– Ты упал сам, – рассказал Радомысл. – Я поначалу подумал – от стрелы, как подрубило. Но потом разыскал когда тебя в поле, то увидел: в тебе не было ни кровинки, видать, все вытекло… Да ладно, не робей. Это часто бывает, в сече рану не сразу заметишь, а руда-то течет! – Он вздохнул, провел рук ой по бороде. – Нам повезло, двоим из всего десятка.
Сеча была лютой. Она не принесла победы ни одной из сторон. Но не напрасными были жертвы, армия базилевса обессилела и не могла уже решиться на штурм Доростола. То, что должно было случиться, случилось-началась длительная осада, противостояние силы, воли и выдержки.
После битвы ромеи отхлынули далеко назад, на холмы, и стали укреплять свой лагерь. На второй день хоронили убитых – и одни, и другие. Столкновений не было.
Всех восьмерых из своей десятки Радомысл отыскал сам. Сам и отнес их к погребальному костру – последнему пристанищу храбрых воинов на этом свете. Но поминки были недолгими.
На третий день снова вышли в поле. Лишь две трети русичей смогли встать в строй – так убавилось войско после первой битвы под Доростолом. И снова лилась кровь, снова железо ударялось о железо и тучи стрел застилали свет. Но и эта сеча не дала ответа – кто кого.
А Вех пролежал те дни без сознания. Пришел в себя лишь к концу третьего дня, когда стало ясно, что ни одна сторона не желает уступать другой, что начавшаяся осада будет суровой и немилосердной. Раненых на площади утроилось. Но здесь лежали лишь те, кто мог кое-как обойтись без постоянной помощи, самых тяжелых горожане разобрали по домам.
– Слушай, Радомысл, ты веришь, что мы вернемся отсюда? – спросил Вех, приподнимаясь на локте.
Радомысл долго молчал, потом сказал:
– Кто думает о возвращениях, тому, наверное, не надо было уходить из дому. Но скажу прямо, не верю!
Больше они не говорили.
Когда появился Святослав, над площадью пронесся радостный гул. Со стен вторили дозорные и боевая стража. Болгары высыпали из домов на площади и улочки, прилегающие к ней.
Князь шел бодро, откинув красное корзно за плечи. Сумрачность покинула его, усы раздвигала широкая улыбка, ободряющая и приветливая. Дойдя до центра площади, он остановился, поднял руку. Шум стих.
– Братья! – выкрикнул он. – Мы не разбили ромеев.
Они оказались достойным противником. Но победа наша! Его слова потонули в гуле одобрения. – Мы выстояли, и Дунай по-прежнему за нашей спиной. Теперь все в воле нашей – устоим ли до прихода подмоги? Устоим! Вы сами доказали свою стойкость!
Вех и сам знал, что из далекой русской земли должна была прибыть подмога – свежие рати. Но откуда ему было знать, что там у самих дела неважные, – печенеги, пользуясь отсутствием князя, стягивали в полянскую землю свои орды. Вновь там горели села и посады, вновь стоял плач над Русью.
Через еще два дня он начал ходить, поначалу опираясь на плечо Радомысла, а потом и сам. Смог даже забраться наверх, на стену.
С высоты было видно, как ромеи укрепляют свой лагерь. Одни огораживали его высоким частоколом, другие рыли рвы. Цимисхий опасался нападения русичей. Надежды спихнуть их в воды Дуная растаяли, как дым походного костра тает в черной пустоте ночного неба.
Повелитель могущественнейшей империи был бессилен перед небольшим войском «северных варваров».
А на пятый день после битвы воды Дуная, отделявшие осажденных от свободной, неподвластной Царьграду земли, почернели от ромейских галер – кольцо замкнулось. К византийцам начинали прибывать все новые и новые силы свежие, хорошо вооруженные.
– Надо опередить их, – говорил Радомысл, – выйти и еще разок помериться, чую, не выдержат, прорвемся!
Но Святослав решил с выборными иначе, стал думать об укреплении городка. Все, кто был свободен от несения сторожевой службы у ворот и на стенах, вышли за пределы крепости. Даже раненые и увечные, едва стоявшие на ногах, и те шли, чтобы хоть немного, но помочь делом.
Доростол стал опоясываться рвом.
Но не спали и ромеи. Их конные отряды всегда появлялись внезапно. Правда, близко подходить они не решались, но издалека железные наконечники стрел разили работавших. Лучники со стен прикрывали своих. И все же многие жизни оборвались в первый же день осадных работ.
Копали по ночам, когда опасность была меньше.
– Мы, брат, из воев превращаемся в заправских землекопов, – сказал как-то Радомысл Веху. – Вот похватают нас без мечей-то, голыми руками, мы и сгодимся у них на рудниках!
– Живыми не возьмут, – буркнул Вех. У него постоянно ныла нога, и потому он был не склонен к шуткам. К тому же, когда напряжение спало, стала чаще вспоминаться ему Любава, оставленная в Киеве. Все чаще он стал коситься на Радомысла.
Даже мысль шальная мелькнула: вот ведь, восемь наших полегло, а он на самом острие был, и хоть бы что! Но Вех тут же прогнал эту подленькую, змеей закравшуюся мыслишку.
Отряды болгар и русичей совершали отчаянные вылазки в стан врага, наносили ему немалый урон. Но войско империи было гидрою с множеством голов.
Те же отряды собирали по округе продовольствие. И иногда вдали от укреплений происходили жесточайшие стычки, не все из отправившихся в рейд возвращались назад. Не всегда приходили они с обозами, гоня перед собой скот. Цимисхий отдал приказ о перекрытии всех дорог, ведущих в крепость. И это был самый простой путь для него – уморить осажденных голодной смертью или, по крайней мере, обессилить их. Победить в открытом бою – непросто.
Смерть подступала со всех сторон. И ее не моли сдержать ни высокие зубчатые стены, ни глубокий ров Святослава.
К семидесятому дню стало окончательно ясно, что помощи не будет, что рассчитывать надо только на себя. Зарубок на древках копий становилось все больше и больше, защитников крепости с каждым днем оставалось все меньше.
Из лагеря ромеев доносились торжествующие крики, гром барабанов, вой множества труб. Враг заранее радовался близкой победе. И все чаще под стенами крепости на безопасном расстоянии гарцевали на своих конях ромейские военачальники или их послы, выкрикивая предложения сдаваться. В ответ летели стрелы.
– Они нас возьмут голыми руками. – Радомысл был хмур, борода его всклокочена, глаза злы. – Еще неделя, другая – и нас побросают в галеры и повезут на нубийские рудники. Или просто передушат как цыплят. Где же подмога?!
Вех сочинял письмо Любаве. Но с кем его передать?
Кто отсюда выберется?!
Несколько раз ромеи пытались придвинуть к стенам крепости высоченные осадные башни и с них забрасывать город огромными камнями, горшками с горючей смесью, стрелами. И каждый раз, не дав им подойти ближе, на достаточное расстояние, отряды смельчаков стремительно вырывались на конях за ворота и ввязывались в бой. Кончалось тем, что от башен оставались одни головешки.
Поначалу рана не давала возможности Веху участвовать в вылазках. Но потом и ему пришлось вновь и вновь сталкиваться лицом к лицу с ромейскими храбрецами. Тогда он убедился, что враг дело свое знает. К тому же враг этот был сыт, здоров, имел возможность хорошенько выспаться, передохнуть. Ромеи не знали ни голода, ни болезней. А в крепости свирепствовал мор. Едва ли половина из тех, кого привел сюда Святослав, уцелела и могла стоять на ногах, сжимать рукоять меча.
И вот когда на копье Веха появилась восемьдесят седьмая зарубка, а на кожаном поясе пришлось проколоть уже третью дыру, отчего он стал больше походить на головной обруч, в не поясной ремень, в Детинце крепости собрался военный совет.
Полдня совещались воеводы и выборные, не выходя на двор к воям и горожанам, обступившим каменную громаду. Полдня ждали измученные голодом и болезнями, израненные и обескровленные люди решения. И хотя все знали, что решение может быть только одно, затаив дыхание, следили за движениями теней в узких окнах-бойницах, с нетерпением смотрели на каменное крыльцо, поднимающееся к дубовым дверям. Казалось, даже стража на стенах забыла обо всея и глядела сюда, на Детинец.
Вех сидел на бревне у стены, нервничал, хотя был убежден, что решение будет одно – биться. Иного он и не желал. Рядом, привалившись к нему бочком, сидела Снежана, четырнадцатилетняя болгарская девушка, родившаяся и прожившая всю свою коротенькую жизнь в этом городе-крепости. Снежана была до безумия влюблена в Веха. Он и сам не понимал, откуда такая страсть в этой девчушке.
Впрочем, девчушкой Снежану по местным, южным, понятиям никак нельзя было назвать – здесь замуж выходили и в двенадцать, и в одиннадцать. Щедрое солнце рано взрослило девочек, превращало их в цветущих и горячих девушек-невест. И хотя Снежана едва достигала своей прелестной русоволосой головкой до плеча Веха, она была с лихвой наделена всеми женскими прелестями, на нее заглядывался и стар и млад. Она привыкла к этим взглядам, выросла под ними, а потому внимания не обращала.
И чем ей приглянулся русич, чужеземец! Нет, нельзя было назвать их чужеземцами, один язык, одна кровь, одно семя. В от только вера другая! Вех был, как и большинство русичей, язычником, он верил в Рода, Стрибога, Мокошь, Перуна, Дива, Даждьбога, Белеса, упырей, навей, леших, берегинь, рожаниц. А Снежана воспитывалась христианкой, она не хотела признавать никого, кроме Пресветлого Иисуса Христа и Божьей Матери, кроме Святых Апостолов и Архангелов… она смеялась над его богами, называла их деревяшками и идолами, нечистью поганой. Но Вех терпеливо относился к таким вещам, он был язычником, то есть признавал многобожие, а значит, для него ничего не менялось с появлением на Небесах еще одного владыки – Христа. Одним больше, одним меньше – какая разница! Главное, чтоб Даждьбог не забывал про него, чтобы Перун вел в бой, а все остальные чтобы не мешали да не вредили! И почиталось за все это принести им немножко мяса, хлеба и вина. Коли здесь, на болгарской земле, был свой бог, Христос, Вех и ему приносил малую жертву, он уважал ту землю, в которой находился, он не мог не считаться с ее обычаями, так уж повелось у русичей! Нет, не в богах было дело!
Совсем другое временами разделяло их, вставало тонюсенькой, но непреодолимой стеночкой. Для Снежаны у каждой женщины, у каждой христианки, мог быть только один муж, а у мужа – одна жена. И вот этого Вех понять не мог! Если человек любил двух, трех или пятерых женщин, разве в этом была какая-то его вина, нет! Не могло быть никакой вины, наоборот, значит, это богатый на чувства, щедрый человек, значит, его боги наделили всем для земной жизни, и сам он щедро делится этим даром с любимыми, не обижая никакую из них, ну, а коли обидится, так ведь она всегда свободна, всегда вольна уйти и найти себе другого. Так жили у них, на севере. И никого эта жизнь не смущала, никто не видел в ней чего-то запретного! Даже если ты любил сильнее одну из жен, разве это мешало быть рядом с тобой другим?! Нет! Вех не понимал этих христиан, наложивших на себя ненужные путы. Разве в этом суть жизни, разве в этом ее смысл? Вовсе нет! Главное, плодородие земли и плодородие женщины.
И тогда прикладывается все остальное, тогда род становится сильным и могучим, многочисленным, богатым. И каждый в этом роду был своим, близким, родственником, потому и слова-то имели один корень! Нет, не понимал Вех, зачем надо разбиваться на пары, замыкаться в хижинах, и избегать того, что дарует сама жизнь. Это было выше его понимания!
Да, там, на севере, его ждала Любава. Он любил ее так, что ночами грезил, что иногда, склонившись над ручьем или колодцем, видел ее отражение, словно это она явилась сюда, выглянула из-за спины, улыбнулась ему. Она была в его сердце! Но она была там. А он был здесь. И он имел право на женщин, он не давал никаких обетов и зароков, он не обрекал себя на затворничество, нелюдимость. И Любава все это знала, смешно было подумать даже, что она стала требовать от него несбыточного и неестественного. Другое дело, когда Вех вернется! Тогда их любовь обретет не только зримые, но и осязаемые черты… но вернется и Радомысл! Вех старался не думать о нем, тут он был настроен совсем иначе, хотя там, на севере, и женщины имели по нескольку мужей, и жили славно, душа в душу, радуясь общему счастью, не деля детей, считая всех их своими. Но Веху почему-то хотелось, чтобы Любава принадлежала только ему, ему одному! Тут он был согласен с христианами… Но самому креститься? Нет! Он воин, он не проповедник, он не станет подставлять щеку, когда тебя уже ударили. Он сам нанесет удар, первым!
– Ваши все уйдут, – прошептала ему на ухо Снежана. И навалилась на руку горячей тяжелой грудью. – Я знаю, и ты уйдешь вместе с ними…
– Охо-хо, уйдешь! – передразнил Вех. – Скорее, все тут поляжем!
И он обнял ее за плечи, прижал к себе. Она потерлась щекой о его щеку, чмокнула в краешек губ, вздохнула.
– Я хочу, чтоб ты остался. Мы обвенчаемся… нет, сначала ты примешь нашу веру, а потом мы будем любить друг друга без страха, без тревоги и ожидания кары.
– Я и так никого не боюсь! С чего бы это! – ответил Вех. – А для того чтобы любить друг друга, не надо спрашивать разрешения. Это выше всех богов, Снежка, это сильнее их запретов!
– Ты ничего не понимаешь! – страстно заговорила она, чуть отодвинувшись. – Ты еще не проникся небесным откровением, благая весть не коснулась тебя, ты глупый и грубый язычник, поклоняющийся корягам. Но когда прольется свет – Вех поцеловал ее, не дав договорить.
– Мой свет это ты, – прошептал он. Немного помедлил и добавил: – И еще одна…
– Не смей! – закричала Снежана и ударила его по спине. – Не смей вспоминать про нее! Это нечестиво, это жестоко!
– Но почему же? – Вех удивлялся совершенно искренне. – Я заберу тебя отсюда, приведу в Киев, ты увидишь ее, и я клянусь богом любви Кополой, ты понравишься ей, а она тебе, вы подружитесь, и мы будем славно жить, у нас будет много детей… а если вам покажется, что хозяйство слишком большое, что с ним тяжело справляться, я возьму еще жен – как хорошо у нас будет вечерами, когда соберемся все вместе, когда каждая будет стараться сесть поближе к мужу, ко мне, чтобы ее приласкали, полюбили…
– Я тебя приласкаю! – Снежана ударила его по щеке. Получай!
Но Вех не обиделся, хотя он почувствовал нешуточность ее пощечины. Просто он знал, что женщины всегда думают о себе, боятся поделить мужчину с другими… но он знал, что это с ними длится лишь до тех сор, пока они одни рядом с мужчиной, но когда появляются другие, они все забывают, и не то, что смиряются, нет, это не смирение, а в них просто затухает себялюбие и просыпается нечто большее – они начинают понимать, что такое любовь, они начинают сами любить мужчину, а не любить только лишь его любовь к себе.
Пока что Снежана любила не его самого, Вех это чувствовал, она была все же совсем девчонкой, и она просто откликалась на его любовь. Но она еще полюбит и сама! Она захлебнется в этом счастье! Потому что мало быть любимой, для того чтобы ощутить полноту жизни, ох как мало, надо еще и самой любить!
Он поцеловал ее – властно, до боли. И она расслабилась, прильнула к нему – покорная и умиротворенная. Она в эти мгновения поцелуя успела отрешиться ото всего, забыть про северную свою соперницу. Он был ее и только ее! И им было так хорошо вдвоем.
Снежана ухаживала за Вехом, когда он лежал у стены, без сил, почти без дыхания. Она перебинтовывала его раны, давала пить. И поначалу Вех не отличал ее от других болгарок, облегчавших раненым их страдания, успокаивающих тех, кто прощался с жизнью и отходил в мир иной.
Но потом он стал выделять ее. А точнее, это она его выделяла. Вех заметил, что кареглазая красавица чуть дольше задерживается у него, чем надо, что она касается его тела своими мягкими, но сильными руками чаще, чем необходимо для наложения повязки, что, склоняясь над ним, она старается как бы невзначай коснуться его плеча, груди своей грудью, задержать это мгновение. А один раз, когда она думала, что он лежит без сознания, и гладила его лоб теплой ладонью, навалившись на его согнутую в локте руку грудью, вживаясь в него, когда она неуловимым движением прижала свои влажные и подрагивающие губы к его губам, он вдруг открыл глаза и обнял ее, прижал еще сильнее. Она хотела вырваться, испугалась, но он не выпустил, он поцеловал ее страстно, умело. И она облегченно размякла, ответила на поцелуй. А потом взяла его руку в свою, раскрыла ладонь и приложила ее к полной и трепетной груди… И вот тогда он чуть не провалился в тьму настоящего морока, чуть не лишился сознания, ведь он был еще так слаб.
Она перепугалась, отстранилась. Но потом все поняла и тихо рассмеялась. В ту же ночь они стали близки. Он тогда не мог встать, он еле приподнимал голову, ноги плохо слушались его, лишь руками владел. Но она сделала все что надо сама, она старалась не утомить его и притом дать немного неги, женского тепла и женской любви. Он лежал и наслаждался, все время лавируя на кромке бытия и небытия. Сейчас для него острота ощущения любовных утех была не менее страшна, чем острота ромейского меча. Это для него была новая сеча, но уже не кровавая и гибельная, а сладостная, желанная… А потом она лежала рядом и гладила его волосы, время от времени давая напиться из кувшина. Она понимала, что он чуть живой, и берегла в нем слабенькое дыхание жизни – берегла и для него самого, и для себя.
Радомысл посмеивался над Вехом.
– Монахом стал? – вопрошал он шутливо, скаля белые зубы, которые казались просто сахарными на смуглом от загара лице. – Смотри, опутает она тебя, совсем завянешь в единобрачии-то!
Вех смеялся. И думал, что Радомысл ему просто завидует. Он знал, что в Доростоле много женщин, что воины-русичи нашли себе подруг-полюбовниц, но знал он и то, что не всех устраивала такая доля – таиться по углам, скрывать своих возлюбленных от глаз! Ведь они, язычники, привыкли к любовным утехам совместным, шумным и праздничным, как праздничны любые обряды, будь то тризна или же прославление мрачного Белеса. Они считали, что любовь на виду у всех, такая привычная для них любовь, придает силы мужчине и плодовитости женщине, что она неотъемлемая часть празднеств… Но вот тут-то и разошлись по разные сторонки братья-славяне: вроде бы и недавно болгары были такими же необузданными и жизнерадостными язычниками, наслаждающимися своей буйной и требующей любовного жара плотью, а все ж таки новая вера остепенила их, сделала не такими. И потому не всем русичам было долгое пребывание в Доростоле по душе.
Радомысл как-то с двумя десятками воев, теми, что покрепче да поменьше изранены, устроили на Велесов день любовные игрища-коловоды. Набрали по числу воинов местных женщин, не утративших языческих навыков, разожгли костры посреди главной площади, посадили со всех четырех сторон стариков с деревянными гулкими щитами выбивать дробь, опустошили половину жбана пенного хмельного пива, разгорячились плясками, удалыми да боевыми. А потом все вместе, и мужи и жены, посбрасывали с себя одежды, оставив лишь украшения – браслеты, кольца, серьги, височные подвески, бусы на шее, груди, бедрах, лодыжках – да еще амулеты, а из мужей некоторые и ножи на поясах, короткие мечи. И сошлись в хороводе в два кольца – внутреннее женское, а внешнее – мужское.
Сходились кольца и расходились, сближались и отдалялись друг от друга, кружились то в одну сторону, то в другую. А потом совсем сжалось женское кольцо – одна к другой, в плотный кружок-холо. И настигло тут его внешнее кольцо, мужское, надавило извне, обступило, прижалось вплотную. И каждый вой встал позади жены, обнял ее. А жены рук не расцепили, но разом, подчиняясь чарующим звукам гудков и свирелей, пританцовывая на месте в такт гулким звукам, поклонялись кострищу – низко, в пояс, в ноги, в землю. Да так и застыли, чуть содрогаясь и приплясывая.
Вех со Снежаной сидели и тогда на бревнышке, подсматривали. Уж больно ей любопытно все было, никогда не видывала подобного. Да и Веху хотелось вспомнить родные игрища. Хотелось бы и поучаствовать в них. Но слаб еще был. И Снежана не пускала. Она вцепилась в него, словно он был ее имуществом, мертвой хваткой вцепилась, а сама-то смотрела, не дышала.
– Бесовские игры, прельстительные и колдовские! – выдохнула она ему в ухо, дрожащим голосом. – Бог накажет!
– Ничего, Снежка, ничего. Он и так кого надо накажет! А не он, так другие! – ответил ей Вех. Приподнял ее посадил себе на колени, огладил упругие бедра, поцеловал в выбивающуюся из-под расстегнутой рубахи грудь. А она не сводила глаз с «играющих».
Сомкнулись оба кольца, соединились мужи и жены в ритмичном покачивании-танце – и разом раздались веселые, приободряющие выкрики, зазвучал смех. Теперь это было одно кольцо, казалось, что звенья в нем едины, просто у каждого такого звенышка четыре ноги, а тело одно, и покачивается слегка это тело в единой покачивающейся цепи то к кострищу, то от него и то вздымаются вверх распускающимся цветком соединенные женские руки, то опускаются, а вслед за ними, соскользнув с округлых и поблескивающих от благовонных притираний женских бедер, взлетают руки мужские, ударяют в ладоши разом и вновь опускаются. И такое во всем этом колдовство и навьи чары, что сидела Снежана ни жива ни мертва, оцепенев, глазея во все глаза, дрожа, прижимаясь к Веху. Сидела околдованной до тех пор, пока он не перекинул одну ее ногу через бедра свои, не прижал ее к себе грудью… И тут она словно проснулась. Никогда не была она столь неистова и жадна на ласки. И ею завладели чарующие ритмы. Она сама стала богиней любви и ее же жертвою, она взлетала и опускалась над Вехом. Но она сумела его развернуть на бревнышке так, что он сидел теперь спиной к участникам любовного игрища, а она лицом, она все видела.
Но он чувствовал, что телом она здесь, с ним, а духом там, с ними! Ее заразило это языческое буйное действо.
Она про все позабыла. Да, в эту минуту она не могла назвать себя христианкой. А Вех ликовал – и от сладостных ощущений, и от мысли – вот теперь она поймет его, она станет такой же, как он. И были они в этой любви одним телом, как и те, что на площади.
А ритм все ускорялся, он заставлял кольцо сокращаться все быстрее и быстрее. И не было пока тех, кто не выдержал бы бешеной любовной гонки. Это были настоящие мужчины, бойцы, воины, любовники и настоящие женщины, сознающие свою власть и силу, свои чары и могущество незримое. Это было торжество чистой и сладостной, незапятнанной и самой настоящей любви. Казалось, сам бог жизни и наслаждения, бог чистых помыслов и открытого высокого достоинства Кополо вселился в каждого участника коловода, сделал его неистовым и одержимым. И сопротивляться всемогущему богу было бессмысленно.
И тут ритм резко сменился. Прошла целая вечность, прежде чем после последнего гулкого удара со всех четырех сторон прозвучал следующий удар. Даже Снежана, взлетев над Вехом, замерла, уперев обе руки в его крепкие мускулистые плечи. Да, она была во власти ритма. Но вместе с ударом деревянных бил, она опустилась, со вторым взлетела, и опять… она была точно там, среди язычников. И Вех радовался, что ей хорошо, что сумела понять неземную красоту. и завлекательность этого действа. А она смотрела во все глаза.
Подчиняясь новому ритму, живое кольцо распалось на два прежних кольца, мужское и женское. Но теперь мужское не стало отдаляться, нет, оно просто с каждым ударом перемещалось по кругу ровно на один шаг, и вместе с этим шагом, мужские звенья сливались с новыми женскими ведь кольцо жен не сдвигалось, оно по-прежнему было склонено в молитвенной позе к кострищу, к богу Кополо. Удары следовали с большими паузами, и руки уже не взлетали вверх, нет. Теперь каждое звено сливалось с каждым, и каждый мужчина хоть на миг, на секунду, становился обладателем каждой женщины коловода, а каждая из женщин чувствовала, что она не обойдена вниманием и любовью ни единого из мужчин. И это было торжество рода, торжество общности любящих друг друга людей. Любящих не на словах, а на деле, отдающих своим любовникам и тело, и душу, и силы. С этой всеобщей горячей и страстной любовью не могло сравниться ничто на белом свете, ей подчинялось все живое, попавшее в зону действия любовного игрища.
Подчинилась ей и Снежана. Вех почувствовал вдруг, что она вот-вот сорвется, спрыгнет с него, бросится туда, к кострищу, чтобы принадлежать не одному лишь ему, а всем. Всем, кто готов дарить ей любовь. Но он удержал ее, припал к губам, задрав голову вверх, склоняя ее к себе. И она не покинула его.
Но все равно она была там. А игрище близилось к концу – мужское кольцо уже несколько раз обернулось вокруг женского, и каждый из воев по такому же числу раз прижал к своему телу поблескивающие бедра каждой из жен, погрузился в сокровенное, отдалился… и снова прижал. Но тут ритм опять сменился – теперь бешеная дробь прокатилась над площадью. И кольцо разомкнулось, разорвалось.
– Гляди! – вскрикнула Снежана и опустилась, вцепилась Веху в шею, попробовала повернуть голову.
Он застонал, вздрогнул всем телом, ибо именно сейчас он отдавал ей семена будущих жизней, именно сейчас он был на верху блаженства. Он сжимал ее бедра, и он был только в них, больше нигде! Всего лишь миг, но это было так!
Дробь подчинила всех исполняющих танец любви. Это было неожиданно. Снежана увидала, как мужчины, там, где их подстерегли эти быстрые удары в щиты, остановились, замерли на мгновение и словно по команде нагнулись над женщинами, обхватили их ноги, изнутри, прижимая тела к себе, вздымая их вверх, распрямляя. И развернулись-разом! Женщины вскинули руки вверх, заваливаясь спинами на груди мужчин. И те побежали, не выпуская из объятий избранниц случая, не разъединяясь сними, побежали грузно, неторопко, прочь от кострищ, в разные стороны – словно волны разбегавшиеся от воронки, образованной камнем, что бросили в воду. И женщины закричали вдруг пронзительными голосами, изогнулись, закидывая руки за спины мужей, ногами сдавливая бедра…
Прямо на Снежану с Вехом бежал Радомысл с чернокосой красавицей, груди которой тяжело вздымались и спадали при каждом шаге, разбрасывая по сторонам тяжелые нити бус.
Вех развернулся. Теперь и он видел все.
Радомысл с черноволосой замерли у самого бревна. Он рухнул на колени. Завалился на спину. И она упала на него. Еще какое-то время их тела содрогались, перекатывались по траве, не разъединяясь. А потом он отпихнул ее от себя, застонал. И черноволосая безвольно упала в траву, поникла. Оба тяжело и прерывисто дышали. Это был предел любовного наслаждения. Дальше былатолыко смерть!
– Ну как? – поинтересовался Вех у Снежаны.
Та молчала. Она еще не могла связно и разборчиво говорить. Она вообще медленно отходила после всех их близостей.
Все испортил Радомысл. Он пришел в себя раньше других и как был, в чем мать родила, лишь с коротким ножом-мечом на поясе да в бронзовых браслетах на запястьях, взгромоздился на бревнышко, рядом со Снежаной, повернул к ней лукавое лицо с горящими и вместе с тем одурманенными какими-то глазами. И спросил:
– Ну что, ладушка, переходишь в нашу веру? Или тебе и этого доказательства нашей правды мало, а?
Зачарованная до того, Снежана словно путы сбросила с себя. Она оттолкнула Веха, перепрыгнула через бревно по другую сторону, оскалила зубы, мотнула головой, уперла руки в бока.
– Это сатанинские игры! Это колдовство! – закричала она. – Вы будете гореть в геенне огненной! Не будет вам прощения, нет, не будет! Это дьявол вас прельщает! Я знаю, он и меня околдовал! Дьявол! Сатана!
– Да ладно, успокойся, – сказал Радомысл. Он встал, поднял с земли черноволосую, поднес ее на руках к бревну, сел, усадил ее на колени и поцеловал нежно. – При чем же тут дьявол? Вот мы – я и она – оба живые, здоровые, молодые… И сын у нас будет здоровым и сильным, а может, дочь, и все, кто рождался раньше нас, кто жил как мы, были сильными, смелыми, здоровыми… Ты погляди, нас ведь совсем мало, но что с нами может поделать этот напыщенный бурдюк с вином, этот жирный коротышка Цимисхий?! Нет, у него нет таких людей, а они живут по-вашему… Не знаю, но если сатана рождает людей здоровыми, смелыми, гордыми, то я за сатану, Снежка, ты уж прости!
– Богохульник! Язычник поганый!
– Он неверно сказал, – поправился за друга Вех, – не сатана, конечно. Просто мы всегда так жили. А кто-то хочет переделать нас. Я не философ, Снежка, не богослов и не волхв, чтоб разбираться в премудростях. Но наш народ, если он поймет, что ваша вера сильнее, что она ему нужнее всего, даже если она принесет беды, но сможет спасти дух, он ее все равно примет. И мы тут ни при чем, Снежка. Не злись! Мы родились и жили такими! И врага били-тоже такими!
Она ударила Веха кулачком по спине. Отвернулась.
Она ничего не поняла. И вообще она хотела лишь одного – чтобы он принадлежал ей, только ей! Чтобы он никогда, никогда не кружился в этом сатанинском, колдовском коловоде! А все остальное придет. Пускай он язычник, пускай. Главное, чтобы он был с нею. А там все станет на свои места.
А Радомысл с чернокосой, лежащей у него на коленях, спали. И лица их были безмятежны, как бывают безмятежные лица у верных, дорожащих друг другом возлюбленных.
…Это было с месяц назад. А сейчас они сидели на том же самом бревнышке и ожидали важного решения. Решения, от которого зависела их дальнейшая судьба, да и судьба русского и болгарского воинства, русского и болгарского народов. И Снежане почему-то хотелось, чтобы поскорее заключили мир, чтоб Вех остался здесь навсегда. Пусть Болгария будет чьей угодно, пусть уйдет Святослав и его вой, лишь бы любовь их жила. И не понимала она того, что тяготило Веха, – не любить им друг друга, если русичей победят.
За этот месяц переменилось очень многое, и теперь не было ни у русичей, ни у местных сил для жарких и изматывающих любовных игрищ. Теперь и дум о них не было, на краю пропасти разве об этом думают?!
– Ромеи сыты, они откормлены словно боровы, – проговорила Снежана. И из глаза у нее выкатилась слеза. Она не смахнула ее, а вытерла о щеку Веха. Прижалась плотнее. – Теперь на каждого борова по десять ваших придется, иначе не осилить! Я боюсь!
– ТЫ рано нас хоронишь! – успокоил ее Вех. – Слава о русском оружии обошла весь мир. С нами не только наши силы, но и эта слава, что внушает страх врагам, они цепенеют от нее! Так что мы еще поглядим, кто кого.
– Чего глядеть, вон какие у тебя руки! – Снежана всхлипнула. – Когда ты лежал беспомощный, там, под стеной, они были в два раза толще!
Вех посмотрел на свои руки, потом взгляд его лег на выпирающие колени… Да, он здорово сдал. Но что делать, и другим несладко. А сколько уже умерло?! И все равно, пускай попы отпевают других, а они не собираются сдаваться. Даже если князь пойдет на уступки, они уйдут от князя, они сколотят свой отряд и с боями будут пробиваться на родину, они не станут молить о снисхождении к себе! Да и какое там снисхождение – у ромеев разговор с пленными короткий: глаза вон, и на галеры или в рудники, а то и казнят показательной казнью. Нет уж?
Святослав вышел, когда солнце упало за зубчатую стену у Западных ворот. В неровном свете факелов было видно его суровое утомленное лицо. По обе стороны от князя стояли воеводы. Все в крепости замерло.
Святослав начал тихо, вполголоса.
– Братья, – проговорил он, – теперь все в наших руках. Подмоги нет, и уже, видно, не будет ее никогда. Что делать? Нам ли перед лицом живого и веселящегося врага умирать от голодной смерти и мора? Надолго ли нас хватить для сидения осадного, спрашиваю вас?!
По площади прокатился глухой рокот.
– Хватит сидеть сиднями! – выкрикнул Радомысл. – Доколе еще выжидать!
Его поддержали.
Князь поднял руку, кивнул.
– Сзади нас – ромейский флот. Спереди и по бокам пехота и конница сжимают кольцо. Но разве было когда, чтоб русский воин просил пощады! Нет! – Голос Святослава окреп и, казалось, долетал до огороженного частоколом ромейского лагеря. – Волей или неволей мы должны драться. Не посрамим же земли Русской, ибо мертвые сраму не имут!
В воскресенье мучаясь от ничегонеделанья и все еще не находя в себе силы помириться с ребятами из отделения, Черецкий пошел в клуб с твердым намерением записаться в библиотеку и тем самым хоть немного скрасить свое существование в одиночестве. Особым любителем чтения он не был, читал когда придется и что придется. В основном книгами снабжали друзья – отец библиотеки не оставил, а матери было просто не до книг, вечные заботы по дому съедали все ее время.
В клубе было пустынно. На первом этаже две пары молчаливо сражались за шахматными досками. Черецкий, не удержавшийся от совета, был послан играющими куда подальше. С тем и оставил их, не обижаясь. Сквозь запыленные изнутри стекла была видна спортплощадка.
Денек выдался без дождя, один из немногих в этом июне. И потому на спортплощадке было людно – играли в волейбол и баскетбол, играли азартно. Тут же у краев площадок дожидались своей очереди команды «на смену», они болели яростней всех прочих. Было шумно и весело. Черецкий с трудом заставил себя оторваться от зрелища.
Библиотека оказалась на втором этаже в самом углу полутемного коридора. Табличка на двери была маленькая, неприметная – издали и не разберешь.
Потоптавшись на резиновом коврике, Черецкий постучал костяшками пальцев по крашенной в бурый цвет фанере, осторожно приоткрыл дверь и просунул в образовавшуюся щелочку голову.
– Ау, лю-юди?! – произнес он дурашливо.
Послышался шорох, что-то упало.
– Ну кто там еще! Я уже уходить собралась, безобразие! Черецкий ничего не понял, и, наверное, это отразилось на его лице.
– Время без пяти два, – добавил девичий голосок. – Вы что, читать не умеете, расписание на двери не видали?! Видели или нет, я вас спрашиваю?
– Ага! – Черецкий в подтверждение еще и кивнул, хотя на расписание он как раз внимания и не обратил. – Но дело в том, что я полторы минуты назад приехал с инспекцией в вашу часть, а через три уезжаю. Дела, дела!
Библиотека была небольшой – четыре невысоких стеллажа, с обеих сторон забитые книгами, большой и красивый стенд, а почти за ним – столик. Вот там-то на крошечном стульчике сидела очень симпатичная светленькая девушка. Она смотрела на вошедшего немного насмешливо, но, в общем-то, дружелюбно.
– Нам бы это, записаться, – произнес Черецкий, меняя тон и тиская в руках пилотку. – Нам бы чего попроще, а то забывать грамоту стали от хлопот армейских.
Он ожидал увидеть здесь какую-нибудь пожилую противную тетку или же своего брата-солдата. И вот на тебе сидит почти раскрасавица, молоденькая, хорошенькая, глазками огромными поводит, ножкой в туфельке покачивает, пальчиком белокурую прядь покручивает. Черецкому даже нехорошо стало.
– Ну что вы стоите!
Голос был ангельский. И совсем уже не строгий, как показалось поначалу.
Черецкий огляделся, но второго стула около столика не было, и он развел руками, а потом хотел было примоститься на полу, у самых ног.
Но девушка притопнула туфелькой, рассмеялась.
– Вы меня не так поняли. Давайте-как ваш билет.
Черецкий вытащил из кармана военный билет, протянул библиотекарше. Та быстро и аккуратненько записала все, что положено.
– Что читать будем, молодой человек?
Вопрос застал Борьку врасплох.
– Ну как же… этого нам бы, э-э-эротического чего бы! Про любовь и верность, стало быть! – произнес он игривым полушепотом.
– Ну значит, «Ромео и Джульетту», так? – поинтересовалась девушка, округляя глаза.
– Что вы, что вы! – Борька замахал рукой. – Попроще чего и чтоб с картинками. А лучше знаете чего – не надо картинок, ну их! Дайте одну только, единственную.
– Это какую же? – Девушка приподняла изогнутую бровь.
– Вашу фотокарточку! – прямо ответил Черецкий.
– Ах, какой галантный пошел нынче читатель, – проговорила девушка, привставая, – но вы меня задерживаете, забыли?
Черецкий хлопнул себя по лбу.
– Все понял. Если серьезно, мне надо по истории одну книгу. Вы, может, слыхали – был такой князь Святослав, вот про него, пожалуйста. Да посолиднее автора, мне там романчики не нужны, в них врут все. Есть?
Девушка наморщила лобик. Пошла вдоль стеллажей.
– Надо припомнить, – нараспев проговорила она, – да-а, Святослав? Вот есть исторические романы – Дрюон, хотите? Дюма, Стендаль, вот еще Толстой Алексей, Вальтер Скотт…
– Да нет, это все читано-перечитано, это все знают! Вот об этом бы князе! – гнул свое Борька. – Может, и не было такого? Хотя учебники-то не врут, там есть полстрочки, сам помню – иду, дескать, на вы! Помните?
– Смутно, – сказала девушка. – Ну идите-ка на мы скорей! – Она присела у нижней полки крайнего стеллажа. Вместе, глядишь, и подберем. Я тут тоже не все еще знаю. Бот какая-то!
Она вытянула в руке тонюсенькую книжечку в мягком переплете. Черецкий разобрал название издательства и поморщился.
– Ну-у, что вы, это же «Детгиз», это для сержантов и старшин, девушка милая, а я на гражданке был… э-э-э, кандидатом исторических наук, между прочим. Мне б какого-нибудь академика для начала, ладненько?
Библиотекарша посмеялась, но ничего не ответила.
Черецкий подошел к ней, опустился на одно колено. В голову ему ударила волна свежего, какого-то травянистого запаха, исходившего от ее светлых пушистых волос. Книги сразу же отступили куда-то далеко-далеко, на последний план. Их корешки, названия и фамилии авторов замельтешили перед глазами. Остановить своего взгляда на какой-нибудь одной из них Черецкий не мог.
– Вот смотрите.
– Угу! – сказал Борька маловразумительно.
Девушка выпрямилась. Встал и Борька. Они стояли вплотную и были оба немного растеряны. Черецкий на выдохе произнес одними губами:
– Какая вы необыкновенная, просто чудо!
Его руки совсем невесомо легли девушке на плечи и чуть привлекли ее к груди. Девушка вздрогнула, но не отстранилась, то ли она была в замешательстве, то ли в ней вспыхнуло ответное чувство. Черецкому, естественно, показалось последнее. Он коснулся губами ее щеки, потом мочки уха, руки заскользили по упругому и трепетному телу.
– Ну что вы, зачем, нехорошо, – чуть слышно прошептала девушка.
Но Черецкий не слышал уже или не понимал – голова его закружилась, он поплыл по неведомым волнам в неведомые страны. Но в тот самый миг, когда его губы коснулись ее губ, а рука легла на ее маленькую упругую грудь и слегка сдавила ее, Бориса почувствовал резкую боль в щеке и отшатнулся. Он даже не сразу сообразил, что получил увесистую оплеуху, – ведь все шло так хорошо. Он обиделся чуть не до слез! Отвернулся.
И это, наверное, спасло его. Если бы он принялся оправдываться или вымаливать прощение, а то и дурачиться, как с ним бывало в присутствии хорошеньких девушек, то все было бы безнадежно испорчено. Но здесь получилось наоборот. Девушка то ли испугалась за него или за себя, то ли пожалела – поди загляни в чужую душу! Но она вдруг положила ему руку на плечо и сказала мягко и дружелюбно:
– Больно? Терпи, солдатик, в любовных сражениях как на войне! – и рассмеялась.
Черецкий повернулся и рассмеялся вместе с ней. Они хохотали минуты две.
– Меня зовут Оля, – сказала наконец девушка, вытирая кончиком платочка выбежавшую слезинку – она очень аккуратно это проделала, Борька прямо залюбовался.
Потом он представился, хотя в том не было нужды, ведь она же видела все в военном билете.
Книги так и не нашли. Но Черецкий нисколько не жалел ни об упущенных книгах, ни о том, что променял все шумные и веселые спортплощадки на эту тихую комнатушку в солдатском клубе.
Сергей остановил Новикова в коридоре казармы, когда в ней никого не было, – рота занималась в классах. Лишь дневальный, сменщик Реброва, одиноко маячил на своем посту возле тумбочки напротив лестничного пролета.
– Поговорить надо, – сказал он, заступая Николаю путь.
– Решился? – поинтересовался Новиков. – А нужно ли?
– Как это? – опешил Сергей.
– А вот так, был вопрос – и нет вопроса.
В Сергее начало просыпаться почти угасшее озлобление. Но он сдержал себя.
– Что-то не понял.
– Раньше понимать надо было. Я с тобой сколько-раз поговорить хотел, а ты?!
– Виноват, товарищ сержант, – разъяснил Ребров, разрешите исправиться?
– Теперь это значения не имеет.
Сергей начал догадываться, что к чему. Он уловил связь между словами Николая и Мишкиным письмом. «Неужели все? – подумалось вдруг. И он неожиданно почувствовал облегчение. – Вот все и кончилось!» – Будем считать, что ничего и не было, – сказал Новиков, словно уловив мысль собеседника. – Ни-че-го!
– Это без меня решили? – Сергей с сарказмом скривил губы.
– Без тебя.
– А ты не боишься, что все может перемениться? Новиков резко вскинул руку и, цепко ухватившись за кончик воротника, притянул Сергей к себе – лицом к лицу. Прошептал почти на ухо, четко разделяя слова:
– Я-тебя-прощаю! Понял?
Глаза его застыли. Сергею показалось, что Новиков не видит его, несмотря на то что глядит в упор.
– С ней мы сами разберемся, – продолжил Николай. – Уже разобрались. – Он сдержал попытку Сергея отодвинуться. – А тебя: не было! нет! и не будет! Усек?!
Из классов вывалили засидевшиеся и разомлевшие ребята. Эхом прокатился под высоким потолком гомон, пахнуло сапожной мазью.
– Чегой-то ты бледненький какой-то! – сказал Слепнев и ткнул Сергея пальцем в живот.
– Еще бы, – вставил проходящий мимо Сурков, – солнце уж месяц не показывается!
Сергей, не обращая внимания на слова товарищей, провожал глазами уходящего по коридору Новикова. Спина сержанта была пряма и неприступна.
«Люба!
Мне непонятна эта игра в кошки-мышки! Что случилось? Почему ты не пишешь? Если тебе трудно объяснить происходящее или же просто не хочется, ответь мне двумя словами – с кем ты? И больше ничего, всего два слова! Я устал уже от постоянной нервотрепки. Найди в себе силы, напиши. А Новикову я не верю. Не верю, и все, понятно! Жду ответа!
Сергей, 22 июня 199… г.».
Ребров уже заклеил конверт и собирался отнести его, бросить в ящик. Но пришла новая идея, и он прильнул к тумбочке.
«Привет, Мишка!
Извини, рассусоливать некогда о том о сем. Пишу по делу. Будь другом! Разузнай, что творится с Любой. Я понимаю, вы не ладите, и все же очень тебя прошу! Только пиши то, что сам видел, что знаешь наверняка. Всякую болтовню проверяй, короче, смекнешь сам. Попробуй, может, через сестру выведать кое-что удастся, она вообще-то женщина надежная, но особо на нее не напирай, не надо усугублять. Постарайся сделать все побыстрее, сейчас канитель разводить никак нельзя. Надеюсь на тебя!
Сергей Ребров, 22 июня 199… г.
P.S. А место на губе я тебе законопачу, когда сам туда попаду, лады?!»
Квасцов только на второй паре распечатал письмо, вытащенное утром из почтового ящика. До этого все было некогда. Шел последний перед экзаменом семинар по математике.
И теперь, пригнувшись к столу, чтобы преподавательница не могла его видеть из-за спин сидящих впереди, он вновь и вновь вчитывался в каждую строчку, хмурил брови так, что сторонний наблюдатель мог бы подумать – Квасцов чем-то здорово опечален.
На самом же деле в Мишкиной душе клокотали вулканы. Это был миг его торжества! Сколько раз предупреждал он Сергея, чтобы не усложнял тот своих сердечных дел, чтоб был проще, мол, баб навалом, чего душу рвать, гуляй – не хочу! Он ведь напрямик говорил: «Ну чего ты, лопух, привязался к этой мочалке, приклеился как банный лист! Разуй глаза – такого товару по улицам шлындает тьма-тьмущая! Однолюб сдвинутый, тоже мне Ромео московских трущоб! Да она же стервятина, за километр видно, она тебя высосет и выбросит, балда! В лучшем случае, в домашнем стойле теленком оставит, понял?!» Серега тогда злился, не верил. А кто прав-то, а?! Но тогда, ко всему прочему, как-то сразу возникшая неприязнь между Мишкой и Любой усугубила отношения, отдалила его от Сергея. Мишка не переживал, ему было все до фонаря. Но самолюбие он имел незаурядное.
И вот теперь Мишка получил новое подтверждение своей правоты. Ему хотелось вскочить, взмахнуть над всей аудиторией белым листком бумаги как флагом – ага, дескать, так я и знал! этим и должно было кончиться! Но Мишка сдерживал себя и лишь мрачнее супил брови. Могло показаться, что он внимательно и очень серьезно слушает объяснения преподавателя.
«Ладно, друг есть друг, – решил все-таки он, – в лепешку расшибусь!» Сунул письмо во внутренний карман пиджака и усиленно призадумался, настолько углубился в свои замыслы, что поначалу и не расслышал голоса молоденькой аспирантки, проводившей это занятие.
– Та-ак, ну кто же… кто же нам ответит? – Она склонилась над журналом, потому как вела занятия только тогда, когда болел кто-нибудь из постоянного преподавательского состава, и не знала всех поименно. – Ну вот, наприме-ер. Квасцов?!
Мишку толкнули в бок. Но он не понял – двумя делами сразу так и не научился заниматься: не Юлий Цезарь, голова-то все же одна!
– Квасцов, выйдите, пожалуйста, к доске и объясните нам…
– Зинаида к-хэ-м… – оборвал аспирантку Квасцов, проглотив отчество, вернее пробурчав вместо него что-то нечленораздельное – язык не поворачивался назвать эту миленькую девушку по всей форме, Зиночка – еще куда ни шло. – Можно выйти?
– К доске, да? – аспирантка не поняла.
– Нет, мне нужно выйти, – твердо сказал Мишка и потянулся к черному с блестящими металлическими ребрами «кейсу». – А вы кого-нибудь еще спросите, хорошо?!
И вышел.
Весь план созрел в его голове в один миг. Не тогда, когда он сидел и торжествовал, а позже – катализатором послужил вызов к доске. Теперь Квасцов знал, что ему надо делать.
В приемной декана было непривычно пусто. Секретарша Анечка сидела на своем месте, задумчиво разглядывая себя в зеркальце круглой пудреницы. На лице ее была написана невыразимая тоска.
Войдя, Мишка, не задерживаясь в дверях, направился прямо к Анечке, широко улыбаясь, кивая. Секретарша обернулась к нему. Когда оставалось шага два – Квасцов словно остолбенел. Он остановился, округлил глаза, брови поползли вверх. Но улыбка тут же вновь заняла свое место на его лице.
– Ты сегодня сама себя превзошла! – на выдохе произнес Мишка, не отрывая глаз от Анечки. – Хороша, мать, ни в сказке сказать, ни пером описать, честно!
Анечка ожила.
– Ну уж, скажешь! – И тут же добавила кокетливо: – А раньше что же, поплоше была?
Раньше Анечка была одной из бесчисленных Мишкиных любовей. Отношения их прервались в самую безоблачную пору, и никому из двоих досады не доставили, а потому и не оказали пагубного влияния на их дружеское сосуществование. Была, правда, и еще одна причина – Мишка знал, с кем дружить, а с кем и необязательно. И сейчас, как и всегда, это должно было сыграть ему на руку.
– Цветешь! День ото дня хорошеешь. – Мишка обежал взглядом фигуру девушки с ног до головы, и глаза его заблестели, будто говоря, а не тряхнуть ли нам стариной?!
Но он тут же, зная, что лесть хороша в меру, перешел на деловой тон.
– Анюта, выручай!
– Что такое, опять влип? – заулыбалась та.
– Нет, – Мишка сокрушенно махнул рукой, – тут сложнее. Анют, нужен срочный вызов Смирновой в деканат.
– А-а, ясненько все, на прогульщиц переключился, Мишенька, котик ты наш мартовский!
– Анюта, лапушка, ты сама погляди повнимательнее на эту мочалку, а потом на меня. Ну-у?! Вижу, все поняла, у нас же с тобой нормальные вкусы!
Секретарша удовлетворенно улыбнулась.
– Кстати, старик про нее уже дважды спрашивал, – сказала она.
– И прекрасненько! – с плохо скрываемым пафосом выдохнул Мишка. – Давай-ка пригласим эту двоечницу и гулену на субботу, часиков эдак… на двенадцать, лады?!
Анечка подобрала губки, искоса бросила взгляд на Квасцова и сказала равнодушным голосом:
– Чего для вас только не сделаешь.
Через полчаса Мишка стоял с девушкой из Любиной группы, упрашивая ту срочно передать записочку адресатке – надо, мол, выручить, а то, дескать, погонят из института. Девушка была согласна с самого начала. Но Мишка привык доверять только себе, да и то не всегда.
– Считай, что это поручение декана! – закрепил он свою просьбу.
Ночью Квасцов спал спокойно, благостным сном человека, сделавшего свое дело.
На часах было десять минут двенадцатого. Мишка нервничал, поглядывал на дверь старенького обшарпанного подъезда. Наконец Люба вышла. Порядок, подумалось ему, но на всякий случай он постоял еще минуты три в своем укрытии за деревьями.
Убедившись, что Люба ничего не забыла и не вернется по этой причине, Мишка скомандовал себе: «Вперед!» – и дернул на себя скрипучую дверь. Ну, Серега, знай, какие у тебя друзья!
Звонок не работал. Пришлось колотить в дверь костяшками пальцев. Открыли не сразу.
– Кто там?
Мишка замялся, потом сказал уверенно, твердо:
– Из института к Любе!
– Ее нет, – послышалось из-за двери.
– Знаю, но у меня серьезный разговор, впустите! Дверь распахнулась, пропуская гостя в полутемную прихожую. Пахнуло холодком. Разглядев хозяйку, Мишка быстро смекнул – интеллигенточка, сельского пошиба, наив! Здесь надо иначе!
– Вы уж извините меня, пожалуйста, – Мишка потупился в пол, не зная, куда деть руки. – Здравствуйте! – У него был вид смущенного человека, не знающего, как начать. – Вы ведь Любина сестра, верно?
– Да, Валентина Петровна. Проходите.
Сзади щелкнул замок.
– Мы учимся вместе, правда, в разных группах. – Мишка сделал попытку снять ботинки, но Валентина Петровна слегка подтолкнула его, пригласила в комнату. Мишка покорно побрел вперед. – Но не в этом дело.
Комнатка поразила Квасцова своей убогостью. Чуть ли не впервые в жизни он мысленно поблагодарил родителей за то, что они смогли сами устроиться в этом мире, а значит, и устроить его, Мишку Квасцова, единственного сына.
Посидев немного на краешке предложенного ему стула, Мишка сказал решительнее:
– Давайте напрямоту! Я – лучший друг Сергея Реброва.
Валентина Петровна облегченно улыбнулась.
– Что же вы молчали?
– Неловко как-то, – Мишка снова потупился. – Знаете, он ведь два месяца на службе. А там не такого легко, нужна поддержка… Мы с ним переписываемся, и я все знаю. Ему сейчас туго приходится.
Квасцов опять умолк, глядя во внимательные, но усталые глаза молодой еще женщины, сидящей напротив. Круглолицая и сероглазая, она имела очень открытый и доброжелательный вид. Мишке она показалась совсем непохожей на младшую сестру.
– Вы ведь знаете об их отношениях? – спросил он.
– Кое-что, Люба, меня не слишком-то балует откровениями.
– Все равно, все равно, – зачастил Мишка, как бы сдерживая волнение. – Она ему не пишет, не отвечает на звонки. Только вы не подумайте, что разлюбила, нет. Тут вмешался третий. Вопрос очень деликатный…
– Если вы про Николая… – начала было Валентина Петровна.
– Именно про него, – оборвал ее Квасцов. И прикинул: она не знает его, точно! во всяком случае, не знает достаточно хорошо. – Причина в нем!
– Вот как? С Любой творится что-то невообразимое!
Но, Николай, неужели он…
– Любе тяжело, я понимаю. Но Сергею вдвойне тяжелее, втройне! Во-первых, начало службы, самые изнурительные дни в армии, самые выматывающие, во-вторых, этот разрыв – необъяснимый и необъясненный, нелепый! ну, а в-третьих, вы слышали, наверное, что Николай…
– Ну что же вы замолчали? Продолжайте!
Квасцову показалось, что он перебрал, что напугал эту доверчивую женщину. Но отступать было поздно.
– К сожалению, я знаком с этим человеком, с Новиковым, и очень давно, со школьной скамьи. Может, я нехорошо поступаю, говоря так, но это не тот, кто нужен Любе, поверьте, не тот, кто может составить ее счастье. Погулять – это да, похвастаться перед ребятами – тоже мастер. Вы меня простите, ради бога, но я не терплю этих районных донжуанчиков, они мне противны! Впрочем, не буду расписывать, вы и сами обо всем еще услышите, наверняка узнаете… Ну, конечно, умеет девушке голову затуманить. Может, потому и Любе он приглянулся чем-то, не знаю. Пусть сами решают, тут надо без советчиков!
Квасцов горько усмехнулся. Словно пересиливая себя, продолжил:
– Я вам одно скажу, он способен любить только себя. Вон и Любу оставил, когда уходил, без печали. Теперь его тешит соперничество! Безжалостный человек. Но хватит, хватит!
Мишка упивался произведенным впечатлением. Валентина Петровна нервно комкала платок. «А она ничего, совсем даже ничего!» – отметил про себя Мишка.
– Люба у меня одна, прямо обидно за нее. Не хотелось бы всех этих… – она махнула куда-то вдаль рукой и всхлипнула совсем по-детски.
Мишка сокрушенно кивнул, принялся разглядывать ногти.
– Так вот, третье, – продолжил он немного погодя, будто припомнив, уже вставая со стула. – Этот Новиков – заместитель командира взвода, в котором служит Сергей. Вы понимаете? Ребров полностью в его власти! Знаете, ведь как издеваются там над беззащитными…
Мишка пошел к двери.
– Не хотел вам всего этого говорить, но что поделаешь! – он развел руками.
В коридоре пахнуло холодком. Позади, словно стук капель из неисправного крана, слышались медленные тяжелые шаги.
– Я вас очень прошу, поговорите с Любой! – Задержавшись в дверях. Мишка заглянул в глаза хозяйке. – Их надо спасать! Обоих!
Валентина Петровна закивала, прижала платок к глазам. В сумраке прихожей этот платок был похож на белый флаг капитуляции. Мишка замер.
– Вы плачете? – спросил он шепотом и легонько сжал ей локоть. – Какая вы тонкая, чуткая…
Валентина Петровна расчувствовалась пуще прежнего, слезы побежали из ее глаз, и она не могла скрыть этого.
– У вас нежная душа, пойдемте, пойдемте, я доведу вас до дивана, дам воды! – Мишка захлопнул входную дверь и повел женщину обратно в комнату, придерживая ее за плечи.
Усадив Валентину Петровну на диван, он не побежал за водой, а пристроился рядом, на самом краешке, заглянул в глаза.
– Ну успокойтесь, вам уже хорошо, все наладится. – Он не понимал, что напало на эту приятную и миловидную женщину, совсем еще молодую и привлекательную.
Не догадывался, что причиной тому были вовсе не любовные дела сестры и ее неудачи – хотя и это тоже, – но главное, вырвалось наружу то, что копилось последние годы вся боль одиночества, тоскливого, затаенного ожидания, досады – ведь годы уходили, а счастья не было. Не мог Мишка вникнуть во все тонкости женской истерзанной души. Но кое-что и он уловить мог. – Ну что вы, ну что вы, Валя?
Он оглаживал ее плечи, спину, немного встряхивал ее, думая, что это поможет. Потом прижал голову к своей груди. Его рука лежала на такой беззащитной и тонкой шее, что Мишка поневоле сам расчувствовался и тоже всхлипнул.
– Не надо, ну пустите, не надо, – еле слышно говорила она. А рубашка мокла от слез – Мишка это чувствовал, как чувствовал и ее горячее, словно в лихорадке пылающее. тело.
И случилось непонятное – впервые в жизни Мишка разревелся сам, то ли в резонанс вошел с плачущей, то ли еще по какой причине, но его вдруг затрясло, из глаз покатились слезы, и он, опустив шею, сам уткнулся лицом в ее грудь, тяжело вздымающуюся, еле прикрытую халатом.
Теперь они рыдали оба, с такой силой, словно произошло нечто ужасное, непоправимое, и это непоправимое можно смыть лишь потоком слез.
Она приглаживала его по затылку. И прижимала сильнее и сильнее – так, что начал задыхаться. Его руки обвили ее тело, трепетное, вздрагивающее, и скользили по нему, не могли остановиться.
– Не надо, – еле лепетала она, все так же не отпуская головы, – ну не надо, зачем? Вы противный мальчишка, как вам не стыдно, не надо…
Мишка рыдал, хлюпая носом, трясся и не отвечал. Он умудрился расстегнуть верхние пуговицы и теперь не только орошал ее кожу слезами, но целовал, целовал – шею, груди, ложбинку между ними. Голова у него кружилась, чего обычно в таких случаях не бывало, но это совсем не мешало – тело было таким податливым, мягким и вместе с тем жгущим, что он ничего не видел и не слышал. Если бы его спросили: Миша, где ты сейчас? с кем? он бы сразу и не ответил – какое-то затмение нашло.
Она сама съехала по спинке дивана вниз и чуть вбок, откинулась, увлекая его за собой, не отпуская от своей груди. Но даже теперь оба не переставали всхлипывать, вздрагивать – в странном и неожиданном единении, охватившем их, таких разных, и не только лишь по возрасту. Остановиться они уже не могли. Да и не хотели они останавливаться.
…Мишка опомнился минут через десять. Быстро встал, поправил одежду, застегнулся. Потом встал на колени перед ней, поцеловал – сначала в губы, потом коснулся шеи, впадинки у бедра. Рука его заскользила по ногам. Но он одернул себя. Времени оставалось в обрез.
Люба выскочила из-за двери деканата раскрасневшаяся, возбужденная. Глаза горели. Натолкнувшись на входящего в комнату преподавателя и чуть не сбив его с ног, она даже не извинилась, а лишь вскинула голову и быстро пошла по коридору к лестнице.
«Ого! – подумал Мишка. – Я сейчас прямо как капля воды на раскаленную сковородку угожу!» Тем не менее он вышел из-за угла, откуда наблюдал за всем происходящим, поднял руки вверх и с таким видом, будто моля о перемирии, двинулся навстречу Любе.
Она пронеслась мимо, не обратив внимания на Квасцова.
– Любашенька, постой! – забежал тот сзади.
Получив в ответ косой невидящий взгляд, Мишка зашел с другой стороны и плелся теперь молча, на шаг приотстав от девушки, задевая плечом встречных студентов. Все спешили по своим делам и не догадывались, что там творится у кого-то на душе, а толчки, суету, гомон в институтских коридорах принимали как нечто само собой разумеющееся.
Из распахнутых дверей брызнуло солнце. На последней ступеньке каменного институтского крыльца Квасцов догнал ее, забежал чуть вперед.
– Да погоди же ты!
– Ну чего привязался?! – почти выкрикнула Люба.
Мишка на минуту опешил, но взял себя в руки – дело есть, дело.
– Считай, что это не я перед тобой, а Сергей, – процедил он.
Девушка фыркнула. Они уже начинали привлекать внимание прохожих.
– Говори, только побыстрей.
– Один минут! – осклабился Мишка. – Давай присядем. Лавочки во дворе были заняты, пришлось идти в скверик напротив, через дорогу. На переходе Мишка успел купить у мороженщицы «Лакомку» и, галантно склонив голову, протянул мороженое Любе. «Охладиться тебе, подруженька, не помешает», – зло подумал он, тая свою мысль за обаятельнейшей улыбкой.
Не вышло! Люба, взяв «Лакомку» двумя пальцами, тут же бросила ее в стоящую рядом урну и, брезгливо оглядев пальцы, полезла в сумочку за платком.
– Твой минут прошел уже, – сказала она.
Но лавочка была совсем близко и на удивление – пустая. Сели.
– Сергей за тебя очень волнуется, – начал было Мишка. Люба его оборвала;
– Без тебя разберемся!
– Но просил-то он именно меня, понимаешь! Специально письмо написал! – С Мишки, как слетал сейчас с тополей белый пух, слетала под ветерком Любиного презрения вся его напускная уверенность.
– Очень жаль, что он так и не понял, с кем имеет дело! – Глаза собеседницы сузились, и Мишке показалось, что в них стоит уже ничем не прикрытая злость.
– В кого метишь? – удивился он.
– В тебя! – с нажимом, резко ответила Люба.
– Однако… – попытался изобразить благородное возмущение Квасцов.
– Все? – Люба дернулась, вставая.
– Да нет, не все!

Мишка решил идти до конца. «Дружба дружбой, но и у меня есть предел, други дорогие!» В нем вспыхнула злоба, и одновременно пришло какое-то ледяное спокойствие.
– Твой дружочек новый, тот, что до Сергея был хорош, да и после Серегиного ухода пригодился, старушка, просто подонок и больше никто! Дерьмо натуральное!
– За такие слова…
– Он Серегу по твоей милости угробит вконец. Ты, надеюсь, знаешь, что они там, – Мишка мотнул головой куда-то влево, – неровня?
– А тебе-то здесь, – Люба повторила жест собеседника, мотнув головой вправо, – откуда это известно?!
– Серега сам писал.
– Покажи!
– Много чести.
– Не верю, – Люба облегченно вздохнула и собралась уходить.
– Нет, ты постой! – В голове у Квасцова творилось что-то невообразимое, он готов был собственными руками задушить сейчас, прямо здесь, в скверу, эту упрямицу. «Какая все же разница между сестрами!» – мелькнуло в его мозгу. – У меня просто нету с собой письма этого, понимаешь? Что я тебе, почтальон, что ли, таскать сумки с бумагой?!
– Вот когда будет, тогда и приходи.
– Ладно, мать, черт с тобой! Но ты хоть напиши ему, что все кончено, – зачем мучить человека!
– О себе беспокойся!
Контакта не было. «И не будет, – подумал Мишка. – Ну, Сереженька, подыскал же ты себе мегерочку! Другой не то что уступил бы ее первому встречному, айв придачу бы дал многое, лишь бы избавиться! Здесь я промахнулся явно, надо было сперва на подруг выйти!» Но и сдаваться не хотелось – чего-чего, а настойчивости Квасцову было не занимать.
– Ты морочишь головы двоим, а они готовы перегрызться из-за тебя!
– Нашелся здесь, мораль ходячая! На себя погляди!
– В конце концов, знаешь – кто ты такая?!
Девушка молчала.
Мишка сощурил глаза и на всякий случай немного отступил назад.
– Обыкновенная шлюха, шалашовка рублевая!
Люба без размаха, резко ударила Квасцова по лицу.
«Привет будущему генералу!
Серый, твои поручения выполнил с блеском! Правда, без подружек обошелся и их пустого куриного квохтанья.
Но все нормалек! Так что теперича я на место простого сидельца на губе уже никак не согласный! Пускай берут, как минимум, начальником губы или, как там у вас, командиром! Короче, на звание завгубой я не обижусь, хе-хе! Но шутки в сторону! С Любой у меня некоммуникэйшн, понимаешь? Ну, а на сеструху ее я нажал крепко – верь, дела твои скоро на лад пойдут. Хотя я от души бы советовал тебе, старче, завяжи ты с ней пока не поздно, пользуйся моментом, что этот обалдуй Новиков появился! Ты ему памятник нерукотворный воздвигнуть обязан за то, что он принимает огонь на себя! Спасайся, Серый, пока не поздно!
А из института Любовь твою, наверное, попрут. Как и меня, хе-хе! Но ты там не отчаивайся и всегда помни, что дембель не за горами!
Всегда с тобой твой верный друг Мих. АН. Квасцов, 28.06.199… г.».
Ребров с тоской поглядел в проясняющееся небо. Нет, Мишка есть Мишка! Он скомкал письмо и с силой бросил его в зев четырехугольной зеленой урны. Оставалось одно – ждать Любиного ответа.
А время шло, оставалось полторы недели до присяги.
Командир части, полковник Кузьмин, человек плотный, костистый и усталый, вызвал к себе старшего лейтенанта Каленцева. И теперь тот сидел в его небольшом, отделанном деревом кабинете и недоуменно покачивал коротко, почти под нулевку, остриженной головой.
Юрий Алексеевич держал в руке листок ученической бумаги в клеточку. На листке было порывистым почерком выведено следующее:
«Командиру воинской части…
Здравствуйте! Извините, не знаю Вашего имени-отчества. Но моей рукой движет очень серьезная причина, и потому обращаюсь к Вам! Человек, с которым я собираюсь соединить свою жизнь, служит в Вашей части. Его зовут Ребров Сергей Владимирович. И о нем пойдет речь.
Вы сами знаете, наверное, как сейчас неспокойны матери, братья, сестры, невесты тех парней, что попадают в армию. Столько всяких страстей говорится о извращениях, насилиях, глумлениях „дедов“ над молодыми солдатами, что боязно за близких людей, подвергающихся беспрестанным издевательствам и совершенно не защищенным командирами от преступников! Все газеты пишут о зверствах „стариков“! Но я не об этом. Я хочу лишь сказать, что мало всего этого, так ребята попадают под командование своих гражданских недругов или соперников, которые вымешают на них свою злость, досаду, пользуясь положением. Разве допустимы такие вещи?!
Я не хочу никого обвинять или осуждать. Может, каждый по-своему хорош, каждый в одиночку отличный человек. И все же я прошу Вас, убедительно прошу перевести Реброва в другой взвод или роту, я не знаю как там в армии все это называется, может, батальон. Но не подумайте, что сержант Новиков чем-то плох или что он нарушает что-то, нет, я не хочу, чтобы вы его наказывали. Просто надо изменить положение, и все! Развести по разным углам тех, кто все равно не уживется вместе. Надеюсь на Ваше положительное решение.
С уважением Любовь Смирнова, 28 июня 199… г.».
– Ну-у, что скажете? – спросил Владимир Андреевич Кузьмин.
– В первые дни Ребров подавал рапорт… Потом, наверное, передумал. Может, сгоряча что-то и было по гражданской памяти между ними. Но, видно, все прошло! – ответил Каленцев после непродолжительного раздумия.
– Хорошо, но поговорите с обоими, потом доложите, сказал напоследок Кузьмин. Он вновь склонился над бумагами, лежавшими на столе.
Каленцев пошел к двери. Но он не успел выйти, полковник окликнул его.
– Постойте, Юрий Алексеевич! – Кузьмин стоял теперь у окна и смотрел вдаль. – Есть у вас такой боец по фамилии Черецкий?
– Так точно, в моей роте.
– Что он из себя представляет?
Каленцев немного замялся, но ответил четко:
– Жалоб нет на него, исполнительный, дисциплинированный, немного себе на уме – но это от характера. Парень как парень. Я думаю, из него выйдет неплохой сержант.
– На а как человек?
– Тут сложнее. Задиристый малость, с товарищами не всегда ладит. Но характер твердый. А все наносное, думаю, сойдет.
– Ясно. Можете идти.
Кузьмин сунул в рот «беломорину». Облокотился о подоконник.
За окном, на плацу, отрабатывали строевые приемы.
Был обычный учебный день.
Кузьмин отыскал глазами Черецкого. «Парень как парень», – колыхнулось в мозгу. Он глубоко затянулся и выпустил клуб сизого дыма в распахнутую форточку. За сержанта Николая Новикова и его подопечных Кузьмин был спокоен.
«Сереженька!
Извини меня, я знаю, тебе там очень нелегко. Но что делать! Письмо я твое получила, и с Квасцовым-негодяем говорила – он этот разговорчик надолго запомнит, подлец! Но я не верю, что это ты его ко мне подослал. Не верю!
Эта сволочь поганая и с сестрой, с Валей, говорил – так Валька два дня как помешанная ходила. Неужели это все правда? Ведь Николай никогда не был таким подлым! Он и сейчас не такой! Но из-за этого клеветника твоего она и слышать не желает о Новикове, меня из дому не выпускает – всему поверила, представляешь?! А я и сама, не знаю даже – верить или нет, все перемешалось, бедлам какой-то!
Только мне теперь уже все равно. И ты меня прости, но мне никто больше не нужен, все осточертело. Я хочу только покоя. Как я устала ото всего, как устала! Прости! И я больше не могу быть между вами, хотя я ему сдуру обещание, дала, все так и было, ты не поверишь. Но теперь все! Никто, никогда!
Пусть тебе будет хорошо в жизни. Ты будешь еще и счастливым и любимым. А я – нет.
Прощай, Сережа!
Люба, 30 июня 199… г.».
Это письмо добило Сергея. Ему захотелось войти в темную и пропахшую сапожной мазью каптерку и там в одиночестве и мраке повеситься. Но каптерка была заперта. Ключи лежали в кармане у каптерщика. Больше же вешаться было негде – кругом ходили, стояли, смеялись, хмурились, курили или отрабатывали очередные приемы его сверстники. И даже в самой тягостной ситуации не хотелось представать перед ними безвольной тряпкой.
– А у тебя губа не дура!
Слепнев стоял, широко расставив ноги, заткнув большие пальцы обеих рук за ремень, улыбался, подмигивал. Черецкий резко шагнул к нему.
– Щас у тебя губа дурой будет! Понял?!
– Ты чего, Борька? – остолбенел Слепнев. – Я же насчет Оли, библиотекарши, дочки кузьминской, а ты…
– И я про то же, – Черецкий позеленел, – меня, как хошь, крой, а про нее чтоб ни слова и ни звука, понял?!
– А что я такого сказал? Ну ты псих, Боря.
Черецкий уже слыхал пересуды о себе и Ольге. И его теперь приводило в бешенство одно лишь упоминание ее имени. Он позабыл все свои дрязги и болячки, ничего не хотел, кроме одного… Но и это единственное казалось Борьке чем-то несбыточно далеким, как та придуманная жизнь в книгах, которые Ольга подбирала ему.
Вчера вечером он невольно подслушал разговор двух солдат из второго взвода. Они говорили, стоя за кустами, в трех метрах от курилки, и не подозревали, что тот, о ком велась речь, здесь, рядышком.
До сих пор в ушах у Черецкого стояли их голоса.
– Слыхал новость? – вопрошал приглушенный басок.
– Какую? – спрашивали голоском потоньше и похлипче.
– Ну даешь! Черецкий-то, хмырь этот дерганый, знаешь, клеит дочурку командира части, библиотекаршу нашу! – Не болтай! Это, наверно, параша очередная, слухи!
– Точно! Сам их два раза видал рядышком. Меня не проведешь!
– Ну и как?
– Чего как? Он малый шустрый – как веник, он своего добьется!
– Да, а деваха-то ничего, хороша!
– Не на мой вкус, – отрезал бас. – Мне бы килограммчиков на двадцать пять поувесистее! Но вот Кузьмин, батя, командер-то наш верховный! Пристроил ври себе дочурку-то!
– А что, не положено, что ль?
– Положено – не положено… а зарплата идет, смекай.
– Усек! – ошарашенно пискнул тенорок.
В этот миг Черецкого будто сковала какая-то сила – во рукам и ногам. Он не мог пошевельнуться. Только сердце отбивало дикую чечетку а груди.
Но после вечерней поверки, в туалете, он прихватил обладателя баска за грудки, прижал к стене и прошептал ему прямо в ухо. Прошептал так, чтобы слышали все, кто там в это время находился.
– Еще услышу, падла, что ты параши распускаешь – убью! – В это мгновение ему самому верилось – убьет. И прав будет, без всяких там объяснений. – А та, кого ты, сучонок вшивый, грязью поливаешь, не за зарплату вкалывает, а так, на общественных началах, за бесплатно! Понял?! Для таких дураков, как ты, время свое гробит!
Черецкий ткнул парня кулаком в брюхо, толкнул в стену. И тут же отвернулся, ушел.
И хотя знал он, что болтовня она и есть болтовня – пустое сотрясение воздуха, а слухи и есть слухи, или, как их тут называли – параши, но не мог себя сдерживать.
Новые заботы и хлопоты пришли на смену прежнем.
Но этих новых Черецкий не променял бы нм на что на свете – слишком глубоко в сердце запала светловолосая библиотекарша.
Стоило ее увидеть, и язык немел, руки и ноги становились ватными. И властный, самолюбивый Черецкий, знающий себе цену, готов был выполнить любую прихоть новой знакомой, бежать за ней куда угодно…
Жаль только, что прихотей никаких не было и бежать она его за собой не звала.
В эту ночь Сергей, наверное, свихнулся бы от бестолковых и мрачных мыслей, заполнивших его голову. Но вместе с мерным Славкиным голоском, бубнящим свое, к нему пришла картина давно забытого, а может, и вообще никогда не бывшего, придуманного, но картина оттого не менее реальная, взаправдашняя и что-то очень напоминающая. «Вот так сходят с ума!» – подумал Сергей, перед тем как впасть в полузабытье. Но это было вовсе не сумасшествие и даже не его приближение, это было просто грезой или полусном, расслабляющим и дающим покой усталому сердцу.
Зачем Радомысл вынес его с поля боя? Ну зачем?!
Ведь мог бы и бросить там – было бы не восемь погибших из десятка, а девять, разница небольшая – никто бы и не заметил! Бросил бы, и его Любава, навсегда его. Ну, конечно, коли сам бы уцелел в немилосердных сечах. Но на то воля Рода да его воля! Вех не мог ответить на свой вопрос. Но и он бы поступил точно так, честь дороже всего, честь да совесть!
Всю ночь Вех провел со Снежаной. Но она не допустила его к себе, они не были близки в эту ночь.
– Береги силы, воин! – насмешливо шепнула она ему на ухо.
И он не стал настаивать.
Снежана вышила ему льняную сорочку, купленную у старухи-болгарки, красными цветами. Но Вех надел ее перед самой сечей, утром – на смерть нужно было идти в чистом.
– С тобой ничего не случится, – сказала она, припадая к нему всем телом, дыша в лицо. – Я предчувствую, верь мне.
Но голос ее предательски дрогнул. Она не была сама уверена в своих словах.
Вех не стал показывать, что он понял. Нет, с ним ничего не случится совсем по другой причине – потому что он будет лезть в самую гущу, не будет прятаться, а смелым Перун помогает! Он выведет его живым и невредимым из битвы. А ежели они проиграют этот спор, так лучше и не жить!
– Я тебе все прощаю, все-все, даже эту твою, что оставил в Киеве. Бог с тобой. Вех! Знай, что в бой ты идешь чистым! – сказала она.
Он поцеловал ее. И заглянул в глаза. Нет, она все же была еще совсем девчонкой, девочкой – пухлые детские губы, эти чистые и открытые широко-широко глаза, этот лоб, на котором нет не то что морщинки, а даже намека на ее появление в будущем! Как рано она повзрослела. Как рано она завянет! Ему стало горько. И, как всегда в минуты печали, явилось ему видение Любавы. Нет на свете ничего прекрасней северной красоты.
Любава далеко. Кого она ждет? Может, положилась на судьбу и загадала на того, кто вернется в родные края? А может, и позабыла про обоих да живет себе с любым муженьком – ведь не один год они в походах?! Не узнать, далеко земля Русская!
Летняя ночь коротка. Не приносит она отдыха тем, кто назавтра должен вынуть меч из ножен, кто с трудом смыкает веки в эту свою, может быть, последнюю ночь.
Из уцелевших в сечах Радомысл собрал новый десяток. Сколько от него останется на сей раз?
И вот уже утро. Дует с Дуная-реки прохладный ветер.
Вновь становятся друг против друга «стена» и «фаланга». Вновь звенят трубы и бьют барабаны. Вновь колышутся разноцветные стяги, знамена. Святослав на коне объезжает строй, а на лице у него светлая улыбка. Красное корзно бьется на ветру, и солнце переливается в его складках. Трава, по-июльски высокая, прячет тонкие ноги скакуна, волнами изгибается под порывами ветра…
– Ну вот и слава Перуну! – выдохнул Радомысл. – Наконец-то!
У Веха пересохло горло, свело судорогой губы, и он не смог ответить. Хватит ли сил для битвы, вот о чем сейчас бы задуматься. Вот о чем бы сейчас позабыть!
Ромеи оставили лагерь далеко позади. Их полки вытянулись черной стеной, мрачным заборолом. А из-за полков торчали горбатые камнеметалки – на этот раз враг был в полной силе и мощи.
Когда Вех на заре поднимался на стену крепости, он видел – с севера подошли к берегу ромейские ладьи, из них высаживались воины, быстро выстраивались в боевые порядки, проверяли оружие, слаженность. Кольцо смыкалось все туже! Сколько оставалось жить под земным солнцем?
Но все было по-прежнему. Снова блестело молодое солнышко, умытое утренними зорями, и снова лучники принимали первыми смерть. Лишь Святослава не было рядом – он был где-то слева, с конницей. Да ряды воев не были столь упруги и плотны, как в предыдущей сечи. Стояли разрозненно, чтобы было место и возможность уворачиваться от огромных валунов, тех, что метали цепкие могучие руки камнеметалок. Но не всякий успевал отскочить, не всякий подставлял вовремя щит под малый камень…
Ветер менялся, дул в лицо, снося стрелы русичей назад. Припекало. Ромеи, воспользовавшись тем, что враг не мог спрятаться за стеной щитов, выставили лучников вдвое больше, не жалели стрел. И снова падали, падали вой, не успев сойтись с врагом грудью в грудь.
Но снова был бег, долгий и краткий, легкий и утомительный – кому как. Снова рухнули, повалились первые ряды ромеев.
Теперь Вех увидел Святослава. Князь был впереди конных дружинников, под стягом он вклинился почти в самую гущу ромейского войска и пробивался теперь к тому месту, где высилась над головами прочих отборная охрана базилевса, Но до нее было далеко, и кто знал – там ли Цимисхий?! Император ведь мог пребывать и в своем великолепном, сверкающем золотом шатре на вершине холма и наблюдать за боем оттуда.
Но меч Святослава сверкал все чаще, прокладывая коню дорогу, взрезая вражескую стену. Увлеченные примером князя, шли вперед воины, побросав позади себя ненужные уже копья, вздымая вверх боевые мечи и топоры. Враг не выдерживал, он пятился – метр за метром, оставляя поле русичам.
– И-эх! Вот так! Еще раз!
Рядом с Вехом, мерно орудуя своим харадужным мечом, шел Радомысл. Щит его, утыканный стрелами, то взлетал вверх, спасая от удара, то вновь опускался. И тогда видно было, что кольчуга на Радомысле иссечена во многих местах. Но он не вырывался вперед, не отставал, успевая следить за каждым из своего десятка.
– Вместе, ребята! Наляжем-раз! И еще раз! – голос Радомысла был суров, страшен.
Ромеи отступали, медленно отбиваясь, вырывая из русского строя то одного, то другого. Но все же отступали, не успевая подбирать раненых.
Вех позабыл про усталость и слабость. Сейчас его пьянил азарт. Сапоги оскальзывались о мокрую от крови траву, идти было тяжело. Но он не отставал, не выбивался из хотя и смешавшегося порядком, но все же строя. Ведь одиночку тут же настигнет смерть – сбоку, сзади. Сжереди она не страшна – пока рука, закостеневшая от усталости сжимает меч, пока она в силах разить им и отбивать встречные удары – надо идти и идти вперед!
– Левей бери! – выкрикнул Радомысл. – К Святославу!
Князь с малой горсткой дружинников был далеко впереди – островком виднелись островерхие русские шеломы посреди высоких ромейских касок. Туго приходилось князю, туго.
Вех не видел, что творилось по бокам, там, где были полки правой и левой руки. Но одно было ему ясно центр был прорван, и русичи неудержимо рвались вперед.
Все больше шеломов виднелось около княжеского стяга, пропадали они – один за другим. И Веху и Радомыслу было ясно: если так пойдет дальше, скоро князь останется совсем один, а тогда… Нет, они должны были успеть! Во что бы то ни стало – успеть!
Длинный ромейский меч сбил с головы Веха шлем. На миг потемнело в глазах. Но только на миг! Удар! Прямой удар – туда, где меж железными пластинами темнеет свиная кожа панциря. Все! Нагибаться за шлемом Вех не стал, некогда. Ветер холодными струями остудил его мокрые взъерошенные волосы, освежил. Вперед!
До Святослава оставалось не больше двадцати шагов. И строй превратился уже не в «стену» и не в таранный молот, а в стрелу, вытянувшуюся острием в сторону «бессмертных» охранников базилевса. В голове стоял Радомысл.
Щит его раскололся вдоль, на щеке тянулся кровавый рубец, зубы были оскалены в подобии какой-то неистовой улыбки. Оставалось немного!
Вех видел – князь один. Конь его упал. Никого рядом нет, все полегли. Меч князь сжимал в левой руке, правая повисла безжизненной плетью вдоль тела.
Оставался последний рывок. Ну же! Радомысл проскользнул меж ромеями и уперся спиной в спину князя. Спасен! Кольцо удалось разорвать. И теперь ромеи уже не отступали, теперь они позорно, втягивая головы в плечи и горбя спины, бежали. Все! Вех задыхался от накатившего чувства. Неужто все?! Сердце готово было вырваться из груди. Но нет, еще рано было думать об этом, совсем рано.
Свежие, не утомленные боем русичи обтекали с боков, заполняли оставленное врагом пространство – теперь пришло их времечко. Враг бежал, бежал во весь дух, бросая оружие и раненых, бежал туда, к холму, на котором возвышался императорский шатер. Опьяненные близящейся победой, преследовали его русичи.
– Стойте, остановите их! – прохрипел Святослав.
И только тогда до Веха дошло, что не раны обескровили князя. Святослав еле держался на ногах от усталости. Но держался, не обращая внимания на сочившуюся из-под рассеченной на правом плече кольчуги кровь. Лицо его было бледным, словно у мертвеца, глаза запали. Двое дружинников поддерживали князя под руки. Но Святослав отталкивал их, пытался вырваться.
– Остановите! Где стяг?!
Радомысл бросился к земле и выдернул красное полотнище из-под груды ромейских тел – оно было бурым, почти черным от запекшейся крови.
– Скорее! – выкрикнул князь.
Радомысл, не найдя древка, наколол конец стяга на свой меч, вскинул вытянутую руку вверх и, дважды резко опустив ее вниз, стал вращать меч со стягом над головой – то был сигнал к отступлению.
Но не сразу остановились передовые полки. А когда они замедлили свой бег, когда воеводы, недоуменно оглядываясь назад, стали резкими выкриками сдерживать ратников, Вех увидал – поздно! Из-за холма выходили железные шеренги ромеев. И конца им не было видно!
Визг труб, барабанная дробь, дикие вопли заглушили последние окрики и лязг металла.
– Западня!!!
Святослав наконец оттолкнул дружинников, вскарабкался на гору трупов. Лицо его порозовело, видно, силы постепенно возвращались в молодое и выносливое тело, закаленное суровой боевой жизнью.
Радомысл продолжал стягивать войско. Он наконец нашел длинное и, главное, целое копье. Теперь княжеский стяг был виден издалека.
– Княже, слева ромейская конница! Обходят! – не слезая с коня, выкрикнул подскакавший болгарский воевода.
И умчался.
Святослав молча кивнул.
Небо потемнело, и со стороны холма хлестнул в лица сильный ветер. Тучи поднятого вверх песка обрушились на русские ряды, засыпая глаза, забивая рот, нос. Казалось, сама природа встала на защиту ромеев.
Вех отвернулся от колючего ветра и увидел, что дорога назад перекрыта. Путь к крепости преграждала стена пехоты – наверное, той самой, что поутру высадилась с ромейских кораблей.
Солнце совсем скрылось за черной пеленой, ветер нарастал, достигая почти ураганной силы. «Эх, Любава, не дождешься ты ни одного из нас» – с горечью подумалось Веху.
Но словно в ответ на мрачную мысль его прозвучал твердый, спокойный голос Святослава:
– Пробьемся!
Он не отворачивался от порывов ветра, не оглядывался на Доростол, смотрел в сторону ромейских полков, вытянувшихся на холме и по обе стороны от него
– Пробьемся! – с удвоенной уверенностью повторил он.
И невозможно было поверить, что Святослав полчаса назад выглядел человеком, почти переступившим порог этой жизни.
Небо высветили яркие вспышки, и из передовых, стоящих лицом к лицу с ромеями полков послышались жуткие крики.
– Греческий огонь, – бессильно прохрипел Радомысл, – они не хотят биться с нами, не хотят рисковать своими жалкими жизнями, окружили и теперь будут выжигать. Всех до единого, живьем!
– Назад! К крепости! – закричал Святослав.
Радомысл опять взмахнул стягом. Полки начали отходить, собираясь в один мощный кулак.
Горшки с огненной смесью сыпались сверху, не переставая. Волна горькой едкой вони докатилась до Веха. Нечеловеческие вопли, исторгаемые мучениками, не смолкали. Ветер доносил запах горящего мяса.
Но даже в это оглушительном шуме Веху казалось, что он слышит, как скрежещут зубы у Радомысла. Страшно было смотреть на того – меч подрагивал в жилистой перемазанной кровью руке, лицо было черно, словно у нубийца, лишь белки высвечивались на нем, русая борода растрепана, всклокочена.
Ветер не стихал. И небо было столь же темным. Насколько хватал глаз – и слева и справа – русичей окружало бесчисленное войско. Позади, на холме гарцевал в сопровождении «бессмертных» сам Цимисхий – предвкушал победу и полное истребление «северных варваров».
Но Святослав принял решение, пожалуй, единственно возможное. Когда «стена» сомкнулась, он дал команду пробиваться к крепости.
– Княже, дозволь сзади идти, – вызвался Радомысл.
Святослав кивнул. Воевод почти не осталась, теперь десятнику, показавшему себя в бою, можно было доверить большое дело. Несколько сотен присоединились к Радомыслу, и он повел их туда, где стояли под огненным дождем последние русские полки.
– За мною! – выкрикнул князь.
Все поменялось своими местами. Вырваться из кольца, избежать лютой смерти или позорного плена, а значит, и рабства, можно было, лишь прорвавшись к крепости. «Стена» вздрогнула, ощетинилась железом.
В лица русичей полетели стрелы и сулицы. До ромеев было не более полутораста шагов. Но каждый такой шаг грозил гибелью.
Вех остался с князем. Кому-то надо было напролом, прикрывав предводителя – ведь без него войско рассыплется, таков закон сечи! Пожалев себя, можно было и погубить себя же, да в придачу многих сотоварищей.
Выставив вперед щиты, пригнув головы, бросились передовые отряды русичей навстречу железному граду – на место упавшего тут же вставал задний, ударная сила молота не ослабевала.
Когда стрела застряла в волосах Веха, ожгла кажу, пожалел он, что не поднял шлема. Но тужить было поздно. Следовало радоваться – опять смерть миновала!
Святослав бежал, прихрамывая, все так же сжимав меч в левой руке. К правой ему привязали щит, и этот щит был похож на перебитое, трепещущее, обвисшее крыло.
До ромеев оставалось шагов двадцать. Но уже теперь стало ясно, что они сумели изготовиться основательно, словно в землю вросли. Предстояла свирепая схватка.
Но тут со стороны крепости раздался громкий боевой клич. Ромеи опешили.
Вех приподнял голову – из Южных ворот Доростола с шумом, свистом, криками, звоном оружия мчался на выручку русичам, прямо в спины ромеев, отряд, оставленный для охраны крепости. И всего-то их было не более пятисот человек. Но шум, внезапность именно в эту минуту свершили необходимое, почти чудесное – отвлекли. И враг растерялся. Нет, он не побросал оружия, не побежал, даже не расступился, нет, просто на этот миг пришелся удар пробивающихся из окружения.
– Вперед, славяне! – раздался голос Святослава, и меч обрушился на выставленное вперед, толстенное древко копья, перерубая его как щенку. Князь одинаково умело владел мечом: что правой рукой, что левой.
Толща железа, человеческих и конских тел, дубленых кож, костяных креплений, щитов отделяла русичей от крепости. Но пробить эту толщу могли лишь они сами.
Резко выбив ногой направляемое в грудь копье, Вех, не глядя, машинально, ткнул вперед мечом и почувствовал, как острие погрузилось в мякоть… Теперь Вех не знал пощады, он не думал, не сомневался – рука сама выбирала жертву, прокладывала путь…
Больше двух часов вел бой под Доростолом. Полностью была иссечена малая и отважная дружина, отвлекшая своим безумным по смелости броском ромеев. Она даровала драгоценную минутку, за которую принято благодарить всю жизнь. Насмерть стояли задние полки, погибали, но сдерживали наползающие волчища. Цимисхий был в бешенстве – удача ускользала из его рук.
Усталость смеживала веки, меч вываливался из рук. Но вот наконец забрезжил впереди свет – как в лесу, когда выходишь на поляну и яркое солнце режет глаза – так и перед русичами высветилась трава, дорога к воротам. Стали видны кучки ромеев, бегущих к Дунаю, к своим кораблям. О преследовании их не могло быть и речи. Вех валился с ног от усталости, раны и слабость одолевали его.
Но в это время ветер стих, пыль развеялась, и выглянуло солнце, уже катящееся к окоему за Западными воротами.
Святослав без шлема, без кольчуги, в изодранной в клочья рубахе сидел на пригорке перед воротами. Меч лежал у его ног. Вех подошел ближе и заглянул в глаза князю – они были закрыты. Но Святослав не спал, его левая рука, упиравшаяся в колено, с силой сжимала подбородок.
Не спеша возвращались вои. Разрозненно, по двое, по трое, неся раненых. Одним из последних принесли Радомысла. На нем не было живого места.
Южная черная ночь скрыла кровавое поле. Повеяло прохладой и покоем. Но покой был призрачным. Каждый знал – и эта схватка не дала ответа: кто кого! Что же дальше? Кто знает. Тишина. Лишь какие-то невидимые черные птицы клекочут в полях да стонут, воют объевшиеся шакалы, у них праздник…
Когда Черецкому все надоедало до осточертения и он не мог видеть лиц сослуживцев, и при условии, разумеется, что хандра нападала на него в свободное время, в эти совсем редкие – не часы, нет, а считанные минуты, он приходил в старую заброшенную котельную, похожую, скорее, на блиндаж, вросший в землю на три четверти, сидел в темноте, курил. А когда он закрывал глаза, так и вовсе переносился в края иные, гражданские… Но это длилось мгновения, отрешиться от нынешнего бытия было невозможно.
Черецкий слыхал, что командир части и его заместители-хозяйственники уже не первый год грозились сровнять начисто с земелюшкой заброшенное строение располагавшееся за казармами в самом глухом, медвежьем углу части. Но то ли руки не доходили, то ли забывались угрозы и горячечные планы, а несокрушимый «блиндаж» стоял назло всем. И если бы кое-кому из рядовой или сержантской братии сказали, что котельной не будет, что последнее убежище ликвидируется, они бы не на шутку опечалились. И была тому причина.
В этот вечер Борька еще издали приглядывался к зияющему чернотой дверному проему, к заросшим кустарником и травой низким подвальным окнам. Но ничего подозрительного не обнаружил, ни шумов, ни криков, ни приглушенных разговоров – значит, в «блиндаже» сегодня никого не было. И он направился туда – хоть полчасика да одному побыть!
Он на ходу достал сигарету из пачки, закурил. Постоял немного на глинистом, усеянном битым кирпичом порожке, еще раз убедился, что никто ему не испортит настроения. А потом нагнул голову, прошел под низкими трубами и прямиком двинул в дальний конец, к старой железной кровати, списанной, наверное, еще лет двадцать назад, немилосердно скрипучей, ободранной, с прорванной в нескольких местах сеткой и сыроватым спрессованным от долгого употребления матрасиком. Он любил на ней сидеть, откинувшись к стенке, вытянув ноги, беспечно пуская кольца дыма вверх. В полумраке так хорошо мечталось!
Вот и сейчас он плюхнулся с размаху на кровать – сетка заскрипела, но выдержала, она была на диво прочной. Затянулся – глубоко-глубоко. Задержал дыхание. Прикрыл глаза. И вдруг почувствовал на них чьи-то руки – легкие, холодные, нежные. Это было чересчур! Борька дернулся, хотел встать Но руки не дали ему приподняться, они надавили на лицо, вернули Черецкого на кровать.
– Хреновые шутки! – зло вскрикнул он. Но не стал вырываться, потому что уже в следующую секунду понял, чьи это руки. И ему стало горько, обидно. Нет, это были руки не той, которую он любил, которой бы простил все… А как бы ему хотелось, чтобы это была она, Оля! Но нет, не она, она сюда и дороги не знает.
– Угадай, кто? – прошелестел тихий, очень высокий девичий голосок.
Борька положил на холодные и нежные ручки свои ладони. Что гадать! Все было и так ясно, это была Тонька Голодуха! И никто иной! Вечно она околачивалась тут, в «блиндаже». Но сегодня Борька не ожидал ее встретить здесь, сегодня был не ее день – по пятницам Тонька ходила в поселок на танцы.
Никто не знал, сколько Тоньке лет, где она живет, как ее фамилия. Кличку она свою получила задолго до их призыва, с ней и досталась в наследство от старших товарищей, а тем, видно, от еще более старших, и так, может, далеко-далеко. Тонька была худющей и бледной. Выглядела она четырнадцатилетней девчонкой-подростком, но была значительно старше и не скрывала этого. Иногда она закатывала огромные совершенно сумасшедшие глазища и томно произносила: «А вот лет восемь назад тут такой был сержаанти-ик, ой, я вам скажу честно, это целый взвод!» И смеялась беззвучно. А Борька не верил, не мог поверить, что можно жить целых восемь лет такой жизнью и не загнуться! Уж он-то знал, что за жизнь была у Тоньки Голодухи.
– Ну-у, угадай же! Какой ты хорошенький парнишечка, прямо загляденье. Ну почему ты не смотришь на меня?! – Тоньке надоело играть в жмурки, и она припала к спине Черецкого, расстегнула ворот гимнастерки, полезла рукой под нее, оглаживая его крепкую мускулистую грудь.
– Отстань! – Борька снова дернулся. Швырнул окурок под ноги, затоптал его.
– Ну зачем же так? Тонечка может обидеться, нехорошо, – заговорила она о себе в третьем лице. – Полюби, матросик, девушку, приголубь и согрей, а-а?!
Борька отпихнул ее локтем, привалился к спинке. Да!
Она точно была больная! Ни одна нормальная женщина не стала бы так себя вести, это был явный сдвиг, недаром ее и прозвали-то не как-нибудь, а Голодухой. Уж на что Борька был тертым калачом, а и он чуть не опрометью бросился из «блиндажа», когда его в первый раз привели сюда ребятки из дружественного взвода. И не потому, что он был ханжей или пай-мальчиком, никогда не видавшим такое и не слыхавшим про разэдакое, нет. Он просто совершенно не ожидал увидать то, что увидел впотьмах при слабеньком свете фонаря да еле пробивающихся лучиках, преодолевающих сплетения ветвей и листьев, стеблей и травинок за окнами подвала. А главное, ребятки эти и не предупредили его, наоборот, все хихикали, все зубы заговаривали… А вошел, пригляделся – мать честная: вокруг кровати человек двадцать пять как зачарованные – одни, рты разинув, другие, сгорая от нетерпения, третьи, хихикающие и подающие советы… а на низенькой кровати – как ему показалось, огромные и ненормально белые в этом мраке ноги, да, задранные вверх, скрещенные над кем-то женские ноги. И стон, и сип, и сопение. А потом то же самое объятие ножное, но уже с другим, третьим, четвертым… без передышки, подряд, без даже секундной паузы: встал, лег, встал, лег, ну и, конечно, то, что между сменами. Борька и раньше слыхал, что почти при каждой части воинской, при каждом лагере, колонии и вообще в местах скопления мужских душ всегда обретаются и подобные женские души, запакованные, как правило, в не слишком приглядные тела, но алчные, страждущие и жаждущие. Этих женщин, видно, не слишком любили в миру, от них шарахались мужики и парни, находили и посимпатичнее и понаряднее. А тут, в мужском обиталище, куда запрещен был вход женскому полу, эти отчаянные девахи пользовались постоянным спросом, тут их любили и ценили. Вот и Тонька была одной из ненасытных, но, к сожалению ее собственному, неприглядных. Ее не любили, ее чурались там, за заборчиком, ею брезговали, обходили стороной изможденную бабенку с голодными дикими глазами. А тут… Тут она была царицей! Царицей и жрицей любви! Бескорыстной, ненасытной, не отказывающей никому и никогда. И ее по-своему любили, ей приносили всегда что-нибудь вкусненькое с кухни, ее оберегали, не позволяли издеваться над ней, глумиться, хотя сама Тонька была страшно рада, когда кто-то причинял ей боль, унижал ее, издевался над ней, она радовалась и стонала, изгибалась, тянулась, закатывала глазки… и всегда желала, чтобы все смотрели, как ее унижают, как с ней грубо и жестоко обходятся, как она страдает и наслаждается от этого… Ну и смотрели, что делать! Если кто-то зарывался, останавливали еще грубее. А Тонька сразу же стелилась под защитника и жаждала унижений, грубостей, глумления от него… Нет, она определенно была больной. И порою она сама вертела пальцем у виска и приговаривала: «Ну чего ты, ну чего вы, ребята, с чокнутой чего возьмешь?» И опять утробно смеялась.
Конечно, далеко не все пользовались Тонькиными услугами. Большинство и здесь брезговали нескладной и малосимпатичной женщиной. Но те, кто знал о ней, молчали, зачем поднимать шумиху – приходила сюда до них, пусть и сейчас ходит, вреда нету! Во всяком случае еще ни один человек из части не попал к венерологам, не подцепил от Тоньки заразы. А сами они тоже были чистенькими, здоровенькими – даже когда и совсем никудышные медицинские комиссии бывали перед призывом, а и они ни единого сифилитика или какого иного больного по этой части в армию не пропускали. Да, армейская, разбросанная по всей огромной стране территория, пожалуй, и была единственной землей на белом свете, где проживали здоровые и чистые люди.
Борис Тоньку Голодуху не баловал, не мог он себя пересилить. Но заходил иногда. Иногда встречался с ней взглядом, и не только тут, возле столовой или у ворот КПП, и смотрела она на него своими и без того голодными глазами совсем алчуще, словно жаждала проглотить живьем, со всеми потрохами – Борьке даже не по себе становилось. Когда она пялилась на него, из огромных серых глаз исчезало безумие, но зато появлялось нечто столь странное, что Борька тут же отворачивался. Так могла смотреть, скажем, матерая и плотоядная волчица на маленького и беззащитного зайчика перед тем, как его съесть. Нет, не нужны были Черецкому такие подруженьки. Не нужны были раньше! И тем более – не нужны теперь, когда у него появилась Оля, его славная, неземная Оля – красавица, богиня, ангел во плоти!
– Пошла отсюда! – рявкнул он на Тоньку.
Но та даже не шелохнулась. Наоборот, протянула к нему руку, положила на голову.
– Ой, какие мы страшные и грозные, аж жуть!
Черецкий вздохнул и выругался, вслух, громко, злобно. Но и это не подействовало. Голодуха была ко всякому привычна. Она улеглась рядом с Борькиными ногами, свилась колечком и принялась пялиться – бесстыже, нагло, вызывающе. Даже в полумраке ее глаза казались безумными, неестественно горящими.
Борька отвернулся. Но не встал. Что-то его удерживало. Как-то раз сюда заманили Суркова. Но Леха сразу убежал и больше не показывался. Над ним смеялись. Да только он отворачивался, махал рукой. У Лехи были свои понятия. Но почему же тогда не смеялась над ним, Черецким? Значит, сумел себя поставить! Значит, понимает шантропа служивая, что он выше всей этой суеты и мелкой возни, особенно возни с бабами! Суркова привели, когда был совсем коротенький перерывчик в любовных упражнениях. И Тонька под одобрительные прибауточки делилась впечатлениями: «Я вам скажу, ребятки, что каждому свое, точняк! Одной какой-нибудь девчоночке хватает, как ее за сиську прихватят да по заднице ладошкой шлепнут, ну и пусть, какое дело, пускай… а я вот только с десятого, а то и с двенадцатого начинаю чувствовать да понимать что почем, только тогда в охотку вхожу… а ощущения всякие приходят-то на двадцатом, ну ежели парни покрепче да половчей, то на пятнадцатом, но редко, зато потом… и-эх! хоть саблю в руку и скачи! Четой-то заболтались мы, пора б в делом заняться!» И она бесстыже задрала подол под горло, подмигнула Лехе – он и прочь! Вот хохма была! Зато Серега, Славик и другие многие вообще не ходили, и правильно, не хрена! Борька сейчас им позавидовал – лучше не связываться, лучше всегда сторонкой! Вот не знал бы он ни о чем, как не знает, скажем, командование части, и было бы легко и спокойно, и не бегал бы от этих безумно голодных глаз. Так ведь нет!
– Все равно ты от меня никуда не уйдешь! – сказала она вдруг каким-то нутряным басом, почти не шевеля губами. И положила ему руку на ногу.
– Ни-ку-да!
Это было слишком. Борька вскочил. Но она тут же метнулась к нему кошкой, ухватила за плечи, повалила, впилась губами в его губы. Он вывернулся, опрокинул ее на спину, ударил по щеке.
– Ну, давай! Еще! – Она зашлась в беззвучном смехе, полуприкрыла глаза, ухватила его за плечи, притянула к себе. – Бей! Бей сильнее, изломай меня всю, растопчи, размажь по этой койке, о-охх-х-о-р-р-оо!!!

Борька не стал бить, он пытался вырваться, он дергался, но в ней была заключена, наверно, нечеловеческая сила, а может, это ее болезненная, алчная страсть придавала сил. Она вцепилась ему руками в гимнастерку, прижала к себе, и тут же перевернула, опрокинула на спину и снова впилась губами. Он почувствовал, как она сдавила его бедра ногами, сдавила с неженской властностью. Но он скинул ее, встал. Она вскочила следом, соврала с себя через голову платье и оказалась совершенно обнаженной, под платьем ничего не было, только ее бледная, худая плоть. Да, она выглядела совсем девчонкой – безгрудая, лишь темные соски торчали двумя пуговками, тощая – с подведенными ребрами, полностью отсутствующим животом, узкими мальчишескими бедрами… лишь ноги у нее были полными, длинными, красивыми. Зато на эти ключицы, на ее былиночку-шею страшно было глядеть.
Борька и не глядел! Он тут же отвернулся. Но она прыгнула ему на спину, захлестнула рукой шею, обхватила его ногами, свела их на груди, качнулась назад, резке, опять-таки не по-женски – и они снова упали на кровать. Она рассмеялась, но хватки не ослабила, все сильнее сжимала его в объятиях, кусала за ухо, пыталась пропихнуть руку под брючной. И эта дикая алчность была страшна. Борька не на шутку испугался – по его понятиям даже больная, даже ненормальная и убогая женщина, которая заслуживает в полной мере сожаления, сочувствия, не должна себя так вести, всему же мера есть! Но она не желала знать меры, она раздевала его, она впивалась руками в его тело, она жаждала его и ничего вокруг не видела, не слышала.
И он почувствовал, что не может больше ее щадить, что пора, хватит! Он развел ее руки тик, что чуть кости не затрещали, ухватил ее за лодыжки, рванул, содрал с себя кольцо ног, пихнул ее назад, не глядя, зло… и пошел к выходу.
– Не уйде-ешь! – прошипела она змеей.
И бросилась следом. Она настигла его у самого выхода.
Упала на колени. Обхватила его бедра руками, ткнулась в пах головой. Борька почувствовал, как срываются пуговицы, как ее руки проникают внутрь. Он даже не успел нагнуться. Но ощутил уже жар ее губ, влагу языка, разгоряченное дыхание. Она заставила его тело проснуться, возжелать ее, обрести мужскую силу, и она впилась в это тело, теперь ее руки, ее губы были всемогущи. Борька не мог сопротивляться, это было выше его сил, это было выше сил любого мужчины, он ощутил сладкую, тягучую истому. И все же он попробовал отпрянуть, сдвинуться на несколько сантиметров к проему… но сразу же почувствовал ее хватку, она не желала отпускать его, она лишь слегка, совсем чуть-чуть сдавила губы, сжала зубы… и он остановился, он не мог двигаться, она стала его владычицей, его госпожой! Пусть не надолго, пусть на эти минуты, секунды… но она была сейчас всевластна, и она упивалась своей властью, она дрожала и при этом умудрялась закатывать свои огромные глазища вверх, на него.
А когда все кончилось, она встала на ноги, положила ему руки на плечи и шепнула, не мигая и не отводя безумного, но все же утоленного на мгновение, наверное, взора:
– Я ж предупреждала, не уйдешь, ясно? Ты мой и будешь моим, моим!
Он отпихнул ее. А она забежала сбоку.
– Хочешь чего скажу, а?
– Чего еще? – Он не мог с ней быть грубым. Но он хотел уйти. Секундное блаженство было позади. И он не желал ничего продлять.
– А про твою ненаглядную!
– Какую еще!
– Знаешь какую!
Она прижалась к нему, уткнула лицо в его лицо так, что ее безумный огромный глаз смотрел прямо в его глаз, они даже касались друг друга ресницами, было немного щекотно, но Борька не отстранялся. Он почему-то, каким-то внутренним чутьем почувствовал, что сейчас она ему скажет нечто невероятно важное, что ему откроется что-то в нем самом. Он напрягся.
И она прошептала:
– Вы все считаете меня дурой чокнутой, свихнувшейся, ну и пусть! А я сама знаю, что сумасшедшая, пускай! Пускай! Какая мне разница! Сумасшедшая и сумасшедшая! Только я тебе скажу, такие, как я, все насквозь видят, из таких колдуньи выходят и пророчицы…
Борька дернулся. Но она не дала ему отстраниться. Она прильнула к нему, прижалась еще сильнее. И снова она властвовала над ним – но совсем иначе, не физически властвовала, а духовно, психически… он сам не знал как! Она могла сейчас сделать с ним что хотела. Но она не стала пользоваться этим, она только вновь зашептала на ухо – отрешенно, будто кто-то посторонний водил ее языком:
– Оставь ее! Оставь! Нет, правда, я не из-за себя прошу, мне не надо тебя, я к тебе больше никогда не подойду! Но ты должен ее оставить, я все вижу, я все знаю… Я вижу страшное, жуткое. Нет, ты не умрешь! Ты не должен умереть!
– А я и не собираюсь, – отозвался Борька.
Она резко отпихнула его от себя. Отвернулась. Застыла голая, худющая, беззащитная. И сказала, не оборачиваясь, словно бросила слова в пустоту:
– Уходи!
Борька застыл в нерешительности.
– Ты хотела…
– Я уже все сказала, – проговорила она хрипло.
– Нет, не все!
Тонька на миг обернулась. Сверкнули глаза – обычные, серые, молящие, без оттенка безумия. Но тут же погасли.
– Она погубит тебя, помни! Погубит! Но я не могу тебя остановить… И ты сам не остановишься. Уходи!
Черецкий вздохнул с присвистом, кашлянул, потоптался. И вышел. На душе у него было погано. И какая такая нелегкая понесла его в этот чертов «блиндаж»! Нет, ноги его больше там не будет! Все! Хватит! А что было… то было, прошло! Ерунда! Чего взять с больной, с дурочки, с несчастной! Ее лишь пожалеть можно! Не хватало всерьез принимать все, что она вытворяла, все, что говорила, пророчила… Бред!
У самого выхода он столкнулся с Новиковым.
– Ты чего там делал? – поинтересовался сержант.
– Отдыхал.
– Знаем, как там отдыхают! А ну живо в казарму! И чтоб больше духу твоего здесь не было! Развели, понимаешь…
Черецкий не заставил себя упрашивать, ему не нужны были дополнительные трудности, и так хватало.
А Новиков зашел внутрь. Огляделся. Он сразу понял, что здесь происходило минуту назад. Но пока никого и ничего предосудительного не видел. Он пригнулся, прошел под трубой. Но распрямиться не успел – его оседлали.
– Ага! Попался! – завизжала Тонька. Она была в восторге, радовалась, как малое дитя.
Новиков выпрямился. Но не смог ее скинуть с себя.
Она держалась на нем цепко и умело, словно лихой всадник на верном скакуне. Хорошо, что никто не видел этого безобразия – Новиков дорожил своей репутацией. И к Тоньке он заходил редко, когда на душе кошки скребли. А в последние три месяца и вовсе не посещал ее.
– Слезь, шалава!
– Ну уж нетушки! – Она вскарабкалась еще выше, положила локти на плечи. – Ни за какие коврижки. Вот поцелуй меня по три разочка в каждую коленочку, тогда подумаю…
Ее голые коленки и впрямь торчали почти под носом у Николая. Но ему было не до любовных потех и игрищ. У него на душе свербило.
– Я те сколько раз говорил, чтоб проваливала из части, а?! – сорвался он на крик. – Ты хочешь, чтоб из-за тебя на губу или дисбат кто попал, а? Говори, блудня чертова!
– Полюби меня, матросик, я тебе все скажу, все открою! – не унималась Тонька.
– Щас! Сапоги только сниму! – Николай разозлился не на шутку. – Слазь, стерва! – Он вцепился в ее ноги руками, сжал пальцами мякоть, так сжал, что суставы захрустели. Она завизжала, застонала, выгнулась, чуть не сворачивая позвоночника.
– Еще! Еще-е-е, миленький!
Он ущипнул ее еще и еще, теряя разум от злости, от бессилия и от дурацкого своего положения. Но она вообще с ума сошла – она так вцепилась в его шею, что чуть не придушила, из горла ее вырвался сип, вожделенный и какой-то животный, она изнемогала от нахлынувших на нее болезненно-сладостных чувств и требовала – еще, еще, еще!
– Ну щас ты у меня дождешься!
Он подошел к трубе, повернулся спиной так, чтобы она касалась поясницей железа, и качнулся назад.
– 0-ой! Нету-ушки, мы так не договаривались! – завизжала она на одной ноте. И выпустила его, разжала ноги, ухватилась руками за трубу, повисла на ней.
– Мы вообще никак не договаривались! – сказал Николай. Но сказал мягче, добрее, он вдруг почувствовал себя виноватым – перегнул палку. Но как иначе с этой шалавой!
И она почувствовала слабину.
– Колюньчик, ну-у! В последний разочек, а-а? Давай!
Он повернулся к ней лицом. И убедился – да, она опять голая, совершенно голая. Если кто-нибудь войдет, стыда не оберешься. Но пока он думал, она обхватила его ногами, качнулась, заманивая, завлекая, еще и еще раз. Она не разжимала рук, висела на трубе, знала, опустится, станет на ноги, и вся магия близости уйдет, он отпихнет ее, убежит, оставив в одиночестве, в холоде и мраке. Нет уж! Она принялась раскачивать его, ритмично сдавливать ногами, она знала – ее ноги не хуже, чем у самой писаной красавицы, таким любая бы позавидовала.
– Ты ненормальная, – выдавил он.
– Aral – кокетливо поддакнула она. – На несколько секундочек в день мы имеем право становиться ненормальными.
И это окончательно расслабило Николая. Он сдался, точнее он отдался ее воле – она сама все делала, она ритмично и упруго покачивалась, ублажая его. А он скользил руками по ее телу, совсем позабыв, что она ненормальная, некрасивая, дикая.
Напоследок шепнула:
– Знаешь, Коля, а ведь тебя всегда и всюду будут любить несчастные женщины, брошенные, забытые, одинокие – и ты не найдешь себе других. Но тебе с ними будет хорошо… Чего ты вылупился, чего зыркаешь?
Николай разом отрезвел, оттолкнул ее. Он хотел закричать, затопать ногами. Но не мог. Не мог, и все! И потому он сказал тихо:
– Чтоб через две минуты тебя в расположении части не было! Ясно?! Учти, не поленюсь, проверю, и если обманешь, я тебе задам! Я тебе… я про тебя командованию доложу!
Тонька Голодуха не смотрела на него. Она натягивала на худющее тело старенькое тоненькое просвечивающее платьишко. Сегодня ей здесь больше некого было ждать, все ушли в кино, все про нее забыли.
Глава третья
Суета сует
– Леха, едрена кочережка!
Сурков обернулся – метрах в пяти позади неге стоял, растопырив огромные лопатообразные руки, носатый, губастый, лохматый, с усами, свисающими к подбородку, парень в пестрей ковбойке и тертых джинсах-варенках.
– Кареш! Земеля! Вет это встреча! Забрили все ж таки?!
Сурков пытливо всматривался, пытаясь за завесой густой растительности на лице пария, обнаружить знакомые черты. Но никак не мог припомнить лохматого. Прохожие с недовольными лицами обходили остановившихся, спешили по своим делам.
– Привет, – неуверенно пробормотал Сурков.
– Эх, ты, «приве-ет, привет!» – передразнил его парень, – земляков не узнаешь, что ли, едрена-матрена?! Тебе чего – в рекрутах память отшибли?! Ну-у?! Напрягись, Леха! Гриню Сухого припоминаешь, а?
У Суркова будто пелена с глаз спала. Перед ним в впрямь стоял односельчанин, Гришка, бузотер и матерщинник, неузнаваемо изменившийся, заматеревший, но все же – он, тот самый Гришка, что пропал из села четыре года назад. Мать его, Варвара Тимофеевна, говаривала обычно, обреченно махая рукой: «Гдей-то в городах! Не пишет, окаянный!» «Окаянный» выглядел весьма счастливым и довольным человеком. Улыбка не сползала с его губ, и, видно, от нее у уголков глаз скопились тоненькие, слабенькие, но уже постоянные морщинки, делавшие лицо приветливым, добрым.
– Это надо отметить, едрена кочерыжка! – воскликнул Гриня, охлопывая Суркова по плечам, спине. – Ну и встреча, земелюшка, родимый, корешок.!
– Надо бы, да не положено мне, Гришань.
– Ага, болтай, служивый! На положено, знаешь, что наложено?! Или не слыхал? – Гриня напирал на букву «о», и это делало его речь одновременно какой-то казарменно-казенной и залихватски-балаганной. – Ишь, чего удумал! А земляков своих, последних могикан села, уважать тоже не положено?!
Сурков набычился.
– Ладно, шучу! – Гриня подхватил Суркова под локоть, потащил за собой, не обращая внимания на сопротивление. – Да не перечь ты, земеля, не обижай, едрена-матрена! Хоть общагу нашу поглядишь, пошли, пошли!
Общежитие было на самом краю города, в так называемых «спальных районах», точнее, в одном из них, совершенно неизвестном Суркову. И потому Гринино «пошли» обернулось сорока минутами езды – сначала на метро, потом на автобусе.
За все это время Леха ни разу даже рта не успел открыть – Гриня болтал без умолку, расписывая на все лады прелести городской жизни. Похоже, он был слегка навеселе.
Лишь перед самыми дверями Сурков успел вставить:
– Гришань, мне тока до двадцати двух ноль-ноль…
Земляк рассмеялся, показывая большие желтые прокуренные зубы.
– Успеешь, Леха, щас же… – он взглянул на часы, – пять всего! Ну, полтора, считай, на дорогу. А три с половиной – наши! Ну чего ты, в натуре? Все путем, Леха, все ништяк!
Солнце, зайчиком прыгнувшее с дверного стекла в глаза Суркову, на мгновение ослепило. «А-а, была не была!» – подумал он и дернул никелированную ручку на себя.
– Вот так, Леха. Гляди, как живет рабочая молодежь, гордость и смена отцов-подкулачников колхозных! Гляди, завидуй и радуйся!
В комнате стояли три железные кровати. Над ними висели три огромных календаря с голыми мясистыми девахами неизвестного происхождения и неведомой национальности. Календари были явно детищем кооперативных чудо-умельцев. Еще там было две табуретки да пять-шесть пустых вешалок на гвозде у входа. На одной из кроватей сидел светленький, стриженный под нулевку паренек с прыщавым носом. Он лениво перебирал струны пооблезшей дешевенькой гитары. На вошедших он даже не взглянул.
– Кеша, хрен моржовый, чего расселся! Принимай гостей, едрена-матрена! – Гриня вытолкнул Суркова на середину комнаты, хлопнул в ладоши.
Паренек оживился, глазки у него настороженно и плотоядно забегали.
– Понял! Я чичас, мигом обернусь!
У двери Гриня перехватил руку паренька, сунул что-то, наверное, деньги. Суркову стало неловко, у него в кармане был всего трояк – что на него возьмешь? Ни-че-го! Да еще и на обратную дорогу оставить нужно.
Гриня заметил растерянность земляка.
– Не-е, ты нас не обижай, Леха, – пробасил он, – со служивого брать – грех, ты чего! Ты присаживайся лучше, в ногах правды нету. Фуражечку сыми, вот так. Думаешь, не понимаю, земеля? Да я ж сам два года от звонка до звонка отпыхтел, лычку собственным горбом заработал правда, нужна она мне! Все будет в норме, не боись.
Леха смотрел на соблазнительных девах – они ему почему-то казались разными фотографиями одной и той же похотливой, сладострастной и раскормленной бабы, хотя это было, разумеется, не так.
– И шалашовок достанем, не спеши! – уверил его Гриня. – Щас, вот тока силы восстановим да встречу малость обмоем – и все ништяк будет!
Сурков заерзал, ему не хотелось дополнительных приключений. Но сказать об этом он постеснялся.
– Ты видал Кешу? Во-о, обрила дурака, он два дня как с суток вышел, понял, едрена кочерыжка?! А я скажу – поделом всяким таким раздолбаям, с дисциплиной и порядком надо бороться! И круче надо! Распустили, понимаешь! – Гриня распалялся от собственных речей, бил кулачищем по колену. – Но рабочего человека не тронь! Рабочий человек имеет право!
Сурков с тоской смотрел в окно и кивал, поддакивал – пути назад не было.
Не прошло и получаса, как Кеша вернулся с четырьмя «бомбами» непроницаемо черной бормотухи. И почти следом из распахнутого окна общаги понеслась но пустынному и неухоженному приволью «свального района» разухабистая, не совсем ладная, но громкая песня на три голоса:
Верю я, придешь ты на пер-р-ро-он!
Проводить наш первый эшело-о-он! И-эх!
Милые глаза! Словно бирюза!
Мне вас позабыть нельзя-а-а!!!
После присяги Сергей воспрял духом. Теперь был недалек тот день, когда все разрешится самым простым, естественным путем, достаточно будет лишь заглянуть при встрече Любе в глаза. Но в первую группу отпускников он не попал.
Зато удивил всех Черецкий – получил увольнительную записку, прошел осмотр… а за ворота не переступил. Остался в части. Сержант Новиков подумал про него с ехидцей – совсем, дескать, оборзел! Но потом позабыл. Черецкий не пришел на обед. «Ну и черт с ним, – вспомнил за столом про подчиненного Николай, – увольнение у него законное, а о своем желудке пускай сам заботится, нравится голодным ходить – ходи себе на здоровье!» Неделю назад Каленцев вызвал к себе Новикова и Реброва. Устроил обоим разгон. Но письма от Любы Смирновой не показал.
– Ну что же, Ребров, – сказал он, потирая стриженый затылок, – считайте, просьба ваша удовлетворена – перевожу вас в другой взвод, надеюсь, там все будет в порядке!
Сергей такого оборота не ожидал. Про рапорт свой он давным-давно забыл.
– Товарищ старший лейтенант, разрешите остаться в своем взводе, – сказал он.
Каленцев хлопнул себя по колену.
– Прямо сказка по белого бычка!
– Привык я к ребятам, – Сергей осекся, не сразу находя нужные слова. – Да ж необходимость отпала.
Ротный вытер платком испарину со лба, посмотрел на стоящего перед нем, махнул рукой.
– Но чтоб больше не жаловаться, ясно?!
На том и порешили.
Каленцев отпустил обоих. Но чуть позже нагнал Сергея в коридоре, остановил. Чувствовалось, что он хочет сказать нечто важное, но не знает, как начать.
Сергей ждал.
– Тут вот что, – совсем тихо проговорил Каленцев. – Письмо пришло на имя командира части. Кое-кто волнуется о вас, мол, прижимают, пользуясь служебным положением, и так далее в том же духе, понимаете?
– Кто прислал? – спросил Сергей, у него все внутри застыло, казалось, даже сердце перестало биться.
– Ну-у, этого я вам не скажу. Для вашей же пользы! Но сигнал имеется. Продумайте все хорошенько, надо ли давать кому-то поводы для таких вот жалоб. И есть ли вообще поводы эти, есть ли причина, а? По-моему, у вас все нормально идет? Я по глазам вижу – все в норме! Но ответить мы обязаны, понимаете? Что отвечать?
– Чтоб не лезли не в свои дела! – резко заявил Сергей.
– Ну-у, так не годится, – Каленцев разулыбался. – Это несерьезно, да и… люди волнуются, переживают, их состояние вполне объяснимо.
– Вы дайте мне адрес, я сам отвечу.
– Нет, так не делается, вы сами же себе все напортите.
– Тогда отвечайте что хотите! – Сергей был взбешен тем, что дело принимает такой оборот, что оно получает огласку. Только этого ему не хватало!
– Не забывайтесь, рядовой Ребров, – приструнил его старлей.
– Виноват, – Сергей опустил глаза. – Раз уж вам так надо отвечать, пишите, чтоб успокоились и не поднимали паники, а то я сам с ними буду разбираться!
– Экий вы грозный, как я погляжу! – Каленцев снова раздвинул губы в улыбке. – Отпишем, что все в порядке, и делу конец.
Ребров кивнул. За одно лишь он мог поблагодарить Каленцева – за то, что тот затеял этот неприятный разговор не в присутствии Николая.
В жизни солдата переписка – дело особой важности, кто служил, тот знает. Каждая весточка радует сердце под форменкой, каждой строке рад получатель.
Но бывает и совсем по-другому, бывает – в крайних случаях. Уже третий день Сергей носил во внутреннем кармане нераспечатанное письмо из дома. Стыдно было признаться даже самому себе, но все связанное с семьей, домом вызывало у него частенько раздражение: вечные болезни, советы, поучения, постоянный интерес к его личной жизни… За два месяца службы он написал матери только одно совсем коротенькое письмецо, да и то – сухое, казарменное.
Тощенький конвертик жег грудь. Но распечатывать его не хотелось – наверняка там привычное, старая песенка: будь таким, будь сяким-разэдаким! Но все-таки он распечатал конверт.
Писала не мать. По размашистому почерку Сергей узнал руку брата. «Это еще куда ни шло!» – облегченно подумал он и принялся читать.
«Здорово, Серега!
Ты что-то совсем зазнался там у себя на службе, совсем забыл про нас! Может, тебя в большие чины произвели и ты почитаешь, недостойным вести переписку с простыми смертными? Но ты не забывай, что эти смертные – твои мать и брат. И именно смертные – ты сам знаешь, как плохо чувствует себя мама…» Сергей передернул плечами словно в ознобе. Начинается! Теперь пойдет наставления давать и мораль читать! Но одновременно он почувствовал отвращение к себе самому.
Впрочем, и первое чувство и второе быстро улетучились.
«…но не буду поучать, твое дело, ведь насильно мил не будешь: не хочешь, не пиши! Матери я объясняю твое молчание непосильной загрузкой да тем, что на службе времени в обрез. Она верит. Но меня-то не проведешь, подольше твоего служил, знаю, всегда минутку можно выбрать, чтоб пару строк черкнуть! Да и усталость не настолько велика, чтоб ручку не поднять. Понял намек?! Кстати, друзья твои повнимательнее тебя. Тут заходил один – то ли Кисцов, то ли Хвостцов, все про тебя расспрашивал. А что мы знаем, что ответить можем! Правда, он матери обещал лекарство импортное достать, говорит отец у него за бугром пашет.
А потом этот твой приятель как пошел плести про тебя всякие страсти, что, мол, забили совсем, до полусмерти! Что издеваются, как хотят, чуть ли не до петли довели! Мать в обмороке! Я этого твоего Хвастцова за дверь-то и выставил! Не обессудь! Но он вроде не обиделся. Да и хрен с ним» «И здесь наш пострел поспел! – промелькнуло в голове у Сергея. – Неужто Люба права? Может, ей виднее со стороны? Но ведь все-таки Мишка-обалдуй для меня старается, выкладывается, а что все наперекосяк – разве ж его вина?!» Он пожалел, что распечатал письмо. Но надо было дочитать до конца.
«…я тебя утомил, наверное. А до главного только добрался! Слушай, Серега! Тут наш папаша объявился, понял? Собирается вернуться к нам, точнее, к матери. Вот такие вот пироги! Ты его последний раз видал лет восемь назад, забыл, небось. Но я тебе хочу сказать – не наше дело встревать! Они сами пускай разберутся. Ты не лезь, мать не нервируй и на отца бочку не кати – какой ни есть, а родитель, понял?! Я сам с ним имел беседу. Он настрадался за жизнь – на десятерых хватит. Пускай продохнет малость. Кстати, и про тебя рассказывал, про любовь твою Любашеньку, сам понимаешь…» Сергей нервно стиснул в кулаке письмо. Рука дрожала. Сейчас ему хотелось одного – чтоб никогда, нигде у него не было ни знакомых, ни родственников, ни друзей, ведь иного способа избавиться от пересудов, сплетней, советов, оговоров, просто невозможно!
Походя мимо курилки, он разорвал скомканное письмо вместе с конвертом, бросил в бак. И почти бегом поднялся в казарму.
Бумага, ручка были в тумбочке.
Дрожащая рука крупно и порывисто вывела:
«Ребровым!
Делайте что хотите – сходитесь, расходитесь, болейте, выздоравливайте, шушукайтесь с моими приятелями, сплетничайте обо мне, поливайте грязью, жалуйтесь, доносите! Но оставьте меня самого в покое! Не нужны мне ваши нотации и указания. Ясно?!
После службы я все равно к вам не вернусь! Так что занимайтесь собой, а от меня отвяжитесь, в конце концов! Сергей, с тем 1999…Г.».
Сдерживая нервную дрожь, он вывел адрес на конверте, лихорадочно подергиваясь, заклеил его, пришлепнул ладонью к столу. И, улыбнувшись, что клей взялся, в полугорячечном состояния выбежал из казармы.
Но у той же курилки он сообразил, что делает очередную глупость. И почти сразу же успокоился. Разорвал свой ответ на мелкие клочечки, ссыпал их в тот же широко раскрытый, заваленной окурками зев бака.
Присел на скамью, почти не отрываясь вытянул сигарету. Потом еце одну. В голове зашумело и стало вроде бы немного полегче.
Черецкий в тот день не остался без обеда и не ходил голодным, как думал Новиков, по той простой причине, что еще за три дня до воскресного увольнения был приглашен Олей в гостя в теперь сидел за семейным обеденным столом в гостиной – самой просторной и уютней комнате квартиры полковника Кузьмина, расположенной тут же при части, в военном городке.
В той же комнате, за тем же столом находилось и все небольшое семействе Владимира Андреевича во главе с ним самим. Солнце, раздробленное кружевами тюлевых занавесок, проникало в гостиную несмелыми тоненькими лучиками, и потому в ней царил уютный, и особенно приятный летом, полумрак. И это состояние уюта наполняло все и всех, кроме, пожалуй, самого гостя – Борьки Черецкого.
В среду он поджидал Олю у клуба. И дождался! Приглашение обрушилось на него как гром среди ясного неба. От неожиданности Борька потерял дар речи и покорно, не понимая еще ничего толком, кивнул. Он был заранее готов и кивать, и говорить «да» в ответ на все ее слова, не вдумываясь в их смысл, не вслушиваясь, готовый на все. Его растерянный жест девушка поняла как знак согласия, рассмеялась, пошутила по поводу неслыханной смелости и, размахивая малюсенькой черной сумочкой на длиннющем ремешке, убежала. Проводить ее Черецкий не смог: перерыв был короток – занятия длинны.
За время их знакомства Черецкий так и не смог уверить себя в неразрывности связи между Ольгой и ее отцом – реальность он и гнал, и не гнал от себя, скорее, старался просто не замечать ее. В воображении Ольга существовала сама по себе, в каком-то другом полусказочном мире, и ничего общего с командиром части, полковником Кузьминым, таким грозным и могущественным для него, рядового, первогодка Борьки Черецкого, иметь не могла.
Но с иллюзиями приходилось расставаться, отвыкать от них. Как бы Борька не желал, чтобы его возлюбленная не имела вообще отца или уж если имела, так, на худой конец, где-нибудь вне учебки, отцом ее оставался командир именно этой части, и поделать ничего было нельзя. Это повергало Бориса в такую бездну отчаяния, что он и представить себе не мог, как теперь будет выкручиваться из создавшегося положения.
Весь день до вечера и потом, ночью, после отбоя, Борька мучился, не находя выхода. Заснул только под утро. И оно, как в пословице, оказалось мудренее – Борька решился, отбросил сомнения и, как ножом, отсек все возможные пути к отступлению – надо было идти, собраться, настроиться на встречу с Олиными родителями, ведь в любом случае встреча с ними была неминуема.
Оля ждала его у подъезда – хорошая, красивая, единственная на свете, самая-самая лучшая.
– Ну вот и слава богу! – обрадовалась она его приходу. – У мамы уже все готово. Пошли!
– А может, поцелуемся для начала?
– Успеется еще, экий ты нетерпеливый!
Мария Васильевна копошилась на кухне и приход гостя приняла как что-то само собой разумеющееся.
– А-а, читатель! Ну, не стесняйтесь, проходите в комнату. Оля, что ж ты? Пригласила, а сама стоишь!
– Здрасьте, – сказал Черецкий, комкая в руках пилотку.
Ему показалось, что перед ним та же Ольга, но лет на двадцать пять постарше – сходство было поразительное.
Они вошли в комнату.
Глава семьи появился, когда все сидели за столом. Из прихожей послышался звучный голос, скрип сапогов, шумное дыхание. У Борьки замерло сердце.
Он встал, придерживая у ноги пилотку и не зная, что ему делать: то ли надеть ее и отдать, как полагается по уставу честь старшему по званию, то ли просто поздороваться.
– Здравия желаю, това… – начал было он.
– Привет! – заметив смущение гостя, сказал Кузьмин и занял свое место во главе стола.
Борька решил наверстать, как ему казалось, упущенное.
– Рядовой 1-й учебной роты Черецкий, – доложил он.
Помедлив, добавил: – Борис Григорьевич.
– Да-а, брат, это звучит!
– Ешьте, ешьте, Борис Григорьич, – сдерживая смех, оборвала мужа Мария Васильевна, – потом отрапортуетесь, здесь – я главный командир.
– Спасибо, только вы меня не распаляйте, Мария Васильевна, насчет еды, а то потом не остановите, все смету!
Оля сидела, почти не притрагиваясь к своему супу и с любопытством следила за ходом событий. На лице ее застыл неподдельный детский восторг, такой искренний, что разозлившийся было на нее за непредвиденную ситуацию, похожую на розыгрыш, Борька, заглянув в глаза, тут же ей все простил.
– Так что вы тот самый книголюб? – спросил Владимир Андреевич.
– Да не то чтобы книголюб, так, в свободное время изучаем научные труды, классиков штудируем.
– А вот, кстати, насчет свободного времени, позвольте поинтересоваться – почему вы не в роте, сбежали?
– Отец?! – Мария Васильевна покачала с укоризной головой.
– Я из любопытства, – пробурчал Кузьмин.
Черецкий начал торопливо расстегивать пуговицу на кармане, собираясь вытащить оттуда увольнительную записку.
– Пап, он сегодня в увольнении, ну что ты, в самом деле?
. – Ничего, ничего, мы люди военные – народ строгий и дотошный, – он посмотрел Борьке в глаза, – так ведь? Но и пошутить умеем!
– Так точно, товарищ полковник.
– Дома можно по имени-отчеству, Борис Григорьич, – сказал Кузьмин и рассмеялся.
Владимир Андреевич знал, что коли парень отказывается от своего первого увольнения ради девушки после двух с лишним месяцев беготни и безвылазного сидения в части, то это всерьез. Но столь решительный в делах службы полковник Кузьмин не знал, как реагировать ему на все происходящее здесь, на его глазах. Выставить гостя, запретить Ольге встречаться с Черецким? А на каких основаниях горячиться? Нет, это не решение вопроса. Идти у дочери на поводу? Характер не позволял, да и опыт всей прожитой жизни, опыт немалый, нашептывал, что такой вариант совсем никуда не годится. И потому Владимир Андреевич счел самым правильным и единственно верным решением – не торопиться с выводами, приглядеться – так ли страшен черт, как его малюет родительское воображение.
Черецкий не знал, что творилось в голове у Кузьмина-старшего, он ждал – когда же наконец закончится затянувшийся, по его понятиям, обед и можно будет вырваться из-под пристальных изучающих взглядов Олиных родителей на волю, вырваться вдвоем с ней.
– Сейчас второе принесу, – хлопотала хлебосольная хозяйка, – вам, Боря, наверное, солдатский харч приелся уже, вы не стесняйтесь, у нас все домашнее, собственного приготовления…
В ответ Борька рассыпался в похвалах кулинарному искусству Марии Васильевы, чем приводил ее в состояние еще большего хлебосольства. Он жалел, что не прихватил с собой Слепнева, обладавшего невероятным даже по солдатским меркам аппетитом. А сам мысленно прикидывал, сколько времени остается в их распоряжении. Получается не так уж и мало – до вечерней поверки было больше семи часов. Перспектива просидеть все эти часы в «тесном семейном кругу» его не радовала.
– Мам, ну мы пойдем? – бросила наконец спасательный круг гостю Оля. – Что-то проветриться захотелось.
– Да что вы? Оленька, ну кто ж так делает? – заволновалась хозяйка. – Только пришли и бежать, нет, молодые люди, это у вас не выйдет! Мы так мило беседуем, правда, Боря?
Черецкий кивнул головой и выдавил из себя соответствующую случаю улыбку.
– Давайте поговорим о литературе. Что читаете, чем интересуетесь? – спросила Мария Васильевна, поглядывая на дочь – Ведь вы у нашей Оли постоянный клиент?!
– Вы извините, – не к месту сказал Борька, – я, наверное, чересчур вашим гостеприимством злоупотребляю пора и честь знать, – и искоса бросил взгляд на Олю.
– Ну же, брат, Борис Григория, так запросто улизнуть тебе не удастся! – пресек его попытку Кузьмин.
– Ну, ва-ап! – с обидой в голосе протянула Оля.
Черецкий со всей ясностью вонял, что ничего у них не выйдет ж увольнение пропало, хозяину спешить некуда – сегодня воскресенье.
– Слыхал – ты историей увлекаешься? – Владимир Андреевич окончательно перешел на «ты», и Борька с облегчением подумал, что начинает обретать какое-никакое доверие.
– Поневоле приходится, что делать! – промямлил он.
А потом решился – была не была!
И, не называя имен и фамилий, вкратце рассказал Кузьмину про Славку Хлебникова и его рассказы, еще короче дал понять о своем желании во что бы то ни стало подловить Славку на чем-нибудь – «ведь не может того быть, чтоб этот циник все в деталях знал, не ошибался, и вообще надо спесь с него малость посбить…».
– Вот и пришлось на литературу соответствующую подналечь, – закончил он свой рассказ.
– Ясненько, честолюбие заело?! – рассмеялся Кузьмин. Черецкий позеленел – он не ожидал, что его поймут так прямо, но все же справился и ответил почти с вызовом:
– Может, и честолюбие, не знаю!
– Горячий какой, – снова улыбнулся Владимир Андреевич и подумал, что Каленцев в своей характеристике был, наверное, прав.
Натянутость между гостем и хозяином постепенно пропадала.
– Так что там у вас? Святослав? – Кузьмин покинул кресло, подошел к книжным волкам. В его руках оказалась большая книга в зеленом переплете. – Поглядим, что в энциклопедии пишут. Так, «самострел», «светомаскировка»… ага! Вот и Святослав: «…почти всю жизнь провел в походах, смотри Святослава походы 964-72 годов, смотри Договоры Руси с Византией, Доростол». Много про него. Щас мы разберемся, что к чему.
Женщины приуныли. Теперь Оля смотрела на Черецкого с досадой и думала, как его вырвать из отцовских рук. Борька же напротив увлекся и не отрываясь следил за пальцем Владимира Андреевича, перебегавшим со строчки на строчку, словно не доверяя тому, что Кузьмин читал вслух.
Мария Васильевна, немного посидев в комнате и убедившись, что внимания мужчин сейчас лучше не отвлекать, ушла на кухню, принялась что-то готовить к чаю. Оля откровенно скучала и ничего придумать не могла. На часах было половина шестого.
– Разрешите войти, товарищ старший лейтенант?!
Каленцев от неожиданности чуть не обжегся горяченным чаем – он только что налил его в тонкий стакан, покоящийся в красивом ажурном подстаканнике, и готовился не спеша в одиночестве побаловаться любимым напитком.
– Входите, – с плохо скрываемым раздражением сказал он.
Юрий Алексеевич по молодости лет и своему неженатому положению жил в офицерском общежитии, но имел там отдельную комнатушку. Гости к нему заходили редко, а уж солдаты, подчиненные, и вовсе никогда не бывали в его холостяцком жилище. Тем удивительнее показался Каленцеву неожиданный приход Реброва.
– Можно? – опять спросил тот.
– Можно, можно, – уже мягче, ругая себя за несдержанность, пригласил Юрий Алексеевич. – Что у вас?
– Товарищ старший лейтенант, мне срочно нужно в увольнение.
– Прямо сейчас или как? – заулыбался Каленцев.
– Я понимаю, что сегодня поздно, – так же серьезно, как и начал продолжил Ребров. – Завтра, послезавтра, в общем, я не могу ждать, когда подойдет моя очередь, позарез надо!
– Да я б и сегодня отпустил вас, но существует порядок.
– У меня больна мать, и не только это. Причины есть, поверьте хотя бы на этот раз. Вы же живой человек!
Каленцев жестом пригласил за стол.
– Как насчет чаю? Не желаете?
Сергей помотал головой.
– Ладно, сделаем! – заверил Каленцев. – Только чтоб больше писем и всяких жалоб не было, хорошо? А то коли уж вы не по уставу, так и я – Он погрозил Реброву кулаком, улыбнулся.
– Договорились.
Сергей поблагодарил командира, но все же решил уточнить:
– Когда я могу рассчитывать?
– А почему вы все-таки не сказали раньше, ну, хотя бы сегодня утром, может, кто-нибудь уступил бы вам свою очередь? – вопросом на вопрос ответил Юрий Алексеевич. Ребров только махнул рукой.
– Хорошо, идите. Можете рассчитывать на ближайшие дни.
«Надо обязательно помочь парню, – подумал Каленцев, когда Ребров вышел, – что у него за полоса невезения такая?!» Он просунул пальцы в выгнутую ручку подстаканника, приподнял стакан, поднес ко рту – чай был теплым, противным.
Когда Черецкий с Олей вышли, между четой Кузьминых произошел следующий разговор.
– Ну и как ты смотришь на все это? – спросила Мария Васильевна.
– А никак, – ответил Владимир Андреевич.
– С тобой невозможно разговаривать!
– Машенька, ну зачем голову задуривать? Ну посуди сама?
– Какой ты беспечный, ведь дочь твоя!
– И что теперь – караул кричать? Он что, бандит, насильник?!
– Вон у Ильиных сын училище заканчивает, на следующий год офицер – и с будущим, и вообще.
– Ну, а Оля тут при чем?
– Как при чем?! Нашла с кем связываться – солдатик несчастный, ну что он ей?! Ты бы его отправил куда подальше, а?
– Не пугайся, что ты как несушка расквохталась? Ведь ничего еще нету. Ну припомни: в школе за Олей парнишка ухлестывал. Где он? А потом студент был один, Санька, что ли, рыжий такой. А он где? Нету их! А ты развела.
– Ты радуйся, что она по панели не прохаживается да у интуристовских гостиниц не дежурит – щас это в моде, сама знаешь!
– Ох, боюсь, что серьезно тут, – чует сердце материнское.
– Ну ежели серьезно, мы и этого направим в русло, чего за Ильиным гоняться! И в училище поступит как миленький, сделаем из него человека. К тому же повзрослеют за это время маленько.
– Гляди у меня, старый, – не договорив, прижалась к мужнину плечу Мария Васильевна. Но тут же осерчала: – А про этих проституток ты больше не болтай, и так по телевизору каждый день рекламируют, сучек валютных! Нашел с кем дочь родную сравнивать.
За окном начинало темнеть – сумерки выкрасили деревья, дома, лица людей в серый цвет.
В тишине, охватившей все вокруг, пронзительной трелью прозвенел звонок телефона. Мария Васильевна отреагировала первой.
– Тебя.
Кузьмин нехотя взял трубку из рук жены – от воскресных звонков ничего хорошего ожидать не приходилось, приложил к уху. Чем дольше он слушал, тем больше мрачнело его лицо, такое светлое и улыбчивое еще минуту назад. Наконец он бросил трубку на рычажки – телефонный столик закачался на своих тоненьких выгнутых ножках.
Мария Васильевна с тревогой поглядела на мужа.
– Ну, мать, с моими подопечными не соскучишься! негромко проговорил тот.
Как ни старалась Оля скрыть обиду на Бориса, ей это плохо удавалось – два с лишним часа провести в разговорах с отцом, посреди книг и самое главное – совершенно забыв про нее. Это было непростительным преступлением.
Черецкому невольно передавалось ее настроение: Борька всерьез чувствовал себя виноватым и готов был искупить вину любой ценой, а вот как начать разговор, он не знал, и это молчание лишь усугубляло и без того неловкое положение.
Где-то вдалеке лаяла одинокая собака. Ветер доносил отголоски этого лая, перемешивая их со звуками, слышащимися из многолюдной части – там шла своя, хоть и воскресная, но все же армейская упорядоченная жизнь. Подходил к концу выходной день, заканчивалось увольнение.
– Так и будем молчать? – наконец спросила^Оля с капризными нотками в голосе.
– Погоди! – Черецкий вдруг оторопел.
Он сделал попытку спрятаться за угол дома. Но тут же опамятовался, застыл на месте. Нервное напряжение передалось ей, Оля завертела головой, пытаясь разглядеть, кто же напугал спутника.
Офицерский городок в этот час был пустынным. Лишь ветер, шуршал листвой, создавал иллюзию какого-то движения. Единственный, кого заметила Оля, был высокий худощавый солдат, торопливо вышагивающий от офицерского общежития по направлению к казармам.
– Что с тобой? – спросила она Борьку.
– Да ничего, знакомого увидал, – ответил тот.
Солдат был метрах в двадцати и не замечал прогуливающейся парочки. Было видно по фигуре, и по походке, что он погружен в себя и чем-то взволнован.
Оля не отпускала рукава гимнастерки, за которую она уцепилась минуту назад.
«Что его сюда занесло? – с неприязнью подумал Черецкий. – Неужто видал, как мы выходили из дома? Сплошная невезуха!» Легкий холодок пробежал по спине – Борька внезапно ощутил вечернюю прохладу и зябко повел плечами. «Нет, не мог видеть», – решил он наконец, стряхивая с себя оцепенение. Но неприятный осадок на душе остался.
– Счас бы куда-нибудь махнуть – развеять грусть-тоску! – с натянутой бодростью сказал он, чтобы разрядить обстановку.
Оля сделала удивленные глаза.
– В кафе или, еще лучше, на дискотеку. Повеселиться! – пояснил Черецкий и обнял ее за плечи, поцеловал в щеку.
– Куда хватил! До ближайшей дискотеки километров шестьдесят.
– Все равно хочется.
– И мне, – Оля грустно вздохнула, но тут же ободрилась: – Ничего, в августе сдам экзамены в институт, перееду в Москву.
– Зачем?! – заволновался Борька.
– Что ж мне, за сто верст каждый день на занятия и обратно таскаться прикажешь?
Борька промолчал, насупился.
– Буду жить в общежитии, на лето – сюда, может, и на выходные удастся.
– А как же я? – выдавил Черецкий.
– А что ты? Во-первых, вас через два месяца – тю-тю! – Оля махнула рукой куда-то вдаль.
– А во-вторых?
– Во-вторых – будь мужчиной, не раскисай!
– Что ж, так и разъедемся? – горько усмехнулся Борька.

– Не ломай голову раньше времени, что-нибудь придумаем.
Черецкого такой ответ не устраивал. Он взял девушку за руки, привлек к себе так, чта сознание опять затуманилось от чистого пряного духа, исходившего от ее волос. Прижался губами к ее губам. Она ответила на поцелуй.
Тело ее стало податливым, уступчиво нежным.
– Все намного серьезнее, чем тебе кажется, по крайней мере с моей стороны! – прошептал он прерывисто, осыпая поцелуями шею, прижимая ее к себе все сильнее, теряя самообладание.
– Ого! – Оля рассмеялась ему прямо в лицо.
– Ну выслушай, погоди же!
– Извини, мне пора, – девушка осторожно, но настойчиво высвободилась. – Не стоит стариков на ненужные мысли наводить.
– Мы ж только вышли, – Борька тяжело дышал.
– Сорок минут ходим. Кстати, если б ты не был столь увлекающейся натурой – мы бы гуляли уже часа три.
– Ну виноват, Оль. Я же тоже не мог просто так оборвать твоего отца и сбежать.
– Рассказывай, видела я твои блестящие глаза!
– Было, чего там, – Борька сделал попытку вновь обнять любимую.
– Пусти! Не последний раз видимся, пусти!
Он виновато заулыбался, опустил голову.
– До встречи!
Ольга помахала рукой перед Борькиным носом, повернулась и уже на ходу бросила:
– Только ты не думай ничего лишнего. То, что я с тобой встречаюсь, обед этот и вообще все – еще не повод!
– Как это? – удивился Борька.
– Не обольщайся в мыслях, вот как!
Игриво-дружелюбный тон, которым было произнесено, совсем не вяжущийся со смыслом слов, окончательно сбил Борьку с толку. Немного постояв, проводив глазами светлую тоненькую фигурку до подъезда, он совершенно растерянный побрел в часть.
Ветер усиливался и шорох листвы становился резким, надоедливым. Где-то высоко в небе замаячила ущербная луна. По-прежнему выла одинокая собака. До вечерней поверки оставалось еще полтора часа, Новиков встретил Черецкого с усмешкой на губах.
– Как отгулял? С голодухи не помер?
Борька неопределенно махнул рукой. Намека не понял.
На все формальности ушло не больше полминуты. Увольнительная записка была сдана, и надо было как-то убить время до отбоя. Черецкий загадал, что если встретит Славку одного, то тут же выложит все. Если же тот окажется в компании – беседу придется отложить: горький опыт подсказывал, что с глазу на глаз такие эксперименты более безопасны, чем при свидетелях.
Чутье подсказало ему, где можно найти Хлебникова в такой час. Борька пошел в бытовку и оказался прав – Славка был там один. Он сидел на табурете и читал книгу. Отступать было поздно.
Все ушли в клуб, там показывали новую кинокартину.
Славка частенько променивал это удовольствие на другое чтение, времени было в обрез и из-за этого приходилось жертвовать фильмами.
Второго такого случая в ближайшие дни Борьке могло и не представиться. Он принялся заводить себя изнутри, стараясь сохранить бойцовский настрой.
– Чего ты пыжишься? – поднял голову Славка. – Хочешь сказать чего-то – говори.
Черецкий побагровел, но сдержался. Даже сделал первый встречный шаг к примирению:
– Если ты того разговора забыть не можешь, так напрасно…
– А я-то думал – это ты на меня зол остался.
– Было, – снова стерпел Борька, – было, да прошло. Тогда тебя все поддержали, а могло и иначе обернуться. Везучий ты во всем. Славка, сам об этом навряд ли догадываешься – какой везучий!
– Есть немного, – Хлебникову начинал надоедать этот бестолковый разговор.
– Думаешь, я на публику работал?
– А хрен тебя знает!
– Ладно, верно говоришь, чего там! Но не в этом дело.
В чем дело, Борька не договорил – все не мог никак приступиться. Но желание разложить Славку, сбить спесь с него не пропадало.
Какие-то невнятные опасения снова сбили Черецкого с прямого пути, понесли совсем в другую сторону – он начал с того, о чем не помышлял говорить кому бы то ни было.
– Тебе приятель твой, Ребров, – спросил он, подозрительно прищурив глаза, – не говорил, что это он в офицерском городке делал?
– А ты откуда знаешь?
– Неважно, отвечай прямо. Или вы с ним заодно?
– Сам там был?
– Может, был, а может, не был.
– Значит, был! – твердо сказал Славка.
– Ну допустим! – признался Черецкий. – Была причина, а его что занесло в офицерскую общагу?
Славка развел руками.
– Там, кстати, Каленцев наш живет. Не доходит?
– Пока нет.
– Может, он про нас про всех ему докладывать ходит: мол, то да се?! Стучит себе настукивает за дополнительную пайку, а? А мы, лопухи, довольные – ах, Сереженька…
– Придержи язык! – резко оборвал его Славка. – Может, ты сам стукарь?! А на Серегу поклеп наводишь, чтоб глаза отвести, а?!
Черецкий не ожидал такого и искренне изумился, не успел даже обидеться, а Славка продолжил:
– Не нравится? Чего же ты, проглотил свое помело поганое, парашник?! Давай мети!
Борька промолчал, сглотнул накопившуюся во рту слюну.
– Не нравится! Так и других не поливай, Боря. Думаешь, я не помню, как ты шороху давал трепачу, тому самому, что про тебя с Кузьминой сплетни разводил. Помню! Тогда ты весь прямо кипел от благородного гнева, а сам?!
– Да я только спросил, – возмутился Борька и махнул рукой. – А вообще-то бывает, тянет за язык сила какая-то: и не хочешь иной раз ляпнуть чего-нибудь, а все равно ляпнешь, черт бы ее побрал!
– Ага, вроде бы не вина твоя, а беда?!
– Получается так.
– Про силу никто не знает, а погань всякая из твоего хавала вырывается! Ты это прочувствуй, Боря, тебе же легче станет.
– Ну ты не перебарщивай, – остановил его Борька, – а то и по морде схлопочешь, мне рог сшибить, как плюнуть, понял?!
– Ладно, – согласился Хлебников, не фига мусолить – сами не без недостатков, – добавил он самокритично. – Ты из-за Сереги пришел?
– Да нет, – оживился Черецкий, – хотел с тобой потолковать.
Славка с тоской поглядел на отложенную книгу.
– Я тут поднабрался немного, по истории, – продолжил Черецкий, – есть, как говорится, предмет для обсуждения.
– Ну так выкладывай.
– Сейчас. Не гони. Ты вот травишь свою… – Черецкий хотел сказать «тюлю», но сдержался и решил вести спор, что называется – корректно. – А все уши распахнули – рады верить.
– И очень хорошо.
– Ага, хорошо для тебя.
– Это почему же? – удивился Славка.
– А потому, что ты пуп земли – вот, думают все, какой умный, все-то он знает. А ты и рад лепить что ни попадя! – не сдержался Борька. – А лепишь-то – горбатого, лапшу на уши вешаешь!
– Не понимаю.
– Погоди, погоди! Щас я все по полочкам разложу. Начнем… с середины. У тебя воев Святославовых сожгли, и все, так?
– Да, – Славка не понимал, куда клонит Черецкий.
– А вот и нет! – Борька торжествовал. – Язычники на Руси как погребали мертвых? Раз ты такой начитанный, должен знать.
– Сжигали, потом тризны, поминки с воинскими игрищами устраивали, – ответил Славка.
– Так-с, с этим ясно! – засиял Черецкий. – Игрища, пиры!
– Мне-то ясно, – осек его Славка, – а тебе вот, видно, не очень.
– Ясней некуда – перепутал все, а выкрутиться слабо! – Черецкий успел перекинуть костяшку на мысленных счетах в свою сторону – «один – ноль».
– Пускай. Ну, а как ты представляешь: после сражения воины – раненые, усталые – вынуждены были рыскать в поисках леса, рубить деревья, складывать огромные срубы ведь хоронить надо было сотни погибших товарищей, в полях их не бросали, да потом еще насыпать сверху курганы, так, что ли? На чужой территории, под носом у вражеской армии, бросив все военные планы, так? А потом пировать на виду у всех и игрищами себя тешить?
Борька нахмурился, сказать было нечего – «костяшка» вернулась на свое место. Немного помолчав, он проговорил:
– Согласен. Ну, а насчет судьбы? Что ты тогда говорил, припомни?! Мол, судьба властна над византийцами, а нашим все нипочем – мистика какая-то!
– Может, и мистика, для тех, у кого уши к заднице пришиты. Вот слушай, в хрониках есть записи о славянах.
И в них говорится, что для византийцев-ромеев судьба, фатум – по-гречески, было все: без воли рока ни туда ни сюда, все заранее предопределено! А славян они понять не могли, удивлялись – как это: существует народ, который ни в грош не ставит высшие силы и рассчитывает только на свои? Свобода воли, независимость в делах и решениях для русичей было чем-то естественным, как сама жизнь, и в этом их не мог разубедить никто. Свои победы и свои поражения они приписывали не воле рока, не провидению, как ромеи, а себе, своему умению, силе и даже справедливости. Вот о чем я говорил.
– А как же языческие, славянские боги? Выходит, и в них не верили?!
– С ними проще! Предки наши признавали влияние богов на природу – и дождь, и гром, и наводнения, и лесные пожары, все это было в руках богов, по их представлениям. Даже смерть человека, болезни, все так, но воля, способность поступать в сообразии со своими решениями, убеждениями – оставались свободными, независимыми ни от каких богов, полностью принадлежали людям. Вот и приходилось полагаться на себя.
– Интересно. – Борька не знал, как парировать Славкины доводы.
Он начал судорожно искать в памяти какой-нибудь неопровержимый аргумент и вдруг поймал себя на мысли, что не очень-то хочет распластывать Славку, гораздо интереснее было слушать его. Но против натуры не пойдешь. Борька не мог просто так сдаться.
– Все, последний пункт, но это уж точно на засыпку. Здесь не отвертишься.
– Попытаемся, – вставил Славка.
– Вот Святослав у тебя – он что: простой воин или князь все-таки? В первой шеренге, в обычном доспехе, плечо о плечо рубится рядом с каким-то никому не известным Радомыслом, демократ! Ни в одном солидном труде я об этом что-то не читал.
– А что ты вообще-то читал?
– Многое, – соврал Черецкий, – хотя бы энциклопедию, там уж точно – одни факты. Да и сами кое-что понимаем: князь все же, феодал, эксплуататор, угнетатель трудового люда!
– В энциклопедиях все очень сжато. Это первое. Феодал? Феодализм был в зародыше – так что насчет эксплуататора ты тоже в лужу сел. А вот с демократом в точку попал. Тот период так и называется «военная демократия». И сам князь-воин лишь первый среди дружинников. – Славка перевел дыхание. – Радомысла я выдумал, согласен. Им мог быть любой войн, десятник, здесь не вранье, художественный прием. Ты, вообще-то, «Повесть временных лет» читал, летопись?
Борька покачал головой:
– Даже не слышал.
– А в боях Святослав с трехлетнего возраста бывал. Еще когда с древлянами бились, перед началом сечи, он, чуть не младенец, сидя на коне, бросил маленькое копьецо в сторону полков древлянских. А воевода, дядька его, говорит: «Князь уже почал, почнем, дружина, за князем!» Правда, копье-то еле-еле через конскую голову перелетело, у копыт упало, но сам факт, а?
Несколько минут они просидели молча: Славка просто отдыхал после рассказов, Черецкий переваривал услышанное, припоминая вместе с тем строки из энциклопедии, к его счастью оказавшейся в доме у Кузьмина. Расхождений между услышанным и прочитанным он не находил. Не находил теперь, после этого разговора.
Барьера, разделявшего его со Славкой Хлебниковым в течение двух месяцев, почти не существовало.
– Вот, кстати, Боря, – Славка полез в карман брюк, нашел твою книжечку. Аккуратней надо быть.
– Где? – остолбенел Черецкий.
– Убирался утром, глядь, а она под кроватями валяется. Славка протянул записную книжечку Черецкому. Тот принял ее на ладонь, перевернул, не придерживая пальцами, и припечатал к колену.
– Мог бы и не подбирать.
– Что так?
– Да ничего, – устало проговорил Черецкий.
Он на глазах у Хлебникова разорвал книжечку на две половины, сложил их, но повторить не смог – обложка оказалась довольно-таки прочной. Тогда Борька выскочил из комнаты, быстро прошел по коридору и выбросил остатки своего «дневника» в четырехугольную зеленую урну, стоящую в туалете. Вернулся в комнату.
– Ну ты даешь! – встретил его Хлебников.
– Знаешь, Славик, твоим осажденным еще куда ни шло зарубки на копьях ставить, дни считать, а я и так обойдусь!
Черецкий встал, заходил по комнате, глубоко засунув руки в карманы, ссутулившись. Остановился у окна и, стоя к Славке спиной, будто пытаясь высмотреть что-то в вечерней тьме, заговорил.
– Знаешь, Слав, мы все чего-то ждем, ждем без конца. Все у нас должно случиться не сейчас, потом. Строим планы, предвкушаем, высчитываем, вон как я, например, а толку-то?! Считай не считай, а время идет и то, что было будущим, становится настоящим, а мечты, планы отдаляются, переносятся… И опять: сказка про белого бычка – все по новой: опять ждем, надеемся. Надоело!
– Ну и что ты предложить хочешь? – почти шепотом спросил Славка.
– Ничего не хочу! Может, это я для себя открыл то, что всем давно известно – так что ты уж прости, не смейся над дурачком!
– Да я не смеюсь.
Черецкий отвернулся от окна.
– Получается: или одни фантазии или суета сплошная, мельтешение. Надо середину искать!
– Кто бы спорил, Боря.
– Тут и спорить ни с кем не надо. Каждый сам, в одиночку, должен решать.
– Ты решил?
– Решить – полдела, даже меньше, надо понять!
Борька выдохся, но почувствовал облегчение и даже какую-то непонятную радость оттого, что сумел все-таки выговориться. Не нужны ему были ни Славкины ответы, ни советы. Да и убеждал он, по сути дела, не Славку, себя.
– Ребров.
– Я!
Сергей скосил глаз, шепотом спросил у Хлебникова: – Где Леха-то?
Тот пожал плечами.
– Слепнев.
– Я!
– Сурков.
Новиков вышел на шаг из шеренги.
– Сурков не возвращался из увольнения.
По строю прокатился приглушенный рокот. Кто бы мог подумать, что Леха Сурков, боящийся всего на свете, а пуще всего даже самых малых отклонений от распорядков, уставов и всего строго армейского образа жизни, тот Леха, который страдал от малейшей своей оплошности, может опоздать к вечерней поверке. Не только рота, взвод, но и сам Новиков, привыкший за время своего сержантства ко всему, были в растерянности. Подвел тот, от кого уж никак не ожидали неприятностей.
Прапорщик закончил перекличку. Прозвучала команда «Отбой». Небольшими группками расходились по комнатам. И ни пересуды, ни догадки, ни просто сомнения не могли отбить у них сейчас охоту ко сну.
Мишка Слепнев был не так прост, как это казалось со стороны. В нем видели малость дурашливого, открытого и недалекого парня. И он подыгрывал окружающим, будто поставил себе целью и прослыть таковым. Черецкий видел в нем «салагу», «зелень пузатую» и зачастую вслух об этом заявлял. Но он очень ошибался, и, если бы до конца почувствовал, с кем связывается, может, его бы потом холодным прошибло.
Да только Мишка смотрел на жизнь проще. Роль ненавязчивого рубахи-парня была для него несложной и удобной, так он мог спокойненько вклиниться в любую компанию и чувствовать себя в ней своим. А в случае чего также и выбыть из нее, «отчалить» по-тихому.
В силу своей осторожности, граничащей с подозрительностью, Мишка все присматривался, принюхивался, выжидал чего-то. Если бы его спросили: чего именно? – ответить не смог бы. Но и изменить тактику не хотел. Ребятам что? Они с ним неровня, что у них за спиной? А ничего – пустое место. А его жизнь колотила! Да так, что вместо воинской части мог бы сейчас Мишка куковать совсем в других местах, о каких им наверняка и задумываться не приходилось. Трое дружков прежних там и пребывали в зонах республики Коми.
Воспоминания о прошлом холодили Слепнева. Выбора перед ним не было: два пути – или в омут с головой, или же все по новой. А для того чтобы все «по новой», приходилось приглядываться, держать себя в узде да забывать помаленьку старые замашки.
Временами он впадал в прострацию, из которой редко кто мог вывести Мишку, часто было это время хлебниковских рассказов. Все слушали, слушал и он. Вернее, только казалось, что слушал. Оттого и смеялся не к месту, а там, где можно было бы, напротив, молчал, не слышал. Виделось ему свое.
…Вечер. Полутемный сквер. Над головой на фонарном столбе тусклая лампочка. Промозглый ветер, забирающийся под торчащий воротник плаща и леденящий шею.
Ветер раскачивал лампу, и окружающие лавочку деревья словно приседали в ее непостоянном свете.
На лавочке, верхом на спинке и ногами на сиденье, несколько парней. Среди них и Мишка Слепнев, попросту Слепень. За лавочкой четыре пустые бутылки из-под вина, дешевой и крепкой бормотухи. Это она горячила кровь, не давала ветру согнать с лавки. Звенела гитара. Пели лихо, с надрывом:
Расстаюсь я с тобой, как с любимой,
Воля вольная, жизнь без забот, –
Под конвоем меня на чужбину
Поутру эшелон увезе-о-от!
И верилось, что так оно и будет, что вечер этот последний. Жалость к себе и злая отчаянность захлестывали сердце. По щекам катила одинокая слеза. И непонятно было: от песни ли она, от ветра ли?
Поющим – по восемнадцать-девятнадцать, всем, кроме Мишки, – он моложе: семнадцать лишь два с половиной месяца назад стукнуло. Но приводов в милицию у него было не меньше, чем у других. А как же, отставать не годится, уважать перестанут! Блатная грусть, блатное единство – весь мир против нас, а нам хоть бы хны! Катись все в преисподнюю, плевать хотели!
Не придешь ты на перрон вокзальный –
Не для нас придумали вокзал,
Так прости перед дорогой дальней,
Той, что прокурор мне указал!
Двое из сидящих послезавтра должны были прийти на призывной пункт, с вещами. Повестки лежали в карманах. Хоть и о другой доле грезилось, другая романтика манила, а у этих на душе спокойней – все же армия, как бы друг перед другом не выкаблучивались, слаще лагеря.
Остальным тоже недолго оставалось сидеть вот так.
Кто куда разойдутся они: по кривой ли дороженьке в темноту, на свет ли? Никто не знал. Но уж весенний призыв, тот точно должен был очистить лавочку для следующего, если оно собьется в ватагу, поколения для очередной партии блатарей-романтиков, зашибал и бузотеров.
Объединяли не только гитара и выпитое вино, и не лихость напускная, хмельная. Скука да стремление хоть как-нибудь убить свободное после работы время приводили сюда и Слепня, и остальных.
– Стопари машину, Сеня, рви струны!!! – оборвал песню Витек, лохматый, мосластый верзила, пользующийся непререкаемым авторитетом. – Душа иссохлась!
Сеня отложил гитару в сторону, откупорил еще бутылку, передал Мишке, взялся за шестую, и палец его, заскорузлый от струн, вдавил пробку внутрь горлышка. Бутылки переходили из рук в руки, взлетали донышками вверх, пустели – без тостов, без пожеланий, без закуски.
Редкие прохожие, хмуро и испуганно поглядывая в сторону лавочки, обходили ее стороной.
Песня зазвучала разухабистей, с подвыванием срывающихся в крике голосов, залихватски и свирепо:
Не пиши мне и не жди ответа.
Верь, я обязательно вернусь.
От зимы и мрака к лету, к свету
Возвращусь, свободою упьюсь!
Где-то разошлись их пути с одноклассниками, где Мишка не помнил – может, после школы, а может, и значительно раньше. Да и неважно это: тех не было здесь на лавочке. Кто-то в институт поступил. Что им – десять лет школы, пять института – по инерции! При родителях сейчас, телевизоры смотрят, маменькины сынки! Мишка презирал их еще со старших классов, когда учуял всю прелесть свободы и несдерживаемой силы в кругу таких же, как он. Понял, что с ними вместе он могуч, бесстрашен, ловок. Тех, кто после школы разбрелся по заводам, фабрикам, тоже не шибко уважал – серые лошадки, рабочая косточка!
Сам пристроился в приемном пункте, на сборе макулатуры, подсобником – то грузил, то бегал за водкой или еще за чем. На подхвате. Прибылями с ним не делились: раз в неделю – червонец в зубы, и гуляй, малый. Но Мишка не обижался, он свое еще возьмет! А сейчас лишь бы убить время до армии, если только…
Это «только» поджидало его тут же, за углом.
Не жалею я о горькой доле:
Лагерями через жизнь иду.
Но за день один лишь вольной воли
Все другие дни отдам в году!
Витек достал еще бутылку бормотухи. Звонко шлепнул ладонью в кондовое донце.
– Перебор будет, Витюнь, – заскулил Сеня. Его уже пошатывало на спинке лавочки. – Рухнем прям на поле боя, а мне доползти бы до хазы!
– В самый раз, маэстро!
Снова бульканье. Бутылка присоединилась к своим предшественницам за лавочкой. Темное небо каменным куполом сжимало свет лампы над головами. Время к десяти. Идти домой? А что там – упреки родичей и надоевший телик? Нет уж!
Накрапывал мелкий дождик. Тоска. Даже проводы дружков не вносили в привычное оцепенение живой искорки. Завтра у них будут проводы дома, официальные со всей родней. С навязшими в зубах наставлениями и похожими друг на друга, как солдаты в строю, пожеланиями.
Это будет завтра, и Мишка Слепнев там будет, а сейчас заевшую печаль будила гитара, да нестройный рев голосов, в которых сквозило все выпитое.
– И-эх! Все-е другие дни отдам в году. Опа!
– Стоп, ребятки, – шепнул, приложив указательный палец к губам Витек. – Явился дружочек по наши души, ментяра поганый!
Метрах в двадцати из мрака выросла фигура участкового.
– Пусть идут неуклюже пешеходы по лужам… – быстро перестроившись, загнусавил Сеня.
Участковый подошел ближе:
– Опять горлопаните?! Люди спать укладываются, а вам и дня мало. Доиграетесь! Давно на параше не сидели?!
Он явно не увидел пустых бутылок за лавочкой, а то бы разговор состоялся иной. Участковый Схимников был мужиком крутым, сам из блатных, лет двенадцать назад срок мотал по молодости.
– Не надоело балдеть все вечера? Как ни пройду мимо, ваша кодла тут!
– Надоедает, ох как надоедает, начальник! Да, видать, такая уж судьбина наша! – схохмил Сенечка. – Долюшка нелегкая, тяжкая!
– Ну, ну! Через полчаса пойду назад – чтобы духу вашего здесь не было! – Схимников ухмыльнулся. Заметил все-таки, что сидящие торчат. Но уличать нечем. И побрел дальше.
– Друзей в армию провожаем! – вдогонку крикнул Слепень. – Уж и попеть нельзя!..Демократию зажимаешь, плюрализму не даешь!
Участковый на ходу обернулся, укоризненно погрозил пальцем.
Дождь не переставал. Те двое, с повестками, допив оставшуюся бутылку, ушли. У них свои заботы. Да и вообще – не те они, что прежде, вино их не брало, в глазах отчуждение, отрезанные ломти!
А ветер леденил, не давал покоя. Раскачивал лампочку, мигающую во тьме.
– Давно пора кокнуть заразу! – зло буркнул Витек и встал.
Пошел камень искать Но его внимание отвлеклось – по дорожке к лавочке топал невысокий паренек в надвинутой на глаза черной кепке. Заметно было, что он спешит, наверное, домой.
Витек подмигнул Сенечке, и тот с ходу затянул:
И я скромно так им намекаю, Что им некуда больше спешить!
Парень приближался, будто не замечая, что на него обратили внимание, что кодла затаилась, предчувствуя потеху.
– Постой, фрайер, – прохрипел Витек, – дай в зубы, чтоб дым пошел?!
Тот вынул кз кармана пачку, протянул молча. Но Витек взял ее из руки, достал оттуда одну сигарету, ткнул в нос пареньку, пачку сунул себе в карман.
– Угостись, не побрезгуй, ну чего же ты! – захихикал он.
Но не успел договорить, как полетел спиной на мокрый асфальт. Парень стоял и потирал ушибленный кулак.
В груди у Мишки все замерло. Ну теперь держись! Сенечка перегнулся за лавочку, резко взмахнул рукой и – в воздух, сверкая зеленым боком в тусклом свете лампы, взвилась порожняя бутылка. Миг – и она в руке у Витька. Сеня встал, бережно положил гитару на лавку. За ним еще двое, последним – Мишка.
Дальше все словно в дурном, кошмарном сне. Вскрики, хряск разбиваемого стекла, кровища, черные корчащиеся тени и… свет фар.
А потом – черный калейдоскоп: отделение, камера предварительного заключения, перевод в другую камеру, уже не в простом районном отделении, зловонный дух параши, допросы, издевки сокамерников, следствие – полтора бесконечных месяца и в конце – суд.
Мишка ничего не видел, не слышал, он сидел на скамье, будто рыба, вынутая из пруда, и не мог вдохнуть в себя воздух полной грудью, хотел, но не мог! То, о чем пели там в скверу, свершалось наяву. Хотелось вскочить, закричать: неправда! все это сон! Но за спиной – охрана. Впереди… а что впереди? Неужели это все, конец?
Витек, Сенька, еще один получили свое. Мишка чувствовал спиной на себе их злобные взгляды. А в голове вертелись слова приговора: «Условно, условно, условно…» Он был самым молодым, не было и восемнадцати. Он стоял рядом, когда происходившее на его глазах объединило их для будущей скамьи подсудимых. Он не бил. Это учли.
Но он, сам Мишка Слепнев, знал ведь совершенно точно, что грехов за ним, пускай нераскрытых, все равно, на пять сроков, что получили Сеня с Витькой, наберется.
Время шло. Прошлое не забывалось. Не могло забыться. В сердце поселился страх. Как спасения Мишка ждал призыва в армию – уйти ото всего как можно дальше, забыться, не вспоминать, жить жизнью, привычной для всех, слиться со всеми. И не намеком, ни словом, ни полусловом не дать понять людям нового окружения о своем прошедшем.
Лишь раз Мишка чуть не сорвался. Это случилось в разговоре со Славкой Хлебниковым. Они вкалывали вдвоем в наряде по кухне, в посудомойке. Работы было много, очень много. Некогда было оттереть со лба набегавший пот. Пока вертелись вокруг чанов с горяченной водой было не до слов, только поспевай! Но потом в белом густом пару, напоенном испарениями прогорклого жира и остатков каши, вытирая о фартук подрагивающие от напряжения руки, Мишка со злостью прохрипел:
– Заперли в клетку и измываются как хотят! Суки! Ни туда ни сюда – знай одно, или бегай, или паши до одури! Хуже, чем в зоне!
– А чего бы ты хотел? – не принял всерьез Мишкины слова Хлебников.
– Чего?! Свободы! Вот чего!
– Свобода, знаешь что?
– Поучи, – ехидно улыбнулся Слепнев, – поучи!
– Осознанная необходимость – вот что! – Хлебников расхохотался.
– Болтовня! Живем тут как прикованные: ни туда ни сюда. Хуже кандалов такая житуха! Да вот беда, бежать некуда!
Мишка замолчал. Он жалел, что завел этот разговор.
Но уж слишком сильно хотелось за забор, в большую жизнь. Для того чтобы это желание в себе усмирить, не дать ему истерично вырваться наружу, надо было и в самом деле быть по большому счету – свободным человеком. Человеком, чувствующим себя личностью в любых условиях, пускай даже самых невыносимых… А здесь. А что здесь? Просто работа, непривычная, тяжелая, но не Соловки же, не Колымские лагеря и не Туруханский край, не архипелаг Гулаг! Все понимал Мишка. Но душа его рвалась на волю.
Сергей провел предыдущий вечер в беспокойстве и наутро проснулся с нехорошими предчувствиями. Скорее это были даже не предчувствия, а неосознанная гнетущая уверенность – внеочередное увольнение срывалось. Крохотный огонек надежды теплился где-то в глубине души: «А вдруг? При чем тут я? Сурков провинился – его и накажут, а мое дело – сторона!» Но рассудок не поддавался уговорам надежды, разумом Сергей понимал: чуда не будет.
Так оно и получилось. Во время утреннего построения на плацу, когда Каленцев, обходя строй, чуть приостановился напротив и взглянул ему в глаза, Сергей понял – это все! Последний жалкий огонек погас в душе. Безразличие захлестнуло сознание: «Пускай! Так даже лучше: не нужно будет утруждать себя заботами, хлопотами». Он еще раз равнодушно смерил глазами фигуру стоящего на плацу перед строем Суркова и поймал себя на том, что судьба товарища его мало волнует, а вернее – вообще не трогает. Более того, все происшедшее с Лехой показалось Реброву таким пустяком, что о нем и думать не стоило.
Сурков думал иначе, и это явно читалось во всей его растерянной позе. Об этом говорили опущенные вниз, к бетонным плитам, глаза, подрагивающие, то сжимающиеся, то разжимающиеся руки, и признак основной, всем в роте, да и, наверное, во всей части известный – побагровевшие набухшие уши.
Кузьмин, появившись на плацу, скомандовал: «Вольно!», приложил руку к козырьку. Солнце светило командиру части в спину, и оттого лицо его казалось более мрачным, чем было на самом деле.
Говорил он негромко, но из-за тишины, воцарившей вокруг, каждое слово Кузьмина было слышно даже в задних рядах. Слушали с любопытством, с тревогой – такого еще никогда не случалось на недолгом солдатском веку стоящих.
Сурков же с появлением командира части невольно, не желая того, напрягся, тело его одеревенело. И теперь от каждого слова, произнесенного Кузьминым громче или резче обычного, он вздрагивал и ничего не мог поделать с собой.
Заложив руки за спину, полковник прохаживался вдоль шеренг, не обращая внимания на провинившегося, и только в самом конце своей длинной и грозной речи он повернул голову к Суркову, минуты полторы пристально вглядывался в лицо солдата, потом спросил жестко, требовательно:
– Так, ну и что вы можете сказать в свое оправдание?!
Сергей отчетливо увидал, как затряслись у Лехи губы.
– Я жду, рядовой Сурков!
Тот приподнял подбородок, развел руками, ответил совсем не по-уставному, еле слышно:
– Ничего.
Полковник подошел ближе. Было заметно, как заиграли желваки на его скулах.
– Хорошее начало, не так ли?! – сказал он с ощутимым сарказмом. Но тут же повернулся к строю, громко отчеканил. – За нарушение дисциплины во время увольнения объявляю рядовому Суркову трое суток ареста.
Сурков молчал.
– Вы поняли меня?!
– Так точно! – опомнился Леха. – Есть трое суток ареста.
Кузьмин кивнул головой, в последний раз оглядел выстроившихся на плацу солдат, откашлялся.
– На будущее воскресенье все увольнения для рядового состава части отменяются, – сказал он и, уже уходя, бросил офицерам: – Продолжайте занятия по распорядку.
Сергей смотрел в широкую спину Кузьмина и думал, что иначе и быть не могло. Все летело к черту: и увольнения, и разговор с Любой… и многое другое.
Тут же, на виду у всех, у Суркова отобрали ремень и пилотку, повели в сторону караульного помещения, туда, где находилась загадочная губа.
Сурков часто вспоминал русскую деревеньку, где провел всю свою жизнь, где дотянул до восемнадцати лет, почти не выезжая. Две короткие поездки с отцом в Москву сохранились в памяти как какие-то смутные сновидения. Спешка, суета, грохот, удушливый воздух раскаленных улиц и площадей – все это было не для него. И потому городская жизнь никогда не прельщала Леху, не манила.
Молодежи в деревне почти не было. И, наверное, поэтому сельский клуб, в который правление колхоза вбухало немалые средства, по вечерам пустовал. Даже когда привозили новую кинокартину, в просторном зале собиралось не более десяти человек, остальные пятнадцать коротали вечера у телевизоров. Опустела коренная Россия, прозванная недобрыми людьми Нечерноземьем.
Если кого сельский уклад отпугивал, заставлял искать более оживленных мест, то только не Леху. Неспешная, размеренная жизнь: работа летом от зари до зари и уютные зимние вечера в жарко протопленной избе, где кроме него жили отец с матерью и две младшие сестренки, – все это было по душе Суркову. Шумных компаний он не любил, если и доводилось попадать в таковые, долго не выдерживал, бежал оттуда. Сторонился подгулявших беспечных сверстников, которые в один голос с вызывающим откровением заявляли, что мол, в такой дыре задерживаться не подумают! И на самом деле они не задерживались – редко кто после армии возвращался в родной дом. Большинство оседало в городах или на крупных стройках, где всегда требовались крепкие молодые руки. Да и зорили села по-всякому, безжалостно и люто – то сселяли, то расселяли, сплошь и рядом объявляя «неперспективными».
Сурков с тревогой ожидал призыва на срочную службу, боялся, что она что-то переменит в нем, отбросит от всего привычного, обречет на жизнь новую и пугающую своей непредсказуемостью… Примеры были перед глазами – многие парни, с которыми вместе рос, чуть постарше, но, в сущности, сверстники, заезжали в родную деревеньку по окончании службы погостить, гостили неделю, от силы две, да и пропадали уже насовсем, чтобы никогда больше не объявиться в местах отчих.
Первые дни в армии проплыли перед Сурковым будто в тумане, он почти ничего не помнил, машинально следовал примеру товарищей, опасаясь лишь одного – как бы чего не перепутать. Бесконечные построения, сменяющиеся занятия, резкие команды – все сбивало с толку. Собственная угловатость, нерасторопность смущали еще больше, и оттого Сурков представлялся самому себе каким-то средоточием недостатков, стеснялся этих недостатков, но не замечал их у других. Ему казалось, что всем окружающим видно, какой он нерасторопный, неловкий и непонятливый. От этого он путался еще больше, ругая себя последними словами и всеми силами стараясь попасть в общий ритм.
Почти бессознательно ожидал он в себе каких-то внутренних перемен. Нот не обнаруживал их – как и прежде, тянуло домой. И даже если бы случилось чудо и его досрочно демобилизовали – Леха, не раздумывая ни минуты, поехал бы в деревеньку свою, оставив побоку все города и стройки, какие бы соблазны они ни таили.
И все чаще и чаще он приходил к выводу, что причина, заставляющая спи односельчан, дружков детских, покидать родные края, крылась вовсе не в армии, а в чем-то совсем другом, в том, что уже не одно десятилетие колотило, лупцевало, душило срединную Русь, высасывая из нее все соки и саму кровь, заливая в образовавшиеся пустоты желчь цинизма и ненависти, презрения к родной земле. Так ему виделось.

«Надо же, какой ехидный тип! – подумал Сурков с раздражением. – Расплылся, глазки так и блещут. Радуется он, что ли!» В голове у Лехи все трещало, ходуном ходило.
– Ну чего уставился? Затворяй дверь! – сорвалось у него.
– Прекратить разговоры! – рассердился выводящий и с лязгом захлопнул железную дверь с маленьким круглым окошечком на уровне головы.
Леха не мог заставить себя отвести от нее взгляда.
Только теперь он по-настоящему, до конца понял, что все происходит наяву. Неприятная ледяная волна захолонула сердце.
В окошечке на двери появился глаз выводящего.
«Тьфу! – Сурков повернулся спиной к двери, стараясь всем видом высказать безразличие. – Пускай поглядывает, следит. Что я – убегу отсюда?! Да тут даже окна нет!» Камера была совсем крохотной – не разгуляешься: от двери до противоположной стены шага четыре, не больше, вправо и влево – по полтора шага. От цементного пола веяло холодком. Ни краски, ни обоев на стенах – одна голая штукатурка. «Да, попал я! Хуже и не придумаешь, как во сне кошмарном! – Леха опять подошел к двери, потянул на себя, но та не открывалась. – Заперли, все! А Гришка-то разгуливает, ему все как с гуся вода – век бы ему в таком санатории просидеть!» Тут он отчетливо вспомнил позор, перенесенный на плацу передо всеми ребятами, голову будто ожгло прилившей к ней кровью, руки невольно стиснули виски. «Ну Григорий, попадись ты мне!» Леха не мог успокоиться, терзался в бессилии изменить что-то.
В углу комнатушки стоял маленький обшарпанный столик, рядом – обычный армейский табурет с прорезью для руки посередине сиденья. Леха пнул его ногой, скривился от боли – удар пришелся по голени, потому как сапог соскользнул с ножки и нога врезалась в перекладинку, острую и жесткую, будто сделанную из металла. Сидеть что-то не хотелось. «Успею еще насижусь: трое суток впереди».
Ремень и пилотку отобрали. Гимнастерка непривычно болталась вокруг тела, действовала на нервы. Хотелось лечь, уткнуться головой в подушку и позабыть обо всем, провалиться в бездонный, черный колодец сна, в котором нет никого: ни товарищей, ни командиров, ни гауптвахты этой проклятой, ни Грини Сухого, подвернувшегося так некстати.
«Как же! – разжигал себя Леха. – Полежишь тут! Размечтался. Вон она, коечка железная, – к стене пристегнута цепью, да замок висит. А ключа-то у меня и нету! На выводящего надежды никакой: проси не проси – все равно ничего не получишь. Только унижаться зря! Специально ведь придумали: железная кровать на шарнирах к стенке крепится, ночью поспал, а днем – хлоп! и нету ее!» Нервное напряжение не оставляло Леху. Руки подрагивали, в голове была каша. Минут двадцать он не мог найти себе места – мерил шагами крохотное пространство камеры, поносил все и вся – успокоение не приходило. Осмотревшись по сторонам, он задрал голову вверх: особенного верха, собственно говоря, и не было – чуть выше головы, посреди серого с разводами потолка, болталась маленькая тусклая лампочка. Лешка уставился прямо на нее, не мог оторвать глаз – ровный, спокойный свет действовал на него расслабляюще. «Все, хватит! Нельзя нервам выхода давать. Надо брать себя в руки, успокаиваться…» – твердил он себе.
Постояв еще, сел на табурет. Закрыл глаза. Прошлого не вернешь, хоть на стену лезь, надо о будущем думать, и держаться, не унывать! Но «прошлое» навязчиво лезло из памяти, стояло перед глазами. Особенно не давали покоя слова Кузьмина, глаза его, в которых был лед, жестокость. «А! Все равно ниже рядового не разжалуют, – попробовал успокоить себя Сурков, – чего переживать?» Не помогло.
Относительное равновесие пришло позже, часа через полтора. Постепенно тело расслабилось, размякло. Мысли обрели более четкий ход.
– Эй, арестант! Держи газеты. Свежие! – из-за приоткрытой двери высунулось улыбающееся лицо того самого разводящего, что привел Леху сюда. – Не бойсь, на губе чтивом обеспечивают вдосталь! Если, конечно, работы нет!
«Не забывают», – мрачно подумал Лешка.
– Давай! Что там у тебя?
Тот протянул руку, и на столик шлепнулись свернутые в трубочку газеты: «Комсомольская правда» и «Красная звезда».
«Сегодняшние», – успел заметить Сурков. Он развернул листы, но строчки замельтешили перед глазами, буквы запрыгали. «Нет, так дело не пойдет, – он отложил газеты, – пускай полежат пока».
Табуретка была, видимо, основательно расшатанная – при каждом движении она поскрипывали. «Починить, что ли некому? – проснулся в Лехе рачительный деревенский хозяин. – Надо будет попросить инструмент, привести ее в порядок, потом», – машинально подумал он. Придвинул табурет ближе к столику. Руки, согнутые в локтях, положил на столешницу, голову на них – ничего лучшего для отдыха придумать было нельзя. Перед глазами опять поплыли картины.
Просидели они вчера недолго. Гриня сам волновался, как бы односельчанин не опоздал, все поглядывал на часы.
Однако и подливать не забывал. Леха плохо помнил, что пили, – портвейн какой-то, какой память не удержала. Помнил, что было весело и что Гриня, и друг его стриженый оказались отличными ребятами – Сурков трудно сходился с людьми, а тут все шло как по маслу: и разговор веселый, и отношения простые, почти братские. Помнил, как белобрысый еще раз бегал в магазин, а Гриня успокаивал, мол, все будет в норме. Не помнил только, как окосел, – ведь казалось, что и впрямь все в норме, повеселились, выпили, дел-то… И еще кое-что запомнилось Лехе. Да так запомнилось, что ни в жизнь не забудет теперь! А ведь всего лишь час какой-то, не больше, один только час! И сколько в него вместилось!
Это случилось перед тем, как они напоследочек раздавили пару оставшихся «бомб» и Леха совсем поплыл по беспамятным бормотушным волнам. А было так.
Гриня все же растормошил Леху, выволок к любимицам мужской половины общаги. Проживали они в соседнем подъезде на четвертом этаже. Девчонок-лимитчиц расселяли обычно по четверо или шестеро в квартире. А эти умудрились себе выбить одну да еще двухкомнатную на двоих, а может, просто выжили подруженек-соседушек.
Леха в такие тонкости не вникал, да и не в состоянии он был в них вникнуть после «литры выпитой!» – Все будет на мази! – предупредил Гриня, обнимая Леху. – Тока не перепутай, моя толстая и большая, а твоя вот такусенькая… Он показал пальцами нечто микроскопическое, поднеся их к Лехиному носу. – Но ты, земелюшка, не обижайся и не думай чего, она такого жару дает, что тока держись, едрена кочерыжка!
Леха упирался. И его всю дорогу чуть ли не волоком приходилось волочь. Когда Гриня звонил в дверь, он держал Леху за шиворот, чтоб не сбежал. А может, сам держался, чтоб не упасть.
– Леха, раздолбай хренов, ты ж мне потом сам спасибо скажешь! – слюнявил Гриня в ухо.
А у Лехи все в башке гудело и трещало. Он постоянно зажмуривал один глаз, чтобы не двоилось и не крутилось все вокруг. Но помогало плохо – бормотень была знатная, ядреная.
Дверь открыла огромная девица, ростом под потолок, на голову выше Грини, непомерно толстая, богато одаренная телесной красой и выпирающими прелестями. Была она в фартучке и прозрачном бюстгальтере. Настолько прозрачном, что Леха решил, будто это у него с глазами после выпитого плохо. Таких огромных грудей, которые иначе как у дойной коровы не встретишь, он никогда не видал, во всяком случае в открытом виде, – они выпирали, перли, заслоняли собою все, кроме них, и не существовало ничего. Леха не мог оторвать взгляда, он даже протрезвел.
– Ну и чего? – вяло поинтересовалась девица и переступила с ноги на ногу так, что все тело ее колыхнулось и как бы перелилось с одного бока на другой.
– Все ништяк! – пьяно выдал Гриня. Икнул. Потом ляпнул срывающимся голоском: – Мы к вам!
– Понятненько. Ну заходите… только у нас не прибрано.
Гриня поклонился, раззявил рот до ушей. И чмокнул девицу в грудь, оставив на коже красное пятно.
– Нам все ништяк! Леха, тут дамы, соберись, Леха!
Девица повернулась, освобождая проход. И Леха чуть не грохнулся наземь – под фартучком у девицы, оказывается, ничего не было. И открывающееся взору производило потрясающее впечатление.
Гриня сразу же наложил ладони на открывшиеся телеса, поколыхал их из стороны в сторону и застонал. Девица повернула к нему голову и благосклонно улыбнулась.
– Это конец света! – наконец членораздельно выдал Гриня. И в свою очередь заслужил поцелуй.
Леха старался не смотреть, отводил глаза, но они сами, помимо его воли, возвращались к пышному и скульптурно округлому заду девицы. Леха был сдержанным человеком, даже чересчур сдержанным, но все же и он был мужчиной.
А девица, похоже, его совсем не стеснялась. Может, она привыкла к визитам пьяных парней, может, не принимала Леху всерьез. Но с Гриней у нее, судя по всему, были устоявшиеся отношения. Гриня сам все напортил.
Он вдруг рявкнул командным каким-то тоном в лицо девице:
– Видала слюнтяя, молокососа?! Нет?! Мой земеля! Рекомендую – лучший друг, братан, кореш Леха… э-э. Сурок, короче! Прошу любить, едрена кочерыга! Анджела! Девицу звали именно так, но в устах Грини это имя прозвучало как-то особенно величественно. – Анджела, ненаглядная моя телочка, котик, ты мне сейчас же, немедленно, на моих глазах, чтоб без всякого обману… – Он снова громко икнул, но не прервался: – Сделаешь из этого цуцика, из этого девственника деревенского, настоящего мужика, ясно?!
Анджела всплеснула руками, нахмурилась… закатила Грине кулаком в лоб. Тот сполз по стене на пол, затих.
– Да ты не супься, – обратилась она к Лехе, который медленно шагнул к выходу, почитая, что сейчас настал именно тот миг, когда пора уносить ноги. – Не супься и не расстраивайся. Гришанька мой давний хахаль, но дурак порядочный! Ишь ты, распоряжаться удумал! У меня всего трое было: участковый местный, начальник цеха нашего и он, дурень. Первые – те по делу, так надо было, а он-то, остолоп, по любви все ж таки, и ведь не понимает, любому отдаст, изверг!
Изверг приоткрыл глаза, потер лоб и произнес два лишь слова;
– Не понял?!
– И не поймешь, – заверила его Анджела, наклоняясь и приподымая любимого.
Здесь Лехе пришлось отвернуться, иначе бы он не устоял, набросился бы на соблазнительницу, которая, может, и не подозревала о том воздействии, которое оказывала.
– Никогда не поймешь, потому как ты – бревно, дубина стоеросовая! Надо бы тебе еще разок отвесить! Да ладно, пойдем, выхожу!
– Ты его лучше повесь на прищепки в ванной, пускай просохнет! – послышался совет из глубины квартиры. Голосок был тонюсенький, приятный.
– О-о, – обрадовалась Анджела, будто только сообразив, что к чему. – Вот кто из тебя мужика будет делать, щя познакомлю. Не сробеешь?!
– Леха! – скомандовал Гриня. – Не робей!!!
– Нечего выдуриваться, – проворчал Леха недовольно, – а то я не мужик, по-вашему!
Он имел дело с женщинами. Точнее, с женщиной, года полтора назад и всего единожды. В селе на праздниках его удалось подпоить, и местная вдовушка, одна из приезжих, сосланных в село за тунеядство и пьянство еще в шестидесятых, и пережившая уже троих сельских мужей-пьяниц, затащила Леху к себе, да и без долгих разговоров овладела им, хотя и было некоторое сопротивление, было. Но Леха почти ничего не помнил. Помнил только, руки у вдовушки были цепкими, а бедра и прочее жаркими, словно печка русская. Она и потом его заманивала. Да Леха не пил больше. А потому и на уговоры не поддавался. Был он, как уже говорилось, человеком устойчивым и выдержанным.
На его реплику и Гриня и Анджела обернулись разом.
Гриня обматерил Леху. А Анджела сказала нежно и мягко, по-матерински:
– Значит, закрепить надо, для памяти и опыту!
Она положила Гриню на кровать в своей комнате. Потом вернулась к Лехе, взяла его за шкирку. Открыла дверь в другую комнатушку, совсем крохотную. И представила:
– Леха! Лучший это… земеля Грини и родной почти братан! Тяпочка, будь ласкова, возьми мальчика в оборот!
– Вот еще! – раздалось из-за огромного двустворчатого зеркала. – Я на попрыгушки собираюсь.
– Я тебя умоляю, не обижай Гришаню. Потом на дискотеку пойдешь, успеется. Да и малый хорош больно, обидно его выставлять-то, ну-у, Тяпочка?!
– Ладно, подумаем еще! – пропищала невидимая Тяпочка. – Пускай заходит.
Анджела притянула Леху к себе, уткнула лицом в огромную грудь, да так, что сосок чуть не выдавил Лехе глаза. А сам он сомлел, почти ног лишился. И строго сказала:
– Ты у меня оттуда не сбежишь, понял?! Я Гришаню люблю и уважаю, его слова – закон!
– Вот это по-нашему! Так его, ангелочек мой – выкрикнул хрипато Гриня с кровати. – Леха! На тебя, ирода, все наше село смотрит, не оплошай, Леха-а!!!
– А оплошает, не выйдет! – заявила Анджела. И так поддала Лехе круглым могучим бедром, что он влетел в комнатушку и рухнул на кровать, застеленную махровым цветным покрывалом. Он уже не был способен к сопротивлению, к отстаиванию своих прав.
– Сейчас поглядим, сейчас, – пропищало из-за зеркала.
Дверь за Анджелой захлопнулась.
Леха хотел встать, но не успел. Из-за створки вышла вдруг девочка в коротенькой юбочке и с розовеньким большим бантом в пышных темных волосах. Лехе стало не по себе. Куда он попал?! Ведь за это же, за совращение малолетних, так наградят, что не вылезешь из зоны. Девочка была совсем малышкой, в полтора метра, а то и меньше. На ней была беленькая пышненькая блузочка и розовенькие в тон банту колготочки, ажурные, хитрого плетения, завлекающие.
Девочка уперла руки в бока и бесстыже уставилась на Леху черненькими блестящими глазками. Ротик у нее был как украшение в волосах, бантиком, носик совсем крохотным, вздернутым… и поначалу Лехе показалось, что ей не больше десяти-двенадцати лет. Но теперь он понял, ошибся – тело у этой девочки было вполне женским, развитым, ножки даже чересчур – они казались обтянутыми ажурной тканью батончиками, хотелось откусить кусочек. И глаза, главное – глаза! Они не могли принадлежать девчоночке, это были глазки взрослой и уверенной в себе, в своем обаянии хищницы. У Лехи даже мороз по коже пробежал.
Он хотел встать. Но девочка-Тяпочка грациозно и непринужденно приподняла свою чудо-ножку и поставила ступню на грудь Лехе. Он потянул было руку, но не посмел коснуться ее ноги, рука так и застыла в воздухе.
– Не хотим любить прекрасных дам? – поинтересовалась Тяпочка. – О-о, это интересно, это даже очень занимательно! Ах, миль пардон, мой милый друг, я не совсем одета, готовилась, видите ли, к балу…
Она сняла ножку с Лехи, подошла к зеркалу и тут же вернулась, но уже в туфельках на высоченных каблуках ноги ее от этого стали просто бесподобны! Леха отвел глаза.
– Вот мы какие, да? Однако-о! – протянула Тяпочка и жеманно изогнулась. – Только я люблю именно таких. И скажу по секрету, только за такого пойду замуж. Может, Лешенька, ты моя судьба, а, как ты думаешь?
Леха приподнял голову и промямлил:
– Мне пора в часть! Служба!
Тяпочка подошла ближе.
– Служба – это да-а! – сказала она весомо. – Но в часть только через… – И она провела обеими маленькими ручками по своему телу от плечей до ног, подчеркивая все встречные выпуклости. – В часть только через меня!
– Нет! – Леха заупрямился. Ему почему-то стало и страшно и неловко. Хмель слетел с него, а вот слабость осталась.
– Нет? – повторила она вопросительно.
– Угу, – промычал Леха. Он не сомневался, что все в его руках. Эту кроху-девочку с обворожительными ножками он одной рукой поднимет, посадит на ладошку, а другой прикроет.
– Тогда другой разговор! – Тяпочка вдруг стала сердитой, даже злой. Она напомнила Лехе поселковую учительницу, очень маленькую, но очень строгую.
– Тогда рекомендую приготовиться к операции! Маэстро, туш!
И она сама включила магнитофончик, стоявший тут же, у постели. И пояснила:
– Это чтоб воплей не было слышно!
Следующим движением она подхватила с зеркала огромные ножницы и выразительно щелкнула ими у самого носа Лехи. В это время с кассеты завопил что было мочи бесполый рок-певец Синдерелла. И Леха подумал, это конец, такая и впрямь отрежет, маленькие – они все злющие!
– Раз службе нужны кастраты – все! Кастрируем! – подтвердила Тяпочка. И щелкнула ножницами еще два раза – у Лехиного подбородка, а потом над блестящей бляхой. Последнюю она сковырнула одним пальчиком, разметала полы кителя, дернула вниз за брючный ремень. – Чик! И готово!
Леха, вместо того чтобы защищаться и спасать свое мужское естество, оцепенел и чуть было не заплакал – на него столько сегодня навалилось всякого, непривычного, что он просто не выдерживал. Он даже руки не поднял!
А Тяпочка скомандовала:
– Раздеться немедленно!
Дверь открылась, и в комнату просунулась Гринина усатая голова.
– Ну как? – поинтересовалась она.
– Щас все оформим! – заверила Тяпочка. И щелкнула ножницами в сторону Грини. Тот скрылся.
Леха понял – деваться некуда. Он снял китель, потом рубаху.
– Майку долой! – приказала Тяпочка.
Леха снял и майку.
– Брюки!
Вот с брюками Леха возился долго. Девочке-крошечке пришлось даже помочь ему. Она нагнулась, вцепилась в штанины и дернула. Леха остался в одних трусах.
– Пока хватит! – сказала Тяпочка. И отложила ножницы. – Созрел, мальчик? Все о'кей?!
Леха сидел сиднем. Ах если б он знал, в какую историю влипнет, встретившись с Гриней! Да он бы вообще не пошел в увольнение! Он бы все два года просидел бы в части!
– А ты хороше-енький, – мечтательно протянула Тяпочка. – Культуризмом не занимался, а? Или, как это щас называют фрайера дешевые, бидиболдингом?
– Нет, – ответил Леха, – у нас работенки и без болдингов всяких хватает, тока успевай!
– Ну и отличненько! – обрадовалась чему-то Тяпочка, щуря черненькие глазки. – Вот и поработай немного, лады? Ну чего вертишь головой, чего краснеешь, ведь я ж пообещала… и ты мне так нравишься, ты такой мальчик занятный, такой, такой… – она запнулась, но нашлась все-таки, – о каком я всегда мечтала!
Она вдруг села возле него, положила малюсенькую ручку ему на щеку, пригорюнилась и сказала:
– Полюби меня, Лешенька, а? Ну чем я хуже других! Полюби и забери к себе, в деревню, будем вместе жить в избушке, я тебе детишек нянчить буду, ласкать тебя буду…
У Лехи вдруг в горле комок застрял, а в груди что-то екнуло. И он попытался привстать, слабенько, как-то по-мальчишески протянул:
– А чего, поехали…
Это вырвалось у него само собою. Но она тут же встала. И рассмеялась в голос. Она долго заливалась на все лады. А потом уперла руки в коленочки, нагнулась и шепнула ему:
– Но сначала, Лешенька, ты мне докажи, что ты меня любить будешь! А то ведь завезешь в глушь какую, а сам к коровам да на поле, к самогонщикам брагу хлестать, а про меня и забудешь, миленький, нет ты полюби меня… А я тебя полюблю!
Она отодвинулась от него и стала расстегивать кофточку. Неторопливо, поглядывая на Леху лукаво. А тот весь напрягся, одеревенел. Но не мог он не смотреть, не мог!
Тяпочка сбросила кофточку. И под ней оказался очень складненький женский торс, все было точеным – и шейка, наполовину дотоле скрытая, и плечики, и талия, и кругленький, еще не совсем обнажившийся животик – все словно с фотографии в журнале, Леха и не видал такой ухоженности и прелести раньше. Узенькая полосочка лифчика почти не прикрывала грудей, она лишь немного стягивала их, иначе бы разлетелись по сторонам, были они какими-то живыми на вид, будто сами по себе жили, своей жизнью.
– Хочешь? – Тапочка подошла ближе, качнулась к нему.
Вслед движению качнулась ее груди, нависли над Лехой.
Но он отпрянул, уперся головой в стену, побледнел.
– Ну ладно, – успокоила его Тяпочка, – не будем спешить.
И она стала медленно стаскивать с себя юбочку, шаг по шагу расстегивая коротенькую «молнию», обжигая глазами Леху. А когда полосочка темной ткани соскользнула с ее бедер, округлых и также точеных, и упала на пол, Леха увидал, что то, что он принял за колготочки, было не ими вовсе, а чулочками. Да, на Тяпочке, на ее прелестных ножках были розовенькие ажурные чулочки в тон банта, который покачивался при каждом движении. Поверху чулочков шла красненькая резиночка с какой-то бахромой, а уже от нее вверх тянулась какие-то узенькие бретелечки-завлекалочки и крепились они к какому-то, так же непонятному для Лехи, поясочку. Все было так интересно и волнующе, что Леха невольно облизнулся.
И это не ускользнуло от внимания Тяпочки.
Она плотоядно улыбнулась, совела бедрами, подняла плечи, отчего ее груди стали выше и опять сделали попытку разбежаться, и кокетливо проурчала:
– Ну-у, можно меня полю-юби-и-ить?
Леха судорожно кивнул. Она стояла перед ним практически голая – лишь узенькая ниточка трусиков с крохотным треугольничком, почти ничего не прикрывающим, покоился на ее бедрах. И это зрелище заслуживало внимания. Леха не мог оторваться. Он чувствовал, как его плоть набирает силы, как огонь разгорается внутри. И он уже знал, что без этих ниточек, чулочков, резиночек, бретелечек все было бы значительно проще, не волновало бы так, не манило.
Он протянул руку. И она подалась навстречу этой руке, коснулась ее животом. Леха отдернул руку, словно от раскаленного утюга.
– Так можно или нет? – почти простонала Тяпочка.
– Можно! – выдохнул Леха с невероятной решимостью и пылом. Если бы она сейчас сказала ему: «Лешенька, пойдем, милый, в загс!», он, не задумываясь, встал бы, оделся и пошел с ней хоть в загс регистрироваться, хоть в церковь венчаться, хоть на каторгу тележку возить. Но она не сказала ничего такого, не предложила.
Она изогнулась как-то жеманно, так, что у Лехи челюсть отвисла, так, что он подтянул колени к груди и сжался в комок. И в следующее мгновение ниточка бюстгальтера слетела, груди разошлись, качнулись, точеные крохотные шарики сосочков, обрамленные желтовато-смуглыми окружиями, будто два зрачка косоглазой красавицы уставились по углам комнатушки. А с Лехой чуть инфаркт не случился. Сердце затрепыхалось обезумевшим кроликом в тесной клетке. Пот выступил на лбу, ноги задрожали.
Леха мог бы протянуть руку и погладить эти груди, коснуться, мог дотронуться до плечей, живота… Но руки не слушались его.
А она словно измывалась над ним, понимая его вожделение, робость, беспомощность, осознавая свою власть. И наверное, она немного переиграла. В то время, когда Лехины глаза скользили по ее ногам, от крохотных черненьких туфелек, вдоль розово-ажурного изящества и обилия плоти, до маленького темного треугольничка, она вдруг как-то вытянулась, закинув руки за голову, к банту, и повернулась к нему спиной. Это был конец Лехин.
Ничегошеньки на ней сзади не было. Леха и не знал, что бывают такие трусики – веревочкой скользящие по талии и веревочкой убегающие вниз, пропадающие. Да и не задумывался он сейчас обо всех этих премудростях и женских уловках. Ему просто бросились в глаза два тугих нежно-матовых полушария над розовенькими ножками, бросились в глаза груди, выглядывающие маняще из-за спины.
Но все это было лишь началом или предвестием конца, потому что в следующую минуту, Тяпочка повернулась к нему боком, выгнула спину, подалась вперед, отчего полушария стали почти шарообразными, волнующе круглыми, переходящими в гибкую осиную талию… Леха протянул руку, и его ладонь легла на нежную матовую кожу, ощутила упругую податливую плоть, скользнула по ней, пальцы начали сжиматься. И Леха застонал. Стон его перешел з хрип.
– Ну что ты, миленький?
Тяпочка повернула к нему прелестную головку, качнула бантом. Она вдруг увидела, что сидящий на кровати парень весь побагровел, стал красным до корней волос. Взгляд ее скользнул вниз… и она заметила на белых трусах расплывающееся темное пятно. И все поняла. Рассмеялась. И сразу стала простой, не жеманной и кокетливой, а какой-то своей, родной. Она обняла Леду, притянула голову к груди. Тут же выпустила. Отвернулась.
– Снимай! – сказала она и протянула руку.
Он отбросил покрывало, потом одеяло. Забрался под него и стянул с себя трусы. Она накинула на тело халат. Взяла его трусы и ушла. Через три минуты вернулась, доложила:
– Не боись, высохнут через полчаса! Но теперь ты от меня не укатишься, колобок!
Леха боялся глаз поднять. Он переживал свой позор очень остро. Лучше б ему вообще было умереть, так он считал в эту минуту. Она же так, видно, не считала.
– Лешенька, милый, ты очень впечатлительный мальчик! Но я таких люблю! Я для таких на все пойду! Вот только скажи…
– Чего уж теперь-то говорить, – протянул Леха.
Она подошла к окну, опустила плотную штору. Потом переключила магнитофон с воющего Синдереллы, на интим, мягкий и убаюкивающий. Сказала:
– Вот только теперь у нас с тобой и начнется разговор, Лешенька! Ты себя еще плохо знаешь! Но я тебе поведаю кое-что о самом же тебе, спасибо скажешь.
Леха отвернулся.
– Ну чего, передохнул? – спросила Тяпочка. Скинула халат. Потом стянула трусики. Сбросила на палас туфельки. Но бант и чулочки оставила, ей очень шел к лицу розовый цвет. Прошла к выключателю. Щелкнула. И в комнате стало темно – хоть глаз выколи!
Она скользнула к нему, под одеяло, прижалась, начала ласкать, оглаживать. Потом навалилась сверху и сдавила его щеки грудями, он чуть не задохнулся. Но не ощутил в себе сил, расстроился еще больше. Тогда она уселась на него, прямо на грудь, заставила подтянуться на подушке повыше, склонилась и принялась целовать. Она целовала без устали, не жалея ни его, ни своих губ. Она давила на его грудь ладонями, теребила кожу пальцами, терлась о нее грудями и целовала, целовала, целовала… А когда он обезумел от ее поцелуев, когда он потерял чувство верха и низа в этой темной комнате, в этой жаркой постели, она шепнула:
– А теперь ты поцелуй меня!
Он впился в ее губы и долго не отпускал их. А она все просила, просила в промежутках, поцеловать ее, еще и еще. Он целовал шею, груди, сосочки, живот, он целовал ее всю и не мог уже остановиться. Но он не чувствовал пока в себе силы, лишь губы его и руки были всевластны.
И тогда она, не слезая с него, встала на колени, надвинулась на него, обхватила голову руками, прижала к животу, дала насладиться его кожей и надавила на голову, спустила ее ниже. Леха уткнулся лицом в ее пах. Ее руки властно давили на затылок. А он и не пытался отстраниться, он был околдован ею, он сходил с ума и был рад этому добровольному сумасшествию. Он коснулся губами чего-то мягкого, нежного, теплого. Губы вытянулись, слились с этим мягким и нежным, и он уже не мог оторваться. Он почувствовал, что обретает мужскую силу, и это окрылило его, он обхватил ее бедра руками, прижался еще сильнее, задыхаясь, окончательно теряя голову… Но она вдруг оттолкнула его. И шепнула в ухо:
– А ты сладкоежка, мальчик, гурман! Но все потом, не будь таким развратным типом. Покажи, на что ты способен, а? Ведь ты теперь не откажешь мне в маленьком и самом обычном удовольствии без всяких штучек?!
Леха понял, теперь он хозяин. Но он должен выполнять ее требования. И он приподнял ее над собой на одних руках, положил рядом, осторожно перевернулся, наваливаясь на нее. Она тяжело вздохнула, а когда почувствовала, что он на самом деле обрел свою мужскую силу, слился с ней, начал ритмично покачиваться, уперла ему в грудь остренькие кулачки. И пролепетала жеманно:
– Медведь! Ты же меня раздавишь, ну-у, будь же учтивее с дамой!
И Леха, не прекращая своих любовных стараний, оперся на локти, приподнялся над ней, опустил ладони на ее разбегающиеся жаркие груди и свел их наконец-то. Он даже сумел собрать их в одну ладонь, причиняя ей боль и неудобство, но испытывая при этом непонятный восторг, а другой ладонью он нащупал ее бедро, прижал плотнее к своему, потянул вверх и снова придавил ее.
– О-о, медведь! Какой ласковый и страстный медвежонок! – пропела она ему в ухо. И укусила за мочку.
Что-то произошло с Лехой в эти минуты. Все в нем перевернулось. И он уже воспринимал эту встречу не как досадное недоразумение, а как удачу, несказанную, дарованную судьбой удачу. Он трижды отстранялся от нее – лежал, отдыхал – и опять начинал ее терзать, мучить. И он бы не вылезал из кровати вообще. Но она выпихнула его включила свет.
– Пора, Лешенька, пора – уговаривала она его, – служба! Не положено тебе задерживаться!
Он повалил ее и в четвертый раз. Он овладел ей уже при свете, наслаждаясь и глазами изучая это несущее сладость тело, запоминая каждую его черточку, изгиб.
И все же она его выпроводила. Одела и выпроводила.
А напоследок сказала:
– Больше не приходи, понял?! Никогда!
– Почему? ~ удивился Леха.
– Потому! – ответила она. – Ты думаешь, нашел себе бесплатную дырку, будешь теперь кататься за так, да?!
Леха молчал.
Ока припала к его груди. И сказала сквозь слезы:
– Да не сердись! Я давно уже не промышляю! Да и раньше не шибко-то – пять-шесть клиентов в месяц, и все, щас завязала… очень редко ложусь под кого, только если проблеснет что-то! Вот и с тобой проблеснуло, не…
– Что везде за но? – спросил Леха, сжимая ее плечи.
– Пусти! Чего слыхал! Не приходи, и все! – Она вдруг обмякла. – А захочешь прийти, так только когда отслужишь, придешь, скажешь, пошли, Тяпка, со мной, на край света, в самое дремучее село… и я пойду, серьезно, пойду! Все брошу, со всеми расплююсь! Ты только позови! Ладно? – Она помолчала. И сказала еще тверже: – Но до того не приходи. Все! Покедова!
Гриня уже поджидал Леху. Он его подхватил. И еще неизвестно, как бы себя повел Леха, чтобы с ним дальше было, если б Гриня не взял его в оборот, не подпоил бы малость, не снял бы нервного напряжения. И остался в Лехиной памяти весь этот эпизод как чудный сон. Он все помнил, но так и не смог себя убедить, что все бывшее с ним правда.
Земляк был заботлив. Перед уходом Гриня даже осмотрел его придирчиво: чтоб и пуговица верхняя была застегнута, и пилотка не скособочилась. Сам провожать пошел. И когда с патрулем столкнулись, отстоять пытался. Да куда там! Потом Гриня пропал. Были: комендатура, неприятный разговор, машина из части – все как во сне, нечетко, наплывчато. Потому и не воспринималось поначалу за реальность, казалось – вот-вот сон развеется, и все окажется не так уже плохо. Не развеялся сон!
Лампочка замигала, по камере запрыгали тени. «Хоть бы погасла совсем!» Суркову вдруг захотелось темноты, так чтоб ни малейшего просвета, ни проблеска. Но лампочка выправилась, даже засветилась ярче. Оставалось только одно – закрыть глаза. Леха так и сделал.
«И Гриня вовсе ни при чем! – вдруг ясно осознал он. – Не виноват он передо мной. Перед самим собой виноват может, а передо мной нет. Нечего валить на него!» Леха представил себе, как корит сейчас себя Гриня. «Не может быть, чтоб не корил! Ведь знает, чем все кончилось. А тогда, вначале, разве мог знать, так чтобы наверняка? Конечно, нет!» Сурков с силой ударил себя кулаком по колену. «Легче всего виновных на стороне искать. Все! Только нет! Врешь, – он открыл глаза, встал, – сам виноват. Сам! Растяпа несчастный!»
– Приготовиться ка обед! – прокричал за дверью выводящий.
«Хорошо еще, что кормят», – мелькнуло в мозгу. Сурков сдернул гимнастерку, застегнул пуговицы. Но без ремня выглядеть прилично – не всякому удастся. «Трое суток – не век!»
Славка, потный и раскрасневшийся, тяжело отдувался, пыхтел. Гимнастерка у него выбилась из-под ремня, пилотка съехала на затылок, автомат, придерживаемый за ремень, покачивался у ноги, прядь волос потемнела, прилипла ко лбу.
Новиков посмотрел на секундомер.
– Уложился, даже с запасом, – сказал он Так, Слепнев, Ребров, на исходный рубеж!
В руке у сержанта был зажат красный флажок на коротеньком древке.
С полосой этой возились долго, почти целый месяц ушел на то, чтобы научиться преодолевать отдельные препятствия, причем без оружия, налегке. Время летело, упражнения усложнялась – последние две недели исполняли полную программу, сначала не спеша, закрепляя навыки. Потом Новиков принес на одно из занятий секундомер – и началось.
Азарт и соперничество принесли поперву излишнюю торопливость. Многие ходили в синяках, с шишками н растянутыми сухожилиями, но интерес к полосе не пропадал: чем больше она приносила неприятностей, тем скорее, увереннее хотелось преодолеть ее.
Все удовольствия Сергей испытал на себе. Еще свежа была в памяти «разрушенная лестница» – то ли нога на ходу подвернулась, то ли сапог соскользнул, заметить не успел, как навернулся с нее, да с такой-силой, что до сих пир поглядывал ка лестницу с опаской.
Врачиха в санчасти смотрела на его ушибы, вздыхала, поправляла очки на носу, сетовала: «Ну, по меньшей мере, миленький, никаких серьезных повреждений не было – так: видимость одна».
Как и во всей это жизни, на полосе неприятное мешалось со смешным, неудачи с победами, ошибки с догадками, невероятными своей простотой, – то, что казалось невыполнимым, становилось обыденным, даже скучным. Несколько веселых минут доставил как-то самый длинный сплетник из второго взвода, что имел разговор с Черецким. Перепрыгивая через канаву с водой, начальное и самое легкое препятствие, он умудрился соскользнуть с противоположной стенки и, взмахнув, будто на прощанье, руками-граблями, скрылся в мутной воде. Глубина в яме была не больше метра, но падал он спиной, да к тому же высоко задрав ноги, и потому воды хватило, чтобы скрыть прыгуна. Правда, уже через секунду парень был на ногах и, стоя со пояс в воде, пытался нашарить руками на дне канавы слетевший во время падения автомат. Пилотка его мирно плавала рядышком на поверхности, впитывая в себя радужные пятна. «Пловец» не пострадал нисколько, даже царапинки единой на нем не было, но, насквозь промокший и ошалевший от неожиданного купания, он выглядел как ощипанная курица и долго не мог вылезти из канавы – глина, мокрая, скользкая, сбрасывала его обратно в воду.
Черецкий не удержался тогда, сказал без злорадства, но не скрывая насмешки: «Есть все же, черт меня подери, Бог на белом свете!» Сергей невольно кивнул, но разговора не поддержал. Парня вытащили из траншеи как репку с грядки. Он был отправлен чистить оружие – под общим взглядом уныло поплелся к казарме, оставляя за собой лужицы.
Сергей оборвал воспоминания. Хватит лирики!
Флажок взлетел вверх. Мышцы невольно напряглись, тело сжалось в комок. Сергей чуть не согнулся в поясе, ему было отчетливо видно, как палец Новикова уперся в кнопку секундомера. Расстояние небольшое: вся полоса – сто метров, но каким далеким кажется финиш!
Вместе с резко опущенной рукой сержанта мелькнула красная молния. Пошли!
Автомат зажат в правой руке. Из-под сапог летит щебенка. До канавы двадцать метров – двенадцать шагов-прыжков. Хоп! Сергей резко оттолкнулся левой ногой, правую руку с автоматом выбросил вперед. Есть! Вместе с ним через канаву перелетело перевернутое, искаженное в воде отражение. Скосив глаза, увидел – Мишка приземлился почти одновременно.
Но глазеть не время – используя инерцию прыжка, надо скорее жать вперед. До лабиринта десять метров – два вдоха, один выдох. Сергей вскинул автомат выше, чтоб не цеплялся за нагороженные в кажущемся беспорядке деревянные брусья. Туда, сюда! Влево, вправо! Еще и еще раз, отталкиваясь левой рукой от перекладины, чтобы не терять скорости на поворотах. Конец лабиринту! Сергей выскочил на волю, но пилотка, сбившаяся от верчения, полетела на землю. Секунда потеряна, черт возьми!
Слепнев вырвался вперед – он уже взбегал по наклонной доске на забор. Два прыжка, и под Сергеем заскрипела такая же длинная узкая доска. Здесь главное – не спешить, можно сверзиться – тогда труба! Левой, правой, левой… Сергей балансировал руками на высоте полутора метров. Обрыв. Хоп! Не останавливаясь, перепрыгнул метровое расстояние до следующей доски. Главное, не задерживаться! Потеряешь разгон – не удержишься! Прямо, влево три метра. Прижок! Доска ходуном заходила. Сергей еле удержался – спасибо четырехкилограммовому автомату – отличная балансировка. Прямо!
Оттолкнувшись как можно сильнее, заметил: Мишка уже на земле, прет дальше. Половину расстояния до «разрушенной стены» Сергей пролетел в воздухе. Земля тяжело ударила в сапоги. Только не упасть. Ребята, стоящие вдоль полосы, орали во все глотки. Но Сергей не слышал отдельных слов; звуки тонули в общем реве, в стуке бешено колотящегося сердца в груди. Ему было не до них. Краем глаза он видел подпрыгивающую фигуру Черецкого, тот хлопал в ладони высоко задранными над головами руками. Все внешнее происходило будто не наяву или где-то очень далеко.
Дыхание спирало. Сапоги с каждым метром становились тяжелее. Хоп! Есть первая перекладина. Сергей перенес всю тяжесть тела на правую ногу, оттолкнулся. Вторая! Земля отдалялась. Третья, четвертая. Ноги подрагивали, оступишься – переломаешь все кости! На последней, пятой, перекладине он чуть приостановился, чтобы кубарем не скатиться вниз по шаткой неустойчивой лесенке с редкими ступеньками. Перил нет, в проемах лестницы проглядывала тянущая к себе земля, до нее два метра!
Вперед! Лестница трещит, гнется, но держится. На последней ступеньке Сергей зацепился каблуком за перекладину и стремительно, не успевая осмыслить случившееся, полетел вниз. «Все, кранты!» Надвигающаяся со скоростью локомотива кирпичная стена грозила серьезными неприятностями. Уже в падении он успел оттолкнуться правой ногой, забрать чуть левее и – головой вперед с автоматом и вытянутой руке слетел в узкий проем.
«Фу, пронесло!» Падение даже немного ускорило ход.
А колени саднящей болью напомнили о промашке, да резко ударивший в пах подсумок с двумя рожками ослепил на секунду.
«Ничего, скоро конец. Мишка вон позади – застрял в стенке. Может, сапогом зацепился? Кто его знает, не до того!» Сергей быстро вскочил на ноги, на бегу перекинул автомат за спину. Последний толчок! Провалился. Теперь он был в «колодце», впереди – траншея. Оглушила, ослепила темнота, лишь метрах з шести белел свет. Дыхания не хватало, легкие рвались из груди, в висках стучала кипящая кровь.
«Чуть-чуть, еще малость!» – подбодрил себя Сергей. Опираясь на руки, на четвереньках, стараясь не задевать стволом автомата за низкий потолок, он выбрался из траншеи в открытый окоп. Не теряя времени, на ходу расстегнул не притершийся пока замочек на сумке, нащупал гранату.
«Не спешить. Полсекунды на отдых. Ага! Теперь можно!» Предметы перед глазами обрели четкие очертания – вот и большой фанерный щит, на котором белой краской выведен четырехугольник. Сергей откинулся всем телом назад, граната в руке. «Лети, родная!» И тут же скользнул вниз, в укрытие, успев все же; заметить, как, пролетев двадцатиметровое расстояние, чугунная болванка ударилась почти в самый центр квадрата. «Порядок!» Почти одновременно он услышал резкий хлопок слепневской гранаты. «Ай да, Мишутка, совсем рядышком идет!» – мелькнуло в голове. Стараясь не терять ни секунды, Сергей выскочил из окопа.
– Серый, рви! – раздалось сбоку.
Теперь назад, та же стометровка, но уже без препятствий – по гаревой дорожке сбоку от полосы. Эх, сапоги, не хотят бежать – хоть ты лопни! Перед глазами плыли черные и зеленые круги, автомат тянул вниз. Сбоку опять что-то кричали, подбадривали. Доносилось как сквозь стену.
Вот она, заветная черта, – десять метров, шесть, два…
Сергей остановился, тяжело упершись руками в колени, приподнял голову и по глазам Новикова увидел – уложился. Для него это был двойной подвиг – всю ночь не спал, думал о ней, о Любе, утром встал больным и разбитым, шатало от стенки к стенке. Но ничего, ничего…
Николай что-то говорил. Сергей его не слышал.
Лето было в разгаре – середина июля давала знать о себе. И теперь с трудом верилось, что не так давно отлились бесконечные, казалось, дожди, и что вообще была эта серая скучная пелена. Июль взял свое: солнце палило вовсю, трава бурела под его лучами, наливалась соками и уже не могла тянуться вверх, сгибалась под собственной тяжестью.
По ночам ее подпаивал дождь, но к полудню от его деятельности никаких следов не оставалось.
Тянуло к воде, нестерпимо хотелось погрузиться в прохладные струи, расслабиться в них, отдать накопившееся тепло. Но ни речушки, ни озера поблизости не было, а потому и купаний не предвиделось. Зато пыль, прокаленная светилом, царствовала повсюду: вилась над дорогами, прилетала невесть откуда вместе с ветром, лезла в глаза, уши и не мог с ней справиться ни ночной дождик, ни буйная растительность, ни тщательная уборка территории. Лето торжествовало. Достигнув своего апогея, оно словно бы утверждалось навеки. И само не замечало, как постепенно шло на убыль: деньки становились хоть ненамного, но короче, ночами давала о себе знать прохлада.
Славка радовался подмосковному лету, он будто отогревался после далеко не жаркой погоды русского Севера. Там сейчас наверняка было пасмурно, а если и выглядывало солнышко, то ненадолго, да и грело оно не так, как здесь. И если кто и скучал по домашней обстановке, по родным, то это был, во всяком случае, не Славка Хлебников. Ему нравилось здесь, как ему нравилось и везде, в любом другом месте, не похожем на уже виденные места. Он впитывал в себя новое, как губка, запоминал, обобщал и вновь убеждался в своих выводах, что люди есть люди, в каких бы условиях они ни жили, куда бы ни забросила их судьба, они остаются самими собой – ведь невозможно долгое время носить на себе чужую маску, раньше или позже – проявиться суть твоя. Славка всматривался в людей. Не корил их, не требовал от них непосильного, принимал такими, как есть, зная, что упреками человека не улучшить, унижением не исправить. Жизнь и окружение людское делало человека человеком. И здесь это было особенно заметно.
Шестивесельная малая лодья чуть покачивалась в неспешных водах Дуная, задевая правым бортом отлогий поросший травой берег. Легкая речная волна ударяла в деревянный бок лодьи, рассыпались, гасла. Далеко за рекой, по левую руку, почти у самой кромки горизонта, плыли в клочьях утреннего тумана зубчатые стезии Доростола.
Полдня и ночь прошли с того времени как русичи покинули крепость, перебралась на левый берег Дуная. Неделя миновала после отшумевшей кровавой последней битвы у стен города. Болгарские отряды, не смирившиеся с волей византийцев, были здесь же, на широких свободных луговинах левого берега. Черными холмами стояли их шатры по зеленому полю, малыми островками посреди огромного русского лагеря.
Солнце, выдубившее на пару с ветром кожу на лицах русичей, покрывшее ее чернотой загара, выбелило их волосы, бороды, одежды – оттого казалось, что и поле бело, будто пал первый, еще нестойкий и местами уже сошедший снег. И не могли пересилить этого царства белизны ни черные шатры болгар, ни красные стяги, ни сочная, потемневшая за лето трава, ни сумрачный блеск железа.
Туман рассеивался, и уже начинал отчетливо проглядывать своей чернотой противоположный берег – лишенный зелени, пустынный, чужой.
С четырьмя товарищами по десятку, всеми, кто уцелел из него после сечи, стоял Вех у лодьи. Сам Радомысл, еще не оправившийся от ран, сидел неподалеку, на пригорке, поглядывал в их сторону, махал рукой. Было заметно, что он завидует и готов забыть про свою немощь, лишь бы встать рядом. Но раны напоминали о себе – время от времени лицо Радомысла искажалось гримасой боли, и он опускал его, прятал, не желая вызывать жалость даже у друзей.
– Вы там покруче, спуску не давайте! – крикнул он.
– Без тебя пропадем! – полушутливо откликнулся Вех.
Вчера воевода Свенельд, старый, поседевший в боях воин, бывший в прежние времена правой рукой отца Святослава, князя Игоря, а теперь не отлучавшийся от сына, поручил Веху подготовить лодью и сопровождать князя. Личной охраны Святослав не имел – любой из поредевшего, но все же несокрушенного русского войска готов был взять эту роль на себя – помочь князю в нужную минуту, оберечь, прикрыть собой.
С вечера Вех и его сотоварищи подлатали, приготовили доспехи, проверили оружие – кто мог знать: что им сулила встреча с Цимисхием, не раз забывавшим о своей чести, не чистым на руку царедворцем, ложью и силой проложившим себе путь к императорскому трону?
Святослав появился, когда туман рассеялся без следа. Переговариваясь на ходу с не отстающим ни на шаг Свенельдом, он подошел к воде, заглянул в лодью, кивнул одобрительно головой. После этого снял шлем и вложил его в руки воеводе. Красное корзно соскользнуло с его плеч на траву. Кольчуги под плащом не было. Отстегивая меч и передавая его вместе с поясом Свенельду, Святослав сказал, обращаясь к Веху:
– Негоже о мире говорить в ратном. Пусть видят ромеи, что без дурных помыслов идем к ним.
Волей-неволей всем пришлось последовать примеру князя – оружие должно было остаться здесь, на левом берегу Дуная.
– И-эх, зря вы это! – подосадовал издалека Радомысл.
Птицами взлетели вверх лопасти весел, дружно ударили о воду: теперь только она отделяла русичей от неизвестного. Ударялись о нос лодьи волны, разбегались по обе стороны ее деревянного тела. Грубая холстина не могла скрыть мышц, перебегающих волнами по плечам и рукам Святослава – гребли все, греб вместе со всеми и он – приближая миг встречи.
Начались переговоры шесть дней назад. Через день после битвы прибыло в Доростол ромейское посольство во главе, со священником Феофилом – Византийская империя просила мира. Долго сидел совет: послов слушая, думу думая.
С ответным визитом ходили на следующий день посланники русские во вражеский лагерь. Не было сил у ромеев сбросить «варваров» в Дунай, не было сил и у русичей разжать кольцо осады, отбить легионы и вновь прибывшие свежие полки из далекой Сирии – перемирие было необходимо. Для начала сошлись иа том, что позволят ромеи славянам с честью похоронить своих павших воинов, справить тризны на их пепелищах, насыпать курганы. В ответ же русские должны отойти на левый берег реки, и после того встреча князя с императором определит условия мира.
Отгорели погребальные костры, успокоилась вода, взбаламученная тысячами тел, пришло время последних слов.
Солнце вздымалось по небосводу вверх, брызги искрились в его лучах. Берег приближался.
Неожиданно в глазах у Веха зарябило до боли – это вынырнула из-за холма императорская свита в начищенных до зеркального блеска шлемах. Когда пыль, поднятая сотнями копыт улеглась, он увидел и самого Цимисхия. Тот был на белом коне, в пышном пурпурном облачении, расшитом драгоценными каменьями и надетом поверх золоченого с хитросплетенной чеканкой панциря. Свита выстроилась по правую и левую руки базилевса. За его спиной словно ряды частокола с железными набалдашниками стояла тысяча «бессмертных» – личная охрана Иоанна I Цимисхия.
– Правей бери, – негромко проговорил Святослав, не замечая пестрой суеты на берегу.
Лодья послушно скользнула вправо, туда, где прибрежный холм незаметно сходил на нет и пологий берег стлался почти вровень с темной поверхностью воды. Когда до отмели оставалось расстояние вдвое меньшее полета стрелы, Святослав приказал остановиться. Легкий речной ветерок чуть шевелил длинную, свисающую к уху прядь волос на его выбритой голове.
Лодья стояла так еще некоторое время, пока справившийся с замешательством Цимисхий не отдал распоряжения спуститься с холма. Свита засуетилась, не поспевая за своим хозяином, растянулась по берегу. Лишь «бессмертные», не выказывая ни удивления, ни растерянности, четко и слаженно передвинулись на сотню саженей правее, замерли.
Русичи вновь взялись за весла, расстояние сократилось вдвое.
– Я, Святослав, князь Киевский и всех земель русских, приветствую тебя базилевс Иоанн! – выкрикнул князь не вставая.
По мясистому лицу императора, заросшему до глаз черной-курчавой бородой, волной пробежало недоумение. Он внимательно вглядывался приплывшим в лица, стараясь пересилить охватившее его раздражение и определить: кто же сейчас обратился к нему?
Над головами свиты прокатился ропот, но Цимисхий взмахом руки пресек его. Опыт старого придворного подсказал ему – кто есть кто, и он заговорил, глядя на Святослава:
– И я рад приветствовать тебя, князь!
Толмач переводил не спеша, вдумываясь в каждое слово.
– Ты хорошо воевал, князь! – продолжил Цимисхий. – Я счастлив, что вижу прославленного воителя?
– Я тоже искал с тобой встречи, базилевс! – отозвался Святослав и добавил тише: – Только раньше, из поля боя.
Вех переглянулся с гребцами, сдерживая неуместную сейчас улыбку.
– Я всегда желал быть твоим другом, Святослав. – Цимисхий снял шлем и держал его теперь в левой руке, согнутой в локте на уровне груди. – Твой отец заключил договор много лет назад, и мы ЖИЛИ в мире…
– При отце Болгария была свободной, – ответил князь, – с тех пор много воды утекло, но я тоже хочу мира!
Свита императора оживилась, и Цимисхий окинул ее победоносным взглядом.
– Ты получишь его! Пусть все остается по-прежнему. Пусть купцы русские торгуют в Константинополе. Я велю не обижать их, принимать как лучших гостей. Пусть твой враг будет моим врагом; а мой – твоим! Разве не так поступали наши отцы и деды – и они иногда воевали друг с другом, но они всегда находили общий язык!
– Но ты хочешь, чтобы мы ушли навсегда из Болгарии, а твое войско осталось здесь?
– Да, князь! – Цимисхий налился краской. – Что тебе Болгария? Обширность твоих владений сравниться может лишь с империей, вверенной мне Богом. Кто может потягаться с нами? Так неужели же мы не поделим этот мир, так чтобы обоим вдосталь места хватило?! Поделим! Но я хочу, чтобы ты не разорял и колоний наших в Таврии. Я о Херсонесе, князь, и прочих.
– Коли не будет от таврских колоний раззору землям Тмутараканского княжества – быть посему! Но с Болгарией, базилевс, не спеши – братьев по крови, землю свободную отдать тебе – не много ли?
– Подумай, княже. Империя вновь станет ежегодно посылать тебе богатые дары, как было то прежде. А сейчас мы разрешаем тебе взять с собою всю добычу и весь полон. Более того, я прикажу выдать еды твоему войску столько, что хватит до самого Киева – хлеба дам по две меры на воина. Пошлю гонцов к порогам днепровским, и твой путь назад будет свободен от печенегов. Это почетный мир!
Цимисхий остановился, чтобы перевести дух. Весь его вид говорил о торжестве – собственное кажущееся всесилие наполняло его сердце чванливой гордостью, щеки были раздуты, маслины темных глаз поблескивали.
– Ты так и не ответил мне, базилевс, – Святослав сложил руки на груди и смотрел прямо в глаза Цимисхию.
– О чем ты? – деланно удивился тот.
– О Болгарии! Я готов уйти, но и ты должен оставить эту землю.
– Не спеши, князь. Ты знаешь, что творится в стране: банды мятежников подрывают устои власти свыше данной. Ты сам государь и должен понять меня. Но я клянусь именем Христовым, что на болгарском престоле в Преславе будет сидеть болгарский царь.
Иоанн размашисто, задрав глаза к нему, перекрестился.
– Я клянусь, базилевс. Клянусь Перуном – если ты выполнишь свои обещания, нога русского воина не ступит во владенья твои.
– Я знал, что мы договоримся, князь! Сегодня же до полудня мои люди привезут тебе обоюдные грамоты для скрепления слов печатью. До поможет нам Бог в праведном деле нашем!
Сердце отказывалось понимать услышанное. Вех съежился. Неужели так и уйдут они из Болгарии? После стольких боев, побед и потерь? После того, как доказали свою несокрушимость? Все сидящие в лодье русичи с недоумением смотрели на Святослава. Но он был совершенно спокоен. «Неужели он верит этим обещаниям? – подумалось Веху. – Нет, этого быть не могло! Так что же?» – Хорошо, базилевс. Пусть грамоты будут составлены на двух языках: ромейском и русском. И пока ты будешь блюсти свою клятву, буду верен своей и я!
Святослав дал знак поворачивать лодью и сам первым взялся за весла. Солнечным зайчиком сверкнула серьга в его ухе и погасла. Он низко нагнул голову, бугры мышц вздулись, напряглись в усилии, словно желая с места придать лодье быстрый бег.
Тихо прошептал Святослав сквозь густые темно-русые усы:
– Не получилось мира – всего лишь перемирие. Но нам надо уйти сейчас, чтобы вернуться позже. Мира не будет!
И он был прав – во время переговоров Вех читал в глазах Цимисхия то же самое – мира не будет!
Вех встретился со Снежаной а священной роще. Она отстояла на две стадии ст Доростола и сбегала редкими деревцами да кустарничком к Дунаю. Лучше места для их последней встречи и нельзя было придумать.
А то, что встреча последняя, знали оба.
Она ждала его у огромного дуба, расщепленного молнией. Этому дубу было не меньше тысячи лет. И последние шестьсот возле него приносили священные жертвы Перуну. Дуб так и назывался – Перунов. В его стволе на высоте трех метров было вырезано насупленное, сердитое лицо грозного бога. А под ним, на земле, стоял жертвенный камень.
Сейчас возле дуба была тихо. Но Вех не сразу увидал Снежану. Она выскользнула из-за ствола, бросилась было к нему… и вдруг замерла, опустила руки. Улыбка на ее лице погасла.
– Что с тобой, любимая? – спросил Вех издалека.
Ока повернулась к нему спиной, заплакала. Да, она была совсем девчонкой, она не умела сдерживать своих чувств.
– Ну что ты, милая, – успокаивал ее Вех. – Не печалься, Снежка. Так надо, угодно богам… – Он замялся, потому что славяне не признавали власти богов и судьбы над собой, они могли согласиться лишь с тем, что боги иногда вмешиваются в их дела, лучше не злить богов. Но она-то была христианкой. И потому Вех добавил: – Так угодно твоему Христу, ты ведь сама говорила, что без его воли ни единый волос не упадет с головы человека, верно?!
И сна как-то сразу смирилась.
– Да, он всемогущ, – проговорила она задумчиво, утыкаясь носом в его плечо, – он все ведает и все знает. Ты прав, наверное. Это его воля, мы слишком малы, чтобы противиться ей.
Вех поцеловал ее. Ох, как ему не хотелось расставаться с этой девочкой! Рядом с ней он начинал ощущать себя совсем молодым, пареньком безусым, безмятежным, счастливым. Он забывал все горе, через которое прошел, все походы и раны, лютое остервенение сердца и тоску степных ночей, походных становищ – будто и не было всего этого, будто он юношей заснул на крутом берегу Днепра, а проснулся тут, у Дуная, рядом с ней.
– Присядем, – предложил он.
– Нет!
Она дернула его за рукав. Но он не сдвинулся с места.
Он ничего не понимал: что она задумала, почему она его пытается увлечь куда-то, от этого славного дуба, от его покровителя и защитника, с которым ничего не страшно даже здесь, на ромейской земле… Он поймал себя на мысли: да, теперь это была не болгарская, теперь это была ромейская земля!
– Пойдем! – Она дернула сильнее.
И он устремился за ней. Она почти бежала, не выпуская рукава его рубахи из своей руки. И ничего не говорила, лишь дышала тяжело и прерывисто. Остановились они среди кустов, у самой воды. И Снежана заглянула ему в глаза.
– Все, что было с нами – это грех! – сказала она проникновенно, с истовой верой. – Большой грех! Но Дунай выше всех грехов, он выше всего… кроме Всевышнего, его струи очистят нас от всего недоброго, ока смоют с нас грязь, все дурное и лишнее. И мы выйдем из его вод очищенными, прощенными. Да, это так, Вех, это правда! Пойдем!
И он все понял. Он неторопливо разделся. Но сначала он оглядел все вокруг, не таится ли где враг, не грозит ли невидимая опасность… Кусты скрывали их от глаз любопытных и недоброжелателей. Да и все же мир заключен был. Вех снял меч с пояса, положил его на траву.
– Это будет последним всплеском нашего счастья, – сказала Снежана. – Ты ведь еще любишь меня?
– Да, – ответил Вех, – и всегда буду любить.
Она бросила смятое платье на меч, прижала руки к груди. И сказала с болью в голосе:
– Нет, Вех, не надо всегда! Забудь про меня, забудь сразу, как мы только расстанемся. Я хочу, чтобы память твоя омылась в водах Дуная, чтобы ты забыл про меня, чтоб тебя не мучили сотом воспоминания. Ладно?
Он не ответил.
– Бери же меня, – прошептала она. И опустила веки.
Вех поднял ее на руки – обнаженную; стройную, нежно прильнувшую к. нему. И пошел к воде.
Та была невероятно чиста, ее прозрачность даже отпугивала, казалось, это не вода, а само опрокинутое небо принимает их в свое лоно. Вех сделал первый шаг – он почти не ощутил прохлады, шаловливые струйки еле коснулись кожи. И Вех пошел дальше. Он видел все – чуть покачивающиеся зеленые мохнатые водоросли, стайки полупрозрачных суетливых мальков, крупную гальку и искрящийся мелкий, почти белый песок, по которому волнами гуляли светлые блики.
– Как там хорошо, – простонала Снежана.
И Вех испугался – не решила ли она остаться в глубинах Дуная, среди этих рыбок и бликов, навсегда! Ведь она совсем девочка, для нее расставание несравненно тягостнее, горше, чем для него, для нее это первая любовь, самая сильная и самая печальная. От прилива нежной и острой боли он прижал ее к себе. И она пеняла его мысли, улыбнулась.
– Нет, – прошептала она, еле шевеля губами, – не бойся за меня, я никогда не пойду на это – Иисус не разрешает нам самовольно уходить из жизни. Да, какие бы ни выпали невзгоды на долю смертного, его удел терпеть и благодарить Бога, за то благодарить, что не самое худшее ему ниспослал, ведь всегда есть что-то худшее, верно?!
– Не знаю, – ответил Вех. Но тут же поправился: – Все будет хорошо, Снежка. Может, ты передумала? Может, ты пойдешь с нами?
– Нет! – ответила она.
И по ее ответу, по ее решимости Вех понял, она останется, уговоры бесполезны. Да и какие там уговоры, они давно все решили.
Он зашел еще глубже, по грудь. Опустил ее в воду. И она вздрогнула, то ли от холода, то ли еще от чего, и прижалась к нему.
– Дунай нас очистит, – прошептала она. Уперлась руками в его бугристые плечи с двумя поперечными шрамами на левом – следами хазарского меча. Уперлась, поднялась выше, сдавила его бедра ногами. И чуть отстранилась – ее груди всплыли двумя шарами, коснулись его груди. Губы Снежаны раскрылись, томно, в ожидании поцелуя, а веки, наоборот, опустились, почти прикрыв глаза. Она была невесома в прозрачной и теплой воде. И Веху она показалась воистину неземным созданием, не для него предназначенным. Не для него, и не для прочих смертных, а для того незримого и далекого, которого она любила больше, сильнее, чем живущих на земле.
– Мне хорошо с тобой, – сказала она, – хорошо, как никогда раньше не бывало, это просто блаженство, чудо. Это Он нам даровал чудо! Понимаешь, Он! Значит, Он нас простил, значит, мы не грешники больше, мы Его дети, Его агнцы! Он с нами!
Вех улыбнулся ей, поцеловал поочередно в каждую грудь, покоящуюся на воде. И прижался к ней.
– Ты богохульствуешь, – произнес он полушутя, ведь он знал от священнослужителей грозного и милостивого Бога, пытавшихся обратить в свою веру многих из русских воев, что у них не принято путать Бога в дела плоти. – Ты сама язычница!
Снежана не поняла его шутки. Она ответила страстно, нетерпимо, с истовостью:
– Нет! Если Бог с кем-то, то он всегда с ним! Всегда и во всем!
– Хорошо! Хорошо! – согласился Вех. – Ты права! Наша любовь освящена богами. Там, у Перунова дуба, ее благословил мой бог, а здесь, в Дунае, твой!
– Молчи! – Она приложила маленький нежный пальчик к его губам. – Молчи! Ты ничего не понимаешь, но раз мой Бог с нами, значит, Он и с каждым из нас в отдельности, значит, Он и с тобой, Он тебя простил… и Он будет ждать тебя. Ты придешь к Нему! И весь ваш народ придет к Нему!
Вех целовал ее шею, щеки, глаза. Она была не только невесомой в этой изумительно чистой воде, но и холодной, такой холодной, какой никогда не бывала до того. Ее холодили воды Дуная, ее холодило и нечто иное, недоступное ему. Но в холодности была непонятная, неведомая сила, притягательность. Да, только сейчас, в минуты расставания, Снежка открылась ему другой своей стороной, необычной, нежданной. И он ничего не мог поделать! Он должен был оставить ее, уйти с войском! Он не хотел быть предателем, трусом! А ведь останься он, именно таковым его бы сочли, или того хуже, сказали бы, что променял свою воинскую и мужскую честь на бабью юбку! Как это все глупо, как ненужно!
– Я буду помнить эти мгновения всегда! – сказал он Снежане. – Никакие воды, какими бы они ни были прозрачными и чистыми, снимающими грехи и воспоминания, не заставят меня забыть тебя! Снежка, милая, если у меня когда-нибудь родится дочь, я назову ее твоим именем!
– Нет! Не хочу! – ответила она резко. – Ты будешь смотреть на нее, а вспоминать меня, все будет путаться в твоей голове. Нет! Не называй! Я знаю, ты относишься ко мне и всегда относился как к взбалмошной девчонке, как к ребенку! Ты и любил то меня как-то по-отцовски скорее, ты нянчился со мною, все прощал, носил на руках, щадил… А я хотела грубой мужской руки, хотела сама оберегать тебя, как вначале, помнишь, у стены, хотела, чтобы ты оттолкнул меня… но не совсем, чтоб ты снова потом взглянул на меня, да, я всего это хотела, но не решалась сказать. Не называй! Пусть у тебя в жизни будет одна только Снежка – одна-единственная!
Вех прижал ее к себе еще сильнее. Они словно и не стояли в водах Дуная, а плыли по ним, разрезая их своими телами. И воды были бесконечны, животворны, оплодотворяющи. Вех не удивился бы, если б он узнал потом, через положенное время, что Снежана ждет ребенка, и он бы посчитал даже не себя отцом этого дитяти, а в первую очередь его, седого и могучего старца, Дуная-батюшку, невидимого бога водных струй… Ах, как сладостно было в этих струях. Вех упирался ногами в ласковое песчаное дно. Ему не приходилось прикладывать усилий, он лишь чуть напрягал мышцы ног, расслаблял, еле заметно, ритмично – и они оба покачивались, будто и в самом деле плыли. Легонькая рябь разбегалась от них во все стороны, шарахались стайки мальков и мелких рыбешек, извивались, касаясь икр и бедер, мохнатые ласковые водоросли.
И Вех понял вдруг: она права, эта река и есть та огромная купель, в которой они смоют с себя все ненужное и недужное, в которой очистятся для предстоящей новой жизни. Да, они расстанутся чистыми, они не будут томиться досадою н ревностью, злобой и негодованием, все смоет Дунай-батюшка. Они выйдут из него рожденными для другого. И расстанутся с легкими сердцами, сохраняя нежную память друг о друге, о своей любви, о всем что происходило с ними в эти три таких страшных кровавых месяца.
А когда Снежка ослабила свои объятия, опустилась стопами на песок, прильнула к нему с благодарным поцелуем, Вех погладил ее по волосам, совершенно сухим, пахнущим дурманящими травами. И почувствовал ее своей дочерью слабой, нежной, маленькой девочкой, которую нужно оберегать и защищать. Она была права! У него выкатилась слезинка из глаза. И упала на ее голову, но не пропала, не затерялась в волосах, а зависла на них прозрачным шариком, росинкой. И в этот миг она отстранилась от него. Сказала тихо:
– Нет, я не дочь твоя. Я твоя любимая, я жена твоя. Ты уйдешь отсюда – далеко-далеко, на север, к своей Любаве. И пускай, уходи! Со мной останется мой маленький Вех! Он уже со мной… Видишь, как в жизни бывает! Мне нечего дать тебе кроме какой-нибудь пустой побрякушки, какой-нибудь безделицы! А ты меня одарил так, что вовек подарок твой со мною пребудет. Спасибо, любимый, ах, как это дивно – один Вех уходит, а другой Вех остается. Остается со мной, навсегда!
Они простояли молча, прижавшись друг к другу, еще долго. Вех даже почувствовал, что Снежка начинает дрожать, что ей становится холодно в этих скользящих, обтекающих их струях. Но он не мог разжать объятий, не мог решиться на это последнее движение, разлучающее и вместе с тем освобождающее.
Он спросил ее неожиданно, будто очнувшись от долгого сна и пропустив все то время, бесконечное время, пока этот сон длился:
– А если у тебя родится дочь?
Она ответила сразу, будто ждала такого вопроса:
– Я назову ее Любавой.
Вех вздрогнул, ему стало не по себе, точно и он внезапно ощутил холод струящихся вод.
– Но почему?!
Снежана положила ему голову на грудь. И Он услышал ее ответ не ушами, а сердцем:
– Потому что где бы и когда бы ты ни был со мною, что бы мы ни делали, как бы ты ни смотрел на меня, милый, ты всегда думал о ней!
– Сурков, на работу выходи! – раздалось из-за двери.
– Леха встрепенулся, протер руками слипающиеся глаза. Выводящий звякнул ключами, послышался скрежет металла.
Дверь распахнулась.
«Вспомнили, – оживился Леха, – хоть какое-никакое развлечение, а то вообще с ума спятишь!» Он еще раз пристально всмотрелся в лицо выводящего. Парень как парень!
Пересчитав крутые ступеньки, ведущие из подвала, поднялись наверх. От свежего воздуха у Суркова закружилась голова. Окружающее бросилось в глаза своей необычностью, яркостью. На секунду Леха потерял ориентацию в этом повседневном для прочих, но праздничном для него мире. «Надо было специально попасть сюда, на губу хренову, чтоб цену свободе узнать!» Он не мог надышаться обступившим его простором.
Шля гуськом: впереди Сурков, по-прежнему без ремня, без пилотки, с заведенными за спину руками, позади выводящий с автоматом на плече.
– А что за работа? – спросил Леха, не оборачиваясь.
– Разговаривать запрещено, – строго заметил выводящий, помолчав, добавил:
– Вот придем, узнаешь. А бежать надумаешь, я тебя шлепну с ходу, понял?!
– Дурак ты! – буркнул Леха.
Работы Сурков не боялся, привык к ней на гражданке.
Время от времени выводящий направлял: «налево, направо, прямо». Когда прошли уже достаточно много, Сурков понял – его ведут к контрольно-пропускному пункту. Оставалось метров сто пятьдесят, не больше.
Но то, что случилось дальше, выбило Леху из колеи: ворота КПП распахнулись, и он увидел… Рота, его рога входила в них. Наверное, она возвращалась после тактики или с марш-броска – Сурков не знал, но в эту минуту ему захотелось провалиться сквозь землю. Он даже приостановился, но не тут-то было, выводящий подтолкнул рукой вперед.
Рота приближалась. Чем меньше оставалось расстояния между ней и конвоем, тем ниже опускал Сурков голову.
Он чувствовал, как побагровели уши, но ничего не мог с ними поделать. «Да что я, в самом деле! – ругал себя Леха. – Да был бы на моем месте любой другой, да тот же Борька Черецкий, разве так бы себя вел? Прошел бы играючи, нос кверху». Самобичевание не помогало – Леха знал, что сейчас все глаза, глаза его друзей, и просто товарищей, и тех, с кем отношений наладить так и не удалось, короче, глаза всей роты были устремлены на него, но встретиться с ними боялся…
– Чего сомлел-то? – ехидно спросил выводящий. – С похмелюги мучаешься?
– Рота, запевай!
От резкой команды Сурков вздрогнул.
Теперь, когда все три взвода прошли мимо, он слегка обернулся, но увидел одни затылки. С придорожного дерева, перепуганная ревом сотни молодых глоток, сорвалась сорока.
– Солдат всегда здоров! – вытягивал запевала, не жалея легких. Остальные подхватывали лихо, с присвистом, по-молодецки:
Солдат на все готов!
И пыль, как из ковров,
Мы выбиваем из дорог!
Леха невероятно остро ощутил свое одиночество, аж сердце в груди сжалось в комок. Рота прошла мимо. А он? Он прошел мимо роты, не нашел в себе мужества даже взглянуть в глаза ребятам.
– Живей, живей! – подстегнул выводящий. – Совсем заснул на ходу, алкаш. Теперь налево! А ну, прибавь ходу!
– Заткнись, жандармская рожа! – тихо, сквозь зубы процедил Леха.
Он увидел стоящую невдалеке машину, потрепанный грузовик. В кузове грузовика поблескивал иссиня-черный, в брикетах, уголь.
– Твоя везуха – один ты проштрафился в части – проговорил выводящий, – вот и придется одному пыхтеть!
– Ничего, справимся.
– Ну-ну! – выводящий остановился. – Лопата в кузове. Давай искупай грехи.
Сурков, сбросив с себя гимнастерку и майку, полез наверх.
Из кабины грузовика высунулась голова водителя.
– Шустрей! Мне еще пару заходов надо сделать.
– Вот вылези да шустри! – отозвался Леха. – Погоняла выискался! С меня одного жандарма хватит!
– Поговори еще! – озлился выводящий.
Брикеты зашуршали, загремели, поблескивая своими антрацитовыми боками, дружно посыпались вниз. Выводящий отошел подальше. Водитель тоже вылез из своей кабины, отбежал к маленькому холмику на обочине, присел, закурил.
Через полчаса, когда Суркова вполне можно было принять за негра – столько черной угольной пыли въелось в его кожу и на лице, и на теле, когда кузов опустел больше чем наполовину, на дороге, ведущей из казарм, показался Слепнев. Он еще издали замахал рукой.
– Помощь не нужна. Сурок?!
Выводящий насторожился. Леха помалкивал.
– Ты чего – язык проглотил? – Слепнев подошел совсем близко.
– Стой!
– До брось ты, Толик! – искрение удивился Слепнев – с выводящим он был знаком.
– Стой, кому говорю! – Толик не шутил.
– Ладно, ладно, обурел совсем! Служака! – Слепнев отошел метра на два. – Леха, не отчаивайся! И за решеткой жить можно! Я тебе передачи носить буду, ха-ха!
– А ну прекратить разговоры! – заорал выводящий. – Вали отсюда!
– Все, все, – примиряющим тоном произнес Слепнев, отошел еще дальше, сунул руку в оттопыривающийся карман. – Лови!
Что-то блеснуло в воздухе. Сурков машинально вытянул руку, и… в ней оказалось большое красное яблоко. Слепнев опрометью бросился по дороге назад, на ходу махая рукой.
Леха сунул яблоко в карман, виновато поглядел на выводящего – тот укоризненно качал головой, но молчал. И он не знал, разумеется, о чем сейчас думал его подопечный арестант и думал ли он вообще о чем-нибудь.
А Леха думал. Да еще как! Красный бочок яблока с розоватыми переливами ударил по глазам, всколыхнул память. И Леха уже не видел ни выводящего, ни пыльной дороги, ничего… Перед его мысленным взором стояла чарующе привлекательная девушка, совсем крохотная, почти ребенок. И были на той девушке лишь розовенькие ажурные чулочки да розовый бант в черных волосах.
Коридор в караульном помещении был длинный. Несколько дверей вели: к начальнику караула, в общее помещение, в сушилку, в столовую… По стенам в пирамидах стояли автоматы. Много ячеек пустовало.
Славка Хлебников застыл в самом начале коридора со шваброй в руках. У ног его в зеленом ведре чуть покачивалась, отражая в себе тусклый свет лампочки, вода. Подсумок с тремя обоймами, как их называли здесь – рожками, Славка передвинул назад, за спину, чтобы не мешался. Пилотка под ремнем, так было удобнее – не надо ее каждую минуту сдвигать на затылок. Работать приходилось в наклон. Служба такая: ты и на посту с автоматом стой, ты и полы в караулке мой.
От двухчасового стояния на посту ныло плечо. Потирая его, Славка думал: «За два года мозоль нарастет!» Работа предстояла неблагодарная, как считали поначалу, не мужская. Но хочешь не хочешь, а мыть придется! Хлебников опустил швабру в воду.
Новиков уже дважды выглядывал из-за двери, все-то он контролирует! Не доверяет, что ли? Славка отставил швабру и неторопливо, аккуратно засучил рукава гимнастерки по локоть. «Теперь можно, пошел! Только успевай тряпку отжимать!» Швабра летала от одной стены к другой. Капля пота, стекающие со лба, смешивались с разлитой по полу водой. Подсумок назойливо стремился занять свое прежнее место, приходилось вновь и вновь сдвигать его назад – снимать не разрешалось: а вдруг нападение на караульное помещение?! Невероятно, но устав есть устав, куда от него денешься! Несколько раз Славка бегал в умывалку воду менять. Коридор казался бесконечным. Одно было хорошо – никто не мешался под ногами.
Через полчаса дело было сделано. Славка последний раз отжал тряпку, старательно разложил ее перед входом, чтобы вытирали ноги. Ведро и швабра заняли свое законное место в бытовке.
Из-за двери появилась голова Новикова.
– Годится! – сказал он. – Можете отдыхать, Хлебников.
Во дворе защелкали затворами, пришла смена с постов.
Славка встал у дверей, закурил. Улыбки на его лице не было. «Сейчас вся эта орава в минуту уничтожит плоды труда моего!» – подумалось ему с неотвратимой грустью.
Ребята приближались к входу в караульное помещение. Впереди шел Ребров, за ним Борька Черецкий, Леха, Мишка Слепнев и все остальные.
– Вытирайте ноги получше! – выкрикнул, не надеясь на успех, Славка.
Ребров старательно затоптался на разложенной тряпке, сбивая ее в комок.
– Ну ты чего застрял?! – возмутился Слепнев. – Освободи-ка проход!
– А в лоб не хочешь?!
Задние поднажали и протолкнули Сергея в караулку как пробку внутрь бутылки.
– Куда прете? Ноги вытирайте? – не вытерпел Славка.
– Ша! – пробасил Слепнев. – Спокуха, поломойка ты наша!
Прямо на глазах вся наведенная им чистота исчезла бесследно: с сапог обсыпались комья глины, липкие листья ночью шел дождь. Славкин голос потонул в гуле. Еще бы, после двух часов вынужденного молчания все старались наговориться всласть. Им было не до Славки и его хозяйственных забот. Сергей прихлопнул по плечу:
– Ну ты молоток! Один и такую чистотищу навел!
Сейчас это прозвучало как издевательство – в коридоре была грязь, дальше некуда. Ответ застрял у Славки в горле. А пришедшие разносили сор по комнатам. На шум выбежал Новиков.
– А ну, на улицу сапоги чистить! – погнал он всех. Ребята неохотно поплелись к дверям.
– Самого-то на пост не загонишь – проворчал Слепнев под нос. – Постоял бы с наше!
Новиков уставился на Славку.
– Придется еще разок попотеть! – сказал он и захлопнул дверь.
Не было печали! Славка в сердцах поддел ногой валяющуюся посреди коридора тряпку. Та покорно взлетела к потолку, разбрызгивая по стенам черные капли. «Так-с, и ты туда же! Никакого просвета!» Он опять засучил рукава, сдвинул за спину подсумок и пошел в бытовку, где его поджидали старые знакомые здоровенная деревянная швабра и ведро с двумя выведенными масляной краской буквами: КП – караульное помещение.
«Привет, Серега!
Пишу тебе от полнейшей безысходности и глубочайшей печали, так что не обессудь! Дела мои швах! Сессию я даже не сдавал, не допустили. Надежда на поддержку предков лопнула. На днях прилетел пахан – все разузнал, осерчал до посинения, говорит: „Крутись сам, как знаешь! А на меня не рассчитывай, тунеядец!“ Ему тут напели: и соседи, и знакомые – все выложили, паразиты! Так что теперича можно прямо и смело сказать, что насчет губы не такой уж и пустой треп был. Отчислить меня, конечно, до будущей сессии хрен удастся, но мне от этого не легче – рано или поздно вышвырнут! А тогда одна надежда на тебя (ха-ха!). Короче, если не осенью, так уж будущей весной точно забреют. Пропади все пропадом тогда, сдохну я на казенной каше!
Матери твоей лекарство достал через отца, какое она просила. Но это все не главное, пишу тебе по другой причине. Любовь твоя экзамены тоже не сдавала, я ее в институте и не встречал. Раз видел на улице, дня три назад – не узнал: потухшая она какая-то стала, идет ничего не замечает, растрепанная. А ведь как за собой следила-то, а? В общем, что-то здесь не ладно. Меня аж совесть грызть начинает, – может, переиграл где? Палку перегнул? Но мне к ней подкатывать – бесполезняк. Приезжай сам! Вот такие дела. Гляди не опоздай!
Твои друг Мих. Ан. Квасцов
7.07.199… г.».
Сергей перечитал Мишкино письмо, сунул его в карман. Отвечать он не собирался, но что-то в этом послании поразило его. Может быть, непривычный для Мишки тон? Сергей не мог понять.
В сушилке было тепло, жар добирался до костей. От промокших в утренней росе сапог несло кисловатой кожей.
Над головами висел сизый табачный дым.
Сергей не вслушивался а разговор, сидел, помалкивал. Сурков, так здорово навредивший ему, сидел рядышком.
Он, казалось, и позабыл про свой поступок, про губу, а о том, что подвел Реброва и не подозревал. Упрекать Леху Сергей считал пустым занятием, да и что толку после драки кулаками махать.
До следующего воскресенья оставалось пять дней. «Как-нибудь дотерплю!» – решил он. Терпелось плохо.
– А ты чего заснул, служивый?! – обратил внимание на молчащего Слепнев.
– Да пошел ты! – отрезал тот.
– Не ласковый какой-то, – поддержал Мишку Черецкий.
– Сейчас приласкаю! – Сергей в шутку показал кулак.
Он понял, что многие обращают внимание на его угрюмость, чувствуют, что это неспроста. «Нет, вида показывать нельзя, – подумал он, – а то вообще заклюют».
Он встал, вышел из сушилки, надев вместо сапог тапочки на деревянной подошве. С сочувствием посмотрел на возящегося со шваброй Славку, но помощи не предложил, бочком, по краю коридора побрел к выходу.
С улицы пахнуло свежестью – после сушилки показалось даже прохладно. Сергей вышел, присел на скамеечку, закурил. И опять невольно вернулся мыслями к Мишкиному письму. Тот писал неспроста, это было ясно. Что же могло случиться с Любой? Сергей не знал. Спросить Новикова, ведь он часто бывает в увольнениях, наверняка виделись они? Ну уж нет!
Когда вернулся в сушилку, Славка сидел там и о чем-то вдохновенно рассказывал. «Опять он за свое!» – подумал Сергей, стал прислушиваться.
– Любава не знала, кого выбрать, – вещал Славка. – Оба хороши! И оба далеки. Парней в посаде почти не осталось, ушли со Святославом. Были и те, что несли сторожевую службу на границах. Еще – малая дружина. Но Любава старалась не засматриваться на молодых войной. Надо было ждать. Она за обоих клала жертвы перед деревянными богами в кумирне. Ходила и к большим идолам, стоящим за городом посреди площади, с восемью полукруглыми рвами. Смотрела в вечно горящий священный огонь, бросала в него горсть пшеницы, лила вино. Перун, Велес, Даждьбог, Стрибог и богиня Макошь должны были помочь воинам.
Но Любава понимала, что боги богами, а жизнь тех, кого она ожидает, в их собственных руках…
– Язычниками были, стало быть? – прервал Славку Сурков.
– Стало быть, так.
– Плохо, – неожиданно заключил Леха.
– Ого, – Славка оживился, – а ты что, христианин, что ли, мусульманин?
– Да нет, – засмущался Сурков, – просто язычники, идолопоклонники – чего в этом хорошего?
– Все народы, Леха, были в свое время язычниками. Не нам их судить. Это вера коренная, исконная. Она и до сих пор во многих обрядах осталась, так что не хай предков, не надо.
– Ну, а Святослав как?
– Святослав признавал старых богов. Когда его мать, христианка Ольга, предложила креститься, Святослав отказался, сказал, что над ним дружина потешаться будет.
– Надоел ты со своими бредовыми россказнями! – взорвался Сергей.
Славка изумленно посмотрел на друга.
– Зарылся в прошлое, а ничего видеть не хочешь!
– Не нравится – не слушай! – обрушился на Сергея Черенецкий.
– А ну вас всех! – сквозь зубы процедил Ребров, коротко махнул рукой, вышел.
Славкин рассказ был скомкан. Но он не опечалился.
– Переутомился, видать, Серега на посту-то! – с улыбкой сказал и вышел следом.
Сергей корил себя за вспышку и потому встретил Славку довольно-таки дружелюбно.
– Ты хотя бы имя своей героине другое придумал, сказал он нервно, – каждый раз как услышу, так прямо за живое цепляет!
– Извини, – Славка сунул руки в карманы, – не знал, что это тебе будет неприятно.
В сушилку они вернулись вместе, – Что ж ты, Серый? На службе, да еще в караулке, так волноваться вредно – тут и оружие под рукой. Сам понимаешь! – съязвил Мишка. – Закатаешь кому-нибудь пулю в лоб, что тогда?!
Хлебников посмотрел на него, и Слепнев прикусил язык. До смены оставалось десять минут.
– Караул! В ружье!
Спросонья Сергей не понял: что? где? куда бежать?
«Ни днем ни ночью покоя нет!» – промелькнуло в голове. В карауле спали одетыми: шинель под себя на топчан, пилотку под голову.
Слепнев в суете пнул своей длинной ногой прямо в щеку. Сергей с размаху шлепнул ладонью по голенищу его сапога:
– Очумел, сонная тетеря!
Выяснять отношения некогда. На ходу протирая заспанные глаза, побежали к пирамидам. Началась возня, путаница – не так просто отыскать в такой толчее свой автомат.
Тревога, конечно, учебная, но за медлительность Каленцев по голове не погладит. Из спального помещения выскочили в коридор, только грохот стоял. Выстроились в две шеренги вдоль стены. Начальник караула прохаживался вдоль строя.
– Спите как на печи в деревне, у родителей под боком, – недовольно сказал он. – Дежурный должен только «Караул!» крикнуть, и чтоб стояли здесь. Штыками! А вы? Ну да ладно, даю вводную: противник напал на караульное помещение, занять свои места!
Стараясь ни с кем не столкнуться на бегу, Сергей пробрался на свое место в бытовке, пристроился так, чтобы снаружи не было видно. Автомат – с плеча дулом вперед, рожок примкнут. Остальные разбежались кто куда, у каждого свой угол.
– Так, хорошо, – послышался голос Каленцева. – Сурков, пригнитесь немного – мишень, лучше и не придумаешь!
Караулка превратилась в подобие музея восковых фигур. Кто на корточках, у окна, как Сергей, кто лежа, спрятавшись за дверной косяк, кто стоя в укрытии, притаились.
Лишь старлей ходил взад-вперед, проверял, поправлял. Через двадцать минут «обороны» Сергей почувствовал, как затекли у него ноги. Миллионы тонюсеньких иголочек впивались в мьшщы, наполняя их болью. Он осторожно переменил положение. С тоской подумал о прерванном сне.
Не часто виделись ему такие хорошие сновидения. А всего что и виделось, будто спит у себя дома на мягкой постели, спит и знает твердо, что никто не сможет нарушить его покоя. Захочет – еще часиков восемь будет валяться под уютным верблюжьим одеялом, захочет – тут же встанет, никто не заставит застилать по ниточке постель и драить до блеска полы. Благодать! Хороший был сон!
– Отбой, – скомандовал Каленцев.
Сергей потер затекшую спину, вздохнул. Поглядел на Суркова – у того был такой вид, будто, лежа за дверным косяком, он успел придавить немного, – глаза красные, словно у кролика.
«Какой там, к черту, отдых!» Сергей поглядел на часы оставалось пятнадцать минут. «Опять на посты! Повезло тем, кто сейчас караулит. Они-то ух выспятся по-человечески, навряд ли ротный будет устраивать вторую тревогу за ночь». Он подбрел к толчкам.
– Невезуха какая-то! Под все мероприятия попадаю, – посетовал Черецхий. – Хоть не уходи с поста, мать их!
Серега кивнул, прошел мимо.
Слепнев сидел на топчане, упершись руками в колени, зажав лицо в ладонях, покачивал головой. Бессмысленный взгляд блуждал по зеленой стене спального помещения.
– Ты чего? – спросил Ребров.
– А ничего! Бессонница замучила! – злорадно, с ехидством проговорил тот и отвернулся.
«Здравствуйте, Николай!
Не удивляйтесь моему письму: пишу Вам по необходимости – надо что-то делать! С трудом разузнала Ваш адрес: ведь Люба старается держать все в тайне. Но сейчас ей это уже не удается – все написано у нее на лице. Николай, если вы любите ее, вы не должны ничего скрывать – безвыходных положений не бывает, всегда можно найти решение, даже в сложнейшем вопросе. Я убеждена, что все вы окончательно запутались. И что самое ужасное – ничего не предпринимаете. Так нельзя! С Любой творится что-то нехорошее, она чахнет день ото дня. Почему Вы никогда не показывались мне во время увольнения и встреч с ней? Ведь я же знаю, что вы часто виделись. Почему последнее время Вы вообще не приходите? Если она Вам надоела, если Вы разлюбили ее – так дайте знать об этом. Я просто не знаю, с какой стороны к ней подступиться. Ведь это невероятно тяжело и даже нелепо: видеть, как мучается, страдает близкий тебе человек, и ничего не делать, равнодушно взирать на агонию душевную.
Приходите, приходите обязательно! Я не желаю Вам зла. В моих интересах, чтобы все шло нормально. Я очень хотела бы переговорить с Вами. Да и постарайтесь наконец выяснить свои отношения с Ребровым. Ведь вы же мужчины, как не стыдно переваливать все на девичьи плечи.
Один из вас просто обязан отказаться от глупого, постыдного соперничества. Решите же между собой – кто! Я пишу Вам, потому что демобилизация Ваша близка: осень не за горами, а Ребров только-только начал, и мне не хотелось, чтобы эта неопределенность в Любиной жизни тянулась еще полтора года. Приходите, поговорим, обсудим. Как-никак, но и сестра в таком деле не последний же человек? Надо решать скорее, я не говорю о Любиной учебе, это дело десятое, даже если с институтом будет совсем плохо – не трагедия!
Я очень надеюсь да то, что вы откликнитесь на мое послание.
Смирнова Валентина Петровна июля 199… г.».
Николай не придал особого значения опасениям Валентины Петровны – сестра есть сестра, кому как не ей переживать за младшую. А с Любой все будет нормально. Если не сейчас, то к осени, стоит ему только вернуться – все утрясется. Тем более что при всем желании он просто не смог бы теперь по письму, пусть даже в нем отчаянный крик души, вырваться из части – запрет на увольнения касался и его. А с Сергеем говорить – что толку? Тому и так дано было понять, что третий лишний – именно он, Ребров, а не кто иной.
И все же Николай в силу давно выработанной привычки быть обязательным во всем, не откладывая на потом, сел за стол, написал ответ, в котором постарался успокоить Валентину Петровну, успокоить и обнадежить. Письмо вышло короткое, но в нем была уверенность, твердость. Писать Любе он не стал – воскресенье было близко, а стало быть. и встреча близка.
Радомысл ерзал на пологом твердом ложе, не мог устроиться. Его бы воля, лег бы сейчас на травушку – и удобно, и мягко. Но под сводами шатра не было травы. Землю предварительно утоптали хорошенько, потом выстлали циновками, а поверху разложили ковры. Уж лучше прямо на коврах! Но Радомысл не хотел выделяться. И он терпел, подкладывая под бока подушки, упираясь локтем, переваливаясь.
– Ну как тебе? – спросил его Бажан.
– Поглядим еще, – дипломатично ответил Радомысл.
Шатер был огромен. Ничего подобного русич никогда не видывал. Несколько десятков столбов-колонн удерживали тяжелый, расшитый серебряными нитями купол – и было до его сводов не менее десяти человеческих ростов. Когда Радомысл запрокидывал голову и смотрел вверх, Бажан его одергивал. Негоже было вести себя приглашенному на великий пир со случаю дарования победы столь дико и непристойно.
– Не верти головой-то! И глаза эдак прикрой малость, будто видал сто раз! – советовал Бажан, почесывая густую черную бороду.
Но Радомысл нет-нет да и скидывал взглядом внутреннее убранство императорского приемного шатра. Народу собралось много, ближе к центру – царские сановники и полководцы, в следующем кольце посланники и гости торговые, подальше воины, отличившиеся в сражениях, болгарские воеводы, прислуга… Всех не вместил шатер.
Но многим все же честь была оказана.
Радомысл с Бажаном возлежали во втором ряду, среди купцов. Радомысл еще не совсем окреп, раны мучили. Но для присутствия на пире не требовалось особых усилий. И он согласился, когда приятель, с которым познакомились еще в Доростоле, позвал его сюда. Правда, пришлось выдать Радомысла за свейского торгового гостя. Ну да не беда!
Наутро войско Святослава, после небольшого отдыха, должно было двинуться в родные места. Радомысл к утру думал поспеть. Да и что ему тут рассиживаться – поглядит, послушает, осушит пару-другую кубков… и к своим.
Будет что рассказать дома! Враг-то – он враг, конечно, но изнутри на него посмотреть не помешает.
Под шатром мог бы разместиться конный полк. Но был здесь у каждого свой конь – жесткое и низкое ложе. Бажан рассказал, что это идет еще со стародавних времен, от цезарей римских и что Церковь Христова борется с языческими игрищами этими, но пока ничего поделать не может – традиции сильнее. Это при Константине, как старики вспоминали, святость была. А ныне опять – содом да гоморра! Впрочем, и сам император и его ближние искупали грехи постом да молениями, Церковь им прощала, ибо и по сути своей была всепрощающей. А вообще-то в империи с подобными забавами было строго.
Ложа стояли вразнобой – одни гордыми корабликами, в одиночку, другие сомкнувшись боками так, чтобы старинные друзья могли пообщаться, не прерывая пиршества, поглядывая на арену, где что-то готовилось. Первыми заполнили шатер те, что попроще, потом стали приходить в третий ряд, во второй. Знатные вельможи из первого пришли перед самым началом. И их приход сопровождался барабанной дробью и пеньем рожков. Неторопливо разлеглись сановники и полководцы у краев арены.
Здесь все было не так, как в цирках империи, в цирках Рима, там зрители сидели на высоте, а арена была внизу.
Здесь арена возвышалась – и всем все было видно. На арене же стояли по кругу двенадцать низких тяжелых подсвечников. И торчали из них длинненькие, какие-то не сочетающиеся с массивной бронзой свечечки. И все.
– Эх, был я разок на таком вот пиру, – поделился Бажан, прикрываясь ладошкою, – только в самом Константинополе, Царьграде по-нашему, не поверишь, Мыслиша, потом год не мог отплеваться!
Но глазки у Бажана при этом так сверкнули, что Радомысл улыбнулся.
– Ты чего? – обиделся Бажан.
– Вспомнилось кое-что!
– Ты слушай, вот сижу я там, окосел уже порядком, а ничего интересного, одни бабы сменяют других, обносят напитками, кушаниями, на арене нехристи прелюбодействуют… и вдруг появляется…
В этот миг под сводами шатра появился сам базилевс.
Все поскакали с мест, закричали, загомонили, ударили в ладоши, какая-то женщина истерично визжала от избытка чувств, барабанщики зашлись в неистовых ритмах, сопельщики дули, не жалея щек, все словно с ума посходили.
Встал и Радомысл – за неуважение к императору можно было головой поплатиться.
Он разбирал отдельные выкрики, команды, даже длинные фразы понимал. За время похода и осады Радомысл выучил несколько сотен слов. Правда, сам плохо говорил. Но и его понимали. Да что, в конце концов, возьмешь со свейского купца! За него толмач дорогу наладит. А изъяснялась вся великая необъятная империя на странной смеси греческого языка и языков славянских, вплетенных и словами и целыми понятиями в основу ромейскую. Не так уж и трудно было общаться в этом столпотворении вавилонском. Тот же Бажан говорил, что еще пять-шесть веков назад со славянами и не считались почти на окраинах Восточной империи, но потом, как пошло-поехало дело вели кое, как стали оседать здесь род за родом и племя за племенем, так и изменилось многое. И еще бы – славян теперь в империи большинство. Из них и императоры бывали, не говоря уж про военачальников да сановников, философов да священнослужителей. Впору переименовывать империю из ромейской в славянскую. Да сильны традиции, куда от них денешься!
Цимисхия внесли на больших открытых носилках. И прежде чем опустить изукрашенные носилки на специально возведенный постамент у арены, двенадцать черных, сияющих лепной мускулатурой носильщиков вздели их вверх. Император встал, поднял обе руки, потряс ими. И рев стал сильнее – казалось, столбы-колонны не выдержат, свод тяжелый рухнет вниз, на приглашенных.
Но император же и утихомирил собравшихся. Он поднял два пальца, сверкнули перстни.
– Бог даровал нам победу! – сказал он. – Возблагодарим же его!
И снова все потонуло в реве.
Радомысл во все глаза рассматривал базилевса Иоанна. Совсем не таким он представлялся ему ранее. Даже отсюда, издалека, с расстояния восьми или девяти метров, Цимисхий был виден прекрасно – толстый, обрюзгший коротышка, весь покрытый густым курчавым волосом – от ног до шеи, с заплывшими глазками, черными, поблескивающими хищно, с бородищей сивого цвета, будто бы специально завитой и уложенной. И не могли украсить его внешность ни красный плащ, спадающий до основания носилок, ни золотой венец, ни цепи, ни кольца, ни прочие украшения. На боку у Цимисхия болтался короткий меч без ножен, простой, железный. Цимисхий всегда носил его, чтоб помнили – он был солдатом, потом полководцем, а потом только по воле Божьей стал базилевсом. И этот простой меч не вязался с сапфирами и изумрудами, бриллиантами и рубинами, с золотом и серебром браслетов, перстней, подвесок… Иоанн Цимисхий был единственным вооруженным в шатре, не считая, конечно, его верных телохранителей, бессмертных. Но их не было видно сейчас, они словно растворились в толпе гостей, с которых оружие сняли при входе в шатер.
– Возблагодарив Господа нашего Иисуса Христа, воздадим же дань и обычаям наших предков! – провозгласил высокий человек в белом балахоне и с длинной клюкой-жезлом. Он взобрался на арену по пологому помосту, ведущему к выходу из шатра. Ударил клюкой в пол. – Не будем загадывать далеко, узнаем, что нам пир сей готовит. Эй, введите девственниц! Вина гостям и яств!
Меж рядов лож забегали, засуетились прислужницы и прислужники, обнося всех кушаньями и напитками. Огромные блюда с фруктами и ягодами ставили на трехногих столиках в проходах – только руку протяни.
Радомысл, не дожидаясь особого приглашения, отведал кусочек рыбы, пригубил вина, потом сунул в рот маслину. Бажан тоже не заставлял себя упрашивать. Здесь не было ограничений, здесь самому надо было себя ограничивать, чтоб не пресытиться раньше времени и не пропустить самого интересного.
На арену поднялись двенадцать девушек, совсем юных, стройненьких, еле переступающих ногами, смотрящих в землю. Каждая была закутана в белое полотно с головой.
Но даже это полотно не скрывало молодости, хрупкости воздушных созданий.
Когда девушки встали в круг, каждая против подсвечника, зазвучала тихая музыка. И они разом отбросили назад свои одеяния – под сводами шатра даже как-то светлее стало от их обнаженных тел, словно внутренний свет исходил из них. Девушки закружились в плавном танце.
Радомысл глаз не мог отвести от этого великолепия.
Нет, вовсе не плоть его ликовала сейчас, но дух! Он и не знал раньше, что можно любоваться женской, девичьей красой вот так, не испытывая желания страстного насытиться ею, а благоговея и восхищаясь. Девушки ангелочками скользили по кругу, взмахивали руками, покачивали бедрами, и казалось, они вот-вот взлетят словно лебедушки.
Но кончилось все не совсем так, как ожидал Радомысл.
И ему не понравился этот конец, хотя восторженный гул прокатился меж лож. По знаку высокого с клюкой музыка смолкла, зачастила барабанная дробь, каждая девушка замерла перед подсвечником. И тут же на помост взбежали негритянки в синих набедренных повязках со свечами в руках. Огонь от одних свечей передался другим. И чернокожие красавицы исчезли.
– Гляди, чего будет-то! – толкнул Радомысла в бок Бажан.
Радомысл и так не отрывал взгляда от действа. Он еще не понимал ничего. Девушки вдруг широко, невероятно широко, расставили ноги, замерли над горящими свечами, и опять-таки, повинуясь выкрику, стали сгибать колени, опускаясь. Послышалось в тишине шипение затухающих свечей и восковые столбики стали погружаться в тела юных дев. Радомысл сам видел, как вздрагивала то одна, то другая, как стекала по свече струйка крови.
А когда девственницы все до единой распрощались со своей девственностью, приглашенные повскакали с мест, закричали, загудели… Радомыслу был непонятен их восторг. Он вообще не понимал смысла этой церемонии.
– Хорошее предзнаменование! – выкрикнул Цимисхий – и гул сразу стих. – Значит, сегодня у нас на пиру не только прольется кровь, ко и…
Все опять завопила. Раскаты хохота наполнили шатер.
– … кто-то лишится девственности! – закончил Цимисхий. Но тут же крикнул высокому: – Эй, погляди-ка, кто это там из них обманул нашу почтенную публику, кто позволил выдать себя не за ту, какая она на самом деле?!
Белый взбежал наверх, стал медленно обходить каждую из девушек. А они так и сидели в неудобных позах, широко расставив ноги, упираясь руками в массивные бронзовые подсвечники, округлив глаза или же закрыв их, напуганные шумом собравшихся.
– Двенадцать дев из разных концов света, из разных стран, – провозгласил высокий, помахивая клюкой – свято хранили свою девичью честь для нашего долгожданного празднества. И мы все можем подтвердить это, глядите! Двенадцать… нет, гости дорогие, не двенадцать! Нашлась одна, которая нас всех обманула, которая не соблюла себя! Кто же она?!
– Кто-о-о?! – завопил в едином порыве весь сонм приглашенных.
Высокий продолжил свой обход.
– Дева из Галлии чиста, дева Персии чиста, варварка Британики не запятнала себя, запятнала лишь, ха-ха, свечку… – Он обошел всех, остановился у последней, строго уставился на нее.
И все опять замерли.
Цимисхий кивнул, махнул рукой. И высокий склонился над несчастной. Он приподнял ее за плечи. Выдернул из нее чистенькую, не окрасившуюся в красное свечечку, воздел ее над головой потряс.
– Вот она! Вот обманщица и прелюбодейка, не дождавшаяся своего часа, спутавшаяся с сатаной и погрязшая в грехах, отказавшаяся принести свою девственность и чистоту империи, единственной стране, в коей Промысел Божий правит и помазанник Его. Кто же ты прелюбодейка, развратница, изменщица, потаскуха, грязная половая тряпка?! Отвечай!
Девушка побледнела, выдавила почти беззвучно:
– Я болгарка.
– Кто?! – взревел высокий.
– Болгарка! – выкрикнула девушка громче.
Все закричали – негодующе, зло, словно это их лично обманули, обесчестили, будто им подсунули в брачную ночь потаскуху.
И опять встал Цимисхий.
– Болгария пала! – возвестил он. – Но она нам досталась обесчещенной и грязной. Возьмем ли мы ее такой?!
– Не-ет! Смерть потаскухе! Всех убивать! Всех жечь! Истребить до седьмого колена!!! – завопили на все голоса собравшиеся. Пожалуй, лишь торговые гости и посланники помалкивали, у них свои расчеты были, свой этикет и свои понятия о чести.
Иоанн Цимисхий, дав собравшимся накричаться вволю, снова возвысил голос. И сказал с неподобающей смиренностью, даже кротостью:
– Вы правы, друзья! Но нам, христианам, надлежит явить всему миру христианскому и диким варварам свое миролюбие и благость. Мы не будем мстить за измену и обман. Мы накажем лишь каждого десятого – одних смертью, других выкалыванием глаз, третьих оскоплением. Всех прочих мы простим! Простим?!
– Прости-им! – проревела публика. Но уже значительно слабее и не так слаженно.
– Ну вот и прекрасно! А теперь давайте поглядим, какой была страна эта благодатная до прихода сюда полчищ дикарей и какой она стала после! – Иоанн хлопнул в ладоши.
Длинный сбежал с помоста. Но уже через несколько секунд шестеро носильщиков втащили наверх крытые носилки. Балдахин откинулся, и из носилок вышла огромная, под два метра, чернокожая женщина. На руках у нее была девочка лет двенадцати – светленькая, беленькая до невероятия, почти альбиноска. Она щурилась от света, пыталась прикрыть лицо. И девочка и чернокожая были совершенно обнажены.
Носильщики с носилками убежали. Чернокожая застыла живым изваянием посреди арены.
– И это нас-то они зовут язычниками! – процедил Радомысл сквозь зубы. – Тоже мне просветители, христиане! Бажан зашипел на него. И Радомысл замолк.
– Вот такой славненькой и непорочной, как эта милашечка… да не эта кукла черная, не туда смотрите, а вот крошечка, ягодка… такой вот и была Болгария до вторжения варваров! – прокричал высокий. Он чуть покачивался, видно, успевал прикладываться к кубкам.
Да и в рядах было много веселых, разгорячивших себя вином. Появились первые служительницы любви, они обходили ряды, покачивали бедрами, изгибались, подбрасывали на ладонях пышные груди, заглядывали в глаза – и если кто-то махал им рукой, тут же шли на зов. На пиру не должно было быть ни одного обойденного, каждому – всего вволю! Хочешь бочку вина – пей! Хочешь мешок изюма или зажаренного целиком поросенка – ешь! Хочешь красавицу, двух, пятерых, десятерых – будут тебе красавицы, только руку протяни! Ублажат, потешат, обласкают – гляди сам, чтоб не до смерти! Пир потихоньку начинал превращаться в оргию. Но главное внимание каждого было приковано к арене.
– А по помосту вели наверх огромного бурого медведя. Радомысл как увидал, так сплюнул на пол. Настроение у него было безнадежно испорчено. Да что поделаешь – не он пир закатывал!
На медведе был надет русский шелом, обрывки кольчуги. К спине был привязан красный русский щит. А на боку болтался русский меч. Все было понятно без слов.
– Эй! Мужи сановные и полководцы! Мудрецы и книжники! Купцы и воины! Все! Поприветствуем же непобедимого и грозного князя россов Святослава! – завопил высокий и так взмахнул своей клюкой, словно собирался ее зашвырнуть под своды шатра. – Приве-ет! Приветствуем тебя, Святосла-а-ав!!!
Дикий ор заполнил шатер. Но это уже был пьяный, бессмысленно-буйный ор, в котором мешался и подлинный восторг победителей, их торжество и хмель. Радомысл молчал, морщился. Сюда бы Святослава настоящего да еще десяток другой его воев! Тогда бы они совсем иначе закричали!
Медведя, удерживаемого на цепях, ввели наверх. Он остановился сам, раскланялся, чем вызвал бурю рукоплесканий и смеха.
– И что же он сотворил с этой непорочной девочкой?! С этой нашей маленькой и глупенькой соседушкой! Поглядим?!
– Погляди-и-им!!!! – завопили гости.
Негритянка отвинтила крышечку с круглого флакончика, болтавшегося у нее на шее, плеснула в ладонь, потом снова подняла девочку, помазала ее обильно и подвела к медведю. У того потекли слюни.
Крепкий был человек Радомысл, через многое прошел, а и он отвернулся на миг. Сердце сжалось. Он-то знал хорошо, что медведи-самцы воруют иногда женщин, живут с ними в лесах, но… Но чтоб так!
Бурый всклокоченный зверь подхватил девочку лапами, обнюхал, облизал, поднес к животу, прижал… И высокий пронзительный крик распорол тишину, необычную напряженную тишину под шатром.
Медведь, одурманенный снадобьем чернокожей, обезумевший от похоти, насиловал беленькую девочку на глазах у всех, щедро поливая ее слюной, текущей из пасти, но не кусая, не разрывая когтями. Жертва даже не пыталась вырваться. Непонятно было – жива она или мертва. Беленькое тельце содрогалось в такт звериным конвульсиям.
– Подлые негодяи! – выругался вслух Радомысл. И поймал на себе настороженный взгляд соседа с другой стороны. Он не ожидал, что его расслышат. Но теперь было поздно. Радомысл отвернулся. Будь что будет.
Ничего с ним не случилось. Никто не донес. Во всяком случае, его не трогали. Бажан округлял глаза, мотал головой, старался не смотреть на приятеля.
А тем временем медведь бросил жертву, потянулся к чернокожей. Его отдернули. Высокий вопросил громко:
– На всем свете есть один лишь защитник сирых и убогих, кроме самого Господа Бога! Есть один великий и могущественный страж справедливости, он отстоит права обиженных! Призовем ли его?!
– Призо-ове-е-ем!!! – откликнулись гости. – Призо-овее-ем!!!
Высокий поклонился в землю. И на помост с носилок спрыгнул сам базилевс Великой империи Иоанн Цимисхий. Он поставил ногу на тельце девочки, как победитель, вздел свой простой железный меч.
Приглашенные повскакивали, опять началось массовое безумие. Бесновались все – даже те, кто попал под чары жриц любви и предавался с ними любовным утехам, прервали занятие и спешили выразить свое восхищение доблестным, могучим и мудрым императором.
Цимисхий же снял стопу с тела, нагнулся, поднял девочку, погладил ее по волосам и передал высокому.
– Он мог ее покарать! Но он простил ее! – заорал тот.
И новый взрыв сотряс шатер. Но ненадолго. Цимисхий успокоил собравшихся, пирующих.
– Как поступают с наглыми варварами, с непрошеными гостями! – заорал он без вопросительных интонаций.
– Смерть!
– Убивают!
– Уничтожают! Вырезают до седьмого колена!
Цимисхий отважно шагнул к медведю. Того дернули за цепи. И он поднялся на задние лапы, заревел, пошел на храбреца. Но Цимисхий не дал ему опередить себя – он бросился вперед и вонзил меч в брюхо зверю. Ударила струя крови, вывалились кишки. Но хищник еще был полон сил, он взревел яростнее, двинулся на Цимисхия. Поводыри отдернули его, не дали страшным лапам сомкнуться на теле базилевса. И Цимисхий нанес последний удар голова медведя свесилась. Зверь постоял еще с секунду и рухнул на помост.
– Слава базилевсу! Слава базилевсу!
Неистовство охватило пирующих. Казалось, некуда громче уже, вот-вот, и лопнут глотки у этих дико орущих, напирающих друг на друга людей. Но нет, им это было не впервой.
Радомысл хмурился. Посмеивался. Но с горечью, с черным осадком. Попробовал бы этот герой схватиться с настоящим Святославом. Схватиться один на один! Как бы они тогда кричали! А ведь искал Святослав встречи с ним, искал в самой гуще боя. А Цимисхий уворачивался, трусил. Зато здесь он герой из героев!
Радомысл ударил себя кулаком по колену. Поднял огромный, наполненный темным вином кубок. И, не отрываясь, высушил его.
– Да смотри ты на все проще, – прошептал Бажан и тут же отвернулся.
На край ложа подсела черноволосая красавица, припала к ногам Радомысла, уставилась на него бездонными глазищами. Он оттолкнул ее. Но она не ушла, присела внизу, на ковры, закинула руку вверх, на бедро лежащему, принялась тихонько оглаживать кожу пальцами. Радомысл пил второй кубок. И не замечал прикосновений красавицы..
Пора проваливать отсюда. Но как уйдешь незамеченным. Не по себе было десятнику. Ох, не по себе!
На помосте вытворялось вообще черт-те что. Все перепились, кричали, дурачились. Оргия была в разгаре. Но апофеозом стал момент, когда привели младшую дочь болгарского царя. Она была черненькой, худенькой, безгрудой. На такую бы не польстился и ремесленник. Но царская дочь!
Цимисхий, пьяно покачиваясь, выкрикивая непристойности, вывел ее на помост, содрал принародно одежды и овладел ею под восторженные вопли. При этом он пытался как-то пояснить все происходящее. Но уже не мог, язык у него заплетался.
Выручил высокий, потерявший где-то свою клюку. Он встал рядом и, тыча рукой то туда, то сюда, принялся пояснять:
– Оказав честь дочери местного деспота, благородный и всесильный базилевс как бы… оплодотворил всю эту бесплодную и дикую землю!
– …дикую!!! – завопили гости эхом.
– Да! Именно дикую и варварскую! И отныне ей цвесть и плодоносить! Возблагодарим же отца-императора за его щедрость и заботу!
Возблагодарение длилось долго. Радомысл не прислушивался. Он отогнал все-таки от себя черноволосую. Но одному недолго пришлось побыть. После того как он выглотал шестой кубок, к нему подсела чернокожая, та самая, что держала девочку в руках. Была она велика до крайности и богата телесно.
– Пошла прочь! – пьяно прикрикнул на нее Радомысл.
И она отошла. Но зашла сзади, легла на ложе. Обхватила Радомысла горячими полными руками, каждая из которых была с его бедро толщиной. Обхватила, прижала, вдавила в себя… и застыла так. Радомысл почувствовал, что он растворяется в огромном жарком теле. Сил вырваться из лап великанши не было. Она сжимала его в объятиях не как мужчину, не как воина бесстрашного, а как ребенка. Он и ощутил себя беспомощным ребенком, размяк.
И тогда он захотел повернуться к ней лицом, когда он возжаждал ее, она поняла, ослабила объятия… но не убрала рук, будто боялась, что он ускользнет. Радомысл не ускользнул. Он прижался к огромным, исполинским грудям, пропал между них. А когда она раздвинула ноги, ему показалось, что сама земля поглощает его, что это явилась с небес или с того света богиня любви, дикая, варварская богиня, неутоленная и страстная и вместе с тем снисходительная к простым смертным, добрая.
Все остальное происходило как во сне. Радомысл ничего не видел, не слышал. Он лишь чувствовал, что она приподняла его, усадила на свои колени, принялась мять толстыми горячими губами ухо и что они пили, пили, пили… что Бажан все просил его поделиться чернокожей красавицей, пускал слюни. Но та не шла к купцу, не отходила от Радомысла, да и вообще больше ни на кого не смотрела.
Оргия была безумная, дикая. Тела свивались с телами, взлетали вверх кубки, носилась расторопная прислуга, выли рожки, били барабаны, подзадоривая гостей, все мелькало перед глазами… Куда идти, зачем, почему – Радомысл уже ничего не понимал, ему казалось, что он всегда был здесь, что он и родился на этом ложе.
Глава четвертая
Испытания
Борька пришел к назначенному месту на полчаса раньше срока и сидел теперь на лавочке, покуривая, поглядывая вверх – на кружево листьев над головой.
Ему не было скучно, казалось, что так можно просидеть целую жизнь, вдалеке ото всех, наедине со своими мыслями. Тем более что мысли были радостные.
Олину записку он сохранил – она лежала во внутреннем кармане гимнастерки. Тон этой записки Борьку не тревожил. Да и что особого могло случиться? Нет, он ждал от встречи приятного и не торопил времени, наслаждаясь этим ожиданием.
Ветер менял узор, сотканный из листьев, вместе с тем меняя и узор солнечных бликов на песке, под ногами. И этот природный танец завораживающе действовал на Черецкого. Не часто ему выпадало посидеть вот так спокойно, никуда не спеша, не отвлекаясь поминутно.
Потому блаженное созерцание красок увлекло Борьку настолько, что он и не заметил Олиного прихода.
– Эгей! Да ты никак заснул дожидаючись? – Ольга встала, не доходя нескольких шагов, уперла руки в боки. – Хорош кавалер!
Борька очнулся, махнул рукой.
– Весь в мыслях о тебе.
– Ну и где я лучше: в мыслях или наяву? – рассмеялась девушка.
– Садись, я тебе сейчас подробно растолкую где!
Ольга присела на краешек лавки – невесомая, будто сотканная из тех же солнечных бликов, что узор на песке. Светлые волосы рассыпались по плечам. Ветер перебирал ими легонько, не нарушая прически, будто играючи нежно.
Борька невольно протянул руку к волосам. Но Оля отстранилась.
– Зачем звала?
– А без причины ты меня и видеть уже не рад?
Черецкий пожал плечами.
– Не хочешь – не говори, мне и так хорошо.
Ольга придвинулась ближе, поморщилась от долетевшего до нее сигаретного дыма. Черецкий бросил окурок под ноги, затоптал мыском сапога в песок.
– Мать запрещает с тобой встречаться, – неожиданно сказала девушка.
– Угу, – неопределенно хмыкнул Борька.
– Что – угу? Ты не понял, что ли? – рассердилась Ольга.
– Чего ж тут не понять, все матери такие. А ты слушай их больше!
– Знаешь что, ты мою маму не трогай!
– Вот те раз. Пойми тебя! Может, нам последовать ее совету?
– Ну зачем ты так? Все стараешься по-своему перевернуть. – Ольга закусила губу. – Она предлагает очень неплохой вариант: год ты отслужишь, а потом можно будет поступить в военное училище…
– Без меня – меня женили?! Здорово! – Борька даже присвистнул. – Это что ж – в таком виде я тебе не гожусь?
– Дурак!
– Ищи умного!
Ольга отвернулась к спинке скамейки, облокотилась на нее обеими руками. Плечи ее затряслись.
– Прости, – сказал Борька, не поворачивая головы, – только не забывай, что и у других самолюбие имеется.
Всхлипывания стали еще громче.
– Вот и оставайся со своим самолюбием, – проговорила она сквозь слезы.
– Та-ак. Ну мне пора, – сказал Борька вставая. – Привет маме!
Ольга не повернула головы, не ответила. Черецкий пошел прочь, давя сапогами те самые блики, которыми любовался не так давно. Внутри у него все кипело. Зацепившись ногой за вырвавшийся из-под земли корень, он чертыхнулся, пнул его в досаде другой ногой и чуть не упал. Пальцы нащупали в пачке сигарету, торопливо сунули ее в рот.
Спичка вспыхнула ярко, огонь опалил ресницы. Но Борька не заметил этого. «Что же я делаю?! – вдруг всколыхнулось в мозгу. – Вот ведь идиот!» Он щелчком отбросил сигарету, с хрустом сжал в руке коробок. Обернулся:
Ольга сидела все там же.
Подбежав к лавочке, Черецкий упал коленями в песок, схватил ноги девушки руками. Оля испуганно повернула голову. Борька молчал, но в глазах его было написано все, что он не был в состоянии сказать. Ее легкая рука легла на стриженую голову.
– Ну и слава богу, – облегченно вздохнула она.
Борька кивнул, сел рядом, обнял ее за плечи.
– Я сделаю все как ты хочешь, – сказал он.
– Я хочу… – Ольга не могла подобрать нужных слов, – чтоб мы оба хотели одного, чтобы ты сам хотел этого, сам!
Борька покорно кивал, губы его слепо тянулись к Олиным щекам, шее. Он боялся, что если заговорит, то предательская дрожь в голосе выдаст его.
– Не молчи, говори мне что-нибудь, ну говори же; а я прошу.
– Мы будем вместе, Олюнь, будем, – прошептал Борька и прижался своими губами к ее губам, чувствуя, как они дрожат.
Ольга откинула голову, прикрыла глаза. Ей уже казалось, что никакой ссоры не было и быть не могло, ведь рядом с ней сидел самый лучший, любимый человек. Ведь это он был самым сильным и добрым, самым ласковым и самым желанным.
И если бы Борька узнал о этих мыслях, то у него бы закружилась голова от счастья: неужели свершилось то, на что он в жизни своей уже не надеялся и чего боялся – полюбили его, со всеми его недостатками и сомнительными достоинствами, цену которым он все же знал и которых страшился, его, обрекшего себя внутренне на вечное одиночество?!
«Здорово, Леха!
Насилу отыскал тот клок бумаги, на котором ты адресок тогда записал. Помнишь? У меня тут за тебя вся душа изболелась – чего с тобой дальше-то было? Ну и влипли мы! Вперед умнее будем, так что ты не горюй, а я тебя жду, заходи, как выберешься. Правда, теперь тебя не скоро отпускать будут. Здесь, конечно, прости, моя вина, не уследил, черт бы меня побрал! Но, вообще-то, все это мелочи, ерунда житейская – сам помню: с губы не вылезал – то самоволка, то как у нас с тобой, то еще чего. Так что не ты первый, не ты последний. А о деревне своей (и моей, к сожалению, тоже) ты и думать забудь: еще чего не хватало – губить свою молодость в навозе и бескультурье! Так и отпиши своим, мол, после службы не ждите. И прямым курсом к нам в общагу. Приютим, приветим, не пропадешь! Заживешь настоящей жизнью. А служба, она быстро летит мигнуть не успеешь, как чемоданчик собирать придется.
Ну ладно, больше не о чем. У меня все в ажуре: днем пашешь, вечером гуляешь. Вот примостыришься к нам, тогда сам узнаешь, а пока не грусти и не держи обиды, ей-богу, зла не хотел, так само вышло.
До встречи!
Твой земляк Григорий С.
(число не проставлено)».
Долгожданный день наступил. И это была суббота. Каленцев сам подошел к Сергею, сказал:
– Радуйтесь, Ребров, на два дня выхлопотал для вас отпуск. Вот увольнительная записка, – он протянул сложенный двое листок бумаги. – С одиннадцати ноль-ноль вы свободны. Успеете собраться?
Сергей не знал, как ему благодарить старшего лейтенанта: ведь тот и в самом деле сделал все, что мог. Слова благодарности застряли в горле, остались невысказанными.
Он лишь кивнул, улыбнулся. Каленцев понимающе поглядел в глаза, похлопал по руке и ушел. Ему надо было проводить занятия: ведь сегодня не выходной день и никто их не отменял.
Хлопоты перед увольнением – приятные хлопоты. Для всех. На какое-то время даже Сергей забылся в них – внутри все пело: после долгих дней – наконец-то! Собраться он, конечно, успел, и причем гораздо раньше одиннадцати. Показался прапорщику. Тому спешить некуда, человеком он был дотошным и всегда лично осматривал отпускников, примечая даже мельчайшие изъяны. Он приглядывался и так и этак, но придраться было не к чему. Прапорщик дал добро, только напоследок сурово пробурчал, раздвигая моржовые усы:
– Глядите, сурковских подвигов не повторяйте. Ясно? – еще раз проверил, на месте ли ременная бляха. – Домой, небось, к родителям?
– А больше и некуда, – беззаботно ответил Сергей.
– Ну-ну. – Прапорщик довольно-таки недоверчиво помотал головой и привздохнув, ободрил: – Валяй, пехота!
Впервые за три месяца Сергей вышел за ворота контрольно-пропускного пункта не в строю, с ротой или батальоном, а в одиночку.
Целые два дня! Не верилось. Это же вечность, это же…
И солнце сияло ярче, и ветер дул какой-то животворный, напоенный кислородом. Хотелось пуститься вприпрыжку.
И когда серебристые ворота с красными звездами на каждой створке остались за спиной, Сергей почувствовал примерно то же, что чувствовал Сурков, выходя из полуподвала гауптвахты. Мир захлестнул его, ударил в глаза, в уши, в нос. Краски, многообразие звуков – мельчайших, тишайших, еле слышимых в тишине подмосковного безлюдья, но чистых, не заглушенных ничьим дыханием, сиплым от бега, аромат трав, хвои и еще чего-то, чему Сергей и не мог подобрать названия, – все это обрушилось на него внезапно, ошеломило. На секунду он даже приостановился вглядывался, вслушивался. Но длилось это совсем недолго. Со стороны можно было подумать: вот вышел солдатик на дорогу да и вспомнил про что-то забытое, но тут же отмахнулся от мыслей, мол, и так обойдусь, и бодро зашагал дальше.
Предаваться воспоминаниям было некогда. Надо было успеть на станцию, пока не наступил часовой перерыв, с половины первого до полвторого – движении поездов.
Сергей чуть ослабил галстук, чтобы дышалось вольготнее, и торопливо пошел по дороге туда, откуда, еле слышный, доносился дробный перестук колес.
Звонок по-прежнему не работал. «За полгода никто и пальцем не пошевелил!» – подумал Сергей, забыв о том, что и сам ничего не сделал для починки несложной штуковины. Постучал согнутым пальцем. Подождал, постучал еще. Ответа не было. Неужели никого дома нет? Стоило так спешить, чтобы не застать Любы?
Сергей выждал еще полминуты и забарабанил в дверь кулаком.
Послышались шаркающие шаги. Дверь распахнулась.
– Мне бы кого-нибудь из Смирновых… – начал было и осекся.
Стоявшая перед ним женщина, непонятно как попавшая в Любину квартиру, смотрела мимо, не замечая Сергея. Из-под наброшенного на голову серого платка торчали в стороны нечесаные всклокоченные волосы. Старушечья безвольная фигура, застывшее в безразличии лицо.
Сергей окаменел, чувствуя, как выступает на спине пот.
– Здравствуйте, Валя… – Язык его еле шевелился. Женщина вгляделась в лицо стоящего перед ней солдата. Что-то живое на миг блеснуло в ее глазах, но тут же потухло.
– Здравствуйте, – вяло проговорила Валентина Петровна, не приглашая войти, но и не прогоняя.
Сергей не знал, что ему делать, – уйти он не мог, но и продлевать это жуткое зрелище было неловко, нелепо.
– Я к Любе, собственно… – сказал он, – ее дома нет?
Женщина несколько раз энергично мотнула головой, отчего платок сполз ей на плечи. Не поправляя его, а лишь придерживая у плеча рукой, Валентина Петровна, отступила на шаг назад, давая понять, что приглашает зайти. На глазах ее появились мелкие мутноватые слезы.
Сергей вошел, затворил за собой дверь. В прихожей, как и прежде, царил полумрак. Но если раньше он создавал впечатление уюта, домашности, то теперь ото всего этого веяло чем-то неприятным, гнетущим. Сергей повесил фуражку на крючок, прошел в комнату.
Он не заметил ни беспорядка, ни задернутой, несмотря на ясный день, шторы, ни прочих непривычных мелочей – внимание его было целиком приковано к Валентине Петровне, уже сидящей на стуле возле стола, плачущей. Плачущей тихо, беззвучно, будто наедине с самой собой.
Сергей пожалел, что зашел. По и уйти, не выяснив, что же случилось, в конце концов, он тоже не мог. Оставалось одно – ждать. Ждать, пока Любина сестра не придет в себя.
Сергей прошел вдоль стены, уселся на диван, так и не поняв до конца: узнала ли его Валентина Петровна? В сердце начинали закрадываться смутные предчувствия, но он гнал их, решив, не поддаваться эмоциям до тех пор, пока все не прояснится.
Валентина Петровна молчала, спрятав лицо в ладони, вздрагивая всем телом, но, видно, не могла усмирить конвульсий. Сергей знал, что в такие минуты любое слово сострадания, любая выявленная жалость лишь усугубят положение, и потому молчал, тяжелым взглядом упершись в бурое разляпистое пятно на сиреневой скатерти. Он не мог оторвать глаз от него и, даже сознательно пересиливая себя, поворачивая голову в сторону, не мог избавиться от наваждения – глаза тянулись к пятну, не подчинялись воле.
Так и сидели молча, пока женщина, начинавшая постепенно брать себя в руки, не поймала взгляда гостя. Она ухватила со спинки стула висевшее там несвежее полотенце и набросила его на пятно.
– Не обращайте внимания, – тускло проговорила она, – кофе вчера пила и пролила всю чашку, руки не слушаются совсем. – Валентина Петровна будто извинялась.
Сергей облегченно вздохнул. Встал с дивана, пересел поближе, на другой стул, стоящий у стола. «Все в порядке, нервы шалят, уж готов рисовать ужасы всякие. Сейчас, еще немного, все поймем!»
– Вас в увольнение отпустили?
– Да, на двое суток, – живо ответил Сергей. Валентина Петровна как-то резко и неожиданно всхлипнула, так что Ребров внутренне сжался, приготовился к возобновлению рыданий. Но она сдержалась, только спросила с горечью в голосе:
– Где же вы раньше были? Почему не пришли на три дня раньше?!
Сергей замялся, не знал, что и ответить на такое.
– Ведь вы же должны были прийти неделю назад? Ну почему? Почему все так нескладно, почему?!
– Раньше я никак не мог, – начал оправдываться Сергей, понимая, что оправдания эти бесполезны и никому не нужны. – Что-то с Любой? Почему вы не говорите мне ничего, Валя?
– Вы ведь знаете, как я относилась к ней? – не могла уняться женщина. Она не слышала вопросов, да и, наверное, не совсем хорошо понимала в эту минуту происходящее.
Сергей чувствовал, что внутри у нее идет какая-то напряженная борьба, сменившая первоначальную отрешенность.
– Все складывается очень плохо, но я вас не виню. Ни в чем не виню. Я, только я виновата, упустила… – Валентина Петровна вновь заплакала.
– Скажите мне, я вас очень прошу! – повысил голос Сергей, он почти кричал:
– Где Люба?! Что с ней?!
Еще секунда, и он бы схватил ее за плечи и начал трясти до тех пор, пока не узнал бы правды, – больше терпеть он не мог. Все сдерживаемое внутри, все накопившееся и не имевшее выхода долгое время хлынуло наружу.
– Отвечайте же!
Валентина Петровна, не отрывая платка от глаз, встала, покачнулась, но вовремя уцепилась за спинку стула и благодаря ей удержала равновесие. Она подошла к серванту и вынула из верхнего ящика бумажку, помятую, оборванную по краям.
По дошла к Сергею.
– Вот!
Сергей чуть не силой выдернул из подрагивающей руки листочек, разгладил его на ладони. В листке значился адрес какой-то окраинной больницы. «Жива, значит, жива! – подумал он с неожиданной радостью. – Все остальное приложится!» На ходу он обернулся и еще раз поглядел в лицо странной женщине, Любиной сестре, – оно было вновь безжизненно отрешенным.
«Кто бы мог подумать? – прокрутилось в мозгу. – Старшая сестра, не мать даже, и вдруг такие переживания?!» Сергей хлопнул дверью, быстро скатился по лестнице вниз. «Нет, наверное, она была ей матерью, больше того – наверное, видела в ней себя, продолжение свое, все то несбывшееся в своей жизни, что суждено было достаться ей, Любе. Она должна была дожить жизнь своей старшей сестры. И вот… Да, наверное, все именно так, иначе не может быть. Ну и сволочь же я – накричал, не сдержался. На нее! Подумать только. Но почему? Если она такая, почему я, почему мы не замечали этого?!» Жизнь текла своим чередом – по улице шли оживленные прохожие, мамаши выгуливали чад, бабки сидели по своим лавочкам, сплетничали, откуда-то издалека раздавались дробные перекаты забиваемого «козла».
В больницу Сергея впустили не сразу. Пришлось повоевать с медсестрами, нянечками, вахтерами и прочими облеченными властью.
Наконец в наброшенном на плечи халате, весь дрожащий от охватившей тело слабости, тиская в руках фуражку и проклиная себя за то, что не догадался прикупить по пути каких-нибудь гостинцев, он пошел в палату.
– Пять минут – и чтоб духу вашего здесь не было! – крикнула в спину рассерженная, а может и постоянно сердитая, недовольная жизнью, старшая медсестра.
Женщины, находившиеся в палате, притихли, заулыбались. Сергей не мог сосчитать, сколько их там было, во всяком случае не меньше пяти. А вот Люба, где же…
И тут он увидел ее, лежащую у окна, не глядящую на вошедшего, бледную, совсем непохожую на себя.
– Здравствуй, – тихо проговорил он, не доходя трех шагов до кровати.
Девушка, не поворачивая головы, шепотом, еле слышным, чуть просвистевшим в тишине, ответила:
– И ты здравствуй, Сережа…
А все было так.
В среду утром она проснулась в наипрекраснейшем расположении духа. Тело было невесомым, душа рвалась навстречу тоненьким лучикам рассветного солнца, пробирающимся в комнату сквозь занавесь тюля. Этот день был, наверное, первым днем за последние полгода, когда все вдруг исчезло, растворилось в прошлом. А в настоящем остались лишь солнечные блики и ощущение невесомости, непричастности ко всему земному.
Сестра должна была приехать к вечеру, а стало быть, день целиком и полностью был в распоряжении Любы.
Чем его заполнить? В этот день хотелось чего-то необыкновенного, сказочного, такого, чего не встретишь в действительности.
И Люба размечталась: вновь видела она себя маленькой девочкой, у которой вся жизнь впереди, а потому и счастья невпроворот и надежды. Даже не надежды, а предчувствия того, что с каждым мигом, с каждым часом, днем, годом радости будет больше, счастья будет прибывать безудержно, неостановимо и единственная предстоящая трудность – не захлебнуться в этом праздничном мире. Ведь все, что было, или даже то, что есть, – суета, мелочи. Разве достойны они того, чтобы обращать на них внимание, сжигать себя в пламени собственных страстей, мучиться, а вместе с тем и стариться?! Нет! Люба этого не хотела. Хватит, пускай другие терзаются, изводят себя, но не она. Достаточно!
И какая разница – было ли все или только пригрезилось, смахнуть как залежавшуюся пыль на комоде – и не вспоминать. Ведь живут же люди, просто живут без всяких иллюзий, порывов, без траты самих себя в ненужных передрягах. Почему же и ей не жить так же? А на прошлое наплевать и забыть. Забыть и наплевать! Пора, в конце концов, заняться и собой – сегодня же в институт: в меру учебы, в меру нехитрых развлечений, какими живут, да и до сих пор жили, ничего не испытавшие в жизни подруги ее. Бывшие подруги. Ну и плевать, что бывшие. И не нужны никакие друзья-подруги. Есть знакомые – и достаточно. Остальное – суета сует и всяческая суета. Ни к чему обременять себя. Жить легко, спокойно, как живет бабочка, как живет трава, которую еще не успели вытоптать, вот так и жить. А все былое – сон, страшный сон. И слава богу, что он пошел. Пора просыпаться – ведь впереди жизнь.
Вставать с постели, умываться, собираться, идти куда-то не хотелось. Любе казалось, что теперь все само собой должно прийти к ней. И она лежала, отбросив одеяло, расслаблено раскинувшись на тахте, оглядывая свое молодое, здоровое и полное жизни тело.
Нет, рано себя записывать в старухи, все видавшие, все пережившие. Еще будет многое-многое. Но будет потом.
Когда потом. Люба не знала, знала, что не уйдет.
А теперь… Только покой. Раствориться в самой себе, вслушиваться в себя, улавливая лишь добрые, такие необходимые сейчас сигналы собственного тела, души. Вслушаться в них, постараться понять их, полюбить и во всем следовать им. И ничего иного. Хватит.
В соседней комнате, там, где обычно спала сестра, зазвонил телефон. Люба лежала и безмятежно слушала пронзительные трели – пускай названивают, ей-то что?! Звонивший не унимался минуты две. Затем телефон смолк. Вот и хорошо, Люба перевернулась на бок, полежала немного так, потом спустила ноги с тахты, откинулась на спинку и сладко, с истомой, потянулась – пускай хоть весь мир рушится, горит, скрывается в пучинах морских, а уж ее-то не трогайте! Не надо!
Телефон растрезвонился опять. Люба встала, сбросила с себя ночную рубашку и накинула, не вдевая руки в рукава, легонький пестрый халатик. Прошла в ванную, скинула халат. Телефон названивал вовсю. Люба включила душ – все внешние звуки потонули в его шуршанье. Тело под тугими струями напряглось, ожило. Невесомость прошла, но на смену ей пришло ощущение своей силы, молодости, готовности преодолеть тысячи преград, если понадобится. Но не понадобится! Хватит преодолевать! Пускай другие преодолевают, а с нее хватит! Люба нежилась под иглами прохладного искусственного дождя, закидывала голову кверху, подставляя под струйки лицо. Где-то есть мир? Да ну?! Если он и есть где-то, так только в ней самой. И нигде больше.
Так прошло минут сорок. А на выходе из ванной ее опять встретил надоедливый визг телефона. Оставляя за собой мокрые следы, босиком, Люба, прошла в сестрину комнату. Приподняла трубку и тихонько надавила ей на рычажки. Неужели непонятно, что никого дома нет или… или с вами никто говорить не хочет? Неважно почему, просто не желают, и все!
Люба нацепила тапочки и пошла на кухню, заглянула в холодильник. Есть не хотелось – но привычка, что с ней поделать? Разогрела вчерашнюю котлету, поставила чайник. Отдернула шторки, и на кухню ворвалось во всем своем неистовстве солнце. Голова слегка закружилась…
Сергей подошел ближе. Присел на краешек, у ног.
Кровать скрипнула под тяжестью его тела, панцирная сетка прогнулась.
– Вот ты и пришел, – чуть слышно проговорила Люба.
Сергей кивнул, с готовностью, не зная, как начать. А начинать было нужно.
– Зачем ты пришел сюда, ты был дома?
– Да, Любаш, был, прямо оттуда.
– Валя, наверное, все успокоиться никак не может? – Голос звучал тускло, без искреннего любопытства.
– У нее все в норме, – натянуто ответил Сергей и сам поразился лживости прозвучавшего, неестественности. Стало стыдно. Да еще эти не лишенные интереса, интереса какого-то болезненного, лица женщин из Любиной палаты. Ах, если бы не они! Ну почему всегда так много лишних, посторонних, никуда не сбежать. И спрятаться некуда.
– Вот и хорошо. – Любины глаза утратили свою прозрачность. Сейчас они были темными, глубокими. И в них таилось столько всего, что Сергей почувствовал себя ребенком, неведомо как очутившимся во взрослом, непонятном ему мире.
– Что с тобой. Люба? Мне никто ничего не хочет говорить, все что-то скрывают, молчат. – Сергей перешел на приглушенный шепот: – Как ты попала сюда?
– А-а, не бери в голову, Сереженька, – голос Любы был леденяще спокойным.
– Мало ли чего в жизни не случается!
Телефон все же вывел ее из себя. Отключить? А может, Вальке по работе? Люба сняла трубку, приложила к уху.
– Да, вас слушают.
На какой-то миг в трубке воцарилось молчание, будто звонивший обеспамятел от удачи. Потом прорезался голос. Это был голос Николая.
– Ну ты спишь. Лютик! Скажи спасибо, что я такой настырный, другой не добудился бы!
– Я не спала.
– Не понял?!
– И чудесненько, а то все-то ты понимаешь!
– Ну зачем ты так?! – в голосе Николая зазвучали нотки обиды.
– Извини, но мы с тобой, по-моему, уже обо всем переговорили в тот раз.
Трубка молчала.
– Ты меня слышишь? Всего доброго!
– Погоди, Лютик! – Николай начал нервничать. – Что с тобой? Я виноват, не смог в прошлое воскресенье вырваться. Знаешь, один дружочек тут подложил основательную свинью, – частил он, – и в этот выходной навряд ли что получится. Вот я и решил позвонить. Люба, ты ведь сама знаешь, каких трудов стоит мне связаться с тобой ведь я все-таки не в санатории. Ты слышишь меня?
– Слышу, слышу, – Любе начинал приедаться этот разговор. Он так не вязался с ее сегодняшним настроем.
– Вот и хорошо, вот и хорошо, – Новиков стал обретать присущее ему спокойствие. – Сейчас мы не спеша обо всем потолкуем, у меня в запасе минут десять есть, все обговорим…
– Знаешь, Коля, я решила не возвращаться больше к этим разговорам. Ну их! И тебе советую сделать то же самое.
– Не гони лошадей, Лютик. Не торопись, и так слишком уж мы спешим. А потом и оглянуться не успеем – жалеем. Да что мы все о пустом. Не затем я тебе звонил.
Люба почувствовала, как вкрадывается в ее сердце этот мягкий, но такой настойчивый голос. Она еще могла бороться с ним, но прежнего благодушия не было и в помине. Снова захлестнуло голову воспоминаниями, разбередило душу сомнениями и тревогами.
– Да когда же, наконец, все это кончится! – чуть не плача бросила она в трубку.
– Скоро, Любонька, скоро! – поспешил успокоить ее Николай. – Вот только дождись ноября. Я приду-заживем, ты вспомни, как у нас все было, как мы мечтали. Не поддавайся настроению, а остальное все приложится. Надейся на меня, помни – со мной ни что тебе…
– Слышала уже сто раз! Не хочу ничего! Все только слова, со всех сторон слова, одни обещания, уверения… А как до дела, так… Ну, ладно, нечего об этом.
– Ага, опять Сереженька? – вкрадчиво спросил Николай. – Погоди, доберусь я до него, раз подобру-поздорову не желает угомониться!
– Да при чем здесь он?! – почти закричала Люба. – При чем?! Что ты за примитив – кроме тупой ревности, ничего на свете и не существует? Я просто устала ото всего, я хочу одна все обдумать. Не лезьте вы со своими…
– Вы? С кем это ты меня мешаешь?! Ведь, по-моему, всегда были мы: ты и я, я и ты. Вместе, вдвоем. А теперь – вы? Хорошо тебя обработали, с чужого голоса, видать, поешь!
– Если ты будешь говорить в таком тоне, я трубку повешу!
– Прости, – Николай заговорил мягче. – Я понимаю – тебе надо успокоиться немного, развлечься. Нельзя думать все время об одном и том же.
– Вот я и не хочу ни о чем думать. Только тяжело это, покоя не дают.
– Ты про меня?
– И про тебя тоже!
– Ну, спасибо. Не такого я от тебя ожидал.
Люба начала понимать, что она путается, не может объяснить того, что так ясно было ей сегодня с утра. Мозг отказывался работать, и она кляла его за то, что для этого понадобилась такая малость, лишь один телефонный звонок.
Но, видно, все накопившееся за прошедшие месяцы давало знать о себе – настроиться на нужный лад было невероятно тяжело, вылететь из колеи – пара пустяков.
– Извини, я груба с тобой и не права, может быть.
– Да что за напасть, полчаса мы друг перед другом извиняемся, а по сути ничего!
– В том-го и дело, что, наверное, по сути – ничего и нет. И нечего зря будоражить друг друга, – ответила Люба.
– Опять тебя понесло в сторону, подруженька дорогая, – Николай готов был идти на любые уступки, жертвовать самолюбием, просить, только бы добиться своего. Ему это давалось нелегко, но ради той цели, что он поставил перед собой, хороши были все средства. Выбирать не приходилось. – Любонька, дорогая, я прошу тебя успокоиться. Не спеши, ради бога, с ответами и решениями.
– И что?
– Что – «что»? – в голосе Николая послышалось удивление.
– Что тогда?
– Да все! Люба, все то, что нам нужно!
– Тебе, а не нам. Почему ты говоришь за меня, почему решаешь, не спросив моего мнения? Я что, пустое место?
– Ладно, я потом перезвоню или, может, сам приеду, попробую.
– Не утруждайся.
– Ах так?! – Николай потерял терпение.
– Так, так, Коленька. Рано или поздно – нам нужно было объясниться. И в том, что это случилось слишком поздно, – твоя вина.
– Ясненько!
– Ну тогда прощай?!
– Нет погоди. Это твое последнее слово?
– Последнее, Коля.
– Жалеть не будешь?
Это было уже выше Любиных сил. Она бросила трубку.
Ведь бывает же у кого-то все ясно и понятно? Почему же с ней такая вечная, глупая неразбериха? Голова гудела, хотелось схватить телефон обеими руками и разбить его о стену.
– Ну ладно, не буду ни о чем спрашивать. Скажи только – тебе сейчас лучше? Тебе хорошо?
– Хорошо, Сереженька, мне уже намного лучше. Ты себе даже не представляешь, как мне хорошо!
Люба закрыла глаза, и на ее лице проступила какая-то детская беззащитная безмятежность.
В горле у Сергея что-то содрогнулось, задрожало.
– Ты мне скажи. Люба, может быть, принести чего-нибудь? Я двое суток в Москве буду. Больше никак нельзя. Но ты только скажи…
– Не нужно, ничего не нужно. Знаешь, Сережа, – Люба чуть приподняла голову, широко раскрыла глаза, – я только здесь поняла, как мало нужно человеку.
Через две минуты Николай позвонил опять.
– Люба, выслушай до конца. Я разобьюсь, но выхлопочу себе отпуск. Я приду обязательно: в субботу или в воскресенье.
Люба молчала. Она не знала, как избавиться от этих преследований. Ведь все так прекрасно сложилось с утра, все… до этих звонков. А теперь? Где та легкость? Где уверенность в себе? Где они?
– Тебе не удастся отвертеться от меня. Запомни хорошенько: где я, там и ты, – мы одной веревочкой связаны. Ты не ребенок, в конце концов, я тоже устал от твоих капризов.
– Для тебя это капризы? – спросила Люба. Как ему было объяснить, что это не так, что все намного сложнее. Да и нужно ли было объяснять? Не пустое ли это дело?
– Если по большому счету – то да! Как же иначе назвать? То ты одно говоришь, то другое. То готова на все «я твоя, я с тобой!», то разговариваешь со мной как с чужим. Тебе мало того, что забыл твои шашни с Сергеем?! Тебе мало, что я простил вас обоих? Да! Слышишь – это я простил вас?! Почему же я в чем-то виноват? Ну посуди сама! Что за морока! Ты слушаешь меня?
– Ты так кричишь, что тебя слышно, наверное, во всей части.
– Пусть слышат. Главное, чтобы слышала ты, – я тебя никому и никогда не отдам! Ясно?! Заруби это на носу! Мне надоело нянчиться и с тобой, и с твоим Сереженькой. Ты вообще-то представляешь – каково мне каждый день видеть его, говорить с ним, пускай по службе, но все равно! Или это не имеет для тебя никакого значения? Только ты сама, только твои переживания? Ах, ах, как мне тяжко?… Ах, какие все плохие?! Слушай, слушай! Но помни, что всю эту блажь…
Николай не успел договорить. Люба опять бросила трубку. Слезы текли по ее лицу. За что? За что ей все это? И зачем она подняла трубку тогда, в первый раз? За Валю волновалась. Ах какая забота! Люба рванула шнур. Он не поддавался. Рванула еще раз – вилка выскочила из розетки и больно ударила ее по ноге.
Нет, наплевать и забыть! Только так и никак иначе.
Надо брать себя в руки. Но спокойствие не приходило.
Люба присела перед большим зеркалом – из него глядела на нее изможденная женщина с испитым лицом. А где же та молодая, здоровая, красивая, что была утром? Люба искала в своем лице ее следы и не находила.
Нет, так не годится! Все трын-трава, все вокруг не стоит и капельки слез из ее чудных глаз. Долой все сомнения! Лицо в зеркале окаменело. Но не помолодело. Люба машинальным движением руки приподняла крышечку ближайшей баночки – замазать все, замазать, если не удается внутри, то хотя бы сверху. Так чтобы никто, никогда не мог даже в мыслях предположить, что у нее не все как у других, что жизнь не улыбается ей так же широко, как другим, что солнце светит не для нее, а для… И в институт. Во что бы то ни стало восстановиться, учеба поможет забыть все.
За спиной скрипнула дверь. Сергей обернулся. Появившаяся в проеме голова старшей медсестры свирепо вращала глазами.
– Вы еще долго рассиживать собираетесь?! – спросила сестра брюзжащим голосом.
– Недолго, – коротко ответил Сергей и отвернулся.
– Ну-ну! – дверь с силой захлопнулась.
«Стоило рваться в увольнение, чтобы, кроме упреков, недомолвок и тычков, ничего не получить?! За что?» – недоумевал Сергей. Все словно ополчились против него. «Хорошо еще, что Люба здорова, жива. А что Люба? Холодна как лед». Он осторожно взял ее за руку. Рука была теплой, почти горячей.
Улица плыла навстречу. Ног под собой Люба не чувствовала, будто их не было, а асфальт сам по себе катился вперед и нес ее. Временами она натыкалась на прохожих и, забывая извиняться, шла дальше. Вслед ей смотрели укоризненно, ругая, как повелось, «всю эту невоспитанную современную молодежь». Люба не слышала ругани за своей спиной. Старалась забыть об утреннем звонке, собраться перед решающим разговором. Давалось это с трудом. Не так просто было переключиться – мысли неподвластны нам именно тогда, когда хочется отвязаться от них.
– Ой, Любка! – раздался голос сбоку.
Люба очнулась, повела глазами: рядом с ней стояла сокурсница, и не то чтобы подруга, а так из тех, с кем имеют шапочное знакомство. Пустые глаза, легкое платьишко, сумка через плечо. Любе она показалась девчонкой, совсем девочкой – столько в ней было неприкрытой наивности, плещущего через край счастья.
– Ты откуда? – изумилась знакомая.
– Спроси лучше, куда, – сухо ответила Люба.
– Куда? – покорно повторила та за ней.
– Туда, где море блещет синевой! – съязвила Люба и пошла своей дорогой, не оглянулась даже, оставив девчонку в полнейшем недоумении.
Секретарша Анечка долго таращилась на нее, будто вспоминая. Потом выдохнула с липовым восторгом:
– Ну ты даешь, мать!
Люба сдержалась – не хватало еще тратить нервы на всякую мелочь. Однако Анечкин тон задел ее, отозвался глухим недобрым скрежетом где-то в затылке.
– Ладно, садись. Придется обождать малость – старик занят.
Худшего Люба представить не могла: ждать теперь, когда есть настрой к драке! Ждать, пока перегорит все и останется одно желание – побыстрее покончить со всем? Нет, ее это не устраивало. Но что делать? Лезть нахально, без приглашения – означало загубить все в зародыше.
Люба вздохнула, бросила на Анечку недовольный взгляд и опустилась на стул.
В приемную декана просунулась сквозь щель в дверях голова. Она принадлежала Мишке Квасцову. Анечка на своем месте вся подобралась, засветилась:
– Заходи, заходи, Квасцов.
Мишка зашел.
– Минуты через две пойдешь, – сказала ему секретарша. Обратясь к Любе, добавила: – Он еще раньше занимал. Старик ставит на тех, кто не все потерял, а такие, как ты… она махнула рукой, давая понять, что со Смирновой вопрос решен, – отрезанный ломоть, мать!
– Не пугай ее, Анют, – заулыбался Мишка. – И, кстати, я могу даму вне очереди пропустить. Ежели она попросит, конечно, ежели уважит словом добрым.
– Спасибо, не надо! – отрезала Люба и отвернулась к окну, словно говоря – разговор окончен.
С Мишкой декан провозился минут десять. И вышел тот из-за заветных дверей непривычно возбужденным, таким, что и невозможно было определить: со щитом или на щите.
Воспользовавшись образовавшейся паузой. Люба проскользнула к декану, успев краем глаза заметить, как перекосилось от досады Анечкино лицо. Но досадовать было поздно – дверь за ней захлопнулась.
– Смирнова? – отрывая голову от бумаг, спросил декан.
«И откуда он помнит всех в свои семьдесят шесть?» подумала Люба. Встреча с Мишкой влила в ее кровь дополнительную порцию злости. Уж теперь-го – стоять на своем вопреки всему!
– Если вы за документами, так можно было в секретариате решить все вопросы.
– Нет, я не за документами, Григорий Львович.
– Интересно?! А зачем же?
– Я хочу учиться…
– У вас была такая возможность. Сами все пути себе отрезали, дорогуша. Вы ведь себя в прошлый раз ках вели?
– Я виновата, простите! Ну что вы так смотрите?!
– Здесь не ясли и не детский сад, сколько же еще нянчиться с вами? Идите на производство, там узнаете что почем, а через годик-два к нам. С радостью примем.
– Я догоню всех, Григорий Львович, поверьте! – почти выкрикнула Люба. – Дайте мне последнюю возможность.
– А что у вас сдано в эту сессию?
Люба молчала.
– А за прошлую? – Декан нацепил на нос очки с толстенными стеклами и принялся перелистывать какую-то амбарную книгу. – Мы же вам давали время. А нынче все сроки, дорогуша, истекли. Так что ничем не могу!
Люба села на ближайший к декановскому столу стул, показывая, что все равно не сдастся, не уйдет.
– А что вы, собственно? Разговор окончен. Мне и других принять надо. Если что не по нраву, идите к ректору, моя милая. Мне студенты нужны, а не прогульщики и лодыри. Вы уж извините, что своими именами все называю, – на старости лет крутить мне ни к чему! Вот так вот-с!
Люба поняла, что дальнейшие разговоры с деканом бесполезны.
– А с чем я пойду к ректору? – спросила она в отчаянье.
– А с тем, с чем и ко мне приходили, душенька, с тем же!
– Григорий Львович, может, академический отпуск? А? Ну поймите же вы наконец – не могу я уйти из института. Он все для меня!
– Не похоже что-то, не похоже. Вы меня отвлекаете… – Декан нажал кнопку на столешнице, и в ту же секунду, будто ждала за дверями, в комнату впорхнула Анечка.
– Вы звали, Григорий Львович?
Декан сделал какое-то неуловимое движение в воздухе рукой, словно что-то отталкивая от себя или же стряхивая с кончиков пальцев капли воды.
– Есть там кто ко мне?
– А я?! – Люба онемела от бессилия.
– Все, все, Смирнова! – Лицо у декана перекосилось. Идите!
Упорствовать не имело смысла. Надо было идти к ректору – это хоть и бесконечно малая, но единственная надежда. Люба вышла. За дверями в коридоре стоял, прислонившись к косяку, Мишка.
– Что, мать, поперли? – беззлобно, с улыбкой сочувствия спросил он.
– Не твоего ума дело, – ответила Люба сдерживая себя.
– Мистика какая-то! – Мишка был по-прежнему беззаботен. – На что ты вообще надеешься? Если уж мне пахан помочь не смог, так твое дело – чемоданы паковать и на стройки пятилетки.
– Надо будет, поедем! – отрезала Люба.
Ректор сидел на первом этаже. Вкрадчивая тишина, такая непривычная для учебного заведения здесь была полновластной царицей. Приемная – раз в пять больше, чем у декана, была заполнена разношерстным людом. К ректору института с мелкими вопросами не ходили.
Здесь были и студенты, и студентки, но в основном их родители, пытающиеся исправить то, что поломали их дети. И все молчали, словно напутанные этой всеобъемлющей тишиной, необычайной властью, величием, незыблемостью… и предстоящим разговором.
Мишка увязался вслед за Любой. Избавиться от него не было никакой возможности. Ну и плевать, ведь в конце-го концов – он в не лучшем положении.
– Нам еще повезло, мать, – шептал он на ухо, обдавая неровным дыханием, – сегодня день приемный. Это только раз в неделю бывает…
Люба не отвечала. Она чувствовала, что ничего не поправишь – поздно, но все же ждала, надеясь на чудо. Здесь на него надеялось большинство из присутствующих.
В ожидании прошло более полутора часов. Даже Мишка сник. Сидел в своем кресле, тупо уставившись на раскидистую пальму в кадке. Выражение лица его было неземное, отрешенное. В кабинет ректора входили, потом выходили. На выходящих смотрели с любопытством. Те, в свою очередь, или шли, гордо подняв голову, не замечая взглядов, либо пытались проскользнуть незамеченными, что было гораздо сложнее.
Ожидание ни к чему не привело, и чуда не случилось ректор слово в слово повторил сказанное деканом и попросил его не задерживать. Вопрос был решен окончательно и, во что верилось с трудом, бесповоротно.
– Иди, Сережа, а то еще попадет от нашей бабы-яги! – проговорила Люба. – А обо мне не беспокойся – со мной все будет нормально.
– Да не могу я уйти просто так, – взорвался Сергей, но не закричал, нет, лишь шепот его стал свистящим, рвущимся. – Я ведь столько времени ждал этой встречи!
– Этой? – В Любиных глазах появилась легкая успешна. – Именно этой?
Сергей не знал, как ответить, смешался.
– Не в словах дело, Люба, пойми! Ну зачем нам сейчас…
«Баба-яга» появилась за спиной неожиданно. Она положила Сергею на плечо руку, и тот почувствовал, как тяжела ее ладонь
– Пора!
Сергей встал, не сводя глаз с лежащей. Сейчас ему, как никогда, не хотелось отступать. Но он пересилил себя. Сказал, уже отворачиваясь:
– Выздоравливай, Люб, поскорей, ладно?
Слова прозвучали неестественно сухо. Ребров и сам поразился их неискренности, но вернуть вспять время не мог, да и, наверное, незачем это было делать.
Он махнул рукой – было трудно понять: то ли это был жест прощания, то ли он просто попытался подсознательно отмахнуться от этого странного, не принимающего и не понимающего его мира. И быстро пошел к двери. Сестра за ним.
Когда они вышли и за их спинами захлопнулась дверь, разделявшая людей на больных и здоровых, сестра бросила в затылок Реброву:
– Вот всегда из-за таких вот длинных, глазастых все беды!
– Чего!!! – резко обернулся Сергей. Лицо его было перекошено гримасой злости.
Когда ректор сказал «прощайте!», у Любы ноги подогнулись в коленях, она чуть не упала. Но не это было страшным. Случилось более ужасное – она вдруг совершенно утратила способность защищать себя, бороться за место под солнцем. Что-то внутри лопнуло, и тело расслабилось, исчезли желания и стремления.
– Ну и черт с вами со всеми! Подумаешь, небожители! – произнесла она вяло.
– Что? Что вы себе позволяете?! – Ректор приподнялся над столом.
Но Люба уже хлопнула дверью.
Мишка банным листом прилип и не отставал.
– Ну? Как бугор? – канючил он. – Да не молчи же ты, Любашенька, поделись! Я же сейчас лопну от любопытства, ну-у?!
Мишка, как и обычно, скоморошничал, выдуривался.
Но Любе было все безразлично.
– Отвали!
– Все понял, мать. Прими мои глубочайшие соболезнования. Нет, честно, я тебя понимаю!
Они вышли в коридор, направляясь к выходу из института. Мимо прошел декан – походка у него была старческая, пошатывающаяся. Он даже не взглянул из-под своих старомодных очков в сторону знакомой ему парочки.
– Не отчаивайся, мать, – заулыбался Мишка, тыча большим пальцем в спину декана, – нас с тобой всего лишь из конторы этой паршивенькой списывают, а его скоро с белого света спишут, на радость учащейся молодежи! Так что, не мы с тобой самые разнесчастные, есть и бедолаги погоремычнее, так-то!
– Дурак! – процедила Люба.
– Какой есть, не обессудь.
На крыльце Мишка попридержал Любу, прижал ее спиной к резной массивной двери, уперся в теплое, нагретое солнцем дерево рукой, не давая проходу.
– А знаешь, Любаш, ведь мы с тобой одной бедой повязаны. Чего нам друг друга сторониться, а?
Люба молчала.
– Забудем про всех этих сморчков поганых! Ну их, всех до единого! – Мишка все больше распалялся. Но горячность эта была внешней. – Поехали ко мне, мать? Утешимся, бутылочку разопьем, потанцуем – все как рукой снимет.
Он достал из кармана связку ключей и принялся накручивать их на пальце, позвякивая, словно колокольчиком.
Люба опустила глаза, вздохнула.
Мишка решил поднажать.
– Ну-у, давай решайся. – Он положил ей руку на талию, привлек к себе – слегка, совсем немного. – Все будет о'кей, подруженька, лапушка, ты еще настоящих мужиков и не видывала. – Он уже не говорил, а шептал ей на ухо: Давай, не пожалеешь. Вспомни, как там, в песенке, – я мэн крутой, я круче всех мужчин, мне волю дай… это про меня, Любаша! Клянусь тебе, через пару часиков позабудешь про всех этих малахольных.
Люба попыталась освободиться. Но попытка эта была не слишком решительной. И Мишка, воспользовавшись секундным замешательством, прижал ее к себе плотнее. Теперь его губы касались ее маленького порозовевшего ушка.
– Ты чувствуешь, а? Не-е, ты ощущаешь, мать? Да мы созданы друг для друга – мой трепет передается тебе, а твой мне, да мы с тобой прямо тут уже в резонанс входим, горим, Любаша, не-е, ты можешь мне поверить – это любовь, это взаимное чувство. И его необходимо утолить, ты сама знаешь. Нет, не говори ничего, не надо, я и так вижу – ты согласна, ты чувствуешь то же, что и я…
Люба была в замешательстве, и она уже готова была подчиниться этому явно рассчитанному, но такому горячему порыву, во всяком случае, она не находила в себе сил сопротивляться ему.
Но Мишка все сам испортил. Его рука заскользила по ее телу – слишком уж жадно, ненасытно и открыто.
– И всех позабудем, Любаша, всех позабудем – и этого Колюню твоего, служаку, и Серого, простофилю, – нужны они нам, ну их на фиг! Нас теперь двое, все! Никого больше на свете нет! Все умерли, все передохли – и хрен с ними! Все только для нас, мы…
В это мгновение Люба вырвалась. На нее накатило.
Слезы брызнули из глаз. Она, как и в прошлый раз, но значительно сильнее, вкладывая вес своего тела в этот удар, хлестнула Мишку прямо по его нагловатой и раскрасневшейся роже. И зарыдала пуще прежнего.
Мишка отшатнулся. Выпучил глаза. Он еле удержался, чтобы не ударить ее. Костяшки пальцев, сжатых в кулак, побелели. Мишку трясло.
– Ну, сучара! Тварь подлая! Ты еще пожалеешь!
Он отвернулся. Ушел.
Минуты через две, почти придя в себя. Люба достала из сумочки зеркальце. Лицо было опухшим, глаза красными, краска с глаз расползлась по всему лицу. Она попробовала стереть ее платком. Не получилось. Пришлось возвращаться в институтское здание.
В туалете на втором этаже прорвало трубы, и она не смогла туда зайти – белесая вода расползлась по всему коридору. Пришлось подниматься на третий. Там была давка, не протиснуться. Но Люба все-таки через плечи, по-нахальному оттеснив двух-трех девчонок, протиснулась к крану, намочила платок. Ее пихали в бока, мешали. Она вышла, прикрываясь рукой, чтоб не слишком заметна была зареванная физиономия.
Свободную аудиторию отыскать не составило труда.
Люба прикрыла за собой дверь. Подошла к окну и принялась влажным платком протирать лицо. Прикосновения холодной, мокрой тряпицы немного приободрили ее, хотя самочувствие продолжало оставаться дрянным.
Когда она почти закончила свой маленький туалет и даже немного подмалевала глаза, ее внимание вдруг привлек чей-то раздавшийся с последней скамьи храп.
Люба вгляделась, подошла ближе. На скамье лежал парень в разношенном коричневом свитере и сереньких брючках. Рот его был широко раскрыт, лицо бессмысленно – парень спал. От него разило перегаром. Люба увидала под столом две бутылки из-под бормотухи – огромные, темно-зеленого стекла посудины. Сам парень в своей нелепой позе был гадок, вызывал отвращение.
Люба отвернулась от лежащего и собиралась выйти. Но в это время распахнулась дверь, и вошли два студента один плотный, высокий, второй хлюпик – в чем только душа держалась. Оба были раскрасневшимися, возбужденными. Люба их видала мельком в институтских коридорах, но по именам не знала.
– О-о, какая встреча! – пьяно заулыбался хлюпик и пошел на Любу, растопырив руки.
Высокий его остановил за плечо.
– Вон как, – сказал он, – мы бегаем, а Толик тут времени зря не терял, оказывается. Эй, Толяня-а, ты где-е?
Толяня не отзывался, он был мертвецки пьян.
– Спекся! – сказал хлюпик радостно.
– Дайте пройти, – тихо попросила Люба, пытаясь протиснуться между высоким и стеной.
– А я знаю тебя – Смирнова, с параллельного потока, точно? Угадал? Любашенька? – Длинный расплывался в улыбке.
– Она! – подтвердил хлюпик и подошел к спящему, ткнул его ногой, обутой в грязную донельзя, но когда-то белую кроссовку.
Толяня недовольно сморщился и перевернулся со спины на бок.
– Во дает! – удивился хлюпик, почесывая ранние залысины и оттопыривая безвольную нижнюю губу. – Ну, боеец! Нет, мы ему больше не нальем, не фига драгоценную влагу переводить попусту, точно?!
Высокий не ответил. Он все продолжал улыбаться Любе.
– Пустите!
– Да кто держит, пожалуйста, – сказал высокий, но не посторонился. – А хочешь, с нами посиди малость, скрась наше гордое и скушное мужское одиночество. Я тебе новый анекдот расскажу, хочешь, ну-у?
Люба молчала.
– По глоточку мускатику пропустим, а? Ну, решайся!
– Ага, – слезливо проговорил хлюпик, – докатились! – Он распахнул полы своего большого, не по размеру, пиджака, и во внутренних карманах вслед его движению качнулись две бутылки с торчащими краешками цветастых, явно импортных этикеток. – Докатились! Черт бы их побрал со всеми этими антиалкогольными указами! Довели страну! Бормотени не купишь! Ни портвейна, ни крепленого приличного, чтоб по мозгам било, не купишь ни черта! – Он толкнул ногой в валяющиеся бутылки. – Вон с утра в овощном давали розовое крепкое – так это ж удача неслыханная, там же побоище было! Все разобрали за час! А народу куда деваться, а?!
– Да заткнись ты! – остановил бесконечные излияния высокий, поправил на носу с горбинкой очки в металлической оправе. И снова предложил: – Винцо марочное – придает тонус и укрепляет здоровье… Да чего там, Витя, отворяй емкости!
И в Любе что-то сломалось. А, была не была! Она решилась, сейчас пару глотков в самую пору! Чтоб хоть както перебить этот жуткий озноб внутренний, залить его.
– Ну, по чуть-чуть, ладно, – сказала она тихо. – Только я спешу.
– Вот и лады! – обрадовался высокий.
Хлюпик уже откупорил обе бутылки. Одну протянул Любе.
– Кто ж так делает, салага, всему тебя учить! – Высокий пошарил в одном из стоков вытащил стакан, протер его мятым грязным платком. Протянул Любе. – Прошу, мадам!
Люба еще раз протерла посудину, но уже своим платочком, и подставила ее под струю – хлюпик не был жадным, налил три четверти стакана.
– Вздрогнули?!
Сами ребята пили из горлышка, не отрываясь, долго, судорожно подергивая кадыками.
– У-уф! – Высокий выпучил глаза, опустошив бутылку больше, чем наполовину.
– Хороша зараза, продирает!
Люба сделала несколько глотков и поставила стакан на стол. Он был почти пуст. Самой ей сделалось вдруг хорошо, тепло и приятно.
Хлюпик все сосал, причмокивая и капая себе на ворот светленькой рубахи. Наконец и он оторвался – но, наверное, лишь потому, что чуть не задохнулся. Лицо его было идиотски восторженным.
– В кайф! – процедил он, облизывая губы.
– Ну ладно, я пошла. Привет! – тихо сказала Люба. Высокий слегка приобнял ее за плечи – совсем по-братски, деликатно и нежно, подвел к столу.
– Ну куда же ты, Любашенька, только начали! Ну я тебя умоляю, посиди еще парочку минуточек с несчастными холостяками, дозволь полюбоваться и насладиться общением с такой раскрасавицей!
Он усадил ее прямо на стол. Пристроился рядом.
– К тому же у нас не все боеприпасы вышли! Еще посражаемся!
Он вытащил из карманов куртки пару бутылок. Поставил их рядом.
– Чокнулись, что ли? – удивилась Люба. – Вы же окосеете совсем!
– С самого утра косеем, а окосеть все никак не можем! – заявил хлюпик заплетающимся языком. – Еще по чутку – и все будет в норме! А Толяне хрен оставим, хорош с него!
– Ну ладно, плесните и мне, – согласилась Люба.
И они еще выпили.
Пока Люба прикладывалась к стаканчику, высокий, просунув ножку стула через дверную ручку, запер дверь.
– А то еще застукают! Ректор, гад, выпрет сразу! Он по этому делу сам не прохаживается, злой, зараза, трезвенник поганый! Лучше подстраховаться.
Толяня захрапел пуще прежнего.
Хлюпик подошел к нему нетвердой походкой, перевернул бутылку вверх дном – тоненькая струйка потекла в раскрытый рот спящего. Тот зачмокал, засопел. Но тут же успокоился.
– Во! Всем поровну! – сказал хлюпик.
Высокий тоже порядком обалдел, глаза у него стали ненормальными.
Люба собиралась встать. Но высокий ее удержал, обхватив рукой за плечи. Теперь объятие было более жестким.
– Ну ты чего? Так хорошо сидим, куда ты, лапушка?!
Он еще крепче сжал ей плечо, притиснул к себе. Другой рукой налил в стакан остатки из бутылки. Поднес ей к губам.
– Ну, хряпни немного! Потом анекдот расскажу. И я хряпну!
Люба отвела стакан рукой. Попыталась вырваться, не получилось. С другого края пристроился хлюпик с бутылкой в руке.
– Ну че ты, по глоточку! По малю-ю-юсенькому!
Высокий все же влил в нее чуть ли не насильно еще полстакана. Положение становилось неприятным. И Люба уже попробовала вырваться, дернувшись во всю силу, растопыривая локти. Ничего не вышло – у высокого хватка была мертвой. Вдобавок ко всему и хлюпик обвил ее талию своей тощенькой ручонкой, больно сдавил.
– Ну чего ты дергаешься, – прошептал в ухо высокий, чего ты?! Мы ж по-хорошему, все ж путем?!
– Я сейчас закричу! – отрывисто и зло сказала Люба. В голове у нее шумело, перед глазами все мелькало. – Понял?!
– Дура, что ли?! – Высокий даже обиделся будто. – Да если нас тут застукают – всем кранты, поняла?! И тебе тоже! Ты, лапа, представь картинку: открывают, а мы тут… и Толяня безвинно павший, ха-ха-ха! – Он был здорово пьян. Но говорил не запинаясь.
– Ага! – подтвердил хлюпик и икнул. Его рука поползла по Любиной коленке, приподнимая краешек платья, робко так, но ползла вверх.
– Пусти!
Высокий явно издевался, слюнил:
– Не-е, поздно! Тебя щас только пусти, ты нам зенки повыцарапываешь! Ну, нет, Любань, на самом деле – ты чего?! Ну, я же шучу, ну чего ты? Все путем! Чего тебе не по нраву, скажи?
Его рука гладила ей шею – нежно, ласково, с некоторой трепетной дрожью.
– Пус…
Рука сжала горло, сильно сжала – и крик не вырвался из него. Люба начала задыхаться, но тяжелая, сильная рука не отпускала горла. Она уже теряла сознание, когда пальцы разжались.
– Будь хорошей девочкой!
Хлюпик вовсю наглаживал потной ладошкой ей ногу, он забрался довольно-таки высоко, заворотив подол чуть не до пояса. Сквозь синтетику колготок Люба чувствовала сырость его ладони. Но она никак не могла отдышаться, перед глазами мелькали черные и зеленые точки.
Рука, только что сжимавшая горло, вновь ласкала ей шею – без спешки, без торопливости. Другой рукой высокий продолжал ей сжимать плечо. Хлюпик все так же обвивал талию, не давал спрыгнуть со стола.
– Ну вот и славненько, вот и хорошо, – нашептывал высокий. – Ах, какая девочка-конфетка!
Люба снова дернулась. Высокий сжал ей горло, но лишь на миг. Потом вслепую нащупал бутылку, отхлебнул из нее и приставил горлышко к Любиным губам.
– Еще по капельке, и полный ништяк! – проговорил он.
Твердое горлышко уперлось в губы, стало больно, вино полилось. Люба судорожно, не понимая, что происходит, глотнула раз, другой.
– Ну вот и прекрасно.
Лапка хлюпика перекочевала на другую ногу, оглаживая ее сверху и до колена, скользя с внутренней стороны бедра на внешнюю. Тяжелая рука высокого опустилась на грудь, сдавила ее. Но тут же выпустила. Люба почувствовала, как рука расстегивает пуговки на платье. И снова рванулась. Кричать у нее не было сил, все в горле оцепенело.
– Ну чего ты опять, ну не надо, – ласково и добродушно сказал высокий. – Чего ты такая дерганая. Как другим давать, так ничего? А нам?! Ты погляди, какие отличные парни, ну-у? Любаня, ну не строй из себя цепочку, ну чего ты?
– Пусти-и, – вырвалось у нее совсем тихо и хрипло. Тяжелая рука проникла уже под платье и теперь лезла под лифчик. Люба почувствовала боль – цепкие пальцы сдавили ее сосок, по телу волнами пробежала дрожь. Рука хозяйничала вовсю, перемещаясь с правой груди на левую и наоборот, ощупывая упругую горячую плоть без малейшего стеснения, словно имела на то полное право.
Из глаз у нее брызнули слезы.
– Ну чего ты, лапа, чего – первый раз, что ли? Не ломайся, все же знают, что ты давалка еще та – то с одним, то с другим, ну-у, Любашенька, ягодка, лапочка, давай же! Сейчас немножечко с тобой привстанем, и все будет по лучшим мировым стандартам. А ежели Витюню стесняешься, так он отвернется, правда, Витюнь?
– Хрен вам, – просипел Витюня. Он оставил ее ноги и теперь сжимал потной ладонью левую грудь. Дышал при этом тяжело, с надрывом.
– Вот как все ладненько. Ну-у! Тут делов-то на пять минут, давай, лапушка? – уговаривал высокий, притискивая ее все сильнее к себе левой рукой.
Тяжелая правая, видно вволю насладившись грудью, медленно опустилась на живот, огладила его и неспешно поползла еще ниже… Чуть перебирая зубами, высокий теребил ей мочку уха, обдавал горячим влажным дыханием.
Люба находилась в полузабытьи. Ей вообще казалось, что все это происходит не с ней, что это бред, кошмар, дурной сон. Но рука высокого опускалась все настойчивей, трепетно, но властно прощупывая каждый миллиметр ее тела…
– А-а-эхгхр-р! У-у, мать твою!!! – раздалось вдруг сзади. Это неожиданно взревел проснувшийся Толяня.
Люба дернулась. Но ее не выпустили и на этот раз.
Толяня медведем брел к двери, сшибая столы на своем пути, похоже, он ничего вокруг не видел. Рожа его была тупо взъяренной, глаза совсем заплыли. Увидав стоящую подле хлюпика бутылку, Толяня одной рукой смахнул того со стола – хлюпик грохнулся на пол будто мешок с опилками.
Толяня вскинул бутылку вверх, высосал остатки. И ничего не замечая, вновь пошел к двери. Стул он выдернул одной рукой, отбросил его далеко за спину. Распахнул дверь… и неожиданно рухнул в образовавшийся проем – он был смертельно пьян!
Люба почувствовала, как тяжелая рука выскользнула сначала из-под трусов, а потом и из самого платья. Железная хватка сразу ослабла.
Хлюпик бессмысленно мычал что-то снизу, не мог никак подняться.
– Валим отсюда! – выкрикнул испуганно высокий.
Вскочил со стола, бросился к двери. Через Толяню он перемахнул одним прыжком. И скрылся.
Люба встала. Подошла к екну. Но потом поняла, что оставаться здесь, в компании двух надравшихся до полуживотного состояния оболтусов, не стоит – вот-вот набежит народ. И выскочила следом за высоким. Того в коридоре не было видно, успел смыться, шустряк.
Но он понапрасну навел панику. Ни единая живая душа не высунулась из-за дверей, никто не бросился на крик… да и кто это и когда в шумных институтских коридорах бросался на крик! Скорее, наоборот, тишина могла вызвать подозрение… Сейчас было тихо, до странности тихо, словно институт вымер. Никогда еще Люба не видала его столь пустынным, по крайней мере, на этом этаже даже в пересменки, даже после занятий – в коридоре всегда кто-нибудь стоял, кто-то ждал кого-то, кто-то покуривал втихомолку, ленясь пойти в отведенное для курящих место.
Только ей было на все наплевать. Она еще раз машинальным жестом оправила платье, пригладила волосы. Быстро пошла в сторону лестницы.
Когда она поравнялась с дверью мужского туалета, та резко распахнулась, и чья-то рука ухватила ее за локоть, дернула. Люба не успела даже удивиться, до того все быстро произошло. И это опять был высокий парень в очках. Он тут же захлопнул дверь, прижал ее ногой. И шепнул Любе, нагло щуря глаза:
– Попалась птичка.
Внутренности туалета сияли новехоньким кафелем и свежайшей, ослепительной побелкой – здесь только что закончился ремонт и еще стояли заляпанные белыми пятнышками деревянные козлы. По сравнению с женским туалетом на втором этаже, залитым водою и только готовящимся к ремонту, этот был просто роскошен. Но текло вниз именно отсюда – Любе просто бросилась в глаза здоровенная труба, торчащая из пола, проржавевшая снизу, сырая, – лишь до нее, видно, пока не добрались руки ремонтников.
Да, положение было диким и страшным, сама Люба еще дрожала от всего предыдущего, не могла опомниться, наглость высокого парня была невероятной – и все же эта неестественная для института, для их института, чистота и белизна, какая-то даже сказочная непорочность помещения ударили в глаза, подавили уже вырвавшийся было из горла крик.
– Пусти, – просипела она тихо. И рванула руку.
– Ну уж нет, – заулыбался пуще прежнего высокий и прислонился спиной к двери. Глаза его были ненормально выпучены и красны.
Она упустила тот единственный момент, когда еще можно было постоять за себя, когда нужно было отпихнуть нахала, заорать, завопить на весь институт – какие сейчас приличия, не до того! Но поздно! Он снова положил свою тяжелую руку ей на горло – еще только лишь положил, не сжимая того, не сдавливая, а Люба уже потеряла возможность сопротивляться, ее сковала непонятная сила, обезножила и обезручила, лишила голоса.
– Ты очень послушная девочка, – прошептал высокий сиропным голосом. – И я бы тебя пригласил к себе домой, разумеется, угостил бы кофейком с конфетками, коньячком, поставил бы последние рекорда, но… Но, лапочка, я так горю от пылкой страсти, – он театрально понизил голос и заглянул ей в глаза так пристально, так глубоко, что ей показалось – он видит ее внутренности, ее сущность. – Я весь нетерпение, детка! И мы будем любить друг друга прямо сейчас, здесь, любить, нежно и горячо, о'кей?!
Она уперлась ему кулаками в грудь. Но это было наивно, смешно! Он лишь нагнул голову и чмокнул ее в каждый кулачок, а потом расхохотался в лицо.
– Ты меня уже любишь, детка! Я по глазкам твоим прелестным вижу, ты сгораешь, ты томишься, но твое старое застойное воспитание еще довлеет над тобою, ну?! Ну же?! Я ведь чувствую, как тебя трясет, ох, как ты дрожишь, как ты хочешь, как ты жаждешь моих ласок, верно?! Но ты не можешь сразу расслабиться, ты еще там, не со мной… А сейчас ты будешь со мною!
Он приблизил лицо и впился своими полными горячими губами в ее губы. Она стиснула зубы, попыталась отодвинуться, вырваться. Но он будто и не желал замечать всего этого, он завладел ее губами, ее ртом, он заставил губы расслабиться, приоткрыться, теперь он лишил ее и дыхания, воли. Она чувствовала себя жалким трепещущим птенчиком в его руках. Она хотела вырваться! Он все врал! Она вовсе ничего не жаждала и ни отчего не сгорала! Она хотела одного – освободиться, убежать, позабыть! В ней не было ни злости, ни даже раздражения. Лишь одно желание оставалось – бежать, бежать, остаться одной, чтоб все отстали, чтобы позабыли про ее существование, а она забудет про них про всех! А он вытворял с ее губами, что хотел. Он даже заставил ответить на свой поцелуй! Как?
Она сама уже ничего не понимала, это было выше ее понимания, выше ее сил!
Не переставая целовать ее, он опустил обе руки, стал потихоньку, нежно оглаживать бедра, приподнимать подол. Одновременно он разворачивался – столь же неспешно, чуть пританцовывая как бы. И она почувствовала, что теперь ее спина упирается в дверь. Он навалился всем телом, еще сильнее впился в губы и, обхватив ее бедра сильными руками, стал поднимать ее – медленно, осторожно, будто боясь спугнуть неловким движением этого трепещущего и податливого птенца.
Но в дверь вдруг ударили.
– Эй, что за идиотские шуточки! – донеслось из-за нее сипато, с пьяным подвыванием.
Следующий удар оказался сильнее – Любу вместе с высоким парнем, так и не разжавшим объятий, отбросило к стене. А на пороге вырос расхлюстанный и мутноглазый Толяня. Из-за его спины выглядывал хлюпик Витюня.
Оба пошатывались и глуповато улыбались.
– Оставишь откусить, – промычал Толяня и пошел к умывальникам.
Он долго не мог просунуть свою кудлатую голову между раковиной и краном. Но наконец ему это удалось. Брызги полетели вверх, в стороны. Но высокий и хлюпик ничего, казалось, не замечали. Первый по-прежнему сжимал в своих лапах добычу. Второй завистливо пялился, раскачивался из стороны в сторону.
– У-о-ох! Хор-рошо-о!!! – мычал из-под крана Толяня.
Люба почувствовала, как высокий поднес ее к козлам, попробовал было взгромоздить наверх, но ничего у него не вышло. И он прижал ее спиной к грубым, тяп-ляп сколоченным доскам, наклонным, сходившимся где-то на почти трехметровой высоте. Все это мало было похоже на игру.
Воспользовавшись тем, что ее горло и руки свободны, Люба закричала что было мочи, вцепилась пальцами в лицо обидчику, смахнула с носа очки.
– Ах ты, падла!
Высокий тут же перехватил горло, вывернул одну руку.
И крикнул назад полуобернувшись:
– Чего встали?!
Хлюпик тут же ожил, засуетился. Он подбежал, ухватил Любу за другую руку, дернул ее вниз, крутанул больно. Она ударила его коленом в живот. Но хилый Витюня даже не пикнул, не шелохнулся. Он вдруг разинул рот, хлопнул себя ладонью по лбу и радостно, с пьяным восторгом провозгласил:
– Стой! Все не так! А ну!
Он оттолкнул высокого вместе с Любой к стене с неожиданной силой, ухватился за огромные козлы, сдвинул их, потащил к двери. И когда одним концом козлы уперлись в дверь, он с совершенно идиотской улыбочкой повернулся к высокому, захихикал.
– Во как надо!
Они вместе подтащили упиравшуюся Любу к другому концу деревянного поскрипывающего строения, уперли спиной. Высокий передал хлюпику Витюне одну руку, левую, и тот завел ее за деревяшку, надавил. Люба захрипела.
– Потише, ублюдок! – рыкнул высокий. И завел правую руку за другую деревяшку. – Держи!
– А может, ты подержишь, длинный черт?! Думаешь, ты везде и всегда первым должен быть! – понесло с пьяным озлоблением хлюпика – у него даже безвольная нижняя губа вдруг выпятилась вперед. А болтающийся на плечах огромный пиджак стал похожим на лихую бурку.
– Да ладно, всем обломится, – успокоил его высокий. Подержи-ка, я очки подыму!
Он нагнулся. И Люба, изловчившись, ударила его ногой в грудь. Он даже сел на кафель, вздохнул тяжело и обиженно. Нацепил очки. И только после этого встал и резко, наотмашь, ударил ее ладонью по щеке. Снова сжал горло.
– Щас ты у меня…
Люба увидала, что с высоким что-то произошло, что он снова перепугался! Видно, он вообще был из породы трусливых людишек! Она даже обрадовалась, несмотря на то что хлюпик Витюня висел сзади гирей на руках. Еще не все потеряно, еще можно от них ускользнуть!
– Ну чего ты?! Не хочешь, дай страждущим! – заорал на высокого хлюпик. – Ослаб, что ль?!
Высокий снова задрал подол – на этот раз чуть не до шеи. Но снова его руки безвольно повисли, а в глазах еще сильнее промелькнуло нечто похожее одновременно на страх и растерянность. Видно, он на секунду протрезвел… И тут на его плечо легла здоровенная ручища, мокрая, оставляющая темное пятно, расплывающееся из-под пальцев.
И высокий отлетел к подоконнику.
– Пусти профессионала! – прокомментировал дело словами Толяня. И добавил беззлобно: – Щенок!
Он задрал платье еще выше, сжал обеими руками полные груди. Но тут же выпустил их. И опять одна рука сдавила горло жертвы, другая скользнула ниже, вцепилась в край трусов, рванула. Да так рванула, что затрещала легонькая тоненькая ткань и полетела обрывками куда-то в угол.
Люба увидала его глаза – пустые и безумные одновременно. И поняла – пощады не будет, поздно! Она сама была виновата, ведь уйти надо было сразу, там, из аудитории! Теперь все!
Он навалился на нее медведем, уткнулся губами в шею, но не целуя, а надавливая, прижимая голову к шершавому дереву, мокрые растрепанные волосы ползли Любе в лицо, в глаза. Теперь она вообще не могла кричать, теперь она была на грани обморока – перед глазами все мельтешило, кружилось. Сердце стучало с такой бешеной скоростью, что казалось оно вот-вот выпрыгнет из груди или остановится в изнеможении. Она ничего почти не чувствовала. И все же когда в ноги вцепились две грубые, нещадящие лапы, впились в мякоть цепкими стальными пальцами, раздвинули – грубо, бесцеремонно, словно нечто неживое, она вскрикнула. Но тут же захлебнулась слезами, умолкла.
Они делали с ней что хотели! Но она была бессильна. Если бы хлюпик Витюня знал, что она сейчас чувствует, он бы выпустил ее руки – не было никакой нужды заламывать их, удерживать, совсем не было!
Огромный Толяня, медведеобразный и невменяемый, терзал ее долго. А отвалившись, опять долго пил воду из-под крана, мочил голову. Высокий жался у подоконника, поглядывал на дверь.
– Ты че, падла! А ну давай, иди, держи! – злился на него хлюпик. – Не можешь, другим не мешай!
Толяня, напившись, ухватил жертву за руки и великодушно бросил хлюпику:
– Не сопи, Витюньчик, давай-ка оприходуй девочку в честь этого торжественного дня ее сдачи в эксплуатацию, ну! Живей только, еще застукают!
Он понемногу трезвел. Голос звучал почти нормально, но рожа – что у него была за рожа! Вся перекошенная, красная, изможденная – будто он пил уже неделю кряду, не просыхая!
Люба висела в полуобморочном состоянии. И все же по ней прокатилась волна дрожи, еще одна волна, когда ее тела, ног, коснулись потные холодные ладошки хлюпика. Она дернула коленями, подтянула их вверх, чуть не к подбородку. Но хлюпик с легкостью, играючи, развел их руками. А дышавший перегаром в ухо Толяня, так сдавил горло, что все поплыло перед глазами, резко стемнело… Она потеряла сознание.
Хлюпик испугался было, отстранился. Но Толяня его приободрил:
– Все путем, Витюньчик! Давай работай, так даже верней!
Последние слова долетели до нее словно сквозь вату. И все пропало.
Очнулась она у тех же козлов. Наверное, прошло совсем немного времени. Но в туалете стоял дым коромыслом. Кто-то на кого-то орал, кто-то с кем-то дрался. Она ничего не могла понять, всматривалась, думала, что все ей снится, что это наваждение какое-то, нереальность.
– А ты, сучара! – орал Толяня. – Может, ты еще нас заложить хочешь! Ну уж нет, падла, будь ты хоть импотент законченный, но если ты не трахнешь эту кошелку тут же, при нас, я тебя по стене размажу!
– Заткнись! – выкрикнул высокий. Но выкрикнул как-то тихо и неуверенно.
Толяня врезал ему под подбородок. И тут же ткнул кулаком в живот. Добавил коленом. Хлюпик налетел сбоку, засадил по уху. Да так, что у высокого опять слетели очки, он поморщился, скривился.
– Сам, гад, все затеял, сам начал, а теперь нас под статью подвести хочешь, продать, – хрипел хлюпик, – ну уж нетушки! Считаю до трех!
– Чего-о?! Я тебя раздавлю, клоп! – Высокий взъярился. Но это была последняя вспышка ярости. Он не мог больше сопротивляться. – Ладно, – проговорил совсем тихо, с дрожью в голосе, – пропадать, так с музыкой.
– Ну то-то! – Толяня смазал для порядку высокого по макушке – совсем легонько, скользячкой. А тот пригнулся, словно от настоящего удара, видно, нервы сдавали.
Вдвоем они подтолкнули высокого к Любе. Та стояла ни жива ни мертва. Она даже не пыталась опустить задранного подола, боялась двинуться – ей казалось, сделай сейчас хоть одно движение от козлов – и упадет, грохнется на залитый водой кафель.
– От судьбы не уйти, – шепнул ей на ухо высокий. И с какой-то злой иронией шепнул совсем тихо: – Ох, подружка-девочка, нас тут, получается, обоих насилуют, и тебя, и меня! Но как говорится в том самом анекдоте, который я все порывался тебе рассказать… – Его руки ощупывали ее, овладевали телом, приподнимали выше, прилаживая ее удобнее, под рост. – Так вот, что остается делать, когда тебя насилуют? А одно лишь, лапушка, надо попытаться расслабиться и получить максимум удовольствия!
Люба слышала краем уха, как ржали, заливались Толяня с Витюней. В голове гудело, по вискам ударяли незримые молоты. Она и без всяких советов была расслаблена до предела. Но о каком удовольствии могла идти речь! Ей хотелось одного – умереть прямо сейчас, прямо здесь, назло всем, чтоб их всех тут застукали рядом с ней, мертвой, бездыханной, валяющейся на кафеле в прозрачной луже, посреди ослепительно чистого, выбеленного до неестественности и обложенного сверкающей плиткой туалета. Ах, если бы это было возможно!
– Ну все, порядок!
Высокий отвалился, пошатываясь пошел к подоконнику. Толяня ударил его в спинку, ударил ладонью, Шутя, но высокий чуть не упал.
– Молоток! – просипел Толяня. – А теперь надо когти рвать, ребята. Заигрались, хорошего понемногу!
– Что с ней-то делать? – спросил озабоченно хлюпик совершенно трезвым голосом.
– Прирезать, – равнодушно сказал Толяня. Но, увидав, как побелел хлюпик, рассмеялся: – Да шучу, Витюнчик, шучу! Чего с ней сделается! Она нам сама через пару дней спасибо скажет и предложит повторить забег, так? Так! Во, гляди, как млеет!

Они все уставились на свою беспомощную и истерзанную жертву. А она не видела их – опять все кружилось, вертелось перед глазами.
– Приведи-ка девочку в порядок, – приказал Толяня хлюпику.
Тот подошел, опустил подол, оправил платье, ощупал, охлопал, обтер платком шею и лицо, потом пригладил волосы. Отошел на шаг, полюбовался.
– Нормалёк!
Толяня с кряхтеньем и приохиванием нагнулся, подобрал разодранные трусики, скрылся в кабинке. Послышался звук спускаемой воды.
– Вот теперь все в норме, теперь точно, – проговорил он выходя. – Щас бы полпузыречка засандалить бы! У кого чего есть?
Они порылись в карманах, наскребли на бутылку.
– Ну чего, лапка, – Толяня легонько ударил Любу по щеке ладонью, – ты тут прописалась, что ль? Иди гуляй! Больше все равно не получишь сегодня! – Он усмехнулся и добавил: – Мы народец, измученный нарзаном, ослабленный, стало быть. Ну ладно, хорошего понемногу! Отчаливай!
Хлюпик захихикал. Высокий молчал.
Они отодвинули козлы от дверей. Люба чуть не упала.
Она резко рванулась. Высокий сразу кинулся к ней, испугавшись чего-то. Он схватил ее за плечо. Но рука сорвалась, попала за ворот, расстегнула платье, сорвала с плеча бретельку лифчика, чуть не порвала ткани – обнажилась левая грудь, открылись синяки на ее нежной, почти прозрачной коже. Высокий отвернулся.
В это время распахнулась дверь. И появился седовласый, сухой, как мумия, декан, тот самый Григорий Львович. Лицо его приняло выражение крайнего изумления.
– Что здесь происходит? – спросил он растерянно, не в силах совладать с волнением.
_ – Ничего особенного, – ответил за всех хлюпик, – и извольте не теребить ширинку при даме!
Его пьяная или просто дурная наглость поразила всех. Толяня выскользнул первым. За ним ушел высокий.
– Вы пьяны! Во-он!!! – заорал вдруг декан багровея. Немедленно убирайтесь вон! Я вами займусь еще!
И тут его взгляд остановился на Любе, точнее, на ее обнаженной груди. Декан стал опять бледным, почти белым.
Он положил руку на сердце, словно у него начинался приступ. А Люба стояла, она была в полнейшей прострации, у нее не поднималась рука, чтобы хотя б прикрыться, да она и не понимала в этот миг ничего, не видела.
– Вы? – спросил декан. – Это опять вы?! – Он уже пришел в себя. Он был опытным педагогом, он много прожил, он умел брать себя в руки. – А позвольте поинтересоваться, что вы тут делаете? Да еще в таком виде?! Как вам не стыдно?!
Люба просипела что-то, ей хотелось сказать все сразу, пожаловаться на весь белый свет, на всех до единого, заплакать, закричать, забиться в истерике… Но ничего, кроме этого жалкого выдоха-сипа, она не смогла произвести на свет.
– И вообще – как вы тут оказались? – Голос Григория Львовича мягчел, добрел. – Зачем вы затащили сюда этих шалопаев? Этих мальчишек?! Как вам не стыдно?! Ах, какая вы развращенная и дрянная девчонка! Вам бы об учебе думать! – Его тон, его голос совсем не соответствовали произносимому, они были какими-то приглушенными и приторными. – Нет, вы мне объясните, обязательно объясните все. Если вы сумеете найти в себе силы и сказать правду, зачем вы пытались совращать этих мальчуганов, зачем вы их затащили сюда и что с ними делали, я вам клянусь, никто не узнает обо всем этом… или вы хотите сплетен, грязных сплетен по всему институту. Впрочем, вам институт теперь – чужое заведение, но…
Люба и слышала его голос, и не слышала. Слова протекали сквозь нее, не задерживаясь, не оседая в сознании. Она пришла в себя и стала оценивать происходящее чуть позже, всего лишь на несколько минут позже. Парней не было, они ушли. Перед ней стоял декан, Григорий Львович, что-то говорил, говорил, было светло, чисто… И она вдруг увидала на своей обнаженной груди дряблую, морщинистую старческую руку. Лишь потом она ощутила холодное и сухое прикосновение – легкое, почти неосязаемое: пальцы ласкали ее кожу, теребили сосок, вдавливались в плоть.
– … я думаю у вас есть возможность все исправить, да, все поправимо, вы не такая уж безнадежная, и я вам обещаю восстановить вас, все будет хорошо, – нашептывал Григорий Львович, и рука его становилась более смелой. – Вы прекрасная девушка. И вы будете преуспевающей студенткой, обещаю вам!
Она резко отбросила его руку. Поправила лифчик. Застегнула платье. Вышла, ничего не соображая, как сомнамбула, спустилась на второй этаж, прошла по щиколотку в воде в затопленный туалет. Взобралась на подоконник. И долго просидела на нем. Что-то лопнуло внутри. И добиваться чего-то, защищать себя не хотелось. Даже плакать не хотелось.
Все было кончено. Никто не хотел ей помочь, больше того – никто не хотел ей верить, если от нее чего-то и хотели, так только одного – тела. Двери института захлопнулись раз и навсегда. Ни друзей, ни знакомых не осталось. Повсюду мерещились подлые, гнусные хари, таились злоба, похоть, жестокость.
На улице из неизвестно откуда взявшейся тучки моросил противный мелкий дождик, настолько слабый, что никак не мог намочить, вычернить асфальта под ногами, но достаточно сильный, чтобы испортить настроение.
Настроения, как такового, у Любы уже и не было. То, что творилось теперь в ее душе, можно было назвать как угодно: апатией, безразличием, полнейшим отсутствием всяких мыслей и чувств, но только не настроением. Она уже не натыкалась на прохожих – мозг был отключен, и вело ее что-то неведомое, подсознательное, заставляющее идти в одном ритме со всеми, не отставая и не перегоняя, не выбиваясь на сторону.
То, что было утром, казалось далеким и невзаправдашним. Но в этом состоянии Люба не могла уже понять, что если бы не было утреннего взлета, то наверняка не последовало бы за ним и нынешнего падения. Она понимала лишь одно – что падение это бесконечное, неостановимое…
Троллейбуса долго ждать не пришлось. И места были свободными. На следующих остановках стал прибывать народ.
– Ваш билет, девушка!
Над Любой стояла пожилая тетка, откормленная, мясистая.
– Да ты что, милая, оглохла. Если нету – так нечего крутить! А ну, вставай. Плати штраф, а то в милицию сволоку!
Люба поняла смысл слов лишь с третьего обращения, когда тетка нависла над самой головой и кричала чуть не в лицо. Она молча вытащила из сумочки кошелек, неторопливо отсчитала три рубля мелочью и протянула ее контролеру. Встала – следующая остановка была ее.
– Квитанцию возьмите! – заорала тетка, видимо взбешенная тем, что ей не уделяют должного внимания. – Как бесплатно ездить, так они рассиживают, шалавы, тунеядки! А как им хвост-то прижмут, сразу воображать начинают!
Ишь ты, фифа какая! Это мы всю жизнь вкалывали как проклятущие, а они за ночку в гостинице с каким-нибудь эфиопом чернозадым, себя на полгода жратвой и выпивкой обеспечивают! Интершлюхи хреновы! Вы поглядите на нее!
Троллейбус остановился, Люба вышла; ничего не слыша, не ощущая ни стыда за то, что ее всенародно оштрафовали и обхамили, ни раскаяния. Да и какое могло быть раскаянье, какие могли быть внешние причины, способные растормошить ее теперь?!
– Молодежь! Заразы! Проститутки! – почти визжала в спину побагровевшая контролерша. – Войны на вас нету!!!
Придя домой. Люба аккуратно повесила сумочку на крюк, сняла туфли. Машинально, ничего не видя в нем, погляделась в зеркало.
Зазвонил телефон. Люба приподняла трубку сразу.
– Ты, Любаш? Ну как, прочухалась? – поинтересовались из трубки голосом Новикова.
– Ага, прочухалась, – ответила Люба.
– Ну и отлично! – Николай был явно в прекрасном настроении. Ему шутилось легко: – И у меня нормалек! К выходному застилай постель и жди в гости! Слышишь?
– Слышу.
– Ты чего такая скучная-то? Или, может, нового любовничка себе завести успела, про меня забыла, а, Любаш, отвечай? Чего молчишь! Шучу ведь, шучу-у! – Николая прямо-таки распирало от какой-то непонятной радости. Ты не грусти! Денек сегодня – лучше не надо, прям все мечты исполняются! У меня тут прям крылышки за спиной растут! Лю-ю-ба-а, ау-у?!
– Тебе весело?
– Ага, еще как, отпуск дали! Ты рада?
– Очень.
Она повесила трубку. Снова подошла к зеркалу. Но опять ничего в нем не увидела, не смогла сосредоточиться. Телефон трезвонил как заполошный.
Люба к нему не подходила. Она немного прибралась в комнате. Потом подмела в прихожей, расставила обувь. Постояла. После этого прошла на кухню, вытерла со стола, отжала тряпку и повесила ее сохнуть.
Заглянула в комнаты – следов сестры не было, вновь вернулась на кухню и, на ходу расстегивая верхние пуговицы на платье, подошла к плите, до отказа вывернула все ручки. Огня не зажгла…
– А ничего! – Медсестра была не из тех, кого можно было взять на испуг. – Что слышал! Из-за тебя, небось, девка-то травилась, а?! Чего из себя невинного строишь!
Сергей обмяк. Язык отказывался подчиняться ему, в горле как-то сразу пересохло.
– Не гляди, не гляди – тоже мне! Было б из-за кого! Сестра входила в раж. – А эти тоже дуры. Нет, это ж надо такими дурехами быть – ведь не одна ж такая?! Будто для того и выдумали плиты газовые, что все их дела сердечные одним махом решать, – говорила она упоенно, не замечая Сергея. А когда заметила, добавила суше: – Ну, ладно, соколик, чего встал-то, иди себе с Богом. Ты свое дело сделал, можешь отдыхать. Иди, иди!
Сергей все понял. Понял только теперь. «Ты свое дело сделал!» – вертелось в мозгу.
Сергей плюхнулся на лавочку в прибольничном сквере. Ослабил галстук на шее, снял фуражку. «Это я сделал свое дело!» Он был твердо уверен в том, что причиной был не он один, но все же… «Свое дело сделал! Да! – приходилось признаваться самому себе. – Внес лепту, – с сарказмом подумал он. И вдруг до боли осознал все случившееся, горькая волна прокатилась в груди, обожгла сердце: – Сволочь!» Он с силой сжал голову в ладонях так, что даже заломило в висках. «Сволочь, всю жизнь только о себе думал, а теперь получай! Ну ладно!» Что «ладно» – он не знал, в памяти всплывали одна картина за другой. Их безмятежная жизнь до армии, когда ничто не нависало над ними, когда день шел за днем и каждый таил в себе что-го приятное, хорошее. Он плыл тогда по волнам, растворяясь в ее любви, в ее заботливости. И все было до того хорошо для них обоих. «Обоих?» – Сергей поймал себя на том, что он и тогда чувствовал, что что-то не так, что безмятежность охватывала лишь его одного. Что с ней-то все было совсем иначе. Тогда он гнал от себя эти мысли, не хотел верить в них – так было проще: пускай думает она, а он, он будет с ней, и вдвоем им будет славно. Но все было не так.
«Я, я, я, – стучало в голове, – всегда только я, только мне. А каково ей здесь приходилось?!» Сергею показалось, что он сходит с ума. Все окружающее отступило куда-то вдаль, завертелось перед глазами. «И главное – она-то ведь все видела, все понимала… и терпела меня. Ни одного слова упрека, ни одного взгляда. Подонок! Скотина!» Ничего вернуть уже было нельзя, все прошло.
И тут Сергей совершенно отчетливо понял, что он сам отрезал все пути. Сам поставил последнюю точку. Что уже ничего больше не будет, а если и будет, то не с ним, с кем-то другим. А с ним – никогда!
И повторить ничего не удастся. Он до горечи во рту ощутил всю бессмысленность поисков врагов, недоброжелателей и всяких прочих причин снаружи. Их надо было отыскивать в себе.
Сергей встал и, не надевая фуражки, держа ее в руках, побрел к остановке. Надо было ехать домой. Надо было поправлять то, что еще можно было поправить. Иначе… иначе места ему в этом мире не оставалось.
Прозрение приходило не сразу, оно было неотвратимо и тяжело. Но поделиться этой тяжестью было не с кем.
На второй день Сергея в больницу не пустили. И он сидел на уже знакомой лавочке под кленом, в прибольничном сквере. С неба моросил мелкий, словно паутинка, дождик. Сергей его не замечал.
Он не помнил, как вчера добирался до дому. Только у самого подъезда очнулся. Громкий басистый голос вырвал его из полузабытья:
– Серега! Спишь на ходу?!
Перед ним стоял Юрий, родной брат.
– Хорош! Форма тебе в самый раз, брательник. Ну, чего невеселый? Привет!
Сергей выжал из себя замученную улыбку, протянул руку.
– Привет. – Сам-то как?
– А чего нам сбудется? – Брат перестал улыбаться, видно, почувствовал – что-то не ладно. – Ты чего как на похоронах?
Сергей только рукой махнул – вдаваться в подробности ему не хотелось, да и ни к чему все это было сейчас.
Юрий недовольно поморщился, похлопал младшего брата по плечу.
– Ладно, давай-ка домой. Мать заждалась. Да и отец там же… – он заглянул Сергею в глаза, – ты соберись, Серега, не кисни – зачем маму зря расстраивать. Сам знаю служба не пряник, но будь мужиком, не бабьем!
– Да не в этом дело, – перебил его Сергей.
– Ну-ну, – растерянно проговорил Юрий, глядя в спину уходящему брату.
Мать хлопотала на кухне – Сергей услышал ее голос еще с лестничной площадки, вставляя ключ в замок. И от этого настроение неожиданно поднялось, задышалось легче главное, что с ней все в порядке: на ногах, а ведь последнее время почти и не вставала с постели. Свои дрязги сразу же отошли на второй план. Он шумно захлопнул дверь, чтобы предупредить, не напугать своим неожиданным появлением. Повесил фуражку на крюк покосившейся вешалки.
– Сергей?! – Из-за двери комнаты высунулась голова отца. Лицо было растерянным, чувствовалось, что он никак не может справиться с этой растерянностью. – Ты?
– Я, я, кто же еще! – ответил Сергей, проходя мимо.
Он шел на кухню, туда, откуда доносился минуту назад голос матери. Сердце в груди замерло, к горлу подкатывал сухой, шершавый комок.
– Вот и я, мам, не ждали? – нарочито весело начал было Сергей и тут же осекся. Сжало горло, слезы подступили к глазам – еще б секунда, и он разрыдался.
Но Марья Сергеевна опередила его, прижалась к груди, повторяя одно и то же: «Сереженька, Сереженька…» По спине у нее пробегали волны какой-то дрожи. Но она не плакала. Когда Сергей чуть нагнулся, чтобы поцеловать мать в щеку, он увидел на ее лице улыбку.
Отец стоял за спиной, его присутствие не только ощущалось, оно давило на Сергея, заставляло быть сдержаннее, чем ему бы этого хотелось. Постепенно где-то внутри начинало закипать раздражение, грозящее перелиться во что-то более серьезное. Но и здесь первой оказалось мать.
– Сережа, поздоровайся с отцом, – прошептала она на ухо, – я прошу тебя, ну не будь таким безжалостным, ради меня.
Сергей повернул голову, кивнул. Из полуоткрытого рта его вырвалось что-то тихое, неразборчивое. Смотреть на отца он почему-то боялся, отводил глаза в сторону.
– А ты здорово изменился – настоящий мужик!
– Да ну? – Сергей скривил губы в иронической ухмылке. – Надо же как интересно. Ты б подольше гулял, так и вообще меня уже стариком застал!
– Прекрати! – Мать дернула Сергея за рукав. – Прекрати немедленно, это ж отец твой!
Отец широко улыбнулся, от прежней растерянности на лице не оставалось и следа, он уже почувствовал себя хозяином положения и сдавать позиций не собирался.
– Злость, Серега, не лучший советчик, – тихо, но очень внятно проговорил он, – ты уж поверь мне. Давай-ка как в пословице – кто старое помянет, тому глаз вон…
– А кто забудет, – резко оборвал отца Сергей, – тому оба долой, так?!
Тот сокрушенно покачал головой, не нашелся.
– А вот я вас сейчас накормлю хорошенько – так вы у меня по-другому заговорите, – нарушила паузу Марья Сергеевна, глядя то на одного, то на другого. – Сережа, живо переодеваться, руки мыть и за стол!
Сергей мысленно поблагодарил ее за помощь. Скандала он не хотел, сдерживаться не умел, а мать всегда была тем связующим звеном, без которого давно бы уже вся семья полетела бы в тартарары, ко всем чертям. Он с нежностью заглянул ей в лицо, улыбнулся виновато, с еле заметной долей признательности. После этого пошел в свою комнату, с радостью вдыхая в себя на ходу приятные домашние запахи…
Сейчас, сидя на лавочке и вспоминая вчерашний день, Сергей все больше и больше проникался симпатией к отцу.
В душе его зарождались какие-то новые, неведомые чувства к человеку, которого, по сути дела, и не знал толком. Нет, он не прощал его, да и как он мог простить то, чего не понимал до конца, просто само собой пришло чувство близости, родства. И если раньше возвращение «блудного» отца представлялось ему чем-то страшным, недопустимым, то теперь Сергею казалось, будто иначе и быть не могло. Ощущение своей неправомочности вмешательства в родительские отношения покинуло его, и на смену пришла твердая убежденность в том, что не мешать им он должен, а помочь, помочь своей добротой, пониманием.
К Любе не пускали. Сидеть здесь, на лавочке, в пустом ожидании? Ожидании чего?! Нет это тоже было невыносимо. Уйти? От себя не уйдешь, уж что-что, а это Сергей понимал прекрасно.
И когда он, окончательно отчаявшись, собирался встать и идти, из больничного окна сверху раздался слабый, но такой до боли знакомый голос. Ребров обернулся всем телом, чувствуя, как холодеют пальцы.
– Сережа! Постой.
И он увидел ее. Высунувшись наполовину из окна, Люба махала ему рукой, она звала его. Разделявшие их двадцать с лишним метров Сергей преодолел на одном дыхании. Замер, сорвав с головы фуражку, но так и не взмахнув ею в ответ. Зеленое натянутое сукно потемнело от пропитавшей его влаги. Голоса не было.
– Сергей, – Люба смотрела на него уже не теми отрешенными глазами, что вчера, – в зрачках светилась жизнь. – Сережа, я была с тобой неласкова, прости, – скороговоркой, почти без выражения заговорила Люба. – Господи, все не то. Сережа, только я прошу тебя – не вини себя ни в чем! Хорошо? Ты слышишь меня – ты не виноват, это я сама…
Он увидел выступившие на глазах девушки слезы. Стало душно, не хватало воздуха, несмотря на то что мелкий освежающий дождик нес с собой озон.
– Ну что ты… – начал было он.
Люба его оборвала. И говорила, говорила, говорила… Сергей не понимал слов. Голову словно сжало обручем, он смотрел на любимое лицо, ловил интонации, упуская при этом смысл. Пальцы до боли, грозя искорежить строгую форму, сжимали фуражку. Голова намокла, и с волос текло на лицо, за шиворот. Он разобрал только одно – Люба прощает его. И уже не помнил, что совсем недавно никак не мог решить – простить ли ее саму! Нет, он не помнил об этом. И ловил слова прощения с жадностью и самообольщением, тут же рисуя себе в горячечном воображении картины радужного будущего.
– Да ты не слушаешь меня! – почти выкрикнула Люба. – Сергей, что с тобой? Где ты?!
Опомнившись, Ребров что-то промямлил в ответ, пытаясь изобразить на лице улыбку.
– Ну зачем ты пришел сегодня, зачем еще раз? Ты же был вчера? Разве этого мало?
На него будто вылили ушат ледяной воды. Обруч на висках рассыпался, в глазах прояснилось. «О чем она? Ведь все было так хорошо…» Сергей встряхнул головой, и по сторонам разлетелись крупные брызги.
– Я хочу сама разобраться в себе. Пойми, Сережа, не надо приходить, не надо писать. Когда-нибудь потом я сама напишу или приду. Потом.
– Погоди! – Сергей взмахнул рукой, пытаясь остановить этот миг. – Люба, мне завтра в часть. Скажи хоть что-нибудь определенное. Ну пойми ты, что я уже устал ото всего, я не могу больше так.
– Вот и давай, Сережа, отдохнем друг от друга. Умные люди говорят, что такие передышки только на пользу идут Ты слышишь меня?
Но Сергей уже не слышал. Он шел в сторону больничных ворот. И Люба видела его напряженную, ссутуленную и промокшую под дождем спину.
«Может быть, это и к лучшему», – успела подумать она до того, как из-за ее плеча вынырнула волосатая полная рука медсестры, цепкие пальцы вцепились в ручку, и окно с шумом захлопнулось.
– Ты что это, девонька, всех моих больных застудить собралась?! Гляди у меня!
Люба молча прошла к своей койке. Она не чувствовала в душе покоя – даже то его подобие, что было в ней до сегодняшнего разговора, растворилось, исчезло. Вдруг очень захотелось домой. До слез, до крика. Она упала лицом в подушку и заплакала. Заплакала не от жалости к себе и не по Сергею, а просто потому, что слезы накопились и надо было дать им выход.
– Поплачь, поплачь, милая, – тяжелая рука опустилась на голову, пригладила волосы. – Так-то оно легче.
Люба дернула головой, затихла.
Через минуту от самой двери в палату до нее докатился шепот медсестры:
– Вы ее, девоньки, к окошку не подпускайте – еще сиганет вниз – греха потом не оберешься. Все они нонешние какие-то чокнутые, прости Господи!
5 Каленцев старался не замечать того, что происходило на его глазах, но еще больше он остерегался копаться внутри своей души, он боялся признаться себе, что неравнодушен к Оле, гнал эти мысли прочь. Но они возвращались. И деваться от них было некуда. «Старый дурак, – корил он себя, – ты же на восемь лет старше ее, неужели не соображаешь. Если б, к примеру, ему было сорок, а ей тридцать два – еще куда ни шло, но семнадцать и двадцать пять?…
Нет, не годится!» В свои двадцать пять Каленцев считал себя чуть ли не пожилым человеком. Его друзья и однокашники по училищу давно уже были женаты, имели детей, да и те, кто позже закончил учебу, не все, но все-таки большинство, приезжали в часть семейными, обремененными множеством забот. Втайне Каленцев завидовал им, но явно этого не показывал. Наоборот, старался подчеркнуть свое независимое положение, делал вид, что гордится им. Так и шло время, постепенно отнимая из жизни год за годом, пока он не заметил, что из голенастой, пискливой девчонки, дочери командира части, получилось, какого неожиданно для всех, нечто стройное, пышноволосое, привлекательное…
Все это произошло недавно, каких-то полгода назад.
Но полгода эти Юрий Алексеевич ходил не то чтобы сам не свой, но все же несколько отвлеченный, излишне, как это казалось со стороны, задумчивый. Предпринимать что-либо он не решался и, хотя постоянно сам себя корил за слюнтяйство, чувствительность, запрещал себе думать об Оле, где-то в глубине души он знал, что просто еще рано, что надо выждать хотя бы годик, а потом… Теперь этого потом могло и не быть. Совершенно неожиданно на горизонте появилось непредвиденное препятствие, соперник, которого и соперником-то было какого неудобно признавать, мальчишка, юнец, его же подчиненный – рядовой Черецкий.
Что мог поделать старший лейтенант Каленцев? Что мог изменить Каленцев-человек? Ничего. Воспользоваться своим правом командира? Пойти на это Юрий Алексеевич не мог, не привык жить в разладе с совестью. Спокойно следить за развитием событий? Что могло быть хуже, мучительнее? Оставалось лишь одно – выжидать. Не за горами тот день, когда, окончив, как они сами ее называли, учебку, ребята разъедутся по частям. Уедет и Черецкий.
Но поможет ли это? Каленцев терялся в догадках, сомневался… но придумать ничего не мог.
Оля всегда смотрела на Юрия Алексеевича как на человека старшего, в общем-то хорошего и симпатичного, но не имеющего и не могущего иметь лично к ней никакого отношения. Ох, если бы хоть один неравнодушный взгляд, хоть одно теплое словечко – Каленцев знал бы, как ему быть! Но ничего не было: ни взглядов, ни слов…
А время шло, и его неумолимый ход Юрий Алексеевич ощущал на себе, постепенно свыкаясь со своим положением застарелого холостяка, ни на что не рассчитывающего, ничего не ждущего.
«Привет, Серый!
Пишет тебе бывший студент, а теперешний самый разнесчастный человек на свете, лаборант одной шибко научной конторы Мишка Квасцов. Эх, доля моя горемычная! Думал, до армии погуляю, отдохну всласть, покуролесю! Так нет! Кроме тебя, Серега, некому и печаль-то свою излить – вот до чего дошло.
А все пахан, папаша разлюбезный! Я на него, как на Бога молился, все ждал, когда он с чужбины возвернется да сыночку единственному подмогу окажет. Все зазря! Он даже не позвонил в институт, говорит, сам выкручивайся, мол, все условия для учебы были! Вот так вот! Это еще присказка, это всего лишь полбеды: как меня поперли из вуза-то, так он вмиг работенку подыскал. Говорит, чтоб ни единого дня на его шее не сидел. Вот так, Серега! Слава богу, хоть не к станку послал! Эх, да теперь все равно! Теперь мне и армии не миновать. Шутки шутками, а с учебой придется расстаться, как минимум, на три года. Такие дела! А ведь все носом вертели, и то нам не так, и это не эдак. Но теперь все – жизнь по новой начинать придется.
Как я тебе завидую. Серый, аж до скрежета зубовного – ты хоть времени даром не терял, а у меня все наперекосяк даже после армии восстановиться не дадут, придется заново с первого курса начинать! Ты меня уж извини за нытье это. Знаю, что у самого тебя есть горести. Да вот какого подумал, что ежели изолью и я свои перед тобой, поплачусь в жилетку, так и тебе немного полегче будет – что делать, Серег а, – жизнь есть жизнь, не такая уж она и сладкая да разноцветная, какой нам со школьной скамьи сквозь стекла ученья казалась А Любовь твоя оздоровела, все у ней в порядке. Я сеструху ее видал – не жалуется, тебе привет передает. Цени друга-то, где еще такого найдешь! Пассия твоя дважды меня по роже смазала, а я о вас же с ней и забочусь. Вот такие пироги!
На том и остаюсь твой друг непутевый Мих. Ан. Квасцов, 21.07.199… г.».
Николай решил выйти на сестру Любы. Он считал это более надежным предприятием, чем разговаривать сейчас с ней самой с «больной». Обстоятельный во всем, он и в личных делах прежде всего искал контакта с родственниками избранницы. А раз таковых не имелось, за исключением старшей сестры, то, значит, с ней.
Ведь имеет же Валентина Петровна на Любу какое-то влияние. Конечно да! Иначе он и думать не мог. Иначе просто и быть не могло – так ему подсказывал опыт собственной семьи.
К сестре-то он и направился, будучи в очередном увольнении и пользуясь тем, что Любу пока еще не выписали из больницы.
Звонок на двери был все так же неисправен. «Ох, недотепы! – в сердцах подумал Николай. – Ну, ничего, когда я здесь буду хозяином – все по-другому пойдет!» Пока что исправлять звонок он не считал нужным. «Пускай убедятся, что без мужской руки в доме все равно им, двум бабам, не обойтись!» Постучал в дверь.
На стук никто не отозвался. Он постучал сильнее и дольше, чем в первый раз. Реакция была та же самая – гробовое молчание за дверью. Дома никого не было.
Он вышел на улицу и стал думать, что же делать дальше. Но мысли не приходили. Не приходили, кроме одной – ждать. «А вдруг Валентина Петровна опять в командировке?» Могло быть и такое. Но не уходить же вот так – несолоно хлебавши. И Николай уселся на лавочку под липами. Надо ждать. Ждать хоть до конца увольнения.
Под липами на него накатили сомнения: и чего он возится с этой неврастеничкой. Ведь сколько помнит ее, так это одни сплошные дрязги, недомолвки, раздоры. Вечно она чем-то недовольна, вечно ставит его в положение нищенствующего просителя. А спрашивается – почему? На каком основании? Чем он хуже других? Хотя б того же самого Сереги? Николай не мог ответить на эти вопросы. До сих пор он все терпеливо сносил: упреки, ссоры и даже небольшие скандалы. Во имя чего? Неужели он настолько втрескался, что совсем гордость потерял, готов бежать за ней сломя голову, лишь бы только пальцем поманила? Он всегда утешал себя одной мыслью, что уж коли выйдет она за него замуж, тогда и капризам всем конец, там-то уж он повернет все по-своему!
Теперь он начинал сомневаться в этом. Он вспомнил их знакомство, когда он чуть ли не на коленях вымаливал от нее хоть каких-то знаков внимания. А ответом был лишь холодный взор. Он навсегда запомнил ее тогдашние слова: «Много вас таких!», слова сказанные не с озлоблением, ни с пренебрежением, а с каким-то отталкивающим равнодушием. Он помнил все. Но тогда он сумел настоять на своем – уж слишком приглянулась ему девушка, а упорство ее счел даже за большой плюс – такая себя в обиду не даст, постоит за себя! Потому и в армию он уходил совершенно спокойный за нее – не подведет, будет ждать, тосковать, писать письма красивые. А вышло так, что все то, на что он потратил столько сил, времени, нервов, для другого оказалось вполне доступным – хватило одного вечера в институте.
Николай знал обо всем. И его унижало это. Если раньше он закрывал глаза на все, то теперь, сидя на лавочке, его будто окатило, словно прозрение наступило. От злости он даже выругался негромко вслух.
Но было это лишь минутной слабостью. Через какое-то время вернулось душевное равновесие. Природное упрямство, умение добиваться цели взяли верх. Нет, уж он-то от своего не отступится, чего бы это не стоило ему. Во всяком случае сейчас. А там жизнь покажет.
Николай даже встал со скамейки, распрямил плечи. Дух борьбы, соперничества вновь переполнял его.
И встал он вовремя – из-за угла вынырнула нескладная фигурка Валентины Петровны. Любина сестра шла торопливо, ссутулившись под тяжестью двух сумок с продуктами. Николая она не видела.
Тот быстрым шагом направился навстречу женщине, еще с ходу приветствуя ее официально, хотя и были они давно знакомы и звали друг друга просто по именам:
– Добрый день, Валентина Петровна!
Женщина вздрогнула от резкого окрика, приостановилась – А я вас как раз и дожидаюсь, – с ходу начал Новиков, перехватывая сумки в свои руки, – как же вы такие тяжести носите, Валентина Петровна, ведь надо беречь себя. Он не успел договорить.
– Здравствуйте, здравствуйте, Николай, – женщина пришла в себя и даже сделала попытку отобрать сумки назад, ей это, конечно, не удалось. – А я вот, от Любочки только, так что вы уж извините, что ждать заставила.
– Пустяки: солдат спит – служба идет, – попытался сострить Николай, понял неуместность своей остроты и смолк на секунду.
– Пойдемте к нам, я вас покормлю, чаем напою. – Валентина Петровна выглядела посвежевшей, бодрой.
Николай отказываться не стал, только плечами повел, будто в недоумении – какие обеды, мол, да чаи могут быть?
Когда они поднялись по лестнице вверх, подошли к дверям, Николай услужливо проговорил:
– А звоночек у вас совсем никудышный, его сменить нужно. Если вы разрешите, так я в следующий раз прямо этим и займусь?
Валентина Петровна, роющаяся в сумке в поисках ключей, поглядела на него удивленно:
– Ну, что вы, не утруждайтесь, как-нибудь обойдемся. Кто к нам ходит-то? Только вы да… – она осеклась, склонила голову вниз, к сумочке, пряча лицо.
Ключи наконец-то нашлись. Затянувшееся молчание кончилось.
– Ну, вот мы и дома, – оживленно проговорила женщина. – Сейчас я быстренько сготовлю чего-нибудь. А вы, Коля, проходите пока в Любину комнату. Посидите немного, отдышитесь – замучила я вас сумками своими?!
Николай сделал игриво обиженное лицо. Повесил фуражку на крюк, отметив про себя, что и вешалку давненько поправить надо бы.
– Возьмите там почитать что-нибудь, – на ходу бросила Валентина Петровна и устремилась на кухню.
– Да не беспокойтесь вы, ради бога! – проговорил ей вослед Новиков. – Ведь не есть же я к вам пришел! – Потом решил, что, пожалуй, повернул слишком круто, добавил: – А вот от чайку с печеньем вашего приготовления не откажусь, – и разулыбался, хотя хозяйка видеть его не могла.
В Любиной комнате было прохладно, чистенько, видно, старшая сестра в отсутствии младшей решила основательно заняться уборкой. Это Николаю понравилось – порядок есть порядок, и он должен быть во всем.
Читать он не стал. А присел у стола на старый потертый стул и уставился в окно. С чего начать разговор, он так и не решил.
Валентина Петровна с подносом, на котором стояли чашки с чаем и печенье в вазочке, появилась минут через восемь и сразу засуетилась вокруг стола.
– Ну вот, сейчас мы и почаевничаем, сейчас, садитесь поудобнее.
Николай в немом восхищении развел руками – угощение было отменное: насчет всяческих печений и варений Валентина Петровна была большой мастерицей. Новикову даже расхотелось говорить о чем-то, захотелось просто посидеть, поблаженствовать над чаем и закусками.
– Давайте, выкладывайте, Николай, с чем пожаловали, ведь не ради же меня, старой погремушки, столько времени на лавочке просидели? Ну?
– Какая же вы старая, – протянул Николай, – молодая, – он разулыбался, – и очень-очень симпатичная женщина.
– Оставим комплименты, – прервала его хозяйка.
– Да, я пришел, конечно, из-за Любы. – Николай отставил чашку, – вы сами понимаете, что сейчас все должно решаться.
– Почему же именно сейчас?
– Время пришло, – коротко отрезал Новиков, – через два месяца я буду вольный стрелок. А там… я в первую очередь с вами поговорить хотел, а с Любой у нас все обговорено.
– Как же так? – Хозяйка брови приподняла от удивления. – Я только от нее, и… она, простите, про вас ни словечка мне. Что за тайны мадридского двора?!
Но Николая не так-то просто было сбить с толку.
– Вы ведь знаете, в каком Люба сейчас состоянии, – утвердительно сказал он, – у нее другое на уме. Но нам с вами надо смотреть вперед. Вы, как старшая сестра, должны понимать всю серьезность положения.
– А, кстати, почему вы к ней не зашли?
– Любе сейчас тяжело, ей не до посетителей. Но это пройдет. Надо быть готовыми.
– Нам с вами?
– Да, именно нам с вами.
– Я что-то или совсем из ума выжила, или просто ничего не понимаю, – Валентина Петровна тоже отставила чашку и с любопытством уставилась на Новикова.
Тот взгляда не отвел.
– Люба не может сейчас решать, – твердо сказал он, – поэтому делать это придется нам с вами. А потом вы поможете мне, вы подготовите ее к нашему совместному будущему, как к делу совершенно неизбежному.
– Вот те раз?! – Глаза у Валентины Петровны округлились. – Что-то мне вся эта история напоминает сватовство без невесты.
– Может быть, – сказал Николай, – прошу вас сначала выслушать меня, а потом уже названия для нашего разговора придумывать. Я хочу, чтобы мы были союзниками, понимаете? На благо Любе и всем нам. Но сейчас по порядку…
– Давайте, давайте, может вы в чем-то и правы, – Валентина Петровна налила еще чаю: и гостю, и себе.
– У Любы есть выбор: или я, или он, вы знаете, о ком я говорю.
– О Сергее Реброве, – резко, ставя все на свои места, сказала Валентина Петровна.
– Хорошо, – мягко, вкрадчиво проговорил Николай. – Так вот – что он из себя представляет, вы знаете: верхогляд, привыкший к легким победам, особенно среди женщин, человек крайне несерьезный, неуравновешенный, одним словом – на такого в жизни полагаться… я не знаю, это просто безрассудство какое-то. И вы все это знаете не хуже меня. Кроме того, ему еще служить восемнадцать месяцев.
Николай чувствовал, что его слова почему-то имеют совершенно обратное действие, но остановиться не мог – ведь он же прав! Прав, черт побери всех их, вместе с этой непрактичной, глуповатой бабой! Разве хоть слово лжи есть в его речах, даже не в речах, а в мыслях?! Почему же тогда все так получается, ну почему?! Нервы начинали сдавать.
– Теперь о себе. То, что я почти гражданский человек, я уже говорил. Своего добиваться я умею и в этой жизни в пешках ходить не буду. Мне нужна только небольшая ваша помощь!
Валентина Петровна поднялась над столом, брови ее сошлись к переносице:
– Нет, Николай, не знаю, как вас по батюшке, союзницей в этом деле я вам быть не смогу, уж простите.
Новиков был ошарашен, просто-таки потрясен. Такой концовки он совсем не ожидал. Возражать и оправдываться было бесполезно. Оставалось только одно – уйти.
По лестнице он спускался пошатываясь, все еще не веря услышанному. Ноги подгибались, рука судорожно искала перил. Дневной свет ослепил его, окончательно сбил с толку. Благо что старая знакомая лавочка была неподалеку.
Николай вбирал в себя воздух и не чувствовал его, дыхания не хватало, в голове стоял туман. Неужели эта Любина выходка настолько все переменила в их отношениях?
Но почему? Ответ не приходил. Новиков расстегнул верхние пуговицы гимнастерки, захотелось пить. Но встать не мог. Голова кружилась.
Он просидел минут сорок, прежде чем пришел в себя.
Голова прояснилась не сразу. И вместе с прояснением накатило вдруг на Николая непонятное упрямство. От былой неуверенности и растерянности след простыл. Нет, он обязательно настоит на своем! Он добьется своего! И именно здесь, сейчас, с ней!
Он решительно поднялся, оттолкнувшись обеими руками от спинки скамьи. И твердым уверенным шагом пошел к подъезду.
Если она не откроет, думал Николай, придется стучать и стучать до тех пор, пока или дверь не сломается, или Валентина Петровна, Валюша, Валька не отзовется!
Он взбежал по ступенькам наверх. И, не обращая внимания на неисправный звонок, ударил кулаком в дверь… и та открылась, она была не заперта. В чем дело? Николай точно помнил, как хозяйка щелкнула замком за его спиной. Может, она вышла? Может, пошла поболтать с соседкой, а дверь забыла затворить?! Он осторожно вошел внутрь, прошел по коридорчику. Дверь в комнату была также чуть приоткрыта. И оттуда доносилось приглушенное сопение, вздохи, шуршание. Там кто-го был.
Николай открыл дверь. И застыл. Да, от неожиданности он превратился в колоду, застряв на пороге с поднятой уже ногой. То, что он увидал, ошарашивало. Надо было по-быстрому уходить, пока не заметили, пока… пока можно было улизнуть втихаря, выскочить из этой странной квартиры! Но он опоздал, а может, просто очень растерялся. И для этого было основание.
Валентина Петровна сидела на диване спиной к Николаю. Халатик на ней был распахнут, полы свисали почти до паркетин. И этот халат все загораживал. Но Николай разобрал, что сидит она, поджав колени, привалившись к спинке дивана или к подушке лежащей у спинки грудью, склонив голову. И не просто сидит, а мерно покачивается, совсем немного приподнимая бедра, опуская, поднимая… Халат был длинным и широким, все терялось в его складках. И все же Николай заметил две торчавшие на уровне сиденья дивана розовенькие ступни с крохотными пальчиками. И в самую последнюю очередь он увидел два явно мужских башмака, торчавших из-под халата внизу, у пола.
Он дернулся было назад, но споткнулся, чуть не упал, кашлянул надсадно, ухватился рукой за дверной косяк. Но его уже заметили!
Валентина Петровна замерла, спина ее напряглась, она еще плотнее припала к тому, кто был сокрыт от взора Николая. Спина ее одеревенела. Но головы она не повернула. Зато на плечах ее вдруг появились две большие руки, явно принадлежавшие не ей. И почему-то сбоку, на уровне ее локтя, высунулась из-за халата кудлатая темная голова, блеснули карие, почти черные глаза, нижняя губа отвисла…
– Вот это номер! – прозвучало оттуда с нескрываемым удивлением. – Привет, служака!
– Убирайтесь вон! – закричала Валентина Петровна, по-прежнему не оборачиваясь. – Немедленно вон!
Она даже сделала попытку приподняться. Но тяжелые руки соскользнули с ее плечей на бедра, надавили так, что даже издалека было видно, как они погрузились в мягкую плоть под халатом, удержали. Валентина Петровна как-то сразу смирилась, затихла, размякла. Но обернуться и теперь не посмела.
Николай расслышал ворчливое тихое и одновременно нежное:
– Ну чего ты, не надо, весь кайф поломаешь! Ну-у… – и послышалось чмоканье. А потом прозвучало громко, несомненно, для незваного гостя: – Заходь, служивый, располагайся, мы щас докончим и внимательно тебя выслушаем! Чего столбом встал? Не видал, что ль, никогда?
Теперь Николай не сомневался – и голос, и кудлатая голова, и ботинки, и лапы принадлежали Мишке Квасцову, известному своей «тонкой душой» и одновременной непрошибаемостью. Таких нахалюг надо было еще поискать! Но то, что Мишка, лоботряс и тунеядец, бабник и поддавала, сумел вот так вот окрутить Любину сестричку, про которую ходили слухи, что она, дескать, «синий чулок», старая дева, монашенка и вообще черт знает что… нет, это было непостижимо! Все прокручивалось в голове у Николая с отчаянной быстротой. И как-то параллельно стучала одна, маленькая и довольно-таки паршивенькая мыслишка – он сам осознавал ее малость и паршивость, но не мог избавиться от нее, не мог, и все! А мыслишка та была проста теперь Валюха в его руках! Точно! Некуда ей теперь деваться! И он не уйдет, не убежит отсюда! Он не молокосос, не гимназистка! Еще бы, если он сейчас засмущается, словно красна девица, начнет стеснительного из себя корчить, все, он же потом и в виноватых ходить будет, оправдываться придется, дескать, экий я неучтивый хам и невежа, вперся… Нет уж! Это она пусть себя чувствует виноватой!
Это на ней пятнышко, а не на нем, она пускай оправдывается! И еще многое-многое прокрутилось в мозгу у Николая.
– Ну чего ты? Давай! Поехали! – донеслось из-под халата грубовато, но приторно.
Руки сильнее сдавили бедра, качнули их раз, другой…
– Нет! Пускай он выйдет! Я не могу! – почти плача проговорила Валентина Петровна. – Это ж просто не знаю что! Уйдите же!
– Да вы не беспокойтесь, – ответил Николай, он уже собрался с духом, – я, разумеется, подожду, там, на кухне. Вы не стесняйтесь, ради бога, мало ли! Дело-то житейское!
Мишка засмеялся – довольно и утробно. Ему явно нравилась ситуация. Он вообще был невероятно самолюбив – чем больше ходило слухов о его любовных победах и похождениях, тем уверенней он себя чувствовал в жизни.
Стать Мишкиным приятелем можно было очень просто, для этого стоило лишь рассказать в компании кое-что из его личной жизни, не возбранялось и приукрасить немного, и все – Мкшкино благорасположение было обеспечено. Ну, а уж если попадались свидетели этих самых «похождений» – вольные или невольные – Мишка радовался вдвойне, рос в собственных глазах, задирал нос и никогда не отказывал себе в удовольствии раздавить с таковыми бутылочку другую, воскресить в памяти былое, посмаковать. Ну, а коли кто-то высказывал недоверие или пуще того некоторую брезгливость, недовольство – у Мишки был готов один ответ для всех подобных: «Старина, ежели ты мне решил поплакаться в жилетку о своих комплексах, напрасно! ты, старик, лучше того, к специалистам обращайся! да-да, старина, наша совейская психиатрия достигла таких высот, что тебя быстренько освободят от наносного, спеши!» Сам Мишка был без комплексов.
Николай сделал вид, что уходит. Но задержался на полминутки. И он опять увидал, как заходили, заиграли под халатом бедра, как размякла спина, как пропали Мишкины руки… И еще ему показалось, что он слышит легкое всхлипывание, даже что-то похожее на плач. Но он тут же пошел на кухню, взял чайник с плиты и стал сосать воду прямо из горлышка. Потом уселся на табурет. Как же он не заметил прошмыгнувшего к Валентине Петровне Мишку?!
А может, и не прошмыгнувшего, может, тот пошел нормально и спокойно?! Ведь сам-то Николай сидел на лавочке почти в прострации, в таком расстройстве чувств, что хоть на самом деле в психушху клади! Ладно, решил он, это неважно! Важно то, что Валентина Петровна, Валя, Валенька, теперь в его руках. Он держит ее так крепенько, что не вырвется птичка, не трепыхнется! И все! Это реальность! Все остальное – слова, слюни, миражи! Он ее прижмет, он ее заставит работать на себя! Они вдвоем так скрутят Любашеньку, так промоют ей мозги, что пошлет она этого своего залеточку случайного куда подальше! Да, нет сомнений, она будет его, непременно будет! Николай в возбуждении съел больше половины тарелки печенья и почти не заметил этого, ел машинально, орудуя челюстями как мельничными жерновами.
Мишка появился на кухне через три минуты, не позже.
Он вошел с ленцой, шаркая ногами, потягиваясь, поглаживая себя по животу и зевая.
– Чего приперся? – спросил он грубо.
– Тебя не спросил! – ответил Николай.
Мишка не обиделся. Он по-хозяйски распахнул холодильник, вытащил чуть початую бутылку водки, разлил в стаканы – по три четверти каждому. Двинул один в сторону Николая.
– Ну, будь! – только и сказал он, запрокинул голову и одним махом выглушил налитое.
Николай поморщился. Но… сейчас это было именно то нужное, что хоть как-то могло его успокоить. И он в два глотка выпил водку. Сунул в рот печенье.
Мишка был уже на ногах. Он положил руку на плечо Николаю. И сказал с усмешечкой, но как о чем-то само собой разумеющемся:
– Иди, она ждет!
– Чего-о? – удивился Николай.
– Топай, говорю! Глядишь, и тебе обломится! – пояснил Мишка. – Или робеешь, молодой человек?!
Николай встал. Пихнул Мишку в жирную волосатую грудь. Но сказал примиряющим тоном:
– Мне с ней надо просто потолковать, понял?! О наших делах, обо мне и о Любаше, понял?! А если ты…
Мишка не дал ему закончить. Он подтолкнул его к двери со словами:
– А я чего, я и талдычу тебе – иди и просто потолкуй о том да о сем и о всяком прочем, хи-хи. – Он мелко и заливисто рассмеялся, но тут же оборвал свой смех. – Да и иди ты, салага! Сам ты, оказывается, зелень пузатая, сам ты зеленее травы! А еще учишь там чему-т ребятишек, наставляешь! Да ладно, это я так, иди и толкуй, не держи зла… А хошь, давай еще по чутку?!
Он налил еще по половинке стакана – бутылка опустела. И сунул посудину Николаю, чокнулся. Они разом выпили. И разом выдохнули.
– Ну, иди! И не оплошай, служивый!
Николай потрепал Мишку по щеке. И пошел к хозяйке. Когда он вошел, Валентина Петровна надевала лифчик.
Она так и застыла – в распахнутом донизу халате, с прижатыми к грудям руками. Но, постояв в нерешительности с секунду, отвернулась и в сердцах, нервно швырнула лифчик в угол, к шкафу.
– Как вы только могли посметь?! – зло проговорила она. – Вы же просто чокнутый, больной! Откуда вы взялись на мою голову!
– Дверь была открыта, – ответил Николай. И в его голосе не было даже слабеньких ноток, намекавших на признание вины. – Вам давно пора отремонтировать дверь. И звонок заодно!
– Наглец!
– Как сказать.
Николай подошел ближе, почти вплотную. Но он, несмотря на выпитое, несмотря на виденное, не испытал ни малейшего желания обладать этой не слишком-то симпатичной и нескладной женщиной, каких по улицам бродят сотнями. У него свое болело – его буквально зациклило на одном: Люба! Люба! Люба!
– Ну и что теперь будем делать, как будем выходить из этого дурацкого положения, – проговорила вдруг Валентина Петровна, стискивая руками собственные плечи и не оборачиваясь, боясь смотреть ему в глаза.
– Да уж не знаю, – согласился Николай, – положение и впрямь непростое. Я только одно скажу – это ваше дело, кого любить, где, как…
Она резко развернулась, обожгла его злыми, сверкающими глазами. Но тут же вновь отвернулась.
– …но теперь мне понятно, кто вам капал на меня, кто всякие параши разносил! Этот?! Мишка?!
– Отвяжитесь, – простонала она. И добавила уже спокойней: – Я старше вас на десять лет – и того, и другого, и я не сужу вот так, с налету! Вы очень злые, жестокие, вы не способны понять души и мыслей женщины, вы чванитесь, дуетесь, пыжитесь друг перед другом, я уж не говорю про этих глупеньких девчонок… но вы сами мальчишки, глупыши, молокососы! Вы же не понимаете еще, что всегда и за всем стоит челове-ек! Живой человек! А вы дальше постели, дальше всего этого… – она неопределенно крутанула рукой, – и не можете сдвинуться, эх, вы-ы! А еще отдавай вам ее, Любу! Ну уж нет!
– Кому это – вам? – поинтересовался Николай с ехидцей.
Она не ответила. И вдруг расплакалась – громко, навзрыд. Халат беспомощно обвис на ней – он был явно великоват. Ее спина тряслась, плечи дрожали, голова упала на грудь, сотрясаясь в такт рыданиям. И вот в этот миг на Николая накатило – то ли это начинала действовать выпитая водка, то ли женское обаяние, ее неприкрытость и доступность. Он вдруг почувствовал острейшее желание обнять эту плачущую женщину, прижать ее к себе, поцеловать, приласкать, подчинить, впиться в нее. Он еле сдержался. Сердце колотилось как сумасшедшее, норовило выпрыгнуть наружу. Николай расстегнул верхние пуговицы.
Он уже забыл, о чем собирался говорить, чего хотел добиваться. Теперь эта нескладная, но стоящая так близко и манящая к себе даже без всяких на то усилий женщина владела им, она будто околдовала его – он врос в пол, не мог пошевельнуться, как тогда, в дверях.
– Ну что же вы?! – простонала она почти с вызовом, с нескрываемым упреком.
– Вы ведь для этого пришли? Отвечайте-да? Да или нет?!
– Я не знаю… – пролепетал Николай, – я хотел с вами поговорить… – язык у него заплетался, ноги дрожали.
– Вот мы и начнем говорить, – выдохнула она. И, будто утверждаясь в своей догадке, прошептала как-то неожиданно глухо, утробно: – Да-а, ты пришел именно за этим, именно, и не надо ничего объяснять, потом будем все выяснять, а сейчас не надо, ну что же ты, будь смелее, давай! Ты еще не убежал, а?!
– Нет, – тихо отозвался Николай.
И увидел, как она приподняла руки, коснулась ими ворота халата – и тот соскользнул на пол. Она стояла спиной к нему, совершенно обнаженная, если не считать полупрозрачных черненьких чулочков с широкой и почти светлой резинкой поверху. И эта деталь чуть не свела с ума Николая – ведь всего несколько минут назад он видел ее розовенькие ступни, там, на диване! Значит, она одевалась, значит, она не ждала вовсе его, это все выдумки, это игра воображения! А может, она специально для него натянула их, чтоб выглядеть более привлекательной? Нет! Он не знал! Ничего не знал! Он только приподнял руки. И она сама ступила назад, прислонилась к нему, вздрогнула, но тут же расслабилась.
Теперь он был полностью в ее власти. Из головы сразу улетучилось все предыдущее – и армейские заботы, и Мишка, и даже Люба, все! Она была тепла, упруга, нежна, чиста. Он дышал запахом ее волос и задыхался, не мог успокоиться.
– Ну же! – прошептала она совсем тихо, почти неслышно.
Он прижал ее, положив руки на горячие вздрагивающие груди, прижал, сгорая от желания – теперь он и не помнил про то, что она казалась ему нескладной и некрасивой, теперь для него она было самой желанной и единственной в мире!
Он ласкал ее груди, сдавливал их так, что казалось, она вот-вот закричит от боли. Но она не кричала. Лишь дышала тяжело и прижималась к нему спиной.
– Я люблю тебя, – простонал Николай ей в ухо, – ты права, все остальное потом, потом…
Он попытался развернуть ее к себе лицом, поцеловать в губы. Одновременно он судорожно расстегивался, стягивал с себя рубаху, брюки, делал это торопливо, неумело. Но она не повернулась к нему. Она заупрямилась, навалилась еще сильнее, словно падая назад, навалилась всем телом и прошептала:
– Не надо! Нет! Не поворачивай меня! Я чувствуя, как ты распалился, я чувствую! Ох, как ты горяч, как ты силен, это хорошо, это очень хорошо! Я хочу, чтобы все было так, чтобы ты взял меня грубо, дерзко… ну, давай же! Давай! Ты представь себе, что насилуешь меня, что ты дикарь, насильник, злой, распущенный, но такой уверенный, сильный… Ну же, пойдем!
Она закинула руки назад, обхватила его бедра, сдавила их и сделала шажок вперед, потом другой, третий – они вместе приблизились вплотную к дивану. И она нагнулась, легла грудью на валик – спина ее расслабла. Николай обхватил руками ее бедра, сдавил. А когда она почувствовала, что он обворожен, покорен, что он никуда не денется уже, она попыталась ускользнуть, повела бедрами в одну сторону, в другую, попробовала присесть, рассмеялась низко, грудным смехом, снова повела бедрами. Он не дал ей выскользнуть, он опустил руки ниже, надавил на внутренние поверхности ее ног, притянул к себе, приподнял… и поплыл, поплыл!
– Ну же! Грубее! Злее! Терзай меня, не жалей! Что ты как робкий влюбленный, давай… – пристанывала она, тяжело и сладострастно вздыхала, покачивалась в такт.
В комнату заглянул Мишка и пробасил невнятно, пьяно:
– О-о! Я вижу, у вас полнейшая гармония, так!
– Пошел отсюда! – рявкнул на него Николай.
– Ах, какие мы нежные, – протянул Мишка и вышел.
– Жми меня, тискай! Ну! Укуси! Я прошу тебя! – стонала она. – Ах, как это приятно, когда тебя любят силой, когда тебя берут вот так, ну-у-у, с ума сойти!
Николай согнулся, вцепился руками в ее груди так, что она вскрикнула, застонала с прихлебом, подвыванием, и впился губами в плечо у самой шеи, и ему показалось мало этого, он уже стонал сам от любовного короткого, но вожделенного мига, от этого сладчайшего ощущения, и он сжал ее кожу зубами, сдавил, задыхаясь, почти умирая от наслаждения.
– Вот так! 0-ох! Как хорошо-о, – прошептала она.
И они вместе перевалились на диван. Замерли. Но тут же повернулись лицами друг к другу, обнялись – нежно, будто брат с сестрой. Они отдыхали. И она что-то шептала ему. А он не мог еще говорить. Он лишь дышал с надрывом и был весь там, в прошлом миге.
– Ну все, ну ладно! – Она встала первой. Подняла халат, набросила на себя. И вернулась к нему, прижала его голову к груди. – Ты презираешь меня? – спросила она тихо.
– Нет, – ответил он, – вовсе нет, с чего бы это!
– Ладно, пусть будет так, – проговорила она и еще сильней прижала его голову, погладила по волосам. – Сейчас тебе кажется, что нет. А потом… потом ты будешь меня презирать, ты будешь посмеиваться надо мной и рассказывать своим дружкам, собутыльникам всякие гадости, ведь так? Так! А нам было хорошо, правда ведь?!
– Правда! – сознался Николай.
– Так почему же так бывает, почему?! – Она чуть не плакала. – Почему когда людям бывает хорошо, неважно каким людям, неважно где, с кем, но хорошо, понимаешь, хорошо, почему потом все оборачивается каким-то злым фарсом, ну за что это?!
– Не знаю, – ответил прямодушно Николай и обнял ее за плечи. – Не надо плакать!
Но она уже не могла остановиться. Она снова рыдала.
И горячие слезы текли ему на щеку, на губы.
– Да, вы меня будете презирать, и ты, и он, это точно, будете! Ведь и ты, и он думаете – вот шлюха! вот похотливая старая, почти старая, – поправилась она, – бабенка! Правильно вы там говорите меж собою: кошелки, шалашовки, телки! Так и есть – похотливая дрянь! – Она всхлипнула, будто от жалости к самой себе. И тут же горячо прошептала ему прямо в ухо: – Но поймите же вы! Нет, он не поймет, он жестокий, злой, бесчувственный! Пойми хоть ты – ведь это же страшно: все время одна и одна! Понимаешь, все время! Это хуже ада! Это пропасть, это вечное проклятье и вечная боль, это бессонные дикие страшные ночи! Это мысль, что так будет всегда, до конца, до самой смерти! Ведь хоть в петлю! Хоть вены режь! – Она касалась зубами его уха, и ему было больно – больно и от смысла ее слов, больно и от прикосновений, но он слушал. А она все не могла выговориться: – Это адова мука! Каждодневная мука! И вдруг кто-то появляется… Сон, сказка, невозможное! Пусть все совсем не так, как представлялось, совсем иначе, грубее и проще, циничнее даже, приземленнее, но это есть! Понимаешь, есть! И все! И это мое! Это уже мое! Я никому не отдам этого своего! И хочется сразу – много, хочется – всего! Сейчас, сию минуту, как можно больше! А почему?! А потому что страх! Этот дикий и жуткий страх – все потерять! Вдруг все закончится, вдруг все пропадет – и опять начнется одиночная пытка, опять муки станут ночными призраками?! Нет! Никогда! Ни за что! Все, что есть, все, что со мной, – мое! Не отдам! Она была почти на грани истерики, а может, и уже за гранью, Николай не пытался проникнуть в суть происходящего. Ему ее было невероятно, до боли жалко. И он целовал, шею, щеки, губы, он прижимал ее к себе. Теперь не его голова лежала у нее на груди, а наоборот, он гладил ее волосы. А она все говорила и говорила: – И если за десять лет ни одного, а потом сразу двое, то что – все, плохо, нельзя?! А почему?! А если это в последний раз?! Ведь он уйдет, я знаю! И ты уйдешь, я знаю и это, точно, точно знаю! А я останусь! Другие вон за десять лет меняют по десятку, по два, а у меня и всего-то вас двое было… так за что презирать?! За что?! Нет, Коленька, нет, как все-таки несправедливо устроен этот белый свет, это ж просто каторга, а не жизнь. Пусть вы уйдете, оба, пусть! Но пока вы здесь, вы будете моими, моими! А я вашей! Да, мне будет хоть что вспомнить! Теперь я скажу всем, любому и я не зря прожила! А раньше я не знала, зачем живу, зачем все это, теперь знаю, это миг – жизнь миг, все остальное лишь подготовка к этому мигу, прелюдия, так ведь, верно? Ты не будешь презирать меня, а? Ты не будешь смеяться надо мною?!
Вошел Мишка в наброшенном на плечи махровом халате желтого цвета. Встал у стола, упер руки в бока.
– Ну чего, опять?! – проворчал он то ли рассерженно, то ли в шутку. – Чего ты служивого травишь своими комплексами?! Он же здоровый малый! А ты дура и истеричка! Закомплексованная до предела, вот и все!
– Отстань от нее, не то в рожу схлопочешь! – предупредил Николай.
– Ой, ой, заступничек! – Мишка рассмеялся, сел на стул, запахнулся. – Да она мне раз по десять на дню выдает эту проповедь, понял?! У меня от нее кишки слипаются!
– Заткнись! – крикнул Николай.
– Да пусть, пусть говорит, – тихо вставила она. – Что бы ни говорили, как бы ни называли, лишь бы только были сами, и все! Остальное – ерунда!
– Ну, а коли так, – заключил Мишка, – пошли чай пить?
Валентина Петровна встала сразу, словно ждала этой команды. Она уже была весела и подтянута.
– Чайку с удовольствием попьем! Пошли, Коля! – Она потянула его к двери.
Но он остановился, вырвался, поднял брюки, рубаху, стал натягивать на себя – без спешки, с остановками, закидывая голову вверх, оглядывая давно не беленный потолок, тусклые обои, обшарпанный шкаф, этот нелепый стол – да, все здесь говорило, кричало о беспросветном и несладком девичьем царстве, не врала хозяйка! Нет, не врала, да и как можно так врать! Это был какой-то неистовый, нечеловеческий выплеск накопившегося. Николаю вдруг показалось, что он со всеми своими притязаниями на ее сестру, не любящую его, избегающую его, нелеп и смешон, что ему надо оставить эту глупую затею, не переходить дорогу Сергею! Пусть! Пусть они делают что хотят! И он глубоко вздохнул, потянулся. Но тут же врожденное упрямство затмило мозг – нет, нельзя сдаваться так вот, запросто! Он еще повоюет!
Валентина Петровна ухватила его за локоть.
– Ну пойдем же! Копуша! – Она рассмеялась совсем тихо, очень добро. И шепнула на ухо с мольбой, нараспев: Коля, ну ты сам понимаешь… да? Нет? После всего, что было у нас, не надо больше приставать к Любе, ладно? Ну, это ведь будет просто не красиво и не по-мужски, это будет какой-то пошлый опереточный сюжет. Я тебя очень прошу – не ходи к ней никогда, ладно?
Неожиданно для себя Николай кивнул, дескать, ладно.
– Ну чего вы там застряли, эй! – заорал с кухни Мишка.
– А ко мне в любое время, – шепнула Валентина Петровка в ухо. – Мне так хорошо было с тобой. Придешь?
– Не знаю, – ответил Николай, – у нас так вот по желаниям не отпускают.
– А я все равно буду ждать. Но прошу, дайте ей отдохнуть ото всего! Как ей досталось! Ах, как досталось! Только женщина сможет это понять! – Она посерьезнела и сразу стала старше на свои десять лет, раньше, всего какую-то минуту назад Николай даже не замечал этой разницы. – И Сергею передайте, пусть оставит ее, хватит уже мучить!
– Что это ты вдруг на «вы» перешла? – поинтересовался Николай. И его рука полезла под халатик, легла на ее нежно-упругую грудь, уперлась ладонью в тугой сосок… Токи пошли от ладони по руке, по всему телу Николая. Он тут же подхватил Валентину Петровну на руки, понес к дивану, на ходу осыпая ее шею, грудь, лицо поцелуями.
– Нет, дурачок! Ты совсем спятил! – шутливо отбивалась она, а сама закидывала руки ему за спину, обнимала за шею. – Не надо! Я не хочу!
– Надо! – серьезно ответил Николай. Опустил ее на диван. Навалился сверху.
В комнату снова ворвался Мишка, он был не на шутку рассержен. Но, увидав происходящее, остановился, почесал макушку, выдохнул, раздув предварительно обе щеки, и сказал:
– Ну вы даете, дорогие мои закомплексованные сограждане! Нашли время! Ведь чай же стынет!
«Милый Сережа, здравствуй!
Для тебя, наверное, мое письмо – неожиданность после нашей, встречи. Но я пишу. И пишу совершенно спокойно, все волнения позади. Ты прости меня за резкость, помнишь, не в духе была. После того, что со мною случилось, все внутри наизнанку перевернулось. Многим от меня зазря досталось, но ни за кого так не переживаю, как за тебя. Так что, еще раз прости.
Но пишу тебе не для того, чтоб виниться да прощение вымаливать. Просто хочу внести ясность во все наши отношения. Как получится это у меня, не знаю. Но выслушай, а там суди.
С Николаем все, как ты выражался, завязано. Его для меня больше не существует. Хочешь верь, хочешь не верь, но это так, это правда. И хватит об этом.
Теперь о нас с тобой. Не знаю, сможешь ли ты меня любить такую?! После всего того, что я тебе сделала. Ведь сколько я тебе страданий принесла, Сереженька. О себе тоже могу сказать, что прежней слепой любви к тебе уже не будет никогда. Как жаль! Ты себе не представляешь! Но я привязана к тебе, ты родной мой, стал родным для меня.
Так что выбирай сам – быть мне твоей или не быть. И не думай, что это бред больной нервной бабы. Это не так, я все тщательно продумала, взвесила. К старой жизни все равно возврата быть не может, пойми. Вот как раз поэтому я решила изменить кое-что. Об этом распространяться не хочу. И никто мне не нужен теперь, если только ты, ты один не вспомнишь обо мне, не простишь меня. Тебя я приму всегда. Не обещаю любви страстной, но женой я тебе верной буду! Решай сам.
Твоя Люба. 5 августа 199… г.
P.S. По старому адресу мне не пиши. Я сама пришлю весточку.
Всего тебе доброго, Сереженька!»
Вех окончательно выбился из сил и упал плашмя в мягкий с большими проплешинами мох. Лежал долго, не мог отдышаться.
Последние дни он не столько шел, сколько валялся вот так, обессиленным, вымотанным, а то и бесчувственным.
Он не знал, сколько оставалось до Киева. Он просто брел и брел. Лес был для него всем – и постелью, и укрытием, и житницей. Правда, охотиться Веху не удавалось. Какая там охота, когда все тело сплошная рана! Он был теперь побирушкой – то, что можно было взять в лесу, брал, а то, за чем надо было гнаться, ускользало от него. На одних кореньях, травках, ягодах, коре долго не протянешь. Но Вех не терял надежды.
Он еле ускользнул из лап смерти. Печенеги налетели внезапно, из засады. Никто из воев не успел даже толком понять, что же случилось и где передовой дозор. Это потом, когда Вех продирался через береговые заросли, он видел обезглавленные тела русичей – дозор вырезали вчистую. А тогда, в миг нападения, все помутилось. Это был сущий ад!
– К бою! – закричал тогда Святослав и вырвал меч из ножен.
Вех был неподалеку, он все видел. Князь не успел взмахнуть мечом – два десятка стрел вонзились в него одновременно. Кочевники свое дело знали, били наверняка. Святослав упал сразу, лишь хлынула кровь изо рта да звякнул о камни Днепровского порога стальной меч.
Их было немного. А печенегов тьма! И потому сеча завершилась очень быстро.
Веху удалось вырваться – с еще двумя воями он бросился к камням, изломам скал, там конному делать было нечего. И кочевники не стали гнаться, поворотили коней.
Они остановились тогда, всего на несколько секунд.
Вех обтер о штанину окровавленный меч – двоих он положил на порогах, вода, наверное, унесла их тела. Но и сам был иссечен изрядно. Боли не чувствовал, в пылу да горячке не всякую боль чуешь. И силы еще были.
Они обернулись разом. И увидали то, что будет им, коли выживут, всю жизнь видеться – печенежский хан спрыгнул с коня, склонился над телом Святослава, обмотал вокруг левой руки длинный русый чуб, взмахнул кривым мечом… и голова взлетела вверх, застыла, покачиваясь, озирая окрестности мертвым взглядом. Вех не слышал смеха, но он видел, как ощерился хан, как затрясся.
Это был конец! Князь погиб. Войска не существовало.
Они допускали ошибку за ошибкой после Доростола. Свенельд увел часть войска через леса в Киев. Святослав остался зимовать с другой на Белобережье. Зима была тяжелой, голодной – не прибавила она сил людям, многих унесла.
Уже там, в Беловодье, они прознали, что печенеги обложили пороги и что они не сами пришли, что это Цимисхий подослал их, прельстив золотом и подарками. Нарушил ряд подлый узурпатор, не сдержал слова.
Но наверх, к дому, надо было пробиваться. По порогам всей силою не пройдешь, вот и еще расчленить пришлось полки…
Полмира прошел Святослав с победными боями, Непобедимым Барсом звали его. И нашел свою смерть здесь, в родном Днепре.
Вех не знал, сколько уцелело от войска, где его остатки. Те двое умерли на его руках, от ран. Сам он тоже был на излете, словно стрела, выпущенная умелой и сильной рукой: как ни лети она скоро да споро, а все равно ей предстоит упасть.
Вех лежал во мхе. И тело его не слушалось. Оно стало невесомым, будто его и не было. Он не знал, что мох может быть таким мягким. Он сотни раз ночевал на нем, но так было впервые – словно на облаке лежал, словно в пуховой толстенной перине или же на упругих волнах покачивался. И были эти волны похожи на те, дунайские.
Вех смотрел вверх. Сквозь лапы елей проглядывало чистое необыкновенно прозрачное небо. И было оно то же словно воды огромной реки, хрустально ясное, манящее. Вех плыл по этому небу на облаке. Он не знал, куда плывет. Но какая разница! Теперь ему все равно. Теперь решает не он, теперь за него решает кто-то. Наверное, пришла пора присоединиться к предкам, пройтись по привольным небесным лугам, по велесовым заоблачным пастбищам.
Пусть так и будет!
Да, он лежал на облаке. И вдруг на него навалилось облако другое, белое, пушистое. Вех попробовал поднять руку. Но не смог. Да и не нужно было этого делать, облако само рассеялось… И увидал Вех ее! Он и не понял даже, кого именно, Снежану или Любаву. Не понял, потому что черты лица, склоненного над ним, изменялись, перетекали одна в другую, были зыбкими, нестойкими. Вот они соединились в едином – и Вех увидал: Снежана, темноглазая, ослепительно юная… Но глаза просветлели, стали серыми, чистыми, рот заалел – это была Любава. Она потянула к нему губы, поцеловала. И все сразу пропало.
Слепнев все-таки ушел в самоволку. Ушел сознательно, в одиночку, никого не предупредив. В глубине души он не считал первую вылазку самоволкой, скорей это была разведочная прогулка. Мишка хотел просто проверить: такое ли уж неосуществимое это дело, или пугают понапрасну, на совесть бьют? Время он выбрал подходящее, когда рота отдыхала перед заступлением в наряд. Хватиться его не должны были.
С непривычки сердце подрагивало.
Когда до поселка оставалось с километр, взвизгнули тормоза. Из окошка махнул рукой офицер:
– Эй, служивый!
В груди что-то оборвалось. Еще мгновение, и Мишка бросился бы наутек. Не хватало, чтоб его поймали в самом начале! Он глубоко вздохнул, попытался расслабиться, успокоить дыхание.
– Далеко до шоссе?
В машине сидел капитан, теперь Мишка видел это отчетливо.
– Километра два, пожалуй, – ответил он, ощущая, как с сердца сваливается камень.
– В увольнение?
– Так точно, родных проведать. – Мишка уже обнаглел, вытащил пачку сигарет. – Огоньку не найдется, товарищ капитан?
Тот дал прикурить, махнул рукой и уехал. И только после этого Мишка почувствовал слабость в ногах, сел у обочины, расстегнул воротник. По лбу поползла противная липкая струйка пота. Захотелось вернуться, пока не поздно.
Но длилось все это недолго – сидящий внутри червячок раздражения сперва слабо шевельнулся в Мишкиком мозгу, а потом занял там свое привычное место и погнал его вперед, к кажущемуся землей обетованной после месяцев службы поселку.
Через пятнадцать минут Слепнев сидел в придорожной чайной в компании шоферов, уплетающих свой обед. В отличие от них, Мишка ничего не ел – с деньгами было туговато, но зато перед ним стояла запотевшая пивная кружка с бархатистой шевелящейся шапкой пены. Мишка смотрел на эту пену с вожделением, не решаясь сделать первого глотка.
– Жми, браток, – добродушно усмехнулся сидящий напротив водитель. – Это нам под запретом – за баранкой, а тебе в самый раз.
Мишка согласно кивал, но оттягивал приятный миг.
В часть он пришел за полтора часа до развода. Пришел так же тихо и незаметно, как и ушел. Лишь Новиков поинтересовался:
– Где тебя носит, все спят как люди!
Слепнев, отворачиваясь в сторону, чтоб сержант не почуял пивного запаха, и вспоминая свой разговор со Славкой Хлебниковым, улыбаясь, протянул:
– А чего в казарме торчать, душно тут и тесно, для меня лучший отдых перед нарядом – глоток вольного воздуха.
Проходя мимо койки, на которой мирно почивал Леха Сурков, Мишка приостановился, взглянул в беззаботное лицо спящего и прошептал тихо, для себя:
– Спишь, Сурок? Спи, спи, все на свете проспишь. Тебе и увольнение не в пользу, а нам и самоволка в самый раз.
Леха, словно откликаясь на слова сослуживца, тяжело вздохнул во сне, перевернулся на другой бок.
– Не обижайся, – добавил Слепнев, – это я так, это я любя, в другой раз поучу тебя жизни – вместе пойдем.
Он не раздеваясь лег на кровать, поверх одеяла, мечтательно забросил руки за голову, уставился в стену, припоминая все подробности своего путешествия. Все страхи, сомнения и тревоги, мучившие его, были тут же забыты. Забыты сознательно. В памяти оставались лишь приятные минуты да любование своей безрассудностью, смелостью, удачливостью.
Везде жить можно, ежели с умом! В наличии у себя ума, притом ума недюжинного, не обремененного предрассудками, Мишка не сомневался. Дальнейшая жизнь не рисовалась теперь в мрачных, серых красках. Можно жить, можно, пускай серые лошадки пыхтят да харч солдатский безропотно хлебают, за счастье то считая, а мы себе ежели надо и веселые минутки обеспечить сможем! Вот только напарника найти, приятеля, чтоб веселее… С этими мыслями, с улыбкой на расслабленном, обмякшем лице Мишка и заснул.
Борька Черецкий не виделся с Ольгой больше полмесяца. А теперь она в довершение всего уехала сдавать экзамены в институт. Уехала в Москву.
Он тосковал. Не находил себе места. Но тоска эта была приятной, ведь сама же Оля поселила в его душе веру, надежду, а значит, и печалиться не стоило.
В ее отсутствие Борька заходил к Кузьминым. Заходил, конечно, не сам, по приглашению Владимира Андреевича. Толковали о том о сем, говорили об истории, все больше о военной – Владимир Андреевич зажигался в этом вопросе быстро и, если память подводила, не стеснялся рыться в книжном шкафу, отыскивая нужные сведения.
Но и о главном не забывал – присматривался к избраннику дочери, прислушивался, вспоминал самого себя, дивился сметке Борькиной, хватке, начитанности. Парень ему явно нравился.
Мария Васильевна относилась к нему более настороженно – за внешней отзывчивостью и добротой чувствовалось все же непонятное отчуждение, недоверие. Но хозяйкой она была радушной – Борька просто откровенно устал от бесконечных приглашений отведать то одно, то другое блюдо, хотя отсутствием аппетита не страдал.
Последний приход был удачным – когда Борька собирался было уходить, раздался звонок телефона. Звонила Оля.
Черецкий чуть не лопнул от нетерпения, пока с дочерью долго и обстоятельно беседовала Мария Васильевна. Он сидел в другой комнате, но даже за закрытыми дверями отчетливо слышал каждое слово. Он узнал, что Оля успешно сдает экзамены, что осталось сдать еще два, что времени у нее на хождение по Москве, по музеям и киношкам совсем нет – все уходит на подготовку к очередному экзамену. Слышал он все наставления и советы Марии Васильевны и сгорал от нетерпения. Боялся, что про него забудут, что он так и останется сидеть здесь за дверью. Сам выйти он не решался, гордость не позволяла. Но, наконец, после получасового разговора матери с дочкой и пяти минут разговора с отцом Борис, услышал:
– Эй, вояка, ты что, заснул там? А ну, иди сюда скорее!
Не помня себя от радости, Черецкий вынырнул из-за двери, через секунду трубка была в его руке.
– Боря? Ты у нас?
– Да-да, я здесь, – заторопился он, – здравствуй, Оленька! – Борис немного стеснялся стоявших рядом родителей.
– Ой, извини, я ведь даже от неожиданности забыла с тобой поздороваться. Здравствуй, Борька! Как я по тебе соскучилась – ты даже не представляешь!
Большего для Черецкого и не требовалось, он тут же задохнулся от волнения.
– Ну чего ж ты молчишь! Ты мне ничего сказать не хочешь? Кстати, тут так много симпатичных ребят… – тон голоса стал игривым.
Борька забыл про Владимира Андреевича и Марию Васильевну, почти прокричал:
– Какие ребята, ты что! Олька, я тебя так люблю! Без тебя я здесь сдохну, приезжай скорее! Как там у тебя?! – все смешалось у него в голове. Борька старался сказать как можно больше, будто время было ограничено или кто-то пытался вырвать у него трубку из рук.
– Ну как ты меня любишь мы еще посмотрим, – раздалось из трубки, – а пока получай!
Послышалось чмоканье, и Борька догадался, что Оля его целует. Он оглянулся на ее родителей.
– Я тоже тебя целую и жду! Жду, Оля!
О чем говорить он не знал, все мысли перемешались, в горле пересохло.
Владимир Андреевич стоял у стола и иронически улыбался.
– Жди! Перед началом занятий, тьфу-тьфу-тьфу, если досдам, конечно, обязательно приеду. Счастливо, Боренька!
– Счастливо, – растерянно проговорил он в трубку, из которой уже доносились гудки.
На минуту в комнате воцарилось молчание. Все были смущены немного. Первым, как и в любой ситуации, нашелся Владимир Андреевич:
– А хочешь я тебя, брат, – сказал он, – в увольнение отпущу? Денька, так скажем, на два, а?
Борькино сердце учащенно забилось – такого везения он не ожидал. Он уже было закивал головой, но в какую-то последнюю долю секунды одумался.
– Нет, не надо, – сказал от твердо.
– А что так? – искрение удивился Кузьмин.
Борька помолчал, чуть покраснел, выдавив из себя:
– Перед ребятами неловко будет. Нет, спасибо, но я подожду очередного.
В тот же вечер Черецкого ждал еще один разговор. После ужина Каленцев отозвал его в сторонку, подальше от ушей и взглядов. Борька ожидал чего угодно, но только не того, что ему предстояло услышать.
– Поговорим попросту, не как командир с подчиненным, а как мужчина с мужчиной, – Юрий Алексеевич не мог подобрать слов, и Борька это заметил сразу. – Не догадываетесь о чем?
Борька мотнул головой и сделал участливое, внимательное лицо.
– Речь пойдет об Ольге Кузьминой.
Борька остолбенел – какое право, спрашивается, имел на это Каленцев! Ну дает, старлей! Загнул!
– Да-да, именно о ней, – Юрий Алексеевич снял фуражку и пригладил свои коротко остриженные волосы, – поймите правильно – для меня это очень важный вопрос.
– Я слушаю, – Борька все еще не мог сообразить – чего от него хотят.
– Я уже давно приглядываю за Олей, – начал Каленцев, – вас и в помине не было в нашей части, когда я обратил на нее внимание. Я не торопился, ждал, когда она станет постарше, чтобы… Эх, да что там! – Каленцев нервничал.
– И тут вдруг появляетесь вы!
– И что?! – Борька выпустил защитные колючки, понимать в этих делах что-либо он отказывался.
– А то, что все мои планы, да что там планы, чувства, все летит к чертям собачьим, и виной этому именно вы, Черецкий. Пошалить захотелось, ведь так?! Зачем вам девочка?
– А у меня, может, свои планы и свои чувства? – ответил Борька, – и вы не имеете права в них вмешиваться, будь вы хоть…
– Я повторяю, – перебил его Каленцев, – мы говорим как мужчина с мужчиной, а чины сейчас ни при чем!
– А знаете, что я в таком случае ответил бы вам, как мужчина мужчине?
– Знаю, – вновь оборвал его Юрий Алексеевич, – вы или любой другой просто послали бы меня куда подальше! Верно?
Черецкий нехотя кивнул, ухмыльнулся.
– Так вот, затевая этот разговор, я знал, на что иду, и тем не менее хочу быть до конца честным. Согласитесь, Черецкий, не всякий бы стал вот так рассусоливать!
Борька опять кивнул и отвел глаза в сторону.
– Я не милости вашей прошу, не думайте, просто хочу предупредить. И учтите, мне двадцать пять лет, а вам пока всего восемнадцать. Я не пытаюсь уговорить вас отказаться от Ольги, нет! – Каленцев снова надел фуражку. – До сих пор я выжидал. И выжидал бы, быть может, еще долго, если бы на горизонте не появились вы. А теперь, просто хочу предупредить, я буду действовать. Это к тому, чтоб вас не грызли мысли, что кто-то мол, исподтишка пытается отбить у вас девчонку. Это не так.
– А как же тогда? – Борька старался понять Каленцева.
– А так, что все будет в открытую. Решать будет она сама! И для того, чтобы она приняла правильное решение. я приму все зависящие от меня меры, ясно? – Не дождавшись ответа, Каленцев добавил: – Тогда у меня все.
– Что ж попытайтесь, – усмехнулся Борька, – у меня тоже все!
Он отвернулся, постоял с полсекунды, будто вглядываясь куда-то в даль, и быстро зашагал прочь.
Никакого серьезного значения этому разговору Черецкий не придал – ведь у них с Ольгой было все решено. И что мог там какой-то Каленцев?! Пусть ему и двадцать пять лет, пусть он и старший лейтенант и вот-вот должен стать капитан ом! Опоздал!
Поэтому Борька спокойно ждал своего увольнения, чтобы проведать Ольгу в Москве и еще раз обговорить все с ней, а может, и посмеяться вдвоем.
Но увольнения он не дождался. Дождался, примерно дней через десять после разговора с Каленцевым, письма от Оли. Торопливо разорвал конверт, бросив его остатки прямо под ноги.
«Здравствуй, Борис!
Пишу тебе, чтобы окончательно поставить все на свои места. То, что у нас с тобой было, можно считать лишь детской забавой, пресловутой „первой любовью“, по крайней мере, для меня это так. Ты и сам должен понимать всю несерьезность наших отношений. А некоторая увлеченность… так что ж, все проходит, когда на смену первому детскому чувству приходит чувство настоящее, истинное.
Я выхожу замуж за Юрия Алексеевича Каленцева. Родители одобряют мой выбор. Все решено окончательно и бесповоротно. Поэтому прошу избавить меня от возможных притязаний – они в любом случае будут тщетными.
За прошлое извини. Может, я и сама наделала глупостей. Слава богу, что они еще не успели далеко зайти. Виноватой я себя считать не могу – сердцу не прикажешь, тебе это должно быть ясно.
Так что, прости и прощай!
Ольга К., 29.08.199… г.».
Борис ожидал чего угодно, только не этого. Рушилось все, что поддерживало его в течение уже трех месяцев. «Некоторая увлеченность…» Для него это не было увлеченностью.
На второй день после письма он повстречал, совершенно случайно, возле офицерского клуба полковника Кузьмина. Внутренне содрогнувшись, побелев, он все же откозырял, как положено, по уставу, и собирался пройти мимо. Но Кузьмин приостановился, взял его за руку, отвел поближе к деревьям.
– Такие дела, брат, – заговорил он первым, пожимая плечами, – с женщинами ведь, сам знаешь, как! Сегодня у них одно на уме, завтра другое.
– Я все понимаю, товарищ полковник, – сказал Борька, стараясь высвободить руку.
– Да не горюй ты! Ну их всех к черту! Я тебя понимаю ведь – сам бывал в таких переделках, мало ли что! Главное, в душу не бери, не ломайся, ты ведь мужик настоящий, крепкий.
Черецкому удалось все-таки вывернуться из цепких пальцев полковника.
– Я не сломаюсь, Владимир Андреевич, не беспокойтесь.
– Ну вот и отлично, это слова не юноши, но мужа. Если тебе чего нужно – проси, все что в моих силах…
– Нужно, товарищ полковник, – твердо резанул Черецкий, – через неделю у нас конец обучения и распределение будет, так?
– Да, ты не волнуйся, место подыщем…
– Товарищ полковник, я прошу направить меня в самый дальний гарнизон, хоть на Чукотку, хоть на Новую Землю, если еще дальше нету. Это моя единственная просьба.
Глава пятая
В чужом пиру похмелье
Было воскресенье. И Леха скучал. Он всегда скучал по воскресеньям. После обеда обычно показывали в солдатском клубе какой-нибудь старый надоевший уже фильм. Но в отличие от будних дней на просмотр этого старья не гоняли строем в полуприказном порядке, можно было и увильнуть от участия в скучноватом мероприятии. Вот Леха и увиливал.
Он сидел под деревом и жмурился на солнышко, когда к нему подошел белобрысый и безбровый парень из второй роты. На правой руке у парня была повязка с тремя буквами: КПП. Видно, он и шел с контрольно-пропускного пункта. Парень застыл над Лехой и долго молчал.
Но потом выдавил из себя лениво:
– Загораем?
Леха кивнул. Ему лень было рот раскрывать.
– Так и передать, что ли?
Леха встрепенулся.
– Кому?
– Куму моему! – съязвил парень. – Я сюда просто так, что ль, приперся! Там тебя у ворот какая-то ждет.
Леха вскочил. Парень улыбнулся, посоветовал:
– Ты рыло-то побереги, может, пригодится еще кой-зачем!
– Заткнись!
И Леха побежал к воротам.
Он ее увидел сразу – Тяпочка стояла за боковой решеточкой, там, снаружи с верзилой сержантом. Был тот чуть ли не в два раза выше Тяпочки, но Леха сразу определил – сержант не прочь с ней не только полюбезничать. А, может, Леха и преувеличивал, чего не бывает, особенно когда накатит на тебя злое чувство ревности, когда в его выпуклой линзе все обретает не совсем реальные очертания.
– Лешенька, – вскрикнула Тяпа, увидав Суркова. И тут же отошла от верзилы.
Тот недовольно хмыкнул. Но встревать не стал. Хота и мог бы хорошенько потыкать Леху носом в уставы и еще куда-нибудь, пользуясь своим званием и положением. И хотя Леха со всеми своими однопризывниками сдал и экзамены, и зачеты, к вроде бы был готов приказ о их повышении, но… покуда он был рядовым, курсантом. И каждый, имеющий на полосочку больше, мог его остановить и высказать ему свои соображения. Так что, поблагодарить бы надо Лехе верзилу, а не скрипеть зубами! Другой бы вообще дал ему от ворот поворот: иди, дескать, друг любезный, на свое место, в расположение роты, да и не высовывай носа, куда не положено! Нет, не по заслугам мы оцениваем людей и не по реальным их поступкам, а со каким-то самим нам непонятным движениям души.
Тяпочка была совсем не такая, как там, в общаге. Теперь волосы у нее были не просто темные, а с огромным белым клоком-прядью, нависающим надо лбом и правым глазом. И бант был поскромнее, поменьше, желтенький в крапинку. И губки у нее были не малиновым бантиком, а поблескивающей серебристой полосочкой, и все было другое… Легонькая ветровочка поверх черной маечки и желтенькие брючки-бананы скрывали ее точеную прелестную фигурку, на ножках голубели крохотные кроссовочки, а на плече висела большущая белая сумка. Но это была Тяпа! Леха узнал бы ее из тысячи, как бы она ни маскировалась, какой бы она ни навела марафет на свое дивное личико. Он узнал бы ее по этим глубоким и совсем не девичьим глазам. Вот и сейчас, попав в зону их воздействия, он ощутил себя то ли жертвой профессионального гипнотизера-артиста, то ли коброй, околдованной и завороженной заклинателем змей, то ли просто кроликом перед той же коброй, освободившейся от посторонних чар.
– Тяпка! – крикнул он. И осекся, не нашелся, даже единого словечка не мог подобрать нужного, хотя наедине с собой он обращал к ней мысленно целые речи-монологи, пламенные, волнительные и длиннющие.
Они вцепились в решетку с разных сторон, сплели пальцы. И она как-то неловко, будто в первый раз, чмокнула его в щеку – ей пришлось вытянуть губы, чтобы коснуться кожи его щеки через прутья решетки. И брови у нее поднялись к переносице домиком, она всхлипнула.
– Не ожидал? – спросила она, не сводя с него глаз.
– Я тебя каждый день ждал, каждый день я с тобой говорил, даже ласкал тебя, обнимал… – прошептал Леха, теряя голову, путаясь и сбиваясь.
– Ну вот еще! – Она немножко, на сантиметрик, отпрянула, опять стала лукавой и беспечной. – Гляди, не чокнись тут! Не знаю, кого ты обнимал там, не знаю!
– Не беспокойся! Только тебя, но мысленно, – ответил Леха. Он чувствовал себя словно под прицелом сотни винтовочных дул или же тысячи фото- и кинокамер. Как-то неуютно ему было здесь.
Верзила-сержант деликатно отвернулся. Но это не спасало их. И Леха нашелся.
– Слушай, – шепнул он заговорщицки, – мы давай немного постоим, ладно, а потом ты мне какой-нибудь пакетик, сверток, вроде, пообщались и расстаемся, хорошо?!
Она кивала и не спускала глаз заклинателя.
– А потом вдоль заборчика налево – иди, иди, метров четыреста, ладно? Пока до дерева не дойдешь, ну увидишь сама, оно свисает туда, к вам, такой толстой веткой. И там, у кустика, есть проходик, дырочка такая, лаз. Он совсем узенький, но ты пролезешь… Не боишься?!
Она смерила его таким взглядом, что Леха понял, если кто чего и боится, так в первую очередь это он сам. А ей и черт не брат!
Сержант мучился, вздыхал, но не мешал парочке – ведь и сам он когда-то был таким же, все понимал, по одним уставам-го разве проживешь! Хотя ему и явно пришлась по душе миниатюрная красавица с бантиком, но она была несвободна, сержант облизывался, да честь дороже, куда денешься – все на виду, попробуй отбрей парнишечку и причаль к его милашечке, к вечеру вся часть будет гудеть – обидел, дескать, салабона, нищего обокрал, своего младшего брата-солдата обворовал и ограбил! Нет, сержант был не из таковских! И потому он вообще предпочитал не видеть этой парочки. Пускай воркуют, какое ему дело! Воскресенье – день почти что свободный!
– Ну, Лешечка, прощай! Веди себя хорошо! Не нарушай порядков, а я тебе напишу! – громко сказала Тяпа и чмокнула Леху в щеку. – Привет!
Сержант осклабился. Но тут же погасил улыбку. Что-то быстрехонько этот паренек надоел своей красотке, быстро она от него отделалась. Но встревать не стал. Лишь проводил глазами сначала ее, крохотную и изящную, а потом и Леху, мешковатого и понурого. Он и не подозревал, что салабоны пользовались теми же уловками, что и его бравое поколение дедов-дембелей, бывших когда-то, не так давно, не менее зелеными.
Леха пришел к условленному месту первым. И еще минуты три ждал. Потом высунул в дыру голову – и сразу получил по затылку сумкой.
– Тоже мне джентльмен! – прокомментировала удар Тяпочка. – Я тебя жду, жду, а ты? Неужто не слыхал, что дамам руку подают!
Леха растерялся и покраснел. Но тут же получил еще раза.
– Полезли! – сказала Тяпочка. Опустилась на четвереньки, уперлась своим изящным лобиком в лоб Лехин, надавила и протолкнула его за заборчик. Тут же и сама пролезла. Они долго еще смеялись, прижимая пальцы к губам, шикая друг на друга, опасаясь, как бы их не приметили.
Но Леха был уверен, что сегодня ни одна собака их не достанет! Сегодня их может потревожить возле этой дыры лишь точно такая парочка.
– Ну ты даешь! – сказал он выразительно, закончив смеяться. И в этом возгласе было все сразу: и удивление, и даже какое-то ошеломление от ее приезда, и восхищение, и нежность, и страсть, и многое прочее, бурлившее в Лехиной груди.
Тяпочка ответила скромно и по-деловому:
– Я такая!
И они снова засмеялись. Им не надо было ни о чем говорить, все было ясно без слов. Вначале перекусили немного – Тяпа позаботилась о том, чтоб служивый на сегодня не остался голодным, понавезла сладостей и деликатесов, даже баночку икры. Вот бутылку вермута «Чинзано» Леха так и не откупорил, хотя Тяпа сунула ее прямо под бок.
Леха косился на красивую бутыль, морщился. Потом сознался:
– Боюсь! Отцы-командёры просекут, унюхают – и все, не видать мне жизни. Я ж тогда влип… а сейчас и вовсе убьют вчистую!
– А тебя давно пора убить, труса несчастного! Ты скажи спасибо своим отцам-командирам, что они только про твои запои прознали, а вот коли б выведали еще, что в их образцовой части служит эдакий развратник и сексуальный маньяк, так точно, лишили бы тебя или жизни, или еще кое-чего!
Леха вспомнил один маленький эпизодик из их короткой совместной жизни, и он опять покраснел.
– Экий ты сеньор Помидор! – улыбнулась Тяпочка. И впилась в его губы своими, поблескивавшими серебром и вымазанными в шоколаде.
Леха был человеком простым, и он все понял очень просто – он стал раздевать Тяпочку. Стащил ветровку, потом почему-то, без всякой последовательности, стал спускать с нее желтенькие тоненькие брючки-штанишки. Тяпочка повизгивала, шутливо отбивалась, припадала к нему и тут же отстранялась. А когда Лехе удалось-таки обнажить ее чудо-ножки и прочее, скрывавшееся под бананами, она сделала серьезное лицо.
– Смотри, застукают нас! – проговорила она строго, чем опять напомнила Лехе его сельскую учителку-злюку.
Леха даже обиделся. И утратил немалую толику любовного пыла. Но бояться было нечего, в этот уголок ни одна душа не забредала, тем более…
– Мы же потихонечку, не робей! Щас все в кино, фильм глядят.
– Ну, Леха! Голова твоя – мне не жалко будет! – чуть кривя губы в улыбке, произнесла Тяпочка. И стащила с себя через голову черненькую маечку.
Леха обалдел. И без лишних слов бросился ловить и сводить воедино разбегающиеся груди с маленькими круглыми сосочками. Тяпа дала ему наиграться вволю, потом оттолкнула. Леха упал на спину, замер с выпученными глазами. А когда поднялся и вновь протянул руки, она остановила его.
– Сначала по глоточку! – И глазами указала на бутылку.
Они выпили понемножку, закусили. Потом Леха схватил ее за руку, повалил в траву лицом вниз и положил свою тяжелую и натруженную руку на одно из тех двух матовых и нежных полушарий, вздымающихся над травой, что когда-то сыграли с ним злую шутку. Теперь он не был столь впечатлительным. Но все равно по руке вверх, передаваясь всему телу, побежал живительный огонь, словно на самом деле существовала какая-то особая энергия или биополе какое – и шло оно не просто от человека к человеку, но именно от женщины к мужчине. Леха ни к селу ни к городу припомнил вдруг, что в годы войны немцы проводили опыты по отогреванию и даже размораживанию своих солдат, попавших в лапы русского мороза, понежившихся в российских снегах. Они пробовали все – огонь, грелки, теплые ванны, душ, химию всевозможную, электричество и еще десятки различных веществ и способов. Но самым действенным и практически единственным целительным оказалось одно – женское тепло. Когда замерзшего клали с женщиной или с женщинами, то уже готовенький мертвец, которого вот-вот должны были черти уволочь в преисподнюю, оживал. И не просто оживал, а еще и мужчиной себя чувствовать начинал.
Леха не был замороженным. И потому ему не надо было много времени на раскачку, он просунул обе руки под животик Тяпочке, приподнял ее над травою, прижался… и они оба позабыли обо всем на свете.
Славке Хлебникову почему-то всегда выпадало идти в наряды именно в воскресные дни. Правда, на этот раз он уперся, настоял, чтоб его не посылали в посудомойку, сколько можно, одни там по два раза побывали, а он не меньше двадцати! И Новиков уступил – Славку послали топить баню для наряда. Ведь после такой работенки, когда чуть ли не сам по уши искупаешься в комбижирах и прочих прелестях, только баня могла спасти.
Конечно, в части было отопление. Но летом его частенько отключали. Приходилось «парить» кочегарку. Работа была грязная, но никто никогда не отказывался от нее.
Первым делом Славке пришлось пошуровать в кочегарке, побросать в топку угольку, подышать малость черной пыльцой. Но он уже привык к подобной работенке, делал ее машинально, не ноя и без особого усилия над собой.
Был, разумеется, при части кочегар – из рядовых, срочного призыва, был. Но до того он изленился и отвык от службы, что и помощи ждать от него не приходилось. Раз уж командиры махнули рукой на вечно грязного, будто вывалянного в угле истопника Махметова, так Славке и сам Бог велел. Живет себе в угольной норе человек, живет да ждет дембеля, ну и пускай ждет! Никто не знал, может, Махметов уже давно просрочил, может, ему бы на гражданке пировать, а он тут себя губит. Но никто и не спрашивал, ибо был кочегар угрюм и обидчив, жил молчальником и отшельником.
Пока Славка бросал в топку черные брикетины, Махметов нежился на кровати, тут же, в дальнем углу подвала. Кровать эта была завешена с одного краю пустыми рваными мешками, которые ничего не скрывали от глаза постороннего. У изголовья стояла списанная и облупившаяся тумбочка, а на ней трехлитровая банка с брагой. Брагу Махметов готовил сам, каким-то одному ему известным способом, и никогда никого не угощал.
Да Славка и не напрашивался на угощение. Ему бы побыстрее воду разогреть да туда, наверх! А все остальное не его дело.
Под кроватью на грязной и пыльной циновке лежала Тонька Голодуха. Она что-то совсем опустилась и теперь была вылитой сумасшедшей. Даже напугала Славку, который пришел сюда, ничего не подозревая, думая, что никого, кроме самого Мехмета, как они его звали, в кочегарке нету.
И вдруг выползла она – ободранная, в лохмотьях, с заплывшим синюшным глазом – нищенка нищенкой. Славка аж вздрогнул, нехорошо ему стало. Но Мехмет сунул Тоньке кулаком в нос, и та моментально спряталась под кроватью. Только зыркнула оттуда своими ненормальными вытаращенными глазищами. Славка старался не смотреть.
– Давай-давай работай! – приговаривал Мехмет и скалился. – Работа лубит дурак!
Славка не придавал значения его словам. Он не шелохнулся даже тогда, когда истопник, вволю нахлебавшийся браги, вытянул Голодуху из-под кровати, подмял под себя. Не обернулся Славка. Но он все слышал. И ему было жалко дурочку… Но кто знает, может, такая житуха, как бы она ни была плоха, для нее все ж таки хоть немного послаще заключения в дур доме.
Мехмет Славки не стеснялся. Тонька стонала и хрипела, кашляла надрывно. Но ни единого слова она так и не произнесла. Славка даже подумал про себя – вот ведь, одичала баба, говорить разучилась. А сам все швырял и швырял в огонь лопату за лопатой.
Когда он закончил дело и обернулся, голая Тонька лежала на Мехмете бездвижно. Сам он, наверное, спал. И вся спина, бока, ноги Голодухи были не только в синяках, но и в бессчетных отпечатках Мехметовых лап, – казалось, эти угольные пятерни въелись в ее кожу… Да какая там кожа! Славка содрогнулся даже. Разве это женщина?! На Мехмете лежал живой скелет, обтянутый пергаментом. И все же, несмотря на крайнюю худобу тела, ноги у Голодухи оставались полными и стройными, будто они жили отдельно от владелицы или, может, просто отекли. Зрелище было неприятное, и Славка не стал в него углубляться.
Лишь на выходе он обернулся на секунду. И поймал на себе безумный горящий взгляд. Ему показалось, что она сейчас сорвется с места, набросится на него, вопьется зубами в горло. Это был не женский взгляд и не человеческий даже, это был взгляд вампира.
И тут Тонька выдавила свои первые слова. Именно выдавила, ибо это был не голос, это была не речь, а какой-то замогильный сип:
– Стой, не уходи, не оставляй меня…
Все прозвучало без малейшей интонации, вяло и приглушенно. И от этого у Славки по спине мороз пробежал.
Но он не остановился.
Наверху было чисто и светло. Даже чересчур светло – от белизны кафеля резало глаза. Славка попробовал струю рукой – кипяток! Теперь можно было всласть помыться да еще попариться. Когда они ходили в баню не с ротой, а одни, после нарядов, то почти всегда устраивали небольшую парилочку. Раскаленные трубы и каменная кладка поднимались из кочегарки частично сюда, наверх. И надо было лишь не полениться, плотно прикрыть окна и двери да плеснуть водички. И все заполнял тяжелый въедливый пар. Конечно, это была не деревенская, не русская баня, а лишь ее жалкая копия, но и она давала отдышечку и телам солдатским, и душам.
Славка мурлыкал про себя привязавшийся мотивчик глупой песни про «синий туман». И радовался. Хотя нечему было особенно радоваться – ведь он слишком расстарался, поспешил, когда еще наряд по кухне закончится, к ночи! А у него все готово… Придется потом опять спускаться вниз, опять швырять уголек под сальным и бесстрастным взглядом черных глаз Мехмета, под сумасшедшим взором Голодухи. Ну и ладно, ну и черт с ними!
Славка решил, что жару пропадать не стоит. И разделся.
Синий тума-а-ая похож на обма-а-ан!
Синий туман, синий туман, синий тума-ан!!!
Он пел уже во все горло, никого не стесняясь, – кого тут стесняться?! Даже ежели и услышит кто проходящий мимо, так и пусть слышит, где ж еще петь, как не в бане. Шумела падающая из кранов вода, пар застилал все.
И Славка не расслышал с первого раза стука в дверь. А потом бросился к ней – как был, не одеваясь, весь мокрый и распаренный. Встал сбоку, так чтоб не было его видно, и просунул голову в щель.
На входе стояла Катя. Вот уж кого Славка не ожидал здесь увидать, так это ее! Могли зайти ребята-сослуживцы, сержанты, прапорщик, замполит, даже командир части, но она! Выследила все-таки! Славка тряхнул головой, нахмурился.
– Чего отворачиваешься-то? – поинтересовалась Катя и просунула ногу между дверью и косяком, чтобы Славка не смог закрыться. – Попался, который кусался?
Она была в легоньком старомодном ситцевом платьишке, босоножках. На полной шее висела увесистая связка бус – зеленых, пластмассовых. Круглое лицо Кати не было красным и взволнованным как обычно, сегодня у нее был выходной, и она немножко привела себя в порядок – выглядела вполне прилично для тридцативосьмилетней женщины, никогда не отказывавшей себе ни в мучном, ни в сладостях.
Славка растерялся. Но пока он раздумывал, что делать, как быть, она протиснулась внутрь и привалилась спиной к двери, щелкнула задвижкой.
– Еу-у, как жарко! – проговорила она и улыбнулась. Славка попятился к стене. И сказал:
– Сейчас придут сюда, ты что! Ребята из наряда…
– Ребята из наряда, – медленно и с расстановкою произнесла Катя, упершись рукой в кафель и глядя прямо Славке в глаза, – пашут там как папы-карло! И придут они не скоро, часикам к двенадцати, Славочка! Так что ты не крути! – Лицо ее вдруг стало обиженным, щечки и губки надулись, округлились. – А если не рад мне, так и скажи! Славка замялся, не зная, что и сказать-то.
Но она уловила момент и не дала ему сделать выбора, опередила.
– Ну вот и правильно, миленький, я знала, что не бросишь свою старушечку, ах какой ты славненький, дай поцелую!
Она надолго припала к Славкиным губам. И тот почувствовал, что Катя уже успела приложиться к бутылочке – от нее пахло сладеньким красненьким винцом.
Первый раз Славка увидал Катю полтора месяца назад.
И само собой, они познакомились в посудомойке – только не солдатской столовой, а офицерской. Славку, как самого опытного мискомоя, направили туда на подхват. Работали вчетвером, с еще троими солдатиками. А верховодила плотная и румяная женщина, показавшаяся поначалу Славке чуть ли не пожилой. Она была всем недовольна – орала на них, ругала на чем свет стоит, даже материла, заставляла перемывать посуду по сто раз, короче, выходила из себя и бесилась, измывалась над ними. Трое сбежали покурить и не возвращались уже минут сорок. Пахал один Славка. А бабища в белом, засаленном местами, халате стояла за спиной, уперев руки в бока, и покрикивала – да все пуще и злобнее. Славка вообще был терпеливым человеком, ему было плевать на женский визг и ор, он даже отшучиваться перестал. Но когда она особо крепко его задела, он вдруг смекнул, что к чему. И рассмеялся от догадки – все было предельно просто, причем здесь посуда! Он бросил тарелки, бросил чан с горячей водой, встряхнул раскрасневшимися руками, обернулся и со словами: «Ух какая грозная начальница нам попалася, ух какая сердитая», словами, произносимыми шутливо-ласковым тоном, он прижал ее к стене и уперся ладонями в ее немалые выпирающие двумя арбузами груди. Она и рот от удивления прикрыла. Сразу сомлела, повела глазами, потом закатила их и вздохнула столь порывисто и страстно, что Славка пожалел о своей неосторожности. Руки его были мокры, и по халату расползались два темных пятна. Но она не отстраняла этих рук. Она стояла ни жива ни мертва. Славка лишь слегка перебирал пальцами, не давил, а скорее поглаживал… а сам уже подумывал, как бы так ретироваться, чтобы все обратить в шутку. Не тут-то было! С Катей шутки были плохи! Она ожила через полминуты, подхватила его чуть ли не на руки, утащила в подсобку. Вернувшиеся с перекура парни не обнаружили в посудомойке ни Славки, ни грозной командирши. Появились они лишь через час. Причем Славка тащил огромную стопу тарелок. А она шествовала важно позади с видом полководца, выигравшего сражение. Ребята не стали доставать Славку расспросами. Но, оценив его измученный, даже измочаленный вид, поняли – парню пришлось поработать на славу, вовремя они ушли курить!
С тех пор Катя не давала Славке шагу сделать, она его выслеживала повсюду. Казалось, какое-такое свободное время у солдата, тем более – курсанта, сам его Славка ни находил. Но Катя находила! Она была когда-то замужем за прапорщиком или старшиной в этой части. Но тот с ней развелся, уехал. А она приросла к офицерской столовой и много лет уже жила бобылкой. И все бы хорошо. Но Славка тяготился их связью, мечтал побыстрее умотать из учебки ведь не увяжется и она за ним!
– Попаришь девушку? – поинтересовалась Катя. И расстегнула пуговичку на платье.
Славка вздохнул, пожал плечами. Он знал, не отвертеться.
Катя раздевалась долго, со вкусом и жеманно. Она понимала, что поспешишь – и все испортишь, что миленького Славочку надо завести, и тогда с него спадет эта противная хандра, тог да он превратится совсем в другого человека.
– Помоги? – Она повернулась к нему спиной, подалась назад.
Славка расстегнул «молнию», такую нелепую на этом платье. Открылась пухлая белая спина, которую хотелось потрогать даже из простого любопытства – на самом ли деле она такая мягкая, какой кажется, правда ли, что ладонь утонет в ней, растворится или нет. Но Славка сдержал себя и снова отошел к стеночке. Они много раз были близки, но он всегда неловко чувствовал себя, будучи голым. Вот и сейчас – она вошла столь неожиданно, что позабылось про предыдущее, показалось – все опять начинается заново, впервые.
Катя платья так и не сняла. Задрала подол и долго возилась с чулками, не столько пытаясь их стянуть, сколько оглаживая свои полные аппетитные ноги, похлопывая по ним, поворачивая их то так, то эдак, вытягивая и сгибая. Славку начинала увлекать эта игра. Всегда она. Катя, умела его пересилить, завести, даже в те минуты, когда он вообще ни о каких женщинах не думал, смотреть на них не хотел, когда он к ним испытывал отвращение. Искусница была Катя. И не скрывала своего мастерства, наоборот, поглядывала, какой эффект производит, тянула губки, подмигивала и тут же делала скромное лицо, совсем как у монашки.
Славка проверил задвижку. Осмотрел окна. Все было вроде бы нормально. Первой мыслью была такая: побыстрее разделаться с Катей, раз уж не сумел увильнуть от нее, да и выпроводить под предлогом, что с пересменка должны прийти мыться. Но мысль он эту отогнал. Во-первых, Катю не проведешь, она все тут знает досконально, все порядочки изучила, а во-вторых, он и сам начал распаляться.
Но не соломою быстрогорящей, а тлеющим долго и надежно, с постоянной температурой горения, угольком.
– Ну куда ты? – жалобно протянула Катя.
И задрала платьишко еще выше, до грудей. Чулки она так и не сняла, один впивался в белую мягкую плоть у самых трусиков, второй скрученно висел у колена. И опять она жеманно изогнулась, отчего большой шарообразный живот ее совсем заслонил полосочку трусов, и Славке показалось, что она стоит голая.
Он вздохнул. Остановился.
– Ну помоги снять! – Катя делала вид, что запуталась в своем платье.
А когда Славка подошел ближе и принялся было тянуть с нее платье через голову, она сама скинула ситчик и захлестнула им Славкину шею словно петлей или арканом.
– Попался!
Она притянула к себе Славку, фазу обхватила его ногу своими, навалилась грудями, выпирающими из фиолетового узорчатого бюстгальтера. А потом резко отстранила Славку, опустила глаза. И он не успел прикрыться рукой.
– Созрел! – обрадованно провозгласила Катя. И как-то изящно и легко, несмотря на свою полноту, выскочила из трусиков, отшвырнула платье на скамью. Туфельки снимала на ходу.
Догнала она Славку у самого полка. Полок был неположен в солдатской бане, некогда солдатушкам, бравым ребятушкам, распаривать на нем свои телеса. Но его все же смастерили умельцы, а начальство смотрело сквозь пальцы на их работу, может, просто не замечало. Пользовались им редко, опять-таки в основном после нарядов.
Славка запрыгнул на высокий полок. А она осталась внизу. Не смогла поднять пышного тела, не хватило силенок.
– Помоги-и? – игриво протянула она и помахала руками перед Славкиным носом. – Ну чего ты?
– Нетушки-и, – протянул Славка не менее игриво. И достал с пола веничек, припасенный еще со вчерашнего дня.
– Ну-у, кавалер! Поматросил и бросил? Так?! – Катя рассыпалась в мелком смехе. Тянулась к нему.
Потом она подпрыгнула – ее огромные груди взлетели вверх, качнулись и опустились тяжко, у Славки аж сердце зашлось. Но Катя не урезонилась. Она прыгнула еще раз, потом еще… и красивенький ее бюстгальтер не выдержал что-то в нем лопнулось, живые упругие шары выскочили наружу резиновыми мячиками.
– Ладно уж!
Славка великодушно опустил обе руки вниз. И она все поняла. Развернулась к нему спиной. Он просунул руки ей под мышки, ухватился за эти колышущиеся мячики и одним махом втащил толстушку Катю к себе, на полок. Она завизжала, опрокинулась на него спиной, мясистыми бедрами, придавила. Но он не выпускал ее грудей, он перекатывал их из стороны в сторону, вздымал вверх и опускал, чувствуя, как они вырываются из рук, разбегаются, как набухают соски. Эта игра нравилась обоим, и особенно Катюше – она заливалась птичкою, откидывала голову назад, ему на плечо, жеманилась, терлась, повизгивала, гладила его руки, а сама подзуживала, подзуживала быть смелее, увереннее, сильнее. И Славка не робел… где он еще встретит и когда такое обилие женской волнующей плоти, горячей и трепетной, обильной и сладкой! Все его знакомые девчоночки и однокашницы, все его мимолеточки были худющими, постными – и пускай невеликий опыт у Славки, да только он знал, что рука к таким вешалочкам привыкает быстро и перестает реагировать на них со второго поглаживания, в лучшем случае, с третьего. А тут все было иначе! Тут можно было «пировать» до бесконечности, погружая руку в податливое и извивающееся тело, до тех пор, по крайней мере, покуда сам выдержишь!
– Попарь меня веничком! – попросила Катя. И улеглась на живот.
Славка повалился на нее – и не было в мире перины мягче и удобнее. Орудуя веником, он подгонял парок к ней, к ее бокам, к себе. И она стонала, сипела, даже ругалась со смехом, пыталась выскользнуть, но не всерьез, конечно, в шутку.
– Уморишь, изверг! – кричала она и прихлопывала его по бедрам, вытягивая свои полненькие коротенькие ручки.
И тогда он отбросил веник. Она почувствовала это. И одним неуловимым движением извернулась под ним, прижалась лицом к лицу, раскинула широко мягкие свои ноги, обхватила ими его бедра, обняла руками. А когда почувствовала, что все в порядке, отпустила его плечи, ухватила себя под ноги руками, притянула их выше, выше… он приподнялся над нею, помог ей, положил ее ноги на плечи, утонул в ее напрягшейся и задрожавшей мякоти, пружинистой, упругой. И почувствовал, что сегодня им предстоит еще долго наслаждаться друг другом, что она так его зарядила, как никогда раньше, что он сам будет оттягивать и оттягивать последний момент, лишь бы дольше продолжалось это плавное покачивание, эта неторопливая сладостная скачка…
И в этот же миг он повернул голову. И разинул рот.
Из противоположного окошечка, с расстояния в два метра, на них глазели огромные выпученные глазища. Славка даже и не понял сначала, кому они принадлежали. Катя под ним застонала, потянула его вниз, к себе. А он не откликнулся, он словно окаменел.
– Не уходи, не уходи! – сипло донеслось из окошка, и в него протиснулась сначала голова Тоньки Голодухи, а потом и вся она. Ни один нормальный человек, даже ребенок, не пролез бы в эту щель. А Тонька проскользнула.
Она спрыгнула босыми ногами на лавочку. И тут же содрала с себя грязные лохмотья, бросила их рядышком с ситцевым платьем.
А Катя лежала, требовала чего-то от Славки и ничего еще не видела.
Безгрудая и страшная Голодуха подошла вплотную, вцепилась в край полка, подтянулась. И вот тут-то Катя повернула голову и встретилась своими глазами с безумными очами сумасшедшей. Это был конец света. Славка почувствовал, что летит куда-то вверх. Он ударился сразу затылком и спиной, ноги отшвырнули его катапультой, да, эти самые – мягкие, упругие, послушные, сладостные.
– А-а-а-а-а-у-у-у!!!!! – заорала благим матом Катя и забилась в угол. Но тут же рванулась, спрыгнула шариком и, несмотря на всю грузность, округлость, молнией метнулась к лавке, схватила платье в комок, подхватила туфли… и в долю мига выскочила из бани, только дверь хлопнула.
Славка недоуменно поглядел на кафельный пол у лавочки – там валялись черные трусики и фиолетовый ажурный бюстгальтер. Они казались жалкими, несчастными.
Но он не туда смотрел.
– Не уходи-и-и! – выкрикнула вдруг Тонька, совершенно бессмысленно, непонятно к чему.
И бросилась на Славку. Он не ожидал подобного натиска. Он чуть не ударился головой о потолок второй раз. А она уже вцепилась в него, уже тянула на себя, падала. Они грохнулись вниз, на пол, вместе, одним клубком. Но она то ли не ударилась, то ли не почувствовала боли, она обхватывала его руками и ногами, сдавливала. Проделывала все это с такой уверенностью и ловкостью, с такой одержимостью, что Славка сам не заметил того мига, когда овладел ею. Точнее, когда она завладела им и стала импульсивно, гибко и страстно изгибаться, припадая и отстраняясь. Это было выше его сил. Но он уже терял власть над собой.
– Не уходи, не уходи, Боренька-а-а! – стонала она, раздирая его кожу в кровь ногтями.
Славка не сразу понял. Но потом выдавил из себя неуверенно:
– Вообще-го меня не Боренькой звали раньше!
Она вжималась в него, терзала его. И ничего не хотела слушать. Через каждые два слова она нашептывала: «Боренька! Боренька!» И было это просто страшно! Славка понял, что она не в себе, что она не понимает, где находится, с кем…
– Нет! Ты не уйдешь! – прохрипела она неожиданно не своим голосом.
И перевернула его на спину, застыла на нем, словно лихая наездница на смиренном и послушном скакуне, прижала к полу, сдавила бедра ногами еще сильнее, вскинула руки, снова осела, надавила, будто желая, чтобы он вошел в нее глубже, как можно глубже. Закричала сдавленно.
И его пронзило сладостной дрожью, его потянуло, выгнуло так, что он приподнял ее, подержал немного, а потом сбросил. Это было впервые со Славкой, это вообще было за гранью его понимания: начал с одной, кончил с другой.
И тут она уперла свои костлявые руки в его грудь, нагнулась над ним, глада и вовсе повылезали из орбит, и она закричала как резаная:
– Это не ты! Эгоисты!! Это не ты!!!
Конечно, не я, подумалось Славке, и не я, и не она, и вообще – не реальность, все это сон, бред, кошмар! Наверное, надышался там в подвале дрянью, а тут, в пару и влаге, головушка-то и не выдержала, пошла круголя выделывать, видениями потчевать!
Но в тот же миг «видение» ударило его ладонью по щеке, завизжало пуще прежнего и метнулось к окну. Славка не успел на ноги подняться, а Голодуха, сжимающая в кулаке свои бесцветные лохмотья, вся синюшная, избитая, тощая, грязная, выскользнула уже из бани.
– Бедлам! – заорал Славка в голос.
Схватил свои форменные брюки. Стал их натягивать.
Он выскочил наружу через десять секунд, не позже. И по примятой траве и обломанным веткам увидел, куда побежала спятившая окончательно Тонька. Ее надо было поймать, отвести в санчасть! Пускай ему влетит! Пускай! Но иначе она сегодня натворит таких дел, что и… Славка не стал додумывать.
Он бежал, так же как и она, не разбирая дороги, ничего не соображая, полностью позабыв про Катю. А та, между прочим, стояла за большим деревом, глядела на него и плакала. Она вообще ни черта не могла понять. У нее все поджилки дрожали. И все-таки она нашла в себе силы и после того, как Славкин след простыл, зашла в баню, подобрала трусики и сиреневый бюстгальтер, сиротливо валявшиеся на полу.
Леха встал на колени и обхватил Тяпочку поудобнее она застыла, вытянувшись в полный рост, лицом к нему. И их головы были на одном уровне. Губы ловили губы, глаза смотрели в глаза.
– А ты не измучился, мальчик? – поинтересовалась Тяпочка. – Тебе потом плохо не будет, а?
Леха промычал нечто невразумительное – он совсем одурел за последние полтора часа, она из него высосала не только остатки сил, но и, казалось, вообще все. И несмотря на это, Леха продолжал пылать страстью, он еще не удовлетворил ее и на половину. Во всяком случае ему так казалось.
– Ну, как знаешь, – пропела она и укусила Леху за нос. Тот как стоял, так и сел, опустился на собственные пятки. Притянул ее – Тяпочка, широко расставив ноги, пристроилась на нем. И все началось по новой.
Бутылка из-под вермута давненько валялась в кустах, опорожненная до последней капельки. Но они были пьяны вовсе не от вина, они были опьянены друг другом, близостью. Тяпочка была крохотной, но и она не умещалась в Лехиных ладонях полностью. А ему очень хотелось вобрать ее всю в себя, одновременно ухватиться за всё выступающее и не очень, огладить каждый миллиметрик кожи. Но что делать, рук не хватало! И Леха жадно перебирал ими, словно какой-нибудь скупой рыцарь, ласкающий свои ладони в золоте и драгоценностях, загипнотизированный ими, не имеющий сил оторваться.
Он ничего не видел вокруг, ничего не слышал. И потому, когда поймал вдруг на себе пристальный взгляд огромных светлых глаз, еще с полминуты пребывал в замешательстве, не прекращая покачиваться и ласкать Тяпочку. Лишь позже до него дошло, что происходит нечто неладное.
Но было поздно. Из-за кустов вдруг выскочило дикое и невероятно костлявое существо. Оно было растрепано и грязно. На теле этого существа висели драные лохмотья, сальные спутанные волосы торчали в разные стороны. Под глазом красовался огромный синяк. Леха и не разглядел его толком – он вобрал его сразу, как объектив фотоаппарата, – механически, без осмысления. И случилось это потому, что существо выскочило, словно из пращи, подпрыгнуло, огласило окрестности диким воем и бросилось на них.
– Ты чего… – начал было Леха.
Но Тяпочка уже полетела в сторону – голенькая, напуганная, с перепугу потерявшая дар речи. А безумное это существо вцепилось в Лехины плечи – да так, что из-под ногтей его тут же выступила кровь. И завизжало в лицо:
– Не уходи! Не уходи-и-и!!!
Леха опешил. Но ему хватило секунды, чтобы собраться, вскочить на ноги. Он даже не успел поднять спущенных брюк, и они сползли на траву. Первым делом он оторвал от себя руки, отбросил их. И, не раздумывая, ударил налетевшее на него существо кулаком в грудь. То отскочило на метр, упало, скорчилось. Леха в горячке уже было занес ногу, чтобы врезать покруче, чтобы проучить… И так застыл. Он только сейчас узнал Тоньку Голодуху.
Позади судорожно, словно по команде «Подъем», одевалась Тяпочка. Она была в крайнем замешательстве, трясла бантом, округляла глаза, разевала рот. Но сказать ничего не могла.
Леха нагнулся над лежащей Тонькой, протянул к ней руку.
– Не уходи! – закричала она так высоко, что уши заложило.
И ударила Леху ногой в живот. Потом другой – под глаз. Леха чуть не упал. Но теперь в нем не было ни злости, ни растерянности. Теперь он знал, надо что-то делать, надо как-то помочь Голодухе, иначе приступ может ее угробить. Он снова подступился к ней.
– Не трогай! – послышалось из кустов.
И на поляночку выскочил Славка Хлебников. В руке Славка держал белое вафельное полотенце. И вид имел такой, словно вот-вот набросится на безумную Тоньку и начнет ей руки вязать.
Но оба опоздали. Голодуха вскочила вдруг на ноги, обожгла всех диким нечеловеческим взглядом, зашипела на Тяпочку, отчего та чуть не упала, прикрыла лицо руками, и опрометью бросилась наутек. Ее вой еще долго стоял в ушах.
Первым опомнился Леха, подтянул штаны, простер руку назад и сказал:
– Знакомься, Тяпочка! А это – Славик!
– Лена, – представилась Тяпочка, скромно потупив глазки.
– Очень приятно, – сказал Славка. Повернулся спиной. И пошел в баню.
«Леха! Приветствую тебя!
Побаловал ты старика своим письмецом. Спасибочки! Прямо не ожидал от тебя столь пространного послания.
Читал, и аж слезы на глаза наворачивались – все вспоминал службу свою, друзей-товарищей боевых, кажись, вчера было! АН нет! Все не так нынче. Да и к себе, нынешнему, никакого что-то расположения не ощущаю! И что за дела, сам не могу понять!
Житуха вроде не слабая. Да и башли зашибаю приличные, хватает на то, чтоб колесом пройтись, да еще маненько остается, Леха. А все не так! Нет в душе спокойствия и порядку. Ведь так хотелось праздника, душа рвалась! Но все в полном наборе: пьянки, гулянки… а праздника, Леха, нету! Почему же так?!
Тут вот жениться надумал, не поверишь! И деваха – блеск, и все прочее. А сердце ноет. Я его в кулак, а оно за свое! И как подумалося мне, Леха, что окопаюсь я туточки, в дыре этой столичной, загазованной и заплеванной, на всю оставшуюся, как говорится, жизнь, так хоть вой волком! Тошно, Леха! Все испробовал, все прошел, а хреново, не поверишь. Аж чуть не из-под венца бежал! Ребята, как узнали, что прописка накрылася, говорят, ну и обалдуев же земелюшка россейская родит, ну и простофилюшек!
Только плевать, Леха! Не из той я породы, чтобы по прописочке сокрушаться, у меня, корешок, стать совсем другая. Но все равно тошно! А по ночам речуха наша снится встанешь с похмелюги, а в глазах синё, будто только что, секунду назад с удочкой на бережку сидел. А внутри жжет чего-то…
Но ты не обращай внимания, это я так, обрыдло все до невозможности! Ну, пока! Служи! Армия это, Леха, еще не самое страшное на свете!
Твой землях Григорий Сухой (без даты)».
Кузьмин сидел за своим столом, тяжело опершись на него руками. В пепельнице, стоящей с краю, дымилась полусгоревшая сигарета. Лицо командира части было набрякшим, каким-то постаревшим. Время от времени он тяжело вздыхал, поглядывал на часы, нервно поглаживал трубку стоящего рядом телефона.
Когда Слепнева ввели, было без пяти восемь – время домашнее.
Мишка стоял навытяжку, молчал, точно воды в рот набрал. Руки его мелко подрагивали, но лицо было окаменевшее – ни малейшего движения мысли, ни страха, ни других чувств оно не выражало. Лишь было белее обычного, почти меловое.
– И что же теперь делать будем, рядовой Слепнев?! полковник свел брови над переносицей так, что показалось они вот-вот срастутся. – Я вас спрашиваю?!
Мишка молчал, ни одна морщинка на его лице не дрогнула, и даже само выражение лица стало как бы еще бесчувственнее.
…В тот день, не найдя напарника, он ушел из части один. Один в третий раз. Благо рота опять заступала в наряд, а его в числе немногих обошли.
Теперь Слепнев знал каждую щелочку, все лазейки. Да и путь был знакомый. – То, что в селе военного патруля не бывает, он пронюхал еще в первый раз. Риску никакого!
А удовольствий зато впереди – целое море. Особенно одно.
Особый интерес гнал Слепнева вперед – светловолосая, курносая, веснушчатая Надюшка. Познакомились они совершенно случайно.
Во второй свой поход он, как и в первый, завернул в в придорожную чайную. Вновь перед ним стояла заветная кружка с шапкой пушистой пены, и вновь он не мог решиться притронуться к ней. Сидел, глазел по сторонам, скомкав пилотку и расстегнув воротник до последней пуговицы, чуть не до ремня. Слушал шоферские байки, на ус мотал опыт бывалых шоферюг. И все бы так и оставалось до поры до времени, если бы к его столику не подошла она. И не официантка даже, а на вид то ли посудомойка, то ли уборщица – черт ее разберешь. Растрепанная, загнанная.
Но фигурка была ладная, призывная. У Мишки – глаза в растопырку, отвык он от женского полу!
– Ну чего маешься, солдатик? – спросила она таким тоном, будто Слепнев был по крайней мере раза в два моложе. – В увольнении, небось? Пивцом побаловаться решил? А что это уставом запрещено, позабыл, что ли?
Мишка оторопел, не нашелся, только осклабился до ушей.
– Ну, милок, ты совсем телок! – Девушка рассмеялась и оттого стала почти красивой. – Дай глотнуть.
Она присела за столик рядком, подперла голову руками и бесстыже уставилась на Слепнева. Тот взял и ей кружку, отсчитав копейки в кожной ладожке. Но она отшутилась, пить не стала.
– Я вообще-то на минутку сюда… – начал было он, но, поняв, что его не слушают, прервал свои объяснения.
– На минутку – это хорошо! В такой дыре больше минуты и делать нечего. А я вот тут прописалась навечно, видать! Да ты прихлебывай, не гляди на меня!
– Она вытерла краем фартука вспотевшее распаренное лицо.
– Поезжай в город, чего же ты? – предложил Мишка по широте души. – Там всегда пристроишься.
– Везде одно и то же, – вздохнула девушка. – Повсюду это наглющее пьяное мужичье, бабники! Чтоб они провалились все! Знаешь, я сколько навидалась да натерпелась за два года после школы – на пять жизней хватит!
Мишке ответить на такое было нечего, и он присосался к кружке, понимающе хлопая глазами.
Они просидели минут сорок. Болтали о том о сем.
Мишка жаловался на службу, Надюша, а именно так звали девушку, на свою нелегкую «бабскую долю». Но за жалобами сквозило нечто иное – видно, и впрямь бывают взаимные симпатии с первого если не взгляда, то разговора. Кончилось тем, что Надюша пригласила его к себе. Мишка прихватил в буфете бутылочку кагора – больше там ничего и не было, – и они ушли.
Жила Надюша в старом одноэтажном домике. Комнатушки были плохонькие. Но Мишке на все – это убранство было наплевать. Он и не смотрел ни на что, кроме нее самой, все больше и больше распаляясь. Полы скрипели под ногами. По углам висела пыльная паутинка.
Надюша усадила его возле стола.
– Обожди тут. Я только переоденусь! – и скрылась за дверью.
Мишка откупорил бутылку, расковыряв пробку вилкой, лежавшей на столе. Налил себе в чашку. Выглушил в два глотка. Потом встал. И открыл дверь.
Надюша стояла возле старинного, порядком запыленного зеркала и расчесывала длинные темно-русые волосы. Ничего на ней, кроме совсем узеньких, в ниточку, беленьких трусиков, не было. Она обернулась к Мишке – два тяжелых шара грудей колыхнулись, плечи приподнялись вверх – беззащитно и как-то по-детски. Она чуть-чуть привстала на цыпочках, отчего длинные, но по-женски округлые ноги стали еще длинней, еще привлекательней.
Она не сделала ни малейшей попытки прикрыться или накинуть на себя легонький халатик, висевший тут же на спинке стула. Наоборот, улыбнулась – открыто и как-то загадочно, протянула руки к нему.
– Ну наконец-то сообразил! А я думала, ты там уснул.
Она сама подошла к нему, сама расстегнула оставшиеся нерастегнутыми пуговицы гимнастерки, стянула ее с Мишки. И только теперь Мишка очнулся – его ладони легли на ее крутые упругие бедра, сдавили их. А она забросила ему руки за плечи, вжалась в него со всей своей силой и нежностью, подставляя полные, чуть подрагивающие губы для поцелуя…
Старая, еще бабками набитая перина была жаркой и невероятно мягкой, в ней можно было провалиться и заблудиться. Мишка вымотался до полнейшего бессилия, изнемог, как не изнемогал он ни в одном, даже самом утомительном, марш-броске. А она оставалась все такой же свежей и манящей, но каждый раз по-новому, раскрываясь все глубже и глубже, совершенно околдовывая его, лишая собственной воли, мыслей.
И только часа через два, вспомнив о вечерней поверке, он позорно бежал, почти не попрощавшись, наскоро натянув обмундирование.
– Приходи скорее, миленький, я ждать буду! – донеслось ему вслед. – Может, ты…
Последних слов Мишка не расслышал. Он бежал в часть и думал только о том, как бы не опоздать, как бы не опоздать!
Ощущение сладостного, тянущего пришло позже, когда все обошлось и он бодро выкрикнул свое «я» в строю. Ночью не спалось. Да и понятно – мог ли он рассчитывать на такое. Даже не верилось, все казалось какой-то сказкой.
Прошла неделя, прежде чем ему удалось вырваться вновь. И в этот день он жил предчувствием праздника.
Он стремился к нему.
Шел, как летал, ноги земли под собою не чуяли. Мимо забегаловки придорожной пробежал, даже не взглянув на нее. А сердце билось: «Вот сейчас, вот…» О страхе и не думал – кто мог подвернуться: офицер какой проходящий, так это не беда – отказыряется – и мимо. Жалел только, что один идет. Да что ж к тому – Надеждины подружки пускай сами себе утешение ищут. Ему-то что?!
Так с лету и наскочил на троих парней, сидевших на бревнышке метрах в ста от Надюшкиного дома.
– Кудай-то так торопишься, служивый? – протянул один из них, самый хлипкий и моложавый на вид. – Сядь отдышись, покалякай с нами!
Он угодливо, в полупоклоне протянул Мишке пачку «Явы», ловко выщелкнув оттуда одну сигаретину – ровно наполовину.
Мишка оторопел:
– Спасибо, ребят, – начал он неуверенно, но сбавив все-таки темп, – спешу! Как-нибудь в другой раз.
– Да не гнушайся ты нами, деревней, – пробасил косматый, заросший волосами до плеч, а усами до подбородка верзила. Даже сидя он казался выше первого паренька, а уж постарше был и подавно, лет на пять, не меньше. Присядь, потолкуем!
До Мишки стало доходить – что есть что. Вспыхнуло в мозгу воспоминание – компания, в скверу на лавочке, холодный ветер. Другого быть не могло. Стало зябко. Он остановился, сунул руки в карманы – то ли показывая, что ему все до лампочки, то ли давая понять, что там что-то есть.
– Ну, вот и молодец, – наконец раскрыл рот третий, сухощавый, с пожелтевшим лицом, неопределенного возраста, – а то спешу, говорит!
Мишка ждал, что будет дальше, отворотившись от протянутой пачки сигарет, несмотря на то, что курить ему в эту минуту захотелось смертельно.
– Присаживайся, присаживайся, – вновь проговорил желтолицый, – о службе расскажи, как оно там – на солдатских харчах. И я заодно про казенную житуху вспомню.
– Ага, – прибавил косматый, хихикнув, – нам есть чего вспомнить. И чему молодых поучить, – он выразительно поглядел на щуплого. Тот закивал, растягивая лягушачий рот в улыбке.
– Говорю вам, спешу, ребята, – Мишка начал трусить, в голосе его зазвучали жалобные нотки, – пропустите. Ждут меня.
– Во-во! И о том, кто кого ждет, покалякаем. – Косматый опять захихикал и, подойдя ближе, ухватил Слепнева железной ручищей за плечо, подвел к бревну, посадил силой. – Всех нас ждет кто-то. Одного тюрьма, другого сума, а третьего могила!
Только теперь Мишка уловил винный дух, исходивший от ребят. И решил, что ерепениться не стоит, все равно не отстанут.
– Какой ты у нас умненький-послушненький, – улыбаясь одними губами, проговорил желтолицый, – а я-то сдуру о тебе поначалу совсем было плохо подумал – невоспитанный, мол, паренек какой-то, старших не уважает.
– Не, он уважает, – вставил щуплый, – как же ему таких законных ребят не уважать, правду говорю?
Мишке все это уже начинало порядком поднадоедать.
– Ну, говорите, чего надо? Не тяните резину!
– Не тянуть, говоришь? – перестал хихикать косматый. – Ладненько, не будем. Получай, падла!
Он, полуобернувшись к Мишке, не вставая с бревна, вдруг резко и сильно стукнул его пудовым кулачищем прямо в лоб.
Слепнев как сидел, так и завалился назад, за бревно, не успев даже руками взмахнуть. В голове стало пусто, по телу прокатилась волна тошноты.
Щуплый услужливо приподнял его за плечи, вновь усадил на бревно и отошел в сторону, потирая руки. В желтых глазах его было нескрываемое удовольствие, граничащее с восторгом.
Мишка совсем ошалел-он сидел в полнейшей прострации и не был в состоянии даже вспомнить точно, что произошло с ним в последние минуты. Полнейшее отупение и равнодушие охватило его, ни в руках, ни в ногах сил не было. Но что самое странное – боли он не чувствовал.
– За неуважительные слова, парниша, понес наказание ты, за нелюбовь к нам, – пояснил желтолицый, – а я-то нахваливал тебя – даже стыдно перед корешами теперь. Что ж ты меня так подвел, а?
Мишка рванулся было вскочить, но рука косматого вновь прижала его к бревну.
– Погодь маленько, браток, разговор-то еще ведь и не начинался, – он вновь захихикал.
Спасение никакого не предвиделось – даже случайных прохожих не было на улочке. А самому… Что мог он сам против этих троих? Мишка начинал понимать состояние тех, кого они вот так же останавливали в своем сквере. Но что толку было от воспоминаний и понимания. Никакого.
– Так давайте потолкуем, – еле прошептал он.
– Надюшеньку ты нашу знаешь, так ведь? – просипел желтолицый, – правильно я говорю? Или ошибаюсь?
– Все верно, знаю! – отрезал Мишка. – Чего надо?
Косматый ощерился:
– Ну, ты опять грубить!
– Да, знаю, – повторил Мишка, – но вы-то здесь причем?
– Как это причем? – вновь влез щуплый. – Ты парнишечка городской – наших обычаев не знаешь, а мы тут все как родня, что ли, – в голосе его дрожа-то ехидство и ирония.
– Одна она, – буркнул Мишка, – сама себе хозяйка!
– Ты склеротик прям какой-то, – косматый перестал хихикать, – совсем с памятью плохо. Тебе что, еще разок напомнить – кто тут хозяева?!
Мишка промолчал. Он пожалел, что начал объясняться с ними: сама не сама, не их собачье дело! Пускай делают что хотят, хоть убивают, а стелиться перед ними не буду!
– Так вот, поговорили мы вдосталь, а теперь я один буду говорить. – Желтолицый глубоко затянулся и выпустил густую струю дыма прямо Мишке в лицо. – Надюху оставь, прошу тебя. Пока прошу! Дальше этого бревнышка ты все равно ни шагу не сделаешь – только назад, в часть свою, усек?!
Слепнев мотнул головой, чувствуя, как возвращаются к нему силы, а с ними вместе неуемная остервенелая злость что он, в драках не бывал?! «Тоже фрайерочка нашли, ребятки! Да костьми лягу – не отступлюсь! Бейте, суки!» Он стал выжидать момент.
Долго ждать не пришлось.
– Что ж ты дяде не отвечаешь, невежа? – Косматый, будто в истоме, полуобернувшись к Слепневу, раздул и вытянул грудь, задрав вверх полусогнутую руку. – Видать, придется тебя…
Договорить он не успел – Мишка резко выбросил локоть вправо, туда, где должно было быть солнечное сплетение верзилы. И почувствовал, что не промахнулся, – локоть глубоко погрузился в жирную грудину, под ребра, так, что даже сам Мишка почувствовал острую боль в суставе. Еще он успел ощутить в долю секунды, как обмякло огромное тело. И медленно поползло куда-то в сторону. Куда именно, рассматривать было некогда, – он резко вскочил на ноги, встал напротив желтолицего, который по-прежнему сидел с самым невозмутимым видом. Боковым зрением он заметил, как щуплый, с побледневшим от страха лицом, заходит ему за спину.
– Не суетись, сынок, – сказал желтолицый, обращаясь непонятно к кому – то ли к щуплому, то ли к Мишке. – Мимо меня не проскочишь.
В руке его совершенно неожиданно оказался нож. Причем держал он его как-то расслабленно, играючись, видно не предполагая в Мишке серьезного противника.
– С Бугаем ты посчитался, хвалю, – на губах, таких же желтых, как и само лицо, зазмеилась ухмылка. – Но сказанное мною остается в силе. Пойми это, дорогуша, и не перешибай плетью обуха.
Чувствуя, что щуплый почти дышит ему в ухо. Мишка наотмашь хлестанул ребром ладони назад. И промазал – удар пришелся не по горлу, ребро врезалось щуплому прямо в левое надбровие. Мишка успел это заметить, скосив глаз.
Щуплый истошно заверещал на всю округу, ухватившись руками за лицо, заливаемое кровью. Но он не интересовал Слепнева. Шестерка, холуй! Мишка стоял с выпученными от удивления глазами – желтолицего не было.
Когда он успел удрать, да еще так незаметно, – этого понять было невозможно. Но одно Мишка понял, что именно желтолицый был за главного. Ведь не шелохнулся же он, когда беззвучно свалился Бугай, который, кстати, так и лежал до сих пор. И только истошные вопли щуплого спугнули его, ведь на них могла сбежаться вся деревня.
И она сбежалась. Пускай не вся, пусть даже меньше половины, но вокруг Мишки и тех двоих собирался народ. И не просто стоял – угрожающий шепот нарастал, переходил в прямую брань, кольцо сжималось. Где-то вдалеке топали сапогами – бежал участковый.
Но что больше всего поразило Мишку, так это то, что в толпе, разъяренной и неуправляемой, стояла вся сжавшаяся в комок, с посеревшим до неузнаваемости лицом Надежда. Из всех глаз, смотревших теперь на Слепнева, пожалуй, только в ее глазах стояла какая-то исступленная жалость.
Но не только жалость, заметил Мишка, – он видел теперь лишь ее, одну – в этих глазах была любовь. Она одна понимала, что здесь произошло минуту назад.
– Ну так что же делать будем, Миша? – Кузьмин откинулся на спинку кресла.
– Что ж ты воды в рот набрал?
Слепнев как стоял, так и продолжал стоять, белея все больше. Он видел перед собой не начальника школы, не полковника Кузьмина, а лишь ее, Надюшины, глаза.
– Скажи спасибо, что мальчишечка этот в суд побоялся подавать – за самим, видать, делишки темные имеются. Да участковому в ножки поклонись – он эту гоп-компанию так охарактеризовал, что ты чуть ли не герой у нас получаешься. – Кузьмин расслабился, усмехнулся. Затем встал из-за стола, лицо его посуровело. – Ну, а от меня: за самовольный уход из части – пять суток! Выйдешь – получишь еще пять за драку. А потом… потом поглядим. Но из нарядов вылезать не будешь, попомни мое слово, – он снова сел за стол, нажал кнопку. Сказал вошедшему сержанту: Увести арестованного.
– Ну что ж, сдавайте пилотку, ремень, рядовой Слепнев, – сказал Мишке начальник караула, – камера в вашем распоряжении. И время будет, чтоб все обдумать.
Мишка не возражал. Он был готов просидеть на губе хоть до второго пришествия. Не нужны ему были ни лычки, ни звания, ну их' Все равно дольше двух лет не продержат – не такое уж он преступление совершил. А как выпустят, сразу к ней! И плевать на всех.
Перед глазами у Мишки стояла Надюша. И никого между ними не было. Ничто их не разделяло.
«Николай, дорогой мой, это ведь черт знает что! Я тебя жду уже третью неделю, глаз не смыкаю… А только сомкну – опять ты являешься. И такое вытворяешь, что все бывшее – цветочки. Но это сон. Когда же ты возникнешь передо мною наяву?! Или тебе что-то не понравилось? Но ведь последние два раза мы были одни. И нам ведь было хорошо, да? Ты ведь сам мне так говорил. Или все придумывал, а?!
Тут заходил три дня назад этот подонок кучерявый. Квасцов, ты его помнишь хорошо, мой милый! В дымину пьяный, чуть не на карачках. Приперся с какой-то драной рыжей кошкой, ее и женщиной-то назвать нельзя. Ее усадил на диван, меня загнал на подоконник. Сорвал все с себя, побросал в углы. И орет: „Я вам щас любовь втроем продемонстрирую! Опа!“ И тянет за руки, смеется. А сам шарахается из стороны в сторону. Два раза упал. Свинья свиньей! Я его выпроваживать стала. Так он мордобой устроил и мне глаз подбил – до сих пор вся в пудре хожу. Я сперва кошку драную за волосы вытащила. А потом и его пинками! Еще сосед помог, старичок наш, да ты его видал! Не-ет! Больше Мишка ко мне ни ногой! Такой мальчик был славненький, так подъехал! И на тебе! Да это ж забулдыга и хмырь какой-то! И как с ним бабы ходят, срам! Ну да хватит о нем, не стоит он того.
Ты приходи немедленно! Жду! Никуда ты от меня теперь не денешься, мой милый! И про Любашу забудь, все равно тебе ее не видать. Мы с ней, кстати, разъезжаемся не жить нам под одной крышей! Так что не задерживайся, жду!
Твоя Валя, 10 августа 199… г.»
Николай сунул письмо в карман. Все, что сообщалось про Мишку-оболтуса, пропустил, ну его! Он и не сомневался, что Мишка временная залеточка, случайная. Мишка просто не мог быть с кем-то постоянно. А вот она… О ней надо было помозговать. Но потом. А сейчас надо идти и хлопотать об увольнительной.
Николай уже встал с табурета, и вдруг всплыло в его памяти изможденное лицо Тоньки Голодухи. А почему, он так и не понял, не вспомнил.
Черецкий ходил мрачнее тучи. На расспросы ничего не отвечал, даже отшутиться не мог. Лишь отворачивался, когда особо допекали.
Он надеялся, что сумеет развеяться, что дня через два, а может, и три все само собою пройдет. Но не проходило. Наоборот, с каждым днем ему становилось все хуже. К концу недели он извелся окончательно, превратился в оголенный комок нервов. Он совсем не спал ночами, лишь иногда, вне зависимости от времени суток, впадал в прострацию на несколько минут, отключался от мира сего.
Каленцев даже сделал ему замечание. Но потом, приглядевшись, сказал:
– Вы бы в санчасть, что ли, сходили! Что с вами, Черецкий, съели что-нибудь не то, а?
Борька не ответил. Вернее, он ответил, но про себя, послал ротного на три буквы. А к врачам идти отказался. Ничего!
В субботу вечером ему стало совсем невмоготу. Жизнь не мила стала. Днем он повздорил из-за пустяков с Новиковым. Тот мог бы наказать подчиненного, но, видя его состояние и ничего не понимая, спустил все на тормозах, простил.
После ужина Борька стоял у дерева за курилкой, смолил одну за другой. Думал об Ольге, о себе, о том, что впереди еще двадцать месяцев службы и что деваться некуда, хоть вой!

Мимо проходил Леха Сурков. Заметил Черецкого.
– Ты чего? – спросил он.
– Вали отсюда, салабон! – прошипел Черецкий.
Леха застыл в недоумении. Давно Борька не называл его так, казалось, прошла эта временная дурь, растворилась в череде бесконечных дней. АН нет, не прошла, видно. Леха поежился, ему стало вдруг зябко.
– Ты чего сказал? – переспросил он.
– Чего слыхал!
– Я ж по-человечески поинтересовался только, – возмутился Леха, – а ты чего?!
– А ну вали, дундук деревенский, чего встал, спрашиваю! Давай катись!
– Черецкий отбросил сигарету. – Не понял, что ли?!
– Уйду! Но сам уйду! – уперся вдруг Леха. – Раскомандовался тут, начальничек!
Черецкий был уже на взводе, его трясло. Переполнявшая его злоба, многодневные терзания – все это требовало выхода. И сдерживать себя в эти минуты он уже не мог.
– Считаю до трех, зелень пузатая! – процедил он сквозь зубы.
– А хоть до ста, мне-го что, – спокойно ответил Леха и упер руки в бока.
– Раз!
Леха улыбнулся, выставил вперед ногу. Но ему стало не по себе, и он пожалел об упрямстве. Надо было отступить, да теперь поздно.
– Два!
– Давай, давай, мне торопиться некуда.
– Три!
Черецкий выждал еще полсекунды и резко ткнул Леху кулаком в грудь. Тот откачнулся назад, но не потерял равновесия.
– Еще?! – спросил Черецкий.
– Попробуй!
От следующего удара Леха полетел на землю, поднялся он не фазу. Вставал медленно, придерживаясь рукой за горящую скулу.
– Вали, я тебе говорю, а то еще получишь! – громко сказал Черецкий.
Но в тот же миг сам полетел вниз. Лехин кулак не просто сбил его с ног, но и отбросил назад метра на три, в кусты.
Борька вскочил моментально, словно кошка. И сразу же прыгнул вперед. Но его кулак просвистел у самого уха Суркова. Тот успел увернуться. Они вместе упали, сцепившись в падении. Черецкому недолго пришлось удерживаться наверху. Леха перекинул его через себя. Оттолкнул. И быстро встал на ноги. Он собирался было отряхнуться. Но Черецкий вновь набросился на него. На этот раз удар пришелся Лехе прямо под левый глаз. От боли он остервенел, потерял над собой контроль – Борька полетел снова в кусты.
Но поднялся он не сразу, видно, удар был серьезным.
– Ну что, хватит? – спросил Леха. Он тяжело дышал.
Но злости в нем уже не было.
Черецкий не ответил.
– Ну, а теперь я пойду, Боря, – мягко проговорил Сурков. – Ты только не злись! Я же все вижу и все понимаю. Да наплюй ты на нее!
Он и не заметил, как Черецкий оказался рядом. Удар ослепил Леху, лишил слуха. Он рухнул лицом в землю.
– А ну повтори! – прокричал Черецкий, наклонившись над ним и держа кулак наготове. Из губы у него сочилась кровь, лицо было припухшим и грязным.
Леха молчал. Когда он попытался было приподняться на локтях, Черецкий отвел ногу, собираясь, видно, врезать Лехе в грудь сапогом. Но не успел. Сам полетел наземь.
Он даже не понял – почему! Лишь потом заметил Хлебникова, приподнимающего Леху. Догадался, что ударил он. Встал.
Сурков тоже встал. Он удерживал Славку за локоть.
– Не надо, пошли отсюдова, – проговорил Леха, даже не глядя на Черецкого.
– Ну его, псих настоящий.
Хлебников напоследок сказал, полуобернувшись:
– Боря, ты, если некуда силы девать, бейся вон лбом о дерево! Чего ты свое зло на других срываешь?!
– Ладно, валите оба! – просипел Борька.
К вечерней поверке они кое-как привели себя в порядок. И все же прапорщик подозрительно косился на их побитые лица. Но вопросов он не задавал, видно, деликатный был, а может, и просто опытный, не хотел подливать керосину в огонь.
А ночью Борьку совсем приперло. Он тихо стонал, уткнувшись в подушку, рвал наволочку зубами. Потом забылся не надолго, на несколько минут. Но в эти минуты во сне к нему опять явился отец – огромный и безликий.
Борька звал его, кричал. И опять не мог докричаться. Тогда он подпрыгнул, уцепился за рукав и дернул к себе. Отец склонил над ним лицо. Но это было совсем другое лицо, не отцовское неузнаваемое, а лицо Кузьмина. «Ну что, брат, – сказал Кузьмин неестественно весело, – хочешь я тебя в увольнение отпущу! На денек, а?!» И захохотал. Черецкий проснулся.
Рядом с его койкой стоял Леха Сурков.
– Ты чего так кричал? Я даже испугался!
– Да ладно! – вяло ответил Борька. – Все в норме.
Леха покачал головой, вздохнул.
– Слушай, – сказал он, – ты не сердись на нас, хорошо? Мало ли чего бывает.
– Уговорил, не буду! – Черецкий отвернулся к стенке.
Но Леха не отставал.
– Нет, правда, не злись. Зря я завел это дело, надо было пройти мимо, да и все. И Славик тоже… Но, сам понимаешь, всякое бывает, извини! – Он слегка коснулся Борькиного плеча.
– Да иди ты уже! Я про вас и думать забыл.
Леха лег, заснул.
Черецкий тоже заснул. А может, ему только казалось, что он спит, ведь не могли же сниться так долго темнота, мрак кромешный совсем без просветов – и во мраке этом сам он, одинокий и несчастный. Потом из мрака выплыла Олина фигурка, приблизилась. Черецкий даже отпрянул на миг, испугавшись неведомо чего. Но Оля сказала: «Не бойся, ты что это, совсем забыл про меня? Приходи сегодня на нашу лавочку, я буду ждать!» И растворилась.
Проснулся Борька в поту. В первый миг пробуждения он еще верил, что все вернулось на круги своя, что она и вправду назначила ему встречу, на заветной лавочке, что жизнь начинается снова… Но он тут же все вспомнил, стиснул зубы.
Борька полежал еще с полчаса. Потом встал, пошел в уборную.
Дневальный сообразил, что дело неладно минут через двадцать. Но было поздно.
Вместе с дежурным по казарме они вытащили тело из петли, положили его на кафельный пол. Через двенадцать минут приехали санитары на «уазике» с красным крестом в белом круге, вынесли тело на носилках, загрузили его в свою машину. Умер Черецкий в санчасти. За полтора часа до подъема, когда вся рота еще спала.
«Лешенька, дружочек, привет!
Ты мне сегодня опять приснился. И опять в самом развратном и похотливом виде. Ну что же ты за человек такой! Как тебе не стыдно! Ладно, шучу. Я все время шучу, а самой плакать хочется. Поглядела назад – а там пусто, вперед – темно. И страшно стало. А ведь я тебя старше на четыре года, так-то, дурачок ты мой. Старуха я! И мысли меня одолевают старческие. Хочется на покой, на травку, к коровкам, на лужайку. Так что ежели ты тогда не шутил, то напиши мне, ладно? Только напиши точно – возьмешь меня, старуху, в свое село гиблое или нет! Если возьмешь, я все бросаю и еду за тобой, я твою часть разыщу. И устроюсь или в ней или рядышком, чтоб на глазах на твоих. И лучше меня ты, Лешенька, никого на свете не найдешь, понял?! Я не хочу, чтобы ты мне снился, я хочу, чтоб ты живой был рядом. Только учти, я не навязываюсь – не хочешь, не надо. Тогда просто не присылай ответа, и все.
Твоя Тяпочка (без даты)».
Радомысл осторожно, словно боясь спугнуть кого-то, приоткрыл один глаз. И тут же в затылок вонзилась тупая игла. Он тихонько застонал. Приподнял голову.
Половина лож была опрокинута. Тела лежали вповалку. Было душно и смрадно, но светло – свет пробивался в большие круглые дыры шатра сверху, как и надлежало. А значит, на дворе рассвело, значит, утро! Он опоздал!
Радомысл протянул руку к кубку, стоявшему на ковре у изголовья. Рука дрогнула. Но он все же поднял посудину, вылил в глотку вино. Почти сразу по телу побежал огонек, тело ожило. И Радомысл приоткрыл второй глаз.
Чернокожая великанша лежала позади, мирно посапывала. Рот ее был полуоткрыт, виднелись жемчужно-белые зубы и кончик языка. Радомысл машинально протянул руку, положил ладонь ей на грудь, качнул упругую плоть. Чернокожая заулыбалась во сне, потянулась Но Радомысл ничего не почувствовал, он был еще полумертв. Голова раскалывалась, сердце билось тяжело, с натугой. Во рту и горле, несмотря на выпитое вино, опять пересохло. Стало трудно дышать.
В полуметре от него в обнимку с черноволосой красавицей, которую Радомысл вчера прогнал, лежал Бажан. Он громко, с присвистом храпел. Смотреть на него было тошно. Радомысл потеребил между пальцев твердый сосок, огладил грудь, потом другую. Рука его соскользнула, прошлась по всему телу спящей, застыла на большом и мягком бедре, вжалась в него… но ничего в его теле не откликнулось.
Он протянул руку к кувшину, налил себе еще, выпил.
Глаза прояснились, словно с них пелена какая-то спала. Эх, опоздал, опоздал он! Войско наверняка ушло, оно всегда выходило засветло. Ну да ничего – догонит! Он обязательно нагонит их!
Приподняв голову повыше, Радомысл увидел спящего на помосте Цимисхия. Тот лежал обрюзгшим красным лицом в собственной блевотине, пускал пузыри. Был он совершенно гол и противен. Над Цимисхием стоял раб и смахивал его опахалом, не делал даже попытки поднять, почистить своего хозяина. Раб казался неживым. И движения-то его были какими-то заученно-однообразными, неживыми.
В ногах у Цимисхия сидела девушка, беленькая, худенькая, та самая. Она длинным павлиньим перышком щекотала базилевсу икры. Но тот спал беспробудным сном, ничего не замечая, ни на что не обращая внимания.
У входа в шатер каменными изваяниями стояли «бессмертные». Было их не меньше трех десятков. И они оберегали сон базилевса, всех приглашенных, которые не смогли выбраться после пиршества на собственных ногах из шатра. Да и не полагалось, в общем-то, выбираться. Ведь базилевс был прост – не пьешь, не веселишься с открытой душой и беспечным сердцем, значит, скрываешь что-то темнишь, вынашиваешь заговор, значит измена! И пили, гуляли так, что до смерти упивались, лишь доказать свою верность, свою чистоту в помыслах. Сам император не отставал.
Беленькой девушке надоело щекотать спящего. Она встала, побрела между тел, переступая, обходя развалившихся поперек ее пути. Она так и не накинула на себя ничего, она уже не стеснялась своей наготы.
А Радомысл смотрел, и ему казалось, что это сам христианский ангел спустился с небес и бродит меж них, грязных, бесчестных, подлых, гнусных и отвратных животных.
И созерцает этот ангел род человеческий, копошащийся во тьме, сопящий, храпящий, хлюпающий и стонущий, с тоской и жалостью. Но ни чем не может ему помочь, только лишь слезы льет над ним да грустит. И Радомыслу стало страшно за этого ангела – вдруг одно из спящих животных проснется, протянет лапу, сомнет его, испакостит, не даст подняться на незримых крылах в небо!
И настолько Радомысла резанула эта мысль по сердцу, что он дернулся, намереваясь вскочить, защитить слабенькое беленькое существо. Но что-то удержало его. Радомысл даже не понял, что именно. Он повернул голову. Чернокожая улыбалась ему в лицо. И были глаза ее, белые, огромные, чисты, словно и не спала. Она удерживала его рукой, обхватив тело, удерживала ногами, обвив ими его бедра и ноги. И он не мог шелохнуться. Он дернулся еще раз, потом еще – со всей силы, во всю мощь. Но она была сильнее, избавиться от нее было невозможно.
Радомыслу стало страшно. Так страшно, как ни в одной из битв. Он вдруг почувствовал, что удерживает его чернокожая совсем по иной причине, не так как вчера, как ночью. И пот побежал по его спине.
– Эй! – выкрикнула вдруг чернокожая громко. – Подойди сюда! Живей!
Радомысл услыхал шум шагов, лязг доспехов. И перед ложем выросла фигура коренастого и высокого «бессмертного». Воин супился, переводил глаза с Радомысла на чернокожую, потом обратно. И ничего не понимал. Зато Радомысл все понял. Нет, ему уже никогда не догнать своего войска! Он снова рванулся. Но она удержала его, как ребенка удержала, вжимая в себя, наваливаясь сзади исполинскими, непомерными грудями, вдавливая его в свой живот, обхватывая ногами.
Голос ее прозвучал глухо и неожиданно ласково:
– Видал?
Воин кивнул. Не ответил.
– Плохо работаете, – проговорила чернокожая, – вон, устроился, отдыхает… А его, между прочим, никто сюда и не приглашал. Понял?!
– Понял, – ответил воин. И стал вытягивать меч из ножен.
– А ты не бойся, – шепнула чернокожая в ухо Радомыслу, – раньше надо было бояться, когда шел сюда, а сейчас поздно, сейчас мы о тебе позаботимся. – А потом она обратилась к воину: – Надеюсь, ты понимаешь, что этот лазутчик не должен сам выйти из шатра.
– Сделаем! – заверил «бессмертный».
Радомысл ощутил на своем лице ее огромную мягкую ладонь, все пропало, исчезло – она закрыла ему глаза, оттянула голову назад. И в тот же миг сталь меча вонзилась в его горло.
«Командиру части
полковнику Кузьмину В.А.
от командира учебной роты
старшего лейтенанта Каленцева Ю.А.
РАПОРТ
Прошу Вашего разрешения обратиться к командованию округа с просьбой о переводе меня в другую часть. Прошу не отказать.
29 августа 199… г. Подпись».
– Ну чего ты выдуриваешься? Толком можешь объяснить?
– Да тут, по-моему, и так все ясно, Владимир Андреевич.
– Это тебе ясно, а мне-не очень! Из-за Ольги, что ли? Чтобы, не дай бог, не подумали, мол, в зятьях у начальника ходишь, так?!
– И это тоже.
– Ну, ну! Так и будешь прыгать всю жизнь?
– Да уж и не слишком-то я распрыгался, Владимир Андреевич, разве в этом дело! Ну сами подумайте, как мне теперь на этом месте жить?
– Ага! Вот в чем оно дело-то! Так бы и сказал, Юра! Боишься, призраки по ночам захаживать станут? Что это ВДРУГ, совесть замучила?!
– И совесть тоже. Парень-то ни за что сгинул, чего уж теперь…
– Ты не вали на себя давай! Понял?! А то и на меня вроде бы пятнышко ложится, так?! Не-е, шалишь, Юра! Мы тут ни при чем! Пускай они там, в военкоматах, проверяют получше! А то шлют всяких – у одного нервишки на пределе, другой вообще получокнутый! Ведь так! Ведь сам знаешь все! Они уже из дурдомов стали присылать да из школ для недоумков, тебе же известно! А у нас не богодельня, не ясельки, а армия! Понял?! Не-е, ты не перекладывай с больной головы на здоровую…
– Я все это знаю, Владимир Андреевич. Да только ведь случившегося не исправишь – кого ни вини!
– Понятненько! Слушай, а ты случаем в петлю не полезешь, а? Еще с тобой потом разбираться? Слюнтяй ты, вот кто, баба, гимназистка сопливая, понял!.. Кстати, тело родным отправили?
– Да, три дня назад. У него мать только, больше никого.
– Хреново, конечно! Тяжко ей придется. Но жизнь-го идет, Юра, знаешь, сколько всего за день на белом свете происходит?! Одних детей сорок тыщ гибнет за день, вот так! А ты нюни разводишь, обабился!
– При чем тут статистика?.. Да, забыл сказать, и Ольга меня поддерживает, говорит, лучше немного самостоятельно пожить.
– Знаю!
– Тогда подписывайте, Владимир Андреевич, чего нам попусту друг другу нервы тянуть? Все равно ведь уйду, не так, так эдак! И для дела лучше – будем просто родственниками, меньше языки трепать будут склочники да сплетники, им ведь только повод дай…
Резолюция на рапорте старшего лейтенанта Каленцева
Ю.А.: «Просьбу о переводе поддерживаю, буду ходатайствовать об ее удовлетворении перед командованием округа. Полковник Кузьмин В.А.,
29 августа 199… г. Подпись».
Сурков пришел к Мехмету, когда стемнело. Он чуть не полетел вниз головой со скользких и засыпанных угольной крошкой ступеней. Но удержался. Вцепился левой рукой в косяк. Спросил без вступлений, грубо и зло:
– Где Голодуха?
Мехмет плюнул Лехе под ноги и отвернулся. Он лежал на своей койке в обычной позе, задрав ноги на спинку и подложив руки под голову. Трехлитровая банка из-под браги была пуста. А значит, и настроение у Мехмета было паршивым.
– Отвечай!
Мехмет, глядя в потолок, сказал равнодушно, без выражения:
– Пашел отсюда, ишак! Не утомлай старика!
Леха подошел ближе, ухватил лежащего за грудки и сбросил с кровати в кучу хлама.
Мехмет тут же вскочил на ноги. Но Лежа не дал ему опомниться. Он сшиб его таким мощным и классическим ударом в челюсть, что Мехмет минуты три ползал вдоль стены и, судя по всему, не мог понять, где он находится. Он вообще был слабеньким, хилым. Леха знал, да и другие ребята знали, что Мехмету раз в неделю присылают из дому конверт, в котором лежит вовсе не письмо, а лишь листок бумаги. Но в листке этом зеленовато-серая пыльца анаша. Мехмет любил забить косячок, высмолить мастырку. Но никогда ни с кем не делился, хотя в части и была пара-другая дуремаров, привыкших к дури-анаше еще на гражданке. У дуремаров дурь была чуть не на вес золота. Но жизнь показала, что и без нее они могли обходиться.
Наконец Мехмет встал. Вытаращил на Леху непроницаемые черные глаза. Брезгливо скривил губы. И Леха понял, что истопник пока не созрел. Он двинул ему в брюхо, потом в нос – чуть не обломал костяшки пальцев, нос у Мехмета был крепким.
– Где Голодуха? – повторил вопрос Леха.
Мехмет лежал мешком. И его пришлось отволочь к кровати, взвалить на нее. В тумбочке Леха нашел флакон одеколона «Фиалка», отвернул крышечку. И половину выплеснул Мехмету на рожу. Тот пришел в себя, застонал, захрипел. Но похоже, он не собирался говорить.
Последний раз Леха видал Тоньку возле санчасти. Она выглядывала из кустов. И тут же пряталась. Лицо у нее было грязным, почти черным. И оттого еще контрастнее пылали горящие глаза на нем. Тонька выглядела законченным скелетом, узником лагеря, не хватало лишь полосатой каторжной робы или, на худой конец, телогреечки с номером.
Леха понял сразу, что она пришла к Борьке, что она думает, будто он лежит там, в санчасти. А его ведь давным-давно увезли! Он бросился тогда за Тонькой. Но лишь напугал ее. Опять удрала, оставляя клоки от своих лохмотьев на ветках.
Он знал и другое, последние два месяца, по рассказам ребят, Тонька ни разу не была в «блиндаже». От нее отвыкли и начали забывать. Правда, крутилась возле части совсем молоденькая девчоночка, которая по своим замашкам вполне могла стать достойной заменой Голодухе. Но она была еще неопытна да и трусовата – больше двух клиентов за раз она опасалась принимать, причем и тем приходилось вылезать наружу, за заборчик. Девчоночка всегда чего-нибудь требовала взамен: есть деньги – хорошо, нету – давай чего-то другое, хотя бы самую мелочь, портянки новые, рубаху нижнюю, пригоршню патронов от АКМа. За пару сапог ею можно было пользоваться неделю. Короче, двигали этой девчоночкой совсем иные помыслы, не похожа она была на Голодуху, совсем не похожа. А потому и кличку ей дали простую и соответствующую – Дыра. Кто-то якобы видал Тоньку разок вместе с Дырой, может, врал, может, нет.
Леха подождал, пока Мехмет прочухается. И ухватил его за горло правой рукой, начал сдавливать. Мехмет был толковым малым, он понял, что можно запросто попасть в райские сады к гуриям. Но ему хотелось еще немножко пососать бражки из баночки тут, в подвальчике. И он бешено завращал глазищами, давая понять, что расколется.
– Не скажешь, тут и схороню! – заверил его Леха.
Мехмет долго приходил в себя, набирал воздуха в грудь, дрожал. А потом пробурчал злобно:
– Сапсэм ишак! Дурья башка! Вон там сматры, мэшок двыгай!
Леха сдвинул мешочную занавесь и увидал в стене дверь. Дернул на себя ручку.
За дверью оказалась клетушка, два на три метра, с нарами и столиком. В клетушке было темно. Но Леха увидал сидящую на нарах Дыру. Та, поджав под себя ножки, привалившись спиной к бетонной голой стене, штопала лифчик. И вид при этом у Дыры был невероятно серьезный, задумчивый.
– Чего надо? – спросила сна, не испугавшись Лехи.
Тот не сразу нашелся.
– Меньше рубля не беру! – твердо сказала Дыра и насупилась. Потом тут же, словно спохватившись, добавила: И для этого болвана чего-нибудь!
– Какого? – не понял Леха.
Дыра рассмеялась и выпростала из-под себя ножки.
Они оказались худенькими, как у подростка, и голенастыми. Лицо у Дыры отражало все, что происходило в глубинах ее совсем простенькой и немудреной души.
– А ты думал, меня этот деятель за бесплатно в аренду сдает, так. что ль? – И рассмеялась еще заливистее. – Он где там, дрыхнет, что ль?
– Считай, что его нету! – успокоил Леха.
Дыра с сомнением покачала головой. И светленькие подвитые кудельки ее затряслись.
– Он всегда там! – сказала она. – А кто ж еще тебя мог впустить, а?
– Где Тонька? – спросил Леха.
– Да на хрен тебе дурища эта, чокнутая! – удивилась Дыра. – Погляди-ка на меня, лучше не найдешь! – Она задрала юбочку повыше, вытащила груди из-за пол рубашечки, явно мужской, подаренной кем-то. Вообще-то она была достаточно соблазнительной девочкой.
Только Лехе сейчас не до нее было.
Он уже разинул рот, чтобы повторить вопрос. Но увидал, что лицо у Дыры стало вдруг вытянутым.
– О-ой!!! – закричала Дыра. – Ты чего-о?!
Леха обернулся вовремя. Он резко прижался к косяку, убрал ногу, втянул живот. Лопата просвистела в трех миллиметрах от его лица и вонзилась в деревянный пол. Мехмет подкрался бесшумно, тайком. Но он просчитался.
Леха не стал ждать, пока истопник во второй раз поднимет лопату. Он так врезал ему ногой в пах, что тот заорал, скрючился и кубарем покатился назад, на середину кочегарки. И затих. Видно, от боли сознание потерял.
Леха попробовал рукой мысок сапога, не попортил ли казенную обувку. Да нет, все было нормально, немного почистить – и хоть на плац выходи!
– Видал?! – спросила у него Дыра. – Вон он какой!
Этот гад меня посадил сюда и продает каждому! Вот ведь сволочь! Почти все себе забирает! А я скоро опухну тут без света, без жратвы! Кормит объедками какими-то, ругается, бьет, по четыре раза на день топчет! Да так, что потом все потроха болят!
– Ну-у, теперь он немного поутихнет по женской части, – успокоил Леха. – Где Голодуха?
– Чего ты ко мне привязался?! Залезай лучше, поговорим, побесе-еду-ем, – кокетливо предложила Дыра и повела плечиками. – Такому красавчику и толстячку я и за так удружу! – Она выглянула из-за Лехиного плеча, убедилась, что Мехмет в отключке и добавила: – Да за одно за это, что поучил хмыря поганого, я тебя все три удовольствия гарантирую.
Лехе не нужны были «три удовольствия», ему надо было разузнать про Тоньку, и все! Он схватил Дыру за руку, сдернул с нар. Но та оказалась хитрой, и вместо того, чтобы слететь на пол, встать, она оттолкнулась легонько ногами, усилила Лехин рывок и прямиком упала ему на шею, вцепилась, повисла.
– Я тебе покажу, потом!
– Что?
– Где твоя дурочка обретается, вот что! – разъяснила Дыра.
– Пошли!
– Нетушки!
Она тяжело дышала ему в лицо, похохатывала, терлась.
И Леха не устоял. Он лишь вздохнул прерывисто и тяжело. Но большего для него и не требовалось. Дыра захлопнула дверь. Потянула Леху на себя. Они даже не раздевались. Под юбочкой у нее ничего не было, гостей Дыра встречала во всеоружии.
На все про все хватило двух минут. Леха вымотался, но удовольствия почти не получил. Не в настроении он был. А для Лехи – настроение главное! И она заметила, надулась, шлепнула его ручкой по губам. Леха отдернул голову.
– Пошли!
Теперь Дыре отступать было некуда.
– Меня потом этот хмырь пришибет совсем! – пожаловалась она на судьбу грядущую. – Да-а, так и говорил – зарэжу! И все! Он сам ненормальный, Тоньке пара!
– Не зарежет! – заверил Леха.
Он подождал, пока она немного приберется, подтянется. А потом открыл дверь…
Руку с ножом он успел отбить в самый последний момент. Нож вонзился в древесину, задрожал. А Мехмет уже вцепился другой рукой в Лехино горло, вытащил его из каморки, повалил. Они сцепились, упали и покатились по полу, пачкаясь в угольной пыли. На этот раз верх брал Мехмет. Внезапность нападения сыграла ему на руку.
Леха отбивался отчаянно. Но Мехмет подмял его под себя, навалился, принялся душить обеими руками. И когда свет в Лехиных глазах уже померк, случилось неожиданное – Мехмет вдруг сам отвалился, покачался немного и упал набок с выпученными, закатывающимися глазами.
Над ним стояла с лопатой Дыра.
– Чего я наделала-а! – протянула она дурашливо, еще не веря в свершившееся.
Леха поднялся. Потрогал Мехмета. Тот был жив, просто валялся без чувств. Он ощупал затылок – никакой дырки или раны в нем не было, видно, удар плашмя пришелся.
– Оклемается, – сказал Леха. – Пошли!
И они молча вышли из кочегарки.
Дыра вела его долго. В се время вдоль забора. Леха уже подумал, что она водит его за нос, дурачит. Но заметил свеженький, дня три назад прокопанный, лаз под забором и сообразил – все честь по чести. Они пролезли в земляную щель. И метров двести шли по рощице, огибая кусты, спускаясь все ниже в какой-то овраг. Леха ничего не понимал.
– Может, ее и нету там, – сказала Дыра. И вопросительно поглядела на Леху.
– Проверим, – ответил тот.
Еще через минуту они оказались возле заросшей кустарником и травой берлоги, то ли рукотворной, то ли настоящей. Она была так замаскирована в этом буреломе, хитросплетении ветвей и корней, листвы и травы, что будь Леха один, он прошел бы мимо.
Возле берлоги на корточках сидел Славка Хлебников.
У его ног, на земле, лежала Тонька. Она была зеленой. Лехе показалось, что она мертва.
Но Тонька приоткрыла глаза и пролепетала:
– Я ему говорила, не уходи! А он все равно ушел!
Дыра прижалась к Лехиному плечу, переспросила:
– О ком это она?
Леха отпихнул ее. Подошел к Славке. Тот молча пожал плечами, указал глазами на Тоньку Голодуху, вздохнул. Было непонятно, как он вообще тут оказался. Только не время выяснять!
– Надо отнести ее в санчасть! – сказал Леха нервно. Его начинало колотить непонятной всесильной и неотвязной дрожью.
– Поздно, – сказал Славка.
Лежа отвернулся от него, выругался. Он не верил еще, что бывают моменты, когда на самом деле поздно. Склонился над Голодухой. Коснулся пальцами ее щеки.
Тонька снова открыла глаза. Из горла вырвался сип.
За ним тихие, еле слышные слова:
– Я предупреждала его, я знала, что он умрет. Но ничего, это и хорошо, так и надо. Теперь мы встретимся, там встретимся… мы там будем совсем другие, не такие, как здесь. И он там меня узнает, про все забудет… да!
Это был какой-то бред. Леха заткнул уши. Он не мог слушать, переносить ее голоса. И он перебил:
– Тебя вылечат, ты еще попрыгаешь, Тоня! Ну-у, чего ты разлеглась, вставай! – Он повернулся к Славке, сказал совсем другим тоном, сердито, требовательно: – А ну иди сюда, ты чего там, иди!
– Не трогай ее! – потребовал Славка. И отодвинул Леху. – Неужели ты не видишь!
– Чего? – не понял Леха.
– Она же…
– Я умираю, Боренька, – простонала Тонька, – я вижу тебя, это ты пришел со мной проститься! А я думала, что ты уже там! Нет, я знаю, ты там, давно там, и ты ждешь меня… Я иду, иду к тебе, протяни же мне руку, помоги мне… Ну вот! Вот и все! Прижми меня к себе! Прижми покрепче, вот так, хорошо, спаси…
Она оборвалась на полуслове. Глаза застыли, уставившись в одну, несуществующую, наверное, на этом свете точку, подбородок отвис. Скрюченная, тянущаяся к Лехе рука, так и замерла, пальцы не разжались Позади закричала в голос Дыра. Но Леха не повернулся. Он слышал, как трещат ветки, как бежит девчоночка, Голодухина сменщица, бежит от них – то ли в часть, то ли в обратном направлении. Но сейчас было не до нее. Славка стоял и молчал. Он не знал, что надо делать.
А Леха вспомнил вдруг, что покойникам положено прикрывать глаза. Он осторожно протянул руку, коснулся пальцами холодных век, потянул их вниз. Но они почему-то не поддались. И глаза остались открытыми. Леха отдернул руку. И встал.
– Пойдем! – сказал Славка. И потянул Леху за рукав: Пойдем! Мы с тобой тут не пригодимся!
– А как же… – Леха ткнул в лежащую мертвую Тоньку пальцем.
– Ей все равно, – вяло проговорил Славка. – Пойдем.
Она встретилась с тем, кого любила. Не нам ее жалеть. Пошли!
Леха отвернулся, заставил себя оторваться от этого застывшего стеклянного взгляда. И они побрели в сторону части.
«Здорово, Серый!
Гляжу, забыл ты совсем своего старого друга. Ни единой весточки не прислал! Не будет тебе за то прощения, старик, да и мне обидно. Ты, небось, там на казенном харче осоловел совсем, омещанился за заборчиком на всем готовом? Ладно, это я так, это я шучу! Скоро меня самого к вам определят, а то и запнут куда-нибудь на Сахалин! Только мне все едино! Пишу тебе, чтобы в жилетку выплакаться.
Дела мои – швах! Полный развал, Серый! Из паршивого рассадника лжи и мракобесия, то бишь из институтишки нашего заплеванного, меня, как знаешь, вышибли! С треском и громом, с пальбой и салютом! Правда, и я им напоследок салют устроил – старосте нашему, вожаку комсомольскому, глаз подбил – пускай помнит, а декану такую речугу запустил с матерком, в открытую, что его на следующий день в Склифософсхого свезли. Говорят, уже не оклемается. Ну и давно пора, зажился кровосос! Из скольких школяров всю кровушку высосал, подлюга?! Впрочем, мне его по-человечески-то жаль, конечно. Но лучше пускай сам сдохнет, чем дождется, когда его кто придушит или бутылем по башке вдарит! Вот так! С тех пор, Серый, пью и не могу остановиться. Вот и сейчас, прежде чем за карандаш взяться, полпузыря водяры вылакал – а иначе не могу, рука ослабла, дрожит.
Пишу, Серый, а слезы капают на бумагу. С родичами я разругался вдрызг! Они мне и не собираются помогать вроде! Тоже еще предки! И-эх! Погано, одним словом.
Вот пишу тебе, а в комнате у меня гадко и противно.
Ты помнишь, где бывал с Любашей. Все завалено пустыми бутылками, объедками какими-то, дрянью всякой. И ведь ни одна сука не сообразит, что прибраться бы не мешало!
Правду говорю, да?! Вон лежит на тахте – развалилась, выставилась, зараза! Еще со вчерашнего дня торчит, в себя никак прийти не может. Как пить, гулять да лизаться, так не оторвешь! А прибрать чтобы… у тварюга! Но формы, я тебе доложу, Серый, ничего, в порядочке – что на глаз, что на ощупь! Сейчас вот допишу тебе посланьице, дососу пузырек да и привалюсь к ней, к забавушке… А может, ей сначала харю набить да прибрать в хате заставить, а?! Надо бы. Серый, но рука не подымается, распустил я их всех. Впрочем, хрен с ними!
С чего я начал-то, а? Да вот же, вот… Оклемалася твоя Любашенька, утешься! Ожила! И этого твоего генеральчика – побоку, понял?! Это я тебе точно говорю! Послала его так, что больше не воротится! Радуйся, Серый! Хотя я бы на твоем месте плакал бы, а не радовался. Ну да все равно! Никуда твоя Любашенька не уехала, хотя и собиралась! Вкалывает здесь, в одной шибко научной конторе, лаборанточкой! Точняк! Вот эта телка, что развалилась в моих апартаментах нагишом – мать ее перемать! – с Любанькой в одной комнатушке зарплату отсиживает, понял?! Ну, Серый, хочешь верь, хочешь нет, а девочка твоя выше всех похвал скромница и ударница… Ща, погоди, дай приложиться!..
Ну, вот, ништяк, теперь все отлично, поплыл – по-ооплыы-ыл, Серый! Все нормалек! Кайф, Серый! Так что ты пиши! А лучше приезжай – возьмем с тобой ящик водяры, а может, три бормотени, запремся с шалашовками на полмесяца в конуренке моей и за-гу-дим! Ща, ща, я еще глоток!.. Тащусь, Серый. Ну ладно, покедова! Вон моя шалава призывно машет чем-то, зовет – то ли руками, то ли ушами, то ли грудями… Пора, Серый! Я устремляюсь к ней!
Мих. Ан. Квасцов (число не проставлено)».
Эпилог
Ты у меня одна
Поезд набирал ход, оставляя позади себя все привычное, надоевшее, но оттого не менее родное и не менее близкое сердцу, душе. Разлуки, расставания! Всегда в них есть какая-то горечь. Хотя, казалось бы, с плеч долой, из сердца вон!
Но нет, все в жизни переплетено в тугой узел, и потому, даже избавляясь от чего-то ненужного и тяжкого, порой ощущаешь в груди пустоту – ушло что-то, а новое пока не пришло, не заполнило освободившегося места. Дорога!
Сергей смотрел в окно. Взгляд его был тосклив, рассеян. От придорожных кустов рябило в глазах, осень разукрасила кусты и деревья на славу, не поскупилась на золото и багрянец. Да и земля уже была покрыта пестрым осенним ковром.
Какой-то одинокий скукожившийся листочек прилип к стеклу с той стороны и мелко подрагивал на ветру, будто и ему было холодно и неуютно. Сергей не мог оторвать глаз от этого листка. Казалось, что он смотрит в окно вслед убегающим деревьям. Но это было не так. Все внимание его было приковано к этому незадачливому попутчику, никак не желавшему расставаться с уезжающими.
О чем думал в эти минуты Сергей? Он и сам бы не смог ответить на этот вопрос. Наверное, ни о чем! А может, и пронеслась перед ним вся жизнь, сжалась в комочек, и он видел со стороны себя самого, одинокого, оторвавшегося от всего родного, спешащего навстречу неизвестному. Может, так, а может и нет.
– Чего приуныл, Серый? Затосковал по сержантским нахлобучкам и нарядам вне очереди? – Мишка Слепнев толкнул его плечом в плечо. – Не боись, не на век расстаемся! По мне, так чем больше разъездов-переездов, так житуха веселей, корешок!
Сергей кивнул. Сейчас он был готов соглашаться со всеми, лишь бы не отвечать ни на чьи расспросы.
– Хорошо, прямо благодать! – не умолкал Мишка. После всех злоключений, напастей он воспрял духом, словно оставив пережитое на старом месте, увозя с собой лишь образ Надюши в сердце да ее фотокарточку в кармашке. – Стучат колеса, рельсы вдаль бегут…
Мишка в такт нехитрого мотивчика принялся настукивать себе по колену ладонью. Сурков ему нескладно, но громко подпевал.
Поезд шел все быстрее и быстрее. Листок, оторвавшись наконец от стекла, взметнулся вверх, закрутился и пропал. Теперь ничто уже не связывало пассажиров поезда с покинутой ими станцией. Прошлое оставалось позади.
Но вместе с улетевшим листком спала с сердца туманная пелена, улетела грусть. Сергей, отвернувшись от окна, стал неумело подтягивать мотивчик, пытаясь припомнить и слова.
Верю я, придешь ты на перрон
Проводить наш первый эшелон!
И-эх! Милые глаза – словно бирюза!
Мне вас позабыть не-е-ельзя!
Слепнев был в восторге. И колотил все громче, выбивая какую-то непростую, но сообразную песне дробь. Но закончил он неожиданно, хватанув со всей силы кулаком по столу, перекосившись.
– Чего ты?! – испугался Славка. – Одурел?!
– Борьку жалко! – выдавил Слепнев. Отвернулся к окну, шмыгнул носом.
– Ага, – сразу же погрустнел Леха. – Он еще деньки отмечал, все считал: семьсот, шестьсот! А с него-то хватило чуть больше сотенки.
Сергей молчал. Да и что теперь говорить. Поздно! Вспомнил следователя-мозгляка, явно гражданского человечка, нацепившего на плечи мятые капитанские погоны. Тот все выпытывал, кто, мол, издевался над покойным, как, когда, все намекал на что-то. А у самого чуть не слюнки изо рта текли; так рисовал, видно, себе нечто изуверски-пикантное, садистское, что не желал замечать ничего жизненного. Что ему мог рассказать Сергей? Даже если бы и было что-то, все равно бы промолчал, пускай у тех спрашивают, кто замешан в этом деле, а что к нему приставать?! Но допрашивали всех. Да так и не доискались. Оно, видно, и к лучшему – сам Борька навряд ли хотел бы, чтоб и после смерти его имя трепали да за виноватыми с ищейками гонялись! А ведь переждал бы денек-другой – глядишь и обошлось все! Сергей заскрипел зубами.
– Ладно, хорош рыдать! – ожил Слепнев. – Поплакали, и хватит! Давай еще сбацаем! – Он прихлопнул себя по колену.
Но на этот раз его не поддержали.
Сергей забрался на верхнюю полку. Долго лежал, закинув руки за голову. Думал.
Уже стемнело. И по всему поезду выключили свет – со служивой братией особо не церемонились. Но он лежал. Трепотни, обычной и надоевшей порядком, не было. Все лежали молчком, а может, уже и спали.
Дрема навалилась неожиданно. Казалось, только что он лежал на второй полке мчащегося в неизведанное поезда, таращился в темноту… И все вдруг пропало.
Он стоял посреди огромного поистине бескрайнего зеленого поля. Стоял по колени в высокой и жесткой траве, местами немного пожелтевшей, но совсем не по-осеннему, а просто от солнца, от жаркого ослепительного солнца юга. Высоко вскарабкалось светило по небосводу, высоко, совсем не по-российски! Но это не удивляло Сергея. Он уже догадывался, где находится.
Чуть повернув голову вправо, он увидал темные бревенчатые стены, завершающиеся башенками – маленькими, похожими на зубцы, и побольше, в два-три человеческих роста. Окованные железом ворота крепости были затворены. Казалось, город пуст, все покинули его или же закрылись в своих жилищах, даже стражи на стенах не было видно.
Легкий и теплый ветер шевелил волосы на голове, словно нежной и мягкой рукой ворошил их. Сергей стоял и не знал, что ему надо делать: то ли идти к крепости, стучать в ворота, проситься внутрь, то ли ждать на месте, то ли спуститься к реке, может, все уже давно на том берегу? И потому он стоял, переминаясь с ноги на ногу, не решаясь сделать первого шага.
Но все определилось само собой. Он вдруг увидал ее. Да, да, это была она – Люба! Он видел ее на таком расстоянии, на котором не мог видеть, не мог различать черт лица. И все же различал. Она стояла на дальнем конце поля, по пояс в траве. И улыбалась. Совсем незаметно, одними краешками губ. Но он видел и это!
– Люба! – выкрикнул он что было мочи.
Но голос сорвался, застрял в горле. И она его не услышала. Да и видела ли она вообще Сергея? Он и этого не знал. Раздумывать было некогда, незачем. И Сергей сделал первый шаг, потом второй в ее сторону. А затем побежал, не щадя сил и дыхания, оскальзываясь в траве, падая, но вставая и вновь устремляясь вперед.
Недолго ему пришлось бежать. Сократилось расстояние ненамного, совсем на чуть-чуть. А он словно попал в вязкое болото – ноги были ватными, и, как ни стремился Сергей на тот конец поля, яростно отталкивая ступнями вязкую почву, вытягивая руки вперед, беспрестанно выкрикивая что-то неразборчивое и призывное, он оставался на месте. Даже собственный голос перестал слышать. И от этого необоримого бессилия был готов разрыдаться, как ребенок.
– Не суетись, браток! – раздалось из-за спины.
Сергей скосил глаз и увидал загорелого до черноты человека со светло-русой, почти седой бородкой. Человек был перетянут холщовыми повязками – от пояса к плечу. У ноги висел широкий и короткий меч в кожаных ножнах. Человек улыбался, и от его светло-серых лучистых глаз разбегались к вискам и ниже морщинки, делая лицо добрым, приветливым. Но, несмотря на эту доброту, все же было видно однозначно, таким лицом может обладать лишь воин.
– Не будешь спешить да рваться навстречу, все само собой придет, помни! Ведь ты еще в самом начале пути!
Краешком сознания Сергей понимал, что это всего лишь сон, что волноваться и переживать не стоит, что все пройдет. Но легче от такого понимания ему не становилось.
Он осторожно сделал небольшой шаг вперед. Нога послушно ступила на твердую землю, раздвинув плотную и упругую траву. Он подтянул вторую ногу и сделал еще шаг. Теперь до него дошло, если медленно, шаг за шагом приближаться к ней, то расстояние будет сокращаться, оно уже сокращается, прямо на глазах.
И он неторопливо побрел к ней. Нелегко давалось это, хотелось припуститься во весь опор, помчаться. Но приходилось сдерживаться. Радомысл пропал так же неожиданно, как и появился. Но Сергею было не до него. У него была заветная цель, которую просто необходимо было достичь! И он шел. Шел, не отрывая глаз от любимого лица, далекого и близкого. Травянистые стебли шуршали под ногами, терлись о их голенища, но больше не препятствовали, и сама земля не хватала за ноги, и не всасывала в себя болотом.
Ветер с полноводной реки делался все ощутимее, крепчал. «Еще, еще немного! – успокаивал себя Сергей. – Я так долго шел к тебе, что эти несколько шагов можно и не считать! Главное, стой, не уходи, стой на месте – и я доберусь до тебя!» Оставалось не так уж много, большая часть была позади.
– Снова они! – раздалось из-за спины.
Сергей вначале не понял – кто они?! Но потом увидал их сам: из-за травы, ряд за рядом, будто из оврага или из самой преисподней, вставали ромеи. До них было еще далеко… Но они перегораживали путь, они заступали дорогу! Да и ромеи ли это были? Сергей не различал ни плоских шлемов, ни доспехов, ни знамен. Он лишь видел, что ряды черны, что в них таится какая-то угроза…
Он повернул голову. За его спиной стояло войско, русское войско, именно такое, каким он и представлял его себе. Он вдруг явственно различил гул, отдельные выкрики, конский храп, лязг железа… Прикрыл глаза, тряхнул головой, но видение не пропало.
Наоборот! Обтекая его с двух сторон, воины устремились на черные застывшие ряды. Это движение показалось неостановимым, будто поток лавы вылился на поле.
– Ну что же ты?! – спросил Радомысл.
Он стоял рядом, сжимая вынутый из ножен меч.
Сергей ощутил в руке холод рукояти, оглядел себя. Он был одет так же, как и все вокруг, в простой воинский доспех, наполовину кольчужный, наполовину пластинчатый. Голову сжимал обручем шлем. Но и это не удивило его – значит, так и надо! Значит, и ему надо идти вперед, пробиваться сквозь эти черные ряды. А как же?! Ведь она там!
– Ну, готов? – переспросил Радомысл.
– Готов, – ответил он.
Острия мечей хищно поблескивали почти перед самым лицом. Частокол копий и рожнов загораживал небо. Солнце, отраженное в тысячах начищенных медных касок – ослепило, лишило зрения. Теперь они стояли вплотную. Пора!
Он взмахнул мечом. Рванулся вперед. Заметил, как Радомысл отбил копье, направленное в его грудь, спас. И ударил! Со всей силы, со всего размаху. В черной стене образовалось маленькая брешь. Но вновь острия мечей засверкали перед глазами. Стена казалась несокрушимой!
И началось! Он ничего не видел вокруг, ничего не слышал, ничего не чувствовал, кроме надежного плеча Радомысла. Он крушил, он дробил и рассекал эту жуткую, черную, почти нечеловеческую по своему упорству стену. Задыхаясь, обливаясь потом, до судорог в мышцах, до озноба и ломоты в суставах, он рубил, сек, колол, бил, отталкивал, расшвыривал, сбивал с ног и продвигался, продвигался понемногу вперед! Но и его били, и в него вонзались десятки мечей и копий, и его секли, рубили, валили наземь, давили… и ничего не могли с ним поделать. Он шел и шел вперед! И уже не понимал, сон ли это или явь, все перемешалось, все спуталось в голове. Одно знал и чувствовал – правда за ним, справедливость на его стороне, а стало быть, нет ему преграды! И не будет!
Солнечный свет замелькал сперва неясно, будто в конце туннеля. Надо было выдержать, продержаться последние минуты. И он с утроенным напором рванул вперед. Только вперед!
– Ну, осталось совсем немного. Крепись! – поддержал Радомысл. И пропал, отступил, оставив его одного.
Но теперь он и сам мог прорваться, теперь он верил в себя, в свои силы, в свою звезду.
Когда последний из стоявших на его пути рухнул, коротко взмахнув боевым топором, повалился под ноги, Сергей остановился. Отбросил меч. Теперь он не был ему нужен. Он даже не стал оборачиваться назад, зная, что там нет никого: ни врагов, ни друзей, ни черной человеческой стены, ни его товарищей-воев. Он снова стоял посреди огромного луга, залитого солнцем.
И снова, но теперь почти рядом, метрах в двадцати, стояла она. Стояла и смотрела ему прямо в лицо. Он зажмурился, сжал руками виски. В ушах еще стоял звон железа и предсмертный храп, гремели еще боевые кличи, эхом отдавался тяжелый топот. Но все это было позади.
Когда он открыл глаза, никакого поля, зелени, солнца не было. Перед ним простиралась снежная равнина, дула, взметая белую пыль, поземка, виднелся вдалеке лес.
Но Люба все так же стояла в двадцати метрах от него, посреди бескрайнего снежного поля. Она была одета в легонькое ситцевое платье. Ветер играл податливой материей.
«Как же ей не холодно?» – подумал Сергей. И снова сделал шаг вперед, затем второй. Он видел, что она не ежится, не дрожит, не прячется от ветра. Лицо ее румяно и спокойно. «Ну, конечно же, это ведь сон, – вспомнилось ему на мгновение, – во сне всякое бывает!» Но он тут же забыл об этой мысли.
Сам он холода также не чувствовал, тело было разгоряченным. Сердце билось чаще обычного, словно подталкивая вперед. Но Сергей не давал себя обмануть, не ускорял шага.
Неожиданно перед глазами его взвился белым столбом снежный буран. И тут же растаял, рассыпался, будто и не было его. Но на том месте осталась стоять фигура человека, смутно напоминавшая кого-то.
Сергей подошел ближе, вгляделся. Между ним и Любой стоял Николай.
– Ты не хочешь меня пустить к ней? – спросил Сергей. – Зачем ты появился здесь?!
Николай усмехнулся, но тут же подавил усмешку и побелел лицом. Чувствовалось, что он превозмогает себя.
– Нет, я не стою между вами. И ты это знаешь! – ответил он. – Иди к ней. Ну что же ты? Иди!
Он протянул руку в сторону Любы, отступил на несколько шагов и растворился в снежной белизне – так же неожиданно, как и появился.
– Не держи на меня зла! Я никогда не желал тебе плохого! – крикнул Сергей туда, где только что был Николай. – Прощай!
Но его никто не услышал.
Он сделал еще несколько шагов. Теперь все было наоборот – каждый шаг, каждое движение стремительно приближало его к Любе. Через несколько мгновений он стоял перед ней, вглядываясь в бездонные глаза.
– Вот мы и рядом, – проговорил он, еле шевеля губами.
Она улыбнулась ему в ответ еле уловимой улыбкой. Глаза ожили, наполнились блеском. Она не открыла рта, даже не разжала губ.
Но Сергей отчетливо услышал ее слова:
– Глупый, я всегда была рядом с тобой.
«Как же так? – подумал Сергей. – Всегда рядом? И эти четыре месяца тоже?!» Он уже не стоял посреди заснеженного поля. Он лежал на верхней полке мчащегося поезда. Лежал, закинув руки за голову, слегка покачиваясь в такт движению, поддаваясь гипнотически мерному постукиванию колес. Будто и не спал.
В купе было по-прежнему темно. Сергей потерял счет времени – сколько оставалось до рассвета, он не знал. Но это было неважно. Он чувствовал, что теперь не заснет до самого утра, что будет вот так лежать, прислушиваясь к перестуку внизу и к биениям сердца в груди.
Почти сразу же возникло непреодолимое желание взять лист бумаги, ручку и написать письмо ей. Но ничего под руками не было, да и какое письмо в такой темнотище. И Сергей принялся сочинять его мысленно – переложить на бумагу и отправить всегда успеется.
Письмо получалось длинным и путанным. Чего в нем только не было: и признания, и раскаяния, и прощения, и обещания, и воспоминания, и грезы о будущем – все мешалось одно с другим, наслаивалось, переплеталось, свивалось в клубок и снова распрямлялось. Ни конца ни края этому мысленному посланию не было, а Сергей все сочинял и сочинял его, будто рука уже водила пером по бумаге. И все длиннющие предложения и многосложные обороты, переплетенные меж собой, будто звенья одной бесконечной цепи, сплавлялись в единое и бесхитростное, совсем простенькое и уже звучавшее после первых слов, но, пожалуй, наиболее важное во всем этом письме признание: «Ты у меня одна…»
Вместе с первыми лучами выползающего из-за горизонта солнца он понял: совсем и не надо писать длинного письма, объясняться, раскаиваться и прощать, убеждать и молить. Достаточно будет этих четырех таких коротких, но слитых воедино слов.
Аннотированный состав серии
СОСТАВ АВТОРСКОЙ СЕРИИ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ, ФАНТАСТИКА»
на 1990–1994 гг.
т. 1. ЧУДОВИЩЕ. Сборник фантастики и приключений
т. 2. ЗАПАДНЯ. Сборник фантастики и приключений
т. 3. ЗВЕЗДНАЯ МЕСТЬ. Роман-эпопея. Книга первая
т. 4. САТАНИНСКОЕ ЗЕЛЬЕ. Роман
т. 5. БУНТ ВУРДАЛАКОВ. Роман. Приложение ПФ. ИЗМЕНА. Эротический роман
т. 6. ЗВЕЗДНАЯ МЕСТЬ. Книга вторая
т. 7. ЗВЕЗДНАЯ МЕСТЬ. Книга третья
т. 8. КРОВАВАЯ БОЙНЯ. Сборник фантастики и приключений
т. 9. КОЛДОВСКИЕ ЧАРЫ. Роман
т. 10. ИЗВЕРГИ С ПРЕИСПОДНЕЙ. Роман-дилогия
Краткое содержание томов смотри ниже.
Том первый
«ЧУДОВИЩЕ»
Сборник остросюжетных, фантастических и приключенческих повестей и рассказов
В сборник входят историко-приключенческая повесть, «Наемник», рассказывающая о событиях IV века в распадающейся Римской империи, психоделическая фантазия «Фантом», повествующая о провалах в иные измерения, фантасмагорическая повесть «Рефлексор», историко-приключенческие рассказы «Вражина», «Давным-давно», фантастические рассказы «Сон», «Ловушка», «Робинзон-2190» и другие произведения.
Сборник не объединен какой-либо одной темой, все входящие в него повести и рассказы разноплановы, события, описываемые в них, происходят и на Земле, и в Космосе, и в иных измерениях. Временной диапазон также необычайно широк: от глубокой древности и до далекого будущего.
В отличие от последующих томов произведения этого сборника написаны в традиционной мягкой фантастико-приключенческой манере без элементов эротики и мистики. Этот том является переходной ступенью от чахлой и загнивающей на глазах, дряблой «научной фантастики» к фантастике «крутой» – авантюрно-детективной, насыщенной невероятными событиями, к подлинно приключенческой фантастике, с которой читатель познакомится в следующих томах.
Том второй
«ЗАПАДНЯ»
Сборник остросюжетных, фантастических и приключенческих повестей и рассказов
Основу тома составляет продолжение фантастико-приключенческого романа «Чудовище». Читатель вновь повстречается с обитателями резервации XXII века Паком Хитрецом, Гурыней, благородным Чудовищем. В этой части романа, озаглавленной «Чудовище-2», события приобретают острый характер – лицом к лицу встают с оружием в руках два мира: Забарьерье и Подкуполье, здоровые люди будущего и выродки-мутанты. На чьей стороне правда? Ожесточение порождает ожесточение, зло порожденное людьми, которые не желают замечать своего детища, выливается в конце концов на их головы. Обстановка становится взрывоопасной, пробуждаются химерические обитатели подземных глубин резервации…
Здесь же помещена вторая часть фантастического детектива «Звездное проклятье». Она и дала название второму тому – «Западня». После убийства инопланетного преступника Проклятого, на Земле остается полукибер-получеловек Нерожденный, который обладает способностью вселяться в людей. Резидент иного мира неуловим, его невозможно истребить.
В состав тома входят также остросюжетные рассказы и два коротких очерка-гипотезы для любителей истории и мифологии.
Том третий
«ЗВЕЗДНАЯ МЕСТЬ»
Фантастико-приключенческий роман
Книга первая
События широкомасштабного романа-эпопеи происходят в XXV веке. Земная цивилизация достигла невиданных высот. И все же на Земле процветают зло, несправедливость и ужасающая преступность. Главный герой романа – космолетчик экстра-класса, прошедший через огни и воды, подготовивший к освоению землянами сотни инопланетных миров, бросает Отряд Дальнего Поиска. В результате травмы он обретает память о событиях двухвековой давности, когда на периферии Вселенной негуманоидами были уничтожены его отец и мать. Сам он чудом уцелел, пролежав в анабиозе все это время. Герой отправляется «в гости» к негуманоидам. Он подготовлен ко всему, вооружен до зубов сверхсовременным оружием XXV века, он собирается мстить злобным и коварным нелюдям, не останавливаясь ни перед чем… Но его встречает настолько неожиданный и непонятный мир, что все планы рушатся один за другим. Сверхцивилизация Иной Вселенной, куда и проникает в результате герой, настолько чужда и враждебна всему земному, что сам мститель попадает в лапы всемогущего и жесточайшего врага. И тем не менее, пройдя через кошмарные, нечеловеческие испытания, герой постигает кое-что в этом Чуждом Мире. Он постоянно идет по лезвию бритвы, рискует жизнью, понимая, что от него теперь зависит судьба земной цивилизации.
Том четвертый
«САТАНИНСКОЕ ЗЕЛЬЕ»
Фантастико-детективный «роман ужасов»
Герой романа – наш современник и соотечественник. До поры до времени он живет в привычном для нас мире. Но совершенно случайно и по собственной же вине он попадает в «замкнутый цикл», объединяющий множество времен и пространств. Его бросает то в далекую древность, то в Средневековье, то вообще в непонятные времена… и везде он оказывается в окружении не землян-людей, а совершенно иных существ, зачастую, порождений преисподней, ада.
В жизнь героя вмешиваются зловредные и омерзительные инопланетяне, люто ненавидящие все земное. Они играют героем словно игрушкой, заставляя испытывать его все муки потустороннего существования. Иногда герою удается вырываться из параллельных миров, он возвращается на Землю, в свое время. Но и здесь за ним охотятся выходцы с того света, они преследуют его на каждом шагу. Спасения нет! Но герой отчаянно ищет выхода из «замкнутого цикла», он не желает сдаваться.
Особое место в романе занимают любовно-эротические линии сюжета. Герой не чурается прекрасных женщин Земли и Иных Миров, лишь их безумное сладострастие не дает сойти ему с ума.
Детям и лицам с ослабленной нервной системой не рекомендуется.
ВНИМАНИЕ
В КАЧЕСТВЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К СЕРИЙНОЙ БИБЛИОТЕКЕ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ, ФАНТАСТИКА», В СЕРИЙНОМ ОФОРМЛЕНИИ И ТАКИМ ЖЕ ОБЪЕМОМ, КАК И ДРУГИЕ ТОМА, В 1991 ГОДУ ВЫЙДЕТ
эротический роман
«ИЗМЕНА»
В романе переплетаются две сюжетно-временные линии. Герой первой, наш современник, попадает в армию, где сталкивается с бывшим любовником своей невесты. Но суть не сводится к примитивному «любовному треугольнику», так как «любовная фигура» многогранна и многоугольна, в нее вплетено множество персонажей романа. События развиваются на фоне пресловутой армейской «дедовщины» с одной стороны и разгульно-веселой жизни «дожидающихся» своих избранников девиц – с другой.
Вторая линия – историко-романтическая. События происходят в Х веке, во время похода князя Святослава на Византию. Империя ромеев необычайно сильна, но нравы в ней царят упаднические, все охвачено разложением, безумство оргий переходит все границы. Но и славане-язычники, еще не перешедшие к единобрачию, ведут полигамный образ жизни – их ритуальные обряды представляют из себя массовые «празднества любви».
В романе анализируется сам процесс перехода безумной любви в иссупленное сладострастие, болезнь. Детям не рекомендуется, так как в романе множество откровенных сцен.
Том пятый
«БУНТ ВУРДАЛАКОВ»
Фантастико-приключенческий «роман ужасов»
На краю Галактики в созвездии Оборотней находится планета, заселенная злобными мифическими существами: монстрами, зверобогами, вурдалаками и прочей нечистой силой. С давних времен эта планета и ее обитатели находятся под контролем земной цивилизации, на самой планете размещено несколько научно-исследовательских станций, ведется изучение нелюдей. Но в результате некоторых событий на планете происходит бунт. Нечистая сила материализуется, она вырывается наружу словно джин из кувшина. Настают страшные времена.
Главный герой романа уже известен читателю по «Звездной мести». Бывалого космолетчика направляют на планету вурдалаков в качестве резидента землян. Его ожидают чудовищные испытания – разбушевавшиеся монстры не останавливаются ни перед чем, им не знакомо понятие гуманизма. Начинается ожесточенная беспощадная война между нечистой силой и земными колонистами. Герой оказывается в нелегком положении.
Пересказать сюжет и все его невероятные повороты, как в этом романе, так и в прочих, просто невозможно, ибо каждый роман насыщен действием до предела. Происходит совершенно непредсказуемое. Читатель должен быть готов к самому неожиданному. И потому автор надеется, что его произведения, и в особенности данное, будут читать крепкие люди.
Том шестой
«ЗВЕЗДНАЯ МЕСТЬ»
Фантастико-приключенческий роман
Книга вторая
Потрясенный исполинской мощью и чудовищной агрессивностью негуманоидной сверхцивилизации Иной Вселенной, главный герой возвращается на Землю. Но поддержки у земных правителей не находит.
На свой страх и риск герой решается противостоять Чуждому Вторжению и ведет отчаянную борьбу с резидентами Системы, внедрившимися на Землю и подготавливающими условия для начала жесточайшей инопланетной оккупации. Но прежде герою приходится собрать своих верных друзей, уже знакомых читателю: беспробудного пропойцу космодесантника Хука Образину, неунывающего Дила Бронкса, свихнувшегося Сержа Синицки, богатыря-неудачника Армана-Жофруа дер Крузербильда. Герой, рискуя жизнью, пытается освободить благородного разбойника XXV века Гуга Хлодрика Буйного, томящегося на подводных рудниках гиблой планеты-каторги Гиргеи… Он вновь входит в Осевое измерение, чтобы попытаться вырвать из власти упырей-фантомов свою любимую. Не все у героя получается, ему противостоят все силы Зла.
Том седьмой
«ЗВЕЗДНАЯ МЕСТЬ»
Фантастико-приключенческий роман
Книга третья
Беспечные земляне слишком поздно узнают об опасности. Грандиозное, вселенское по своим масштабам и беспрецедентно жестокое Вторжение Объединенных Боевых Армад негуманоидов застает Землю врасплох. Начинается чудовищная война, а точнее, истребление практически беззащитного перед натиском сверхцивилизации человечества.
События этой книги романа-эпопеи страшны, более того, ужасны. Негуманоидам просто неизвестны человеческие чувства и понятия, для них человеческая цивилизация – это лишь бессмысленная колония неодушевленных «слизняков».
Вселенская схватка Добра и Зла! Пространственный Кошмар! Апокалипсис XXV века! И в гуще событий – главный герой и его верные отважные друзья.
Каждая книга романа-трилогии является самостоятельным романом, не требующим обязательного прочтения книг предыдущих или последующих. Но полностью образ героя и авторский замысел раскрываются лишь в объеме всего романа-эпопеи, а также в сопутствующих романах «Бунт вурдалаков», «Колдовские чары» и «Изверги с Преисподней».
Том восьмой
«КРОВАВАЯ БОЙНЯ»
Сборник фантастических и приключенческих повестей и рассказов
Читатель встретит в этом сборнике своих старых знакомых, узнает, что же произошло в дальнейшем с героями фантастического детектива «Звездное проклятье», а также его второй части «Западня». Злоключения комиссара полиции толстяка Грумса только начинаются, ведь теперь он самым непосредственным образом сталкивается с резидентом Иного Мира. Резидент, заметая следы, сеет на Земле смерть и ужас.
Но главная встреча, разумеется, предстоит с Чудовищем. Тот, кто решил, что оно погибло во второй части фантастико-приключенческой эпопеи «Чудовище», заблуждается – Благородство, Добро и Справедливость неистребимы! Чудовище грудью встает на защиту резервантов-мутантов, все битвы еще впереди!
Чудовищу предстоит пройти через множество испытаний – и не только в диковинном Забарьерье, но и в родной резервации, в Подкуполье. Читатели также встретятся с Паком Хитрецом, Отшельником, Доходягой Трезвяком, злобным Гурыней, Бубой Чокнутым и другими обитателями кошмарного резервационного мира, им предстоит спуститься в подземные лабиринты – обиталища особо деградировавших человеко-нелюдей и химерических существ будущего.
Том девятый
«КОЛДОВСКИЕ ЧАРЫ»
Фантастико-приключенческий «роман ужасов»
Этот роман – продолжение «Бунта вурдалаков». В нем читатель вновь встретится с главным героем «Звездной мести».
События происходят в далеком будущем, в XXXVII веке! Герою удается совершить прорыв во времени и перенестись на планету Навей в уже знакомое созвездие Оборотней. Там обитают сверхъестественные существа-нелюди. Злобные порождения нечистой силы: лешие, ведьмы, упыри, мары, демоны, нави, оборотни и многие другие слуги дьявола правят на планете бал.
Земляне того далекого века – это сверхцивилизация, обладающая несокрушимым могуществом. Но даже сверхцивилизация бессильна перед «колдовскими чарами» нечисти. Демоны объединяются в борьбе против землян с инопланетными монстрами. Единственное спасение человечества в разрушении «колдовской» системы изнутри. Для этого и засылается на планету Навей главный герой. Против него исполчаются самые лютые духи, его погружают в Бездну Вожделения, где сонмы сатанински прельстительных ведьм и ведьмочек ублажают его на все лады, лишь бы отвлечь от исполнения задания… Сюжетные повороты романа неожиданны. Повествование изобилует множеством откровенных сцен. Детям не рекомендуется. Лицам с повышенной возбудимостью также следует пропустить этот роман.
Том десятый
«ИЗВЕРГИ С ПРЕИСПОДНЕЙ»
Фантастический роман-дилогия
На окраинах Вселенной, в галактике Отверженных находится заброшенная планета-каторга Преисподняя. Особо опасных преступников, совершивших самые дикие и зверские преступления ссылают на Преисподнюю. Казнь в XXVI веке отменена. Ссылают не только с Земли, но и со всех иных планет Нашей Вселенной. В эту гиблую дыру попадают благородный разбойник Гуг-Игунфельд Хлодрик Буйный и несправедливо осужденный космодесантник пропойца Хук Образина…
На Преисподней в одной компании с землянами и монстры-инопланетяне – от человекоподобных до зверообразных и самых нелепых порождений чужих миров. Монстры-каторжане свирепо и люто бьются между собой за власть на планете. Охрана бездействует. Преступники предоставлены самим себе. Их становится все больше – вновь открываемые планеты ссылают на Преисподнюю своих убийц и насильников. Нравы дичают. Страсти накаляются. Происходит перенасыщение Преисподней «извергами». Одновременно вселенский катаклизм выбрасывает это Концентрированное Зло в Пространство. Человечество, размякшее и изнеженное, на грани гибели.
Роман представляет из себя сплав фантастического детектива с «романом ужасов» и «романом-катастрофой». Все это базируется на круто замешенной авантюрно-приключенческой основе.
Объявления
ВНИМАНИЕ!
Заявки на серийные книги принимаются только от предприятий, организаций, клубов любителей фантастики и прочих объединений.
В розничную продажу книги ПФ не поступают.
Минимальный объем заказываемой партии – 100 экз.
Возможны бартерные операции любого рода.
Скидки при оптовых соглашениях не делаются ввиду того, что фактическая цена книг, определяемая «рынком», в полтора-два раза превышает номинальную.
Десять бесплатных подписок на серию предоставляется десяти наиболее обстоятельным рецензентам. Рецензии направляются по указанному адресу, а также в редакции центральных и местных газет и журналов. Конкурс рецензентов – до 1 января 1992 г. Победителю помимо подписки присуждается премия в 500 рублей.
Предложения, рецензии, заказы, заявки направлять по адресу: 111123, Москва, а/я 40, Петухову Ю. Д.
Перепечатка в любых формах, использование серийного знака, инсценировка, постановка, использование специфических и оригинальных имен, названий в рекламных и иных целях категорически запрещается!
Постоянным клиентам гарантируется поставка очередных томов.
Выходные данные
ББК 84 Р7
П31
Художники Елена Кисель и Александр Яцкевич
Петухов Ю.Д.
Измена, или Ты у меня одна. Роман. – М.: «Метагалактика». Приложение к журналу «Приключения, фантастика», 1990. – 384 с.
П 4702010201-031
083(02)-90
Без объявления
ISBN 5-265-02222-8
© Юрий Петухов, 1990
ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ ПЕТУХОВ
ИЗМЕНА, или ТЫ У МЕНЯ ОДНА
Издание осуществлено за счет средств автора и в авторской редакции
Худож. редактор Чувасов А.Г.
Техн. редактор Казовская Т.С.
Корректор Михайлина С.М.
Сдано в набор 17.08.90. Подписано к печати 20.12.90.
Формат 84x108/32. Бумага тип № 2.
Гарнитура «Тип Таймс». Усл. печ. л. 20,16.
Уч. – изд. л. 22,16. Тираж 100000 экз.
Заказ № 33. Цена 10 р.
Метагалактика
Приложение к журналу «Приключения, фантастика» 111123, Москва, 2-я Владимирская ул., а/я 40.
Отпечатано в Московской типографии № 13 ПО «Переодика» Государственного Комитета СССР по печати.
107005, г. Москва, Денисовский пер., 30.