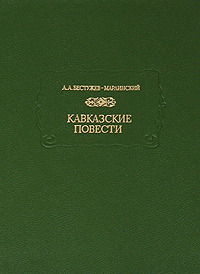
А. А. Бестужев, виднейший критик и теоретик романтизма, был одним из первых создателей русской романтической прозы. Повести Бестужева 1820-1830-х гг. – яркое явление в русской литературе. Названием «Кавказские повести» объединены в книге не только произведения, написанные на кавказском материале, но и произведения, занимающие особенно значительное место в творческой биографии писателя кавказского периода.
Александр Александрович Бестужев-Марлинский
Кавказские повести

Аммалат-бек
(Кавказская быль)*
Посвящается
Николаю Алексеевичу Полевому1
Будь медлен на обиду – к отмщенью скор!
Глава I
Была джума[1]2. Близ Буйнаков, обширного селения в Северном Дагестане, татарская молодежь3 съехалась на скачку и джигитовку, то есть на ристанье со всеми опытами удальства; Буйнаки лежат в два уступа на крутом обрыве горы. Влево от дороги, ведущей из Дербента к Таркам, возвышается над ними гребень Кавказа, оперенный лесом; вправо берег, понижаясь неприметно, раскидывается лугом, на который плещет вечно ропотное, как само человечество, Каспийское море. Вешний день клонился к вечеру, и все жители, вызванные свежестью воздуха еще более, чем любопытством, покидали сакли свои и толпами собирались по обеим сторонам дороги. Женщины, без покрывал, в цветных платках, свернутых чалмою на голове, в длинных шелковых сорочках, стянутых короткими архалуками (тюника)4, и в широких туманах[2], садились рядами, между тем как вереницы ребят резвились перед ними. Мужчины, собравшись в кружки, стоя, или сидя на коленях[3], или по двое и по трое, прохаживались медленно кругом; старики курили табак из маленьких деревянных трубок; веселый говор разносился кругом, и порой возвышался над ним звон подков и крик: «Кань, кань (Посторонись)» – от всадников, приготовляющихся к скачке.
Дагестанская природа прелестна в мае месяце. Миллионы роз обливают утесы румянцем своим, подобно заре; воздух струится их ароматом; соловьи не умолкают в зеленых сумерках рощи. Миндальные деревья, точно куполы пагодов, стоят в серебре цветов своих, и между них высокие раины6, то увитые листьями, как винтом, то возникая стройными столпами, кажутся мусульманскими минаретами. Широкоплечие дубы, словно старые ратники, стоят на часах там, инде, между тем как тополи и чинары, собравшись купами и окруженные кустарниками, как детьми, кажется, готовы откочевать в гору, убегая от летних жаров. Игривые стада баранов, испещренные розовыми пятнами; буйволы, упрямо погрязающие в болоте при фонтанах или по целым часам лениво бодающие друг друга рогами; да там и сям по горе статные кони, которые, разбросав на ветер гриву, гордой рысью бегают по холмам, – вот рамы каждого мусульманского селения. Можно себе вообразить, что в день этой джумы окрестности Буйнаков еще более оживлены были живописною пестротою народа. Солнце лило свое золото на мрачные стены саклей с плоскими кровлями и, облекая их в разнообразные тени, придавало им приятную наружность… Вдали тянулись в гору скрипучие арбы, мелькая между могильными камнями кладбища… перед ними несся всадник, взвевая пыль по дороге… Горный хребет и безграничное море придавали всей картине величие, вся природа дышала теплою жизнию.
– Едет, едет! – раздалось из толпы, и все зашевелились.
Всадники, которые доселе разговаривали с знакомыми, ступив на землю, или нестройно разъезжали в поле, вскочили на коней и понеслись навстречу поезда, спускающегося с горы: то был Аммалат-бек, племянник тарковского шамхала[4], со своею свитою. Он был одет в черную персидскую чуху7, обложенную галунами; висячие рукава закидывались за плеча. Турецкая шаль обвивала под исподом надетый архалук из букетовой терма-ламы8. Красные шальвары скрывались в верховые желтые сапоги с высокими каблуками. Ружье, кинжал и пистолет его блистали серебром и золотою насечкою. Ручка сабли осыпана была дорогими каменьями. Сей владетель Тарков был высокий, статный юноша, открытого лица; черные зильфляры (кудри) вились за ухом из-под шапки… легкие усы оттеняли верхнюю губу… очи сверкали гордою приветливостию. Он сидел на червонном коне, и тот крутился под ним как вихорь. Против обыкновения, не было на коне персидского круглого, расшитого шелками чепрака9, но легкое черкесское седло с серебром под чернетью, с расписанными потебнями10 и со стременами черного хорасанского булата под золотою насечкою11. Двадцать нукеров[5] на лихих скакунах, в чухах, блестящих галунами, сдвинув шапки набекрень, скакали, избочась, сзади. Народ почтительно вставал перед своим беком и склонялся, прижимая правую руку к правому колену. Ропот и шепот одобрения разливался вслед ему между женщин.
Подъехав к южному концу ристалища, Аммалат остановился. Почетные люди, старики, опираясь на палки, и старшины Буйнаков обстали его кругом, стараясь вызвать на себя приветливое слово бека, но Аммалат ни на кого не обращал особенного внимания и с холодною учтивостью отвечал односложными словами на лесть и поклоны своих подручников. Он махнул рукой: это был знак начинать скачку.
Без очереди, без всякого порядка кинулись человек двадцать самых горячих ездоков скакать взад и вперед, гарцуя, перегоняя друг друга. То перерезывали они друг другу дорогу – и вдруг сдерживали коней, то вновь пускали их во всю прыть с места. После этого все взяли небольшие палки, называемые джигидами, и начали на скаку метать вслед и встречу противников, то ловя их на лету, то подхватывая с земли. Иные падали долой из седла от сильных ударов, и тогда раздавался громкий смех зрителей побежденному, громкие клики привета победителю, иногда кони спотыкались, и всадники редко не падали через голову, выброшенные двойною силою коротких стремян. Затем началась стрельба.
Аммалат-бек все это время стоял поодаль, любуясь. Нукеры его один по одному вмешивались в толпу джигитующих, так что под конец при нем осталось только двое. Сначала он стоял неподвижен и равнодушным взором следил подобие азиатской битвы, но мало-помалу участие стало разыгрываться в нем сильнее и сильнее… Он уже с большим вниманием смотрел на удальцов, стал ободрять их голосом и движением руки, вставать выше на стременах, и, наконец, наездническая кровь закипела в нем, когда любимый его нукер не попал на всем скаку в брошенную перед ним шапку, – он выхватил у своего оруженосца ружье и стрелой полетел вперед, увиваясь между стрелками.
– Раздайся, раздайся! – послышалось кругом, и все, как дождь, рассыпались по сторонам, дав место Аммалат-беку.
На расстоянии одной версты стояло десять шестов с повешенными на них шапками. Аммалат проскакал в один конец, крутя ружье над головою; но едва миновал крайний столб смелым поворотом, он встал на стременах, приложился назад – паф – и шапка упала наземь; не умеряя бега, он зарядил ружье, с брошенными поводами, – сбил шапку с другого, с третьего – и так со всех десяти… Говор похвал раздался со всех сторон, но Аммалат, не останавливаясь, бросил ружье в руки нукера, выхватил из-за пояса пистолет и выстрелом из него отбил подкову с задней ноги своего скакуна – подкова взвилась и, свистя, упала далеко назади; тогда он снова подхватил заряженное нукером ружье и велел ему скакать перед собою…
Быстрее мысли понеслись оба. На полдороге нукер вынул из кармана серебряный рубль и высоко взбросил его на воздух; Аммалат приложился вверх, не ожидая падения, но в то же самое мгновение конь его споткнулся со всех четырех ног и, бороздя пыль мордою, покатился вперед с размаха. Все ахнули – но ловкий всадник, стоявший стоймя на стременах, не тряхнулся, не подался вперед, как будто не слышал падения, – выстрел сверкнул, и вслед за выстрелом серебряный рубль улетел далеко в народ. Толпа заревела от удовольствия: «Игид! игид (Удалец)! Алла, Вал-ла-га!» Но Аммалат-бек скромно отъехал в сторону, сошел с коня и, бросив повода в руки джиладара, то есть конюшего, велел сей же час подковать коня. Скачка и стрельба продолжались.
В это время подъехал к Аммалату эмджек[6] его, Сафир-Али, сын одного из небогатых беков буйнакских, молодой человек приятной наружности и простого, веселого нрава. Он вырос вместе с Аммалатом и потому очень коротко обходился с ним. Он спрыгнул с коня и, кивнув головою, сказал:
– Нукер Мемет-Расуль измучил твоего старика безгривого жеребца[7], – заставляет его скакать через ров шириною шагов семи…
– И он не прыгает? – вскричал нетерпеливый Аммалат. – Сейчас, сей же миг привести его ко мне.
Он встретил коня на полдороге; не ступая в стремя, вспрыгнул в седло и полетел к утесистой рытвине – доскакал, стиснул колена, но усталый конь, не надеясь на свои силы, вдруг повернул направо на самом краю, и Аммалат должен был сделать еще круг.
Во второй раз конь, подстрекаемый плетью, взвился на дыбы, чтобы перепрянуть через ров, – но замялся, заартачился и уперся передними ногами.
Аммалат вспыхнул…
Напрасно упрашивал его Сафир-Али, чтобы он не мучил бегуна, утратившего в боях и разъездах упругость членов, – Аммалат не внимал ничему и понуждал его криком, ударами обнаженной сабли; и в третий раз подскакал он к рытвине, и когда в третий раз стал с размаха старый конь, не смея прыгать, – он так сильно ударил его рукоятью сабли в голову, что конь грянулся наземь без дыхания.
– Так вот награда за верную службу, – сказал Сафир-Али, с сожалением глядя на издохшего бегуна.
– Вот награда за ослушанье, – возразил Аммалат, сверкая очами.
Видя гнев бека, все умолкли и отсторонились. Всадники джигитовали.
И вдруг загремели русские барабаны, и штыки русских солдат засверкали из-за холма. То была рота Куринского пехотного полка13, отправленная из отряда, ходившего тогда в Акушу, возмущенную Ших-Али-ханом, изгнанным владетелем Дербента.
Рота сия должна была конвоировать обоз с продовольствием из Дербента, куда и шла горною дорогою. Ротный командир, капитан ***, и с ним один офицер ехали впереди. Не доходя до ристалища, ударили отбой, и рота стала, сбросила ранцы и составила в козлы ружья, расположась на привал, но не разводя огней.
Прибытие русского отряда не могло быть новостью для дагестанцев в 1819 году; но оно и до сих пор не делает им удовольствия. Изуверство заставляет их смотреть на русских как на вечных врагов – но врагов сильных, умных – и потому вредить им решаются они не иначе как втайне, скрывая неприязнь под личиною доброхотства.
Ропот разлился в народе при появлении русских; женщины окольными тропинками потянулись в селение, не упуская, однако ж, случая взглянуть украдкою на пришлецов. Мужчины, напротив, поглядывали на них искоса, через плечи, и стали сходиться кучками, разумеется потолковать, каким бы средством отделаться от постоя, от подвод и тому подобного. Множество зевак и мальчишек окружили, однако, русских, отдыхающих на травке. Несколько кекхудов (старост) и чаушей (десятников), назначенных русским правительством, поспешили к капитану и, сняв шапки, после обычных приветов: «Хош гяльды (Милости просим)» и «Яхшимусен тазамусен сен-немамусен (Как живешь-можешь)», добрались и до неизбежного при встрече с азиатцами вопроса: «Что нового? На хабер?»
– Нового у меня только то, что конь мой расковался и оттого, бедняга, захромал, – отвечал им капитан довольно чисто по-татарски. – Да вот кстати и кузнец, – продолжал он, обращаясь к широкоплечему татарину, который опиливал уже копыто вновь подкованного Аммалатова бегуна. – Кунак, подкуй мне коня!.. Подковы есть готовые; стоит брякнуть молотком, и дело кончено в минуту!
Кузнец, у которого лицо загорело от горна и от солнца, угрюмо взглянул на капитана исподлобья, поправил широкий ус, падающий на давно не бритую бороду, которая бы щетинами своими сделала честь любому борову, подвинул на голове аракчин (ермолку)14 и хладнокровно продолжал укладывать в мешок свои орудия.
– Понимаешь ли ты меня, волчье племя? – сказал капитан.
– Очень понимаю! – отвечал кузнец. – Тебе надобно подковать свою лошадь…
– И ты сам должен подковать ее, – отвечал капитан, заметя в татарине охоту шутить словами.
– Сегодня праздник – я не стану работать.
– Я заплачу тебе за труды что хочешь, – но знай, что волей и неволей ты у меня сделаешь, что я хочу…
– Прежде всех наших идет воля Аллаха, а он не велел работать в джуму. Довольно грешим мы из выгоды и в простые дни… так в праздник не хочу я себе покупать за серебро уголья.
– Да ведь ты работал же сейчас, упрямая башка! Разве не равны кони? Притом же мой настоящий мусульманин. Взгляни-ка тавро: кровный карабахский…
– Кони все равны, да не равны те, кто на них ездит. Аммалат-бек мой ага (господин).
– То есть, если бы вздумал отнекиваться, он бы велел обрезать тебе уши; а для меня ты не хочешь работать в надежде, что я не смею сделать того же? Хорошо, приятель… я точно не обрежу тебе ушей, но знай и верь, что я в твою православную спину влеплю двести самых горячих нагаек, если ты не перестанешь дурачиться… Слышал?..
– Слышал – и все-таки буду отвечать по-прежнему: не кую, потому что я добрый мусульманин.
– А я заставлю тебя ковать, потому что я добрый солдат. Когда ты работал для прихоти своего бека, ты будешь работать для необходимости русского офицера: без этого я не могу выступить. Ефрейторы, сюда!!
Между тем кружок любопытных около упрямого кузнеца расширялся, подобно кругу на воде от брошенного камня. В толпе иные уже ссорились за передние места, не зная, что смотреть бегут они, и наконец раздалось: «Этого не надо, этому не бывать – сегодня праздник, сегодня грех работать!»
Некоторые смельчаки, надеясь на число, надвинули шапки на глаза и, держась за рукоятки кинжалов, подле самого капитана стали кричать: «Не куй, Алекпер, не делай ему ничего… Вот тебе новости! Что нам за пророки эти немытые русские!»
Капитан был отважен и знал очень коротко азиатцев.
– Прочь, бездельники, – закричал он гневно, положа руку на ручку пистолета, – молчать, или я первому, кто осмелится выпустить брань из-за зубов, запечатаю рот свинцовою печатью!
Это увещание, подкрепленное штыками нескольких солдат, подействовало мгновенно – кто был поробче – давай бог ноги, кто посмелее – прикусил язык. Сам набожный кузнец, видя, что дело идет не на шутку, поглядел на все стороны, проворчал: «Неджелеим (Что ж мне делать)?», засучил рукава, вытащил из мешка клещи и молот и начал подковывать русскую лошадь, приговаривая сквозь зубы: «Валла билла битмы эддым» (а это значит наравне с польским «дали буг, не позволям»15). Надобно сказать, что все это происходило за глазами Аммалата: он – едва завидел русских – то, избегая неприятной для себя встречи, сел на новоподкованного коня и поскакал в дом свой, над Буйнаками стоящий.
Между тем как это происходило на одном конце ристалища, ко фронту отдыхающей роты подъехал всадник среднего роста, но атлетического сложения; он был в кольчуге, в шлеме, в полном боевом вооружении; за ним следом тянулось пять нукеров. По запыленной их одежде, по коням в поту и пене виделось, что они совершили скорый и дальний переезд. Первый всадник, рассматривая солдат, тихим шагом проезжал вдоль составленных в козлы ружей – задел и опрокинул две пирамиды. Нукеры, следуя за господином, вместо того чтоб своротить в сторону, – дерзко топтали упавшее оружие. Часовой, который еще издали кричал, чтоб они не приближались, схватил под уздцы коня панцерника, между тем как множество солдат, раздраженных таким презрением от мусульман, окружили поезд с бранью.
– Стой, кто ты? – было восклицание и вместе вопрос часового.
– Ты, видно, рекрут, когда не узнал Султан-Ахмет-хана Аварского[8]16, – хладнокровно отвечал панцерник, отрывая руку часового от поводьев. – Кажется, в прошлом году я задал русским в Башлах[9] по себе славную поминку. Переведи ему это, – сказал он одному из своих нукеров. Аварец повторил его слова по-русски довольно понятно.
– Это Ахмет-хан! Ахмет-хан… – раздалось между солдатами. – Лови его, держите его! Тащите его на расплату за башлинское дело… бездельники в куски изрубили наших раненых!
– Прочь, грубиян, – вскричал Султан-Ахмет-хан по-русски рядовому, который снова схватил коня за узду, – я русский генерал!
– Русский изменник! – зашумело множество голосов. – Ведите его к капитану, потащим его в Дербент, к полковнику Верховскому!
– Только в ад пойду я с такими проводниками, – сказал Ахмет-хан с презрительною улыбкою и в то же мгновение поднял коня на дыбы, бросил его влево, вправо и вдруг, повернув на воздухе кругом, – ударил нагайкою – и был таков. Нукеры не сводили глаз с хана и с гиком кинулись за ним следом, опрокинули некоторых солдат и открыли себе дорогу. Отскакав не боле как шагов на сто, хан снова поехал шагом, не оглядываясь назад, не изменяясь в лице и хладнокровно поигрывая уздечкою. Толпа татар, собравшаяся около кузнеца, привлекла его внимание.
– Что у вас за споры, приятели? – спросил у ближних Ахмет-хан, сдержав коня.
Все с уважением приложили руки ко лбу при поклоне, завидя хана. Те, которые были поробче или посмирнее, очень смутились от этой встречи: того и гляди попадешь в беду от русских, зачем не взяли врага их, или под месть хана, если ему не уважишь. Зато все головорезы, все бездельники и все, которые с досадой смотрели на владычество русское, окружили его веселою толпою. Ему в один миг рассказали, в чем дело.
– И вы, как буйволы, смотрите, когда вашего брата запрягают в ярмо, – громко сказал хан окружающим, – когда вам в глаза смеются над вашими обычаями, топчут под ноги вашу веру!! И вы плачете, как старые бабы, вместо того чтобы мстить, как прилично мужам! Трусы, трусы!
– Что мы сделаем? – возразили ему многие голоса. – У русских есть пушки! есть штыки!..
– А у вас разве нет ружей, нет кинжалов? Не русские страшны – а вы робки! Позор мусульманам: дагестанская сабля дрожит перед русскою нагайкою. Вы боитесь пушечного грома, а не боитесь укоров. Ферман18 русского пристава для вас святее главы из Корана. Сибирь пугает вас пуще ада… Так ли поступали деды ваши, так ли думали отцы?.. Они не считали врагов и не рассчитывали, выгодно или невыгодно сопротивляться насилию, а храбро бились и славно умирали. Да и чего бояться? Разве чугунные у русских бока? Разве у их пушек нет заду? Ведь скорпионов ловят за хвост!!
Речь эта возмутила толпу. Татарское самолюбие было тронуто заживо.
– Что смотреть на них? Что позволять им хозяйничать у нас, будто в своем кармане? – послышалось отовсюду. – Освободим кузнеца от работы, освободим! – закричали все и стеснили кружок около русских солдат, посреди коих Алекпер ковал капитанскую лошадь.
Смятение росло.
Довольный возбуждением мятежа, Султан-Ахмет-хан не желал, однако ж, замешиваться в ничтожную схватку – и выехал из толпы, оставя там двух нукеров для поддерживания духа запальчивости между татар, – и с двумя остальными быстро поскакал в утах[10] Аммалата.
– Будь победитель! – сказал Султан-Ахмет-хан Аммалат-беку, который встретил его на пороге.
Это обыкновенное на черкесском языке приветствие было произнесено им с таким значительным видом, что Аммалат, поцеловавшись с ним, спросил:
– Насмешка это или предсказание, дорогой гость мой?
– Зависит от тебя, – отвечал пришелец. – Настоящему наследнику шамхальства[11] стоит только вынуть из ножен саблю, чтобы…
– Чтобы никогда не вкладывать, хан? Незавидная участь: все-таки лучше владеть Буйнаками, нежели с пустым титулом прятаться в горах, как шакалу.
– Как льву, прядать с гор, Аммалат, и во дворце твоих предков опочить от славных подвигов.
– Не лучше ль не пробуждаться ото сна вовсе?
– Чтобы и во сне не видать, чем должен ты владеть наяву? Русские недаром потчуют тебя маком и убаюкивают сказками, между тем как другой рвет золотые цветы[12] из твоего сада!
– Что могу я предпринять с моими силами?
– Силы – в душе, Аммалат!.. Осмелься – и все преклонится перед тобою… Слышишь ли? – промолвил Султан-Ахмет-хан, когда раздались в городе выстрелы. – Это голос победы!
Сафир-Али вбежал в комнату со встревоженным лицом.
– Буйнаки возмутились, – произнес он торопливо, – толпа буянов осыпала роту и завела перестрелку из-за камней…
– Бездельники! – вскричал Аммалат, взбрасывая на плечо ружье свое. – Как смели они шуметь без меня? Беги вперед, Сафир-Али, грози моим именем, убей первого ослушника!
– Я уже унимал их, – возразил Сафир-Али, – да меня никто не слушает, потому что нукеры Султан-Ахмет-хана поджигают их, говорят, что он советовал и велел бить русских.
– В самом деле мои нукеры это говорили? – спросил хан.
– Не только говорили, да и примером ободряли, – сказал Сафир-Али.
– В таком случае я очень ими доволен, – молвил Султан-Ахмет-хан, – это по-молодецки.
– Что ты сделал, хан? – вскричал с огорчением Аммалат.
– То, что бы тебе давно следовало делать!
– Как оправдаюсь я перед русскими!!
– Свинцом и железом… Пальба загорелась – судьба за тебя работает – сабли наголо – и пойдем искать русских!!
– Они здесь, – возгласил капитан, который с десятью человеками пробился сквозь нестройные ряды татар в дом владетеля.
Смущен неожиданным бунтом, в котором его могли счесть участником, Аммалат приветливо встретил разгневанного гостя.
– Приди на радость, – сказал он ему по-татарски.
– Не забочусь, на радость ли пришел я к тебе, – отвечал капитан, – но знаю и испытываю, что меня встречают в Буйнаках не по-дружески. Твои татары, Аммалат-бек, осмелились стрелять в солдат моего, твоего, общего нашего царя.
– В самом деле, это очень дурно, что они стреляли в русских, – сказал хан, презрительно разлегаясь на подушках, – когда бы должно было убивать их.
– Вот причина всему злу, Аммалат, – сказал с гневом капитан, указывая на хана. – Без этого дерзкого мятежника ни один курок не брякнул бы в Буйнаках! Но хорош и ты, Аммалат-бек… Зовешься другом русских и принимаешь врага их как гостя, укрываешь как товарища, честишь как друга. Аммалат-бек! именем главнокомандующего требую: выдай его.
– Капитан, – отвечал Аммалат, – у нас гость – святыня. Выдача его навлекла бы на мою душу грех, на голову позор неокупимый – уважьте мою просьбу – уважьте наши обычаи.
– Я скажу тебе в свою очередь: вспомни русские законы, вспомни долг свой; ты присягал русскому государю, а присяга велит не жалеть родного, если он преступник.
– Скорее брата выдам, чем гостя, г<осподин> капитан! Не ваше дело судить, что и как обещал я выполнять, – в моей вине мне диван (суд)19 Аллах и падишах!..20 Пускай в поле бережет хана судьба, но за моим порогом, под моею кровлею я обязан быть его защитником – и буду им!
– И будешь в ответе за этого изменника!
Хан безмолвно лежал во время этого спора, гордо пуская дым из трубки, но при слове «изменник» кровь его вспыхнула; он вскочил и с негодованием побежал к капитану.
– Изменник я, говоришь ты? – сказал он. – Скажи лучше, что я не хотел быть изменником тем, кому обязан верностию. Русский падишах дал мне чин, сардарь ласкал меня21 – и я был верен, покуда от меня не потребовали невозможного или унизительного. И вдруг захотели, чтобы я впустил в Аварию войска, чтобы позволил выстроить там крепости; но какого имени достоин бы я стал, если б продал кровь и пот аварцев – братьев моих! Да если б я покусился на это, то неужели думаете вы, что мог бы это исполнить? Тысячи вольных кинжалов и неподкупных пуль устремились бы в сердце предателя – самые скалы рухнули бы на голову сына отцепродавца22. Я отказался от дружбы русских, но еще не был врагом их, и что ж было наградой за мое доброжелательство, за добрые советы? Я был лично, кровно обижен письмом одного вашего генерала23, когда предостерегал его… Ему дорого стоила в Башлах дерзость… реку крови пролил я за несколько капель бранчивых чернил, и эта река делит меня навечно с вами.
– Эта кровь зовет месть, – вскричал капитан сердито, – и ты не уйдешь от нее, разбойник!
– А ты от меня, – возразил вспыльчивый хан, вонзая кинжал в живот капитана, когда тот занес руку, чтобы схватить его за ворот.
Тяжело раненный капитан, простонав, упал на ковер.
– Ты погубил меня, – произнес Аммалат, всплеснув руками, – он русский и гость мой.
– Есть обиды, которых не покрывает кровля, – возразил мрачно хан. – Кости судьбы выпали; колебаться не время; запирай ворота, скличь своих и ударим на неприятелей.
– За час еще я не имел их… теперь нечем их отражать… У меня нет в запасе ни пуль, ни пороху – люди в разброде…
– Народ разбежался! – в отчаянии вскричал Сафир-Али. – Русские идут в гору скорым шагом… они уж близко!!
– Если так, то поезжай со мною, Аммалат, – молвил хан. – Я ехал в Чечню24, чтобы поднять ее на линию…25 Что будет, бог весть, но и в горах хлеб есть!.. Согласен ты?
– Едем!.. – решительно сказал Аммалат. – Теперь мне одно спасение в бегстве… Не время теперь ни споров, ни укоров.
– Гей, коня, и шесть нукеров за мною!
– И я с тобой, – произнес со слезой в оке Сафир-Али, – с тобой в волю и в неволю.
– Нет, добрый мой Сафир-Али, нет! Ты останешься здесь похозяйничать, чтобы свои и чужие не растащили всего дома. Снеси от меня привет жене и проводи ее к тестю – шамхалу. Не забудь меня, – и до свиданья!
Едва успели они выскакать в одни ворота, как русские вторглись в другие.
Глава II
Вешний полдень сиял над высью Кавказа, и громкие клики мулл звали жителей Чечни к молитве. Постепенно возникали они от мечети до незримой за гребнями мечети, и одинокие звуки их, на миг пробуждая отголосок утесов, затихали в неподвижном воздухе.
Мулла Гаджи-Сулейман, набожный турок, один из ежегодно насылаемых в горы стамбульским диваном для распространения и укрепления православия, а с тем вместе и ненависти к русским, отдыхал на кровле мечети, совершив обычный призыв, омовение и молитву. Он был еще недавно принят муллою в чеченском селении Игали, и потому, погруженный в глубокомысленное созерцание своей седой бороды и кружков дыма, летящих с его трубки, – порою он поглядывал с любопытным удовольствием и на горы и на ущелие, лежащие к северу, – прямо под его глазами. Влево возникали стремнины хребта, отделяющего Чечню от Аварии, далее сверкали снега Кавказа. Сакли, неправильно разбросанные по обрыву, уступами сходили до полугоры, и только узкие тропинки вели к этой крепости, созданной природою и выисканной горскими хищниками для обороны воли своей, для охраны добычи. Все было тихо в селении и по горам окрестным: на дорогах и улицах ни души… стада овец лежали в тени скал… буйволы теснились в грязном водоеме у ключа, выставляя одни морды из болота. Лишь жужжание насекомых, лишь однозвучная песня кузнечика были голосом жизни среди пустынного безмолвия гор – и Гаджи-Сулейман, залегши под куполом, вполне наслаждался тишью и бездействием природы, столь сходными с ленивою неподвижностью турецкого характера. Тихо поводил он глазами, в которых погас свой огонь и потуск свет солнца, – и наконец взоры его встретили двух всадников, медленно взбирающихся вверх по противоположной стороне ущелия.
– Нефтали! – закричал наш мулла, обратившись к ближней сакле, у
дверей которой стоял оседланный конь.
И вот стройный чеченец с подстриженною бородкою, в мохнатой шапке, закрывающей пол-лица, выбежал на улицу.
– Я вижу двух вершников26, – продолжал мулла, – они объезжают селение!
– Верно, жиды либо армяне, – отвечал Нефтали, – им, конечно, не хочется нанимать проводника – да они сломят себе шею на объездной тропинке. Там и дикие козы и наши первые удальцы скачут, оглядываясь.
– Нет, брат Нефтали, я два раза ходил в Мекку[13]27 и навидался армян и жидов во всех сторонах… Только эти всадники не тем глядят, чтобы им торговать по-жидовски… разве на перекрестке менять железо на золото! С ними нет и вьюков. Взгляни-ка сам сверху, твои глаза вернее моих; мои отжили и отглядели свое. Бывало, за версту я мог считать пуговицы на кафтане русского солдата и винтовка моя не знала промаха по неверным – а теперь я и дареного барана вдали не распознаю.
Между тем Нефтали стоял уже подле муллы и орлиным взором своим следил проезжих.
– Полдень жарок и путь тяжел, – примолвил Сулейман, – пригласи путников освежить себя и коней; может, не знают ли чего новенького – да и принимать странника крепко-накрепко заповедано Кораном.
– У нас в горах и раньше Корана ни один путник не выходил из деревни голоден или грустен, никогда не прощался без чурека28, без благословения и без провожатого в напутье – только эти люди мне подозрительны: зачем им обегать добрых людей и по околицам, с опасностью жизни, миновать деревню нашу?
– Кажется, они земляки твои, – сказал Сулейман, осенив глаза рукою, чтобы пристальнее вглядеться. – На них чеченское платье. Может быть, они возвращаются из набега, куда и твой отец помчался с сотнею других соседов; или, может быть, едут братья мстить кровью за кровь.
– Нет, Сулейман, это не по-нашему. Утерпело ли бы сердце горское не заехать к своим похвалиться молодечеством в бою с русскими – пощеголять добычей? Это и не кровоместники и не абреки – лица их не закрыты башлыками, – впрочем, одежда обманчива, и кто порука, что это не русские беглецы? Недавно из Гумбет-аула ушел казак, убив узденя хозяина, у которого жил29, и завладев его конем, его оружием… Черт силен!
– На тех, у кого слаба вера, Нефтали… Однако, если я не ошибаюсь, у заднего всадника из-под шапки вьются волосы!
– Пускай я рассыплюсь прахом, если неправда! Это или русский, или, еще и того хуже, шагид-татарин[14]… Постой, приятель, я расчешу тебе твои зильфляры (кудри) – через полчаса я возвращусь, Сулейман, или с ними, или кто-нибудь из нас троих упитает горных беркутов.
Нефтали стремглав сбежал с лестницы, накинув на плечо ружье, прыгнул в седло и помчался с горы кубарем, не разбирая ни рытвин, ни камней. Только пыль взвивалась и камни катились следом за бесстрашным наездником.
– Алла акбер! – преважно сказал Сулейман – и закурил трубку.
Нефтали скоро догнал всадников. Усталые кони их, покрытые пеною, кропили потом узкую, стремнистую стезю, по которой взбирались они в гору. Передний был в кольчуге, задний – в черкесском платье; только персидская сабля вместо шашки висела на позументовом поясе. Левая рука его была окровавлена, перевязана платком и висела на темляке. Лиц обоих не мог он видеть. Долго ехал он сзади по скользкой тропе, висящей над пропастью, но при первой площадке заскакал вперед и поворотил коня навстречу.
– Селам алейкюм, – сказал он, преграждая путь на едва пробитую в скале стезю и выправляя оружие.
Передовой всадник поднял бурку на лицо, так что лишь одни нахмуренные брови его остались видимы.
– Алейкюм селам, – отвечал он, взводя курок ружья и укрепляясь в стременах.
– Дай Бог доброго пути, – молвил Нефтали, повторяя обыкновенный привет встречи и между тем готовясь при первом неприязненном движении застрелить незнакомца.
– Дай тебе Бог ума, чтобы не мешать путникам! – возразил нетерпеливо противник. – Чего ты хочешь от нас, кунак?
– Предлагаю покой и братскую трапезу вам, ячмень и стойло коням вашим. Порог мой искони цветет гостеприимством. Благодаренье путников множит стада и закаляет оружие доброго хозяина… не кладите же клейма упрека на все наше селение, чтоб не сказали: «Они видели путников в полдневный жар и не освежили, не угостили их!»
– Благодарим за участие, приятель. Мы не привыкли на своре ходить в гости…30 да и быстрота для нас нужнее покоя.
– Вы едете навстречу погибели, не взявши провожатого.
– Провожатого! – воскликнул путник. – Да я знаю все туриные стежки на Кавказе, не только ваши конные проезды. Я бывал там, куда не ползали змеи, не взбирались тигры, не летали орлы ваши… Отсторонись, товарищ… на Божьей дороге нет твоего порога; мне некогда точить с тобою вздор.
– Я не уступлю шагу, покуда не узнаю, кто ты и откудова.
– Дерзкий мальчишка! прочь с дороги… иль через миг твоя мать будет вымаливать у чакалов и ветров твои раздробленные кости! Благодари судьбу, Нефтали, что я водил хлеб-соль с отцом твоим и не раз о бок с ним пускал коня в сечу. Недостойный сын! Ты бродишь по дорогам и готов нападать на мирных путников, а тело отца твоего тлеет теперь на полях русских, и жены казаков продают на станичном базаре его оружие!! Нефтали! отец твой убит вчерась за Тереком – узнай меня!
– Султан-Ахмет-хан! – вскричал чеченец, пораженный нечаянным, пронзающим взором хана и страшною вестию; голос его замер… он упал на гриву коня в тоске невыразимой.
– Да, я Султан-Ахмет-хан! Но врежь в память, Нефтали, что, если ты скажешь кому-нибудь: «Я видел Аварского хана», месть моя переживет поколения!
Странники проехали мимо. Хан безмолвствовал, погруженный, как видно, в неприятные воспоминания; Аммалат-бек (это был он) – в черные думы. У обоих платье носило следы недавнего боя; усы были опалены вспышками полки31 и брызги чужой крови засохли на лицах. Но гордый взор первого вызывал, казалось, на бой судьбу и природу – мрачная улыбка досады, смешанная с презрением, сжимала уста. Напротив, истома была написана на бледном лице Аммалата. Он едва поводил полузакрытыми глазами, и порою стон вырывался от боли в раненой руке его: неровный ход татарского, непривычного к горным дорогам коня еще более разбережал рану. Он первый прервал молчание.
– Почему ты отказался от предложения этих добрых людей? Заехали бы отдохнуть часочек-другой – по росе помчались бы далее.
– Ты думаешь, потому что ты чувствуешь, как юноша, любезный Аммалат. Привык ты повелевать своими татарами, как рабами, и полагаешь, что также легко обходиться с вольными горцами! Рука судьбы отяготела над ними – мы разбиты и прогнаны, сотни храбрых горцев, твои и мои нукеры легли в битве с русскими – и показать чеченцам побежденное лицо Султан-Ахмет-хана, которое привыкли они видеть звездой победы, явиться посреди их беглецом, быть вестником своего позора, принять нищенское угощение, может быть, слышать укоры за гибель мужей и сынов, увлеченных мною в дерзкий набег, – значит навсегда потерять их доверие. Пройдет время: слезы высохнут, жажда мести заменит тоску по убитым, и тогда снова увидят они Султан-Ахмета, пророка добыч и крови, тогда снова раздастся в этих горах призыв к бою, и снова поведу я летучие толпы мстителей в русские границы. Приди я теперь, и в пылу огорчения чеченцы не рассудят, что Аллах дает и отнимает победу… Они могут, пожалуй, обидеть меня дерзким словом – а мои обиды неискупимы, и личная месть может заградить широкую дорогу на русских. Зачем же накликать себе ссору с храбрым народом и сокрушать идола собственной славы, на который привыкли они глядеть с изумлением? Человек никогда не кажется обыкновеннее, как в бессилии, когда всякий безбоязненно может померять с ним плечо. Притом тебе нужен искусный лекарь, а нигде не найдешь ты лучшего, как у меня, – завтра мы будем дома; потерпи до тех пор!
Аммалат-бек с признательностью приложил руку к сердцу и ко лбу – он чувствовал вполне справедливость речей хана, но слабость одолевала его с каждым часом.
Избегая селений, они провели ночь между утесами, питаясь горстью пшена, варенного с медом, без которого горцы редко отправляются в дорогу. Переправясь через Койсу, по мосту близ Аширте, они давно уже оставили за собой северный рукав ее, и Анде, и землю койсубулинцев, и голый хребет Салатау. Непроторенный путь их лежал по лесам, по крутизнам, ужасающим взор и дух; и вот стали они взбираться на последний хребет, разделяющий их с севера от Хунзаха, или Авара, – столицы ханов. Исчез и лес и кустарник на кремнистой пустыне гор, по которой кочуют лишь облака и вьюги. Чтобы достичь гребня, принуждены были наши путники ехать то вправо, то влево реями32: так стремниста была круть утесов. Привычный конь хана осторожно и верно ступал с камня на камень – пытал копытом, не катятся ли они, и на хвосте сползал в обрывы, – но гордый, пылкий жеребец Аммалата, питомец холмов дагестанских, горячился, прядал и оступался. Избалованный холею, он не мог выдержать двухдневного побега на зное солнца и холоду вершин, по острым скалам, едва подкрепленный скудною травою в расселинах. Тяжело храпел он, взбираясь выше и выше; пот струею бежал с нагрудника, широкие ноздри пышели огнем, и пена кипела на удилах.
– Аллах берекет! – воскликнул Аммалат, достигнув до вершины, с которой открылся ему вид на Аварию, – но в ту же минуту изнемогший конь грянулся под ним на землю, кровь хлынула из оскаленного рта, и последний вздох его порвал седельную подпругу.
Хан поспешил помочь беку выбиться из стремян; он со страхом заметил, что усилия сдвинули перевязку с раны Аммалатовой, и кровь пробилась снова. Молодой человек, казалось, был нечувствителен к боли: слезы его катились о павшем бегуне… Так одна капля не наполняет, но переполняет чашу.
– Ты уж не будешь носить меня как пух по ветру, – говорил он, – ни в пыльном облаке на скачке, слыша за собой досадные клики соперников и восклицания народа, ни в пламя битвы; уже не вынесешь еще однажды из-под чугунного дождя русских пушек. С тобой добыл я славу наездника; зачем же мне переживать и ее и тебя?!
Он склонил лицо в колена и долго, долго безмолвствовал, между тем как хан заботливо перевязывал раненую его руку. Наконец Аммалат поднял голову.
– Оставь меня, Султан-Ахмет-хан, – сказал он решительно, – оставь несчастливца собственной участи. Путь далек, а я изнемогаю. Оставшись со мной, ты даром погибнешь. Взгляни, как вьется над нами орел, – он чует, что мое сердце скоро замрет в. когтях его, – и слава Богу! Лучше найти воздушный гроб в хищной птице, чем отдать свой прах под ногу христианина. Прощай, не медли!
– Не стыдно ли тебе, Аммалат, падать, запнувшись за соломинку?.. велика беда, что ты ранен, что конь твой пал. Рана заживет до свадьбы – коня найдем лучше прежнего – и впереди у Аллаха не одни беды приготовлены. В цвете лет и в мужестве ума грешно отчаиваться. Садись на моего коня, я поведу его под уздцы, и к ночи мы дома. Время дорого!
– для меня уже нет времени, Султан-Ахмет-хан… Благодарю от сердца за твою братскую заботливость, но я не пользуюсь ею… тебе самому не вынести пешеходного пути после такой усталости. Повторяю: оставь меня на произвол судьбы… Здесь, на неприступных высотах, умру я волен и доволен… Да и чем может манить меня жизнь! Родители мои лежат в земле… жена лишилась зрения, дядя и тесть шамхал ползают в Тарках перед русскими… в родине, в наследии моем пируют гяуры33 – и теперь сам я изгнанник из дому, беглец из боя – я не хочу и не должен жить!
– Не должен бы говорить такого вздора, любезный Аммалат, – и одна только лихорадка извиняет тебя. Мы созданы для того, чтоб жить долее отцов наших; жен ты можешь найти еще три, если одна не наскучила; если не люб тебе шамхал, а любо твое кровное наследство, так для этого самого и надо тебе жить: потому что для мертвеца не нужна власть и невозможна победа. Мстить русским – святой долг: оживи хоть для него; а что мы разбиты – это не новость для воина: сегодня выпадает удача им, завтра выпадет нам. Аллах дает счастье, но человек создает себе славу не счастьем, а твердостию… Ободрись, друг Аммалат… ты ранен и слаб, я крепок привычкою и не утомлен бегом – садись на коня, и мы еще не раз побьем русских!
Лицо Аммалата вспыхнуло…
– Да, я буду жить для мести им! – вскричал он, – для мести тайной и явной. Верь, Султан-Ахмет-хан, лишь для этого я принимаю твое великодушие!.. Отныне я твой… клянусь гробом отца, я твой… Руководи моими шагами, направляй удары моей руки, и если я, потонув в неге, забуду клятву свою, напомни мне эту минуту, эту вершину: Аммалат-бек пробудится, и кинжал его будет молния!
Хан обнял, поднимая на седло, воспламененного юношу.
– Теперь я узнаю в тебе чистую кровь эмиров, – сказал он, – кровь пламенную детей гор, которая, как сера, течет в жилах наших и в недре утесов и порой, вспыхивая, потрясает и рушит громады.
Поддерживая одною рукою в седле раненого, хан осторожно стал спускаться с обнаженного черепа34. Случалось, камни с шумом катились из-под ног или конь скользил вниз по гладкому граниту, – а потому они очень рады были, добравшись до мшистой полосы. Мало-помалу кудрявые растения расстилать начали свою зеленую пелену – то вея из трещин опахалами, то спускаясь с крутин длинными плетеницами наподобие лент и флагов. Наконец они въехали в густой лес орешников, потом дуба, черешни и еще ниже чинара и чилдара35. Разнообразие, богатство растений и величавое безмолвие сенистых дубрав вселяло какое-то невольное благоговение к дикой силе природы. Порой из ночного мрака ветвей, как утро, рассветала поляна, украшенная благоуханным ковром цветов, не мятых стопою человека. Тропинка то скрывалась в чаще, то выходила на край утеса, и под ним в глубине шумел и сверкал ручей, то пенясь между каменьями, то дремля на каменном дне водоема, под тенью барбариса и шиповника. Фазаны, сверкая радужными хвостами, перелетывали в кустарниках; стада диких голубей вились над скалами то стеной, то столбом, восходящими к небу, – и закат разливал на них воздушный пурпур свой, и тонкие туманы тихо подымались в ущелиях; все дышало вечернею прохладою, незнакомою жильцам полей.
Уже путники наши были близки к селению Акох, лежащему за небольшой горой от Хунзаха. Невысокий гребень разделял их с этим селением, когда ружейный выстрел раздался в горах и, как зловещий знак, повторился отголоском утесов. Путники остановились в недоумении… перекаты постепенно затихли.
– Это наши охотники, – сказал Султан-Ахмет-хан, отирая пот с лица. – Они не ждут меня и не чают встретить в таком положении. Много радостных, много и горестных слез принесу я в Хунзах!
Непритворная горесть изобразилась на грозном лице Ахмет-хана – все нежные и все злобные чувства так легко играют душой азиатца!
Другой выстрел, однакож, развлек его внимание… удар и удар еще… выстрелы отвечали выстрелам и наконец слились в жаркую перепалку.
– Там русские, – вскричал Аммалат, выхватывая из ножен саблю, – и сжал каблуками коня, как будто одним прыжком хотел перепрыгнуть за гребень, – но мгновенные силы его оставили, и клинок, звуча, покатился из опавшей руки. – Хан, – сказал он, ступая на землю, – спеши на помощь своим землякам – твое лицо будет для них дороже сотни воинов.
Хан не слышал слов его – он прислушивался к полету пуль, как будто желая различить русских от аварских.
– Ужели с легкостью коз заняли они и крылья у орлов Казбека – и откуда могли они пройти на наши неприступные твердыни! – говорил он, весь склонясь над седлом, со вложенною в стремя ногою. – Прощай, Аммалат, – вскричал он наконец, послышав, как загорелась сильная пальба. – Я еду погибнуть на развалинах, разразясь, как перун, ударом!36
В это время пуля, жужжа, упала к ногам его; он наклонился, поднял ее, и лицо его просияло улыбкою. Спокойно вынул он ногу из стремени и обратился к Аммалату.
– Садись верхом, – сказал он ему, – скоро ты своими глазами разгадаешь эту загадку… У русских свинцовые пули – а это медная, аварская[15], моя милая землячка! Притом же она прилетела с южной стороны, откуда никак не могут прийти русские.
Они въехали на вершину гребня, и взорам их открылись две деревни, лежащие на двух противоположных краях глубокой рытвины; и из них-то производилась перестрелка. Жители залегши за камнями, за оградами, палили друг в друга. Между ними беспрестанно бегали женщины, с воплем и плачем, когда какой-нибудь удалец, приблизясь к самому краю пропасти, падал раненый. Они носили каменья и заботливо и бесстрашно под свистом пуль складывали перед ним род щита. Радостные крики раздавались на той и другой стороне, когда видели, что выносят из дела раненого противника. Печальные стоны оглашали воздух, когда падал кто-нибудь из родных или товарищей. Аммалат долго и с удивлением смотрел на битву эту, в которой было более грому, чем вреда. Наконец он обратил вопрошающий взор к хану.
– У нас это обыкновенная вещь, – отвечал тот, любуясь каждым удачным выстрелом. – Такие сшибки поддерживают между нами воинственный дух и боевой навык. У вас частные ссоры кончаются несколькими ударами кинжала – у нас они становятся общим делом целых селений, и самая безделица может дать к тому повод. Я чай, и теперь дерутся за какую-нибудь украденную корову, которую не хотели отдать. У нас не стыдно воровать в чужом селении – стыдно только быть уличену в том. Полюбуйся на смелость наших женщин – пули, как мухи, жужжат, а им горя мало – достойные матери и жены богатырей!.. Конечно, в великий стыд вменится тому, кто ранит женщину, – да ведь за пулю нельзя поручиться. Острый глаз направляет ее, но слепая судьба несет в цель. Однако темнота льется с неба и разлучает минутных врагов. Поспешим к родным моим.
Одна привычка хана могла спасти наших путников от частых падений по крутому спуску к реке Узени. Аммалат почти ничего не видал перед собою… двойная завеса ночи и слабости задергивала его очи… голова его кружилась… будто сквозь сон взглянул он, поднявшись снова на высоту, на вороты дома ханского, на сторожевую башню, и неверной ногой ступил он на землю среди двора, среди восклицаний нукеров и челядинцев – и, едва перешагнул за решетчатый порог гарама37, дух его занялся, смертная бледность бросила снег свой на лицо раненого, и юный бек, истощенный кровью, утомленный путем, голодом и душевною тоскою, – без чувств упал на узорные ковры.
Глава III
Аммалат пришел в память на заре. Медленно, поодиночке сходились в ум его мысли, и те мелькали, будто в тумане, от чрезвычайного расслабления. Он вовсе не ощущал боли в теле своем, и это состояние было даже приятно ему – оно отнимало у жизни горе, у смерти ужас, и в эту пору он услышал бы весть о выздоровлении так же беспечно, как весть о неизбежной кончине. Ему не хотелось молвить слова, пошевелить пальцем. Это полуусыпление было, однако ж, непродолжительно. В самый полдень, после посещения лекаря, когда прислужники разошлись исполнять обряды полуденной молитвы, когда стих усыпляющий говор их и только крик муллы раздавался вдали, Аммалат послышал тихие, осторожные шаги по коврам спальни… Он приподнял тяжелые веки, и сквозь сеть ресниц показалось ему, что прелестная черноокая девушка, в оранжевой сорочке, в глазетовом архалуке с двумя рядами эмалевых пуговок, с длинными косами, распущенными по плечам, – тихо приблизилась к его ложу – и так заботливо обвеяла его чело, так сострадательно взглянула на рану, что в нем затрепетались все жилки… Потом осторожно налила она лекарства в чашечку и… больше не мог он рассмотреть… веки его опали, как свинец, – он только ловил слухом шелест ее шелкового платья, будто шум крыльев улетающего ангела, – и снова все стихло. И каждый раз потом, когда нетвердый еще разум его хотел разгадать ее появление, оно сливалось с неясными грезами горячки, так что первым вздохом, первым словом его, когда он очнулся, было: «Это сон!»
Но это не был сон. Прелестная эта девушка была шестнадцатилетняя дочь Султан-Ахмет-хана. У всех горцев вообще незамужние пользуются большою свободою обращения с мужчинами, несмотря на закон Магомета. Тем более независима была любимая дочь хана; подле ней только отдыхал он от забот и досад; подле ней только лицо его находило улыбку, а сердце шутки. В кругу ли аварских старшин и узденей рассуждал он о делах горской политики или давал суд правым и виноватым; между домашними ли слушал рассказы о прежних удальствах или замышлял новые набеги, она прилетала, как ласточка, и приносила ему весну душевную. Счастье было того виноватого, на чье осуждение являлась она при отце… взмахнутый кинжал остановлялся на воздухе – и часто, взглянув на нее, он отлагал кровавые замыслы, чтобы не разлучаться с милою дочерью. Все было ей позволено, все доступно. Запретить ей что-либо не подумал бы Ахмет-хан ни для каких обычаев, ни для каких пересудов – а подозрение в чем-нибудь, недостойном ее пола или ее сана, было так же далеко от его мыслей, как от ее сердца. Да и кто мог ей внушить нежные чувства из окружающих хана? Склонить свои мысли, унизить свои чувства до человека, низшего ее родом, было бы неслыханным позором для дочери последнего узденя – тем выше ханская дочь от самой колыбели напитывалась гордынею предков – и она, как ледяное забрало, отделяла сердце ее от всего видимого общества. Доселе ни один гость не был равен с ней родом – по крайней мере ни про одного не спросило о том сердце. Вероятно, что и беспечный, бесстрастный возраст ее был тому виною, может быть, – но теперь час любви пробил, и сердце встрепенулось в груди неопытной красавицы. Она спешила заключить в объятия отца и со страхом увидала прекрасного юношу, падающего как мертвец к ногам ее… Первое ее чувство был ужас; но когда отец рассказал, как и почему Аммалат гость его, когда сельский лекарь объявил, что рана неопасна, – нежное соучастие к раненому проникло все ее существо. Целую ночь напролет мечтался ей окровавленный гость, и она встретила зарю впервые не так румяная, как заря; в первый раз прибегла она к хитрости: чтобы взглянуть на приезжего, вошла в комнату его, чтобы поздороваться с отцом, – и потом вкралась туда в полдень. Непостижимое, неодолимое любопытство влекло ее посмотреть на глаза Аммалата. Никогда в детстве не желала она так сильно игрушки, никогда в настоящем возрасте не манило ее так неодолимо новое, богатое платье или блестящее украшение, как страстно хотелось ей встретить глаза гостя; и наконец ввечеру она встретила томный, но выразительный, беспламенный, но светлый взор его. Она не могла отвести очей с черных очей Аммалата, прилепленных к ней. Казалось, они говорили: «Не скрывайся, звезда души моей!» – поглощали исцеление и отраду из ее взоров. Она не знала, что с нею делается, не чувствовала, на земле ли была она или в воздухе носилась; летучие краски сменялись на лице ее. Наконец она решилась дрожащим голосом спросить его о здоровье…
Надо быть татарином, который считает за грех и обиду сказать слово чужой женщине, который ничего женского не видит, кроме покрывала и бровей, чтобы вообразить, как глубоко возмущен был пылкий бек взором и словом прелестной девушки, столь близко и столь нежно на него брошенным. Сладкий огонь пробежал по сердцу его, несмотря на слабость.
– О, мне очень хорошо теперь, – отвечал он, стараясь приподняться, – так хорошо, что я бы готов был умереть, Селтанета!
– Алла сахласын (Бог да сохранит тебя), – возразила она. – Живи, живи долго!.. Неужели не жаль тебе жизни?
– В сладкие минуты сладка и смерть, Селтанета. А если б я прожил еще сто лет, краше настоящей не нашел бы!
Селтанета не поняла слов гостя, но она поняла взор его, поняла выражение его голоса. Она закраснелась еще более и, сделав рукою знак, чтоб он успокоился, – упорхнула из комнаты.
Между горцами есть весьма искусные лекаря, особенно для всех переломов и ран; но Аммалата исцеляло лучше всех трав и пластырей присутствие милой горянки. С приятною надеждою засыпал он, уверенный, что увидит ее во сне, и радостен просыпался, зная, что наяву с нею встретится… Силы его возвращались быстро, и с силами росла привязанность к Селтанете. Аммалат был женат, но, как водится на Востоке, для одних расчетов. Он никогда не видал до свадьбы невесты своей и после ничего не нашел в ней привлекательного, ничего такого, что бы могло пробудить его спящее сердце. Впоследствии жена его ослепла, и это обстоятельство еще более охладило связь, основанную на азиатской чувственности. Семейная неприязнь к тестю и дяде шамхалу еще более разделяла молодых супругов, до того, что они очень редко бывали вместе. Мудрено ли ж после этого, что юноша, пылкий по природе, своевластный по привычке, – загорелся новою для него любовью! Быть с нею было для него самым высоким счастьем, ждать ее появления – приятнейшим занятием… Бывало, он вздрогнет, чуть заслышит ее голос, – каждый звук, будто луч солнца, проникал в душу… и ощущение его походило на боль – но боль так восхитительную, что он желал бы навеки продлить ее. Мало-помалу знакомство между молодыми людьми скрепилось в дружбу… Они почти беспрестанно бывали вместе. Хан часто уезжал внутрь Аварии по делам хозяйства, по расправам, по военным распоряжениям, оставляя гостя на попечение жены своей, тихой, молчаливой женщины. Он очень видел склонность Аммалата к дочери своей и втайне тому радовался – это оживляло его честолюбивые и воинственные виды: родство с беком, имеющим право на шамхальство, предавало ему в руки тысячу поводов и средств вредить русским. Ханша, занимаясь урядом домашним, оставляла нередко по целым часам Аммалата в покоях своих, как родного; и Селтанета, с двумя или тремя своими приближенными девушками, сидя на подушке за рукодельем, не видела, как летит время, то разговаривая с гостем, то внимая его рассказам. Бывало и то, что долго, долго сиживал Аммалат, склонясь у ног своей Селтанеты, не вымолвя слова, – то глядясь в черные, поглощающие глаза ее, то любуясь с ней горными видами из окна ее, обращенного к северу, и крутыми берегами и крутыми изворотами гремучей Узени, над которою висит замок ханский. Подле этого детски невинного существа забывал Аммалат желания, которых она еще не знала, и, тая в неизвестном, непонятном для него наслаждении, он не думал ни о прошедшем, ни о будущем – он не думал ни о чем, он только мог чувствовать, и беззаботно, не отнимая от чаши уст, пил блаженство каплю по капле.
Так протекло лето.
Аварцы – народ свободный. Они не знают и не терпят над собой никакой власти. Каждый аварец называет себя узденем, и если имеет есыря (пленного), то считает себя важным барином. Бедны, следственно, и храбры до чрезвычайности; меткие стрелки из винтовок – славно действуют пешком; верхом отправляются только в набеги, и то весьма немногие. Лошади их мелки, но крепки невероятно; язык дробится на множество наречий – но в основе лезгинский, ибо и сами аварцы племя лезгинского38. Помнят христианскую веру, ибо не более ста двадцати лет поклонились Магомету – но до сих пор плохие магометане: пьют водку, пьют бузу39, нередко виноградное вино, но всего чаще вино вареное, называемое у них джапа. Верность аварского слова в горах обратилась в пословицу. Дома тихи, гостеприимны, радушны, не прячут нижен, ни дочерей – за гостя готовы умереть и мстить до конца поколений. Месть для них – святыня; разбой – слава. Впрочем, нередко принуждены бывают к тому необходимостию… Выходя по вершине Аталы и Тхезерук, через хребет Турпитау в Кахетию, за реку Алазань, для сельских работ, из очень скудной платы, они нередко остаются дня по два и по три без дела… и потом, сговорившись, как голодные волки, бросаются ночью на ближние селения и, если удастся, угоняют стада, похищают женщин, захватывают пленников – но всего чаще слагают свои головы в неравном бою. В русские границы впадения их затихли с тех пор, как укротили акушинцев, и Аслан-хан Кумыкский стережет через его владения лежащий выход из Аварии. Но селение Хунзах, или Авар, лежащее на восточном краю Аварии, искони составляет наследие ханов – и власть их там закон. Но имея право велеть своим нукерам изрубить кинжалами любого жителя Хунзаха, даже любого проезжего, хан не смеет наложить никакой подати, никакой пошлины на народ и должен довольствоваться доходами со стад и с полей своих, обрабатываемых каравашами (рабами) и есырями (пленниками). Не бравши, однако ж, прямых налогов, ханы не отказываются от требования повинностей, освященных более силою, чем обычаем. Взять во двор мальчика или девку, нарядить подводы на волах или буйволах для собственной перевозки или работы, послать гонца и тому подобное – суть вещи ежедневные. Жители Хунзаха живут, однако же, богаче всех своих одноземцев; дома их чисты и почти все в два яруса; мужчины стройны, женщины красивы, тем более что между ними множество грузинок, захваченных в плен. В Аварии много занимаются арабским языком, и потому слог людей грамотных очень цветен. Гарам ханский всегда полон гостями и нередко просителями, которые, по азиатскому обычаю, не смеют показать глаз без пешкеша (подарка), хотя бы то был пяток яиц… Нукеры ханские, на числе и отважности коих опирается власть его, с утра до вечера толкаются во дворах и в комнатах хана, всегда с заряженными пистолетами за поясом и с кинжалом на брюхе[16]. Любимые уздени и приезжие гости из чеченцев или из татар обыкновенно каждый день являлись поутру на поклон к хану, оттуда всей гурьбой отправлялись к ханше и нередко целый день оставались пировать в особых комнатах, угощаемые и в отсутствие хана изобильно.
Однажды приходит в беседу уздень аварский и за новость рассказывает, что невдалеке появился огромный тигр – и что двое отличнейших стрелков легли жертвою его лютости. Это так напугало наших охотников, что никто не решается в третий раз отведать удачи.
– Я отведаю счастья! – вскричал Аммалат, горя нетерпением выказать удальство свое перед горцами. – Пусть только наведут меня на след зверя.
Широкоплечий аварец измерил взором с ног до головы дерзостного бека и, улыбнувшись, молвил:
– Тигр не чета дагестанскому кабану, Аммалат! Его след нередко ведет к смерти!
– Неужели ты думаешь, – возразил тот гордо, – что на этой скользкой дорожке у меня закружится голова или дрогнет рука? Не зову тебя помогать, зову посмотреть моего боя с тигром. Я надеюсь, ты поверишь тогда, что если сердце аварца твердо, как гранит его гор, то сердце дагестанца закалено, как славный булат их. Согласен?
Аварец был пойман. Отказаться было бы постыдно – и он протянул руку – развеселил лицо…
– Охотно иду с тобою, – отвечал он. – Отлагать нечего… совершим клятву в мечети – и в путь и в бой неразлучно. Аллах судит – нам ли взять его кожу на чапрак или ему скушать нас.
Не в азиатском нраве, еще менее в азиатском обычае, прощаться с женщинами, отправляясь даже надолго, навсегда… Это принадлежит одним родным – и разве случаем выпадет гостю. Аммалат-бек со вздохом, однако ж, взглянул в окна Селтанеты – и тихими шагами прошел к мечети. Там уже ожидали его старшины селения и толпа любопытной молодежи.
По старинному аварскому обыкновению, ловцы должны были поклясться на Коране, что не выдадут друг друга ни в битве со зверем, ни в преследовании… не покинут раненого, если судьба допустит, что зверь сломает его, – будут защищать друг друга – лягут рядом, не щадя жизни, – и во всяком случае без шкуры зверя не воротятся назад; или тот, кто преступит завет сей, да будет сброшен со скалы, как трус, как изменник!
Товарищи после присяги обнялись… мулла надел на них оружие, и они отправились в путь при громких кликах всей толпы.
– Или оба, или ни одного! – кричали все вслед.
– Убьем или умрем! – отвечали охотники…
Минул день. Укатил другой за хребты ледяные… Старики притомили глаза, глядя с кровель на дорогу. Мальчики далеко выбегали на окрестные холмы, чтобы встретить охотников: все их нет как нет. В целом Хунзахе, едва ль не у каждого очага, кто от безделья, кто от участия, толковали об этом, но всех более горевала Селтанета. Крикнут ли на дворе, зашумит ли кто на лестнице – вся кровь, у нее вспыхнет, как на огне можжевельник, и сердце запрыгает от ожидания… вскочит, бывало, бедняжка и побежит к окну или дверям – и, в двадцатый раз обманутая, потупя очи, тихо пойдет за рукоделье, которое впервые показалось ей скучно и бесконечно. Наконец, за сомнением, и страх наложил свою ледяную руку на сердце красавицы. Она спрашивала у отца, у братьев, у гостей, каков зверь тигр на рану, – далеко ли, близко ли ходит он к селениям? И всякий раз, рассчитав время, она, сплеснув руками, говорила сама себе: «Они погибли!» – и тихо клонила голову к неровно волнуемой груди, и крупные слезы катились по ее прелестному лицу.
На третий день оказалось, что опасения всех не были напрасны. Уздень, товарищ Аммалата в ловитве, насилу привлекся один до Хунзаха. Кафтан его был изодран когтями звериными – сам он бледен как смерть и в изнеможении от голода и устали. С изумлением, с любопытством обстали его и стар и мал – и вот что рассказывал он, подкрепив себя чашкою молока и куском чурека:
– В тот же день, как вышли отсюда, выследили мы тигра. Мы нашли его спящим между таким каменником и чащею, что Аллах упаси. По жеребью досталось первому стрелять мне… я подкрался и наметил очень ловко – стрельнул – ан, на беду, зверь спал, закрыв морду лапою, и пуля, пробив ее, угодила в шею… Пробужден громом и болью, тигр взревел и в два прыжка прямо ринулся на меня, так, что я не успел выхватить и кинжала, – с размаху он сбил меня с ног, смял задними ногами – и только помню я, что в миг этого промежутка раздался крик и выстрел Аммалата и затем оглушающее, ужасное рыкание. Раздавленный, я потерял память и дыхание и, долго ли я лежал в обмороке, – не ведаю.
Когда открыл я глаза, все было тихо кругом меня… мелкий дождь сеялся из густого тумана – был ли то вечер, было ли то утро? Мое ружье, подернутое ржавчиной, лежало подле; ружье Аммалата, переломленное пополам, невдалеке; там и сям обрызганы были камни кровью – только чьею кровью: тигровой ли, Аммалатовой ли, как дознаться? Выломленные кустарники лежали кругом: верно, зверь выторгнул их упорными прыжками. Я кликал, сколько было голосу, товарища – нет ответа. Посижу-посижу да еще покличу – напрасно! Ни зверя, ни птицы перелетной. Много раз пытался я идти искать по следу Аммалата, или найти его, или умереть на его теле – хоть бы отомстить зверю за смерть удалого! силы нет! Взяло меня горе; я всплакался горько: зачем погибаю и телом и доброю славою! Решился было ждать смертного часа в пустыне – только голод одолел меня. Дай, подумал я, повещу в Хунзахе, что Аммалат пропал без вести, и хоть умру между своими. Вот я и приполз сюда, как раздавленный змей. Братья! голова моя пред вами – судите, как положит Аллах на сердце. Приговорите ли мне жить, буду жить, поминаючи вашу правду; приговорите умереть – и то воля ваша! – умру невинен. Аллах свидетель, я сделал что мог!
Ропот рассыпался по народу, когда выслушали пришельца. Одни правили, другие винили его, хотя и все жалели.
– Всякий себя охраняет, – говорили некоторые из обвинителей. – Кто порука, что он не бежал с поля? На нем нет раны, нет и свидетельства… а что он выдал товарища, это почти без сомнения!
– Не только выдал, может, и нарочно предал, – толковали другие, – они неладно между собою говаривали!
Ханские нукеры пошли еще далее; они подозревали, что уздень убил Аммалата из ревности, – он слишком умильно поглядывал на дочь ханскую, а ханская дочь не ему чету нашла в Аммалате.
Султан-Ахмет-хан, сведав, для чего собрался народ на улице, прискакал и сам на сходку.
– Трус, – сказал он вместе с гневом и огорчением узденю, – ты пустил позор на имя аварское… теперь может всякий татарин укорить нас, что мы зверям скормили гостя, не умея защитить его! По крайней мере мы сумеем за него отомстить: ты клялся на Коране по старине аварской не покидать в беде товарища и, если он падет, не ворочаться домой без шкуры зверя… ты изменил клятве… но мы не переступим завета – гибни! Даю три дни сроку душе твоей – но потом, если Аммалат не найдется, – тебя сбросят с утеса! Вы головами отвечаете мне за его голову, – примолвил он, обращаясь к своим нукерам, надвинул шапку на брови и поворотил к дому коня своего.
Тридцать гонцов помчались из Хунзаха во все стороны проведывать хоть об остатках буйнакского бека. У горцев священною обязанностью считается с честью похоронить своего родственника или товарища – и они часто, как омировские герои, кидаются в пыл битвы, чтобы выхватить из рук русских убитого собрата40, и порой десятками падают на тело, которого не хотят выдать.
Несчастного узденя повлекли на конюшню ханскую – место, заменяющее обыкновенно тюрьму. Народ, рассуждая о происшедшем, угрюм, но безропотен разошелся по домам, ибо приговор ханский был согласен с правдою их обычаев.
Печальная весть скоро проникла до Селтанеты; и, как ни желали смягчить ее, – она жестоко поразила девушку, столь много любящую. Со всем тем она против ожидания казалась спокойною: не плакала, не жаловалась; но зато и не улыбалась более, не молвила ни слова. Ей говорила мать – она не слышала. Искры из трубки отца прожигали ее платье – она не замечала. Холодный ветер веял на грудь ее – она не чувствовала. Все ее чувства сжались в сердце на муку его – но это сердце глубоко лежало от взоров – и ничего не отражалось на гордом лице ее. Ханская дочь боролась с шестнадцатилетнею Селтанетою – можно было предсказать, кто падет прежде.
Но эта скрытая тоска удушала Салтанету… ей хотелось убежать от людских глаз и на свободе выплакать горе.
«Боже мой, – думала она, – зачем, потеряв друга, не имею права плакать о нем! Все так и смотрят не меня, чтобы посмеяться после… так и стерегут каждую слезку, чтобы поймать ее на злословный язык свой. Чужое горе им потеха».
– Секине! – молвила она своей прислужнице, – пойдем гулять по берегу Узени!
На треть агача[17] расстояния от Хунзаха к западу есть развалины старинного христианского монастыря, уединенного памятника забытой веры туземцев. Рука времени, будто из благоговения, не коснулась самой церкви, и даже изуверство пощадило святыню предков. Она стояла цела между разрушенных келий и павшей ограды. Глава ее с остроконечною каменною кровлею уже почернела от дыхания веков; плющ заплел сеткою узкие окна, и в трещинах стен росли деревья. Внутри мягкий мох разостлал ковер свой – и в зной влажная свежесть дышала там, питаемая горным ключом, который, промыв стену, прислоненную к утесу, падал через каменный алтарь и распрядался в серебристые, вечнозвучные струны чистой воды – и потом, сочась в спаи плитного пола, вился ниже и ниже. Одинокий луч солнца, закравшись сквозь окно, мелькал и переливался сквозь зыбкую зелень по угрюмой стене, как резвый младенец на коленях столетнего деда. Туда-то направила Селтанета свою прогулку; там-то отдохнула она от взоров и вопросов, тяготивших ее. Все было так мирно, так прелестно, так счастливо около нее – и все это тем более множило печаль – первую печаль ее. Переливный свет на стене, лепетание ласточек и журчанье ключа растопило в слезы свинец, лежавший у нее на сердце, и горесть ее разлилась жалобами. Секине убежала нарвать груш, растущих в изобилии около церкви, и Селтанета тем беззаветнее предалась природе, требующей облегчения.
И вдруг, подняв голову, она вскрикнула от испуга… перед нею стоял стройный аварец, забрызганный грязью и кровью. Кожа тигра падала наземь с плеч его…
Ужели твое сердце, твои глаза, Селтанета, не узнали своего любимца? Нет, с другого взора она узнала Аммалата – и, забыв все на свете, кинулась на шею, обвила ее руками своими и долго, долго вглядывалась в истомленное, но всегда милое лицо – и наконец огонь уверения, огонь восторга заблистал сквозь не обсохшие еще слезы печали. Мог ли тогда удержать пылкий Аммалат радость свою? Он прильнул, как пчела, к розовым губкам Селтанеты. Он довольно слышал за минуту для своего счастия – теперь он был наверху блаженства. Еще ни слова не вымолвили любовники о любви своей – но они уже поняли друг друга…
– И ты, ангел, любишь меня? – произнес наконец Аммалат, когда Селтанета, застыдясь поцелуя, уклонилась из его объятий. – Ты меня любишь?
– Сохрани Алла, – отвечала невинная девушка, опустя ресницы, но не очи, – любить! Это страшное слово. С год тому назад, проходя по улице, я увидела, как побивали каменьями девушку, – с ужасом убежала я домой… но нигде не могла спрятаться… кровавая грешница везде стояла передо мною, и стон ее еще до сих пор отзывается в ушах моих. Когда я спросила, за что так бесчеловечно казнили эту несчастную, мне отвечали: она любила одного юношу!
– Нет, милая, не за то, что она любила, а за то, что любила не одного, за то, что изменила, быть может, обоим, ее убили!
– Что значит «изменила», Аммалат? Я не понимаю этого!
– О, дай Бог, чтоб ты никогда не испытала, никогда не выучилась изменять… чтобы ты никогда не забыла меня для другого!
– Ах, Аммалат, в эти четыре дня я узнала, как тяжела для меня с тобой разлука! Бывало, долго не вижу братьев, Ну нала и Сурхая, – и рада с ними свидеться – но без них не тоскую – без тебя же на свете жить не хочется!
– для тебя я готов умереть, звезда моя утренняя, за тебя положу свою душу, не только жизнь, милая!
Шелест шагов прервал речи любящихся… то была прислужница Селтанеты. Втроем они поспешили обрадовать хана, и хан был рад, был утешен непритворно. Аммалат в коротких словах рассказал, как было с ним дело.
– Чуть завидел я павшего товарища впереди меня – я встретил зверя на лету пулею – она разбила ему челюсть. Чудовище с ужасным ревом кинулось кружиться, прыгать, метаться – несколько раз порывалось ко мне и снова, развлекаемо болью, бросалось в сторону… В это-то время, ударив его прикладом по черепу, изломал я ружье. Я долго гнался за ним, когда он пошел на уход, – то на виду, то по кровавому следу; между тем день вечерел, и когда я вонзил кинжал в горло павшего тигра, темная ночь падала на землю. Волей и неволею принужден я был ночевать, имея палатами утесы, а собеседниками волков и чакалов. Утро было дождливо и туманно – облака, задевая меня за голову, выжимали, как губки, на мне свою воду… В десяти шагах перед носом ничего нельзя было видеть… Не видя солнца, не зная места, напрасно бродил я вокруг до около… дорога убегала меня – усталость и голод томили. Застреленная из пистолета куропатка подкрепила на время силы – но все-таки не мог я найти выхода из этого каменного гроба. Только шум вод, ниспадающих с крутин, только шум крыльев пролетающих в туче орлов слышались мне вечером, а ночью дерзкие чакалы в трех шагах от меня заводили свою плачевную песню. Сегодняшним утром красно встало солнце, и сам я встал бодрее, направил бег к востоку – и скоро послышал крик и выстрелы… это были твои посланцы. Утомлен жаром, зашел я напиться чистой ключевой воды в старую мечеть и там нашел Селтанету. Благодарность тебе, – слава Богу!
– Слава Богу, хвала и тебе! – сказал, обнимая его, хан. – Но удальство твое чуть-чуть не стоило жизни твоей и вместе твоего товарища. Промедли ты день – он бы отправился плясать лезгинку на воздухе. Кстати явился ты. Джембулат, известный наездник Малой Кабарды41, присылал звать тебя в набег на русских… вот достойное тебе поле. Вместо того чтоб дразнить судьбу, гоняясь за тиграми, – лучше гонять русских. Тебе же надо выкупить свою славу, плененную в прошлом бегстве… Время не терпит – завтра чем свет тебе должно отправиться.
Как ни досадна была такая весть Аммалату, но он скрепя сердце отвечал, что едет охотно… Он очень чувствовал, что громкое имя наездника есть порука будущих успехов.
Но Селтанета поблекла, склонилась, как цветок, головою, услышав о новой, грознейшей разлуке; взор ее, остановленный на Аммалате, выражал тоску опасения – боль предчувствия беды…
– Алла, – произнесла она с горестию, – опять набеги, опять убийство… Когда-то перестанет литься кровь на угориях?..
– Когда горные потоки потекут молоком и сахарный тростник заколышется на снежных вершинах, – сказал хан с усмешкою.
Глава IV
Дико прекрасен гремучий Терек в Дарьяльском ущелий. Там, как гений, черпая силы из небес, борется он с природой. Инде, светел и прям, как меч, рассекший гранитную стену, сверкает он между утесами. Инде, чернея от гнева, ревет и роется, как лютый зверь, под вековые громады: отрывает, рушит, катит вдаль их обломки. В бурную ночь, когда запоздалый всадник, завернувшись в косматую бурку, озираясь, едет по забережью42, висящему над пучиною Терека, все ужасы, какие только породить может досужее воображение, – ничто в сравнении с истинными, его одолевающими. С глухим шумом крутятся дождевые потоки под ногами, падают на голову со скал, нахмуренных над нею и каждый миг грозящих подавлением. Вдруг, как лава, прорывается молния, и вы с ужасом видите только черную, расторгнутую тучу над собою, а под собой зияющую бездну, утесы по сторонам, и навстречу вам с крутизны ревущий, прыщущий Терек, осыпанный огненной пеною. На один миг видите вы, как мутные, буйные волны его, словно адские духи, скачут, прядают, мечутся в бездну со стоном, пораженные мечом архангелов. Вслед им с грохотом катятся огромные камни. И вдруг, после ослепительного озарения молниею, вы опять погружены в черное море ночи – и вдруг за тем раздается выстрел грома, зыблющий основание скал, будто тысячи гор рушатся друг на друга: так вторят отголоски удару небес. Потом долгий, протяжный гул, будто стон оторванных с корней дубов, или звук сокрушенных скал, или вой раздавленных в бездне великанов, сливается с шумом ветра – и ветер превращается в ураган, и дождь низвергается ливнем. И снова молния слепит вас, и снова гром, на который отвечает вдали рокот обвалов, оглушает… камни сыплются мимо и звучно падают в воду… испуганный конь упирается, садится назад, фыркает, трепещет, грива его хлещет в глаза всадника – и всадник творит невольную молитву…
Но зато как приветливо заглядывает утро в ущелие, на дне которого бьет, и кипит, и плещется Терек! Облака, будто раздернутый полог, клубятся от ветра, и сквозь них являются и опять исчезают ледяные вершины. Точно резные из золота, лучи солнца рисуют зубчатые силуэты вершин восточных на противоположной стене гор. Скалы блестят, еще высеребренные дождевою влагою. Ключи и горные потоки пышны пеною, летят сквозь туман с крутин – и самые туманы Инде катятся вниз по ущелью, подобны потоку, Инде вьются улиткою с ключа, будто дымок с хижины, Инде обвивают, как чалмой, одинокую, древнюю на утесе башню, а мрачный Терек прядает по каменьям и кружится, будто ищет места успокоиться.
Должно признаться, однако ж, что на Кавказе нет вод, в кои бы достойно могли глядеться горы – исполины творения. Нет на нем рек плавных, нет огромных озер, и Терек между громадами, его теснящими, кажется ручейком. Под Владикавказом, вырвавшись на долину, он, кажется, рад вольному раздолью: ходит по ней широкими кругами, разбрасывая похищенные в горах валуны. Дальше, уклоняясь к северо-западу, он все еще быстр, но менее шумен, будто усталый после трудного подвига. Наконец, охватив крутым поворотом мыс Малой Кабарды, он, как мусульманин, набожно обращается к востоку и, мирно напояя враждующие берега, несется то по грядам камней, то по глинистым отмелям упасть за Кизляром в чашу Каспия. Тут уже он терпит на себе челны и, как работник, ворочает огромные колеса плавучих мельниц. По правому берегу его, между холмами и перелесками, рассеяны аулы кабардинцев, которых мы смешиваем в одно название черкесов, живущих за Кубанью, или чеченцев, обитающих гораздо ниже к морю. Побережные аулы сии мирны только по имени43 – но в самом деле они притоны разбойников, которые пользуются и выгодами русского правления, как подданные России, и барышами грабежей, производимых горцами в наших пределах. Имея всюду свободный вход, они извещают единоверцев и единомышленников о движении войск, о состоянии укреплений; скрывают их у себя, когда те сбираются в набег; делят и перекупают добычу при возврате, снабжают их солью и порохом русскими и нередко участвуют лично в тайных и явных набегах. Самое дурное, что, под видом этих мирных горцев, – враждующие нам народы безбоязненно переплывают Терек человека по два, по три, по пяти и среди белого дня отправляются на разбой, никем не преследуемые, ибо одежда их ничем не отлична. Наоборот, сами мирные, пользуясь этою отговоркою, нападают, когда в силах, открыто на проезжих – или похищают скот и людей украдкою, рубят без пощады или перепродают в плен далеко.
Правду сказать, местное положение их между двумя сильными соседями поневоле заставляет так коварствовать. Зная, что русские не поспеют из-за реки защитить их от мести горцев, налетающих как снег, они по необходимости, равно как по привычке, дружат однокровным, но в то же время лисят перед русскими, которых боятся.
Конечно, между ними есть несколько человек истинно преданных русским, но большая часть даже и своим изменяет из награды, и то лишь при верном успехе, и то лишь до тех пор, покуда видит в том свою пользу. Вообще нравственность этих мирных самая испорченная: они потеряли все доблести независимого народа и уже переняли все пороки полуобразованности. Клятва для них игрушка, обман – похвальба, самое гостеприимство – промысел. Едва ли не каждый из них готов наняться поутру к русскому в кунаки, а ночью в проводники к хищнику, чтобы ограбить нового Друга.
Левый берег Терека унизан богатыми станицами линейских казаков44, потомков славных запорожцев. Между ними кое-где есть крестьянские деревни. Казаки эти отличаются от горцев только небритою головою… оружие, одежда, сбруя, ухватки – все горское. Мило видеть их в деле с горцами: это не бой, а поединок, где каждый на славу хочет доказать превосходство силы, храбрости, искусства. Двое казаков не струсят четверых наездников, – в равном числе всегда победители. Почти все они говорят по-татарски, водят с горцами дружбу, даже родство по похищенным взаимно женам – но в поле враги неумолимые. Как ни запрещено переезжать на горную сторону Терека, но удальцы отправляются туда вплавь, на охоту разного рода. В свою очередь горские хищники бродятся за Терек ночью или переплывают его на бурдюках (мехах), залегают в камыши иль под навес берега, потом перелесками пробираются к дороге, чтобы увлечь в плен беспечного путника или захватить женщин на гребле сена. Случается, что самые отчаянные проводят дни по два в виноградниках при деревне, выжидая удобного случая напасть врасплох, и оттого линейский казак не ступит на порог без кинжала, не выедет в поле без ружья за спиной; он косит и пашет вооруженный.
В последнее время большими толпами горцы стали нападать только на крестьянские деревни, ибо в станицах отпор становился им очень дорого. Для угонки табунов они смело и глубоко впадают в границы наши, но в таком случае редко обходится без битвы. Самые лихие уздени стараются попасть в подобные наезды, чтобы снискать себе имя, которое ценят они выше всякой добычи.
Осенью, в 1819 году, кабардинцы и чеченцы, ободренные отсутствием главнокомандующего, собрались в числе полу торы тысячи человек сделать нападение на какую-нибудь деревню за Тереком, ограбить ее, увезти пленников, угнать табун. Предводителем был кабардинский князек Джембулат. Аммалат-бек, приехавший к нему с письмом от Султан-Ахмет-хана, был принят с радостию. Правду сказать, ему не дали никакого отряда, но это оттого, что у них нет никакого строя, ни порядка в войске – борзый конь и собственная запальчивость указывают каждому место в битве. Сначала сдумают, как завязать дело, как завлечь неприятеля… но потом нет ни повиновения, ни повеления, и случай доканчивает сражение. Обославшись с соседними узденями и наездниками, Джембулат назначил сборное место – и вдруг, по условному знаку, во всех ущельях раздался крик: «Гарай! гарай (Тревога)!», и в один час слетелись со всех сторон наездники чеченские и кабардинские. Во избежание измены никто не знал, кроме вождей, где будет ночлег, где переправа. Разделясь на небольшие кучки, пошли они по едва видным тропам в мирный аул, где должно было скрыться до ночи. В сумерках все отряды уже сошлись туда. Разумеется, мирные встретили своих земляков с распростертыми объятиями, но Джембулат, не доверяя этому, оцепил селение часовыми и объявил жителям, что если кто покусится уйти к русским, будет изрублен в куски. Большая часть узденей разошлась по саклям кунаков или родственников, но сам Джембулат с Аммалатом и лучшими наездниками остался на чистом воздухе, подле разведенного огня, покуда освежались усталые их кони. Джембулат, простершись на бурке, опершись рукою об руку, раздумывал распорядок набега; но далека была мысль Аммалата от поля битвы – она орленком носилась над горами Аварии, и тяжко-тяжко ныло сердце разлукою. Звук металлических струн горской балалайки (комус), сопровождаемый протяжным напевом, извлек его из задумчивости: то кабардинец пел песню старинную.
На Кас-бек слетелись тучи,
Словно горные орлы…
Им навстречу, на скалы,
Узденей отряд летучий
Выше, выше, круче, круче
Скачет, русскими разбит,
След их кровию кипит!
На хвостах полки погони:
Занесен и штык, и меч;
Смертью сеется картечь…
Нет спасенья в силе, в броне…
«Бегу, бегу, кони, кони!»
…Пали вы, – а далека
Крепость горного леска![18]
Сердце наших русским мета…
На колени пал мулла –
И молитва, как стрела,
До пророка Магомета,
В море света, в небо света,
Полетела, понеслась:
«Иль Алла, не выдай нас!»
Нет спасенья ниоткуда!!
Вдруг, по манию небес,
Зашумел далекий лес.
Веет, плещет, катит грудой
Ниже, ближе, чудо, чудо!..
Мусульмане спасены
Средь лесистой крутизны!45
– Так бывало в старину, – сказал с улыбкою Джембулат, – когда наши старики больше верили молитве, а Бог чаще их слушал; но теперь, друзья, лучшая надежда – своя храбрость. Наши чудеса в ножнах шушки (сабли) – и нам точно должно показать их, чтобы не осрамиться. Послушай, Аммалат, – примолвил он, крутя ус свой, – не скрою от тебя, что дело может быть жаркое. Я сейчас проведал, что полковник Коцарев собрал отряд свой, но где он? но сколько у него войска? этого никто не знает.
– Чем больше будет русских, тем лучше, – отвечал Аммалат спокойно, – тем менее будет промахов,
– Зато труднее добыча!
– По мне хоть бы век ее не было: я хочу мести, ищу славы!
– Хороша лишь та слава, которая несет золотые яйца, а то, с пустыми тороками воротясь домой, стыдно жене глаза показать. Близка зима: надобно запастись хозяйством на русский счет, чтобы угощать друзей и приятелей. Выбирай себе место, Аммалат-бек: хочешь, ступай в передовые – заскакать стадо; хочешь, останься со мной назади. Я с абреками шаг за шаг буду удерживать погоню!
– Разумеется, я буду там, где больше опасности, – но что такое абреки, Джембулат?
– Это нелегко тебе растолковать. Вот видишь, многие из самых удалых наездников иногда дают зарок года на два, на три, на сколько вздумается, не участвовать ни в играх, ни в веселиях, не жалеть своей жизни в набегах, не щадить врагов в битве, не спущать ни малейшей обиды ни другу, ни брату родному, не знать завету на чужое, не боясь преследований или мести; одним словом, быть неприятелем каждого, чужим в семье своей, которого каждый может, если сможет, убить. В ауле они опасные соседи, потому что, встречаясь с ними, надо всегда держать курок на взводе. Зато в деле на них первая надежда[19].
– Для какой же выгоды, для какой причины берут на себя уздени такую обузу?
– Одни просто из молодечества, другие от бедности, третьи с какого-нибудь горя. Вон этот, например, высокий кабардинец поклялся пять лет быть абреком, после того как любовница его умерла от оспы. С тех пор лучше водить дружбу с тиграми, чем с ним. Он уж три раза ранен в оплату за кровь – а все неймется.
– Чудный обычай! Как же воротится абрек в мирную жизнь после такой жизни?
– Что тут мудреного: старое как с гуся вода. Соседы будут радехоньки, что срок ему кончился разбойничать; а он, скинув с себя абречество, будто змеиную шкурку, станет смирнее овна. У нас одни кровоместники помнят вчерашнее. Однако ночь стемнела; туман стелется над Тереком – пора за дело!
Джембулат свистнул – и свист его повторился во всех концах стана: вмиг собралась вся шайка. К ней присоединились многие уздени из окрестных мирных деревень. Потолковав с ними, где лучше переправиться, отряд в тишине двинулся к берегу. Аммалат-бек не мог надивиться молчаливости не только всадников, но и самих коней: ни один из них не ржал, не храпел и, будто остерегаясь, ставил копыто на землю. Отряд несся неслышным облаком; скоро добрались до берега Терека, который излучиною образовал в том месте мыс, и от него к противоположному берегу тянулась каменистая коса. Вода в то время была невысока и брод возможен; несмотря на это, часть отряда потянулась выше, для переправы вплавь, чтобы оттянуть казаков от главной переправы и прикрыть ее, ежели бы дали отпор. Те, которые надеялись на коней своих, прыгали прямо с берега. Другие подвязывали под передние лопатки по паре небольших мехов, надутых как пузыри. Быстрина сносила и разносила их, и каждый выходил на сушу, где находил удобное место, чтобы вскарабкаться коню. Непроницаемая завеса тумана скрывала все движение.
Надобно знать, что по всей горской прибрежной линии тянется маячная и сторожевая цепь. По всем курганам и возвышенностям стоят конные пикеты. Проезжая мимо днем, вы видите на каждом холме высокий шест с бочонком наверху: он полон смолой и соломою и готов вспыхнуть при первой тревоге. При этом шесте обыкновенно привязана казацкая лошадь – и подле нее лежит часовой. В ночь часовые удваиваются. Но, несмотря на такую предосторожность, черкесы, под буркой мрака и тумана, нередко малыми шайками протекают сквозь цепь, будто вода сквозь сито. Точно то же случилось и теперь: зная совершенно местность, белады (проводники) из мирных вели каждую партию и тихомолком миновали курганы. В двух только местах хищники, чтобы прервать линию маяков, могущих изменить им, решились снять часовых. На один пост отправился сам Джембулат, а нашему беку велел ползком выбраться на берег, обогнуть пикет сзади, сосчитать сто и потом ударить несколько раз в огниво. Сказано – сделано. Чуть подняв голову с забережья, весьма крутого, Джембулат высмотрел казака, дремлющего над фитилем, держа в поводу лошадь. Послышав шорох, часовой встрепенулся и устремил беспокойные взоры на реку. Боясь, чтобы тот не заметил его, Джембулат метнул вверх шапку и припал за кряж.
– Проклятая утица, – сказал донец. – Им и ночью масленица: плещутся да летают, словно ведьмы киевские.
Но в это время искры, мелькнувшие в другой стороне, привлекли его внимание.
«Неужто волки? – подумал он. – Бывает, они крепко сверкают глазами!»
Но искры посыпались снова – и он обомлел, вспомнив рассказы, что чеченцы дают такие сигналы, управляя ходом своих товарищей. Этот миг изумления и раздумья был мигом его погибели; кинжал, ринутый сильною рукою, свистнул – и пронзенный казак без стона упал на землю. Товарищ его был изрублен сонный, а вырванный шест с бочонком кинули в воду.
Быстро соединился весь отряд по данному знаку и разом устремился на деревню, на которую заранее предположено было напасть. Набег совершен был очень удачно, то есть вовсе неожиданно. Все крестьяне, которые успели вооружиться, были перебиты после отчаянного сопротивления; другие спрятались или разбежались. Кроме добычи, множество пленных и пленниц было наградой отваги. Кабардинцы вторгались в дома, уносили что поценнее или что второпях попадало под руку, но не жгли домов, не топтали умышленно нив, не ломали виноградников. «Зачем трогать дар Божий и труд человека», – говорили они, и это правило горского разбойника, не ужасающегося никаким злодейством, есть доблесть, которою бы могли гордиться народы самые образованные, если бы они ее имели. В час все было кончено для жителей, но не для грабителей: тревога распространилась уже по всей линии. Как утренние звезды, засверкали сквозь туман маяки – и призыв к оружию раздавался во всех сторонах.
Между тем несколько человек опытных наездников обскакали большой табун, далеко в степи ходивший. Пастух был захвачен сразу. С криком и выстрелами бросились они потом на коней с полевой стороны… кони шарахнулись – взбросили гривы и хвосты на ветер и стремглав кинулись вслед за черкесом, которого на лихом скакуне нарочно оставили на речной стороне, чтобы он был вожаком испуганного стада. Как добрый кормчий, зная и в туманах наизусть все опасности этого степного моря, черкес летел впереди прядающих коней, вился между постами и наконец, избрав самое крутое место берега, спрыгнул в Терек со всего расскака. Весь табун за ним следом – только прыскала шумная пена от падения.
Занялась заря, расступились туманы и открыли картину вместе пышную и ужасную. Главная толпа наездников влачила с собою пленных, кого при стремени, кого за седлом, со связанными руками. Плач и стон и вопль отчаяния заглушались угрозами и неистовым криком победной радости. Отягощенные добычей, замедляемые в ходу стадами рогатого скота, они медленно подвигались к Тереку. Князья и лучшие наездники в кольчугах и шлемах, блистающих, переливающихся как вода, увивались около поезда, словно молнии из сизой тучи. Вдали со всех сторон скакали линейские казаки… залегали за дубы, за кустарники – и скоро завязали перепалку с высланными против них удальцами. Там и сям сверкали, гремели выстрелы; порой падал черкес с коня. Между этим передовые успели переплавить часть стада, когда пыльное облако и топот коней возвестили, что на них несется гроза. Сот шесть горцев, предводимых Джембулатом и Аммалатом, оборотили коней, чтоб отразить нападение и дать время своим убраться за реку. Без всякого порядка, с гиком и криком пустились они навстречу казакам – но ни одно ружье не было вынуто из нагалища за спиною47, ни одна шашка не сверкала в руках: черкес до последнего мгновения не обнажает оружия. И точно, доскакав лишь на двадцать шагов, они выхватили ружья свои, выстрелили на всем скаку, забросили ружья за левую руку – и ударили в шашки. Но линейские казаки, ответив им залпом, понеслись прочь, и, разгоряченные преследованием, горцы дались в обман, столь часто самими употребляемый. Казаки навели их на скрытых в опушке егерей храброго 43-го полка. Будто из земли выросли небольшие карей48 – штыки склонились, и белый огонь посыпался наперекрест. Напрасно, спешась, хотели они занять лески и с тыла ударить на наших… подоспевшая артиллерия решила дело. Опытный полковник Коцарев, гроза чеченцев, человек, которого они равно боялись храбрости и уважали праводушие, бескорыстие, распоряжал действиями войск, и успех не мог быть сомнителен… Пушки развеяли толпы хищников, и картечь прыснула в бегущих. Поражение было ужасно: две пушки заскакали на мыс, невдали от которого черкесы кидались вплавь с берега, и пронизывали вдоль всю реку. С ревом прыгала картечь по вспененным волнам – и за каждым выстрелом несколько лошадей обращались вверх ногами, утопляя своих всадников. Жалко было видеть, как раненые цеплялись за хвосты и узды чужих коней, – погружали их и не спасали себя, – как бились усталые у крутого берега, желая выползть, обрывались – и несытая пучина уносила, поглощала их. Трупы убитых неслись между полуживыми, и кровавые полосы змеями вились по белой пене; дым катился по Тереку, и вдали снеговые вершины Кавказа, нахмуренные туманами, грозно замыкали поле боя.
Джембулат и Аммалат-бек дрались как отчаянные: двадцать раз опрокинуты и двадцать раз нападая – утомлены, но не побеждены, с сотнею удальцов переплыли они за реку, спешились, сбатовали коней[20] и завели жаркую перестрелку с другого берега, чтобы прикрыть остальных спутников. Занятые этим, они поздно заметили, что выше их плавятся за реку линейские казаки наперерез им. С радостным криком перескакивали, окружали их русские… Гибель им неизбежна.
– Ну, Джембулат, – сказал бек кабардинцу, – судьба наша кончилась… Делай сам как хочешь, но я не отдамся в плен живой. Лучше умереть от пули, чем от позорной веревки.
– Не подумаешь ли ты, – возразил Джембулат, – что мои руки сделаны для цепей? Сохрани меня Алла от такого поношения! Русские могут полонить мое тело, но душу – никогда, никак. Братцы, товарищи, – крикнул он к остальным, – нам изменило счастье – но булат не изменит: продадим дорого жизнь свою гяурам – не тот победитель, за кем поле, – тот, за кем слава, – а слава тому, кто ценит смерть выше плену!
– Умрем, умрем! только славно умрем! – закричали все, вонзая кинжалы в ребра коней своих, чтобы они не достались врагам в добычу, и потом, сдвинув из них завал, залегли за него, приготовляясь встретить нападающих свинцом и булатом.
Зная, какое упорное сопротивление встретят, казаки остановились, сбираясь, готовясь на удар. Ядра с противоположного берега иногда ложились в круг бесстрашных горцев; порой разрывало между них гранату, осыпая их землей и осколками, но они не смущались, не прятались и, по обычаю, запели грозно-унылым голосом смертные песни, отвечая по очереди куплетом на куплет.
Хор
Слава нам, смерть врагу,
Алла-га, Алла-гу!!
<Первый> полухор
Плачьте, красавицы, в горном ауле,
Правьте поминки по нас:
Вслед за последнею меткою пулей
Мы покидаем Каф-каз.
Здесь не цевница к ночному покою,
Нас убаюкает гром;
Очи не милая черной косою –
Ворон закроет крылом!
Дети, забудьте отцовский обычай:
Он не потешит вас русской добычей!
Второй полухор
Девы, не плачьте – ваши сестрицы,
Гурии, светлой толпой,
К смелым склоняя солнцы-зеницы,
В рай увлекут за собой.
Братья, вы нас поминайте за чашей,
Вольная смерть нам бесславия краше!
Первый полухор
Шумен, но краток вешний ключ!
Светел, но где он – зарницы луч?
Мать моя, звезда души,
Спать ложись, огонь туши!
Не томи напрасно ока,
У порога не сиди;
Издалека, издалека
Сына ужинать не жди.
Не ищи его, родная,
По скалам и по долам:
Спит он… ложе – пыль степная,
Меч и сердце пополам!
Второй полухор
Не плачь, о мать! твоею любовью
Мне билось сердце высоко,
И в нем кипело львиной кровью
Родимой груди молоко;
И никогда нагорной воле
Удалый сын не изменял:
Он в грозной битве, в чуждом поле,
Постигнут Азраилом, пал.
Но кровь моя на радость краю
Нетленным цветом будет цвесть;
Я детям славу завещаю,
А братьям – гибельную месть!
Хор
О братья! творите молитву;
С кинжалами ринемся в битву!
Ломай их о русскую грудь…
По трупам бесстрашного путь!
Слава нам, смерть врагу,
Алла-га, Алла-гу!50
Поражены каким-то невольным благоговением, егеря и казаки безмолвно внимали страшным звукам их песен, но наконец громкое «ура!» раздалось с обеих сторон[21].
Черкесы вскочили с воплем, выстрелили в последний раз из ружей и, разбив их о камни, кинулись на русских с кинжалами. Абреки, чтоб не разорваться в натиске, связались друг с другом поясками и так бросились в сечу – она была беспощадна – все пало под штыками русских.
– Вперед, за мной, Аммалат-бек, – вскричал неистовый Джембулат, кидаясь в последнюю для него схватку. – Вперед, для нас смерть – свобода!
Но Аммалат уже не слышал призыва: удар сзади прикладом по голове поверг его на земь, усеянную убитыми, залитую кровью.
Глава V
Из Дербента в Смоленск
1819 года, в октябре.
Два месяца, легко сказать! два века – ползло до меня, бесценная Мария, письмо твое! В это время луна дважды совершила свое путешествие около земли. Не поверишь, милая, как грустно мне жить без настоящего, даже в самой переписке. За воротами встречаешь казака, с трепетом сердца ломаешь печать, с восхищением целуешь строки, написанные милою ручкою, внушенные чистым сердцем твоим… с жадною радостью пожираешь очами письмо… в то время я счастлив, я вне себя. Но едва закрою письмо, беспокойные мысли уж тут как тут… бее это прекрасно, думается, но все это было – а я хочу знать, что есть? Здорова ль, любит ли она меня теперь по-прежнему?.. О, скоро ль, скоро ль придет блаженное время, когда ни время, ни пространство не будут разлучать нас; когда выражения любви нашей не будут простывать на почте иль, наоборот, когда не станут пылать письма любовию, может быть теперь уже остывшею!! Прости, прости меня, бесценная, – все такие черные думы – припадки разлуки. Сердце близ сердца – жених всему верит, в удалении – во всем сомневается.
Ты велишь мне, то есть ты желаешь, чтобы я описывал жизнь свою день за днем, час за часом, – о, какая бы грустная, скучная летопись была, если б я на то решился. Ты очень хорошо знаешь, злая женщина, что я не живу без тебя, – зачем же морить меня дважды и один раз несносною разлукою? Мое бытие – след цепи на бесплодном песке. Одна служба, утомляя, если не развлекая, меня, пособляет коротать время. Брошен в климат, убийственный для здоровья, в общество, удушающее душу, я не нахожу в товарищах людей, которые бы могли понять мои мысли, не нахожу в азиатцах, кто бы разделил мои чувства. Все окружающее меня так дико или так ограниченно, что берет тоска и досада. Скорей добудешь огня, ударяя лед о камень, чем занимательность из здешнего быта. Но мне святыня – твое желание, и я хоть в перечне представлю прозябание последней моей недели: она еще более разнообразна, чем другие.
Помнится, я уже писал, что мы возвращаемся с главнокомандующим из похода в Акушу. Мы свое справили: Шах-Али-хан бежал в Персию; мы сожгли множество деревень; спалили сена, хлеб, покушали мятежнических баранов, и наконец, когда снег согнал непокорных с вершин недоступных, они поклонились головою, дали заложников – и вот мы поднялись в Бурную крепость. Оттуда отряд должен был разойтись по зимним стоянкам, в том числе и мой полк в свою штаб-квартиру Дербент. Назавтра главнокомандующий хотел распрощаться с нами, отправляясь в другой поход на линию, и потому народу собралось к обожаемому начальнику более обыкновенного. Алексей Петрович вышел к нам52 из палатки, к чаю. Кто не знает его лица по портрету? Но тот вовсе не знает Ермолова, кто станет судить о нем по мертвому портрету. Мне кажется, ни одно лицо не одарено такою беглостию выражения, как его! Глядя на эти черты, вылитые в исполинскую форму старины, невольно переносишься ко временам римского величия; про него недаром сказал поэт:
Беги, чеченец, – блещет меч
Карателя Кубани;
Его дыханье – град картечь,
Глагол – перуны брани!
Окрест угрюмого чела
Толпятся роки боя…
Взглянул – и гибель протекла
За манием героя!53
Надобно видеть его хладнокровие в час битвы. Надо любоваться им в день приемов, то осыпающим восточными цветами азиатцев, то смущающим их козни замечанием (напрасно прячут они свои коварные замыслы в самые сокровенные складки сердца – его глаз преследует, разрывает их, как червей, и за двадцать лет вперед угадывает их мысли и дела), то дружески открыто приветствующим храбрых офицеров своих, то с величавой осанкою пробегающим ряды гражданских чиновников, приехавших в Грузию на ловлю чинов или барышей. Забавно глядеть, как все, у которых нечиста совесть, мнутся, краснеют, бледнеют, когда он вперит в них пронзительный, медленный взор свой, – вы, кажется, видите, как перед глазами у виноватого проходят взяточные рубли, а в памяти – все его бездельничества… видите, какие картины ареста, следствия, суда, осуждения и наказания рисует им воображение, забегая в будущее. Зато как он умеет отличить достоинство одним взором, одною улыбкою, наградить отвагу словом, которое идет прямо от сердца и прямо к сердцу, – ну, право, дай Бог век жить и служить с таким начальником.
Но если любопытно видеть его на службе, как приятно быть с ним запросто в беседе, куда каждый из людей, отличных чином, храбростию или умом, имеет свободный доступ; там нет чинов, нет завета; всяк говори и делай что хочешь, потому что только те, которые думают и делают как должно, составляют общество. Алексей Петрович шутит со всеми, как товарищ, учит, как отец, – он не боится, что его увидят вблизи.
По обыкновению, во время чаю один из адъютантов его читал в этот раз вслух записки наполеоновского похода в Италию – эту поэму военного искусства, как называет ее главнокомандующий. Дивились, рассуждали, спорили. Замечания Алексея Петровича были светозарны, поразительны истиною. Потом пошли гимнастические игры: беганье, прыганье через огонь, пытанье силы разными образами. Вид и вечер были прелестнейшие: лагерь раскинут был обок Тарков. Над ними висит крепость Бурная, за которую склонялось солнце, – под скалою дом шамхала – потом по крутому склону город, объемлющий лагерь, и к востоку необозримая степь Каспийского моря. Татарские беки, черкесские князья, казаки с разных рек необъятной Руси, аманаты с разных гор54 мелькали между офицерами. Мундиры, чухи, кольчуги перемешаны были живописно; песельники, музыка гремели посреди стана, и солдаты, гордо заломив шапки набекрень, толпами гуляли вдали. Все пленило пестротою, изумляло разнообразием, радовало свежестью, силою боевой жизни.
Капитан Бекович55 похвалился, что он отсечет кинжалом[22] голову буйволу, и сейчас привели две пары этих нескладных животных. Держали заклады, спорили, сомневались – капитан улыбался: взмахнул левою рукою огромный кинжал – и рогатая голова покатилась к ногам удивленных зрителей. Но за удивлением родилось желание сделать то же: давай рубить – все напрасно. В свите Алексея Петровича было много силачей и удальцов из русских и азиатцев, – но для этого нужна была не одна сила.
– Дети вы дети! – сказал главнокомандующий и встал – велел принести свою саблю, свой меч, не ударяющий дважды, как говаривал он. При тащили огромную тяжелую саблю – и Алексей Петрович, как ни был уверен в силе своей, но, подобен Улиссу в «Одиссее», намазывающему елеем лук свой, которого никто не мог натянуть56, сперва попытал лезвие, раза три махнул саблей в воздухе – и потом уже приступил к делу… Закладчики не успели ударить по рукам, как голова буйвола вонзилась рогами в землю57. Удар был так быстр и верен, что туловище несколько минут стояло на ногах и потом тихо, тихо рухнуло. Крик изумления вырвался у всех; Алексей Петрович хладнокровно посмотрел, не иззубрилась ли сабля, стоящая нескольких тысяч, и подарил ее в знак памяти капитану Бековичу.
Мы еще жужжали между собою, когда к главнокомандующему явился офицер линейских казаков с донесением от полковника Коцарева, который оставался на линии.
Прочитав рапорт, Алексей Петрович разгладил чело.
– Коцарев славно пощипал горцев, – сказал он нам. – Бездельники эти сделали набег за Терек, далеко прорвались за линию, пограбили одну деревню – но не только потеряли обратно полон, но все легли жертвою безрассудного молодечества.
Расспросив подробно есаула, как было дело, он велел привести пленников, которых нашли ранеными и оживили. Пятерых привели перед главнокомандующего.
Туча налетела на его чело, когда он их увидел; брови сошлись, очи Сверкнули.
– Мерзавцы! – сказал он узденям. – Вы три раза присягали не разбойничать и три раза нарушали присягу. Чего недостает вам? лугов ли? стад ли? защиты ли того и другого? Так нет, вы хотите брать с русских награды за имя мирных и добычу, наводя черкесов на наши деревни, разбойничая с ними вместе! Повесить их, – сказал он грозно, – повесить на собственных воровских арканах. Пусть только бросят жребий: четвертому воля… велеть ему рассказать своим товарищам, что я приду научить их держать слово и замирить по-своему.
Узденей вывели.
Оставался один татарский бек – и мы лишь тогда обратили на него внимание. Это был молодой человек, лет двадцати трех, красоты необыкновенной, строен, как Аполлон Бельведерский. Он слегка поклонился главнокомандующему, когда тот подошел к нему, приподнял шапку и снова принял свою гордую, хладнокровною осанку: на лице его была написана непоколебимая покорность к судьбе своей.
Главнокомандующий смотрел ему в очи грозными своими очами – но тот не изменился в лице, не опустил ресниц.
– Аммалат-бек, – сказал наконец ему Алексей Петрович, – помнишь ли ты, что ты русский подданный? Что над тобой стоят русские законы?
– Мне нельзя было забыть этого, – отвечал бек, – если б в них я нашел защиту прав моих, теперь бы не стоял перед вами виновником!
– Неблагодарный мальчик! – возразил главнокомандующий, – отец твой, ты сам враждовал против русских… Будь это при персидском владении, семьи твоей не осталось бы праха, но наш государь был так великодушен, что вместо казни даровал тебе владение. И чем заплатил ты за милость – тайным ропотом и явным возмущением! Этого мало: ты принял и скрыл у себя заклятого врага России, ты позволил ему при своих глазах предательски изрубить русского офицера! Со всем тем, если б ты принес покорную голову, я бы простил тебе за твою молодость, для обычаев ваших. Но ты бежал в горы и вместе с Султан-Ахмет-ханом злодействовал в границах русских, был разбит и снова сделал набег с Джембулатом. Ты должен знать, какая судьба ждет тебя.
– Знаю, – отвечал Аммалат-бек хладнокровно. – Меня расстреляют.
– Нет; пуля – слишком благородная смерть для разбойника, – произнес разгневанный генерал. – Арбу вверх оглоблями и узду на шею – вот тебе достойная награда.
– Все равно как ни умереть, только бы умереть скоро, – возразил Аммалат, – я прошу одной милости – не терзать меня судом – это тройная смерть.
– Ты стоишь сотни смертей, дерзкий! но я обещаю тебе, так и быть, что завтра же тебя не станет. Нарядить военный суд, – сказал главнокомандующий, обращаясь к начальнику своего штаба. – Дело ясное, улики налицо – и потому кончить все в одно заседание к моему отъезду.
Он махнул рукою, и осужденного вывели.
Участь прекрасного юноши тронула всех. Все шептались о нем, все его жалели, тем более что не было средств его спасти. Каждый очень хорошо знал и необходимость наказания за двукратную измену и неизменную волю Алексея Петровича в делах такой гласности – а потому никто не осмеливался просить за несчастного. Главнокомандующий был необыкновенно угрюм во весь остаток вечера; гости разошлись рано. Я решился замолвить за него слово, – авось, думаю, выпрошу какое-нибудь облегчение. Я отдернул полу внутренней палатки – и потихоньку вошел к Алексею Петровичу. Он сидел один, подпершись обеими руками о стол, на котором лежало недописанное им прямо набело донесение к государю. Алексей Петрович знал меня еще свитским офицером; мы знакомы с ним с Кульмского поля…58 Здесь он был всегда ко мне очень хорош – и потому посещение мое не могло для него быть новостию. Значительно улыбнувшись, он сказал:
– Вижу, вижу, Евстафий Иванович, ты крадешься под мое сердце! Обыкновенно ты входишь ко мне как на батарею, а теперь чуть ступаешь на цыпочках, – это недаром: я уверен, что с просьбой за Аммалата!
– Вы угадали, – отвечал я Алексею Петровичу, не зная, с чего начать.
– Садись же и потолкуем о том, – произнес он… потом, помолчав минуты две, дружески сказал мне: – Я знаю, что про меня идет слава, будто жизнь людей для меня игрушка, кровь их – вода. Самые жестокие завоеватели скрывали под личиной милосердия кровожадность свою. Они боялись ненавистной молвы, совершая ненавистные дела, – но я – я умышленно создал себе такую славу, нарочно облек себя ужасом. Хочу и должен, чтобы имя мое стерегло страхом границы наши крепче цепей и крепостей, чтобы слово мое было для азиатцев верней, неизбежнее смерти. Европейца можно убедить, усовестить, тронуть кротостию, привязать прощением, закабалить благодеяниями – но все это для азиатца несомненный знак слабости, и с ними я, прямо из человеколюбия, бываю жесток неумолимо. Одна казнь сохранит сотни русских от гибели и тысячи мусульман от измены. Евстафий Иванович! Многие могут не верить словам моим, потому что всякий скрывает природную злость и личную месть под отговорками в необходимости… всякий с чувствительною ужимкою говорит: «Право, я бы сердечно хотел простить – но рассудите сами: могу ли я? Что после этого законы? Где общая польза?» Я никогда не говорю этого… на глазах моих не видят слезинки, когда я подписываю смертные приговоры, но сердце у меня обливается кровию!
Алексей Петрович был тронут… в волнении он прошелся несколько раз по палатке – потом сел и продолжал:
– Никогда со всем тем не была столь тяжка для меня обязанность наказывать, как сегодня. Кто, подобно мне, потерся между азиатцами, тот, конечно, перестал верить Лафатеру59 и прекрасному лицу верит не более как рекомендательному письму; но взгляд, но поступь и осанка этого Аммалата произвели на меня необыкновенное впечатление – мне стало жаль его.
– Великодушное сердце – лучший вдохновитель разума, – сказал я.
– Сердце должностного человека, любезный друг, должно быть навытяжку перед умом. Конечно, я могу простить Аммалата, но я должен казнить его. Дагестан еще кипит врагами русских, несмотря на поклоны и уверения в преданности; самые Тарки готовы подняться при первом ветре с гор – надобно пересечь эти ковы казнию и показать татарам, что никакая порода не спасает преступника, что все равны перед лицом русского закона. Прости же я Аммалата – как раз все родственники наказанных прежде станут славить, что Ермолов побоялся шамхала.
Я заметил, что уважение к обширному родству его будет иметь доброе влияние на край. Особенно шамхал…
– Шамхал – азиатец, – прервал меня Алексей Петрович, – он будет радехонек, что этот претендент на шамхальство отправится в Елисейские. Впрочем, я столь же мало забочусь угадывать или угождать желаниям его родственников…
Видя, что главнокомандующий поколебался, я стал его упрашивать убедительнее.
– Заставьте меня служить за троих, – говорил я, – не отпускайте этот год в отпуск, только помилуйте этого юношу. Он молод, и Россия может найти в нем верного слугу… великодушие никогда не падает напрасно.
Алексей Петрович качал головою.
– Я уже сделал много неблагодарных, – сказал он, – впрочем, так и быть: я его прощаю, – и не вполовину: это не моя манера. Спасибо тебе, что ты помог мне решиться быть добрым, чтобы не сказать слабым. Только помни мое слово: ты хочешь взять его к себе, – не доверяйся же ему, не отогревай змеи на сердце.
Я был так рад успехом, что, поблагодаря наскоро главнокомандующего, побежал в палатку, в которой содержался Аммалат-бек. Трое часовых окружали ее – в средине горел фонарь. Вхожу; пленник лежит на бурке: на лице сверкают слезы. Он не слышал мой приход, так глубоко погружен был в думу: кому весело расстаться с жизнию. Я был счастлив, что могу обрадовать его в такую горькую минуту.
– Аммалат! – сказал я. – Аллах велик, а сардар милостив, – он дарует тебе жизнь!
Восхищенный осужденник вскочил, хотел было говорить, но дух занялся в груди его – и вдруг за тем тень сомнения покрыла его лицо.
– Жизнь… – произнес он. – Я понимаю это великодушие. Истомить человека в душной тюрьме без света и воздуха или заслать его в вечную зиму, в нерассветающую ночь; погребсти его заживо в утробе земли и в самой могиле мучить каторгою… отнять у него не только волю действовать, не только удобства жить, но даже средства говорить с родными о печальной судьбе своей; запрещать ему не только жалобу, но даже ропот на ветер, – и это называете вы жизнию, и этою-то бесконечною пыткою хвалитесь как неслыханным великодушием! Скажите генералу, что я не хочу такой жизни, что я презираю такую жизнь!
– Ты ошибаешься, Аммалат, – возразил я, – ты прощен вполне; останешься тем же, чем был прежде; господин своим поместьям и поступкам, – вот твоя сабля. Главнокомандующий уверен, что ты отныне будешь обнажать ее только за русских. Предлагаю тебе одно условие: поживи со мной, покуда перепадет молва о твоем похождении. Ты будешь у меня как друг, как брат родной.
Это изумило азиатца. Слезы брызнули у него из глаз.
– Русские меня победили… – вскричал он. – Простите, полковник, что я думал худо обо всех вас. С этой поры я верный слуга русскому царю, верный друг русским, душой и саблею. Сабля моя, сабля! – примолвил он, разглядывая драгоценный клинок свой, – пускай эти слезы смоют с тебя русскую кровь и татарскую нефть![23] Когда и чем могу заслужить я за жизнь, за волю!
Я уверен, милая Мария, ты сохранишь для меня за это дело один из самых сладостных поцелуев своих. Всегда, всегда поступая, чувствуя великодушно, я утешал себя мыслию: Мария меня похвалит за это… Но когда ж это будет, бесценная? Судьба нам мачеха. Твой траур длится… а мне главнокомандующий решительно отказал в отпуске, и я не сержусь, хоть очень досадую. Полк мой расстроен как только можно вообразить, – к тому же мне поручены постройки новых казарм и поселение женатых рот. Уезжай я на месяц, и все пойдет вверх дном… остаюсь, но что стоит эта жертва моему сердцу!
Вот уже мы три дни в Дербенте. Аммалат живет со мною. Молчит, грустит, дичится… но страх занимателен, несмотря на это. Он хорошо говорит по-русски – я заставил его учиться грамоте. Понятливости необычайной; со временем я надеюсь сделать из него премилого татарина.
(Окончание письма не касается нашего предмета.)
Из Дербента в Смоленск
…Любимец твой Аммалат, милая Мария, скоро совсем обрусеет. Татарские беки первою степенью образования считают обыкновенно беззазорное употребление вина и свинины – я, напротив, начал перевоспитывать душу Аммалата. Выказываю, доказываю ему, что есть дурного в их обычаях, что хорошего в наших; толкую истины всеместные и всевечные. Читаю с ним, приохочиваю к письму и с радостию вижу, что он пристрастился к чтению и к сочинению. Говорю «пристрастился», потому что каждое его желание, прихоть, воля есть страсть пылкая, нетерпеливая. Трудно вообразить, еще труднее понять европейцу вспыльчивость необузданных или, лучше сказать, разнузданных страстей азиатца, у которого с самого младенчества одна воля была границею желаний. Наши страсти – домашние животные иль хоть и дикие звери, но ручные, смирные, выученные плясать по веревке приличий, – с кольцом в носу, с обстриженными когтями; на востоке они вольны, как тигры и львы. Любопытно взглянуть на лицо Аммалата, каким заревом загорается оно при первом противоречии, каким огнем загораются очи при каждом споре… но зато, едва почувствует он свою ошибку, он краснеет, бледнеет, готов плакать. «Я виноват, – говорит он, – прости меня, тахсырумдан гичь (уничтожь вину), забудь, что я виноват и что ты простил меня!» Он имеет предоброе сердце, но сердце, готовое вспыхнуть и от солнечного луча и от адской искры. Природа на зубок подарила ему все, чтоб быть человеком в нравственном и физическом смысле, но предрассудки народные и небрежность воспитания сделали все, чтоб изурочить, изувечить эти дары природы60. Ум его – чудное смешение всяких несообразностей, мыслей самых нелепых и понятий самых здравых. Иногда он чрезвычайно быстро схватывает предметы отвлеченные, когда их просто излагают ему, и нередко упорно противится самым близким, самым очевидным истинам, оттого что первые для него вовсе новы, а другие заслонены уже от него прежними верованиями и впечатлениями. Начинаю верить, что гораздо легче строить вновь, чем перестраивать старое.
Но отчего грустен и рассеян Аммалат наш? Он делает большие успехи во всем, что не требует последовательного размышления, постепенного развития – но когда дело коснется до далеких выводов, ум его походит на короткое ружье, которое бьет метко и сильно – только недалеко… Но полно, ум ли его виноват в том – не поглощено ли его внимание чем-нибудь другим?.. Для двадцать третьего года возраста легко можно сказать, что такое это другое. Иногда он, кажется, внимательно слушает мои рассказы, – спрошу ответа, – а он будто с облаков падает; иногда застаю, что слезы градом катятся у него по лицу, говорю ему, – не видит и не слышит. В прошлую ночь, наконец, он метался в беспокойном сне, и слово: «Селтанет, Селтанет (власть, власть)!» – вырывалось часто из уст его. Ужели властолюбие может так мучить юное сердце? Нет, нет, иная страсть волнует душу, возмущает ум Аммалата… Мне ли сомневаться в признаках божественной болезни – любви! Он влюблен, он страстно влюблен… но в кого? О, я узнаю это… дружба любопытна, как женщина.
Глава VI
…Спал ли я до сих пор, или теперь во сне мечтаю?.. Так этот-то новый мир называется мыслию! Прекрасный мир! Ты долго был для меня мутен и слитен, как Млечный Путь, который, говорят, составлен из тысячи тысяч сверкающих звезд! Мне кажется, я всхожу на гору познания из мрака и тумана… каждый шаг открывает мне зрение шире и далее… грудь моя дышит свободнее, я гляжу в очи солнцу… гляжу вниз – облака шумят под ногами!., досадные облака! С земли вы мешаете видеть небо; с неба разглядывать землю!
Дивлюсь, как самые простые вопросы отчего и как не западали мне в голову прежде? Весь Божий свет, со всем, что в нем есть худого и хорошего, виден был в душе моей, будто в море, – только я знал о том столько же, как море или как зеркало. На памяти, правда, сохранялось многое, но к чему мне служило это? Понимает ли сокол, для чего ему надевают на глаза шапочку? понимает ли конь, для чего куют его? Понимал ли я, почему в одном месте необходимы горы, а в другом степи? – там вечные снега, а там океаны песков; для чего нужны бури и трепетания земли? И ты, всего чуднейший человек!., мне и на мысль не вспадало, чтобы следить тебя от колыбели твоей, повешенной на кочевом вьюке, до города пышного, какого я не видал61, но каким, по слухам, восхищен!.. Сознаюсь, что я пленен уже одною оболочкою книги, не постигая смысла таинственных букв… но Верховский не только манит меня к познанию, но дает и средства присвоить их. С ним, как с матерью молодая ласточка, пытаю новые крылья… Даль и вышина еще дивят меня, но не ужасают. Придет пора, и я облечу поднебесье!..
…Однако счастливей ли я с тех пор, как Верховский и его книги учат меня мыслить? Бывало, борзый конь, дорогая сабля, меткое ружье радовали меня, как ребенка… Теперь, познав преимущества ума над телом, для меня смешна, чуть не жалка прежняя моя похвальба стрельбой и скачкою! Стоит ли посвящать себя ремеслу, в котором последний широкоплечий нукер может победить меня?.. Стоит ли полагать славу и счастье в удальстве, которого может лишить первая рана, первый неловкий скачок!! У меня вырвали эту гремушку; но чем заменили ее?., новыми нуждами, новыми желаниями, коих не может ни утомить, ни утолить сам Алла. Я считал себя важным человеком – я убедился теперь в своем ничтожестве. Прежде за памятью моего деда или прадеда начиналась для меня ночь прошлого, со своими сказками и грезами преданий… Кавказ запирал свет мой – но я спокойно спал в этой ночи, я полагал: быть известным в Дагестане – вершина знаменитости – и что же? История населила прежнюю пустыню мою народами, крушившими друг друга со славою, героями, изумлявшими народы доблестию, до которой никогда нам не удастся возвыситься, – и где они? полузабыты, стлели во прахе веков. И что ж? Описание земель показало мне, что татары занимают уголок света, что они жалкие дикари в сравнении с европейскими народами и что о целом составе их, не только об их наездниках, никто не думает, не знает, да и знать не хочет! Стоит ли же труда быть светляком между червями? Стоило ли напрягать ум, чтобы убедиться в такой горькой истине!
Что мне пользы в познании сил природы, когда я не могу переменить души своей… повелевать своему сердцу! Меня учат заграждать море, а я не могу удержать слезы… отвожу молнию от кровли, а не могу стряхнуть кручины!! Не довольно ли я был несчастлив одними чувствами, чтобы накликать мыслей, как ястребов! Много ли выигрывает больной, узнав, что болезнь его неисцелима!.. Мучения безнадежной любви моей стали тонее, острее, разнообразнее с тех пор, как прояснел мой разум.
Нет, я несправедлив. Чтение сокращает мне долгие, как зимняя ночь, часы разлуки. Приучив меня ловить на бумагу перелетные мысли, Верховский дал мне отраду сердечную. Когда-нибудь свижусь я с Селтанетою – и покажу ей эти страницы, на которых имя ее чаще, нежели имя Аллы в Коране… «Вот летопись моего сердца, – скажу я ей, – погляди сюда: в такой-то день я то-то о тебе думал, в такую-то ночь я вот как видел тебя во сне! По этим листкам, как по четкам алмазным, ты можешь счесть мои воздыхания, мои по тебе слезы. О милая, милая! ты не раз улыбнешься моим причудливым мечтам; они дадут надолго пищу разговорам нашим!.. Но возмогу ли я вспоминать прошлое подле тебя, очаровательница?.. нет, нет… все исчезнет тогда предо мною и вокруг меня, кроме настоящего блаженства: быть с тобою! О, как жарка и светла будет душа моя – растопленное солнце потечет во мне – я сам буду плавать в небе, как солнце! Забвение подле тебя сладостнее самой высокой мудрости!»
Читаю рассказы о любви… о прелестях женщин, об изменах мужчин, и ни одна из них не приблизится к моей Селтанете красотою души и тела – ни на одного из них не похож сам я. Завидую любезности, уму любовников книжных – но зато как вяла, как холодна любовь их! – это луч месяца, играющий по льду! Откуда набрались европейцы фарсийского пустословия62, этого пения базарных соловьев, этих цветов, варенных в сахаре? Не могу верить, чтобы люди могли пылко любить и плодовито причитать о любви своей, словно наемная плакальщица по умерших. Расточитель раскидывает сокровище на ветер горстями; любитель хранит, лелеет его, зарывает в сердце кладом!
Я молод – и спрашиваю, что такое дружба? Имею друга в Верховском, друга нежного, искреннего, предупредительного, – и не есмь друг! Чувствую, упрекаю себя, что не ответствую ему как должно, как он заслуживает… но в моей ли это воле?.. В душе нет места никому, кроме Селтанеты; в сердце нет иного чувства, кроме любви.
…Нет, не могу читать, не могу понимать, что толкует мне полковник!.. Я обманывал себя, воображая, что мне доступна лестница наук… я утомлен на первых ступенях, теряю терпение на первом затруднении… путаю нити, вместо того чтобы развивать их, дергаю, рву, – и добыча моя ограничивается немногими обрывками. Обнадеживание полковника принял я за собственные успехи… но кто, но что мешает этим успехам?.. То, что составляет счастие и несчастие моей жизни, – любовь. Во всем, везде вижу и слышу Селтанету, и часто одну только Селтанету. Устранить ее от мысли моей почел бы я святотатством; да если б и захотел, то не мог бы исполнить этой решимости. Могу ли я видеть без света? Могу ли дышать без воздуха? А Селтанета мой свет, мой воздух, жизнь моя, душа моя!!
…Рука моя дрожит, сердце рыщет в груди… Если бы я писал кровью моею, она бы сожгла бумагу. Селтанета! Образ твой преследует меня во сне и наяву! Воображение твоих прелестей опаснее для меня их близости! Дума, что я никогда не буду владеть ими, касаться их, может быть, видеть их, бросает меня в страстную тоску – я вместе таю и неистовствую!.. Припоминаю себе каждую милую черту твоего лица, каждое положение твоего стройного стана… и эту ножку – печать любви, и эту грудь – гранату блаженства!.. Память о твоем голосе заставляет дрожать душу, как струну, готовую порваться от высокого звука… А поцелуй твой! поцелуй, в котором я выпил твою душу!., он сыплет розы и уголья на одинокое ложе мое… я сгораю; жаркие уста томятся жаждою лобзания, рука хочет обвить стан твой, коснуться твоего колена!.. О, приди… прилети… чтобы я умер от наслаждения, как теперь умираю от скуки!..
Полковник Верховский, желая всеми способами рассеять печаль Аммалата, вздумал потешить его охотою на кабанов, любимым занятием дагестанских беков. На зов съехалось их человек двадцать, каждый со своими нукерами, каждый желая попытать счастья, прогарцевать на поле, похвалиться удальством.
Седой декабрь осыпал уже верхи окрестных гор порошею. По улицам Дербента кое-где лежал ледяной череп63, но сверх его густыми волнами катилась грязь по зубристой мостовой. Лениво плескало море в затопленные башни сходящих в воду стен. Сквозь туман свистели крыльями стада стрепетов и дудаков; вереницы гусей с жалобным криком мелькали над валами: все было мрачно и угрюмо; даже глупо-несносный рев ослов, навьюченных хворостом на продажу, походил на плач по красной погоде. Присмирелые татары сидели на базарах, завертывая носы свои в шубы.
Но такая-то погода и мила охотникам. Едва городские муллы прокричали молитву, полковник с несколькими из своих офицеров, с городскими беками и Аммалатом ехал, или, лучше сказать, плыл, верхом по грязи. Поворотив к северу, все они выехали за город в главные ворота (Кырхлар-капи), убитые железными пластами. Дорога, ведущая к Таркам, бедна видами: кое-где вправо и влево гряды марены…64 потом обширные кладбища и, только к морю, редкие виноградники. Зато виды сего предместия гораздо величавее южных. Влево, на скалах, виднелись Кейфары, казармы Куринского полка, а по обеим сторонам дороги лежали в живописном беспорядке огромные камни, скаченные, сброшенные и оторванные силой вод с высот нагорных.
Лес, осыпанный инеем, густел по мере приближения к Велликенту, и на каждой версте свита Верховского возрастала прибывающими беглярами и агаларами[24].
Облава была закинута влево, и скоро послышали крик гаяльщиков65, собранных с окрестных деревень. Охотники растянули цепь, кто на коне, кто спешась; скоро показались и кабаны.
Тенистые леса Дагестана, изобилующие дубами, искони служат притоном многочисленным стадам вепрей, и хотя татары, как мусульмане, считают грехом прикоснуться к нечистому животному, не только есть его мясо, но истреблять их почитают они делом достойным, по крайней мере они учатся на них стрелянью и с тем вместе показывают свое удальство, ибо преследование вепрей сопряжено с большими опасностями, требует искусства и твердости духа.
Растянутая цепь ловцов занимала большое пространство. Самые бесстрашные стрелки выбирали места самые уединенные, чтобы ни с кем не делить славы удачи и для того, что на безлюдье вернее бежит зверь. Полковник Верховский, надеясь на свои исполинские силы и меткий глаз, забрался далеко в чащу и остановился на полянке, на которой сходилось много кабаньих следов. Один-одинехонек, прислонясь к суку обрушенного дуба, нажидал он добычи. То вправо, то влево от него раздавались выстрелы; порой мелькал вдали кабан за деревьями… наконец послышался треск валежника, и скоро потом показался необыкновенной величины вепрь, который несся через поляну, как из пушки пущенное ядро.
Полковник приложился – пуля свистнула, и раненый вепрь вдруг остановился, как будто от изумления, – но это было на миг; он с остервенением кинулся на выстрел; с оскаленных клыков его дымилась пена, глаза горели кровию, и он с визгом близился к неприятелю. Но Верховский не смутился, нажидая его ближе… в другой раз брякнул курок… осечка! отсыревший порох не вспыхнул… Что оставалось делать охотнику? У него не было даже кинжала на поясе… Бегство было бы напрасно; вблизи, как нарочно, ни одного толстого дерева… только один сухой сук возвышался от лежачего подле него дуба, и Верховский бросился на него как единственное средство спасти себя от гибели. Едва успел он взобраться аршина на полтора от земли, рассвирепелый кабан ударил в сук клыком своим… затрещал сук от удара и от тяжести, на нем висящей; напрасно Верховский порывался вскарабкаться выше по обледенелой коре: руки его скользили, он сползал, а зверь не отходил от дерева, грыз его, поражал его своими острыми клыками, четвертью ниже ног охотника… С каждым мгновением ожидал Верховский, что он падет в жертву, – и голос его умирал в пустой окружности напрасно… Нет, не напрасно!
Конский топот раздался вблизи, и Аммалат-бек прискакал как исступленный, с поднятою шашкою. Завидя нового врага, вепрь обратился к нему навстречу, но прыжок коня в сторону решил бой – удар Аммалата поверг его на землю.
Избавленный Верховский спешил обнять своего друга, но тот в запальчивости еще рубил, терзал убитого зверя.
– Я не принимаю незаслуженной благодарности! – отвечал он наконец, уклоняясь от объятий полковника. – Этот самый кабан, в глазах моих, растерзал одного табасаранского бека, моего приятеля, когда он, промахнувшись по нем, занес ногу в стремя. Я загорелся гневом, увидя кровь товарища, и пустился в погоню за кабаном. Чаща помешала мне насесть на него по следу – я было совсем потерял его – и вот Бог привел меня достичь это проклятое животное, когда оно готово было поразить еще благороднейшую жертву – вас, моего благодетеля.
– Теперь мы квиты, любезный Аммалат! не поминай про старое. Сегодня же отомстим мы зубами этому клыкастому врагу за страх свой. Я надеюсь, ты не откажешься прикушать запрещенного мясца, Аммалат?
– И даже запить его шампанским, полковник. Не во гнев Магомету, я лучше люблю закаливать душу в пене вина, чем в правоверной водице.
Облава обратилась в другую сторону… вдали слышались гай и крик и бубны гонящих татар; в другой стороне по временам раздавались выстрелы. Полковнику подвели коня, и он, любуясь надвое рассеченным кабаном, потрепал по плечу Аммалата, примолвив: «Молодецкий удар!»
– В нем разразилась месть моя, – возразил тот, – а месть азиатца тяжка!
– Ты видел, ты испытал, Аммалат, – сказал ласково полковник, – как мстят за зло русские, то есть христиане, – будь же это не в упрек, а в урок тебе!
И оба поскакали к цепи.
Аммалат-бек был чрезвычайно рассеян: он то не отвечал, то невпопад отвечал на вопросы Верховского, подле которого ехал, поглядывая во все стороны… Тот, думая, что он, как горячий охотник, занят поисками, оставил его и поехал далее. Наконец Аммалат увидел, кого ждал так нетерпеливо… к нему навстречу несся эмджек его, Сафир-Али, весь забрызган грязью, на дымящейся лошади. С восклицаниями: «Алейкюм-селам» – оба они спрыгнули с коней и сжали друг друга в объятиях.
– Итак, ты был там, ты видел ее, ты говорил с нею, – вскричал Аммалат, снимая с себя кафтан и задыхаясь от торопливости. – По лицу вижу, что ты привез добрые вести, и вот тебе моя новая чуха за это[25]. Живы ли, здоровы ли, любят ли меня по-прежнему?
– Дай образумиться, – возразил Сафир-Али, – дай хоть дух перевести – ты насыпал столько расспросов, и сам я везу столько поручений, что они столпились, как бабы у дверей мечети, и растеряли свои башмаки. Во-первых, по твоему желанью, а по моему летанью, я был в Хунзахе. Пробрался так тихо, что не спугнул ни одного дрозда с дороги. Султан-Ах-мет-хан здоров и дома. Он расспрашивал о тебе, преважно качал головою и спросил, не нужно ли тебе веретена рассучивать дербентский шелк. Ханша посылает чох селаммум (много приветствий) и столько же сладких пирожков. Я выбросил их на первом привале: все изломались, проклятые. Сурхай-хан, Нуцал-хан…
– Черт их побери одним разом… Что же Селтанета?
– Ага, наконец дотронулся до сердечной мозоли. Селтанета, милый мой, хороша, как небо с звездами, – только на этом небе я видел зарницу лишь тогда, как о тебе разговаривал. Она чуть не кинулась мне на шею, когда наедине я открыл ей причину моего приезда. Я насказал ей верблюжий вьюк от тебя приветствий… уверил, что ты с любви к ней чуть жив, бедняга… а она так и заливается слезами!
– Милая, добрая душа!! Что же велела мне сказать она?
– Спроси лучше, чего не велела! Говорит, что, с тех пор как ты уехал, она и во сне не радовалась; что зимний снег выпал на ее сердце – и одно только свидание с милым, как вешнее солнце, может растопить его… Впрочем, если б мне дождаться конца ее наказов, а тебе моих пересказов, то мы оба приехали бы в Дербент с седыми бородами. Со всем тем, она чуть не выгнала меня, торопя, – ей хотелось, чтобы ты ни минуты не сомневался в ее любви!
– Бесценная девушка… Не знаешь ты – да и сам я не умею высказать, какое блаженство мне быть с тобой, какое мученье быть в разлуке, – не видеть тебя.
– То-то и есть, Аммалат, – она крепко скучает, что не может наглядеться на ненаглядного; говорит: «Неужели он не может приехать хоть на денек, хоть на часок, хоть на минуточку?»
– Взглянуть на нее и потом умереть готов бы я!
– Эй, жить захочется, когда на нее взглянешь! Присмирела она против прежнего, а все еще такой живчик, что взглянет, так кровь заиграет!
– Рассказал ли ты ей, почему нельзя мне выполнить ее воли и своего страстного желания?
– Насказал таких небылиц, что ты бы подумал, будто я стихотворец персидского шаха. Расплакалась Селтанета, словно горный ключ после дождя. Рюмит, да и все тут.
– Зачем же приводить ее в отчаяние! Нельзя теперь – не значит еще: навек невозможно. Знаешь женское сердце, Сафир-Али: конец надежде – для них конец любви!
– Сеешь слова на ветер, джаным (душа моя). Надежда у влюбленных – бесконечный клубок. С холодной кровью и глазам не верится, а полюбишь – так и чудесам станешь верить. Я думаю, Селтанета надеялась бы, что ты из гроба прискачешь к ней, не то что из Дербента.
– Чем лучше гроба для меня этот Дербент? Не тем ли, что сердце чувствует нетление и не может избежать его? Здесь один труп мой – душа далеко, далеко!
– Кажется, и ум у тебя нередко изволит гулять невесть где, любезный Аммалат! Чем тебе не житье у Верховского – волен и доволен: любим как брат меньшой, лелеем словно невеста. Пусть так: мила твоя Селтанета – да ведь и Верховских немного. Разве нельзя принести в жертву дружбе хоть частичку любви?
– Разве я этого не делаю, Сафир-Али? Но, если б ты знал, чего мне это стоит: все равно если б я рвал на клочки сердце свое. Дружба – прекрасное дело, но она не заменит любви.
– По крайней мере она может утешить ее, может быть, помочь ей. Говорил ли ты об этом с полковником?
– Никак не решусь. Слова замирают на губах, когда вздумаю завести речь о любви моей. Он так рассудителен, что мне совестно скучать ему своим безумием; он так добр, что я не смею употребить во зло его терпения. Правду молвить, он своею откровенностию вызывает, ободряет мою. Вообрази себе, что он влюблен от самого младенчества в женщину, с которой вырос, и верно бы женился на ней, если б по ошибке его не поставили в списке убитых во время войны с фиренгами66. Невеста его поплакала – и, разумеется, ее выдали замуж. Вот он летит на родину – и находит свою милую – женою другого. Что ж бы ты думал, что бы я сделал в таком случае – вонзил кинжал в грудь похитителя сокровища… увез бы ее на край света, чтобы хоть час, хоть миг повладеть ею!., или хоть в мести насладиться за отнятое счастие! – ничего не бывало. Он узнал, что соперник его предобрый и предостойный человек. Он имел хладнокровие подружиться с ним, имел терпенье быть часто с прежнею невестою и ни словом, ни делом не изменить новому другу со старою подругою!
– Редкий человек, если это не сказка, – молвил Сафир-Али с чувством, бросив повода, – твердый друг!
– Зато какой ледяной любовник! Этого мало. Чтоб избавить от толков обоих супругов, он уехал сюда на службу. Недавно, к счастию ли, к несчастий) ли его, – умер его приятель-соперник… и что-ж? Ты думаешь, он бросился скакать в Россию? Нет, служба удержала его. Главнокомандующий сказал ему несколько слов, уверил, что он необходим здесь еще на год, и он остался, питая любовь свою бумагою. Может ли такой человек, со всей своей добротою, понять страсть мою!.. Притом между нами столько разницы в летах, в понятиях! Он убивает меня своим недоступным достоинством; и все это холодит мою дружбу, вяжет искренность.
– Ты большой чудак, Аммалат: за то не любишь Верховского, что он всех более достоин любви и откровенности!
– Кто сказал тебе, что я не люблю его?.. Мне не любить его, моего воспитателя, моего благодетеля? Да и могу ли кого-нибудь не любить с тех пор, как люблю Селтанету? Я люблю весь свет, всех людей!
– Не помногу же достанется на брата! – сказал Сафир-Али.
– Стало бы ее не только напоить, но утопить весь мир, – возразил, улыбаясь, Аммалат.
– Ага! Вот что значит видеть красавиц без покрывала! – и потом ничего не видеть, кроме покрывал и бровей. Видно тебе, как урмийскому соловью[26], надобна для песен клетка.
Так разговаривая, друзья скрылись в чаще леса.
Глава VII
Дербент. Апрель.
Прилети ко мне, сердце моего сердца, милая Мария! Полюбуйся на прелестную вешнюю ночь Дагестана. Тих лежит подо мною Дербент, подобен черной полосе лавы, упавшей с Кавказа и в море застылой. Ветерок навевает мне благоухание цветущих миндальных деревьев, соловьи перекликаются в ущелье, сзади крепости; все дышит жизнию и любовью, и стыдливая природа, полная сим чувством, как невеста, задернулась дымкой туманов. И как дивно разлилось их море над морем Каспийским! Нижнее колышется, как вороненая кольчуга, верхнее ходит серебряной зыбью, озаренное полною луною, которая катится по небу, словно золотая чаша, и звезды блещут кругом нее, как разбрызганные капли. Каждый миг отражение лучей луны в парах ночи изменяет картины, упреждая самое воображение, то изумляя чудесностию, то поражая новостию. Иногда кажется, будто видишь скалы дикого берега и об них в пену разбитый прибой… Валы катятся в битву, буруны крутятся, всплески летят высоко; но безмолвно, медленно опадает волнение, и серебряные пальмы возникают из лона потопа, ветер движет их стебли, играет их долгими листьями, – и вот они распахнулись парусами корабля, скользящего по воздушному океану! Видишь, как он качается: брызги дождят на грудь его, волны скользят вдоль ребер, и где он?.. где сам я?..
He поверишь, бесценная, какое сладостно-грустное чувство наводит на меня шум и вид моря. С ним неразлучна во мне мысль о вечности, о бесконечности, о любви нашей. Видно, сама она безгранична, как вечность. Чувствую, душа моя будто разливается и объемлет мир, подобно океану, светлыми волнами любви: она во мне и окрест меня, она единственное, великое, бессмертное во мне чувство. Искра его греет и озаряет меня в зиму горестей, в ночи сомнений. Тогда я так беззаветно люблю, так тепло верю и верую!!! Ты улыбаешься моей мечтательности, друг и подруга души моей! Ты изумляешься этому туманному наречию!., не вини меня. Дух мой, как жилец иного света, не может противостать призывному мерцанию месячного луча… отрясает могильный прах, разыгрывается и, как луч месяца, обрисовывает все предметы тускло, неопределенно. Впрочем, ты знаешь, что к одной тебе пишу я все, что ни вспадет на стекло моего волшебного фонаря-сердца, уверенный, что сердцем, а не привязчивым умом будешь ты разгадывать сказанное. Притом в августе месяце счастливый жених твой будет лично пояснять все темные места в своих письмах. Не могу вздумать без восхищения о минуте встречи нашей!.. Я считаю песчинки часов, разлучающие нас, считаю версты, между нами лежащие. Итак, в половине июня ты будешь на Кавказских водах; итак, лишь одна ледяная цепь Кавказа останется между двумя пылкими сердцами… Как близко и как еще неизмеримо далеко будем мы друг от друга! О, сколько бы лет жизни отдал я, чтобы приблизить час свидания! Души наши обручены так давно… для чего ж разлучены доселе?..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Аммалат мой скрытен и недоверчив. Я не виню его. Я знаю, как трудно переломить привычки, всосанные с матерним молоком и с воздухом родины. Варварский деспотизм Персии, столь долго владевший Адербиджаном67, воспитал в кавказских татарах самые низкие страсти, ввел в честь самые презрительные происки. Да и могло ли быть иначе в правлении, основанном на размене крупного деспотизма на мелкий, где и самая справедливость суда поражает украдкою, где хищение – есть преимущество власти?.. Делай со мною, что хочешь, но позволь мне делать с нижними, что я хочу, – вот азиатское управление, честолюбие и нравственность. От этого каждый, находясь между двумя врагами, привыкал прятать свои мысли, как свои деньги. От этого каждый старался лукавить перед сильным, чтобы добыть через него силу, и перед богатым, чтобы выжать из него взятку угнетением или доносом. От этого здешний татарин не скажет слова, не ступит шага даром, не подарит огурца без надежды получить за него отдарка. Грубый до дерзости с каждым, кто не облечен властию, он плашмя перед чином, перед полным карманом. Горстями сыплет лесть, отдает вам дом, детей, душу свою, для того чтобы словами уклонить от себя дело, и если делает услугу, то верно по расчету. В делах денежных (это самая слабая сторона татар) червонец есть камень преткновения; трудно вообразить, до какой степени падки они до выгод. Армяне тысячу раз ниже их в характере, но едва ли они уступят им в продажности, в корыстолюбии… et c'est tout dire[27].
Мудрено ли же, что, с младенчества видя такие примеры, Аммалат хотя и сохранил в себе свойственное благородной крови отвращение ко всему низкому, но принял скрытность как необходимое оборонительное оружие противу явных злодеев своих и тайных недоброхотов? Священные узы родства почти не существуют для азиатца. У них сын – раб своего отца, брат – его соперник. Нет доверия к ближнему, потому что нет верности ни в ком. Ревность к женам и подозрение в подысках68 задушают братство и дружество. Ребенок, воспитанный матерью-невольницею, не знающий ласки отца и потом задушенный арабскою грамотою, скрывается в самом себе даже и от товарищей; с первых ногтей заботится только о себе. С первым пухом на бороде для него закрыты все двери и все сердца, – мужья смотрят на него искоса, женщины бегут, как от зверя, и первые, самые невинные движения его сердца, первый голос человечества, первое стремление природы суть уже преступления перед изуверским магометанством. Он не смеет открыть их родному, доверить приятелю… он должен даже плакать тайно от других.
Все это говорю я, милая Мария, в извинение Аммалату: полтора года живет он у меня и до сих пор не открылся мне, кого любит, хотя очень мог видеть, что не из пустого любопытства, а из душевного участия хотел я вызнать тайны его сердца. Наконец он рассказал мне все, и вот как это случилось.
Вчерась я выехал с Аммалатом прогуляться за город. Мы поднялись по ущелию в гору, на запад; далее и далее, выше и выше, мы незаметно очутились подле деревни Кемек, рядом с которою видна уже стена, защищавшая некогда Персию от набегов кочевых народов закавказских степей, часто громивших ее границы69. Дербентская летопись (Дербент-наме)70 приписывает, но неверно, ее незапамятную постройку какому-то Исфендиару; вот начало молвы, передавшей сей труд Искендару, то есть Александру Великому, никогда в этих краях не бывавшему. Царь Нуширван71 открыл, возобновил ее, поселил при ней стражу. Не раз впоследствии была она поправляема и снова падала в прах, зарастала, как теперь, вековыми деревьями. Осталось поверье, будто стена эта от Каспия шла до Черного моря[28], пересекая весь Кавказ, имея крайними железными воротами Дербент72, а средними Дарьял; но это более чем сомнительно вообще, хотя несомненно в частном. Следы ее, видимые далеко в горах, прерываются только обрывами и ущелиями до военной дороги, но оттуда к Черному морю, кажется по Мингрелии, нет никаких признаков продолжения.
Я с любопытством рассматривал эту огромную стену, укрепленную частыми башнями, дивясь величию древних, даже в самых безумных прихотях деспотизма, величию, до которого достигнуть не дерзают и мыслию, не только исполнением, нынешние женоподобные властители Востока. Чудеса Вавилона, Меридово озеро75, пирамиды фараонов, бесконечная ограда Китая – и эта стена, проведенная в местах диких, безлюдных, по высям хребтов, по безднам ущелий, – свидетели железной, исполинской воли и необъятной власти прежних царей. Ни время, ни землетрясения не могли совершенно разрушить трудов тленного человека, и пята тысячелетий не совсем раздавила, не совсем втоптала в землю остатки древности незапамятной. Места эти возбуждали во мне еще благоговейные думы… Я бродил по следам великого Петра…76 я воображал его, основателя, преобразователя юного царства, на сих развалинах дряхлеющих царств Азии, из среды коих вырвал он Русь и мочной десницею вкатил в Европу. Какой огонь сверкал тогда в орлином взоре его, брошенном с выси Кавказа! Какие гениальные думы звездились в уме; какие святые чувства вздымали геройскую грудь. Великая судьба отечества развивалась перед его очами, вместе с горизонтом; в зеркале Каспия зрелась ему картина будущего благоденствия России, им посеянного, окропленного кровавым его потом. Не пустые завоевания, но победа над варварством, но благо человечества были его целию. Дербент, Бака, Астрабат – вот звенья цепи, которою хотел он опутать Кавказ и связать торговлю Индии с русскою. Полубог Севера! Ты, которого создала природа, чтобы польстить гордости человека и привести в отчаяние недоступным величием, – твоя тень возникла передо мной, огромна и лучезарна, и водопад веков, казалось, рассыпался в пену у твоих стоп![29] Задумчив и безмолвен ехал я далее.
Кавказская стена одета с севера тесаными плитами, чисто и крепко на извести сложенными. Многие зубцы еще целы, но слабые семена, запавшие в трещины, в спаи, раздирают камни корнями деревьев, из них произросших, и в союзе с дождями низвергают долу громады, и по развалинам всходят, будто на приступ, раины, дубы, гранаты. Орел невозмутимо вьет гнездо в башне, когда-то полной воинами, и на очаге, внутри ее, холодном уже несколько веков, лежат свежие кости диких коз, натасканные туда чакалами. Инде исчезал вовсе след развалин, и потом отрывки стены возникали снова из-под травы и леса. Так, проехав версты три вдоль, достигли мы до ворот и проехали на южную сторону сквозь свод, подернутый мохом и заросший кустарником. Не успели мы сделать двадцать шагов, как вдруг, за огромною и высокою башнею, наткнулись на шестерых вооруженных горцев, по всем приметам принадлежащих к разбойничьим шайкам вольных табасаранцев77. Они лежали в тени, близ пасущихся коней своих. Я обомлел. Я тогда только раздумал, как безрассудно поступил, заехав так далеко от Дербента без конвоя. Скакать назад было невозможно по кустам и каменьям; драться с шестерыми удальцами было бы отчаянно; со всем тем я схватился за седельный пистолет; но Аммалат-бек, увидев дело, опередил меня, сказав тихо: «Не беритесь за оружие, или мы погибли».
Разбойники, заметив нас, вскочили и выправили ружья; только один широкоплечий, видный, с самым зверским лицом лезгин остался лежащим на земле: он хладнокровно приподнял голову, посмотрел на нас и махнул своим рукою. В одну минуту мы очутились в кругу их, между тем как узкая тропа вперед заграждена осталась атаманом.
– Прошу долой с коней, милые гости, – произнес он, улыбаясь; но видно было, что вторым приглашением будет пуля. Я мешкал, но Аммалат-бек проворно соскочил с коня и прямо пошел к атаману.
– Здорово, – сказал он ему, – здорово, сорвиголова; не чаял я тебя видеть; я думал, из тебя уж давно черти лапшу сделали.
– Скоро ездишь, Аммалат-бек, – отвечал тот. – Я надеюсь еще выкормить здешних орлов телами русских и вашей братьи татар, у которых киса78 больше, чем сердце.
– Ну что, какова ловля, Шемардан? – спросил небрежно Аммалат-бек.
– Было плохо. Русские сторожки, и разве с лезвия случалось угнать полковой табун или продать в горы человек двух солдат. С мареной и шелком громоздко возиться, а персидских тканей стали мало возить на арбах. Приходилось и сегодня порыскать и повыть даром по-волчьи, да, спасибо, Аллах смилостивился: в руки дал богатого бека и русского полковника!
У меня замерло сердце, когда я услышал эти слова.
– Не продавай сокола в небе, – возразил Аммалат, – продавай, когда посадишь его на перчатку.
Разбойник сел, схватился за курок ружья и устремил на нас проницательные взоры.
– Послушай, Аммалат, – сказал он, – неужели вы думаете убежать от меня, неужели дерзнете защищаться?
– Будь покоен, – возразил Аммалат. – Что мы за глупцы – идти двум на шестерых? Любо нам золото, однако душа дороже. Попались, так нечего делать: лишь бы ты не заломил беспутной цены за выкуп. У меня, сам ты знаешь, ни отца ни матери, а у полковника и подавно ни роду ни племени.
– Нет отца, так есть наследство от отца. Ведь мне с тобою не роднёю считаться. Впрочем, я человек совестливый – нет червонцев – так я возьму и баранами; а про полковника ты не пой мне песен: я знаю, что за него отдадут все солдаты последнюю пуговицу с мундира. Уж коли за Швецова дали выкупу десять тысяч рублевиков79, за этого дадут и больше. Впрочем, увидим, увидим! Коли будете смирны, я ведь не джеуд (жид) какой, не людоед, Первиадер (Всевышний) прости!
– Ну, то-то же, приятель: корми да пои нас хорошенько, так присягу даю и честью моей заверяю, мы не задумаем ни бить тебя, ни бежать от тебя.
– Верю, верю! Люблю, что без шуму дело сладили. Какой ты молодец стал, Аммалат: конь не конь, ружье не ружье – загляденье, да и только! Покажи-ка, друг, кинжал свой? Верно, кубачинская насечка на ножнах?80
– Нет, кизлярская, – отвечал Аммалат, покойно растягивая поясок кинжала. – Да клинок-то посмотри: диво! Гвоздь пополам, словно свечку… на этой стороне имя мастера; на, хоть сам читай: Али-уста Казанищский81 И между тем он повертывал обнаженным клинком перед глазами жадного лезгина, который хотел показать, что знает грамоте, и со вниманием разбирал связную надпись…
Но вдруг кинжал сверкнул как молния: Аммалат, улуча миг, рубнул Шемардана по голове со всего размаху, и удар был столь жесток, что кинжал остановился в зубах нижней челюсти. Труп рухнул на траву. Не сводя глаз с Аммалата, я последовал его примеру и положил из пистолета ближнего ко мне разбойника, державшего за узду моего коня. Это было знаком к бегству остальных бездельников, как будто со смертью атамана расторгся узел своры, на которую были они привязаны.
Между тем как Аммалат, по азиатскому обычаю, снимал с убитых оружие и связывал вместе повода оставленных коней, я выговаривал ему за его притворство и клятвы перед разбойником. Он с удивлением поднял голову:
– Чудный вы человек, полковник, – возразил он мне. – Этот злодей наделал исподтишка русским тьму вреда, то пожигая стоги сена, то уводя в плен одиноких солдат-дровосеков! Знаете ли, что он бы замучил, истиранил нас, для того чтобы мы пожалобнее писали к своим и тем более дали выкупу.
– Все это так, Аммалат, – сказал я, – но лгать, но клясться не должно ни в шутке, ни в беде. Разве не могли мы прямо кинуться на разбойников и начать тем, чем кончили?
– Нет, полковник, не могли. Если б я не заговорил атамана, нас бы при первом движении пронзили пулями; притом я знаю эту сволочь весьма хорошо – они храбры только в глазах атамана, и с него надобно было начать расправу.
Я качал головою. Азиатское коварство хотя и спасло меня, но не могло мне понравиться. Какую веру могу я иметь к людям, привыкшим играть честью и душою!
Мы собрались было садиться на коней, когда услышали стон раненного мною горца. Он очнулся, приподнялся и жалобно умолял нас не покидать его на съедение зверям лесным. Мы оба кинулись помогать несчастному, и каково было удивление Аммалата, когда он узнал в нем одного из нукеров Султан-Ахмет-хана Аварского. На вопрос, как он попал в шайку разбойников, отвечал:
– Шайтан соблазнил меня. Хан послал меня в соседнюю деревню Кемек, с письмом к славному гакиму (доктору) Ибрагиму, за какой-то травой, что, говорят, всякую болесть как рукой снимает… на беду повстречал меня на дороге Шемардан; пристал: поедем да поедем со мной наездничать, из Кубы едет армянин с деньгами. Не утерпело мое сердце молодецкое… Ох, Алла, гиль Алла! Вынул он из меня душу!
– Тебя послали за лекарством, говоришь ты, – спросил Аммалат. – Да кто же у вас болен?
– Наша ханум Селтанета при смерти; вот и писанье к лекарю про болезнь ее. – При этом слове он отдал Аммалату серебряную трубочку, в которую вложена была свитая бумажка.
Аммалат побледнел как смерть, – руки его дрожали, очи скрылись под бровями, когда пробегал он записку… прерывающимся голосом повторял он несвязные слова:
– «Не ест, не спит уже три ночи… бредит! жизнь ее в опасности… спасите!» Боже правды! а я здесь веселюсь, праздничаю, в то время как душа души моей готова покинуть землю и оставить меня тлеющим трупом. О, да падут на голову мою все ее болезни[30], да лягу я в гроб, если этим искупится ее здоровье! Милая, прелестная девушка – ты вянешь, роза Аварии, – и на тебя простерла судьба свои железные когти! Полковник! – вскричал он наконец, схватив меня за руку, – исполните мою единственную, священную просьбу, позвольте мне хоть еще однажды взглянуть на нее…
– На кого, друг мой?
– На мою бесценную Селтанету, на дочь хана Аварского, которую люблю более, чем жизнь, чем душу свою… Она больна, она умирает, может быть, уже умерла теперь, когда я теряю слова даром! И не я принял в сердце последний взор, последний вздох ее, не я отер ледяную слезу кончины. О, зачем угли разрушенного солнца не падут на мою голову, зачем не погребет меня земля в своих развалинах!
Он упал на грудь мою и, задушенный тоскою, рыдал без слез, не могши промолвить слова.
Не время было упрекать его в недоверчивости, еще менее – представлять причины, по которым ему бы неприлично было ехать ко врагу русских. Есть обстоятельства, пред которыми рассыпаются в прах все приличия, и я чувствовал, что Аммалат находился в подобных. На свой страх решился я отпустить его. Кто обязывает от чистого сердца и скоро, тот обязывает дважды, – моя любимая пословица и твердое правило. Я сжал в объятиях тоскующего татарина, и слезы наши смешались.
– Друг Аммалат… – сказал я, – спеши, куда зовет тебя сердце. Дай Бог, чтобы ты привез туда выздоровление, а оттуда покой душевный… Счастливый путь!
– Прощайте, благодетель мой! – произнес он, тронутый, – и, может быть, навек. Я не ворочусь к жизни, если Алла отнимет у меня Селтанету. Бог да хранит вас!
Мы завезли раненого аварца к гакиму Ибрагиму, взяли у него по рецепту ханскому травы целительной – и через час Аммалат-бек с четырьмя нукерами выехал уже из Дербента.
Итак, загадка разгадалась: он любит. Это плохо, а еще того хуже, что он любим взаимно. Я вижу, милая, я слышу твое изумление. «Может ли то быть несчастием для другого, чего ждешь ты для себя как благополучия?..» – спрашиваешь ты… Одно зернышко терпения, ангел души моей! Хан, отец Селтанеты, – непримиримый враг России, тем более что, будучи взыскан царскими милостями, он изменил оным; след<ственно>, брак возможен только в таком случае, если Аммалат изменит русским или хан смирится перед ними и будет прощен: обе вещи малосбыточные. Я сам испытал горе безнадежное в любви; я много пролил слез на уединенное изголовье мое и сколько раз жаждал могильной тени, чтобы простудить в ней бедное сердце! Могу ли же не жалеть юноши, которого люблю бескорыстно, который любит безнадежно? Но это не намостит мосту к счастью, и потому думаю, что, если б он не имел несчастья быть любимым взаимно, он бы понемногу забыл ее.
«Однако, – говоришь ты (и, мне кажется, я слышу твой серебристый голос, любуюсь твоей ангельскою улыбкою), – однако обстоятельства могут перемениться для них, как они переменились для нас. Неужели одно несчастие имеет привилегию быть вечным на свете?..» Не спорю, милая, но со вздохом признаюсь: сомневаюсь… даже боюсь и за них и за нас. Судьба улыбается нам, надежда поет сладкие песни, но судьба – море, надежда – сирена морская: опасна тишина первого, гибельны обеты второй. Все, кажется, споспешествует нашему соединению – но вместе ли мы? Не понимаю, отчего, милая Мария, холод вникает в грудь мою вместе с самыми жаркими мечтами о будущем блаженстве – и мысль о свидании потеряла свою определенность! Но это все минет, все обратится в наслаждение, когда я прижму твою ручку к устам своим, твое сердце к своему сердцу!! Ярче сверкает радуга на черном поле туч – и самые счастливейшие мгновения суть междометия горести.
Глава VIII
Аммалат загнал двух коней и бросил на дороге нукеров своих; зато к концу другого дня был уже невдалеке от Хунзаха. С каждым шагом росло его нетерпение, и с каждым мигом увеличивался страх не застать в живых свою милую. Он затрепетал, когда показались ему из утесов верхи башен ханского дома… в глазах померкло. «Жизнь или смерть встречу я там?» – молвил он в самом себе – и, скрепя сердце, удвоил бег коня.
Он настиг всадника, вооруженного с головы до ног; другой всадник ехал из Хунзаха ему навстречу – и едва завидели и разглядели они друг друга, пустили коней вскачь, съехались, соскочили на землю и вдруг, обнажив сабли, с ожесточением кинулись друг на друга, не вымолвя ни одного слова, – как будто бы удары были обычным дорожным приветствием. Аммалат-бек, которому они заградили узкую тропинку между скал, с изумлением смотрел на бой двух противников… он был короток. Попутный всадник упал на камни, обливая их кровью из разверстого черепа; победитель, хладнокровно отирая полосу, обратил слово к Аммалату:
– Кстати приход твой! Я рад, что судьба привела тебя в свидетели нашего поединка. Бог, а не я, убил обидчика, и теперь родные его не скажут, что я умертвил врага украдкою из-за камня, не подымут на мою голову мести крови.
– За что встала ссора у тебя с ним? – спросил Аммалат. – За что заключил ты ее такой ужасною местью?
– Этот харам-зада82, – отвечал всадник, – не поладил со мной за подел грабленых баранов, в досаде мы всех их перерезали… не доставайся же никому – и он дерзнул выбранить жену мою… Пускай бы он лучше опозорил гроб отца и доброе имя матери, нежели тронул славу жены… Я было кинулся на него с кинжалом, да нас розняли; мы стакнулись при первой встрече рубиться – и вот Аллах рассудил нас. Бек, верно, едет в Хунзах, верно, в гости к хану? – примолвил всадник.
Аммалат, заставляя своего коня перепрыгнуть через труп, лежащий поперек дороги, отвечал утвердительно.
– Не в пору едешь, бек, очень не в пору!
Вся кровь кинулась в голову Аммалата.
– Разве в доме хана случилось какое несчастье? – спросил он, удерживая коня, которого за миг прежде ударил плетью, чтобы скорей домчаться до Хунзаха.
– Не то чтобы несчастье; у него крепко была больна дочь Селтанета, и теперь…
– Умерла? – вскричал Аммалат, бледнея.
– Может быть, и умерла; по крайней мере умирает. Когда я проезжал мимо ханских ворот, на дворе поднялась такая беготня и плач и вой женщин, будто русские берут Хунзах приступом… Заезжай, сделай милость…
Но Аммалат уже не слышал ничего более – он стремглав ускакал от удивленного узденя… только пыль катилась дымом с дороги, словно зажженной искрами, сыплющимися из-под копыт. Быстро прогремел он по извилистым улицам, влетел на гору, спрыгнул с коня среди двора ханского и, задыхаясь, пробежал по переходам до комнаты Селтанеты, опрокидывая, расталкивая нукеров и прислужниц, и наконец, не приметив ни хана, ни жены его, прорвался до самого ложа больной и почти без памяти упал при нем на колени.
Внезапный, шумный приход Аммалата возмутил печальное общество присутствующих. Селтанета, в которой кончина пересиливала уже бытие, будто проснулась из томительного забытья горячки… щеки ее горели обманчивым румянцем, как осенний лист перед паденьем; в туманных глазах догорали последние искры души; уже несколько часов была она в совершенном изнеможении, безгласна, неподвижна, отчаянна. Ропот неудовольствия в окружающих и громкие восклицания исступленного Аммалата, казалось, воротили отлетающий дух больной… она вспрянула… глаза ее заблистали…
– Ты ли это, ты ли?!. – вскричала она, простирая к нему руки. – Аллах берекет!..83 Теперь я довольна! Я счастлива, – промолвила она, опускаясь на подушки… улыбка сомкнула уста ее, ресницы упали – и она снова погрузилась в прежнее беспамятство.
Отчаянный Аммалат не внимал ни вопросам хана, ни выговорам ханши; никто, ничто не отвлекало его внимания от Селтанеты, не исторгало из скорби глубокой. Его насилу могли вывести из комнаты больной. Прильнув к ее порогу, он рыдал неутешно, то умоляя небо спасти Селтанету, то обвиняя, укоряя его в ее болезни. Трогательна и страшна была тоска пылкого азиатца.
Между тем появление Аммалата произвело на больную спасительное влияние. То, чего не могли или не умели сделать горные врачи, произошло от случая. Надобно было пробудить онемевшую жизненную деятельность сильным колебанием, – без этого она погибла бы, не от болезни, уже затихшей, но от изнеможения, как лампа, гаснущая не от ветра, но от недостатка воздуха. Наконец молодость взяла верх; после перелома жизнь опять разыгралась в сердце умиравшей. После долгого, кроткого сна она пробудилась с обыкновенными силами, с свежими чувствами.
– Мне так легко, матушка, – сказала она ханше, весело озираясь, – будто я вся из воздуха. Ах, как сладостно отдохнуть от болезни, – кажется, и стены мне улыбаются. Да, я была очень больна, долго больна; я много вытерпела… теперь, слава Аллаху, я только слаба, и это пройдет скоро… я чувствую, что здоровье, как жемчуг, катится у меня по жилам. Все прошлое представляется мне в каком-то мутном сне. Мне виделось, будто я погружаюсь в холодное море, а сгораю жаждою… вдали носились, будто во мраке и в тумане, две звездочки – тьма густела и густела; я погрязала ниже и ниже. И вдруг показалось мне, что кто-то назвал меня по имени и могучею рукою выдернул из леденеющего безбрежного моря… лицо Аммалата мелькнуло передо мной, словно наяву, – звездочки вспыхнули молниею, и она змеей ударила мне в сердце; больше не помню!
На другой день Аммалату позволили видеть выздоравливающую. Султан-Ахмет-хан, видя, что от него не добиться путного ответа, покуда сомнение не стихнет в душе, кипучей страстью, склонился на его неотступные просьбы.
– Пускай все радуются, когда я радуюсь, – сказал он и ввел гостя в комнату дочери.
Селтанету предупредили – но со всем тем волнение в ней было чрезвычайно, когда очи ее встретились с очами Аммалата, столь много любимого, столь долго и напрасно ожидаемого. Оба любовника не могли вымолвить слова, но пламенная речь взоров изъяснила длинную повесть, начертанную жгучими письменами на скрижалях сердца. На бледных щеках друг друга прочитали они следы тяжких дум и слез разлуки, следы бессонницы и кручины, страхов и ревности. Пленительна цветущая краса любимой женщины; но ее бледность, ее болезненная томность – очаровательны, восхитительны, победны! Какое чугунное сердце не растает от полного слез взора ее, который без упрека, нежно говорит вам: «Я счастлива… я страдала от тебя и для тебя!»
Слезы брызнули из глаз Аммалата, но, вспомнив наконец, что он тут не один, он оправился, поднял голову – но голос отказывался вылиться словом, и он насилу мог сказать:
– Мы очень давно не видались, Селтанета!
– И едва не расстались навечно, – отвечала Селтанета.
– Навечно? – произнес Аммалат полу укорительным голосом. – И ты могла думать это, верить этому? Разве нет иной жизни? жизни в которой не ведомо горе, ни разлука с родными и с милыми? Если бы я потерял талисман своего счастия, с каким бы презрением сбросил я с себя ржавые, тяжкие латы бытия! для чего бы мне тогда сражаться с роком?
– Жаль, что я не умерла, коли так, – возразила Селтанета шутя, – ты так заманчиво описываешь замогильную сторону, что хочется поскорее перепрыгнуть в нее.
– О нет, живи, живи долго, для счастия, для… любви, – хотел при молвить Аммалат, но покраснел и умолкнул.
Мало-помалу розы здоровья опять раскинулись на щеках довольной присутствием милого девушки. Все опять пошло обычной чередою. Хан не успевал расспрашивать Аммалата про битвы и походы и устройство войск русских; ханша скучала ему спросами о платьях и обычаях женщин их… и не могла пропустить без воззвания к Аллаху ни одного раза, слыша, что они ходят без туманов. Зато с Селтанетой находил он разговоры и рассказы прямо по сердцу. Малейшая безделка, друг до друга касающаяся, не была опущена без подробного описания, повторения и восклицания. Любовь, как Мидас, претворяет все, до чего ни коснется, в золото и ах! часто гибнет, как Мидас, не находя ничего вещественного для пищи84.
Но с крепнущими силами, с расцветающим здоровьем Селтанеты на чело Аммалата чаще и чаще стали набегать тени печали. Иногда вдруг среди оживленного разговора он останавливался незапно, склонял голову, и прекрасные глаза его подергивались слезною пеленою, и тяжкие вздохи, казалось, расторгали грудь; но вдруг он вскакивал… очи сверкали гневом, он с злобной улыбкою хватался за рукоять кинжала… и после того, будто пораженный невидимою рукою, впадал в глубокую задумчивость, из которой не могли извлечь его даже ласки обожаемой Селтанеты.
Однажды в такую минуту любовники были глаз на глаз. С участьем склонясь на его плечо, Селтанета молвила:
– Аз из (милый), ты грустишь, ты скучаешь со мной!
– Ах, не клевещи на того, кто любит тебя более неба, – отвечал Аммалат, – но я испытал ад разлуки и могу ли без тоски вздумать о ней. Легче, во сто раз легче мне расстаться с жизнию, чем с тобою, черноокая!
– Ты думаешь об этом, – стало быть, желаешь этого…
– Не отравляй моей раны сомнением, Селтанета. До сих пор ты знала только цвести, подобно розе, порхать, подобно бабочке; до сих пор твоя воля была единственною твоею обязанностию. Но я мужчина, я друг; судьба сковала на меня цепь неразрешимую, цепь благодарности за добро… она влечет меня к Дербенту.
– Долг! обязанность! благодарность! – произнесла Селтанета, печально качая головою. – Сколько золотошвейных слов изобрел ты, чтобы ими, как шалью, прикрыть свою неохоту остаться здесь. Разве не прежде ты отдал душу свою любви, нежели дружбе?.. Ты не имел права отдавать чужое! О, забудь своего Верховского, забудь русских друзей и дербентских красавиц!.. Забудь войну и славу, добытую убийствами. Я ненавижу с тех пор кровь, как увидела тебя, ею облитого. Не могу без содрогания вздумать, что каждая капля ее стоит неосушимых слез сестре, или матери, или милой невесте. Чего недостает тебе, чтобы жить мирно, покойно в горах наших? Сюда никто не придет возмутить оружием счастия душевного. Кровля наша не каплет, плов у нас некупленного пшена; у отца моего много коней и оружия, много казны драгоценной – у меня в душе много любви к тебе. Не правда ли, милый, ты не едешь, ты останешься с нами?
– Нет, Селтанета, я не могу, я не должен здесь остаться! С тобою одной провести жизнь, для тебя кончить ее – вот моя первая мольба, мое последнее желанье; но исполнение обоих зависит от отца твоего. Священный союз связывает меня с русскими, и, покуда хан не примирится с ними, явный брак с тобою мне невозможен… и не от русских, но от хана…
– Ты знаешь отца моего, – грустно сказала Селтанета, – с некоторого времени ненависть к неверным усилилась в нем до того, что он не пожалеет принести ей в жертву и дочь и друга. Особенно он сердит на полковника за то, что убил его любимого нукера, посланного за лекарством к гакиму Ибрагиму.
– Я уже не раз заводил речь с Ахмет-ханом о моих надеждах – и всегдашним ответом его было: поклянись быть врагом русских – и тогда я выслушаю тебя!
– Стало быть, надобно сказать «прости» надежде?
– Зачем же надежде, Селтанета! Зачем не сказать только «прости, Авария!»
Селтанета устремила на него свои выразительные очи.
– Я не понимаю тебя, – произнесла она.
– Полюби меня выше всего на свете: выше отца и матери и милой родины – и тогда ты поймешь меня. Селтанета! жить без тебя я не могу, а жить с тобою не дают мне… Если ты любишь меня, бежим отсюда!..
– Бежать! Дочери ханской бежать, как пленнице, как преступнице!., это ужасно… это неслыханно!
– Не говори мне этого… Если необыкновенна жертва, то необыкновенна и любовь моя. Вели мне отдать тысячу раз жизнь свою, и я кину ее с усмешкою, будто медную пулу[31]; брошу в ад душу свою за тебя, не только жизнь. Ты напоминаешь мне, что ты дочь хана, – вспомни, что и мой дед носил, что мой дядя носит корону шамхальскую!.. Но не по этому сану, а по этому сердцу я чувствую, что достоин тебя; и если есть позор быть счастливым вопреки злобы людей и прихотей рока, то он весь падет на мою, не на твою голову.
– Но ты забыл месть отца моего.
– Придет пора, и он сам забудет ее. Видя, что дело свершено, он отбросит неумолимость. Сердце его не камень – да если б было и камень, то слезы повинные пробьют его, наши ласки его тронут!.. Счастие приголубит тогда нас крылами, и мы с гордостью скажем: «Мы сами поймали его».
– Милый мой – я мало живу на свете, а что-то в сердце говорит, что неправдой не изловить счастья!.. Подождем, посмотрим, что Аллах даст. Может, и без этого средства совершится союз наш.
– Селтанета! Аллах дал мне эту мысль… вот его воля!.. Умоляю тебя: сжалься надо мною!.. Бежим, если ты не хочешь, чтобы час брака пробил над моею могилою. Я дал честное слово возвратиться в Дербент и должен сдержать его, сдержать скоро… но уехать без надежды увидать тебя и с опасением узнать тебя женою другого! – это ужасно, это нестерпимо!! Не из любви, так из сожаления раздели судьбу мою… не лишай меня рая… не доводи меня до безумства… Ты не знаешь, до какой степени может увлечь обманутая страсть… я могу забыть и гостеприимство и родство… разорвать все связи человеческие, попрать ногами святыню, смешать кровь мою с драгоценною мне кровью… заставить злодеев содрогаться от ужаса при моем имени и ангелов плакать от моих-дел… Селтанета! спаси меня от чужих проклятий, от своего презрения… спаси меня от самого меня!.. Нукеры мои бесстрашны, кони – ветер… ночь темна: бежим в благодатную Россию, покуда перейдет гроза. В последний раз умоляю тебя: жизнь и смерть, слава и душа моя в одном слове твоем: да или нет?
Обуреваемая то страхом девическим и уважением к обычаям предков, то любовью и красноречием любовника, неопытная Селтанета, как легкая пробка, летала по мятежным бурунам противоположных страстей. Наконец она встала, с гордым, решительным видом отерла слезы, сверкавшие на ресницах, как янтарная смола на иглах лиственницы, и сказала:
– Аммалат! не обольщай меня: огонь любви не ослепит, дым ее не задушит во мне совести; я всегда буду знать, что хорошо и что худо, – и очень ведаю, как стыдно, как неблагодарно покинуть дом отеческий, огорчить любимых, любящих меня родителей, – знаю, – и теперь измерь же цену моей жертвы: я бегу с тобою… я твоя! Не язык твой убедил, а сердце твое победило меня. Аллах судил мне встретить и полюбить тебя, – пусть же будут связаны сердца наши вечно и крепко, хотя бы терновым венком! Теперь все кончено: твоя судьба – моя судьба!
Если бы небо обняло Аммалата необъятными своими крыльями, прижав к сердцу мира – солнцу, – и тогда бы восторг его был не сильнее, как в эту божественную минуту. Он излился в нестройных словах и восклицаниях благодарности. Когда стихли первые порывы, любовники условились во всех подробностях побега. Селтанета согласилась спуститься на простынях из спальни своей на крутой берег Узени. Аммалат выедет вечером из Хунзаха со своими нукерами, будто на дальнюю соколиную охоту, и окольными путями воротится к ханскому дому, когда ночь падет на землю; он на руки свои примет милую спутницу. Потом они тихомолком доберутся до коней – и тогда враги прочь с дороги.
Поцелуй запечатлел обеты – и счастливцы расстались со страхом и надеждою в сердцах.
Аммалат-бек, изготовя к побегу и бою удалых нукеров своих, с нетерпением смотрел на солнце, которое, будто ревнуя, не хотело сойти с теплого неба в холодные кавказские ледники. Как жених, жаждал он ночи, и, как докучного гостя, провожал он глазами светило дня. Сколь медленно шло, ползло оно к закату… еще целый век пути оставался между желаньем и счастием!
Безрассудный юноша! Что порука тебе за удачу? Кто уверит тебя, что твои шаги не сочтены, твои слова не пойманы на лету?.. Может быть, с солнцем, которое ты бранишь, закатится твоя надежда!!
Часу в четвертом за полдень, в обычное время мусульманского обеда, Султан-Ахмет-хан был обыкновенно дик и мрачен. Глаза его недоверчиво блистали из-под нахмуренных бровей – долго останавливал он их то на дочери, то на молодом госте своем; иногда черты лица его принимали насмешливое выражение, но оно исчезало в румянце гнева; вопросы его были колки, разговор отрывист – и все это пробуждало в душе Селта-неты раскаяние, в сердце Аммалата опасенье. Зато ханша-мать, словно предчувствуя разлуку с милой дочерью, была так ласкова и предупредительна, что эта незаслуженная нежность исторгала слезы у доброй Селтанеты – и взор, брошенный украдкою Аммалату, был ему пронзительным укором.
Едва совершили после обеда обычное умовенье рук, хан вызвал на широкий двор Аммалата: там ждали их оседланные кони и толпа нукеров сидела уже верхом.
– Поедем попытать удали новых моих соколов, – сказал хан Аммалату, – вечер славный, зной опал, и мы успеем еще до сумерек заполевать птичку-другую!
С соколом на руке безмолвно ехал хан рядом с беком: влево, по крутой скале, лепился аварец, забрасывая железные когти, на шесте прикрепленные, в трещины, и потом, на гвозде опершись, подымался выше и выше. На поясе у него привязана была шапка с семенами пшеницы; длинная винтовка висела за плечами… Хан остановился, указал на него Аммалату и значительно сказал:
– Посмотри на этого старика, Аммалат-бек. Он в опасности жизни ищет стопы земли на голом утесе, чтобы посеять на ней горсть пшеницы. С кровавым потом он жнет ее и часто кровью своею платит за охран стада от людей и зверей. Бедна его родина; но спроси, за что любит он эту родину, зачем не променяет ее на ваши тучные нивы, на ваши роскошные паствы? Он скажет: «Здесь я делаю что хочу, здесь я никому не кланяюсь; эти снега, эти гольцы берегут мою волю…»85 И эту-то волю хотят отнять у него русские, как отняли у вас… и этим-то русским стал ты рабом, Аммалат!
– Хан! ты знаешь, что не русская храбрость, а русское великодушие победило меня: не раб я, а товарищ их.
– Тем во сто раз хуже и постыднее для тебя! Наследник шамхалов ищет серебряного темляка! хвалится тем, что он за стольник полковника!
– Умерь слова свои, Султан-Ахмет! Верховскому обязан я более чем жизнию, – союз дружбы связал нас!
– Может ли существовать какая-нибудь священная связь с гяурами? Вредить им, истреблять их, когда можно, обманывать, когда нельзя, суть заповеди Корана и долг всякого правоверного!
– Хан! перестанем играть костями Магомета и грозить тем другому, чему сами не верим. Ты не мулла, я не факир: я имею свои понятия о долге честного человека.
– В самом деле, Аммалат-бек? Не худо, однако ж, если бы ты чаще держал это на сердце, чем на языке. В последний раз позволь спросить тебя: хочешь ли послушать советов друга, которого меняешь ты на гяура; хочешь ли остаться с нами навсегда?
– Жизнь бы свою отдал я за счастье, которое предлагаешь ты мне так щедро, – но я дал обет воротиться и сдержу его.
– Это решительно?
– Непременно.
– Итак, чем скорее, тем лучше. Я узнал тебя, ты меня знаешь издавна; обиняки и лесть между нами некстати. Не скрою, что я всегда желал видеть тебя зятем своим; я радовался, что тебе полюбилась Селтанета. Плен твой на время удалил мои замыслы… твое долгое отсутствие, слухи о твоем превращении огорчали меня. Наконец ты явился к нам и все нашел по-прежнему – но ты не привез к нам прежнего сердца. Я надеялся, ты опять нападешь на прежний путь, – и обманулся, горько обманулся! Жаль, но делать нечего; я не хочу иметь зятем слугу русских…
– Ахмет-хан! я однажды…
– Дай мне кончить. Твой шумный приезд, твое исступление у порога больной Селтанеты открыли всем и твою привязанность, и наши взаимные намерения. Во всех горах прославили тебя женихом моей дочери… но теперь, когда разорван союз, пора рассеять и слухи. Для доброй славы моего семейства, для спокойствия моей дочери тебе должно оставить нас, и теперь же. Это необходимо, это неизменно. Аммалат! мы расстанемся добрыми друзьями – но здесь увидимся только родными, не иначе. Да обратит Алла твое сердце и приведет к нам нераздельным другом… до тех пор прости!
С этим словом хан поворотил коня и поскакал во весь опор, вправо к своему поезду.
Если б на сонного Аммалата упал гром небесный, и тогда он не был бы так изумлен, испуган, как этим неожиданным объяснением. Уже давно и пыль легла на след хана, но Аммалат все еще стоял неподвижен на том же холме, чернея в зареве заката.
Глава IX
Для укрощения мятежных дагестанцев полковник Верховский с полком своим стоял в селении Кяфир-Кумык лагерем. Палатка Аммалат-бека разбита была рядом с его палаткою, и в ней Сафир-Али, развалившись небрежно на ковре, потягивал донское86, несмотря на запрещение пророка. Аммалат-бек, худой, бледный, задумчивый, лежал, склоня голову на валек, и курил трубку. Уже три месяца прошли с той поры, как он, изгнанник рая, скитался с отрядом в виду гор, куда летело его сердце и не смела ступить нога. Тоска источила его, досада пролила желчь на его прежде радушный нрав. Он принес жертву своей привязанности к русским и, казалось, упрекал в ней каждого русского. Неудовольствие пробивалось в каждом его слове, в каждом взгляде.
– Прекрасная вещь – вино, – приговаривал Сафир-Али, преисправно осушая стаканы. – Верно, Магомету попались на аравитском солнце прокислые подонки, когда он запретил виноградный сок правоверным. Ну право, эти капли так сладки, будто сами ангелы с радости наплакали своих слез в бутылки. Эй, выпей еще хоть стаканчик, Аммалат-бек; сердце твое всплывет на вине легче пузырька. Знаешь, что пел про него Гафиз?..
– А ты знаешь? Не докучай, добро, Сафир-Али, мне своим вздором, ни даже под именем Саади и Гафиза87.
– Эка беда! Ну да хоть бы этот вздор был мой доморощенный, он не серьга: в ухе не повиснет. Небось, когда заведешь сказку про свою царицу Селтанету, я гляжу тебе в рот, как тому искуснику, который ел огонь и мотал из-за щек бесконечные ленты. Тебя заставляет говорить чепуху любовь, а меня донское – вот мы и квиты!.. Ну-тко, за здравие русских!
– Что полюбились тебе эти русские?
– Скажи лучше, отчего разлюбил ты их?
– Оттого, что разглядел поближе. Право, ничем не лучше наших татар. Так же падки на выгоды, так же охочи пересуживать, и не для того, чтобы исправить ближнего, а чтобы извинить себя; а про лень их и говорить нечего. Долго они властвуют здесь, а что сделали доброго, какие постановили твердые законы, какие ввели полезные обычаи, чему нас выучили, что устроили или построили они порядочного? Верховский открыл мне глаза на недостатки моих одноземцев, но с этим вместе я увидел и недостатки русских, которые тем больше непростительны, что они знают полезное, выросли на добрых примерах, и здесь, будто забыв свое назначение, свою деятельную природу, понемногу утопают в животном ничтожестве.
– Надеюсь, ты не включаешь в это число Верховского?
– Не только его, и других наберем в особый круг; зато многих ли их?
– Ангелы и в небе наперечете, Аммалат-бек, а Верховскому, право, хоть молиться можно за его правду, за его доброту. Есть ли хоть один татарин, который бы сказал про него худо?., есть ли солдат, что не отдаст за него души?.. Абдул-Гамид! еще вина! Ну-тко, за здоровье Верховского!
– Избавь! я не стану теперь пить за самого Магомета!
– Если у тебя сердце не так черно, как глаза Селтанеты, ты неотменно выпьешь за Верховского, хоть бы это было при краснобородых яхунтах[32] дербентских шагидов, хотя бы все имамы и шихи[33] не только облизывались, но огрызались на тебя за такое святотатство.
– Не выпью, говорю я тебе.
– Послушай, Аммалат, я готов за тебя напоить допьяна черта своей кровью, а ты не хочешь для меня выпить вина!
– То есть в этот раз не стану пить; а не стану потому, что не хочу, а не хочу потому, что кровь и без вина бродит во мне, как молодая буза.
– Пустые отговорки! Не в первый раз мы пьем, не впервые у нас кровь кипит… Скажи лучше прямо: ты сердит на полковника?
– Очень сердит!
– Можно ли узнать за что?
– За многое. Давно уже стал подливать он каплю по капле яду в мед дружбы своей… Теперь эти капли переполнили и пролили чашу. Терпеть не могу таких полу теплых друзей! Щедр он на советы, не скуп и на поучение, то есть на все, что не стоит ему никакого труда, никакого риска.
– Понимаю, понимаю. Верно, он не пустил тебя в Аварию?
– Если бы ты носил в груди мое сердце, ты бы понял, каково было мне услышать такой отказ. Как давно манил он меня этим и вдруг отринул самые нежные просьбы, разбил в пыль, как хрустальный кальян, самые лестные ожидания… Ахмет-хан, верно, смягчился, когда присылал сказать, что желает видеть меня, – и я не могу спешить к нему, лететь к Селтанете!
– Поставь-ка, брат, себя на его место и потом скажи, не так ли же бы поступил ты сам?
– Нет, не так. Я бы просто сказал с самого начала: «Аммалат! не жди от меня никакой помощи». Я и теперь не прошу от него помощи, прошу только, чтобы он не мешал мне, – так нет – он, заграждая от меня солнце всех радостей, уверяет, что делает это из участия, что это впереди принесет мне счастие!.. Не значит ли это отравлять в сонном питье?
– Нет, друг. Если оно и в самом деле так, то сонное питье дают тебе, как человеку, у которого хотят что-нибудь вырезывать для исцеления. Ты думаешь об одной любви своей – Верховскому же надобно хранить без пятна и твою и свою честь, а вы оба окружены недоброхотами. Поверь, что так или иначе, только он вылечит тебя!
– Кто просит его лечить меня? Это божественная болезнь, любовь, – моя единственная отрада! И лишить меня ее – все равно что вырвать из меня сердце за то, что оно не умеет биться по барабану!
В это время вошел в ставку незнакомый татарин, подозрительно осмотрелся кругом и с низким наклонением головы поставил перед Аммалатом туфли свои. По азиатскому обычаю это значило, что он просит тайного разговора. Аммалат понял его, кивнул головою, и оба вышли на воздух. Ночь была темна, огни погасли, и цепь часовых раскинута далеко впереди.
– Здесь мы одни, – сказал Аммалат-бек татарину. – Кто ты и что тебе надобно?
– Мое имя Самит. Я дербентский житель, секты сунни, и теперь служу в отряде, в числе мусульманских всадников. Порученье мое важнее для тебя, чем для меня… Орел любит горы!
Аммалат вздрогнул и недоверчиво взглянул на посланца: то была условная поговорка, которой ключ написал ему Султан-Ахмет заранее.
– Как не любить гор, – отвечал он. – В горах много ягнят для орла, много серебра для человека.
– И булата для витязей (игидов) …
Аммалат схватил посланца за руку.
– Здоров ли Султан-Ахмет-хан? – спросил он торопливо. – Какие вести принес ты от него? Давно ли видел его семью?..
– Не отвечать, а спросить я прислан. Хочешь ли ты за мною следовать?
– Куда? Зачем?
– Ты знаешь, кто прислал меня, – этого довольно; если не веришь ему, не верь и мне: в том твоя воля и моя выгода. Чем лезть в петлю ночью, я и завтра успею известить хана, что Аммалат не смеет выехать из лагеря!
Татарин попал в цель. Щекотливый Аммалат вспыхнул.
– Сафир-Али! – вскричал он громко.
Сафир-Али встрепенулся и выбежал из палатки.
– Вели подвесть себе и мне хоть неоседланных коней и с тем вместе сказать полковнику, что я поехал осмотреть поле за цепью… не крадется ли какой бездельник под часового. Ружье и шашку, да мигом!
Коней подвели. Татарин вскочил на своего, привязанного неподалеку, и все трое понеслись к цепи. Сказали пароль и отзыв и мимо секретов понеслись влево по берегу быстрой Узени.
Сафир-Али, который очень неохотно расстался с бутылкою, ворчал на темноту, на кусты и овраги и очень сердито покрякивал подле Аммалата, но видя, что никто не начинает разговора, решился сам завести его.
– Прах на голову этого проводника, – сказал он. – Черт знает, куда ведет и куда заведет он нас! Пожалуй, еще продаст лезгинам ради богатого выкупа… Не верю я этим косым!
– Я и прямоглазым мало верю, – отвечал Аммалат. – Но этот косой прислан от друга. Он не изменит нам.
– А чуть задумает что-нибудь похожее, так при первом движении я распластаю его, как дыню. Эй, приятель, – закричал Сафир-Али проводнику, – ради самого царя джинниев (духов), ты, кажется, сговорился с терновником оборвать с чухи моей галуны. Неужто не нашел ты попросторнее дороги? Я, право, не фазан и не лисица!
Проводник остановился.
– Правду сказать, я слишком далеко завел такого неженку, как ты, – возразил он. – Оставайся здесь постеречь коней, покуда мы с Аммалат-беком сходим куда следует.
– Неужели ты пойдешь в лес без меня с этой разбойничьей харею? – шепнул Сафир-Али Аммалату.
– То есть ты боишься остаться здесь без меня? – возразил Аммалат, слезая с коня и отдавая ему повод. – Не поскучай, милый. Я оставлю тебя в прелюбезной беседе волков и чакалов. Слышишь, как они распевают?
– Дай Бог, чтобы мне не пришлось выручать твои кости от этих певчих, – сказал Сафир-Али.
Они расстались. Самит повел Аммалата между кустами над рекою и, прошедши с полверсты между каменьями, начал спускаться книзу. С большою опасностию лезли они по обрыву, хватаясь за корни шиповника… и наконец, после трудного пути, спустились до узкого жерла небольшой пещеры, вровень с водою. Она была вымыта потоком, когда-то быстрым, но теперь иссякшим. Известковые, трубчатые капельники и селитряные кристаллы сверкали от огня, разложенного посредине. В глуби лежал Султан-Ахмет-хан на бурке и, казалось, нетерпеливо ожидал, чтобы Аммалат огляделся в густом дыме, клубившемся в пещере. Ружье со взведенным курком лежало у него на коленях; космы его шапки играли на ветре, который дул из расселины. Он приподнялся приветливо, когда Аммалат-бек кинулся к нему с приветом.
– Я рад тебя видеть, – сказал он, сжимая руку гостя, – рад. и не скрываю чувства, которого не должно бы мне хранить. Впрочем, я не для пустого свидания ступил ногою в кляпцы88 и потревожил тебя. Садись, Аммалат, и посудим о важном деле.
– Для меня, Султан-Ахмет-хан?
– Для нас обоих. С отцом твоим водил я хлеб-соль – было время, когда и тебя считал я своим другом…
– Только считал?..
– Нет, ты и был им и навсегда бы остался им, если б между нами не прошел лукавец Верховский.
– Хан, ты не знаешь его.
– Не только я, скоро ты сам его узнаешь!.. Но начнем с того, что касается до Селтанеты. Аммалат, тебе известно, ей нельзя век сидеть в девках. Это был бы зазор моему дому – и я откровенно скажу тебе, что за нее уже сватаются.
Сердце будто оторвалось в Аммалате… долго не мог он собраться с духом… Наконец, оправясь, он дрожащим голосом спросил:
– Кто этот смельчак жених?
– Второй сын шамхала, Абдул-Мусселим. После тебя, по высокой крови своей, он больше других горских князей имеет права на Селтанету…
– После меня? после меня? – вскричал вспыльчивый бек, закипая гневом. – Разве меня схоронили? Разве и память моя погибла между друзьями?
– Ни память, ни сама дружба не умерла, по крайней мере в моем сердце. Но будь справедлив, Аммалат, столько же, как я откровенен. Забудь, что ты судья в своем деле, и реши: что должно нам делать. Ты не хочешь расстаться с русскими, а я не могу с ними помириться…
– О, только пожелай этого, только скажи слово – и все забыто, все прощено тебе. В этом ручаюсь я тебе головою и честью Верховского, который не раз мне обещал свое ходатайство. для собственного блага, для спокойствия аварцев, для счастия твоей дочери и моего блаженства умоляю тебя: склонись к примирению, и все будет забыто, все прежнее возвращено тебе!
– Как смело ручаешься ты, доверчивый юноша, за чужую пощаду, за чужую жизнь!.. Уверен ли ты в своей собственной жизни, в собственной свободе?
– Кому нужна моя бедная жизнь! Кому дорога воля, которой не ценю я сам?
– Кому? Дитя, дитя! Неужели ты думаешь, что у шамхала не вертится под головой подушка, когда в голову забирается дума, что ты, настоящий наследник шамхальства тарковского, в милости у русского правительства?
– Я никогда не надеялся на его приязнь и никогда не побоюсь его вражды.
– Не бойся, но и не презирай его. Знаешь ли, что гонец, посланный к Ермолову, минутою опоздал приехать упросить его: не давать пощады, казнить тебя, как изменника! Он и прежде готов бывал убить тебя поцелуем, если б мог, а теперь, когда ты отослал к нему слепую дочь его, он не скрывает к тебе своей ненависти…
– Кто посмеет тронуть меня под защитой Верховского?
– Послушай, Аммалат, я скажу тебе побасенку: баран ушел на поварню от волков – и радовался своему счастию и хвалился ласками приспешников. Через три дня он был в котле. Аммалат, это твоя история! Пора открыть тебе глаза. Человек, которого считал ты своим первым другом, – первый предал тебя. Ты окружен, опутан изменою. Главное желание мое свидеться с тобою было долгом предупредить тебя. Сватая Селтанету, мне дали от шамхала почувствовать, что через него я вернее могу примириться с русскими, нежели через безвластного Аммалата, что тебя скоро удалят так или сяк, безвозвратно, следственно, нечего бояться твоего совместничества. Я подозревал еще более и узнал более, чем подозревал. Сегодня перехватил я шамхальского нукера, которому поручены были переговоры с Верховским, и пыткою выведал от него, что шамхал дает пять тысяч червонцев, чтобы извести тебя… Верховский колеблется и хочет послать только в Сибирь навечно. Дело еще не решено, но завтра отряд идет по домам, и они согласились съехаться в твоем доме, в Буйнаках, торговаться о крови или кровавом поте твоем: будут составлять ложные доносы и обвинения, будут отравлять тебя за твоим же хлебом и ковать в чугунные цепи, суля золотые горы!
Жалко было видеть Аммалата во время этой ужасной речи. Каждое слово, как раскаленное железо, вторгалось в сердце его. Все, что доселе таилось в нем утешительного, благородного, высокого, – вспыхнуло вдруг и превратилось в пепел. Все, во что он веровал так охотно и так долго, – рушилось, распадалось в пожаре негодования. Несколько раз порывался он говорить, но слова умирали в каком-то болезненном стоне… и наконец дикий зверь, которого держал в усыплении Аммалат, – сорвался с цепи: поток проклятий и угроз пролился из уст разъяренного бека.
– Месть, месть! – восклицал он, – неумолимая месть – и горе лицемерам!
– Вот первое достойное тебя слово, – сказал хан, скрывая радость удачи. – Довольно ползал ты змеем, подставляя голову под пяту русских; пора взвиться орлом под облака, чтобы сверху блюсти врага, недосягаем его стрелами. Отражай измену изменою, смерть смертью!
– Так, смерть и гибель шамхалу – хищнику моей свободы; гибель Абдул-Мусселиму, который дерзнул простереть руку на мое сокровище!
– Шамхал? Сын его, семья его – стоят ли они первых подвигов? Их всех мало любят тарковцы, и если мы пойдем на шамхала войною, нам все его семейство выдадут в руки. Нет, Аммалат, ты должен сперва нанести удар подле себя: сверзить своего главного врага; ты должен убить Верховского.
– Верховского! – произнес Аммалат, отступая. – Да, он враг мой, но он был моим другом, он избавил меня от позорной смерти!
– И вновь продал на позорную жизнь!.. Хорош друг! Притом же ты сам избавил его от кабаньих клыков, – достойной смерти свиноеду! Первый долг заплачен; остается отплатить за второй: за участь, которую он готовит тебе так коварно…
– Чувствую… это должно… но что скажут добрые люди? что будет вопиять совесть моя?
– Мужу ли трепетать перед бабьими сказками и плаксивым ребенком – совестью, когда идет дело о чести и мести? Я вижу, Аммалат, что без меня ты ни на что не решишься, – не решишься даже жениться на Селтанете. Слушай: если ты хочешь быть достойным зятем моим, первое условие: смерть Верховского. Его голова будет калым за невесту, которую ты любишь, которая любит тебя. Не одна месть, но и сама здравая расчетливость требует смерти полковника. Без него весь Дагестан останется без головы и оцепенеет на несколько дней от ужаса. В это время налетим мы на рассевшихся по квартирам русских. Я сажусь на коня с двадцатью тысячами аварцев и акушинцев – и мы падем с горы на Тарки, словно снежная туча. Тогда Аммалат – шамхал дагестанский – обнимет меня как друга, как тестя. Вот мои замыслы – вот судьба твоя! Выбирай любое: или вечную ссылку, или смелый удар, который сулит тебе силу – и счастье. Думай, решайся – но знай, что в следующий раз мы встретимся или родными, или врагами непримиримыми!
Хан исчез.
Долго стоял Аммалат, обуреваемый, пожираемый новыми, ужасными чувствами. Наконец Самит напомнил ему, что время возвратиться в лагерь. Не зная сам как и где, взобрался он вслед за своим таинственным провожатым на берег, нашел коня – и, не отвечая ни слова на тысячу вопросов Сафир-Али, примчался в свою палатку. Там все муки душевного ада ожидали его. Тяжка первая ночь бедствия, но еще ужаснее первая ночь кровавых дум злодейства.
Глава X
– Замолчишь ли ты, змееныш? – говорила татарка внуку своему, который, проснувшись перед светом, плакал от безделья. – Умолкни, говорю, или я выгоню тебя на улицу.
Старуха эта была мамка Аммалата. Сакля, в которой жила она, стояла вблизи палат бекских и подарена ей была ее воспитанником. Она состояла из двух чистенько выбеленных комнаток. Пол в обеих устлан циновками (гасиль); в частых нишах, без окон, стояли сундуки, обитые жестью, и на них наложены перины, одеяла и вся рухлядь. По карнизам, на половине высоты стены, расставлены были фаянсовые чашки для плову, с жестяными на них, в виде шлемов, колпаками, и повешены ребром на проволоке тарелочки, в коих просверленные скважины доказывали, что они служат не для употребления, а для красы. Лицо старухи покрыто было морщинами и выражало какую-то злую досаду – обыкновенное следствие одинокой, безрадостной жизни всех мусульманок. Как достойная представительница своих ровесниц и землячек, она ни на одну минуту не переставала ворчать про себя и вслух бранить внука из-под стеганого своего одеяла.
– Кесь (Молчи)! – вскричала наконец она еще сердитее, – кесь! Или я отдам тебя гоулям (чертям)! Слышишь, как они царапаются по кровле и стучатся за тобой в двери?
Ночь была ненастна, и крупный дождь по плоской кровле, составляющей вместе потолок, и стон ветра в трубе вторили ее хриплому голосу. Мальчик притих и, выпуча глаза, со страхом прислушивался… В самом деле послышалось, будто кто-то стучит в двери. Старуха перепугалась в свою очередь. Всегдашняя ее собеседница, лохматая собака подняла спросоньев морду и залаяла прежалобным голосом.
Но между тем удары в дверь усилились, и незнакомый голос проревел за нею:
– Ачь капины, ахырын ахырыси (Отвори дверь на конец концов)!
Старуха побледнела.
– Аллах бисмаллах!..89 – произнесла она, то обращаясь к небу, то грозя собаке, то унимая плачущего ребенка. – Цыц, проклятая! Молчи, говорю я тебе, харам-зада (бездельник, сын позора)! Кто там? Какой добрый человек пойдет ни свет ни заря в дом к бедной старухе! Если ты шайтан, ступай к соседке Кичкине – ей давно пора в ад показать дорогу! Если чоуш (десятник), – что, правду сказать, немножко похуже шайтана, – так убирайся прочь. Зятя нет дома, он в нукерах при Аммалат-беке, да меня же бек давным-давно освободил от постоя, а на угощенье приезжих дармоедов не жди от меня ни яйца, не то чтобы утенка. Разве я даром выкормила грудью Аммалата…
– Да ответишь ли ты, чертово веретено, – с нетерпением вскричал голос, – или я из этой двери не оставлю тебе на гроб дощечки!
Хилые затворы затрещали на петлях своих.
– Милости просим, милости просим! – сказала старуха, дрожащей рукой отстегивая закладку. Дверь распахнулась, и вошел человек среднего роста, прекрасной, но угрюмой наружности. Он был в черкесском платье; с башлыка его и белой бурки струилась вода; он без всяких обиняков сбросил ее на перину и начал развязывать лопасти башлыка, которые закрывали ему лицо до половины. Фатьма, вздув в это время свечу, стояла перед ним со страхом и трепетом; усастая собака, прижав хвостик, съежилась в углу, а мальчик с испугу залез в камелек, который для красы никогда не был топлен.
– Ну, Фатьма, спесива стала, – сказал незнакомец, – не узнаешь ныне старых знакомцев…
Фатьма вгляделась в черты пришельца, и у ней отлегло от сердца: она узнала Султан-Ахмет-хана, который от Кяфир-Кумыка примчался в одну ночь в Буйнаки.
– Пусть песок засыплет глаза, которые не узнали своего старого господина! – произнесла она, почтительно сложив руки на груди. – Правду молвить, потухли они в слезах по своей родине, по Аварии. Прости, хан, старухе!
– Что твои за лета, Фатьма! Я тебя помню маленькою девочкою в Хунзахе, когда сам я насилу мог доставать воронят из гнезда.
– Чужая сторона хоть кого старит, хан! В родимых горах я бы по сих пор была свежа как яблочко, а здесь так словно снежный ком, с горы упавший на долину. Прошу сюда, хан, здесь покойнее. Да чем мне потчевать дорогого гостя? Не угодно ли чего душе ханской?
– Душе ханской угодно, чтоб ты его попотчевала своей доброй волею.
– Я в твоей воле, хан. Говори, приказывай.
– Слушай, Фатьма, мне некогда терять ни слов, ни часов. Вот зачем я приехал сюда. Сослужи мне службу языком, так будет чем потешить твои старые зубы. Я подарю тебе десять баранов и одену в шелк с головы до башмаков.
– Десять баранов и платье, шелковое платье! О милостивый ага! О добрый мой хан! Не видывала я здесь таких господ с тех пор, как увезли меня эти проклятые татары и выдали за немилого… Все готова сделать, хан, хоть ухо режь!
– Резать незачем, надобно только востро держать его. Вот в чем дело: к вам сегодня приедет Аммалат с полковником, приедет и шамхал Тарковский. Полковник этот приколдовал к себе молодого твоего бека и, научив есть свинину, хочет окрестить его христианином, от чего да сохранит его Магомет.
Старуха оплевывалась, возводя очи к небу.
– Чтобы спасти Аммалата, надо поссорить его с полковником. Для этого ты приди к нему, кинься в ноги, расплачься, как на похоронах, – ведь слез тебе не занимать ходить к соседкам; разбожись, как дербентский лавочник, вспомня, что каждую клятву твою повезет дюжий баран, – и, наконец, скажи ему, что ты подслушала разговор полковника с шамхалом, что шамхал жаловался за отсылку дочери, что он ненавидит его из боязни, чтобы он не завладел шамхальством, что он умолял полковника позволить убить его из засады или отравить в кушанье, – а тот соглашался только заслать его в Сибирь за тридевять гор. Одним словом, выдумай и распиши все покраснее. Ты искони славилась сказками; не съешь же теперь грязи и пуще всего упирай на то, что полковник, едучи в отпуск, возьмет его с собою в Георгиевск, чтобы разлучить с родными и преданными нукерами и оттоле скованного отправить к черту.
Султан-Ахмет прибавил к сему все нужные подробности для придания этой сказке самой правдоподобной наружности и раза два учил старуху, как ловче ввернуть их в речь.
– Ну, помни же все хорошенько, Фатьма, – сказал он, надевая бурку. – Не забудь и того, с кем имеешь дело.
– Валла, билла! Пусть будет мне пепел вместо соли, пусть нищенский чурек закроет мне глаза, пусть…
– Не корми шайтанов своими клятвами, а услужи мне речами. Я знаю, что Аммалат верит тебе крепко, и если ты для пользы же его хорошо сладишь дело, он уедет ко мне и тебя привезет туда же. Заживешь под моим крылышком припеваючи. Но повторяю тебе: если ты нечаянно или нарочно изменишь мне или помешаешь своею болтовнёю, то я из твоего старого мяса напеку шайтанам кебаба[34].
– Будь покоен, хан… им нечего делать ни за меня, ни со мною. Я буду хранить тайну, как могила, а на Аммалата надену сорочку свою[35].
– Ну то-то же, старуха. Вот тебе золотая печать на губы – постарайся!
– Баш уста, гёз уста![36] – вскричала старуха, с жадностию схватив червонец и целуя руки хана за этот подарок.
Султан-Ахмет-хан с презрением взглянул на это ползающее существо, выходя из сакли.
– Гадина, – проворчал он, – за барана, за кусок парчи готова бы ты продать и тело дочери, и душу сына, и счастие воспитанника!
Он не подумал, какое имя заслуживал он сам, опутывая друга коварством и нанимая для низкой клеветы, для злодейских намерений подобных существ!
Лагерь близ селения Кяфир-Кумык
Август.
…Аммалат любит, но как любит!! Никогда, и в самом пылу моей юности, не доходила любовь моя до такого исступления. Я горел, как кадило, зажженное лучом солнца, он пышет, как запаленный молниею корабль на бурном море. С тобою, Мария, мы не раз читали Шекспирова «Отелло», и только неистовый Отелло может дать идею о тропической страсти Аммалата. Он часто и долго любит говорить о своей Селтанете… и я сам люблю внимать его огнедышащему красноречию. Порой это мутный водопад, извергнутый глубокою пещерою; порой это пламенный ключ нефти бакинской. Какие звезды сыплют тогда его очи, какой зарницею играют щеки, как он прекрасен бывает тогда! В нем нет ничего идеального, но зато земное величаво, пленительно. Увлеченный, тронутый сам, я принимаю на грудь свою изнемогшего от восторга юношу, и он долго, медленными вздохами дышит и потом, склонив очи, опустив голову, будто стыдясь глядеть на свет, не только на меня, сжимает мне руку и неверною стопою уходит прочь… после того целый день не выманишь от него слова.
Со времени возврата своего из Хунзаха он стал еще мрачнее прежнего; особенно в последние дни. Он так старательно кроет самое высокое, самое благородное чувство, сближающее человека с божеством, как будто бы оно позорная слабость или ужасное преступление. Он убедительно просился съездить еще раз в Хунзах повздыхать на свою красавицу – и я отказал ему, отказал для его же пользы. Я уже давно писал к Алексею Петровичу о моем баловне, и он велел привезти его с собой на воды, где будет сам. Он хочет дать ему поручения к Султан-Ахмет-хану, которые принесут несомненные выгоды и России и Аммалату… О, как счастлив буду я его счастием… Мне, мне будет обязан он блаженством жизни, не только пустою жизнию. Я заставлю его стать перед тобой на колени и скажу: «Боготвори ее!» Если бы сердце мое не было проникнуто любовью к Марии, ты не овладел бы Селтанетой.
Вчера получил я летучку от главнокомандующего; великодушный человек! Он дает крылья счастливым вестям. Все кончено, милая, бесценная. Я еду к тебе на воды! Только доведу полк до Дербента – и в седло. Не буду знать устали днем, ни дремы ночью, покуда не отдохну в твоих объятиях. О, кто мне даст крылья на перелет! Кто даст сил вынести мое, наше благополучие!.. Я в сладком страхе сжимал грудь, чтобы не выпорхнуло сердце. Долго не мог я уснуть: воображение рисовало мне встречу в тысяче видах, и в промежутках мелькали самые вздорные, но приятные заботы о свадебных безделках, подарках, уборах: ты будешь в моем любимом зеленом цвете… не правда ли, душа моя?.. Мечты мешали мне заснуть, как сильное благоухание роз. Зато тем сладостнее, тем светлее был сон мой. Я видел тебя в сиянии зари… и раз за разом иначе, и каждый раз прелестнее, чем сперва. Сновидения вились цветочною вязью… иль нет, между ними не было никакой связи; то были чудные образы, выпадающие в калейдоскопе, столь же пестрые, столь же неуловимые. Со всем тем я проснулся сегодня грустен; пробуждение отняло у младенческой души моей любимую игрушку. Я зашел в палатку к Аммалату… он еще спал… лицо его было бледно и сердито… Пускай сердится на меня… я предвкушаю уже благодарность бурного юноши. Я, как судьба, втайне создаю ему наслаждение…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сегодня я прощался с здешними горами, надолго… желал бы навсегда. Я очень рад, что покидаю Азию, эту колыбель рода человеческого, в которой ум доселе остался в пеленках. Изумительна неподвижность азиатского быта в течение стольких веков. Об Азию расшиблись все попытки улучшения и образования; она решительно принадлежит не времени, а месту. Индийский брамин, китайский мандарин, персидский бек, горский уздень неизменны, те же, что были за две тысячи лет. Печальная истина! Они изображают собою однообразную, хотя и пеструю, живую, но бездушную природу. Мечи и бичи покорителей не оставили на них, как на воде, никаких рубцов; книги и примеры миссионеров не произвели ни малейшего влияния. Иногда меняли они еще пороки, но никогда не приобретали чужих познаний или доблестей. Я покидаю землю плода, чтобы перенестись в землю труда – этого великого изобретателя всего полезного, одушевителя всего великого, этого будильника души человеческой, заснувшей здесь негою на персях прелестницы природы. И в самом деле, как прелестна здесь природа! Вскакав на высокую гору влево от Кяфир-Кумыка, я любовался на рассветающие вершины Кавказа. Глядел и не нагляделся на них! Что за дивная прелесть облекает их венцом своим. Еще тонкая завеса, сотканная из света и сумрака, лежит над нижними холмами, но далекие льды уже теплились в небе, и небо, словно ласковая мать, припав к ним необъятным лоном, поило их млеком облаков, заботливо повивая туманною пеленою, освежая ветром тиховейным! О, так бы лётом и полетела туда душа моя, туда, где священный холод простерся границею между земным и небесным! Сердце просит и жаждет вздохнуть воздухом небожителей. Хочется побродить по снегам, на которых не печатлел человек кровавых стоп своих, коих не омрачала никогда тень орла, до коих не долетали перуны и на вечно юном темени которых время – след вечности – не оставило следов своих!
Время? Мне пришла в голову странная мысль. Сколько дробных названий изобрел щепетильный человек для деления бесконечно малого отрезка времени от бесконечно великого круга вечности. Годы, месяцы, дни, часы, минуты… У Бога нет ничего этого, нет даже ни вчера, ни завтра, – у него все это слилось в одно вечное ныне!.. Увидим ли мы когда-нибудь этот океан, в котором тонем доселе? Но вопрос: к чему послужит это человеку? Неужели для удовлетворения пустого любопытства? Нет, познания истины, то есть всеразумной благости, жаждет душа человека мыслящего. Она хочет полною чашею черпать из источника света, который падает на нее изредка мелкими росинками!..
И я буду черпать ее… тайный страх смерти тает как снег перед лучом такой надежды!.. Я буду черпать из него… чистая любовь моя к ближнему тому залогом; свинцовые путы заблуждений распадутся от немногих слез раскаяния – и повергну сердце свое, как жертву очистительную, перед судом, для меня не страшным!
Чудная вещь, моя милая! Едва взгляну я на горы, на море, на небо… какое-то грустное и вместе невыразимо сладостное чувство гнетет и расширяет сердце. Мысль о тебе сливается с ним, и, будто во сне, убегает от меня твой образ. Предвкушение ли это земного блаженства, которое знал я лишь по имени, или предчувствие… веч<ности>?..
О бесценная, добрая, ангельская душа! Один взор твой – и я исцелен от мечтательности! Как счастлив я, что могу теперь с уверенностию сказать: «До свиданья».
Глава XI
Яд клеветы пожигал внутренность Аммалата. По наущению хана, кормилица его Фатьма со всеми признаками преданности и бескорыстной искренности передала ему условленную заранее сказку в тот же самый вечер, как он с Верховским приехал в Буйнаки, где встретил их шамхал, из учтивости и уважения к полковнику. Отравленная стрела вонзилась глубоко… Теперь сомнение было бы отрадою Аммалату, но убеждение, казалось, озарило все прежние дружественные и родственные связи его светом ярким, хотя погребальным. В порыве ярости он хотел в ту же минуту утолить месть свою в крови обоих изменников – но уважение к святыне гостеприимства преодолело кровожадность. Он отложил на время убийство… Но мог ли забыть о нем? Каждый миг отсрочки, как разожженная медь, капал на его сердце. Воспоминания, доказательства, ревность, любовь вырывали оное друг у друга… и это положение было для него так ново, так странно, так страшно, что он впадал в безумие, тем более тяжкое, что он должен был скрывать внутреннюю борьбу от своего прежнего друга. Так протекли целые сутки. Отряд остановился лагерем близ селения Бугдень, в котором ворота, построенные в ущелий, служащем дорогою в Акушу, замыкают оную по произволу жителей бугденских. Вот что писал Аммалат, желая хоть чем-нибудь облегчить тоску души, готовящейся на черное злодеяние.
Полночь.
…Зачем бросил ты, Султан-Ахмет-хан, молнию в грудь мою? Братская дружба – и братопредательство, братоубийство… Какие ужасные крайности? И между ними только один шаг, одно мгновение!..
Я не могу спать, не могу думать о другом, я прикован к этой мысли, как преступник к колоде своей. Кровавое море ходит, плещет, бушует кругом меня, и над ним сверкают только молнии вместо звезд… Душа моя подобна теперь голой скале, на которую слетаются одни хищные птицы и злые духи делить добычу или готовить гибель. Верховский, Верховский! что сделал я тебе? За что хочешь ты сорвать с неба звезду моей свободы? Не за то ль, что я так нежно любил тебя!! И почему ты подкрадываешься, как вор, клевещешь, коварствуешь, лицемеришь? Сказал бы просто: «Мне нужна жизнь твоя», и я бы отдал ее безропотно… лег жертвою, как сын Ибрагима (Авраама)90; я бы простил тебя, если б ты посягал только на жизнь мою, но продать мою свободу, похитить у меня, заживо погребенного, Селтанету! Злодей! и ты еще дышишь!..
Но повременно, как опаленный голубь среди пожарного дыма, является мне образ твой, Селтанета!.. Отчего ж я не радостен, мечтая о тебе, как, бывало, прежде?.. Нас хотят разлучить, милая, отдать тебя другому, женить меня на могильной плите. Но я пройду до тебя по кровавому ковру… я исполню страшный завет, чтобы овладеть тобою. Не одних подруг зови на свадебный пир наш – зови коршунов и воронов… всех угощу я досыта! Я заплачу богатое вено (калым) …В изголовье невесты положу я сердце, которое недавно еще ценил я дороже тронной подушки персидского падишаха[37].
…Чудная судьба!.. Невинная девушка, ты будешь виною неслыханного злодейства. Добрейшее создание, за тебя друзья станут терзать друг друга с зверскою лютостию. для тебя?., за тебя?.. В самом ли деле за одну тебя?.. С лютостию? с одной ли лютостию? Верховский говорил, что убить неприятеля украдкою, врасплох – подло, низко… но если я не могу иначе сделать этого?.. Но можно ли ему верить? Хитрец хотел заранее опутать не только руку, но даже и совесть мою!.. Напрасно!..
…Я зарядил теперь винтовку мою… Какой славный витой ствол… что за чудесная насечка! Она досталась мне от отца, отцу от прадеда. Мне рассказывали про множество знаменитых из нее выстрелов… и ни один, ни один не был пущен украдкою… всегда в бою, всегда в глазах целого войска бросала она смерть… а теперь?.. Но обида, но измена, но ты, Селтанета!.. О, рука моя не дрогнет нанести удар тому, которого имя написать она трепещет. Один заряд, один удар – и все кончено!
Заряд?.. Как он легок… Но как тяжко, может быть, станет каждое зернышко пороху на весах Аллы!.. Как далеко, как невообразимо далеко забросит этот заряд душу человека!.. О, да будет проклят тот, кто изобрел тебя, серая пыль, предающая героя во власть последнего труса, поражающая издали врага, который бы одним взором обезоружил поднятую на него руку! Так, этот удар расторгнет все прежние связи мои, но он проложит мне дорогу к новым. В прохладе Кавказа, на груди Селтанеты освежится вновь мое увялое сердце. Как ласточка, я совью себе гнездо на чужбине; как для ласточки, весна будет моим отечеством; я сброшу с себя все печали, как старые перья…
…Но линяют ли угрызения совести?.. Последний лезгин, завидя в бою того, с кем делил хлеб-соль, отворачивает коня в сторону и стреляет мимо, – а я пронжу сердце, на котором отдыхал как брат родной! Конечно, он обманывал меня своей дружбою, но разве оттого менее был я счастлив? О, если бы этими слезами я мог выплакать гнев свой, залить ими жажду мщения, купить на них Селтанету!!
Что же медлит заря! Пускай выходит она… Я, не краснея, взгляну на солнце, не бледнея, в очи Верховскому. Сердце мое закалено против сострадания… измена зовет измену… Я решился… Скорей, скорей!
Так беспорядочно, бессвязно писал Аммалат, чтобы обмануть время и развлечь душу; так старался он обмануть самого себя, подстрекая себя местию, когда истинная вина его кровожадности, то есть желание владеть Селтанетою, пробивалась в каждом слове. Чтобы придать себе дерзости на злодеяние, он выпил много вина и, опьянелый, с ружьем кинулся к палатке полковника. Но, увидя часовых у входа, раздумал. Врожденное в азиатце чувство самосохранения не погасло и в самом безумии. Аммалат отложил до утра совершение убийства – но спать не мог он, но разгулять тоски своей не мог он… и, войдя снова в палатку свою, он схватил за грудь крепко спящего Сафир-Али и сильно потряс его.
– Вставай, соня! – вскричал он ему. – Уже заря.
Сафир-Али приподнялся с недовольным видом и, зевая, отвечал:
– Я вижу только винное зарево на твоих щеках. Спокойной ночи, Аммалат!
– Вставай, говорю я тебе! Мертвые должны покинуть гробы навстречу нового пришельца, которого обещал я им для беседы!
– Помилуй, братец, разве я мертвый?.. Пускай себе встают хоть сорок имамов[38] с дербентского кладбища – а я хочу спать!
– Но ты любишь пить, гяур, и ты должен пить со мною!
– Это иное дело… наливай полнее… Алла верды[39] Я всегда готов пить и любить!
– И врага убить!.. Ну, еще… за здоровье черта, который друзей оборачивает смертельными врагами.
– Так и быть… катай за здоровье черта – бедняжке нужно здоровье; мы вгоним его в чахотку с досады, что не удастся нас поссорить!
– Правда, правда… люди не нуждаются в нем для злобы… С Верховским и со мной он бросил бы карты… Но и ты не отстанешь, надеюсь, от меня?..
– Аммалат, я не только вино из одной бутылки, да и молоко сосал из одной груди с тобою. Я твой, если даже тебе вздумается, словно коршуну, свить себе гнездо на скале Хунзаха… Впрочем, мой бы совет…
– Никаких советов, Сафир-Али… никаких возражений… Теперь уже не время…
– И в самом деле, они перетонут, как мухи в вине; теперь пора спать…
– Спать, говоришь ты? Мне спать? Нет, я сказал прости сну… мне пора пробудиться. Осмотрел ли ты ружье, Сафир-Али? Хорош ли кремень? Не отсырел ли от крови порох на полке?..
– Что с тобою, Аммалат? Что у тебя за свинцовая тайна на сердце? Лицо твое страшно, речи еще страшнее…
– А дела будут еще ужаснее! Не правда ли, Сафир-Али, моя Селтанета прекрасна! Заметь это: моя Селтанета… Неужели это свадебные песни, Сафир-Али?.. Да, да, да, понимаю… это чакалы просят добычи!.. Духи и звери! погодите немного, я насыщу вас. Гей! подайте вина, еще вина, еще крови… говорю я вам!
Аммалат упал в беспамятстве опьянения на постелю; пена била клубом с его уст, судорожные движения волновали все тело; он произносил со стоном невнятные слова.
Сафир-Али заботливо раздел его, уложил, укутал и просидел остаток ночи над молочным братом своим, напрасно приискивая в уме разрешения загадочным для него речам и поведению Аммалата.
Глава XII
Поутру, перед, выступлением, дежурный по отряду капитан пришел к полковнику Верховскому с рапортом и за новыми приказаниями. После обычного размена слов по службе он со встревоженным видом сказал:
– Полковник, я обязан сообщить вам важную вещь. Вчерашний вестовой ваш, рядовой моей роты Хамитов, подслушал разговор Аммалат-бека с его кормилицею в Буйнаках. Он казанский татарин и порядочно понимает здешнее наречие. Сколько мог он разобрать и расслушать, старуха уверяла его, что вы с шамхалом собираетесь отправить его на каторгу. Аммалат бесился, бранился, говорил, что все это знает он от хана Аварского, и клялся погубить вас своею рукою. Не доверяя, однако ж, своему слуху, вестовой не решился ничего объявить, а стал присматривать за всеми его шагами. Вчерась ввечеру, говорит он, Аммалат разговаривал с каким-то издалека приехавшим всадником… на прощанье сказал он: «Скажи хану, что завтра, чуть встанет солнце, все будет кончено. Пусть готовится он сам, я с ним скоро увижусь!»
– И только, г<осподи>н капитан? – спросил Верховский.
– Более ничего не имею я сказать, но очень многое могу думать. Я измыкал свой век между татарами и удостоверился, полковник, что безрассудно доверяться самому лучшему из них. Родной брат не безопасен, отдыхая на руке брата.
– Тому вина зависть, капитан; Каин передал ее в вечное и потомственное владение всем людям91, но преимущественно соседам Арарата. Нам же с Аммалатом нечего делить; притом же я ничего не сделал ему, кроме добра, ничего не хочу делать, кроме благодеяний. Будьте покойны, капитан: я очень верю усердию вестового, но мало его знанию татарского языка. Несколько сходных звуков ввели его в заблуждение – а уж раз создал в уме умысел, все прочее казалось ему доказательствами. Право, я не такой важный человек, чтобы ханы и беки делали заговоры на жизнь мою. Я очень хорошо знаю Аммалата; он вспыльчив, но доброго сердца и не смог бы двух часов потаить злодейского умысла.
– Не ошибитесь, полковник! Аммалат все-таки азиатец, а это слово – аттестат. Здесь не как у нас. Здесь слово скрывает мысль, а лицо – душу. На иного взглянешь – ну, кажется, сама невинность, а попытайся иметь с ним дело: это бездна подлости, коварства и лютости.
– Вы имеете полное право так думать, любезный капитан, по опыту. Султан-Ахмет-хан дал вам памятную поминку в Буйнаках, в доме Аммалата. Но я, я не имею никакого повода подозревать в чем-либо ужасном Аммалата. Да и какую выгоду найдет он убить меня? Во мне все его блага, все надежды. Он сумасброд, но не сумасшедший… притом же, как видите, солнце высоко, а я жив и здоров. Сердечно благодарю вас, капитан, за участие… но прошу вас: не сомневайтесь в Аммалате и, видя, как ценю я старую дружбу, будьте уверены, что я буду высоко ценить и новую. Прикажите бить подъем!
Капитан вышел, сомнительно качая головою. Барабаны загремели, и выстроенный в боевой порядок отряд двинулся с ночлега далее. Утро было свежо и ясно; путь вился по зеленым валам предгорий кавказских, где, инде увенчанных лесом или кустарником. Строй был подобен стальному потоку, то катящемуся с гор, то востекающему на холмы. Туманы еще лежали в удолиях, и Верховский, взъезжая на вершины, каждый раз оглядывался, чтобы полюбоваться чудною игрою зрения. Спускаясь с крутизны, строй точно будто тонул в дымной реке, подобно войскам фараона92, и наконец с глухим шумом вновь сверкали штыки из волн тумана, потом являлись головы, плечи; люди росли, вырастали, взбегали на высь и снова окунывались в туманы другого ущелия.
Аммалат ехал бледен и угрюм, подле самого взвода застрельщиков. Казалось, он желал, чтобы грохот барабана заглушил в нем голос совести. Полковник подозвал его к себе и очень ласково сказал:
– Тебя надобно пожурить, Аммалат: чересчур ты начал следовать урокам Гафиза. Вспомни, что вино хороший слуга, но злой барин. Впрочем, головная боль и желчь, разлитая по твоему лицу, верно подействуют на тебя гораздо лучше слов. Ты провел буйную ночь, Аммалат?
– Бурную, мучительную ночь, полковник! Дай Бог, чтобы такая ночь была последнею… Мне снились страшные сны.
– Ага, дружок! Вот таково преступать завет Магомета – правоверная совесть тебя мучила, как стень93.
– Хорошо, у кого совесть спорит с одним вином.
– Какова совесть, любезный! По несчастию, она так же подвержена предрассудкам, как и сам рассудок. У каждого века, у каждого народа была своя совесть, и голос вечной, неизменной истины умолкал перед самозванкою. Так было, так есть. Что вчерась почитал иной грехом смертным, тому завтра молится; что считают правым и славным на этом берегу, за речкой доводит до виселицы.
– Однако ж, я думаю, лицемерие и измена никогда и нигде не считались добродетелями!
– Не скажу и этого. Мы живем в таком веке, где лишь удача решит, хороши или нет были средства ее достигнуть; где люди самые совестные изобрели для себя очень покойное правило, что цель освящает средства.
Аммалат-бек в раздумье повторил эти слова, потому что их оправдывал. Яд эгоизма снова начинал в нем разыгрываться, и слова Верховского, которые считал он коварством, лились, как масло на пламя. «Лицемер, – говорил он про себя, – час твой близок!» И между тем Верховский, как жертва, ничего не подозревающая, ехал рядом с своим палачом. Не доезжая верст восьми до Киекента, с горы открылось перед ними Каспийское море, и думы Верховского понеслись над ним, как лебедь.
– Зеркало вечности, – произнес он, впадая в мечтания. – Отчего не радует сегодня меня лицо твое? Как прежде, играет на тебе солнце, словно Божья улыбка, и лоно твое так же величаво дышит вечною жизнию, – но это жизнь не здешнего мира, ты кажешься мне сегодня печальною степью… ни лодки, ни корабельного паруса, никакого признака бытия человеческого… Все пусто!! Да, Аммалат, – примолвил он, – мне наскучило ваше почти всегда сердитое, пустое море; ваш край, населенный болезнями и людьми, которые хуже всех болезней в свете… мне наскучила самая война с незримыми врагами, самая служба с недружными товарищами. Этого мало, что мне мешали в деле, портили, что я приказывал делать… но порочили то, что я думал делать, и клеветали на сделанное. Верой и правдой служил я государю, бескорыстно отечеству и здешнему краю; отказался я, добровольный изгнанник, ото всех удобств жизни, ото всех радостей общества, осудил свой ум на неподвижность, без книг; похоронил сердце в одиночестве, без милой… и что было мне наградою? О, скоро ль настанет минута, когда я брошусь в объятия моей невесты, когда я, усталый от службы, отдохну под сенью родной хижины на злачном берегу Днепра!.. когда, мирный селянин и нежный отец семейства, в кругу родных и добрых крестьян моих, буду бояться только града небесного за жатву, сражаться только с дикими зверями за стадо. Сердце ноет по этом часе! Отпуск у меня в кармане, отставка обещана… так бы лётом летел к невесте… И через пять дней я непременно буду в Георгиевске, а все кажется, будто пески Ливии, будто ледяное море, будто целая вечность могилы разлучают нас!..
Верховский умолк; по щекам его катились слезы; конь его, почуяв брошенные повода, ускорил ход, и, таким образом, вдвоем с Аммалатом они далеко опередили отряд… Казалось, сама судьба предавала полковника в руки злодея.
Но жалость проникла в душу неистового, вином пылающего Аммалата, подобно лучу солнечному, упавшему в разбойничью пещеру. Он увидел тоску и слезы человека, которого столь долго считал другом своим, – и поколебался… «Нет, – думал он сам с собою, – до такой степени невозможно притворяться…»
В эту минуту Верховский очнулся, поднял голову и сказал Аммалату:
– Приготовься… ты едешь со мною.
Несчастные слова! Все доброе, все благородное, возникавшее вновь в груди азиатца, в один миг было подавлено ими. Мысль о предательстве, о ссылке огненным потоком протекла по всему его существу.
– С вами? – возразил он с злобною усмешкою, – с вами в Россию? О, без сомнения, если вы сами поедете!
И в порыве гнева он пустил вскачь коня своего, чтобы иметь время справиться с оружием, и вдруг обратился навстречу полковнику, пронесся мимо и стал давать быстрые круги около. С каждым скоком сильней разгоралось в нем пламя бешенства. Ему казалось, что свистящий мимо ушей воздух жужжал ему: «Убей, убей! Это враг твой! Вспомни Селтанету…» Он схватил из-за плеча меткое ружье свое, взвел курок и, ободряя себя криком, поскакал с кровожадною решительностью к обреченной жертве.
Между тем Верховский, не питая ни малейшего подозрения, спокойно смотрел на скачку Аммалата, воображая, что он, по напутному обычаю азиатцев, хочет поджигитовать.
– Стреляй в цель, Аммалат-бек! – закричал он несущемуся на него убийце.
– Какая цель лучше груди врага! – отвечал Аммалат-бек, наскакивая, и в десяти шагах спустил курок… выстрел грянул… и молча, медленно свалился полковник с седла. Испуганный конь его, вздув ноздри, ощетинив гриву, обнюхивал всадника, в руке которого замерли доселе повелительные поводья, – а конь Аммалата стал вдруг перед телом, упершись передними ногами. Аммалат соскочил с него и, опершись на дымящееся ружье, несколько мгновений пристально смотрел на лицо убитого, как будто желая доказать самому себе, что он не страшится этого неподвижного взора потухающих очей, этой холодеющей крови!.. Трудно было узнать, невозможно передать того, что крутилось вихрем в груди его. Сафир-Али прискакал стремглав и кинулся на колени подле полковника… Приложил ухо к устам его – не дышит! ощупал сердце – не бьется!
– Он мертв! – произнес Сафир-Али отчаянным голосом.
– Мертв? Совсем мертв? Тем лучше… счастие мое свершено! – произнес Аммалат, будто пробуждаясь от сна.
– Для тебя счастие! для тебя, братоубийцы!.. Если ты найдешь его, свет станет молиться шайтану вместо Аллы.
– Сафир-Али! вспомни, что ты не судья мне! – грозно сказал Аммалат, ступая в стремя. – Следуй за мною.
– Пускай одно раскаяние преследует тебя как тень, – отныне я не товарищ твой!
Пронзенный до глубины души нежданным укором от человека, с которым связан был дружеством от младенчества, Аммалат не вымолвил слова, указал своим изумленным нукерам на ущелие и, видя погоню, как стрела ринулся в горы.
Тревога распространилась по фронту; передовые офицеры и донские казаки кинулись на выстрел, но они поздно прискакали туда; они не могли ни воспрепятствовать злодейству, ни достичь убегающего злодея. Через пять минут окровавленный труп изменнически убитого полковника окружен был толпами солдат и офицеров… Недоумение, негодование, жалость были написаны на всех лицах. Гренадеры, опершись на штыки, плакали навзрыд; и нельстивые слезы текли у них градом по храбром любимом начальнике.
Глава XIII
Трое сутки скитался Аммалат по горам Дагестана. Как мусульманин, он и в деревнях, покорных русскому владычеству, между людьми, для коих воровство, разбой и бегство – доблесть, безопасен был от всякого преследования; но мог ли уйти от сознания в собственном преступлении? Ни ум, ни сердце его не оправдывали кровавого поступка… и образ падающего с коня Верховского неотступно возникал даже перед закрытыми очами. Это еще более ожесточало, раздражало его. Азиатец, совратясь однажды с пути, быстро пробегает поприще злодейства. Завет хана, чтоб не являться перед него без головы Верховского, звенел в ушах его. Не смея открыть такого намерения нукерам своим, еще менее надеясь на их отвагу, он решился ехать к Дербенту один-одинехонек, целиком94, через горы и долы.
Глухая, темная ночь раскинула уже креповые крылья свои над приморскими хребтами Кавказа, когда Аммалат переехал ущелие, лежащее сзади крепости Нарынь-кале, служащей цитаделью Дербенту. Он поднялся к развалинам башни, замыкавшей некогда кавказскую стену, поперек гор тянувшуюся, и привязал коня своего у подножия того кургана, с которого Ермолов громил Дербент, бывши еще артиллерийским поручиком95. Зная, где хоронят чиновников, он прямо вышел на верхнее русское кладбище. Но как найти ему свежую могилу Верховского во тьме ночи? В небе ни звездочки; облака налегли на горы… горный ветер, как ночная птица, хлопал по лесу крыльями; невольный трепет проник Аммалата посреди края мертвецов, коих покой дерзал он нарушить. Прислушивается – море бушует, напирая и отшибаясь от подводных плит. Протяжное «слушай!» часовых обтекало стены города, и вслед за ним раздавался вой чакалов, и наконец все стихало, сливаясь с шумом ветра. Сколько раз вместе с Верховским бодрствовал он в подобные ночи, – и где теперь он? И кто низвергнул его в могилу? И его убийца пришел теперь обезглавить труп недавнего друга, надругаться над его останками; как вор гробокопный, пришел похитить достояние могилы, спорить с чакалами о добыче.
– Чувства человеческие! – произнес Аммалат, отирая холодный пот с чела, – зачем посещаете вы сердце, которое отверглось человечества? Прочь, прочь! Мне ль бояться отнять голову у мертвеца, у которого похитил я жизнь? Ему это не потеря, а мне сокровище… Прах бесчувствен!
Аммалат дрожащей рукой высек огня, раздул его на сухом бурьяне и пошел с ним искать новой могилы. Рыхлая земля и большой крест указали ему последнее жилище полковника. Он выдернул крест и начал разгребать им холмик; разбил еще неокреплый кирпичный свод и наконец сорвал крышку с гроба. Бурьян, вспыхивая, проливал неровный крово-синий блеск на предметы. Склонясь над покойником, убийца, бледнее самого покойника, глядел на труп неподвижно. Он забыл, зачем пришел туда… голова его кружилась от запаха тления… сердце в нем обратилось при виде кровоглавых червей, которые вились уже из-под платья. Прервав свою страшную работу, они, испуганные светом, расползались, сбирались, прятались друг под друга! Наконец, ожесточась, он несколько раз взмахивал кинжалом, и всякий раз немеющая рука его падала мимо. Ни месть, ни честолюбие, ни любовь – словом, ни одна страсть, подвигшая его на убийство, не ободряли теперь на безымянное неистовство. Отворотив голову, в каком-то забытьи стал он рубить Верховского по шее… на пятом ударе голова отделилась от туловища. С отвращением бросил он ее в приготовленный мешок и спешил вылезть из могилы. До сих пор он еще побеждал себя – но когда с страшным кладом своим карабкался вверх, когда камни с шумом обрушились под его ногами и он, осыпанный песком, снова упал на труп Верховского, присутствие духа оставило святотатца… ему казалось, что пламя охватило его, что адские духи, плеща и хохоча, взвились окрест его… С тяжким стоном вырвался, выполз он без памяти из душной могилы и бросился бежать, страшась оглянуться. Вскочив на коня, он погнал его, не разбирая утесов и оврагов, и каждый цепляющийся за платье куст казался ему рукою мертвеца, и каждый шелест ветки и стон чакала – голосом дважды зарезанного друга.
Везде, где ни проезжал Аммалат, встречал он вооруженные толпы акушлинцев и аварлы, приезжих чеченцев и тайных хищников из татарских деревень, подвластных России. Все они спешили на сборные места, ближе к границе, между тем как беки, уздени и князьки съезжались в Хунзах, для совета с Султан-Ахмет-ханом, под предводительством и по приглашению которого собирались они ударить на Тарки. Время к тому было самое благоприятное: хлеб в амбарах, сено в стогах, и русские, взяв аманатов, в совершенной безопасности расположились на зимние стоянки. Весть об убийстве Верховского разлетелась по всем горам и весьма ободрила горцев. Весело сходились они отовсюду – везде слышались их песни о будущих битвах и добычах, – а тот, за кого шли сражаться они, проезжал между ними, как беглец и преступник, скрывая лицо от солнца, не смея взглянуть никому прямо в глаза. Все, что случилось с ним, все, что видел он, теперь представлялось ему будто в удушливом сне… он не смел сомневаться в том и не мог верить. На третий день к вечеру доехал он до Хунзаха.
Трепеща от нетерпения, спрыгнул он с коня, измученного бегом, и взял из тороков роковой мешок. Передние комнаты были полны воинами. Наездники в кольчугах расхаживали или вдоль стен лежали на коврах, шепотом разговаривая между собою… но повисшие брови их, но угрюмые лица доказывали, что в Хунзахе получены, верно, худые вести. Нукеры бегали взад и вперед торопливо, и никто не спросил, никто не проводил Аммалата, никто не обратил на него внимания. У самых дверей спальни ханской сидел Сурхай-хан-джинка, то есть побочный сын Султан-Ахмета, – и горько плакал.
– Что это значит? – с беспокойством спросил его Аммалат. – Ты, у которого и в младенчестве не добивались слез, ты плачешь?..
Сурхай безмолвно указал на двери, и Аммалат с недоумением переступил за решетчатый порог.
Сердцераздирающее зрелище представилось глазам пришельца. Посреди комнаты на тюфяке лежал хан, обезображенный быстрою болезнию. Незримая, но уже неотразимая кончина носилась над ним, и погасающий взор встречал ее с ужасом. Грудь вздымалась высоко и потом тяжело опадала; дыхание шипело в гортани, жилы рук напрягались и снова исчезали; в нем свершалось последнее борение жизни с разрушением… пружина бытия уже лопнула, но колеса еще двигались неровным ходом, задевая друг за друга. Едва искры памяти мелькали в нем, как падучие звезды сквозь ночь, густеющую над душою, и отражались на мертвеющем лице. Жена и дочь рыдали на коленях у его ложа… старший его сын Нуцал в безмолвном отчаянии стоял в ногах, склонив чело на сжатую руку. Несколько женщин и нукеров плакали тихо поодаль.
Все это, однако ж, не поразило, не образумило Аммалата, преисполненного одною мыслию. Он твердою поступью приблизился к хану и громко сказал ему:
– Здравствуй, хан, я привез тебе подарок, от которого бы оживился мертвец. Готовь свадьбу – вот мой выкуп за Селтанету! Вот голова Верховского! – С этим словом он бросил ее к ногам хана.
Знакомый голос пробудил на миг Султан-Ахмета от последнего сна; он поднялся с усилием, чтобы взглянуть на подарок, и трепет волной пробежал по его телу, когда он увидел мертвую голову.
– Пускай съест свое сердце тот, кто потчует умирающего такой ужасною яствою, – произнес он едва внятно. – Мне надо помириться с врагами, а не… Ах, горю! Дайте воды, воды… Зачем вы напоили меня горячею нефтью? Аммалат! я проклинаю тебя!..
Усилие истратило последние капли жизни в хане: он упал бездушным трупом на изголовье. Ханша с негодованием смотрела на кровавый, неуместный подарок Аммалата; но когда увидела она, что это ускорило смерть ее мужа, вся тоска ее вспыхнула огнем гнева.
– Посол ада, – вскричала она, сверкая взором. – Любуйся: вот твои подвиги! Если б не ты, муж мой не задумал бы подымать на русских Аварлу и теперь здоров и покоен сидел бы дома – но для тебя, объезжая узденей, он упал с крутизны и слег в постелю, – и ты, кровопийца, вместо того чтоб утешить больного кроткими словами, чтобы молитвою и милостыней помирить его с Аллахом, принес, как людоеду, мертвую голову, и чью голову? – твоего благодетеля, защитника и друга!
– На то была воля хана, – угрюмо возразил Аммалат.
– Не клевещи на мертвого, не марай его памяти лишнею кровью! – воскликнула ханша. – Недовольный тем, что изменнически зарезал ты человека, – ты с его головою приехал сватать дочь мою у смертного одра отца, и ты надеялся получить награду от людей, заслужив месть от Бога? Безбожник, бездушник! Нет, гробом предков и саблями сыновей клянусь: ты никогда не будешь зятем моим, знакомцем, гостем моим. Удались из моего дома, изменник! У меня есть сыновья, которых можешь ты зарезать обнимая, у меня есть дочь, которую можешь ты зачаровать, отравить змеиными своими взорами. Ступай скитаться в ущельях гор – учи тигров терзать друг друга и отбивай падаль у волков. Ступай – и ведай, что дверь моя не отворяется для братоубийцы!
Аммалат стоял как опаленный молниею.
Все, что роптала невнятно его совесть, высказано было ему вдруг и так неожиданно, так жестоко! Он не знал, куда девать очи свои… Там лежала голова Верховского с обвинительною кровью, там виделось укорительное чело хана с печатью мучительной кончины, там встречал он грозные очи ханши… лишь плачущие очи Селтанеты казались ему приветными звездочками сквозь дождевую тучу. К ней-то решился приблизиться он, робко произнеся:
– Селтанета! для тебя совершил я то, за что тебя теряю… Судьба хочет этого – да будет! Одно скажи мне: неужели и ты разлюбила меня? ужели и ты ненавидишь?
Знакомый милый голос проник ее сердце. Селтанета подняла свои ресницы, блистающие слезами, свои глаза, полные тоскою… но, увидев страшное, кровью забрызганное лицо Аммалата, закрыла опять их рукою. Она указала перстом на труп отца, на голову Верховского и твердо сказала:
– Прощай, Аммалат; я жалею тебя, но не могу быть твоею.
Сказав слова сии, она пала без чувств на тело отца.
Вся природная гордость вместе с кровью прилила к сердцу Аммалата. Дух его вспыхнул негодованием.
– Так-то принимают меня здесь! – молвил он, бросая презрительный взгляд на обеих женщин. – Так-то исполняют здесь обеты! Я рад, что глаза мои прояснели. Я был слишком прост, когда ценил переходчивую любовь ветреной девушки, слишком терпелив, слушая бредни старой женщины. Вижу, что с Султаном-Ахмет-ханом умерли здесь честь и гостеприимство!
Он вышел гордо. Он дерзко заглядывал в глаза узденей, сжав рукоять кинжала, как будто вызывая их на бой. Все, однако ж, уступали ему дорогу – но, кажется, более избегая его, чем уважая; никто не приветствовал его ни словом, ни знаком. Он вышел на двор, кликнул нукеров своих, безмолвен сел в седло и тихими шагами поехал по пустым улицам Хунзаха.
С дороги в последний раз оглянулся он на ханский дом, чернеющий в высоте и мраке… между тем как решетчатые двери блистали огнями. Сердце его облилось кровью, оскорбленное самолюбие вонзило в него железные когти свои, а напрасное злодеяние и любовь, отныне презренная, безнадежная, пролили отраву на раны. С тоскою, с гневом, с сожалением бросил он прощальный взор на гарам, в котором узнал и потерял все радости земные.
– И ты, и ты, Селтанета! – более не мог произнести он. Свинцовая гора лежала на груди… совесть его уже чувствовала страшную руку, на ней тяготеющую; минувшее его ужасало… будущее приводило в трепет… Куда преклонит он свою оцененную голову? Какая земля упокоит кости изгнанника? Не о любви, не о дружбе, не о счастии отныне будет его забота… но о скудной жизни, о скитальческом хлебе… Аммалат хотел плакать: глаза его горели… и, как богач, кипящий в огне, сердце его молило об одной капле, об одной слезинке: залить, утолить нестерпимую жажду… он силился плакать и не мог. Провидение отказало в этой отраде злодеям.
И куда скрылся убийца Верховского? Где влачил он жалкое свое бытие? Никто наверно не знал этого. По Дагестану ходили слухи, что он скитался между чеченцами и койсубулинцами, утратив красоту и здоровье и даже самую отвагу; но кто же мог сказать про то утвердительно? Мало-помалу запала и молва об Аммалате, хотя злодейская измена его до сих пор свежа на памяти русских и мусульман, обитателей Дагестана; до сих пор имя его никем не произносится без укора.
Глава XIV
Анапа, эта оружейница горских разбойников, этот базар, на котором продавались слезы, и пот, и кровь христианских невольников, этот племенник мятежей для Кавказа, Анапа, говорю, в 1828 году обложена была русскими войсками с моря и от угорья. Канонерские лодки, бомбарды96 и все суда, которые могли подходить близко к берегу, громили приморские укрепления. Сухопутные войска переправились через реку Рион, которая впадает в Черное море под северною стеною Анапы и расплывается кругом всего города топкими болотами. Потом повели они бревенчатые траншеи, вырубая для того окрестный лес. С каждою ночью возникали новые бойницы ближе и ближе к стенам города. Внутри дома пылали от бомб, наружные стены рушились ядрами, но турецкий гарнизон, усиленный горцами, дрался отчаянно, делал смелые вылазки и на все предложения о сдаче отвечал пушечными выстрелами. Между тем осаждающие беспрестанно обеспокоиваемы были кабардинскими наездниками и пешими стрелками абазехов, шапсугов, натухайцев и других свирепых горцев Черноморья, сбежавшихся, подобно чакалам, искать добычи и крови. Против них должно было строить обратные реданты97, а эта двойная работа, производимая под пушечными выстрелами с крепости и ружейными из леса, в почве неровной и болотистой, очень замедляла покорение города.
Наконец накануне взятия Анапы, на единственном суходоле с юго-восточной стороны, русские открыли брешь-батарею98. Действие ее было ужасно. По пятой очереди зубцы и бруствер были опрокинуты, орудия обнажены и сбиты. Ядра, ударяясь в каменную одежду, вспыхивали молниею, и потом, в черной туче пыли, взлетали куски расторгнутых камней. Стена сыпалась, распадалась, но крепость, но толщина оной долго противостояли разрушительной силе чугуна, и крутым обвалом осыпанная стена не представляла еще возможности к штурму.
Для разгоревшихся орудий и долгою стрельбою утомленных артиллеристов необходим был отдых. Мало-помалу пальба стихла на всех батареях суши и моря. Густые облака дыма катились с берега и расстилались по волнам, то скрывая, то открывая опять флотилию. Изредка срывался клуб дымный с орудий крепости, и вслед за раскатами пушечного грома, отзывающегося в далеких горах, несколько пуль свистали кой-откуда… И вот все умолкло кругом, все притаилось внутри Анапы и траншей; ни одной чалмы между зубцами, ни одного граненого штыка в завалах. Только турецкие знамена по башням и русские флаги на судах гордо играли в воздухе, не омраченном ни одною струйкою дыма; только звучный голос муэдзинов раздавался далеко99, призывая мусульман к полдневной молитве.
В это время с пролома, против самой брешь-батареи, спустился, или, лучше сказать, скатился, всадник на белом коне, поддерживаемый веревками, перескочил через полузасыпанный ров и как стрела ударил влево между батарей, перепорхнул через завалы, через дремлющих за ними солдат, которые не ждали и не гадали ничего подобного, и, преследуемый торопливыми их выстрелами, скрылся в лесу. Никто из всадников не успел его рассмотреть, не только за ним гнаться; все только ахали от удивления и досады и скоро забыли про удальца в тревоге, поднятой пальбою с крепости, заведенной нарочно, чтобы дать время бесстрашному вестнику убраться в горы.
К вечеру брешь-батарея, гремевшая неумолчно, почти свершила свое дело разрушения: опрокинутая стена легла мостом для осаждающих, и они с нетерпением отваги готовились к приступу, как вдруг неожиданное нападение черкесов, смявших наши ведеты100 и цепь, не заставило обратить огонь редантов против неистовых, дерзких горцев. Громовое «Алла, гиль Алла!» понеслось навстречу им со стен Анапы… Пушечная и ружейная пальба закипела с них вдвое сильнее, но русская картечь остановила, смешала, развеяла толпы всадников и пеших черкесов, готовых ударить на орудия в шашки, и они с грозными перекликами: «Гяур, гяурлар» – обратились назад, покидая за собой усталых. В один миг все поле было усеяно их трупами, их ранеными, которые пытались уползти, карабкались и падали снова, пораженные пулями и картечью, между тем как ядра посекали лес, а гранаты, лопаясь в нем, довершали истребление.
Но с самого начала дела до тех пор, покуда ни одного неприятеля не осталось вблизи, русские с изумлением видели перед собою статного черкеса на белом коне, который тихим шагом проезжал взад и вперед мимо наших редантов. Все узнали в нем того самого всадника, что перескочил через траншеи в полдень, вероятно для подговора черкесов напасть на русских сзади, в то время как они хотели выпустить из ворот неудавшуюся теперь вылазку. Брызжа и урча, прыгали около него картечи. Конь его рвался на поводах, но сам он, хладнокровно поглядывая на батареи, ехал вдоль их, будто с них осыпали его цветами. Артиллеристы грызли зубы с досады, видя ненаказанную дерзость этого наездника; выстрел за выстрелом рвали воздух и землю, но он оставался невредим, как очарованный.
– Посылай ядро! – сказал фейерверкеру молодой артиллерийский офицер101, только что выпущенный из корпуса, раздосадованный всех более неудачею. – Я готов зарядить пушку своею головою – так хочется мне убить этого хвастуна. Картечью не стоит стрелять по одному… картечь – авось, ядро сыщет виноватого! – Так говоря, он подвинчивал клин и наводил сквозь диоптр орудие102 и, верно рассчитав, в какое мгновенье всадник наедет на черту прицела, встал с хобота и скомандовал роковое «пли!»
На несколько мгновений дым одел батарею мраком… его разнесло… испуганный конь мчал окровавленное тело всадника, запутавшегося ногами в стременах.
– Попал, убит! – закричали со всех траншей, и молодой артиллерист, набожно сняв фуражку, перекрестился и с веселым лицом спрыгнул с батареи, чтобы поймать заслуженную добычу. Ему скоро удалось схватить за поводья коня поверженного в прах черкеса, потому что он кружился, влача его сбоку. Несчастному оторвало руку близ плеча, но он еще дышал, еще стенал и бился. Жалость взяла доброго юношу… он кликнул солдат и заботливо велел перенести раненого в траншею, послал за лекарем и при своих глазах дождался конца операции.
Ночью, когда уже все утихло, артиллерист сидел над полумертвым своим пленником, с участием рассматривая его при тусклом свете фонаря. Змеиный след тоски, проторенный на щеках слезами, глубокие морщины лба, нарезанные не летами, но страстьми, и кровавые царапины обезображивали его прекрасное лицо, и на нем выражалось что-то мучительнее боли, что-то страшнее кончины.
…Артиллерист не мог удержать невольного содрогания. Пленник вздохнул тяжело и, с усилием подняв руку до лба, открыл ею свои отяжелевшие веки, произнося про себя неясные звуки, несвязные слова…
– Кровь… – сказал он, разглядывая свою руку, – все кровь!.. Зачем на меня надели его кровавую рубашку?.. Я и без того плаваю в крови… Зачем же не тону в ней?.. Как холодна сегодня она!.. Бывало, она жгла меня… да и это не легче!! На свете было так душно… в могиле так холодно!., страшно быть мертвецом!.. Глупец я: искал смерти… О, дайте мне воротиться на свет!.. Дайте пожить, еще хоть денек, хоть часок пожить!.. Что такое? что? зачем я спрятал в могилу другого? шепчешь ты… Узнай сам, каково в ней! узнай, каково умирать!..
Судорожное движение прервало бред его; невыразимо страшный стон вырвался из груди страдальца, и он впал в томительное забытье, в котором одна душа живет еще, чтобы страдать.
Артиллерист, тронутый до глубины сердца, приподнял голову несчастного, спрыснул ему лицо холодною водою и тер спиртом виски, чтобы привести его в чувство. Медленно открыл он очи, несколько раз потряс головою, будто желая отряхнуть с ресниц туман, и пристально устремил зрачки на лицо артиллериста, бледно озаренного мерцанием свечи. И вдруг с пронзительным криком, будто магическою силою, приподнялся он с ложа… волосы его стали дыбом, все тело дрожало лихорадочной дрожью, руки искали что-то оттолкнуть от себя… неописанный ужас изобразился на его лице…
– Твое имя? – вскричал он наконец, обращаясь к артиллеристу. – Кто ты, пришелец из гроба?
– Я Верховский, – отвечал молодой артиллерист.
Это был выстрел прямо в сердце пленнику; лигатура на главной артерии лопнула от прилива103, и кровь хлынула сквозь перевязки… Еще несколько трепетаний, несколько хрипений – и ледяная рука смерти задушила в груди раненого последний вздох, сохранила на челе печать последней тоски, собирающей медленность целых лет раскаяния в один быстрый миг, в который душа, отрываясь от тела, чувствует равно муки жизни и ничтожества, чувствует вдруг – все угрызения минувшего и все страхи будущего. Страшно было видеть обезображенное лицо этого мертвеца.
– Он, верно, был большой грешник! – тихо сказал Верховский стоявшему подле него генеральскому переводчику, содрогаясь невольно.
– Большой злодей! – примолвил переводчик. – Мне кажется, он был русский беглец. Мне не случалось слышать, чтобы какой-нибудь горец говорил так чисто по-русски, как этот пленник. Дайте-ка мне посмотреть его оружие, не найдем ли на нем каких примет?
Говоря так, он с любопытством обнажил кинжал, снятый с убитого, и, приблизив его к фонарю, разобрал и перевел следующую надпись: «Будь медлен на обиду – к отмщенью скор!»
– Самое разбойничье правило! – сказал Верховский. – Бедный брат мой Евстафий… Ты пал жертвою подобного изуверства! – Глаза доброго юноши наполнились слезами… – Нет ли чего еще? – спросил он.
– Вот, кажется, имя убитого, – отвечал переводчик, – оно: Аммалат-бек!
Примечание
Описанное выше происшествие не выдумка. Имена и характеры лиц сохранены в точности; автору повести остается только сказать несколько слов насчет изменения истины в некоторых подробностях.
Аммалат-бек, участвовавший в нескольких набегах на русские владения, был выдан головою приведенными в покорность акушлинцами самому главнокомандующему Кавказским корпусом генералу от инфантерии Ермолову в бытность его в Акуше, 1819 года. Автор заставил его сделать впадение с чеченцами за Терек, чтобы вставить картину горского набега.
Полковник Верховский, находившийся тогда в качестве свитского офицера при главнокомандующем, упросил его помиловать Аммалат-бека и взял с собою в Тифлис, учил его, воспитал его, любил его как брата. С ним, после многих походов, приехал Аммалат в 1822 году и в Дербент, когда, по смерти полковника Швецова, Верховского назначили командиром Куринского пехотного полка. Убил он своего благодетеля в 1823 (году) точно так, как описано. Читатель заметит, что автор, не желая растянуть повесть на четыре года, сжал происшествия в два года. Просит у хронологов извинения.
Что касается до завязки повести… она целиком досталась автору из рук молвы, и он не счел за необходимое объявлять на иные главы своего сомнения. Пылкие страсти здесь вовсе не редкость, а мщение – святыня для каждого мусульманина; это канва. Досужая рука могла вышивать на ней какие угодно арабески; исполать ей, если они сохранили восточную свежесть. Впрочем, мне многие очевидцы говорили, что они не однажды слышали, как Верховский описывал знойную страсть Аммалата к Селтанете, которая славилась в горах красотою. Да и что мудреного, что молодой бек, скитаясь по горам Аварии, влюбился в прекрасное личико дочери Аварского хана, хотя ей, по строгой моей выкладке, не могло в 1819 году быть более 14 лет: девушки созревают на Кавказе неимоверно рано. Молва повествует, что сам Аварский хан требовал от Аммалата головы Верховского вместо кабыну (вена) за дочь. Автор сохранил народное предание, но поместил и уверение мамки, истинно бывшее и наиболее убедившее бека.
Смерть Султан-Ахмет-хана случилась точно вскорости после убийства Верховского. Автор ускорил ее для большей игры страстей. Отказ, как говорят, последовал от ханши, ибо Аммалат не застал уже Султан-Ахмета в живых. Что же касается до зверского гробокопства Аммалата – и в этом не отступил автор от рассказов ни на шаг. После похорон, на другую ночь, могила полковника Швецова, за год умершего, была разрыта по ошибке… ее приняли за могилу Верховского… труп вытащили и отрубили у него голову и руку. Об этом до сих пор с негодованием вспоминают все солдаты.
Аммалат скитался долго в горах, преследуем совестию. Потом ушел в Турцию, был в Истамбуле, в 1828 (году) дрался в Браилове против русских; оттуда перед взятием города бежал в Анапу и там умер в том же году. Автор разговаривал с товарищем почти всех его странствий, одним каракайдахским беком.
В заключение сказать должно, что он был красавец собой и с счастливейшими способностями, – все анекдоты об его удальстве в стрельбе и скачке, описанные в 1-й главе, до сих пор ходят в Дагестане; одним словом, ему недоставало для счастия только твердого характера и откровенного сердца. Селтанета до сих пор прелестна собою и, живучи в Бурной крепости с мужем своим Абдул-Мусселимом, свела с ума не одного русского. В утешение тех, которые будут жаловаться, что автор переморил всех героев повести, он почтеннейше извещает, что Селтанета находится теперь в цветущем здоровье и живет после погрома Тарков русскими войсками у матери своей в Аварии.
Сентябрь 1831 года. Дагестан.
Письма из Дагестана*
Дербент, 1 сентября 1831 года.
Куда вы больно затейливы, любезные мои приятели: пиши вам и часто и много, описывай всю подноготную, и где, и как, и почему. Да что я вам за Саллюстиус, что за Жомини!1 Мое дело сказать вам: вот что я видел, вот что мне известно… Но много ли увижу я чрез ствол моей стальной зрительной трубки, много ли узнаю в цепи стрелков на пикете, в секрете? Я могу довольно верно изобразить вам уголок картины, у которой пороховой дым служит горизонтом и рамами, но не спрашивайте у меня целой панорамы, еще менее – планов сражений и походов. На это не станет у меня ни средств, ни уменья, ни досуга.
Но ведь надобно же и вас потешить; надобно же хоть сколько-нибудь познакомить вас с театром дагестанской войны. Итак, разогните карту Кавказа. Реки Самбур (по-русски Самура) и Койсу (при устье разделяющаяся на рукава Аграхан и Сулак), разбегаясь с хребта, первая на юго-восток, другая на северо-запад, образуют огромный неправильный треугольник, пересеченный параллельно берегу Каспия хребтом Салатав и его продолжением. Верх этого треугольника заселен лезгинскими племенами, известными под общим именем тавлинцев (от тав – гора)2; трапеция же, омываемая морем, занята кумыками, дженгутайцами, каракайтахцами, табасаранцами. На самом хребте с юга живут вольные табасаранцы, за ними акушинцы, внутрь гор аварцы, за ними по прямой линии очень близок и Тифлис. Ныне, для управления, к Дагестанскому округу присоединен и Бакинский округ, так что граница Дагестана, то есть страны гор, касается теперь Ширвани. Города Тарки, Дербент, Куба – вот три оси, около которых должны вертеться колеса нашего рассказа… Покатимся.
Помня Ермолова, горские народы не смели подняться на русских и в смутное время 1826 и 1827 годов, когда войска Аббас-Мирзы проникли до самой Самбуры и все Засамурье поднялось с ними заодно3. Этому, правда, способствовало разноверие. Персияне следуют секте шаги4, а все горцы сунниты5, и ненавидят друг друга насмерть. Впоследствии, глядя на удачные разбои своих соседов, чеченцев и черкес, пробудились лезгины, около Кахетии живущие. Постройка крепости Закатал в сердце гор стоила многих трудов и крови6. Мало-помалу дух мятежа, грозимого карою, проник и в край давно покоренный, в Дагестан. Появление дерзкого проповедника Кази-муллы7 сосредоточило, дало религиозный характер мятежу, хотя настоящие тому причины давно тлелись под пеплом страсти к хищничеству. Стоит сказать слово об этом необыкновенном человеке, занимающем все базары Кавказа вестями о своих делах или замыслах, про которого поют женщины, качая ребенка, и ребята пугают друг друга.
Кази-Мугаммед родом койсубулинец, из селения Унсукуль8. Говорят, будто дед его был беглый русский солдат. Ребячество свое провел он в Гимри, в селении, лежащем на южном обрыве Салатава, прямо против Эрпилей9. Бедняк, подобно всем своим соотечественникам, возил на осле виноград в шамхальские деревни10, для промена его на пшеницу. Эта кочующая жизнь дала ему подробное познание местностей, и он мастерски пользуется им против нас. Впоследствии он отдан был учиться грамоте к одному мулле в с<елении> Бирикей (оно лежит при устье Бугама). Мулла этот, заметив в Кази-Мугаммеде необыкновенное прилежание и смышленость, послал его к известному ученостью кадию Мугаммеду, во владение Аслан-хана Казикумыкского. У него-то, изучив арабский язык, натерся он духом мусульманского изуверства и нетерпимости. Скоро, почитая или выдавая себя за вдохновенного свыше, Казн начал проповедовать ненависть и восстание на неверных. Аслан-хану, человеку равно властолюбивому, как далекому фанатизма, не понравилось это хозяйничанье в его владении; он выгнал оттуда с бою и учителя и ученика, говоря, что мусульманам за глаза довольно одного Мугаммеда. Это случилось в 1821 году; с той поры Кази притих, и в нем самом затихли, кажется, надежды на известность. Обстоятельства отрастили им крылья.
В 1830 году западные горцы начали производить свои набеги. Друг перед другом рвались они отличиться; но в Дагестане, в котором Кази-Мугаммед начал уже действовать через письма, воззвания, подговоры и обеты, ничего важного не произошло… Река роптала, вздымалась, но еще не выступила из берегов. Над дагестанцами висел, как туча, сильный корпус, сначала под командою генерал-лейтенанта князя Эристова11, потом генерал-лейтенанта барона Розена 2-го12. Только жители Темир-Хан-Шуры13, подвластные шамхалу, ушли из домов своих и порой ночью тревожили перестрелкою лагерь, близ деревни их расположенный. Войска сделали только рекогносцировку на Гимринскую гору, ночевали в снегу, полюбовались на рассеянные в Койсубулинском ущелье деревни; стрелки променяли несколько пуль с сторожевыми горцами; артиллерия для опыта бросила несколько гранат; они все лопнули на воздухе, ибо круть и глубина обрыва делают прямые выстрелы невозможными. Войска возвратились в лагерь к Шуре; осенью 14-я дивизия возвратилась на место, а куринцы и апшеронцы разошлись по своим штаб-квартирам[40]. Зиму все было спокойно: почты ходили очень верно от Кубы до самого Кизляра; путники ездили поодиночке; но с появлением подножного корма, этого элемента наездников, все жители поморья начали уклоняться от своих обязанностей. Там и сям совершались убийства… волнение стало заметнее; наконец Навруз-бек, один из старинных дагестанских наездников, долго бывший дружителем русских и находившийся под следствием за дурное управление вверенных ему деревень, бежал из Дербента с удалыми сыновьями своими, набрал шайку, напал на рассеянных в лесу косцов Куринского полка и вырезал многих изменнически. В скором времени поднялись и каракайтахцы, ибо жители многих деревень были участниками сего разбоя. Кази-мулла почти тогда же явился в Дагестане с сильным войском тавлинцев и чеченцев; владения шамхала подняли оружие.
Трудно себе вообразить, как легко взбунтовать азиатцев! Самые нелепые слухи, самые невероятные надежды, самые несбыточные обеты идут у них за чистое золото. И что мудреного! Люди, для которых нет ни вчера, ни завтра и оттого ни опытности за минувшее, ни расчета на будущее; люди, которые не видят и в настоящем того, что есть и как оно есть, а того менее, как оно быть должно; люди, которым Бог дал довольно ума, но обстоятельства не развернули нисколько разума, – очень легко меняют верное на неверное, более любят ружье, чем заступ, и охотнее переносят нужду, чем труд. Правду сказать, азиатцу не много терять. Сакля его без потолка; он кроет ее тростником. Половина хлебов и лугов его вытоптана; он продает втридорога остальное – и сыт и прав. Напевая себе боевую песенку, он чистит винтовку в глазах русского постояльца. Притом в каждом азиатце неугасим какой-то инстинкт разрушительности: для него нужнее враг, чем друг, и он повсюду ищет первых. Не то чтоб он ненавидел именно русских; он находит только, что русских выгоднее ему ненавидеть, чем соседа, а для этого все предлоги кажутся ему дельными. Разумеется, умные мятежники пользуются всегда такою наклонностию и умеют знаменем святыни покрывать и связывать мелочные страсти. Надо примолвить, что война с поляками14 отозвалась и в горах, дав горцам если не надежду на успех, то поруку в долгой бескарности. Кавказ зашевелился: ему вздумалось стряхнуть с хребта своего наших великанов… Не горячись, голубчик! В 1831 году скопища Кази-муллы принимали вид более и более грозный. Небольшой отряд русских, дважды выступая из лагеря под Кяфир-Кумыком, успел разбить шайки возмутившихся жителей. В половине мая генерал-майор Таубе15 проник в ущелье к д<еревне> Атлы-буйны[41], имел жаркое дело с Кази-муллою, но возвратился без успеха на линию16. Тогда, как горные потоки, хлынули к Таркам лезгины и залили всю окрестность. Несколько сотен храбрых защищали огромную крепость Бурную, висящую над Тарками; но они были отрезаны от моря и от гор… Отряд генерала Коханова17 громил в то время деревни изменников, но между им и Тарками шумели волны измены. Сношения были невозможны.
Тарковские жители клялись, как обыкновенно, быть верными власти законной и, как обыкновенно, стоптали свою клятву. В ночи на 26 мая Кази-мулла с своими войсками вступил в город тихомолком; на рассвете жители, под предлогом бегства от приближающегося врага, подкатили арбы с нагорной стороны близко к крепости, под защитою оных кинулись к стенам первые, несмотря на пальбу с блокгаузов, и в один миг заняли стрельницы. Вложив в каждую стрельницу ружей по пяти, они поражали каждого, кто хотел приблизиться… отвечали ударами кинжалов на удары штыков и нередко вырывали друг у друга ружья. Надобно сказать, что в самой крепости нет родников, и потому воду взвозят в нее волами по крутой дороге, иссеченной в утесе. Дорога эта прикрыта стенкою с зубцами; две небольшие башни служат ей для боковой обороны. Немного выше, на повороте дороги, стоял пороховой погреб; на него-то устремились мятежники густыми толпами, чтобы одним ударом лишить гарнизон и воды и снарядов. Предприятие их увенчалось успехом. Закрытые самою стенкою от выстрелов пушечных, они разломали оную, отбили двери погреба и с криками победы ворвались туда на дележ патронов; другие, упоенные удачею, поползли, как змеи, выше, – участь Бурной висела на волоске… Но вдруг граната, решительно брошенная с крепости, лопнула в самых дверях погреба… Этот миг был ужасен!.. Утес дрогнул как лист, гром разорвал ухо, и черный столб, рассеченный пламенем, взвился под облака… Камни и трупы вращались в дымном вихре, страшно чернея на зареве, и вдруг этот столб разветвился широко и, подобно адскому водомету18, брызнул на землю изорванные, опаленные останки взрыва. И все еще трепетало, шумело, звучало кругом; камни катались сами собою, стекла рассыпались в пыль, затворы скрежетали, и пепельный дождь, перемешанный кровавыми членами, летел из воздуха.
Ужас, объявший всех, для русских длился минуту. Майор Федосеев, комендант и воинский начальник в Бурной, предпринимал и пред сим две смелые, хотя гибельные, вылазки, чтобы отбить воду. Он выслал третью, когда еще не опал дым взрыва. Солдаты наши, врезавшись между оглушенных врагов, кололи их беспощадно, кровь лилась на кровь; но обезумелые горцы кидались вперед и гибли то на штыках, то на острых камнях, сброшенные с крутизны. Это происшествие ободрило осажденных, усмирило на время осаждающих. Ночь пала, но она не прекратила перестрелки. Горцы, выжитые продольными выстрелами из-под стен, заняли высоты, владеющие крепостью, и били по бойницам на выбор. Пули летали даже внутрь домов; раненые не были безопасны в постелях.
Между тем недостаток воды поджигал жажду. Плач женщин и жалобный рев четвероногих наводили тоску на самое бесстрашное сердце. Бубны и клики угроз и повременные выстрелы раздавались кругом крепости, будто в насмешку уныния, в ней царствующего. Комендант был неусыпен, гарнизон отважен; но что могла сделать горсть людей против тысяч, беспрестанно возрастающих? Русских едва ставало на пятую часть бойниц. Жажда возрастала, а отряд бог весть где. К счастию, один татарин, из числа преданных шамхалу, скрывшемуся в крепости, взялся доставить весть об осаде генералу Коханову. Поутру он, показывая вид, будто бежит из Бурной, спрыгнул со стены; по нем открыли холостую пальбу; он удалялся, отстреливаясь, и наконец скрылся в кустарниках, в рядах вражеских. Сердце у каждого солдата билось страхом и ожиданием. Пройдет ли он? Дойдет ли он? Не изменит ли сам? Поверят ли ему?.. День минул в перестрелке. Сон не смыкал очей осажденных.
На третье утро с крепости увидели, что горцы, раздраженные безумолчным огнем башни, стоящей внизу на водяной дороге и совершенно отлученной от всякой помощи, набросали на потолок ее дров, обложили вокруг хворостом и собираются сжечь и сжарить заживо заключившихся там двенадцать человек солдат, которые решились погибнуть скорее, чем сдаться. Участь, ожидавшая этих бесстрашных, была ужасна… Товарищи видели их бедствие и не могли помочь им!.. Несколько головней, брошенных на кровлю, закурились… Зверские крики радости огласились в толпах осаждающих, – но железные двери распахнулись внезапно, и маленький гарнизон ринулся по дороге вниз к водяной башне, где другая кучка храбрых отсиделась от беспрестанных нападений, хотя и потеряла своего офицера. Один убитый и трое раненых заплатили за это счастливое переселение; но остальные спаслись от страдальческой смерти, тем вернейшей, что у них не было уже ни зерна пороху.
Если б Кази-мулла был опытнее и воины его решительнее, Бурная не могла бы устоять, несмотря на львиную храбрость гарнизона. С нагорных сторон стены так низки, что враги могли бы штурмовать их с плеч товарищей, и так обширны, что если бы повели атаку со всех фасов19, малочисленный гарнизон не знал бы, куда кинуться для отпора. Но блокгаузы ли, заменяющие бастионы, пугали горцев, или вели они нападение с востока оттого, что им ближе было ходить из города, только они будто на смех напирали на самую неприступную сторону; несколько раз порывались отбить ворота и всегда бывали отражаемы с уроном и провожаемы в напутье пулями и картечью. Но солнце клонилось к западу, и с ним западала надежда осажденных. Нет как нет отряда! Нет как нет спасения! Переметчики принесли весть, что к утру Кази-мулла назначил решительный приступ, что лезгины вяжут фашины20 и лестницы. Русские готовились умереть, не выдав оружия, и в этот миг услышали звук перестрелки, вторимый эхом гор. Можно ли представить себе, не только описать другим, этот переход от отчаяния к радости! Была уже ночь, когда русская граната рассыпалась звездой спасения, – гром пушек и «ура» приветствовали братии. Враги и други наши ночевали на оружии! Судьба потрясала жребиями боя и смерти в таинственной урне. Солнце встало кроваво, как боевое знамя; все видели восход его; но сколь многим не суждено было видеть его заката! Я уже описал вам тарковское сражение; вы сами можете вообразить чувства, волновавшие осажденных, когда увидели они малочисленный отряд, идущий в неровный, сомнительный бой с неприятелем, скрытым и стенах, впятеро сильнейшим. Но чего, но кого не одолеют русские? Разбитый Кази-мулла бежал, ночью, пеший. Но он не уныл духом… Скоро узнали мы, что он в течение восьми дней осаждал в Чечне крепость Внезапную и верно бы взял ее, истомив жаждою, если б не подоспел генерал Бекович21 на выручку. 19 июня генерал Коханов разбил вблизи Тарков еще раз мятежников. Горцы вздумали напасть на русских среди бела дня и почти на открытом месте. Их, как водится, обошли, подпустили на полкартечный выстрел и развеяли в прах. Вот уже правда, что они от дыхания пушек летят как «пух от уст Эола»22. Больше всех досталось тут мехтулинцам, подручникам Ахмет-хана, которые еще в тарковском деле дрались с нами заодно и потом пристали к мятежникам.
22 августа было дело в Казанищах. Вы его знаете из моих писем. В промежутках отряд жег деревни; впоследствии он стал лагерем близ селения Губдень; это лучшая наблюдательная точка; тут ворота гор, и оттуда равное расстояние до Тарков и Дербента, по два усиленных перехода в каждое. В это время я был в Дербенте.
Между тем искры мятежа, раздуваемые Кази-муллою, вспыхнули пламенем в вольной Табасарани. Вслед за ними взволновались и владения Ибрагим-бека Карчахского, наследника майе умов (князей) Табасарани, человека издавна преданного русским. Это принудило генерал-адъютанта Панкратьева, главноуправляющего Закавказским краем23, по отбытии графа Паскевича-Эриванского в столицу24, отрядить для усмирения Табасарани два батальона 42-го егерского полка, с несколькими сотнями ширванской конницы. Отряд этот поручен был храброму полковнику Миклашевскому25, тому самому, который в 1828 году с цепью стрелков сбил турок с Топдагского кладбища, втоптал их в ворота Карса, ворвался с ними вместе внутрь и был главным виновником внезапного взятия этой крепости. Он промчался грозой по Табасарани, по непроходимым лесам и крутизнам, имел сражение на горе Гарбакурани, при Каруль-Гуа, при Нетарин-Гирве, спалил девять селений, покорил новый магал26, заставил присягнуть старшин прочих, – но, вдруг отозванный в Ширвань, ушел из Дагестана[42]. Экспедиция его продолжалась пятнадцать дней; но долго будут помнить в горах Кара-полковника (то есть черного), как называют его горцы.
В это самое время слухи о намерении Кази-муллы напасть на Дербент возросли до вероятия. По вечерам татары теснились в кружки по перекресткам и базарам; женщины, встречаясь на улицах, восклицали: «Ваксей, джан, джюван! на вар, на олур (Ахти, молодушка! что слышно, что-то будет)?» – и нередко, присевши на корточки, забывали закрывать лица от прохожих. Мальчишки, прыгая на одной ноге, напевали: «Кази-мулла геляды (идет)!» Взад и вперед возили пушки, снаряды. Русские кумушки тащили, как муравьи, свою рухлядь в крепость… В городе кипела какая-то мрачная деятельность. Мне все это казалось очень забавно. «Стоит ли жизнь таких хлопот?» – думал я и преспокойно закуривал фитилем трубку.
Желая, однако ж, узнать мнения дербентцев, преданности которых, признаться, мало верил, я нередко, нахлобучив папах на брови, закутан в татарскую чуху27, вмешивался в толпу и прислушивался к народным толкам.
– Ему ли, собачьему сыну, прийти сюда! – говорили иные старики, поглаживая с гордостью красные бороды. – Не ему чета был русский сардарь Кызыль-аях[43]28, да простоял же под Дербентом целую зиму. С той стороны батареи как начнут жарить, так, бывало, у земли лихорадка делается, а бомбы-то, бомбы! Как ударится одна о другую в воздухе, да и упадут наземь; в большой мечети штук пять нашли сплющенных, словно блюда. Да и то, если б мы сами не захотели выгнать хана, ничего бы не взяли русские. Про старинное нечего и поминать: сколько раз подступали сюда и горцы, и индейцы, и крымцы, – да грязь съели!
– Сожгу я гроб отцов да и прадедов этого Омарова отродья!29 – говорил другой. – Видишь, что задумал он! Всем, кто постарее, – голова долой, кто помоложе – в плен, а женщин наших по рукам разобрать!.. Говорят, уж приказ дал своим все золото с женских монист ему принести, когда будут грабить Дербент, а другое прочее что кому попало[44]. Проклятый недоверок, да еще нас же не считает мусульманами; они, говорит, хуже гяуров!..
– Плюю на бороду этого Тази-муллы[45], и друзей его, и разбойников его! – восклицал третий, выставляя ручку кинжала в оправе, с блестящей насечкою. Пусть только лопатники лезгины покажут сюда нос, так мы им дадим себя знать!
Но между этой хвастни возникал и голос сомнения, чтоб не сказать, страха. Купцы, которые под миродатным владычеством русских давным-давно отвыкли от оружия, оглядывались назад и поговаривали, что русских здесь чересчур мало, что микелляры[46] городские в сношениях с Кази-муллою, что они, пожалуй, впустят его ночью, что городские стены кругом шесть верст, а в городе нет народа на осьмую часть этой длины и у половины взрослых нет ружей! Иные толковали даже, что конницею можно вбрести в море, объехать стены и ударить с открытой стороны…
– Все горы опрокинутся на нас! – говорили самые робкие. – Абдурзах-кади, Исса-бек, Шамардан-бек и другие окрестные владельцы давно таят измену, давно звали сюда Кази-муллу и теперь уже явно пристали к нему. От генерала Коханова мы отрезаны. Кара-полковник ушел в Ширвань, а того и смотри, что Аслан-хан нагрянет заодно с нашими врагами. Говорят же, что и Акуша и Авария подымаются!
В этих речах было много правды.
Наконец 19 августа, верст за пятнадцать от города, наездники Кази-муллы завязали перестрелку с дербентскими разъездами через речку. Неприятель напирал, – дербентцы свились назад. К вечеру 3-й батальон Куринского пехотного полка оставил свои казармы, за две версты от города, выстроенные на высотах Кефары, вступил с барабанным боем в Дербент и расположился на приморских стенах. Крепость Нарынь-кале занята была батальоном Грузинским линейным N 10-го, под командою майора Пирятинского. Стены города во всем их пространстве вверены были защите жителей.
Исправляющий должность дербентского коменданта сделал заранее все нужные распоряжения. Места по фасам были расписаны для действия – точки сбора на случай приступа. Полуразрушенные стены увенчаны наскоро грудною обороною из досок, из корзин с землею, из хвороста30. Ночь прошла в ожидании.
И вот утром 20 августа закурился дым по дороге тарковской – это горели стоги сена. Вестники скакали взад и вперед, взвивая пыль по полю; кровли осыпаны были зрителями; женщины, разбросив по ветру чадры, с криком бегали из дома в дом; везде сверкали штыки и сабли; на углах крепости виднелись в высоте артиллеристы, заряжающие орудия. Барабаны гремели. Город, не видавший в течение тридцати лет ничего воинственного, превратился вдруг в боевой стан. В семь часов запылали куринские казармы в Кефарах, и клубы черного дыма, как перья великанского шишака31, осенили противолежащую гору. Первый подскакал к башне (когда-то сторожевой, на углу этой горы стоящей) статный черкес, мелькнул на черном поле дыма и будто улетел с ним… За ним другой, третий… Дербентская конница, как стадо свиристелей, шумя влетела в ворота – и вот рассеянные толпы неприятельской пехоты показывались по всем дорогам и садам, вея белыми значками32. Пушка заревела с крепости, – ядро запрыгало между врагами, и клики вражды с обеих сторон огласили воздух. Надобно сказать, что Дербент северным боком стоит над ущельем, которое охватывает с запада крепость оного, Нарынь-кале, и потом простирается в гору. Крутой берег этого ущелья увенчан двумя башнями, когда-то сторожевыми, но теперь покинутыми. Эти башни были в тот же миг заняты мятежниками, и из-за них-то завели они перестрелку по стенам, по улицам, в окна домов и начали складывать из камней завалы (tranchee). Меня удивили и потешили четверо дербентских жителей; залегши на горе за камнями, они одни-одинехоньки, на пистолетный выстрел от врагов, оставались три битых часа и не давали высунуть носа из-за гребня холма своими меткими выстрелами; вот что значит решительность! Но между тем завалы росли. Лезгины, как муравьи, таскали по камню, сейчас ложились за ними и посылали к нам брань и пули. В несколько часов обе башни были соединены стенкою, и в бока разведены были крылья (epaulements)33. Пальба не умолкала. Жители сгоряча не жалели пороху; всякий хотел доказать свое удальство или усердие… Пушечные выстрелы держали такт в этой увертюре… Вид был единственный.
Под вечер, вслед за одним капитаном, я сел на коня и поскакал к морю проведать, что там делается. Виноградные сады, перерезанные канавками и терновыми оградами, подходят там почти вплоть к стенам города. Пользуясь этим, неприятельские стрелки пытались подползать шагов на тридцать. Всхожу на стену подле Кизлярских ворот – такая пальба, что небу жарко!.. Несколько человек лезгин хотят унести своего раненого; на раненого упал убитый, на убитого третий. Горцы хотят выручить тела товарищей, – все напрасно. Бедняга раненый бился под трупами, выбрался, пополз, порвался перелезть через плетень и, вновь пробитый многими пулями, повис поперек, как орден Златого Руна34. Вперед, вперед!.. Чего жалеть! Вот несут и русского раненого.
На основании разрушенной приморской башни поставлено было легкое орудие. Глядим: кучка неприятельских всадников приехала купаться в море. Ах вы разбойники! Вам надо кровавое омовение за эту дерзость. Фейерверкер!35 Хватит ли туда ядро? Фейерверкер уверяет, что не хватит. А вот пустим на Божью волю! Капитан, с которым я приехал, присел на лафет, подвинтил по диоптру подушку36. «Пли!» Ядро всплескалось, как утка по отмели; прыжок, другой, и как раз в сторону толпы!.. Любо стало видеть, как разбрызнуло она купальников… Ага, дружки! каково наше чугунное мыло? Наводим трубку: тащат троих – и все прочь, и все вроссыпь. Готова ли? «Пли!» – и снова прощальное ядро взвило пыль по полю; одного молодца угодило в полконя, и он вместе с буцефалом своим37 мельницею закрутился в воздухе. Между тем близ нижнего базара вывезли два единорога38, чтобы пронизывать во фланг прибашенные завалы. Гранаты лопались на горе, вздымая прах и дым на зареве заката. Дикий рев радости наших азиатцев провожал каждый удачный выстрел; напротив, клики укора раздавались в скрытых толпах осаждающих, если удар миновал цель. Реже и реже летели навстречу угрозы и пули. Наконец, вечерний намаз39 укротил перепалку. В течение этого дня неприятель обходил город, с горской стороны занимая гребни холмов, а с кубинской – сады.
Мне впервые удалось быть в осажденном городе, и потому я с большим любопытством обегал стены. Картина ночи была великолепна. Огни вражеских биваков, разложенные за холмами, обрисовывали зубчатые гребни их то черными, то багровыми чертами. Вдали и вблизи ярко пылали солдатские избушки, сараи, запасные дрова. Видно было, как зажигатели перебегали, махая головнями. Стрельба не уставала, ибо лезгины подползали к самым стенам, то желая отрезать воду, то зажечь ворота, подбрасывая под них хворост. Самый город чернелся, глубоко потопленный в тени, за древними стенами; но зато крепость, озаренная пожаром, высоко и грозно вздымала белое чело свое. Казалось, по временам она вспыхивала румянцем гнева; медные уста гремели, и эхо гор с ропотом вторило глаголу смерти, между тем как зловещий свист ядра порывался сквозь мрачный воздух. Дикий хор бодрствующих дербентцев: «Хабардар, оий хабардар (Остерегайся)!» – и, будто в ответ ему, вечная песня последователей Кази-муллы: «Ля нилля гиль Алла!» – раздавались часто. На взморье змеился отблеск двух костров… Так прошла первая ночь.
Встало солнце, и неприятель разыгрался. Конница и пехота потянулись к морю, вероятно пытаясь ворваться в город с открытой стороны. Орудия заговорили и с крепости и с двух новых барбетов40, устроенных ночью на дряхлых стенах города. Вот всходит к нам на стену Ибрагим, бек Карчахский, держит речь к дербентцам – зовет их на вылазку подкрепить его нукеров. Идем, идем. Двое русских, тут бывших (один штабс-капитан и я), не дожидаясь, покуда отомкнут ворота, спускаемся со стены. Сорок удалых нукеров Ибрагима кидаются вперед; град пуль встречает нас с сторожевых башен, град пуль осыпает в бок из завалов, на локте ущелья заложенных. «Югюрь, югюрь (Бегом)!» – кричат со стены татары. Мы бежим, спускаемся в рытвину, прядаем на камни, взбегаем по крутизне на гору, – ядра ревут через нас предтечей гибели. «Хоччаклар (Молодцы)! – кричу я татарам. – Кто выстрелит больше разу из ружья, алагын дюшанлы (тот враг Божий). Сигерма клынч гиррек (Ударим лучше с обнаженными саблями)», – и с этим словом, после немногих выстрелов, кидаемся на завал с обнаженными кинжалами. Ура! Наша взяла, пули чрез голову, смятый враг бежит, башни наши, знамя наше – пошла резня. Нукеры Ибрагима, по обычаю, режут головы; мы преследуем неприятеля, который, перестреливаясь, рассыпается по садам, по горам, по стремнинам; отбиваем коней, берем пленных. Но неприятель с Кефаров обращается на нас превосходными силами. Толпы лезгин с воплем стремятся навстречу, и мы отступаем тихо, гордо, оставляя по следам кровь и трупы, разбрасывая завалы вражеские. Замечу одно: с азиатцами можно надежно идти вперед, но зато отступать с ними беда! Они бегают по горам, как серны, и не любят оглядываться назад. Кто не легок на ногу, тому накладно быть с ними в деле.
22 числа еще раз ходили на вылазку с татарами с кубинской стороны. Усердие жителей росло с каждою удачею. Комендантские ворота осаждены были толпами дербентцев, желавших вооружиться. Бывало, римская чернь кричала перед сенатом: «Зрелищ и хлеба!» – здешняя просила ружей и пороху. Им розданы были все залишние ружья 10-го линейного батальона. Стар и мал вооружились кто чем мог. Везде точили кинжалы, везде ковали копья для отражения со стен в случае приступа. 23-го с утра была русская вылазка в приморские сады: выбили неприятеля из предместья, которое он покушался зажигать. Часу в шестом вечера дремал я на стене, утомленный долгою бессонницею, как вдруг крики пробуждают меня… Неужели приступ? Смотрю: татары и русская рота делают вылазку с моря и из Кизлярских ворот, против кладбища Кырхлар, на котором усилились мятежники, сбираясь туда молиться на гробе очень уважаемых, хотя очень мало знаемых суннитами сорока мучеников41. Знамя Кази-муллы целый уже день веяло на одной из надгробных часовен и словно дразнило русских. Идут, близятся!.. Ретивое во мне так и вспыхнуло: ну лётом бы полетел туда! Прикован долгом к своему месту, я принужден был в этот раз остаться только зрителем боя, который совершался перед глазами, как на ладони. Татары, под начальством Фергат-бека, ползли из садов; русские, человек около сотни, шли из Кизлярских ворот; с левой стороны им на помощь выходила из главных еще кучка дербентских жителей. Между тем с горы беспрестанно спускались лезгины на подкрепление своих, перебегая поле под ядрами и картечью. Пальба закипела будто в котле, когда русские пошли в штыки; но ряды стоячих надгробных камней сломали строй; убийственный огонь из двух часовен и длинной мечети остановил сперва дербентцев, потом и русских… Первые обратились назад, вторые замялись… Минута колебания была ужасна для зрителей. Стоило видеть тогда стены и кровли Дербента, усыпанные множеством людей обоего пола и всех возрастов, несмотря на опасность. Крики удовольствия и одобрения гремели вслед нашим, но когда волна отхлынула, мертвое молчание воцарилось на стенах… И дербентцы и лезгины вскочили из-за брустверов, но никто не стрелял друг по другу: взоры и души всех прикованы были к судьбе стычки, – она решилась. Видно было, как выскочил вперед капитан, командовавший ротою, махнул саблей; пушка, подвезенная ближе, брызнула картечью, пальба удвоилась с кладбища, но русское «ура» заглушило ее. Куринцы бросились против камней, оживленных огнем, в штыки – и неприятель дрогнул, побежал. Лезгины прыгали из окон мечети и гибли на штыках. Ядра пожинали беглецов в поле. Бой примолк, но еще белое знамя раздувалось на куполе; несколько отчаянных защищали узкую лесенку в стене часовни, но мы видели, как один солдат пробился наверх, как он заколол последнего врага, сбросил его вниз и сорвал знамя. Мы, как гомеровские троянцы42, рукоплескали со стен победителям.
Но скучно было бы, друзья мои, волочить вас по всем вылазкам и день за днем описывать происшествия блокады. Скажу только, что 24 числа неприятель, руководимый терхеменскими знахарями местностей, отвел воду, отчего только два самородка остались в целом городе; что несколько раз осаждающие густыми толпами стремились к стенам и, отраженные, ограничивались одной перестрелкой. Гарнизон был неутомим и неусыпен. Усталые от пальбы днем, солдаты поправляли ночью стены, насыпали брустверы, устраивали траверзы43, начальники подавали собою пример отваги и деятельности. Мусульмане соревновали русским. Между тем мятежники, привлеченные жаждой добычи, за недостатком ее вымещали свою досаду разрушением. Все, что могло гибнуть от огня и железа, – гибло. Винные заводы, загородные домики пылали. Фруктовые деревья падали под топором, виноградники посекались или исторгались с корнем. Сам Кази-мулла обрекал места на истребление. Пленники рассказывали про него тьму чудес: как он летает после намаза в Мекку на бурке своей; как он с одним нукером невидимкою подходил к стенам Дербента и от него разбежалась куча людей. «Он непременно возьмет ваш город, – говорили они. – Не далее как сего дня поутру он ездил молиться на море, и Аллах велел ему подождать еще три дня приступом, за наши грехи, а потом наверно отдаст нам победу». Такую-то теплую веру успел вселить Кази-мулла к своей святости! Дельного из подобных рассказов извлекли мы очень немного. Кази-мулла среднего роста, некрасив, по лицу рябинки, борода редкая, глаза серые, но светлы и проницательны. Говорит мало, но выразительно; угрюм, много пишет и часто молится. В битве не участвует мечом, но ободряет своих мужеством и увещаниями. К себе не допускает никого близко и никогда ночью. Если приближается к нему какой бы ни было пришлец, двое стражей держат ружья на взводе и многие сабли наголо готовы изрубить в куски всякого по малейшему мановению вождя, – маневр, который господин Кази-Мугаммед нередко изволит проделывать, к немалому назиданию и удовольствию горской публики. Кажется, действуя убеждениями на умы легковерные, он не презирает и суеверными средствами. Вообразите, какую шутку хотел было он выкинуть во время осады. В садах попались ему в плен несколько мальчиков, которые тайком ульнули за виноградом. Он приласкал из них некоторых, дал им прокламации к жителям, коих приглашал соединиться с мусульманами, его последователями, на истребление гяуров44, и отослал в город. Эти листы велел он им потихоньку рассовать по карманам взрослых дербентнев в то время, когда народ толпится ввечеру у фонтана за водою, чтобы суеверные подумали: «Сам Мугаммед положил мне в карман это послание!» Вопреки его желанию, чудо не сбылось. Ребята рассказали наказ Кази-муллы родственникам, те донесли коменданту, и дело разгласилось. Этого мало: в пятый день осады, к ночи, подъехал к воротам один всадник со связанными руками. Узнали в нем дербентского жителя, ездившего в Кубу. Он уверял, что Кази-мулла не велел его грабить и послал в Дербент; но полное на нем вооружение и много денег в карманах дали подозрение. Давай обыскивать пристальнее, и находят в Коране множество ярлыков45 с печатью Кази-муллы. Потянули к допросу; он сбился, смешался и наконец признался, что эти ярлыки даны ему для вручения тем, кто бы согласился действовать заодно с осаждающими. Они бы служили пропуском сквозь войско Кази-муллы и охраною в случае грабежа. К счастью, таких злонамеренных людей, по крайней мере явно, не оказалось. Но жители верили, что они есть, что они готовят измену. Прошло пять, прошло шесть дней, а ниоткуда ни весточки. Комендант, для ободрения духа горожан, не раз распускал слухи, что идет то отряд Миклашевского, то отряд генерала Коханова; но это действовало ненадолго. Меня очень любят татары за то, что я не чуждаюсь их обычаев, говорю их языком, и потому каждый раз, когда я выходил на стены подразнить и побранить врагов, прогуливаясь с трубкою в зубах, куча дербентцев окружала меня… Я всегда приносил им полные карманы кремней и патронов и еще втрое более новостей; городишь им турусы на колесах, и они спокойны на несколько часов, а там опять новые рассказы и новые надежды. И то и другое стало, однако ж, иссякать по прошествии недели. В городе было мало хлеба и нисколько сена; рогатый скот начал падать; кони голодали; жители утомлялись бессменною стражею, а известия, что Кази-мулла готовит лестницы и фашины к скорому приступу, стали несомненны. Поговаривали, будто в темные ночи осаждающие в некоторых местах подползли к подошве стен, сделали несколько лазеек в город, если не для нападения, то для сообщения с единомышленниками, в числе коих обвиняли суннитов. Надобно было увериться в этом осмотром. Я просился произвести его, спустившись по веревке за стену, под выстрелами неприятельскими. Наутро 27 августа должен я был совершить свое опасное путешествие, но рассвет оказал бегство Кази-муллы и всего его войска. «Качты, качты (Бежал)!» – раздалось со стен. Коня, коня! Я вспрыгнул в седло и выскакал в едва растворенные ворота. Сладко подышать вольным воздухом, радостно порыскать по полю после невольного затворничества. Пускаю коня во всю прыть на гору. Костры гаснут во вражеских завалах. Здесь недавняя кровь, там свежие могилы, кости пиршества на пепле пожара, потерянные чуреки по дороге46, разбросанные мешки, изломанные арбы, подбитые кони, усталые быки и быстрые следы горских башмаков на прахе – вот все, что осталось от многочисленных полчищ смелого Кази-муллы. Он исчез, как ветер. Я заскакал далеко в гору целиком. Оглядываюсь – за мной и в виду ни души, а тут каждый куст, каждый камень мог скрывать врага. Возвращаюсь… прислушиваюсь… что это, не гром ли? Нет, это вестовые выстрелы в отряде генерала Коханова. Слава Богу! Осада кончена.
Лагерь близ с<еления> Джимикент, 15 окт<ября> 1831.
Между тем как избавленные от осады дербентцы топили печки штурмовыми лестницами и фашинами, готовленными Кази-муллою для приступа, беглец Кази-мулла отправился, словно победитель, праздновать свою свадьбу с Кюрек, с дочерью своего наставника, муллы Мугаммеда. Не слишком, видно, надеясь на гурий зеленого цвета в раю правоверных47, он взял в задаток будущего блаженства краснощекую горянку, – но ни жирный плов пиршества, ни свежие ласки молодой супруги не утомили деятельности изувера. Каждый день, под предлогом шариата, то есть толкования Корана48, проповедовал он ненависть к русским и независимость от всех властей. Воззвания его, исполненные блестящих парадоксов, летели как искры во все стороны и зажигали соломенные умы горцев. В это время мы стояли под стенами Дербента и, как водится, от безделья досадовали на бездействие.
Ничего нет забавнее урядов и пересудов нашей братьи подчиненных. Всё бы мы стояли там, где сытно да весело; всё бы ходили, когда в небе тишь, а на земле гладь. Если же дойдет дело до военных распоряжений, то сам Наполеон не годился бы перед нами в барабанщики. Тут бы сделать так, там этак!.. К счастью русского оружия, от нас требуют только повиновения, а не советов, и удачный конец дает делу венец. То же самое было и теперь.
Генерал-адъютант Панкратьев, оставшись по отбытии графа Паскевича-Эриванского командующим войсками за Кавказом, заблаговременно сосредоточил значительный отряд под Шамахою для укрощения мятежа в Дагестане; но шаткая политика персидская и распространение слухов о вторжении персиян в наши пределы препятствовали удалить от оных войска. Когда ж на бумаге и на деле он удостоверился в миролюбии персидского правительства, войска от Шамахи двинуты были в Дагестан и к концу сентября соединились с отрядом генерала Коханова. Вот состав этого соединенного отряда: два батальона Эриванского карабинерного; шесть рот Куринского, два батальона Апшеронского и два батальона 42-го егерского полков, при девятнадцати орудиях и четырех горных единорогах. Конница состояла из донского казачьего Басова полка, из трех полков конно-мусульманских и одного конно-волонтерного, да сотни две куринской и бакинской конницы; всего пехоты около 3500 человек, а кавалерии до 3000. Наконец мы ожили. Муж боя и совета прибыл в Дербент 30 сентября49. Добрая слава задолго предлетела ему в Дагестан. Его приезд ободрил новых подчиненных надеждою, а прежних сослуживцев уверенностью в успехе. Солдаты зашевелились, и, несмотря на слякоть, кружки около огней росли. «Когда же? скоро ли в дело?» – слышалось повсюду; но болезнь держала вождя нашего на ложе, а ненастье – отряд на месте. Между тем командующий войсками не терял времени. Не щадя себя на пользу отечества, он, борясь с болезнью, неутомимо занимался делами края и, прежде чем прибегнуть к трехгранным доказательствам, пытал все средства убеждения, – а он владеет им в совершенстве. Прокламации его, написанные цветистым слогом Востока, рассеивались в ущелья, где таились мятежники. Глядим: мало-помалу старшины окружных селений потянулись в Дербент с повинною и жители сползались из нор на прежние пепелища. Скоро вся Теркемень закипела народом, и отряд перестал нуждаться продовольствием. Ласковые сношения с Нуцал-ханом Аварским и его матерью Паху-Бехи обеспечили фланг наш50. Они обязались на границах своих выставить войско и не впускать в Аварию мятежников. В тиши и в тайне готовились важные события.
И вот, на ночь 2 октября, вовсе неожиданно упали палки на барабан… Зовут фельдфебелей к адъютантам: приказ выступить налегке. Куда? зачем? – никто не знает, не ведает. Но тайное тогда – теперь уж не тайна. Командующий нами сделал мастерское распоряжение. Зная, что табасаранцы решились защищаться до крайности и готовы собраться в один миг в то место, куда направлено будет нападение, он разделил войско на три отряда, чтобы развлечь их силы, обманув их ожидания. Полковник Басов должен был сделать диверсию вправо на Маджалис; полковник князь Дадиан51 – влево в Кучни; главный, то есть средний, отряд, назначенный действовать прямо от Великента на Дювек, поручен был храброму полковнику Миклашевскому, и с ним-то в одиннадцать часов мы двинулись вперед, с двумя батальонами его полка, 42-го егерей, 1-м Куринского, с 1-м и 2-м конно-мусульманскими полками, при четырех орудиях.
Ночь была темна, как судейская совесть. Скупое небо погасило все огоньки свои. Мы брели по колено в грязи, цепляясь за терновники, запутавшие окрестный лес непроницаемою оградою, и каждый миг в опасности слететь в речку Дарбах, по крутому берегу которой шли. Вы бы сказали, что идет армия мертвецов, покинувших свои могилы, – так безмолвно, так неслышимо двинулись мы вперед по излучистому яру, в двойном мраке ночи и тени леса, под нами склепом склоненного. Колеса не стучали, подковы не брякали по болоту; нигде ни голоса, ни искры. Лишь изредка раздавался по бору удар бича или звук пушечной цепи. С невероятным трудом вытаскивали мы на людях орудия… Наконец не только под ними, но и под артельными повозками кони пристали, выбились из сил… Арьергард оттянулся… Полковник Миклашевский налетел соколом: «Руби колеса, жги повозки, жги артиллерийские дроги! Стоит ли эта дрянь, чтобы из-за нее опаздывать! Истребляй: я за все отвечаю!» Велено – сделано. В пять минут дорога была чиста, – вещи разобрали по рукам… коней пристегнули под пушки; прибавили к ним и офицерских верховых… Покатились, пошли быстро, легко, весело. Миклашевского слово ободряло солдат лучше двойной чарки. С неимоверною скоростью перелетели мы тридцать пять верст, и часу в девятом утра послышали впередижаркую перестрелку: это дралась наша татарская конница. Шомпола зазвучали. Гренадеры!., ходу!.. Скорым шагом, беглым шагом!.. Выстрелы из лесу начинают нас пронизывать – насилу-то догадались. Если б неприятели заранее заняли чащу, многие бы из нас не донесли своих голов до Дювека, – да вот и он – легок на помине… вот Дювек, который считается неприступною твердынею Табасарани. «Неприступная» – забавное выражение! Его нет, слава Богу, в словаре русского солдата. Вперед, вперед!.. Дело загорелось. Селение Дювек стоит в развале ущелья на скате большой горы. Над ним на полтора пушечных выстрела лепится выше деревня Хустыль. Речка Дарбах, извиваясь в крутом, но широком русле, образует перед Дювеком колено. Правый ее берег против селения от множества ключей, не имеющих истока, затоплен вязким болотом; дремучий лес обнимает всю окрестность. Егеря 42-го полка пошли вправо чрез топь, мы – влево чрез крутой овраг, на дне которого текущий ручей, впадая в Дарбах, образует перед Дювеком букву «v», – все под убийственным огнем из лесу, из домов, из завалов. Перед нами еще ходили на приступ наши спешенные мусульмане; но когда Мамат-ага, бесстрашный помощник полкового командира, был убит, когда они потеряли лучших стрелков своих, куринцы их опередили – слезли в овраг, стали подниматься на противоположную круть… густей, густей гранаты полетели над нашими застрельщиками… Ура, штыки! А уж дело решенное, что против русского штыка ничто устоять не может; завалы были отбиты52, неприятель стоптан, но, ожесточенный поражением, засел в домах, стрелялся, резался; ему было жаль богатых пожитков, свезенных в Дювек из всех окрестных возмутившихся деревень, как в твердыню, которой не мог взять и сам ужасный шах Надир53, куда не проникал даже Ермолов, которого слава ярче Искендеровой54 и шах-Надировой за Кавказом. Пришлось штурмовать камень за камнем, шаг за шагом. Кровь лилась – огонь очищал от ней землю. Наконец, после шестичасовой битвы, вся деревня впала в руки наши; но из лесу, из-за плетней, из-за плит кладбища враги не переставали стрелять в победителей, и лишь картечь присмиряла их на время. Грабеж и пожар, как два ангела-истребителя, протекали Дювек из конца в конец… Ночь пала.
Чудно прелестен был вид этой ночи. Пламя катилось волнами и змеем пробивалось сквозь высокие кровли домов, большею частью двухъярусных… Вся гора была озарена, и по ней вверху видны были лица, слышны крики женщин, ожидавших приступа к Хустылю. Между дымом и огнем чернелись остеклевшие развалины, – и из этого-то ада солдаты и мусульманские всадники тащили, везли добычу, заслуженную кровью, выносили раненых. Поодаль несколько человек рыли общую могилу падшим своим товарищам. Коротка солдатская молитва и за свою жизнь и за душу земляка!! Ни одной слезы, ни одного слова не уронил никто по убитым; но зато как выразительны были лица окружающих в зареве пожара, то прислоненные к штыкам, то поднятые к небу!.. Все кинули по горсти земли, чужой земли, на-очи собратий… «Sit uobis terra leuis (да будет легка над вами земля)», – сказал я про себя. Каждый из вас лег как усталый часовой по смене… Когда же настанет и моя смена? Повременные выстрелы гремели requiem[47].
С убитыми и ранеными потеряли мы в этом деле четырех офицеров и до девяноста нижних чинов, включая в то число и мусульман, дравшихся отлично, особенно полка князя Баратова, которому досталось обскакать Дювек слева по лесу. Лошадей легло более шестидесяти.
Деревня стала потухать. Развалины, углясь, дымили. Тогда полковник Миклашевский приказал развести огромные костры перед отдыхавшим на поле строем по эту сторону Дарбаха… И вдруг без боя, без шума, снялись мы, послав наперед татарскую конницу. Кони их гнулись и кряхтели под тяжестью добычи. Повозки были нагружены ею донельзя. Солдаты были утомлены и боем, и походом, и бессонницею… но шли скоро, весело, – победа оперяет хоть кого, притом каждый чувствовал, что если неприятель станет напирать на нас в теснине, где каждый куст, каждый пень ему стена, потеря будет значительна. Но, к счастью, дювекцы, ожидавшие, что мы наутро пойдем штурмовать верхнюю деревню, были обмануты и поздно спохватились нас преследовать. Мы с легкою перепалкою прошли дифилею55 и наутро очутились опять в своем лагере под Великентом, совершив в тридцать пять часов два перехода и битву. Это чисто по-орлиному: налетел, ударил, схватил, исчез.
То-то пошел пир горой по возврате! Солдаты валяются на цветных коврах, продают дорогие конские сбруи, золотые женские уборы, оружие, блестящее серебром и насечкою; покупщиков наехало видимо-невидимо. Песни, веселье – гуляй, душа! Все не нахвалятся Миклашевским; и точно за дело. Без его решительности и быстроты, без его храбрости, не знающей зарока, благоразумный план генерала Панкратьева мог остаться напрасен. Он знал, кому доверить важнейшее дело, – Миклашевский умел оправдать это доверие.
В это самое время полковник Басов с казачьим своим полком, с двумя батальонами апшеронцев и двумя ротами куринцев при шести орудиях выступил на селение Маджалис, чтобы помешать каракайтахцам подать руку помощи вольной Табасарани. Перед селением на угорье он встречен был выстрелами, но от быстрого натиска неготовый к нападению неприятель бежал, и старшины Маджалиса вышли просить пощады, представляя доказательства, что стреляли не они, а башлинцы. Между тем полковник Басов, слышажаркую пальбу под Дювеком, решился идти туда прямо чрез гору, чтобы в случае надобности усилить отряд Миклашевского; но, вышедши на дювекскую дорогу, он застал только зарево пожара и возвратный след наш. Подвиг был окончен.
С своей стороны полковник князь Дадьян, с двумя батальонами Эриванского карабинерного, четырьмя орудиями и пятью горными единорогами, да с 3-м и волонтерным конно-мусульманскими полками, врезался в непроходимые доселе ущелья Табасарани. По стремнинам, по дебрям, по которым от века не слышался скрип колеса, проходил он с пушками, сражаясь на каждом шагу, поражая на каждой встрече. Двенадцать деревень легло пеплом на след русских; из них в важнейших, Кучни и Гюммеди (гнездо изменника Абдурзах-кадия), захвачена была значительная добыча и много пленных. 8 октября все эти экспедиции были кончены. 11-го тронулись мы далее, к с<елению> Башлам. Уж давным-давно грызем мы зубы на это многомятежное скопище. Говорят, что башлинцы очень храбры и отличные стрелки, – тем лучше; я уж дал солдатам задатку за башлинскую винтовку. Теперь мы стоим под с<елением> Джимикентом. Дождь ливмя; над головой облака словно грецкая губка56, а под нами земля будто растаяла… еще хуже: она превратилась в грязь, в эту пятую стихию, открытую Наполеоном в Литве57. Палатки наши плавают, как стада чаек по болоту. Журавли перекликаются ночью с часовыми; лягушки квакают кругом. Холод, сырость, слякоть! Дрова не горят, огонь не греет; лежишь кренделем, боясь приткнуться носом к полотну, чтобы вода не пролилась потоком, а к довершению забав полевые мыши, на которых, видно, за грехи наслан потоп, спасаются на бурке моей от мокрой смерти, так что карманы мои обратились в невольные мышеловки. Прощайте до первого красного дня, друзья мои! Под этакую погоду разве-разве можно писать статью «Об удовольствиях походной жизни»!
Лагерь при с<елении> Темир-Хан-Шура, 25 окт<ября> 1831.
Видали ль вы когда-нибудь войско на привале? Это очень живописно, особенно как теперь, глубокою осенью. Между рядами в козлы составленных ружей лежат кружками и кучами солдаты; кто спит, прикорнув над телячьим ранцем, кто размачивает в манерке58 сухарь. Иные, набрав хвороста или бурьяна, заботливо раздувают минутные огоньки, и уже наверно подле каждого явится какой-нибудь шутник-рассказчик, от прибауток которого вся рота привыкла смеяться за полверсты. Офицеры завтракают у начальников или у того из товарищей, кто позаживнее. Казаки, воткнув в землю пики, отдыхают в стороне. Пестрые толпы азиатских всадников снуют взад и вперед, – им не посидится на месте. Кони обоза, сдвинутого вместе, кушают в упряжи сенцо, подброшенное им расчетливою рукою. Удивиться можно, как огромны обозы в Кавказском корпусе; идет, скрипит, тянется – и конца не видать! Но когда узнаешь, что закавказские полки кочуют из края в край всю свою службу и потому в необходимости таскать все свое хозяйство с собою, что они ходят в неприязненной земле, лишенной всех средств продовольствия, не только удобств жизни, что нередко они принуждены возить с собой даже дрова для топки, – то убеждение заступает место удивления. И вот палки звучат по барабану – все зашевелилось: кони ржут, прядут ушами, фурмана59 суетятся около повозок, канонеры60 укладывают вьюки на орудия. По возам! По возам! Солдаты строятся, денщики подтягивают подпруги… Даже курочки и петушки, послушные дисциплине, бегут к своим вьюкам и, клохча, взбираются на беспокойный нашест, где они учатся верховой езде и проделывают эквилибрические штуки, привязанные за одну лапку. Новый бой – это подъем. На плечо! Справа отделениями – марш! Пошли, тронулись, барабан рассыпается частой дробью, идем… Но куда идем? Быть не может, чтобы в Башлы. Башлинские старшины приезжали с повинною головою, а повинную голову и меч не сечет. Генерал Панкратьев, зная, как важна пощада в пору, помиловал покорных именем государя императора, – где краше имя царское, как не в помиловании. Округи Башлы и Кубечи и весь Кара-Кайтах дали вновь присягу на верность. Сильное общество акушинское тоже. Раскаявшимся табасаранцам даровано помилование, с условием, чтобы они изгнали от себя изменника Абдурзах-кадия, избрав на его место другого.
После перуна кары61, грянувшего в сердце гор, блеснула горцам и радуга надежды на прощение. Это благоразумная политика командующего нами, – кстати погрозить, кстати приласкать, чтобы не ожесточить заблужденных, – имела самые выгодные следствия для русских, самые благодетельные для покорившихся. Но впереди мятежные владения шамхальские не внимали еще ни грозе, ни милости, и мятежники готовились отразить силу силою; их-то развеять двинулись мы, и 22 октября стали лагерем за Темир-Хан-Шурою. Решено. Завтра пойдем в дело, штурмовать с<еление> Эрпили, заслоненное оврагами и крутизнами, защищенное десятью тысячами горцев, которые ждут нас с крепкими завалами и засеками. Мятежниками повелевает Уммалат-бей – храбрый сподвижник Кази-муллы, который произвел его в шамхалы. Уж спрыснем мы по-молодецки этого самозванца. В ожидании будущих благ мы прохрапели ночь во славу Божию, и зоревые рожки едва меня добудились.
Поздно рассвело над Шурой осеннее утро. Непроницаемый туман тяготел на всей окрестности, и в нем глухо гремели барабаны. Войска пошли тремя колоннами. В голове первой, назначенной обойти Эрпили справа по каранайской дороге, неслись Басова казаки, бакинская и куринская конница, два батальона егерей 42-го полка и семь рот Эриванского карабинерного при восьми орудиях. Колонну эту вел полковник Миклашевский. Второю командовал генерал-майор Коханов; она состояла из двух батальонов Апшеронского и одного батальона Куринского при семи орудиях; за нею следовал резерв из трех конно-мусульманских полков под командою генерал-майора Калбалай-хана. Все тяжести оставлены были в лагерях под прикрытием двух рот куринцев с шестью орудиями и двумя сотнями всадников. Мы шли полем сквозь густой туман: в самом близком расстоянии невозможно было различить предметов; но благодаря верной карте и зоркому глазу г. Панкратьева отряд двигался вперед, не уклоняясь ни шагу от данного направления. Вы бы сказали – это корабль, рассекающий волны и туманы по мановению опытного кормщика. Вот раздалась команда влево, и полки, каждый особою колонною, равняясь головами, вытянули строй с большими промежутками. По обыкновению, я был в стрелках, раскинутых впереди. Иногда повев ветра разряжал туман, и тогда соседние колонны чернелись и ружья мерцали на минуту; потом все задергивалось непроницаемою завесою. Сардарь[48] наш носился между нас на лихом коне, окруженный штабом своим… Турецкая гайгпа (конница), ширванские и дагестанские беки, линейные и донские казаки62 скакали следом пестрою толпою. Поезд его являлся и исчезал, подобно радуге средь тучи, готовой уже ринуть молнию. Близка, близка встреча; заряжай ружья! Ветер как нарочно пахнул сильнее, туман приподнял махровые полы своей мантии, и впереди нас открылся слева крутой овраг, за которым вздымалась лесистая гора, прямо – длинный бугор, вооруженный засеками из деревьев и копаными завалами. Далее по холмам колебалось что-то, как редкий лес от ветра. «Это деревья», – говорили одни. «Это всадники», – утверждали другие. Гранаты решили спор наш. Грохот пошел по горам, когда заговорила батарея, выскакавшая вперед… В самом деле, то была конница. Она слилась, взвилась – и след простыл. Куда не жалуют азиатцы гранат! В это время наши мусульманские удальцы стали доезжать до самых завалов. Тах-тах… вся их линия расцветилась пальбою, и справа егеря с эриванцами пошли на них без выстрела в штыки. Полковник Миклашевский на белом коне вздымался в гору впереди обеих колонн, – шинель играла на нем по ветру… Ура! ура! Апшеронские стрелки тогда же бесстрашно кинулись через овраг… Левее их забирали в гору Басова казаки. Мы подбежали на полвыстрела под средину, – но стали, ожидая приказания. Пальба закипела… беглый огонь мелькал сквозь пары, как фейерверк. Крики угроз с обеих сторон, бой барабанов, стон земли от пушечных выстрелов, отражаемых отголосками хребта, – ну право, сердце не нарадовалось! Гранаты, прерывая туман, гремели, будто катаясь по ступеням, свист пуль производил эффект чудесный; могу вас уверить, что эта фуга стоила всех чертовских нот из «Фрейшица»63.
Я большой охотник наблюдать, какое действие, какое впечатление производит на солдат опасность. Любопытно пробежать тогда по фронту, вглядываясь в глаза и лица. На этот раз я не заметил, однако ж, ни очень долгих, ни очень бледных. В молодых солдатах виделось более любопытства, чем беспокойства. Иные, правда, слишком заботливо осматривали кремни свои, иные даже кланялись пулям, которые жужжали мимо как шмели, – но над такими смеялись. «Видно, знакомая пролетела?», «Эй ты, саратовец… что ты словно перед попом раскланялся? Что бережешь свою шапку? Батюшка царь богат, другую даст! Лови, лови за хвостик!» и тому подобные остроты слышались по цепи. Сколько мне удалось заметить, так самые храбрые в деле бывают или рекруты, или старые солдаты. Первые потому, что не понимают опасности, другие потому, что с ней свыклись… Средина ни то ни се. Но все русские солдаты, хоть и не слишком богомольны, зато в душе набожны. «Крестись, крестись, ребята!» – говорили они, когда мы подвинулись ближе под выстрелы, – и все крестились, и всякий взглянул на север, вздумал о родных своих. Только подле меня один старый солдат, прокопченный порохом, для которого кровь и вино стали равно обыкновенными вещами, не крестился; он был очень шутлив и весел, в зубах его курилась коротенькая трубка. «Вот еще креститься!.. – ворчал он, поправляя одною рукою табак, а в другой держа ружье наперевесе. – У меня руки заняты!» Все с негодованием взглянули на вольнодумца; не прошли пяти шагов – он падает на землю убитый. «По делам покарал Бог!» – шептали товарищи. Ура! Вперед!.. Нам досталось бежать по мокрому скату, изрытому стадом диких кабанов. Иной бы подумал – это пахоть; ноги уходили вглубь, клейкая грязь лепилась на них по полпуду, но это был миг. Уж под завалами – и все еще не видим врагов, так густ туман; наконец сошлись в упор… дуло в грудь, штыки в спину, прядаем на завалы, продираемся сквозь засеки, и неприятель бежит, оставляя трупы, кровь и плен по следу. Счастье наше, что пары мешали мятежникам цельно бить в нас с такого выгодного места. Счастье их, что пары препятствовали нам их преследовать; они рассеялись, разбежались по камням, по кустарникам, по оврагам. Дело решилось в два часа. Обойдены справа и слева по крутизнам, которые считали они неприступными, поражены в центре, который мечтали неодолимым по тройной ограде укреплений, враги отхлынули, скрылись со стыдом, оставя более ста пятидесяти тел на месте. Славный распорядок битвою г. Панкратьева и быстрота, с которою он исполнен, были причиною, что потеря наша ничтожна: ранено двое офицеров (один из них смертельно), нижних чинов убито и ранено сорок, лошадей легло пятьдесят одна.
Пользуясь изумлением неприятеля, г. Панкратьев послал по большой эрпилинской дороге 3-й мусульманский полк и 1-й батальон апшеронцев с двумя орудиями, чтобы занять деревню. Сгоряча не чувствуя усталости, пробежали мы верст семь с горы на гору, по овражистому берегу реки, по которому пролегает дорога. Изредка свистали пули, пущенные из противолежащего леса, и наконец Эрпили открылись нам длинною чертою. Пройти в них должно было через утлый мостик и потом через узкую гать мельницы… Это было дело одной минуты… В три натиска штыками Эрпили стали чисты. Басова казаки подоспели слева, егеря втеснились туда справа вместе с роями мусульманских всадников полков 2-го и волонтерного, командуемого гв<ардии> капитаном Юферовым64, адъютантом г. Панкратьева. Сам командующий войсками, вливая мужество в своих подчиненных, с первыми был уже в Эрпилях. Барабаны гремят, знамена веют, будто крылья победы. «Слава, слава оружию Николая! Хвала и честь вождям его!» Еще перепалка играла по лесу, прилежащему к деревне, а дело грабежа и разрушения уже началось. Добыча в вещах, в деньгах, в рогатом скоте была огромна. Мятежники всех окрестных деревень свезли и, так сказать, согнали туда все свое имущество, надеясь на твердыню местоположения и еще более на множество, на отвагу защитников эрпилинских, – они горько ошиблись. Солдаты, татары, турки вытаскивали ковры, паласы (тонкий, особый род ковров), вонзали штыки в землю и в стены, ища кладов, рыли, добывали, находили их, выносили серебро, украшения, богатые кольчуги, бросали одно для другого, ловили скот, били, кололи засевших в саклях мятежников. Один лезгин, видя беду, решился было дать стречка и как тут навернулся на кучу солдат. Окруженный ими, он хотел спастись хитростью, уверяя, что он послан к сардарю с письмом. Я видел издали, как бедняга выворачивал карман за карманом, рылся за пазухою – нет как нет бумаги! «Что с ним толковать!» – закричали вышедшие из терпения солдаты и подняли его на штыки.
Густела ночь, когда мы начали отступать. Г. Панкратьев не велел предавать Эрпилей пламени, по просьбе шамхала, предвидя, что эта милость обратит эрпилинцев на сторону русских, – и не ошибся.
Огромные костры пылают до сих пор в лагере, и все, что имеет две руки, варит и жарит, – правда, и есть из чего: более десяти тысяч голов рогатого скота досталось победителям. Медом и маслом хоть пруд пруди… ветер взвивает муку вместо пыли. Вот тут-то подивитесь вы вместимости или тягучести русского желудка! С ночи до утра, с зари до вечера солдаты не отходят от котлов… спят подле. Каждый впросонках запускает лапу в котел, вытаскивает кусок и дремлет над ним с сладкою улыбкой.
Живописный беспорядком и разнообразием шатров стан конницы превратился в базар и в толкучий рынок. Татары, казаки, солдаты валяются на узорчатых коврах, наваленных кучами, носят, продают, меняют богатое оружие, женские платья, парчи, попоны. Медная посуда, звуча, катается по мерзлой земле. Дорогое идет за бесценок, тяжелое отдают чуть не даром… Но толпы продавцов всего более теснятся около духанщиков, то есть маркитантов, – потому что порой чарка солдату дороже алмаза. О, вы еще не знаете, какую важную роль играет духан за Кавказом! Я вам особым письмом опишу ее, друзья мои; это будет что-то вроде… между Теньером и Измайловым65.
Лагерь под с<елением> Галембек-аулом, 28 окт(ября) 1831.
Отдыхаю. Быстрей, чем взор, пробегающий по следам пера моего, свершили мы новую победу вслед достойного нашего вождя! Зато и разбит я от трудов, будто меня ковали молотом, а душу от дождя хоть выжми. Впрочем, воспоминание о чиркейском деле освежает, греет каждого в нашем отряде, и я посылаю этот рассказ вам в гостинец – пишу себе на удовольствие.
Эрпилинская победа навела ужас на окрестных горцев, – надо было пользоваться таким впечатлением русского оружия, и 25 октября командующий войсками двинул отряд[49] к местечку Чиркею, лежащему за Сулаком. Сведав из рассказов, что на Сулаке есть деревянный мост перед самым селением, сардарь решился захватить его врасплох и для того опередил нас с одною татарскою конницею и четырьмя орудиями. Чап-чап, то есть марш-марш, – и соколами перелетели тридцать верст, разделяющих Сулак от лагеря. Чиркейцы, однако ж, были настороже – разъезды их скитались повсюду, и военачальника нашего встретили враги за версту, со всеми почестями, не жалея ни свинцу, ни пороху. Рассыпав спешенных татар, напрасно хотел он заманить их в перестрелку и отрезать от берега – чиркейцы не дались в западню. Засев в каменные завалы вдоль здешнего берега, они в числе пятисот открыли злой огонь по наступающим, но мусульмане наши, предводимые бесстрашным Нусал-агою, сыном хана Казикумыкского, который, выхватив знамя из рук падающего своего бей-дахдара (знаменщика), пошел на завалы, выбили их вон. Аскер-Али-бек и командующие мусульманскими полками, майор Мещеряков и гвардии штабс-капитан Юферов, втоптали неприятеля в ущелье, по которому вилась дорога к Чиркею. Гвардии капитан Всеволожский, адъютант командующего, посланный им для ободрения стрелков наших, отличился особенною храбростью, кидаясь с ними неоднократно на завалы. Нусал-ага и Ибрагим-бек Карчахский, посекая бегущих, подскакали к самому мосту под градом пуль, – но мост уже был полуразобран; и как разрушение его было готово заранее, то в несколько минут остальные мостницы были сорваны, и чиркейцы, покровительствуемые перекрестным огнем из завалов, начали рубить переклады67. Отвага стала бесполезна, – наши отступили в отбитые завалы.
В это время подоспела артиллерия, и две пушки с правого холма, два единорога против селения пробудили громовое эхо Кавказа, посылая смерть и разрушенье. Неумолкающая перестрелка кипела с обеих сторон Сулака. Пули перелетали через голову сардаря и ложились у ног его. Удальцы, одушевленные его словом, не раз пытались завладеть предмостьем и перебежать на другую сторону по перекладам, – но человек не птица: невозможное осталось невозможным.
Издали послышали мы перекаты пушечной пальбы и ускорили ход. Мы подымались в гору по теснине, по дороге, изрытой дождевыми потоками. Всадник за всадником неслись к нам навстречу! Скорей, скорей, сдвой шаг! Почти бежим, пот градом, – и вот поднялись на хребет, заслонявший нам вид Чиркея. Глядим – это очарование! Покуда пушки наши вздымались по крутизне на канатах, я не мог отвести очей от картины, которая гигантскою панорамою окладывалась кругом меня. Влево чернел хребет Салатав, разрубленный Сулаком надвое. Прорыв сей, отвесный сверху донизу, обращался далее к югу, и западающее солнце, золотя северную стену его, одевало глубокою тенью наш берег; огневые облака тихо катились по гребню Салатава и будто падали в расселину, померкали, гасли. Левый берег Сулака вздымался крутою горою, подернутою мрачным кустарником. По ней робко теснились бесчисленные стада баранов, которых смушками славен и богат Чиркей издавна. Прямо перед очами, в обрывистой, мрачной впадине, селение Чиркей сходило с крутизны красивыми уступами, расширяясь кверху. С правой стороны его, будто на опрокинутой чаше, восходила до туч огромная скала усеченным конусом; волнистые хребты тянулись друг над другом с обеих сторон. Русло Сулака терялось между их случайностями, – самой реки не было видно за крутизнами. Как дика, и величава, и грозна являлась там природа, но еще грозней стала она от вражды человека! Вся гора курилась дымом пороха, подобно волкану; отовсюду мелькали убийственные выстрелы, и повременно сверкал перун орудий, заглушая ревом своим перестрелку. Какое чудное эхо отвечало ему из глубины ущелий, – казалось, то были отрывистые вздохи раненого исполина, и потом оно рассыпалось, грохоча, будто скала, разбитая вдребезги. Горцы перекликались дикими воплями, и только изредка показывались над завалами их шапки и винтовки. Сталь русских штыков, медь русских пушек горела пурпуром заката. Мы строились на горе, готовые хлынуть к берегу. Впереди на высоком холме рисовалась живописная купа всадников, – то был командующий наш со своею свитою… гонцы скакали от него и к нему; очи всех были устремлены на его мановение… Он дал его.
Приветный клич: «Куринцы, вперед! Стрелки, вперед!» – вызвал меня из созерцания картины, которою любовался я – не скажу как художник, не скажу как поэт (перо и кисть мне плохо даются и удаются), по крайней мере более, нежели как солдат. Бегом спустились мы с горы, окаченные пулями из пятирядных завалов, высеченных, сложенных в камне один над другим и сосредоточенных против дороги. Крутой овраг пересекал эту дорогу; через него брошен был мостик, гибельный для многих, – то был настоящий мост эль-Сырат, острый, как сабля, висящий над бездною Мугаммедова ада68. Казалось, мимо ушей неслась саранча, – так часто сыпались пули. Некогда было оглядываться на раненых; они летели вниз, когда мы бежали вперед. И вот мимо, через груды побитых коней наших всадников, мы вбегаем в завалы.
– Селам алейкюм, Нусал-ага: Алла сахласын, Ибрагим-бек!
– Хош гялун, хош гяльдун, хош (Милости просим)!
Они сидят под своими знаменами, уже исстрелянными, окровавленными.
– Ну, что нового? что хорошего?
– Чиркейцы изломали мост, остались только переклады.
– Прощайте же: теперь наша очередь попытать счастья, – вперед, ребята!
Мы перебегаем вдоль завалов и спускаемся в теснину, по дну которой вьется узкая тропа и у подошвы скалы, круто поворотя влево, идет, или, лучше сказать, висит, над Сулаком, на пистолетный выстрел от противолежащего берега. Чиркейцы очень хорошо знали важность этой точки и не дали нам показать носа из ущелины: каждый, кто только ставил вперед ногу, был ранен. Полковник Гофман69 вслед за нами привел батальон своего полка, – лошадь под ним была убита, шинель прострелена. Немного погодя, пришло человек двести охотников Эриванского карабинерного, но все, видя физическую невозможность до ночи приблизиться к мосту, принуждены были ограничиться перестрелкою. Между тем войско стало по горе стенами. Штыки, сверкая, подобились щетине какого-то необъятного чудовища. Сардарь наш носился из края в край и под свистом пуль сам назначал места под батареи, – скоро загремела поставленная против самого Чиркея. Любо и страшно было смотреть, как чугун бил и рушил все в сердце многолюдного селения. Каждый удар видимо ниспровергал утлые домы. Гранаты, чертя померкшее небо как падучие звезды, лопались, вспыхивали молниями, и второй выстрел будто отвечал на первый, его ринувший, и за ними долго, долго катились отрывистые отголоски по ущелинам. Порой за пылью и дымом вырывалось пламя пожара. Крики и плач вдали сливались в какое-то дивное роптанье, будто кипение котла, будто вой ветра в пещере. Смерклось. Перепалка редела… Барабаны и рожки зазвучали зорю. Как невыразимо величественна военная музыка среди битвы! Как гордо и торжественно звучала она в горах Кавказа! Горцы перестали стрелять, – им дивны были русские песни. Эхо Чиркея впервые откликнулось на боевые наши барабаны. Все стихло. Лишь изредка брызгали огненные фонтаны ружей оттуда и отсюда; лишь рев и плеск быстрого Сулака, кипящего в глубине каменного русла, нарушали безмолвие ночи. Иногда переклики врагов, стекающихся в завалы, возникали за рекой, мерное «слушай!» часовых в цепях, раскинутых по хребтам окрестным, раздавалось на нашем берегу. Солдаты весело балагурили в низменных шанцах70; я лежал, прислушиваясь к их разговорам. Ночной холод проницал меня насквозь. Голод и жажда воевали в желудке, – а где найти воды? где достать сухаря? Солдаты пошли в дело без ранцев. Я не пан Твардовский и не продал бы души за бочку вина, ни за бочонок золота71, – но кошелек с золотом (правду сказать, весьма ветротленный) охотно бы отдал тогда за стакан воды – простой воды! за кусок хлеба – черного хлеба! В эти грустные минуты, когда ум переселяется в желудок и сердце воспоминает о прелестях ужина, слышу, вызывают охотника осмотреть мост… Я уверен, что голодный менее сытого дорожит жизнью, – вероятно, потому все великие полководцы нарочно мало заботились кормить свои войска. Я вскочил гоголем; протираюсь между множеством солдат, коими начинено было путевое ущелье, завертываюсь в шинель, оборачиваю ружье погоном вперед, чтобы оно не блестело, и, лепясь под скалою, тихомолком выбираюсь на дорогу – шириной немного более сажени. Чернея, вставали, хмурились передо мною утесы обоих берегов. На каждом шагу обломки плит изменяли звуком моему ходу, и, признаюсь, ретивое забилось, когда незваные выстрелы озарили меня. Стою как камень между камнями, – а не замечен! Я насчитал восемьдесят семь шагов от поворота до предмостья. Ползу, как змея, к закраине берега, присматриваюсь: лежит один переклад сажени в четыре, но и тот сдвинут в сторону и едва-едва держится. Внизу, в глубине сажен десяти, крутился и пенился мятежный Сулак, и над ним склонялись головами обе скалы подножий моста; ну, с берега на берег, казалось, рукой подать! Мост замыкался воротами, висящими на каменных вереях. Влево, где Сулак образовал колено, белелись одна над другою три сакли, которые могли пронизывать мост сбоку, от самых ворот и над самыми воротами, тянулись по горе в несколько рядов завалы. Все это в темноте не мог я рассмотреть сразу. Я был так близок от врагов, что слышал тихий говор, видел, как они носили каменья, заваливая ворота, возвышая завалы, – и вдруг, на беду мою, меня почуяли за рекой собаки. Лай их раздался зловещим по горам отголоском, и пули зачикали около меня по каменьям. Припав к земле, словно медный грош, я счастливо отлежался. Собаки смолкли, огонь прекратился, и я назад, назад. В ущелье встретился я с инженер-штабс-капитаном Горбачевским72, с саперным поручиком Вильде73 и артиллерии штабс-капитаном Дейтрихом, – они собрались на осмотр, с которого я возвратился. Желая поверить все своим опытом, храбрые офицеры эти в солдатских шинелях, с ружьями отправились к мосту, – я с ними. Рассмотрев, где и как удобнее строить новый мост, они решили построить напротив моста батарею, чтобы разбить сакли и прикрыть переправу. Рабочих сюда! Долой белую амуницию – живо, тихо! Потащили бревна, привезенные с собою, и счастливо сложили их у предмостья. Потом отправились выбирать место под батарею между завалами и краем берега. Ходим, разглядываем, – нелегкая принесла туда пастушьих собак, не успевших ретироваться в Чиркей. Четвероногие стражи ходячей баранины изволили притаиться в каменьях и, потревоженные нами, подняли такой гвалт, что Боже упаси! Это бы все ничего; но солдаты, не предуведомленные о нашей экспедиции, воображая, что подкрадывается из засады неприятель, открыли огонь. Ответные выстрелы полетели от чиркейцев; свои и чужие принялись строчить нас наперекрест…
…Было жарко, правду сказать, – но темнота мешала цельности; мы припали к земле и докричались своим, чтоб они не стреляли. Все стихло. Выбрали место. Заложили цепь стрелков впереди; означили камешками направление фасов и амбразур эполемента; потребовали инструментов и рабочих. Начали выводить стену, разбирая камни завала. Солдаты работали тихо, безмолвно, как муравьи, – но они были неопытны в этом деле; мало было рассказывать, пришлось показывать и самому, как и что выполнить; я ворочал плиты, укладывая их в связях мерлонов74, ибо малейшее замедление или неосторожность могли стоить жизни многим. Прежняя наука пригодилась мне теперь (вы знаете, что я готовил себя когда-то в инженеры или артиллеристы)! Мне поручили выстроить левую половину укрепления75, – и работа росла, кипела. Каждый слой камня перекладывали мы. землею, чтоб камни не брякали и плотнее ложились, одевали их снаружи, чтобы не белелись. Скоро мы вывели стену в сажень вышиною, для прикрытия артиллеристов от навесных выстрелов с крутин, владеющих нашим берегом. В сторону развели крылья, для помещения. Потом надо было расчистить дорогу для провозу пушек, – это заняло довольно времени. Часу в пятом перед светом ввезли и надвинули орудия, а неприятель, занятый и сам поправкою завалов, ничего о том не знал и не ведал. Ну-тка попробуем, как низко возьмут орудия!
Перун блеснул – ядро ударилось в каменный череп76 и дважды осыпало окрестность искрами, – грохот пошел по горам… Изумленные горцы с криком пустили град пуль на огонь пушки. Другое ядро направлено было на дальний огонек, видно разложенный под котлом в глубоком завале… Оно как раз легло в средину теней, и они рассеялись, пламя погасло… Видно, русский чугун не очень удобоварим… плохая он приправа горскому плову! Умолкли все: все ждали утра; оно уже серело по высям гор; зубцы их обозначались; громады, сдвинутые около Чиркея неодолимою твердынею, рассветали постепенно. Туман клубился из оврагов, будто рвов, изрытых природою в оборону этому гнезду храбрых разбойников, стекшихся из Чечни и салатавских деревень на помощь ближним. Первый луч солнца, сверкнувший на теме Кавказа77, казалось, зажег снова огонь вражды и громы пушек. Батарея из десяти орудий, устроенная по приказу командующего против самого Чиркея, произнесла глагол смерти. Две пушки нашей батареи, перевозимые то вправо, то влево в запасные амбразуры, прыснули картечью по завалам, устроенным в садах, лестницей друг над другом, ядрами – по саклям предмостия. Каменные осколки летели во все стороны, деревья ложились, будто пожатые ураганом. Ружейная пальба загорелась с новою силою… Дым густыми клубами катился по горе и потом медленно сливался с облаками, задевающими за головы скал. Картина была великолепна!!
Позабавившись стрельбою из ружья по головам горцев, отваживавшихся перебегать из разрушаемых саклей к воротам, я дивился меткости горских выстрелов. Выставленные на штыках перчатки в один миг поражались несколькими пулями. Всякий, кто отваживался перейти с батареи в завалы, был неминуемо ранен; кто протягивал ногу, платил за это удобство дорого. Я бы счел за сказку, что свинец пробивает железо, – но убедился в том, увидя пять ружей, простреленных сквозь ствол; у некоторых, сверх того, пули, пробив обе стенки, сломали стальные шомпола. Толстые железные листы, покрывающие кровлю зарядных ящиков, превратились на нашей батарее в решето. Множество штыков было сломано пулями. Правду сказать, мы очень близко были от неприятелей, а их винтовки берут невероятно далеко. Я устал, я был истощен трудами и бессонницею, ибо и запрошлую ночь пролежал в секрете. Солнце припекло меня, и, когда я сел на пушечное ведро, невольная, неодолимая дремота наложила свинцовую печать на мои веки. Несколько раненых лежали подле, стеная. Ноги мои упирались в убитого, – ни тех, ни другого нельзя было вынести с батареи: она, как остров, возвышалась на скате, открытом даже пистолетным выстрелам врагов. На меня нашел какой-то жалобный стих… Свист ядер с большой батареи слышался мне стоном вдов и сирот. «Для чего люди терзают друг друга беспощадно?» – подумал я… но не успел додумать: я заснул богатырским сном… Ни гром пушек рядом со мною, ни свист пуль мимо не пробудили меня; через полчаса, полагаю, меня разбудил бомбардир, которому нужно стало окунуть в ведро банник78. Озираюсь – бой еще горит во всей силе.
Между тем командующий войсками, обозревая орлиным оком возможности, послал Басова казаков отыскивать брод гораздо выше Чиркея; а против самого Чиркея, усилив огонь большой батареи, приказал попытать броду или переправы вплавь. Слово любимого вождя одушевило русских беспримерною отвагою. Мусульманские всадники, линейские казаки из конвоя командующего ринулись с крутизны на конях в реку, да и кто под глазами его не пошел бы в огонь и в воду! Егеря 42-го полка, батальона майора Кандаурова, исполнили это в полном смысле слова. Предводимые штабс-капитаном Баратовым и поручиком Хвостиковым, они не задумавшись кинулись в бурный поток, кипучий, летящий стрелой с крутого ложа… но что могли сделать люди против всемогущей природы? Бесстрашные были сбиты, разнесены, увлечены быстриною, – с большим трудом могли спасти их. Но неприятель с удивлением и с ужасом увидел, что русским нет препон; приготовление к постройке моста, для чего из ущелья начали уже набрасывать доски и фашины, поразило их еще более… Эти попытки показали им меру нашей храбрости, – они смутились, оробели… стали переговариваться с наступающими, кричать «аман (пощада)», махать шапками и наконец, несмотря на жаркий картечный огонь, выслали старшин на берег для условий. Командующий, видя, что он может достигнуть цели, не Теряя людей, велел прекратить пальбу… Помалу она умолкла обоюду.
Приятна минута перемирия после боя, как тень в пылу дня, как перемежка болезни. Все вдруг поднялись из завалов, будто выросли из земли. Гора покрылась неприятелями, унизанная ими как многорядными бусами, – и с каким любопытством мерили, считали мы их очами!.. Их было более четырех тысяч. Опершись на ружья или гордо взбрасывая их за плечо, стояли горцы, угрюмо поглядывая на нас из-под мохнатых шапок своих… Живописные группы столпились у спуска к реке, чтобы напиться или освежить лицо (из завалов прогулка за водою стоила бы жизни). Припав к реке, они жадно глотали мимолетную влагу, черпали рукой, купали головы. Вдали выносили их раненых, убитых. Сгорая нетерпением рассмотреть все поближе, я спрыгнул с амбразуры и прямо спустился к мосту, лепясь за уступы скалы. Старшины селения, окруженные разноплеменными горцами, видными старыми людьми, приближались к разрушенному мосту; между ними мелькали белые чалмы приверженцев Кази-муллы. Мне хотелось променять с чиркейцами несколько слов, и я обратил речь к молодому человеку: юность менее недоверчива и менее осторожна.
– Алейкюм селам, хоччах (молодец)!
– Саг-ол, саг-ол (Благодарю)!
– Зачем вы сражаетесь с нами! – сказал я. – Добрые люди должны быть друзьями!
– Зачем же вы идете к нам, если вы добрые?
– Вы сами начали ссору: вы приходили грабить шамхальцев – были под Тарками, под Дербентом, в Эрпилях.
– У нас каждому воля идти куда хочешь. Везде есть добрые люди, есть и разбойники!
– Пусть так. Зачем же вы принимаете и скрываете нашего врага, Кази-муллу?.. Семейство его до сих пор между вами.
– Нет. Он давно от нас уехал, а жена его вчерась бежала в горы… Ступайте же назад!
– Нет, приятель! Русские не отступают без удовлетворения. Вы видите, что нельзя перелететь за реку! Вы видели, что мы едва-едва не перешли за нее. Простоим еще неделю, месяц, и построим мост, запрудим Сулак ваш, и хоть потеряем половину солдат, а непременно возьмем Чиркей. Тогда не ждите пощады.
Горец нахмурился и молчал; другие сердито шептались между собою. Я продолжал:
– Вы славно дрались, а бой не проходит даром. Я чай, много у вас ранено, убито?
Лица горцев померкли вдруг, будто тяжелою мыслью: иные потупили очи, иные отворотились.
– Не спрашивай нас об этом… – отвечали они. – На жизнь и смерть Божия воля.
Впоследствии от самих старшин сведали, что у них потери более трехсот человек. Одна граната, пробив стену, лопнула подле столба, поддерживавшего потолок; он пал, потолок рухнул и подавил шестьдесят человек вдруг. Эта граната была Сампсон в миниатюре между горскими филистимлянами79.
С нашей стороны командующий войсками прислал для переговоров майора Аббас-Кули-Баки-Ханова80, мусульманина, известного своею ученостью, достойного преданностью. Со стороны чиркейцев договаривался именитый между них человек, Джеммал81. После многих споров и возражений чиркейцы предались великодушию русского правительства на следующих условиях.
1-е. Местечко Чиркей покоряется отныне престолу его императорского величества и обязывается исполнять все приказания русского начальства.
2-е. Чиркейцы обещаются не принимать к себе ни Кази-муллы, ни его сообщников.
3-е. Они должны возвратить орудие, взятое Кази-муллою у отряда генерала от кавалерии Эммануэля82.
Итак, в один день совершено покорение одного из неприступнейших селений Кавказа, которое оградил он в лоне своем и крутью гор и быстрым потоком! Люди, не признававшие от века никаких властей, склонились пред оружием русского царя. Что ж может противостать его воле, уму его вождей, отваге его воинов, когда здесь самую природу победили силы человека!..
Между тем мы бродили кругом, высматривали, глазомерничали, забыв, что очень небезопасно полагаться на честь азиатца, не знающего, не уважающего никаких прав и правил военных, соблюдаемых европейцами. Заметив наше любопытство, многие стали взводить курки, а когда увидели, что топограф чертит что-то карандашом, несколько ружей склонились на прицел, с явными угрозами. Эта осторожность пришла поздненько. Все, что нужно было знать и снять, было узнано и снято.
К вечеру сменили нас из шанцев, и как сладко и как крепко уснул я под открытым небом, на голом камне у огонька! В двадцати шагах от меня стояли палатки с ранеными, но я не слыхал их стона, несмотря на то что им делали операции. Убитыми и ранеными потеряли мы в этом деле до восьмидесяти человек. Коням тоже досталось порядочно; их положили до семидесяти пяти.
Еще звезды сверкали, трепетали в небе и холодные лучи их сыпались на лица спящих инеем, а уж барабаны гремели, призывая к походу. От звука их, будто от дыхания бури, легли палатки стана. Сперва тронулись тяжести: лазарет, артиллерия, обоз; в замке и мы83, но уж было светло, когда пошли мы. Дождевые облака, подобные серному дыму, клубились в ущелиях, будто из жерл адских. На горах уже низвергался дождь, и вздутый им водопад, с левой стороны Чиркея, пенясь, клубился по уступам горным. Казалось, он падал прямо из туч, гонимых, расшибаемых о ребра гигантского утеса. Смирен и печален лежал покоренный Чиркей и будто со стыда прятался в ущелье. Жерло Сулака в вышине упивалось парами, которые катились, неслись, падали с хребта Салатафского, будто снежные обвалы. Я все оборачивался назад, все любовался этим ненаглядным зрелищем, но скоро гряда холмов и дождевая завеса заградили горизонт мой.
Ну уж погода, ну уж переходец, прости господи!.. Шли, шли, как журавль по болоту, – одну ногу высвободишь, а другая вязнет. Ливень целый день преследовал нас, как ревнивый муж, ветер проницал в самые сокровенные складки души. Насилу-то дотащились до Галембек-аула. Пришли, стали – вода по колено, а уж грязь-то, грязь такая, что сделала бы честь любому азиатскому городку. Палатки наши – ни дать ни взять чертог русалок. Разложили огромные костры, хотели посушиться, – куда тебе! С одной стороны жгло и пар валил клубами, с другой в это же время платье втрое мокло от дождя. Устав вертеться даром перед огнем, я решился, мокрый как мышь, лечь на мокрый ковер, постланный на грязи, то есть на пуховике, который провидение всегда держит наготове для нашего брата воина. Зная, однако ж, экспериментальную физику, я, для поддержания животной теплоты, хватил добрую чарку водки и скоро согрелся так, что с меня пошел пар, будто с парохода. Постепенно погружался я в воду и в забытье и наконец заснул, как бобр выставя только нос на воздух.
С<еление> Гилли, 6 декабря 1831.
Какой русский не веселится сегодня, празднуя тезоименитство великого нашего монарха!84 Но между тем как шампанское шумит и льется и пьется за его драгоценное здоровье у вас в столице, я посвящу эти часы славе его победного оружия.
30 октября была у нас торжественная присяга. От мятежных селений Дагестана, от Чиркея и Гумбета, от Салатавского округа и общества кой-субулинцев съехались старшины и посланцы. Привезено было и требованное из Чиркея орудие, которое хранили они на высокой горе за селением. Войска стояли в строю; знамена развевались ветром Кавказа, смиренного русским оружием. Командующий сказал горцам речь, полную простоты и силы: упомянул о низком происхождении Кази-муллы, возмутителя их; о том, как он, выдающий себя за посланника неба и очистителя веры, продавал в молодости водку и вино магометанам; о том, что сей злодей умертвил своего отца самым ужасным образом, влив ему в горло кипящее масло; доказал его поступками, что он лишь себялюбец, жаждущий власти и золота, что они видят примером, какие кары накликал он бесполезными мятежами на головы им обманутых, что стыдно долее верить, грешно дружить сему избранному злого духа, что монарх наш милует заблужденных, щадит покорных, но умеет открывать лицемерие и казнить мятеж. Старшины клялись свято сохранять. верность и покорность, положив руку на Коран и лобзая его. Завет спокойствия Дагестана был заключен. Но чтобы упрочить оный, командующий разместил войска в с<елении> Кара-будахкенте, в Гиллях, в Буйнаке, в Уйтамише. То была живая цепь, наложенная на Табасарань, в которой умы еще волновались. Сардарь наш ведал, что присутствие Абдурзах-кадия и других беков, ревностнейших поборников Кази-муллы, было закваскою мятежей в среде буйных табасаранцев, и для того послал к изменникам доверенных людей, от имени почетных дербентских жителей, уговорить их предаться великодушию русских, прося пощады. Это удалось. Абдурзах-кадий, Айдамир, Муртазали и другие мятежные беки явились к дербентскому коменданту. Командующий, известясь о том в крепости Бурной, которую тогда осматривал, поспешил прибыть в Дербент и отослал главнейших под надзором в Баку. Между тем табасаранские беки, по его приглашению, избрали себе в главу, то есть в кадии, Исай-бея, известного своим усердием к русскому правительству. Ибрагим, бек Карчахский, наследник владений майсумов, привел в покорность возмутившихся своих подданных. Джаммал-бек, сын последнего уцмия85, принял обеты верности каракайтахцев. Одних устрашили быстрые успехи русского оружия, других укротило великодушие командующего, – Дагестан смирился.
Дивлюсь я и до сих пор постичь не умею, каким колдовством солдаты всех скорее узнают далекие новости, нередко важные тайны! Будет ли поход, решено ли дать сражение, идет ли к нам какое войско, где движется и что замышляет неприятель… им все известно, обо всем они говорят задолго прежде, сперва шепотом в палатках, потом около огней, а потом уже открыто, – и хоть вести их не всегда бывают связаны в подробностях, но почти всегда верны вообще. Стоя на часах у начальников, ходя на вести в канцелярию, толкуя с денщиками и писарями, они проникают везде как воздух, так же незаметно и так же перелетно. Близкие и беспрестанные сношения их с народом, даже в земле неприятельской, дают им средства скорее других вызнавать слухи и замыслы. Но, что всего страннее, случалось, они рассказами предупреждали события, – что ни говорите, а иногда глас народа есть глас Божий. Так было и недавно. Между солдатами давно уже ходил слух, будто Кази-мулла, заняв генерала Вельяминова86 сражением на Сунже, сам ночью с одной конницею ударил вниз по Тереку, перебродился за него, и врасплох вторгся в Кизляр, ограбил часть города, три церкви[50], и с пленными ушел в горы. Сначала весть эту считали несбыточною; но невероятное обратилось скоро в верноподобное и, наконец, подтвердилось официально. Набег сей совершен был Кази-муллою 1 ноября. 5-го он уже был под Чиркеем. Гордый удачею, падежный на золото, он хотел остаться там; но чиркейцы крепко держали присягу, потому что крепко помнили русские гостинцы, и не приняли разбойника. Желая своею деятельностью выиграть во мнении дагестанцев, дабы подвигнуть их к новому мятежу, он, в ночи на 8 ноября, напал на селение Каранай; но каранайцы и эрпилинцы совокупно ударили на его скопища, вытеснили, погнали, – он засел в неприступном ущелий, по дороге к Гимри. Стало явно, что уважение к лжепророку упало, – самые горячие его приверженцы на него восстали; меры боя и мира командующего произрастили желанные плоды.
Кази-мулла, после этой неудачной попытки, бежал в Гимри, селение, лежащее на Койсубулинском обрыве Салатава, в пропасти, недосягаемой взором, не только оружием. Лишь узкие тропинки, пролегающие над стремнинами, ведут туда. Там находилась одна жена и часть семейства Кази-муллы, и там же хотел перезимовать он сам, защищенный многочисленными единомышленниками. Желая удалить возмутителя из соседства Северного Дагестана, генерал-адъютант Панкратьев отправил подарки к почетным гимринцам от имени шамхала, уговаривая их изгнать из среды своей Кази-муллу; но между тем он хотел подкрепить свое требование оружием. Генерал Коханов получил приказание занять Каранай и Эрпили и тем пресечь ему единственные дороги в шамхальские владения. Сам командующий прибыл к отряду 13 числа в Карабудахкент, распуская слух, что пойдет атаковать Гимри. 16-го батальону куринцев, в сопровождении трех тысяч пеших шамхальцев, приказано было выступить из Эрпилей на гору. Слышать – значит повиноваться. Велено – и для русского нет невозможного. С рассветом мы двинулись на крутой хребет Салатава, давно уже покрытый снегом… Идем!
Давно – кажется, с байбуртского сражения87 – не уставал я так, как устал, взбираясь по обледенелой крутизне Салатава. Ноги раскатывались, скользили; невозможно было идти, не упираясь штыком в снег. Зато я щедро награжден за усталость прелестным видом, когда ветер распахнул позади нас туманы. Прошедши две трети, то есть верст пять в гору, мы были остановлены, и я имел полный досуг вздохнуть, дать разгул очам своим. Я уже стоял за границей растения, на крутом гольце88. Утро было морозно, солнце катилось по синеве пылко и лучезарно. Девственный снег, не запятнанный следом человека, горел как покрывало, сотканное из алмазов по радужной основе. Огромные деревья опушены были кристаллами, в тысячу раз прелестнейшими зелени… Это было что-то идеально очаровательное; звезды роились по ним вместо листьев, солнцы в замену плодов. Но что виделось под стопами внизу, под очами вдали: и склоны и обрывы гор, расписанные тенями, и яркие хребты застывшего океана, вспененного туманами, и все, все, что можно было обнять взором и воображением, – этого не выразит никакое слово, не даст подобия никакая кисть. Сколько жизни разлито было по этим горам, несмотря на зиму, символ безжизненности! Я исчезал в созерцании – Адам падал с плеч моих…89 я был так далек от земли, и земля сквозь мысль мою казалась мне так чистою, сам я в эту минуту был так близок к небу, словно достоин его!.. Луч солнца играл, как поцелуй ангела, на лице моем, будто никогда не кропленном ни каплею пота, ни каплею слез, ни каплею крови! Тогда я мог сказать, как Фауст: «Возвышенный дух! ты дал мне, дал мне все, о чем молил я. Ты отдал мне в царство пышную природу, даровал силу ее чувствовать, ею наслаждаться! Не к одному хладнодивящемуся изысканию ты допустил меня, нет! Ты дозволил мне заглядывать в глубокое ее лоно, как в сердце друга»90.
Мы не пошли в Гимри, ибо командующий войсками очень хорошо знал невозможность спуститься в эту пропасть в такое суровое время года. Но демонстрация его имела полный успех. Его на дороге встретили посланные от койсубулинцев с уверениями, что желание русских будет совершено. На другой день явились гимринцы от старшины селения Давуд-Мугаммеда с известием, что Кази-мулла, изгнанный ими, удалился со своими клевретами в Иргены, где присоединился к нему Гамзат-бек Аварский91, дважды помилованный и дважды изменивший русским.
Видя укрепляющееся доверие к русским и ненависть к лжепророку между дагестанцами, генерал-адъютант Панкратьев, дабы усилить оные, лично роздал несколько медалей и денежных награждений мусульманам, отличившимся в деле 8 ноября. Между тем зима установилась. Густые снега завалили сугробами ущелья. Горные дороги стали непроходимы, и сардарь наш отправил часть войск, истомленных беспрестанными походами, в свои штаб-квартиры. для опоры же спокойствия пять рот Куринского полка и шесть рот Апшеронского расположились первые в Карабудахкенте, вторые в Дженгутае.
В это время получено известие, что Кази-мулла хотел было водвориться в с(елении) Иргены, но, видно, счастье его пошло на отлив: ему и там не дозволили скрываться. Навербовав по горам отчаянную шайку, человек до пятисот, он с Гамзат-беком, достойным его сподвижником, перевалился за Салатав и засел в почти неприступном урочище Чумкессен, в двенадцати верстах от Казанищ, разглашая, что хочет карать отпавших своих сообщников, и между тем похищая баранов у соседних деревень. Генерал-майор Коханов выступил против разбойника с двумя батальонами, подкрепленными шамхальскою пехотою при четырех орудиях, 26 ноября, обошел овраг и атаковал неприятеля. Но непроницаемый туман воспрепятствовал успеху. Не видя далее пяти шагов перед собою, – а уже осенний день навечере, – русские должны были отступить. Горцы дерзостно кинулись из завалов своих, перешли через глубокий овраг и напали на передовые войска наши, но были рассеяны пушечными выстрелами. Дерзость их возрастала с каждым шагом отступления, – это обычная азиатская сноровка. Раз пять порывались они отбить заднее орудие на узкой лесистой дороге, но артиллерийский офицер без страха снимал его с передков, обдавал горцев картечью и снова на передки, – это был тигр, которого каждый оборот стоит жизни собакам… Одна минута, однако ж, была истинно роковая. Худо ли был проколот картуз92 или не догнан до места, только скорострельная трубка вспыхнула – и нет выстрела; ставят другую – вспышка! третью – не палит!! А горцы почти на колесе и с дикими воплями кидаются в шашки, – но апшеронцы лихо отстояли орудие, стрелялись в упор, резались врукопашь. Глубокий снег и чрезвычайно суровая погода принудили нас возвратиться в самые Казанищи.
В ночи на 26 число Кази-мулла отрядил триста человек для нападения на Эрпили, но там сторожил их отважный Улу-бей93. С рассветом началась сеча. Улу-бей со своими вытеснил их из края селения, ими занятого, преследовал далеко, многих убил, десять человек взял пленными. В Эрпи-лях в этот набег свершилось дело, достойное памяти. Мать Улу-бея, пылая гневом и местью на виновников бед ее, родных и одноземцев, кинулась на них с топором в руках, поразила нескольких и сама прияла геройскую смерть. Кази притаился в Чумкессене; но могли ли, но должны ли были русские терпеть непримиримого врага в двенадцати верстах от себя? Это бы значило потоптать свои лавры, даром потерять плоды победы. Командующий войсками взвесил, какое влияние эта дерзость может сделать на умы дагестанцев и горцев, даже на войска наши, и решил: непременно взять Чумкессен. Дело это поручено полковнику Миклашевскому, который незадолго, по болезни бригадного генерала, принял начальство над отрядом.
Отряд этот собрался в Казанищи 30 ноября. Назавтра назначен был бой, и все знали, что он будет упорен, ибо все слышали, что Чумкессен едва доступен, что там есть крепостца, что она защищается тысячью отчаянных удальцов племен лезгино-аварских; но солдаты любили Миклашевского как душу и так твердо веровали в беззаветную храбрость, в благоразумие его распоряжений, что готовились в дело весело, беззаботно. В палатках раздавались шутки, вкруг огней песни, – о, сколь для многих были они последними! Судьба уже отмечала лица жертв железным перстом своим. Скажите, какая нить связывает два мира, две судьбы, две жизни? Скажите, отчего, готовясь расторгнуться, она почти всегда дает ощутить себя то грустью предчувствия, то зловещими снами? «Какой предрассудок!» – скажете вы, засмеетесь или, что еще хуже, улыбнетесь с сожалением. Пусть так. Я сам очень хорошо умею толковать о вздорности этого и между тем не могу дать себе отчета, отчего и когда делаю исключения, – и не раз близость беды, как близость грозы, томила меня тоскою задолго прежде.
He говорю уже о многих умнейших людях, покорных предчувствию, – я знал людей, не имевших веры, кроме этого суеверия, и это суеверие редко их обманывало. Кто видел жертву смерти около себя в многоразличных образах, тот, конечно, более домоседа имел случай видеть тому примеры. Расскажу один.
Накануне 1 декабря Миклашевский ужинал с немногими близкими к нему. Он казался веселым, но едва ли был им. Невольная дума мрачила его лицо.
– Ну, господа! – сказал он. – Надо славно заключить славный поход. Я должник государю за многие милости, особенно за позволение ехать в отпуск, и сделаю все, что могу. Отработаем дело молодецки, и я лётом полечу на родину. Воображаю, как будет рад мне старик отец мой! Про себя и говорить нечего – я русский, я сын, я жених! Лестно мне, что генерал Панкратьев выбрал меня приложить кровавую печать к странице истории, на которой блестит его имя, но, подивитесь – я бы почти был рад, если б Кази-мулла бежал заране. Мне снился в прошлую ночь странный сон. Чудилось мне, что в мою палатку вбегает прекрасная женщина, в слезах, с растрепанными волосами, жалуется, что она кем-то покинута. Прошла минута, и она уже лежала в моих объятьях и как ангел ко мне ласкается, но я чувствовал, что поцелуи ее – лед, грудь холодна, как зима… Она холодела на руках моих, – мне стало страшно, я зяб, я застывал, я замерзал, сердце переставало биться… Просыпаюсь!.. Одеяло у ног, и холодный ветер играет полами шатра. Разумеется, это вздор… Будучи отрядным начальником, я менее чем когда-нибудь подвержен буду личной опасности… Но успех сражения? но участь сражающихся?.. – Разговор о деле замял и мысль о грезах.
На всходе солнца мы двинулись из Казанищ в гору к Чумкессену. Надобно сказать, что Чумкессен выходит с хребта мысом, ограниченным с юга оврагом, а с севера крутым обрывом, вся окрестность его обнята густым лесом; дорога на этот мыс идет по правой стороне оврага и, огибая оный, спускается рытвинами. Почти на углу Чумкессена стеснено несколько землянок и саклей, в коих скрывались семьи мятежников во время лета. Полковник Миклашевский, оставя против тропинки, туда ведущей, роту куринцев с одним орудием, прочие войска послал в обход. Шамхал и Ахмет-хан стали с людьми своими на дороге от Казанищ. Улу-бей с эрпилинцами занял дорогу к Гимрам и, заметя, что к Чумкессену идет на выручку толпа аварцев, пересек им путь, разбил их, взял в плен двенадцать человек. Рекогносцировка оказала, что через овраг невозможно перевезти пушку и что обходная дорога заграждена засеками и перекопами, следственно требует долгого времени для расчистки, – а велик ли зимний день?.. Миклашевский решился сделать натиск одною пехотою. Перекрестились – пошли… Пули уже заиграли. Восемь орудий остались бить по видным завалам перед селением; но когда мы обежали его, пушки умолкли, настала жатва свинцом и железом. Апшеронцы и егеря на славу атаковали неприятеля, разом выбили его из завалов, из саклей и, беспощадно коля встречного и бегущего, по следам их кинулись с двух сторон к укреплению Агач-кале, которое, будучи скрыто в ложбине от пушечных выстрелов, только тогда открылось глазам нападающих. Это Агач-кале было трехстенное укрепление, воздвигнутое на краю утеса. Наружные углы его обстреливались саклями, сложенными вроде башен. Оно скатано было из огромных деревьев в несколько венцов и накрыто суковатыми пнями (chevaux de frise). Между бревнами вложены были по концам палочки, отчего во всю их длину образовались весьма удобные стрельницы, – из них-то летел смертоносный огонь на наступающих. Скрытые за непроницаемою оградою, горцы били на выбор; солдаты наши, несмотря на это, бесстрашно кинулись вперед; но когда град пуль срезал целые ряды храбрейших, когда несколько офицеров легли на окровавленный снег, натиск превратился в перестрелку жестокую, убийственную, ибо расстояние между крепостцою и рассеянными купами дерев не превышало восьмидесяти шагов. Кучки бесстрашных егерей, предводимых достойными своими офицерами, кидались несколько раз к стенам укрепления, срывали окровавленные знамена, пытались взлезть наверх, – иным удалось и это, но суковатая кровля была непроницаема; герои падали, пробитые десятками пуль. Осажденные оказали отчаянное сопротивление, – иные, увлеченные бешеною храбростью, вылезали из укрепления и с шашкой в руке гибли на штыках. Выстрелы их были метки и непрерывны; упорство, месть, ожесточение росли с обеих сторон; подошва Агач-кале завалена была трупами коней и людей… Никогда в жизни не видал я столько крови и столько храбрости на столь малом пространстве!..
Миклашевский нетерепеливо ждал решения боя за оврагом; но когда прискакал к нему офицер и сказал что-то на ухо, он вспыхнул. «Коня!» И в тот же миг велел двум ротам куринцев следовать за собою, спустился с крутизны вскачь и вскачь поднялся на противоположный утес, по такой крутизне, что и пешком взлезть трудно. Судьба несла его, говорили солдаты. Он спрыгнул с коня, обнажил шашку и крикнул:
– Вперед, друзья! Теперь наша очередь показать себя молодцами!
– Ура! ура! – заревели солдаты. – Ура, вперед! С нами отец наш! Все ожило, все хлынуло к Агач-кале. Он пошел на приступ впереди всех, между ротою куринцев и егерей… подбежал к бойнице и в запальчивости хотел заколоть сквозь нее горца; но злодейские выстрелы сыпались, кипели, и роковая пуля пронзила его грудь, пробила сердце и легкие; он успел только сказать: «Возьмите!» – ступил назад и пал. Вслед же за ним смертельно ранен майор Кандауров, тяжело подполковник Михайлов, пять обер-офицеров и множество нижних чинов.
Но смерть храброго полковника не могла остаться без мести, завет его – без исполнения. Ожесточенные солдаты руками рвали сруб, лезли наверх, ломали кровлю и вломились наконец в укрепление, падали друг на друга; друзья и недруги – все смешалось… Когда ударили отбой, лишь одни трупы злодеев остались в Агач-кале: там не было ни пленных, ни раненых. Темнота укрыла многих мятежников от гибели; они катком спустились с обрыва. На месте сражения осталось более ста пятидесяти тел и семьдесят лошадей. В числе убитых узнали татары лучших наездников и товарищей Кази-муллы. Взято два почетных знамени и одно Гамзат-бея; добыча в вещах и деньгах, в том числе в богатейших уборах кони Кази-муллы и Гамзата. Кази-мулла бежал так неожиданно и торопливо, что в пещерке, в которой он во время дела молился, нашли его Коран и другие духовные книги. Ковер, на котором сидел он, был залит кровью. Его полагали тогда раненым.
Мы стали почти на «костях», как выражались наши предки. Дорога, но знаменита была победа. Мы потеряли более трехсот убитыми и ранеными, зато стяжали славу русскому оружию. Ни помощь природы, ни силы огражденного неприступностью человека не устояли перед храбростью русских, – а выгоды этого мнения в очах дикарей неоценимы. Перед нами, на окровавленном плаще, лежал труп убитого полковника, и как гордо, как прекрасно было его чело!.. Офицеры и солдаты рыдали. Татары плакали горькими слезами… Но воину ли жалеть о такой завидной смерти? Нам должно желать ее! Миклашевский пал, как жил, – героем! Наутро огонь и железо истребили гнездо злодеев. Окружный лес упал под топорами. Мы возвратились в свои квартиры и скоро разошлись на зимовки. Дагестанский поход кончился.
Свершив, кинем взор на свершенное.
Покорив Дагестан, умирить его, упрочить его спокойствие было дело одного месяца. Не легкость дела, а здравость мер генерал-адъютанта Панкратьева была тому виною. Убеждениями своими произвел он то, что Кази-мулла, доселе всемогущий над умами горцев, превратился в разбойника, скитающегося в ущелиях Кавказа без приюта. Прежние последователи проклинают его, самые пылкие приверженцы с ним сражаются. Нелицеприятная справедливость с азиатцами и сохранение в русских войсках строгого порядка укрепили вновь доверие к русскому слову, привязанность к русскому правительству. Не одна гроза, не одно оружие укротили силу, нет! Великодушие более еще победило сердец, – и по тому самому должно надеяться в Дагестане долгой, ненарушимой тишины.
В военном отношении можно ли было сделать более вреда неприятелю, добыть более славы русским с столь малыми средствами? Войска наши, всегда обеспеченные продовольствием, несмотря на осеннюю грязь, на зимние вьюги и снега глубокие, двигались с невероятною быстротою, поражали многочисленного неприятеля на каждой встрече. Счастливое соображение дювекского дела, где генерал-адъютант Панкратьев тройным нападением раздробил, извлек и по частям разбил табасаранцев, достойно изучения. Решительное до дерзости, но оправданное блестящим успехом нападение на Эрпили, где битва решена, так сказать, одним взмахом меча, останется надолго в памяти горцев. Они были изумлены и устрашены стройным развитием колонн, которые вдруг обошли, охватили, смяли их. Искусное расположение батарей под Чиркеем, покоренным русскому царю так быстро, так славно, и, наконец, взятие Чумкессена, богатое политическими последствиями, – все это отличает дагестанский поход в числе знаменитых событий царствования Николая! Он будет внесен в летописи военные яркими буквами; он поставит генерала Панкратьева в ряд лучших вождей и правителей нашего времени.
Г<ород> Тарки, 1831 г., мая 30.
…Крепость Бурная, возвышающаяся на отвесном утесе над Тарками94, внезапно осаждена была войсками изувера Кази-муллы на рассвете 26 мая. Измена тарковских жителей, которые накануне клялись действовать заодно с русскими и просили защиты под пушками крепости, проложила мятежникам путь до самых стен, так что с самого начала они заняли ружейные бойницы со стороны города, сквозь них завели резню и стрельбу с гарнизоном. В тот же день к вечеру единственный фонтан, вне крепости находящийся, и стена, прикрывающая к нему спуск, впали в руки осаждающих. Проломав ее, они кинулись на соседний пороховой погреб и толпами ворвались в него на дележ зарядов, как вдруг граната, брошенная с крепости, взорвала погреб на воздух. Гибель более трехсот горцев убавила у остальных дерзости; но положение гарнизона было тем не менее ужасно.
Неприятель с высот бил в крепость на выбор и несколько раз пытался на приступ. Кроме того, в Бурной оставалось мало снарядов, нисколько воды и никакого средства подать весть генералу Коханову, командующему нашим отрядом. Двое удальцов, взявшихся за это, были убиты, но дух гарнизона не упадал; день и ночь велась перестрелка, отражались приступы… Русские решились умереть не сдаваясь. Но бессонница и жажда могли победить их силы прежде, чем силы их души.
В это время, ничего не зная, не ведая, мы жгли деревни возмутившихся дагестанцев, прервавших около нас все сообщения. Ночью под селением Мусалим-аул вдруг пробудил нас грохот барабанов. Что такое? Бьют генерал-марш вместо зори… По возам, подъем; встрепенулись, двинулись. Генерал получил из Бурной записку, принесенную к нему в стволе винтовки. Вот она: «Крепость два дня в осаде, вода отбита, пороховой погреб взорван, с часу на час ждем решительного приступа». Чертовский лаконизм! Мы не шли, а лезли на выручку братии в гору, с горы, по ущелиям, отбиваясь от преследователей, нажидая новых встреч. Но обоз замедлял нас, и генерал, видя, что не поспеть с отрядом к ночи в Тарки, решился, несмотря на опасность быть отрезанным, взять два взвода пехоты, ста три мусульманской конницы и налегке спешить к крепости, чтобы ободрить своим нежданным появлением гарнизон и отвлечь от стен неприятеля, который, по новым известиям, должен был взять наутро Бурную. Я был с ним. Смеркалось. Бегом спустились мы с горы, врезались между садами, и пушки наши загремели противу домов, занятых неприятелями. Радостные клики и выстрелы отвечали нам с крепости. В тот же миг толпы мятежников стали спускаться с крутизны и осыпали нас градом пуль. Генерал не смешался: велел взять на передки и повел нас вперед по дороге. С перекрестка еще бросили мы две гранаты в город и, поворотя вправо, благополучно дошли до сборного места на берегу моря, посреди неприятеля, который никак не мог поверить такой дерзости. Отряд прибыл ночью, встреченный пальбою с завалов. Надобно сказать, что Тарки раскинуты по крутизнам оврага, сходящего уступами от Бурной к морю, шириною с полверсты, длиною полторы. Пройти к нему нельзя иначе, как через сады, перерезанные частыми ровиками и завалами, увенчанными плетнем из терновника или когтистого собани-дерева. Кроме того, многие дома имели нарочно пробитые стрельницы, все улицы перекопаны были завалами. Этот-то город, занятый до исступления храбрым неприятелем в семь раз многочисленнее нашего отряда, решился генерал взять штурмом, ибо от этого зависело спасение крепости. С рассветом дня, оставя две роты в прикрытие обоза, мы перекрестились и пошли вперед, как на праздник.
У самого бесстрашного зрителя замерло бы сердце, видя, как три горсти русских с трех сторон двинулись против огромного города, встреченные убийственною пальбою. Первая цепь стрелков молодецки выбила неприятеля из засад в центре города и потом, опрокидывая его из завалов в завалы, с громкими «ура» втеснила в домы и начала штурмовать их один за одним. Рота, назначенная вправо деблокировать крепость штыками, проложила себе дорогу на вершину горы и отбросила неприятеля к селению Кяхулай-Торкали. К ней навстречу выбежали умирающие от жажды жители и женщины крепости и, с радостными слезами объемля своих избавителей, кинулись к фонтану. Натиск этой роты был столь быстр, что кумыки оставили на огне свои котлы с пловом и бараниной, и командир роты, раскинув стрелков, чтобы очистить соседние домы, прехладнокровно велел перехватить своим солдатам вражескою трапезою, прикрывая в это время воду, и потом, когда набрали ее довольно для крепости, он снова ударил сверху вниз навстречу другим ротам, идущим снизу вверх. Между тем упорная битва не переставала; более десяти раз ожесточенные кумыки и чеченцы кидались в шашки, а ничто не может быть ужаснее удара людей, поклявшихся умереть; но здесь нашла коса на камень: бесстрашие сокрушилось о бесстрашие, панцерники умирали на штыках, не отступая; солдаты наши, кучками по семь и по десять человек, бросались в завалы, занятые двадцатью и тридцатью врагами, и опрокидывали их. В центре было самое убийственное дело. Орудие, которое громило там стены домов, пробивало для неприятелей стрельницы, из которых в тот же миг выставлялись ружья и меткими выстрелами бросали смерть за смерть. Командир Куринского полка, подполковник фон Дистерло 2-й95, посланный генералом на правый фланг, чтобы занять под батарею курган, командующий обеими половинами города, исполнил это с успехом и приехал в центр, где наши стрелки брали приступом дом за домом. Увлеченный отвагою, он повел их сам в штыки, выбил из одного завала и, держа в руке отбитое им знамя, с восклицанием: «Ребята! вперед! Ура!» – кинулся против дома; но роковая пуля в грудь повергла мертвым бесстрашного. Разъяренные солдаты, взяв дом, из коего вылетел выстрел, свершили кровавую тризну за смерть любимого начальника. После этого невозможно было уговорить их брать пленных.
Наконец с разных сторон зажженный город вспыхнул, и черный дым пожара, сливаясь с белым пушечным дымом, повис над Тарками, как громовая туча, сквозь которую молниями сверкали выстрелы с крепости, действующей в сторону против обратившихся к городу мятежников, встреченных вылазкою. Картина была вместе прелестная и ужасная; каково ж было самое дело?.. Одно только смелое или счастливое соображение генерала, одна только беспримерная храбрость куринцев могли восторжествовать над столькими препонами и столькими врагами; все, начиная от штаб-офицера до последнего мусульманского стрелка, сражались наперерыв друг перед другом; раненые дрались как львы; некоторые офицеры, получив три раны, не покидали боя; один фельдфебель врезался в толпу панцерников, повалил двоих и, не бросив ружья, получил три ружейные и четыре сабельные раны. Лекарь, спасая жизнь раненых, кои могли истечь кровью, перевязывал их под градом пуль, так, что он удивился, кончив над одним операцию, когда заметил, что пациент его убит. Артиллерийский офицер, сильно оконтуженный, так хладнокровно наводил орудие под ружейными выстрелами, как на домашнем ученье. Самое орудие сохранило знаки отваги: лафет его испещрен пулями, а мушка и диоптр сбиты; одним словом, Куринский полк в Тарках создал себе новую славу и умножил ею старую славу русского оружия.
Солнце скрылось, но битва еще кипела; главные силы врагов бежали, но еще три знамени веяли на крепком доме, в коем, как сказывают, сидел сам Кази-мулла с сотнею своих отборнейших воинов, воспламенив их храбрость фанатизмом. Генерал, щадя жизнь усталых солдат и зная опасность сражаться ночью, приказал ударить отбой. Мило было смотреть, как солдаты наши шли из битвы с ружьями, почерневшими от стрельбы, штыками, обрызганными кровью, и с опаленными усами. Гордо поглядывали они назад, где еще оставалось небольшое число неприятелей. Мусульмане возвращались, похваляясь добычным оружием; в трофеи нам досталось двадцать значков и три почетных знамени. Окружив цепью город, мы после двенадцатичасового сражения отдохнули на берегу моря при потухающем зареве пожара. Стоны и ропот слышались в городе.
Утро 30 мая открыло нам ужасную картину истребления, и мы, предводимые генералом, пошли к крепости сквозь развалины Тарков. Это была могила: домы курились, и во многих лежали обгорелые трупы горцев, которые погибли в пламени. Улицы были непроездимы от убитых: в саклях и завалах они лежали грядами (их насчитали до тысячи пятисот). Везде виделись следы разрушения, нанесенного чугуном, следы убийства свинцом и железом. Достойная казнь измены! Но сердце отдохнуло от этих ужасов, когда мы обняли спасенных братии своих. Надобно было видеть, с каким чувством благодарности приветствовали они избавителя своего, достойного нашего генерала! С какою радостию встречали нас, которых отчаялись видеть! Все взоры, все сердца летели к небу, и очи всех сверкали слезами умиления, когда громкое «ура» потрясало скалы Кавказа.
Селение Губдень, авг<уст> 25, 1831.
…Ты спрашиваешь, не отдыхаем ли мы на лаврах после тарковской победы? Нет, милый! Горные лавры имеют шипы, как ваши розы, и пули здесь столь же обыкновенная ягода, как миндаль. Мы потчевали еще раз войска Кази-муллы 19 июня и теперь делаем чувствительное путешествие в горы, поколачивая мятежников при каждой встрече, и производя в их гнездах карантинную окурку порохом, и разбивая их по камешку для проветривания. Для образчика опишу тебе последнее дело: оно замечательно своею оригинальностию.
22 августа, то есть в самый день коронации государя императора, приблизились мы к селению Казанищи, которое давно уже заслуживало казнь за многократную измену русским и ревностное содействие изуверским приверженцам лжепророка Кази-муллы. Мы уже заранее через лазутчиков узнали, что жители вывезли своих жен и имущество в неприступные горы; но часть их, подкрепленная отрядом других дагестанских мятежников, решилась дать отпор в селении. Кто не был в горах Кавказских, тот не может вообразить, сколько выгод дает усеянное скалами и оврагами местоположение, равно как неправильная постройка татарская, засевшему там неприятелю. Каждый сад с своими рвами и плетнями, каждое кладбище с своими стоячими надгробными плитами представляют тысячи средств драться шаг за шагом и отступать всегда под прикрытием. Но что неприступно для русских, для закавказцев? Царские пистолеты[51] грянули… несколько гранат возвестили в Казанищах о нашем прибытии, и вмиг удалые стрелки окинули цепью северный вход. Перестрелка закипела. Барабаны и потом «ура» за «ура» отдавались все далее, и наконец апшеронцы, которые были, на очереди, ворвались в селение, – и пошла потеха.
Сражение продолжалось несколько часов. Генерал Коханов, распоряжаясь как опытный вождь, подвергал себя опасностям как рядовой, и ободренные его храбростью солдаты выбивали неприятеля из завалов, опрокидывали из дома в дом; Казанищи запылали со всех концов. Лезгины, видя, что им не удержаться, пошли на уход в горы… Селение было очищено, дело кончилось, и только лишь крайняя цепь стрелков изредка перепаливалась с неприятелем, ползущим по кустарнику. Был час обеда, и генерал наш пригласил штаб свой и г<оспод> офицеров, возвратившихся из сражения, пообедать налегке. Можешь судить, как все были веселы и одушевлены! С холма, у ног которого разлегалось селение, открывался нам прелестнейший вид; движение войск, перестрелка и вдали бегущий неприятель, вслед которого гарцевали наши донцы и мусульманские всадники, оживляли его. Но всего более восхищало нас, что в тот день, в который радостная Россия возложила венок Мономаха на голову достойнейшего из царей, победа свила новый венок на его оружие! Когда мы высоко подняли шампанским напененные бокалы за здравие его императорского величества, неприятель, который доселе крылся в каменьях и кустарниках, побежал по противоположному скату, и, по приказанию генерала, заздравный салют разразился между них гранатами, между тем как победное «ура» отвечало хором на наше душевное многолетие! Такие минуты, друг мой, заставляют забывать все труды, все опасности и все болезни здешнего климата!
Вечер на кавказских водах в 1824 году*
Посвящается Николаю Ивановичу Гречу1
Зачем от нас могил ужасный клад
Видения и страхи сторожат?2
– Вот Эльбрус, – сказал мне казак-извозчик, указывая плетью налево, когда приближался я к Кисловодску; и в самом деле, Кавказ, дотоле задернутый завесою туманов, открылся передо мною во всей дикой красоте, в грозном своем величии.
Сначала трудно было распознать снега его с грядою белых облаков, на нем лежащих; но вдруг дунул ветер – тучи сдвинулись, склубились и полетели, расторгаясь о зубчатые верхи. Солнце западало. Розовый, неизъяснимо прелестный румянец таял на голубоватых и словно прозрачных льдах горного гребня, и мимолетные пары, расцвеченные всеми отливами радуги, оживляя их игрою теней, придавали еще более очаровательности картине. Я не мог наглядеться, не мог налюбоваться Кавказом; я душой понял тогда, что горы есть поэзия природы. Чувства мои стали чище, думы яснее. Я мог словами поэта сказать тогда:
Там горести, там страсти яд немеет,
Там юностью невянущею веет,
Забвение целительной рукой
На сердце льет усладу и покой;
Душа слита с возвышенной природой,
И дышит грудь бессмертною свободой!3
Но заря догорала. Одни за другими гасли вершины гор; только двуглавый Эльборус сиял двумя звездами над океаном туч… наконец и он утоп во мраке. Изредка перепадали крупные капли дождя; ветер вздувал по степи пыльные столбы, и телега моя неслась будто наперегонку с ними.
– Далеко ли? – спросил я извозчика.
– Полверсты, – отвечал он.
В тот же миг сверкнула молния и озарила передо мной новую станицу линейских казаков4 и дальше домы и домики для приезжих на воды. Спешить мне было не для чего, и я решился провести в Кисловодске день и другой, чтобы удовлетворить любопытству: посмотреть общество и увидеться с знакомыми.
Зоревой барабан гремел и раздавался в окрестности, когда вошел я в залу гостиницы, где за ужинным столом нашел двух добрых моих приятелей. Поменявшись новостями и перебрав по зернышку старину, мне досуж-нее стало прислушиваться к общему разговору. Ужин кончился, но человек десять романтиков насчет покорности к предписаниям эскулапа не думали покидать стола, и по числу опустошенных бутылок я заключил, что кавказская вода имела для них чудесное свойство – возбуждать жажду к вину.
– Ну что наши московские красавицы? – сказал молодой человек в венгерке5, значительно поглядывая на капитана Нижегородского драгунского полка6 и капитана гвардии, между которыми сидел он. Приятель мой, склонявший мне имена и качества каждого, шепнул, что это матушкин сынок, приехавший сюда из белокаменной лечиться от застоя в карманах.
– Милы, как всегда, – отвечал гвардеец, равнодушно покачиваясь на стуле.
– Скажите – божественны! – с жаром воскликнул усатый драгунский капитан. – Можно ли так сухо говорить о красавицах? Эй, мальчик, – шампанского!
– Позвольте сказать мне по-дружески, любезный капитан, – возразил гвардеец, – вам немудрено восхищаться ими после долгих лет, проведенных на бессменной страже или в перестрелках и наездах. Видя женщин, как луну, только на телескопическом расстоянии, всякий примет первую образованную даму, с которою встретится он лицом к лицу, за идеал совершенства; но причина этому не в ней, а в нем. Вы горите сами и воображаете, что они сияют.
– Тут есть много истины, капитан, но между много и все – целое море. Я не говорю о кавказских татарках, из которых самая красивейшая, по рабским привычкам своим, достойна только закуривать трубки, ни о грузинках, в которых одна глупость может сравняться с красотою. Черкешенки вовсе иное дело, – да мы осуждены любоваться ими как недоступными вершинами Кавказа и видим их едва ль не реже солнечного затмения. Но я самжил и служил в столицах; видел свет не в подворотню, и образованная женщина хотя здесь для меня и редкость, но никогда не может быть диковинкою.
– Не по хорошу мил, а по милу хорош, – сказал толстый рязанский помещик, улыбаясь, как воображал он, очень лукаво.
– Эта пословица мне не соседка, – отвечал усач. – Я говорю беспристрастно и утверждаю, что на этот раз обе московские красавицы милее здешних петербургских умниц в блузах, с вечными рассказами о погоде да поправками адрес-календаря, милее помещиц в капотах, которые всякого мужчину принимают, кажется, за амбар для складки отчетов о вине, и льне, и ячмене, о садоводстве и скотоводстве, в котором немудрено им успеть, обращаясь часто со своими супругами! Господа! Здоровье двух прекрасных московок!
Видя, что рыцарь разгорячился, собеседники, уважая добрый его нрав, не сочли за благо подстрекать его еще более противоречиями. Все напенили бокалы и выпили в лад.
– Здоровье прекрасных посетительниц Кавказских вод, на берегах Москвы расцветших! – воскликнул нежный сотрудник «Дамского журнала»7, повторяя по-своему предложенное здоровье.
– Этот же тост, в переводе г. Свирелкина с моего бивачного языка на язык светский, – возразил драгун, – кто не пьет – не товарищ!
(Пьют и чокаются.)
– Между нами, капитан, – сказал ему гвардеец, – белокурая или черноволосая сестра вам более нравится?
– Этот же самый вопрос я делаю самому себе двадцать четыре раза в сутки и до сих пор не добьюсь у своего сердца толку: оно уверяет, что и утренняя и вечерняя заря прелестны. В полдень, любуясь нежными, небесными глазами и пленительною томностью лица блондинки, я бы готов был влезть в ее соломою оплетенный стакан, чтобы коснуться ее розовых губок и потом растаять в кислой воде; но при свечах или при лунном сиянии пронзительные взоры и пылкий румянец брюнетки зажигают меня как гранату, и я рад кинуться на чеченские шашки, чтобы до нее прорубиться.
– Полноте вздыхать, господин адъютант! Чокнемся лучше да выпьем за здоровье прелестного румянца нашей богини.
Адъютант закраснелся и выпил.
– Именным бы указом запретил красавицам, у которых в лице играет румянец, ездить на воды, – сказал чахоточный прокурор, поправляя в ухе хлопчатую бумагу, – они делают больными здоровых и мешают больным выздоравливать.
– Что так строго, господин прокурор? – возразил артиллерийский ремонтер обвинителю8. – Я уверен, что не любовь, а деловые экстракты причины ваших недугов.
– То есть уксус, который выжимали вы из справок, – прибавил москвич.
– Настоящий vinaigre de quatre voleurs![52]9 – наддал еще драгунский капитан, недавно проигравший тяжбу и сердитый за то на все канцелярское семя. – Излишнее рвение повредило ваше здоровье…
– Вам бы надобно было довольствоваться только запахом, а вы хотели выпить все до дна, – прибавил гвардеец.
– Господа! – отвечал прокурор, поглядывая то направо, то налево, в нерешимости, рассердиться ему или принять град насмешек за шутку; наконец он рассчитал, что последнее выгоднее. – Господа! – повторил он, – конечно, мне бы следовало довольствоваться одним запахом, но тогда я не имел чести иметь вас высоким примером скромности – вас, которые так счастливы в любви одним гляденьем.
– Браво! браво! – воскликнули многие голоса сквозь смех. – Здоровье больной юстиции!
И бокалы засверкали донышками.
В это время молодой человек прекрасной наружности, закутанный шалью, который задумчиво сидел против меня и часто с беспокойством поглядывал на часы, встал и подошел к окну. Выразительно было бледное лицо его, и впалые черные очи, казалось, хотели пронзить темноту и дальность.
– Облака заволакивают месяц, – сказал он вслух, но более обращаясь к самому себе, чем к обществу, – ветер воет, и дождь крапает в окна… Как-то будет добраться до дому? Когда вихорь разносит пары, то при блеске лунном порою белеет Эльборус, спящий в лоне туч перед грозою.
– Покойной ему ночи, – сказал сосед мой, отставной полковник. – Ты, господин доктор трансцендентальной философии, наверно не будешь встречать так равнодушно бурю, как он в грозном колпаке своем.
– Конечно нет, любезный дядюшка, – отвечал молодой человек, – потому что я не камень. Кавказу полгоря носить ледяной шлем на гранитном своем черепе, – у него вся адская кухня греет внутренности, и, может статься, природа обложила голову его льдом нарочно для умерения внутренней горячки с землетрясениями; но если бы вздумалось повторить такой опыт надо мною даже и в припадке безумия, – я бы, конечно, отправился в Елисейские поля. Выкупаться в туманах, не только быть промочену дождем, – значит испортить весь курс лечения, а мне, право, не хочется начинать его в третий раз.
Сказав это, молодой человек учтиво поклонился собранию, завернулся в плащ и вышел.
– Вот каковы нынешние молодчики! – сказал полковник, провожая его глазами. – Не понимаю, как можно в двадцать пять лет так нежить себя! Прекрасный малый, а пречудак племянник мой. Порою бегает по целым часам нараспашку или, как угорь, вьется по утренней росе; но когда ему вообразится, что он болен, то чего не накутает на себя для прогулки в самый полдень! Треух на голову, калоши на следки, фланель для поддержания испарений, замшу от сквозного ветра, жилет для приличия, сюртук для красы, шинель для всякого случая сверху, – а сверх шинели – всю природу. Недаром один шутник назвал его египетскою мумиею, набальзамированною романтизмом и испещренною иероглифами странностей, которых не разберет, думаю, ни сам старый черт, не только Шампольон-младший!10 Простудиться!! Человеку в двадцать пять лет и гренадерских статей простудиться! Я бы заставил его сломать похода два-три зимой, на холодной воде, вприкуску с гнилыми сухарями. Сегодня по пояс в снегу, завтра по колено в грязи и потом, промокши до самого сердца, просушиваться под картечным огнем неприятельским. В цепи или в разъезде вместо отдыха; то преследуя побежденных, то утекая разбитый и, в довершение удовольствий, нося более ран на теле, чем петель на мундире!.. Там забыл бы он, за недосугом, и настоящие болезни, не то что воображаемые.
– Впрочем, кто из нас, – сказал на это гвардейский капитан, чистя перышком зубы, – кто из нас отказывался, после дымных биваков, попировать в богатом замке, покружиться усталыми от похода ногами с милыми чужеземками и заснуть на мягком пуховике? «Наслаждайся, покуда можно», – есть девиз русского; но когда приходит время лишений, нужды и опасностей, он так же мало заботится и жалеет о выгодах жизни, как о завтрашнем дне, и под мокрою буркою, в грязи засыпает не хуже праведника, поужинав горстью недоваренного ячменя, устав от боя и похода!
– И то правда! – отвечал полковник, перебирая по четкам памяти все подобное, изведанное собственным опытом.
– Племянник ваш, может быть, имеет другие причины опасения возвращаться домой так поздно, – молвил человек небольшого роста, в зеленом сюртуке, коего таинственная наружность весьма походила на сосуд, в который царь Соломон запечатал множество духов11. – Он, приехав позже всех на воды, принужден был нанять домик за кладбищем.
– Вот это мило! – возразил полковник. – Молодой человек девятнадцатого столетия и, в придачу того, магистр Дерптского университета станет бояться пройти чрез кладбище! Да нынче дамы нередко назначают там свидания.
– Неужели вы думаете, – насмешливо присовокупил гвардеец, – что племянник полковника боится наступить на ногу какому-нибудь заносчивому покойнику и тот потребует от него благородного удовлетворения?
– Не шутите над мертвыми, капитан, – произнес торжественным голосом человек в зеленом сюртуке. – В природе есть вещи страшные, неразгаданные! Племянник ваш еще не утешился о потере друга, которого схоронил он здесь в прошлом году.
– Военный или рябчик был друг его?12 – небрежно спросил драгун.
– Никто наверно не знал ни его звания, ни его отчизны, хотя в паспорте он назван был венгерским дворянином. Сказывают, он был странное и непонятное существо. Выговор ни на каком языке не изменял ему, – он на всех европейских говорил как нельзя чище. Жил весьма скромно и между тем сыпал золото бедным. Одевался просто, но одни солитеры его перстней13 стоили десятков тысяч. Вообще он был нелюдим и молчалив, ни с кем не сближаясь и никому не кланяясь. Однако же некоторые знатные особы говорили всегда с ним и о нем с величайшим уважением. Одним словом, – продолжал таинственный человек, понизив голос, – многие считали его одним из двенадцати кадожей.
– А что это за зверь? – спросил толстый помещик, который, скучая молчанием, как ловчий стоял настороже с борзыми вопросами, ожидая по себе предмета; но, видя, что ожидания его напрасны, спустил их со смычка в чужую угонку14.
– Кадожи? – отвечал сфинкс, опустив нос свой в стакан, как пьющая синица. – Кадожи, как говорят, суть главные блюстители масонских лож, из которых, как я думаю, известно, шотландская считается за старшую. Не будучи великими магистрами, они важнее всех магистров, потому что лишь им открыта главная общая цель братства. Они могут находиться во всех степенях, но всегда скрытно, всегда никем не знаемы и, сохраняя в руках своих главные средства, путешествуют по свету для наблюдений, для дел и успехов вольных каменщиков15.
– Так бы вы и сказали, – примолвил рязанский помещик. – Попросту сказать, он был атеист, то есть фармазон16 и отчасти волтерианец. Сосед мой прошлого году наслал мне от Макарья17 целую кипу книг об их вере; поклоняются моське, батюшка!
Никто не мог удержаться от смеху, слыша такое определение масонства. Наконец затихли и отголоски этого выстрела веселости.
– Но каким же образом вы спроведали о кадожах? – подозрительно спросил капитан гвардии.
Сфинкс в зеленом сюртуке побледнел, боязливо взглянул на прокурора, потом на дверь, которая скрипела и не отворялась, потом покраснел он, потом щелкнул по серебряной табакерке указательным перстом, отворил ее, нюхнул, что называется, вслух и, ободрившись, отвечал:
– Вы можете быть уверены, капитан, что если б я когда-нибудь принадлежал к обществу масонов, то конечно бы не стал рассказывать об их распорядках. Впрочем, я уже известил вас, что и сами масоны не имеют о кадожах верного понятия, и ежели венгерца считали одним из них, то это по одним догадкам, по соображениям и вероятностям. Таинственность его речей, скрытность поступков, его обширный ум, его богатство и связи, уважение к нему людей почетных – вот что служило к тому поводом.
– Удивительная архитектура догадок, – возразил насмешливо гвардеец, – точь-в-точь пирамида, у которой острие служит основанием. Каким же образом эти странствующие привидения, эти всемирные блюстители узнают друг друга внове?
– Говорят, – тихо отвечал рассказчик, – впрочем, я уверять не могу и отрицать не смею, что между ними главным опознательным знаком служит особого вида кольцо.
– Видно, эти осторожные по превосходству люди хранят в решете свои таинства, – заметил гвардеец, – когда они доступны всякому встречному и поперечному.
– Всякому? Нет, капитан! – возразил сфинкс, несколько обидясь. – Немногим, очень немногим дается дар проникать в глубочайшие тайны, в сокровеннейшие изгибы души человеческой и по нескольким точкам начертывать целые картины.
– Перед вами, перед вами все эти достоинства! – нетерпеливо вскричал усатый кавалерист. – Но скажите, ради Бога, какое сношение имеет кладбище с племянником полковника?
– Кладбище – дорога на тот свет, – отвечал человек, у которого голова, как покинутая башня, населена была привидениями, между тем как вид его доказывал, что он чувствует уже свою важность, возбудив любопытство.
– И в рай, – произнес сомнительно чахоточный прокурор, у которого сердце пищало, как орех в клещах, при мысли о смерти.
– И в ад, – прибавил сосед мой, полковник, брякнув стаканом по столу, будто вызывая всех бесов в доказательство, что ему нечего их трусить.
– Да, и в ад! – повторил с глубоким вздохом прокурор, опуская от губ нетронутую рюмку: ему показалось, будто вино пахнет серою.
– Продолжайте, почтеннейший! – сказал рассказчику любопытный артиллерист. – Зачем же этот венгерец приехал на воды?
– Зачем мы все здесь? – отвечал тот. – Сделайте подобный вопрос каждому из нас, и все скажут: лечиться, но, кроме этого, есть побочные или главные цели у многих. Одни приезжают рассеяться любовными связями; другие – остепениться женитьбой; третьи – поправить картами несправедливость фортуны; иные – чтоб не упустить из виду умирающего богача-родственника; очень многие для удовольствия про…
– Ради самого Пифагора18, избавьте нас от подобных выкладок! Сочтите, будто мы знаем все, что можете высказать впредь на этот случай, – и поскорее к делу! – воскликнул гвардейский капитан.
Таинственник продолжал так:
– Теперь, милостивые государи, надобно вам объяснить, что в первых веках христианства греческие купцы из Византии, привлекаемые знатными выгодами, презирали тысячи опасностей от худых и пустынных дорог и варварских нравов, заезжали сюда или проезжали чрез этот край из Персии, чтобы менять восточные товары на помориях Каспия и Черного моря и потом торговать с славянами за Доном или по Днепру, и возвращались потом с драгоценными мехами домой как могли. Караван одного из них с несметными богатствами в жемчуге и золоте, в парчах и цветных каменьях, был настигнут и окружен свирепыми горцами, ночью, поблизости этих ключей. Видя неизбежную гибель, купец спешил зарыть все драгоценнейшее в землю, чтобы скрыть от разбойников и потомства обожаемое им золото, для которого не щадил он ни поту, ни крови и потом утратил жизнь и душу. Все это, как водилось в те времена, сопровождаемо было чарами и заклятиями. Караваны тогда не ходили без прикрытия; вот, сударь, и тут отчаянная стража дралась насмерть и почти вся была изрублена варварами. Сам хозяин лег мертвый на скрытые свои сокровища, как будто желая охранять их и по кончине. Один только раненый вожатый верблюда был увлечен в плен, в горы, провел горькие годы в жестоком невольничестве и, перепроданный несколько раз, бежал к Черному морю и достиг до своего отечества. Известие обо всем этом от него, чрез многие руки и многие столетия, перешло во время крестовых походов в руки тамплиеров19, с верными подробностями. Не знаю, старались ли они извлечь из недр земли эти сокровища и какова была удача попыток, если старались; только венгерец прибыл сюда, как полагали, с тайным поручением ложи – поверить на месте предания и, если можно, вырыть из земли под вековым прахом погребенный вклад.
– Клад! – умильно воскликнул помещик, у которого охота к охоте спровадила в заклад почти все имение.
– Клад! – произнес, облизываясь и потирая руки, прокурор, – об этом следовало уведомить местное начальство.
– Особенно если там найдутся старинные монеты, оружие, утвари, чудные украшения или древние идолы, – примолвил в первый раз какой-то археолог с готическим носом, у которого слова были, кажется, так же редки, как медали с изображением царей Кавказа.
– Со всем тем, – продолжал таинственный человек, – венгерец, по-видимому, не имел охоты делиться с местным начальством, ни угождать господам искателям древностей, потому что меры его были чрезвычайно скрытны и осторожны. Один только чудный случай и странное стечение обстоятельств ненамеренным образом открыли часть его тайн одному из друзей моих, который в прошлом году жил рядом с его комнатою. Он рассказывал про этого непонятного человека много таких вещей, от коих поднялись бы волосы дыбом у самого неверующего вольнодумца.
– Этому трудновато быть с моею головою, – сказал толстый помещик, поглаживая по своей лысине и отодвинувшись от стола после этой шутки, как откатывается пушка после выстрела. Однако ж, боясь, чтобы лукавый не отплатил ему за насмешку, он потихоньку перекрестил грудь против третьей пуговицы и снова навострил ухо к рассказу.
Человек в зеленом сюртуке пожал плечами и улыбнулся почти презрительно, что на мимическом языке значило: какая жалкая шутка! стоит ли для нее прерывать занимательное повествование! И он, по кратком молчании, начал вновь:
– По ночам, рассказывал друг мой, венгерец долго и пристально сиживал за какими-то книгами и тщательно запирал их в другое время. Потом он то медленными, то быстрыми шагами ходил по своей комнате, то вдруг останавливался на одном месте, как будто окамененный каким видением или мыслию. Порой неясные звуки вырывались из груди его; даже во сне тяжело стонал он, словно совесть его подавлена была каким-нибудь преступлением, и его всегдашняя физиономия, могильная синева лица его, его впалые, почти неподвижные очи, речь прерывистая и рассеянная обличали гораздо более страдания души, чем разрушение телесное. Со всем этим он бывал порой чрезвычайно занимателен: он везде странствовал, все видел, все постиг.
О всех веках, о всех народах говорил он с достоверностию самовидца и с беспристрастием потомства. Все важные лица последнего столетия были знакомы ему коротко, если не по свету, то по настоящим их характерам. В это время, полковник, сдружился он с племянником вашим. Склонность молодого человека к мечтательности и уединению, его чистый, возвышенный нрав и вместе кроткая, но пылкая душа пленили доверие венгерца. Казалось, он предчувствовал близкий конец свой и спешил передать свои познания и тайны достойному смертному. «Я не довольно чист душою для такого дела», – подслушал однажды друг мой слова венгерца к юноше. Они были неразлучны: вместе на ночных прогулках до самого Подкумка20, не страшась чеченских хищников, и всегда в местах диких и непосещаемых; вместе за чудными письменами до белой зари; вместе при свете солнца и при мерцании месяца. Чаще всего бродили они на здешнем кладбище, в глухую полночь, с железною тростью и телескопом в руках, то пронзая землю, то углубляясь в небо.
«Скоро, скоро свершится в мире мое странствование, – сказал однажды, прощаясь с молодым своим другом, венгерец, – я уже чувствую на сердце ледяную руку смерти. Но завтра стечение созвездий будет таково точно, как в роковую ночь, поглотившую сокровища греческого гостя. Когда ударит двенадцать, – луна бросит тень от того пригорка прямо по направлению, где скрыто оно, и там, где черта сия сойдется с тенью…» Друг мой не мог расслушать более. Утро застало венгерца на одре кончины…
– Он умер! – вскричал с досадою прокурор, воображая, что клад ускользнул уже от его химического процесса.
– Дайте ему умереть своею смертью! – гневно возразил артиллерийский ремонтер. – Итак, на одре кончины, сказали вы?
– Больной был безнадежен: у него лопнула одна из кровеносных жил, и сердце его заливалось, тонуло в крови. С трудом мог он произносить слова, и молодой друг, пораженный ужасом и сожалением, подавлен тоской разлуки вечной, незаменяемой, ни на миг не покидал умирающего. От лекарей отказался венгерец, говоря, что не хочет обманывать себя пустыми надеждами, а священника не принял под предлогом различия вер. Настала ночь… и ему стало тяжело… Смертный час, видимо, близился, – и ужасна казалась кончина умирающему. Тьма зияла перед ним, как вечность, блуждающие зрачки его то искали, то избегали чего-то в пространстве. Каждое дыхание его было вздохом тоски неизъяснимой, и хриплые стенания вырывались из уст. Наконец он дал знак, и все удалились, кроме юного друга его. Сначала разговор их был тих, но постепенно голос больного возникал выше и выше и снова стихал, как замерзающий ключ. Уже ни одной живой души, кроме их, не осталось в домике и все спало в окрестности и вблизи. Только друг мой, движимый любопытством соучастия, сидел у двери общего коридора, прислушиваясь к каждому шороху. В комнате венгерца слышался лишь ропот невнятного разговора, – и вот все притихло, все, кроме последнего дыхания отходящего… Но вдруг клик ужаса раздался там: он был пронзителен и страшен; сам друг мой вчуже оцепенел, не постигая тому причины. Слушает… нет, это не обман воображения, – третий, незнакомый голос, голос могильный, голос нездешнего мира произносил там звуки укора, и тяжкие стенания страдальца служили им страшным отголоском.
Все слушали с напряженным вниманием. Полковник, опершись головой об руку, безмолвно следовал за рассказом, поверяя, кажется, слышанное с известным ему прежде… Только дождь, бьющий в окна, прерывал тишину залы.
– Значение слов убегало, однако же, от уха моего приятеля, – продолжал человек в зеленом сюртуке, – испуганного тем более, что он был уверен, как сам в себе, что никто не мог пройти в комнату больного, не быв замечен им сквозь замочную скважину. Дорого бы заплатил он тогда, если б можно было превратить стену, разделяющую их комнаты, в стеклянную.
Наконец явственно услышал он страшный, последний стон венгерца, стон души, вырывающейся из тела… И потом долго длилось молчание, и потом шаги двух – не говорю людей, – но существ по комнате… С треском растворились двери, свет фонаря сверкнул в коридоре – и он увидел…
В это самое время быстрый топот ног послышался на лестнице, и дверь залы, сорванная ударом с крюка, расскочилась настежь обеими половинками. Гвардейский герой изменился в лице, артиллерист схватился за стакан, как за талисман против всякого наваждения; драгунский капитан сжал ручку черкесского кинжала, по обычаю всех кавказцев носимого на поясе; чахоточный прокурор обомлел на стуле своем, а толстый барин, с восклицанием: «С нами крестная сила!» – так внезапно прикатил свое туловище к столу, что рюмки и стаканы зазвенели друг о друга. Все прочие с робостию, более или менее заметною, устремили глаза на дверь.
Это был, однако же, не иной кто, как племянник полковника. С черного плаща его катились крупные капли дождя; шляпа надвинута была на самые брови, и он, не сняв ее, торопливо вбежал в залу. Мутные глаза его бродили, на бледном лице выражался испуг, речь исчезала на дрожащих губах. Тяжкими и долгими порывами дышал он и наконец бросился, или, лучше сказать, упал, в кресла, беспокойно озираясь кругом, будто боясь преследования. Бесчисленные вопросы посыпались на него со всех сторон; но он ничего не слушал, никому не отвечал. Потом быстро вскочил он, схватил за руку дядю и увлек его на другой конец залы, чтобы изъясниться наедине. Все шепотом и знаками выражали свое изумление, не спуская глаз с молодого человека. Он говорил тихо, но с жаром. Полковник слушал внимательно, но недоверчиво; скоро, однако ж, улыбка сомнения слетела с его лица, – оно померкало постепенно и наконец побледнело как полотно… Безмолвно стояли они потом, глядя друг на друга, в течение нескольких минут. Наконец полковник угрюмо сжал руку племянника, опоясал саблю, засветил маленький фонарик свой, и оба вышли вон, не удостоив ни словом, ни даже поклоном собрание.
– Они пошли на кладбище, – сказал таинственный человек, прильнувши к окну, – я вижу свет их фонаря, он мелькает вдали, подобно блуждающему огоньку над болотом.
– Это странно! – произнесли многие в один голос.
– Это удивительно! – сказал гвардейский капитан. – Я всегда знал полковника за человека, не верующего ни в какие сказки, а теперь, судя по его лицу и поступкам, он разделил испуг своего племянника, которому почудилось что-нибудь сверхъестественное.
– Заметили ли вы, – прибавил артиллерист, – что на плаще его виден отпечаток пяти пыльных перстов?
– Если б их было шесть, это было бы немного поудивительнее, – возразил гвардеец. – Что мудреного? Молодой человек споткнулся, оперся на пыльную могилу рукою и, поправляя плащ, отпечатал ее на мокром сукне.
– Гм-гм! – произнес сомнительно артиллерист, – но направление этой кисти не могло естественным образом принадлежать владельцу плаща: оно было вовсе наизворот.
Гвардеец молчал.
– Я вам говорил, – произнес тогда с торжествующим видом человек в зеленом сюртуке, – что в истории венгерца есть вещи, о которых, по словам Шекспира, и во сне не грезила ваша философия21. Я должен прибавить вам, что ровно год тому назад, в этот самый час, его не стало. И что бы вы сказали, капитан, если б тень его, оставя прах могилы, встретила вас на кладбище в такую ночь?
– Я бы сказал, что это сущие басни, – отвечал капитан. – Как могут жители того света возвращаться на землю, когда все их органы истлели? Как могут они ходить, говорить, иметь вид человеческий?
– Я не отвергаю, чего не постигаю, – сказал артиллерист.
– А я так верю всему, чего не понимаю, – простодушно признался рязанский толстяк.
– Не боюсь, хотя и не понимаю! – грозно воскликнул усатый кавалерист. – Не боюсь ни черта в человеческом образе, ни людей, начиненных всякою чертовщиною.
– Это можно испытать, – хладнокровно возразил таинственный человек. – В дальнем углу кладбища, направо, я видел сегодня мертвую голову, конечно вымытую дождем или выкопанную волками; тот, кто из всех нас бесстрашнее, пойдет и принесет этот череп сюда.
– Я готов! – сказал драгунский капитан и наклонился вперед, как птица, которая хочет слететь; однако ж не тронулся с места.
– Я иду! – произнес еще решительнее гвардеец, оперся о ручки кресла, чтоб встать… и положил ногу на ногу.
– Я бы пошел очень охотно, если бы погода была получше, – проговорил антикварий с готическим носом, – а то в слякоть и в дождь – слуга покорный. Хорошо, если б это было еще за черепом какого-нибудь героя древности, – а то, я думаю, за пустой головою какого-нибудь кубанского казака или чахлого водолея из России.
– Ни для живых, ни для мертвых! – возгласил толстяк, поглядывая на донышке стакана, как будто это мудрое изречение написано было на нем заглавными литерами. – Гей, малый! донского – полынкового22.
– Эй, шампанского! – вскричал гвардеец, желая смыть и след прежнего разговора струями эперне23. – Как можно, сосед, так много пить донского? Оно очень землисто.
– Родимая земля, родимая земля, – возразил толстяк помещик, разливая в стаканы благодатную влагу, и в это время он точь-в-точь похож был на погребковую вывеску, на которой Бахус24, оседлав бочку, распенивает вино в кубки.
Но человек в зеленом сюртуке не дал им так дешево отделаться от испытания храбрости.
– Итак, никто не хочет идти за мертвою головою? – спросил он укорительным голосом и вместе с лукавою гримасою.
– Сам не хожу и других не прошу, – отвечал рязанский помещик. – Куда будет весело, если мертвецу вздумается пожаловать к нам за своею головою.
– Не бойтесь этого посещения, – возразил артиллерист, – теперь уже минула мода прогуливаться без головы, по крайней мере для покойников.
– Почему знать? – сказал сосед мой, адъютант, освежая усы в шампанской пене. – В этом случае только первый шаг труден.
– Проклятая рана! – произнес драгунский капитан, поправляя перевязку и морщась, будто от боли. – Если б не она, я принес бы этот череп на забаву компании. Кладбище со всеми своими мертвыми головами для меня не страшнее бахчи с арбузами.
– Что касается до меня, – примолвил гвардеец, шаркая под столом ногами и задобривая всех бокалами, – мне не хочется покинуть столь приятного общества… особенно не дослушав до конца занимательный рассказ ваш о венгерце, – прибавил он, учтиво обращаясь к зеленому сфинксу.
– Окончание моего занимательного рассказа зависит от судьбы, – очень сухо отвечал повествователь.
– Неужели же вы не знаете, что увидел друг ваш в коридоре? – спросил с беспокойством нетерпения артиллерийский ремонтер.
– По крайней мере вы этого не узнаете, – хладнокровно отвечал таинственный человек.
– Но куда же делся тогда племянник полковника с привидением? – торопливо спросил тощий прокурор. – С таким вожатым он наверное добрался до клада.
– Вырытый клад? Привидение? Вы, видно, знаете более моего. Я ни слова не говорил о привидении, – отвечал сфинкс.
– Но, Боже мой, что сталось по крайней мере с венгерским кадожем в час смерти? – вскричал москвич с видом отчаянного любопытства.
– Не мне разглашать исповедь кончины и похищать тайны могил, – ответствовал важно человек в зеленом сюртуке. – Племянник полковника живой человек, – он знает все лучше моего; спрашивайте, – я пожелаю вам полного успеха.
Жужжанье неудовольствия, как пылание сухого бурьяна, послышалось кругом всего стола. Возбужденное любопытство требовало какой-нибудь жертвы, и драгунский капитан решился удовлетворить его аппетиту рассказом.
– Я плохой краснобай, – сказал он, – тем более что в последние годы службы на Кавказе чаще слышу выстрелы и лучше понимаю конское ржание, чем людской говор; однако ж если господам не скучно будет выслушать приключение подобного же рода, с родным моим братом бывшее, то я чем богат, тем и рад.
Разумеется, приглашения и просьбы посыпались на него, как пудра. Пыхнув последний раз трубкою, он начал так сквозь облако табачного дыма:
– Надобно преуведомить вас, господа, что брат мой человек прямой, благородный и без всяких предрассудков от природы и воспитания. Каждое слово его между всеми знакомыми ходило вернее билета на Амстердамский банк25; и до сих пор не могу я разгадать этого случая, но сомневаться в рассказе брата не имею никакого повода. Он вырос и стал отчаянным моряком на палубе английского корабля, потому что в его время русские гардемарины посылались на британский флот26 учиться мореплаванию и порядку. По этой причине, быв уже впоследствии старым нашим лейтенантом, он имел многих знакомцев и друзей между англичанами, с которыми делил мичманские шалости на воде и на суше. Пять лет тому назад случилось фрегату, на котором брат мой командовал первою вахтою, сойтись с английскою корвентой27 в одном из больших норвежских портов. В числе экипажа этого практического судна, какой-то особенной постройки, нашел он кой-кого из баковых своих приятелей, и, по обычаю, для поновления дружества, они съехали на берег, заказали славный обед в трактире, которым ограничиваются обыкновенно топографические исследования моряков, и бутылки пошли ходить кругом стола, между тем как бесконечные тосты в three times и three times three, то есть с троекратным «ура»28, передавали все краски вин носам и лицам собеседников. Брат мой был удалой весельчак и непобедимый питух – два достоинства неоцененные в глазах каждого свободного англичанина. Прибавьте к этому, что он говаривал: «Blood God damn my Soul!»[53] или «Stab my vitals!»[54] – не хуже кембриджского профессора изящной словесности, и вы не удивитесь, что британцы были от него в восхищении. После тысячи и одного рассказа о кораблекрушениях, абордажах, призах и опасных плаваниях то под экватором, то среди ледяных гор полюсов моряки наши удостоили ступить на землю, и вот пошли вести о вечной войне флотских с таможнею, о славных трактирах и чудных красавицах, с описанием боевого крейсерства между подводными камнями этих архипелагов. Точно так же как мы, беззаботно стучали они стаканами, точно так же как у нас, упал и у них разговор на выходцев с того света. Все сознавались, что предрассудки младенчества, которые всасываем мы с молоком и воздухом, оставляют в нас едва ли не навсегда невольную боязнь, если не тайное верование к этим существам. Но одни, особенно шотландцы, уверяли и доказывали, что страх этот есть врожденное сознание в возможности таких явлений, чему приводили множество достоверных примеров и собственных опытов, между тем как другие утверждали, что все это или обман чувств, или бредни, достойные старух и ребят. Брат мой подвизался на стороне последних и шумел как во время бури, не забывая заряжать себя мадерою и осыпая картечью клятв логику противников, – маневр, который почитается и между нашей братьи убедительнее сухих доводов.
«Во всяком случае, – говорил он, – смешно верить и еще стыднее бояться того, чего нет. Я вызываю на заклад каждого из вас испытать собственное мое мужество!»
«Держу против пятидесяти фунтов стерлингов!» – закричал лейтенант корвенты.
«Держу против пятидесяти фунтов!» – прибавил другой.
Англичане не любят пятиться, но русские идут всегда вперед:
«Я держу за себя сто фунтов, – сказал брат мой, – и предлагайте опыт сейчас же!»
Капитан судна ударил в руку, и две тысячи пятьсот рублей назначены были наградой доказанного бесстрашия в отношении к мертвецам или наказанием самохвальства живого в противном случае.
Решили, чтобы моему брату идти за город на лобное место, где они, прогуливаясь, видели труп вчера повешенного разбойника. Он должен был взять его за руку и поучтивее попросить сделать ему честь пожаловать в трактир и попировать с ними до петухов, после которых, как известно, всех чертей требуют на перекличку. В доказательство же исполнения условий навязать висельнику на левую руку золотой шнурок, который один из англичан сорвал со шляпы своей.
Как ни странно, как ни причудливо, чтобы не сказать – как ни глупо, было это условие, – брат мой готов был на все. Англичане с сомнительным видом пожелали ему успеха, и он, завернувшись в клетчатый шотландский плащ, смело посвистывая, пустился по пустым улицам городка. Ночь была холодновата, путь не близок; голова и сердце его начали простывать, особенно когда очутился он в пустыре за городом, – ему показалось даже, что ветер дует так пронзительно, как будто настоян январскими морозами Якутска. В это время луна выкатилась из-за облака и озарила всю окрестность, страшная виселица чернелась вдалеке, – и на ней качался роковой плод ее. Брат мой вздрогнул и остановился невольно; выправил маленький запутанный цепочками кортик свой, который азиатец почел бы зубочисткою; потом оглянулся назад и стал считать в кошельке своем червонцы: худое начало для закладчика.
Однако же брат скоро ободрился… Все было так тихо и мирно кругом. Позади его, темнея, лежал сонный город с блистающими церковными шпицами; впереди – горизонт сливался с грядою холмов, на коих, как привидения великанов, стояли мельницы с неподвижными их крылами; вправо и влево перелески и поля с мелькающими вдали домиками. Нигде человеческого голоса, ни даже лая собаки. Брату стало стыдно самого себя. Ему казалось, что месяц дразнит его языком, а вся окрестность укоряет в робости; он распахнул плащ, который прижимал к себе так плотно, будто он составлял часть его кожи, и смелыми шагами пошел к виселице. Через десять минут он стоял уже под нею.
Неприятно и днем, не только ночью, видеть отвратительную картину нравственного и физического разрушения, какую представляют нам казни. Один только граф М-р нашел в палаче лицо утешительное для человечества, как в представителе божеского правосудия на земле29. Брат мой, правда, не читал о том ни строчки, но и прочитав, покорный голосу природы, не поверил бы этой коварной логике Торквемады, где высокие причины смешаны с унизительными орудиями30. С тайным ужасом глядел он на повешенного; луч месяца прямо бил в посинелое лицо, инде уже исщипанное птицами. Последняя минута тоски, видимо, замерла в обезображенных чертах и в стекловидных глазах его, в коих отразились все муки души преступной и отчаянная борьба жизни с насильственною смертью. Волосы стояли дыбом, персты сведены судорогами. На нем надет был род белого фланелевого савана с наножниками и рукавами, и он при каждом дуновении ветра то качался взад и вперед, как маятник, то обращался влево и вправо, подобно компасной стрелке, между тем как веревка держала голову его вниз, будто недостойного смотреть на небо, загражденное ему собственными злодействами. Долго, долго смотрел брат мой на труп, и глубже, глубже входило в сердце его холодное лезвие ужаса, смешанного с отвращением. Наконец он вспомнил о своем закладе, и, как ни мало расположен был в ту минуту к шуткам, однако же для честного слова благородные люди делают гораздо хуже, чем глупости, и он, вытащив из кармана шнурок, повязал его висельнику на кисть, потом снял шляпу и поклонился так ловко, что это сделало бы честь всякому флотскому, который учился менуэту на кубрике, беспрестанно сгибаясь для сохранения лба от низкой палубы и беспрестанно оглядываясь, чтобы не слететь в люки. За поклоном следовала пригласительная речь по данной формуле, и потом брат мой снял перчатку, прикоснулся к руке мертвеца, – должно признаться, однако ж, с такою осторожностию, как доктор, который хочет пощупать пульс у зараженного чумою. В то самое мгновение, когда он обнял своими перстами ледяную руку висельника, зазвучали городские часы полночь, и заунывный гул их, наносимый ветром, показался брату печальнее погребального колокола; с этим вместе он почувствовал, что мертвец сжал и по-дружески потряс его руку.
Я вам сказал уже, господа, что брат мой был бесстрашный офицер по природе и по привычке: он, не бледнея, встречал внезапный тифон31 из-под ветра, и рупор его ревел под картечными выстрелами громче тридцатишестифунтовых каронад…32 Но тут было дело иного рода. Он признавался мне, что хотя мозг его и плавал до тех пор в разгоряченных парах вина, но от этого пожатия вдруг превратился в порцию мороженого пунша… вся философия исчезла, холод змеей прополз по костям, и он с изумлением страха увидел, что с первого удара часов мертвец начал потряхиваться, побрякивать своими закованными ногами и подпрыгивать то вниз, то вверх, наподобие рулетки, – так разобрала его охота поплясать под звук полночной музыки. Наконец часы протяжно добили двенадцать, и последний удар стих в окрестности. Вместе с боем кончились и адские антраша; зато невнятный голос мертвеца поразил слух моего брата, который и без того ни жив ни мертв стоял, желая не верить собственным чувствам. Мертвец не шевелил губами, но голос его, вырываясь из груди, то слышался глубоко под землею, то вдали, то прямо над ухом брата, и никогда в жизни не слыхивал брат столь ужасных звуков, столь потрясающего голоса.
– Он был, верно, чревовещатель, – заметил человек с готическим носом, – в самой глубокой древности мы насчитываем тому примеры.
– Не знаю, – продолжал капитан, – бывали ли в древности мертвые чревовестники на треножнике оракульском, только едва ли не первому моему брату удалось открыть это качество на глаголе33. Он, как я уже имел честь сказать вам, стоял ни жив ни мертв, и звуки с того света лились на него, как холодный дождь на прозябшего путника. Первая мысль, которая ему представилась, была – удалиться, но он не мог тронуться с места: каблуки его будто пустили корни в землю; волею и неволею надо было покориться адской силе, и он, опустя руки по швам, стоял перед повешенным, как виноватый солдат перед ротным своим командиром.
«Слушай, иноземец, что я скажу тебе! – медленно произнес разбойник. – Ты пришел насмехаться над мертвым, но вспомни, что после смерти перестает суд человеческий и наступает суд Божий! С той минуты, что я перестал жить как разбойник, ты должен был пожалеть обо мне, как о собрате своем. Впрочем, ты честный человек, и твое сердце лучше твоей головы; небо допускает грешника загладить через тебя одно из вопиющих преступлений, записанных кровью в книге осуждения. Недавно, убив отца одной иностранной девушки, я ограбил все ее достояние, но, что всего важнее, с золотом похитил я и бумаги, без которых она должна скитаться безыменною нищею в чужбине и стать жертвой порока. Все это закопано на том же месте, где совершено убийство, в ближайшем отсюда леске, под деревом, на котором зарублены два креста; оно девятое по тропинке от входа, и ты легко узнаешь его. Возьми этот заступ, приготовленный для позорной могилы моей, и рой землю на север от пня, в трех шагах расстояния. Но не озирайся назад, что бы тебе ни чудилось, – там найдешь ты роковое сокровище, – и если дорога тебе душа твоя, вручи его несчастной жертве. Завтра в самый полдень жди ее на набережной, и первая женщина, которая встретит тебя с последним ударом часов, – будет она. Дай руку и честное слово на исполнение!»
Тут висельник протянул ему ладонь свою, будто уверенный в согласии.
– Хорошо сказано для разбойника! – произнес москвич.
– А на каком языке говорил он с вашим братцем? – спросил гвардеец, у которого каждая фраза, как скорпионов хвост, непременно загибалась вопросительным крючком.
– Да, в нем говорил нечистый дух, – уверительно примолвил толстый рязанский помещик.
– А черт отличный филолог, – заметил антикварий, – и если б он взялся сочинить всеобщую грамматику, то заставил бы краснеть все академии в свете.
– Я совсем противного мнения, – возразил таинственный человек, – враг человеческого рода не может ни делать, ни желать добра; а этот висельник, напротив, требовал очень доброго дела.
– Но кто вам поручился, что это не искушение, не адская западня? – вскричал артиллерист.
– Я почти уверен, что злые духи разорвут на части почтенного братца господина капитана, – молвил рязанец.
– А я так думаю, что он женится или по крайней мере влюбится в облагодетельствованную им девушку, – сказал догадливый сотрудник «Дамского журнала».
– Если вы, господа, станете беспрестанно перерывать рассказ, то помешаете брату моему и жениться и быть разорвану в клочки! – вскричал рассказчик с нетерпением. – Он, то есть брат мой, стоял в нерешимости – дать или не дать ему слово на такое запутанное дело. Как ни перемешаны были мысли его сверхъестественным этим явлением, однако ж он ясно видел, что возврат золота и документов мог навлечь на него подозрение об участии в злодействе. Юстиция не принимает никаких чудесных откровений после смерти, и свет скорее мог счесть этот поступок уликою совести, чем случаем или чертой благородной решительности. Сердце, однако же, перемогло рассудок.
«Пусть один Бог будет моим свидетелем, – сказал он, – что бы со мной ни случилось, я сделаю все для несчастной сироты», – и протянул руку к покойнику.
«Благородный человек», – произнес тот, пожимая руку брата, и в этот раз она показалась ему не столь холодна, как прежде.
Он схватил на плечо заступ и быстрыми шагами пошел к лесу… Вступая в опушку, он оглянулся, и ему почудилось, будто мертвец спрыгнул с виселицы и бежит вслед за ним; но облако налетело на луну, и брат ничего не мог различить более. Скрепив сердце, шел он по роковой тропинке, и скоро дерево, свидетель убийства и. страж добычи, предстало перед глаза его. Мысль, что здесь раздавались напрасные крики о помощи, напрасные мольбы о пощаде и последние стенания зарезанного, мысль, что он попирает стопой место, где злодейски пролилась кровь неповинная, снова взволновала его душу. Воображение рисовало очам ужасную картину… Ему в самом деле мечтались вопли и угрозы борьбы, стон и хрипение смерти. В этом расположении духа принялся он за работу. Холодный пот капал с лица, сердце билось высоко, – и вот адский хохот, дикие свисты и плесканье в ладоши раздались за плечами его. Синие огни вспыхивали там и сям; дерево сыпало на голову брата блеклые листья, и большие камни падали кругом, – он рыл, не оглядываясь. Однако отважность его слабела, разум мутился, голова пошла кругом, – ужас оледенил чувства. Наконец заступ его ударил во что-то твердое, – и в тот же миг с утроенным топотом, криками и плесками нечто тяжелое рухнуло на него внезапно, и он пал бесчувствен в яму, вырытую его руками.
Что с ним сталось после, он не помнит. На одно мгновение, будто сквозь удушающий сон, мечталось ему ржание коней, стук колес, говор людей, – и только. Долго, долго после, по крайней мере через сутки, казалось брату, очнулся он. Была ночь, – но при каком-то слабом свете; щупая и озираясь кругом и припоминая прошлое, с несказанным удивлением уверился он, что лежит на диване в той же самой комнате норвежского трактира, в которой пировал он с англичанами. За столом, однако, не было уже никого; один огарок едва озарял предметы и дремал, подобно всей природе. Только маятник старинных часов, повторяя свои однозвучные «чик-чик», еще заметнее делал безмолвие ночи. Стрелка показывала четверть пятого.
«Хозяин!» – закричал брат мой.
Никто не откликался.
«Хозяин!» – повторил он так громко, что зазвенели окошки, и толстая фигура с зевающим ртом и полуслепленными глазами ввалилась в двери в шлафроке.
«Где англичане?» – был первый вопрос моего брата, и вместо ответа хозяин полез рыться в огромном дедовском комоде, в котором каждый ящик мог бы вмещать по нескольку человек гарнизона; вынул что-то оттуда, хладнокровно снял со свечи, поднес ее к носу моего брата и, сняв колпак, подал ему письмо. Брат мой был человек аккуратный, и, как ни егозило любопытство в глазах и пальцах, он раза два оборотил письмо направо и налево, прочел адрес, весьма подробно написанный, потом взглянул на печать, в гербе которой изображен был ползущий лев – верная эмблема воина придворного, и две подковы – знак твердости, хотя вещь давно изгнанная с паркета. Наконец он вскрыл письмо; в нем написано было: «Сир! мы проиграли заклад; вы не только храбрейший, но и достойнейший человек! Вестовая пушка грянула, корвента снимается с якоря и не дает нам ни минуты для объяснений. Прощайте! Будьте счастливы и не забывайте людей, которые считают честью быть вашими друзьями».
Внизу была подпись всех собеседников того вечера.
– Понимаю, – сказал человек в зеленом сюртуке, значительно нюхнув табаку, – понимаю.
– Этого нельзя и не понять, – прибавил гвардеец, – братец ваш всю эту историю, или, лучше сказать, всю эту басню, видел во сне.
– Во сне! Неужели во сне? – вскричал таинственный человек, обращаясь с вопросом к рассказчику и боясь, чтобы эта прекрасная повесть о мертвецах не превратилась во что-нибудь естественное.
– Брат мой сначала думал то же самое, – возразил драгунский капитан, – покуда между сгибом письма не нашел банкового билета в сто фунтов стерлингов. Вы, я думаю, согласитесь, господин капитан, что хотя в сновидениях нередко даются нам золотые горы, только они разлетаются в дым от одного мига ресниц; но этот сонный клад преспокойно остался у него в кармане.
– Английская штука, – сказал тогда сосед мой, адъютант, – некоторые из моряков легко могли заскакать вперед и сыграть эту драму; воображение дополнило остальное.
– Милостивый государь, – возразил драгун-наездник, нахмурясь и грозно расправляя усы, – брат мой не говорил мне ничего подобного, и я не думаю, чтобы вы имели причину сомневаться в словах моих.
Нечего было спорить против такой убедительной логики, – и все прикусили язычки, готовые уже на разные замечания, не желая из-за мертвых ссориться с живыми.
– Господа! – сказал артиллерист, закуривая трубку, – мне кажется, справедливо бы каждому рассказать какую-нибудь историю, какой-нибудь анекдот из своей или чужой жизни, – это бы помогло нам коротать другие вечера и заключить сегодняшний.
– И еще справедливее, чтобы вы скрепили этот благой совет своим примером, – возразил гвардеец. – Артиллерия должна издали открыть огонь; мы, пехотинцы, будем прикрывать ее. Капитан, как отличный наездник, завязал дело и навел неприятеля на орудия, – теперь ваша очередь.
– Помилуйте, господа, – отвечал артиллерист, отговариваясь от приглашений, – я, право, не приготовился и принужден буду стрелять холостыми зарядами.
– Тем лучше, что не готовились, – сказал прокурор, – по первым показаниям и по горячим следам скорей доберешься толку.
– Только что-нибудь необыкновенное, – примолвил человек, похожий на запечатанный Соломонов сосуд.
– В таком случае, господа, – произнес артиллерийский ремонтер, окидывая глазами собрание, между тем как грустная улыбка воспоминания изобразилась на его устах, – я расскажу вам истинное приключение моего дяди в Польше, при начале войны конфедератов34. Оно так сильно подействовало на его ум, что он постригся в монахи и умер в Белозерском монастыре.
Таинственный человек вытянулся в нитку; все придвинули стулья.
– Думаю, каждый из вас, господа, – начал артиллерист, – слышал рассказы екатерининских служивых об ужасной варшавской заутрене35. Тысячи русских были вырезаны тогда, сонные и безоружные, в домах, которые они полагали дружескими. Заговор веден был с чрезвычайною скрытностию. Тихо, как вода, разливалась враждебная конфедерация около доверчивых земляков наших. Ксендзы тайно проповедовали кровопролитие, но в глаза льстили русским. Вельможные паны вербовали в майонтках своих36 буйную шляхту, а в городе пили венгерское за здоровье Станислава, которого мы поддерживали на троне37. Хозяева точили ножи, – но угощали беспечных гостей, что называется, на убой; одним словом, все, начиная от командующего корпусом генерала Игельстрома38 до последнего денщика, дремали в гибельной оплошности. Знаком убийства долженствовал быть звон колоколов, призывающих к заутрене на светлое Христово воскресение. В полночь раздались они – и кровь русских полилась рекою. Вооруженная чернь, под предводительством шляхтичей, собиралась в толпы и с грозными кликами устремлялась всюду, где знали и чаяли москалей. Захваченные врасплох, рассеянно, иные в постелях, другие в сборах к празднику, иные на пути к костелам, они не могли ни защищаться, ни бежать и падали под бесславными ударами, проклиная судьбу, что умирают без мести. Некоторые, однако ж, успели схватить ружья и, запершись в комнатах, в амбарах, на чердаках, отстреливались отчаянно; очень редкие успели скрыться. Счастливцами назваться могли попавшие в плен. По всему городу, из конца в конец, раздавался глухой вопль посполитого рушенья39, заглушаемый набатом и выстрелами, между коими гремели тревожные перекаты русских барабанов и замолкали вновь, подавленные криком народным. Резня длилась; смерть в разных образах сторожила русских, – и никому не было пощады. Я знал одного отставного солдата, который в ту пору с пятью товарищами мылся в бане; поляки окружили ее, зажгли, заперли и со свирепою радостию слушали их отчаянные крики. К счастью его, обрушился потолок; он вспрыгнул по пылающим стропилам кверху и, полусожженный, кинулся в Вислу, на берегу которой стояла баня. Другой… Но теперь дело не о других. Дядя мой, кирасирский поручик, находился в этом же корпусе бессменным ординарцем при одном из генералов, – и я прошу позволения познакомить вас с моим дядею покороче. Он имел неоцененное счастие родиться в золотой, патриархальный век русского дворянства в степных деревнях Тамбовской губернии. Строгие понуждения Петра Великого, чтобы недоросли учились и служили с малолетства, грянули там громом, – но давно уже минули, подобно страшному сну, и они безбоязненно катались в невежестве как сыр в масле. Едва мальчик рождался на свет, целое вече родных и соседок собиралось к родильнице, и каждый и каждая, отпустив ей по нескольку приветов один другого старее, один другого глупее, клали под подушку по золотой монете на зубок новорожденному. Затем мамка выносила его самого на подушке, красного как рак, и все с важным видом обступали младенца, щупали, обдували, рассматривали его с большим вниманием и, обыкновенно по старшинству или по звонкости женских голосов, решали: будет ли у него руно или перья? В первом случае, когда младенец мог уже ходить на четвереньках, как прилично столбовому дворянину, – его пускали между телятами и барашками научиться кротости и благонравию. В другом – дожидались времени, когда он мог стоять на двух собственных ножках, и тогда круг его воспитания начинался на птичьем дворе с курами и гусями. Этот род домашнего воспитания, столь близкого к простоте природы, с очень неважными переменами, продолжался обыкновенно до тех пор, покуда несколько неугомонных ревнивых мужей, крестьян, не приходили с жалобами на молодого барчонка. Тогда нежная матушка заключала, хотя и весьма неохотно, что ребенку пора учиться, и давай слать гонцов в Москву за азбукою, а в Петербург за патентом на чин гвардии сержанта. Ни дать ни взять, этотже порядок происшествий соблюден был и с возлюбленным моим дядюшкою. Совет чепчиков решил, что в нем орлиная природа, и, вследствие таких примет, пернатое племя было товарищем его детства, и юность его услаждалась дракою с индейскими петухами. Но у ребенка пробился ус, и вот Амур со стрелой своей, цирюльник с бритвою и приходский дьячок с указкою явились к нему вдруг – рушители покоя и беспечности. Книга показалась дяде моему медведем, и это впечатление на юные нервы осталось в нем едва ли не на всю жизнь: от книг он вечно бегал, как бес от ладана, – и мать его уверяла, что одна азбука стоила ей целого воза вяземских пряников для утешения испуганного дитяти. Дитя, однакоже, одарено было особенною понятливостию, и в два года прошло до четверных складов; но по верхам, вероятно от застенчивости, и на третьем читал он плоховато40. Зато уж письмо далось ему на диво. По линейкам, начерченным обыкновенно углом гребешка, бегло писал он по палочкам, и, не хвастовски сказать могу, слова его походили на фрунт немножко хмельных солдат; но в позднейшие времена, в службе, он еще более наметал руку, и каждая буква его подписи разгульными своими кудрями походила на завитую в семик березку41.
В двадцать два года отец впервые назвал его «добрым молодцем», а мать с плачем стала собирать на службу. Как ни хотелось дяде моему посмотреть света, но горьки показались ему слезы разлуки. Мать просила его беречь здоровье, отец велел беречь денежки, и оба крепко-накрепко наказывали поздравлять с праздниками петербургских своих роденек, разумеется чиновных. Покорный сын влез в повозку с твердым намерением не следовать ни одному совету и, в сотовариществе со степным и степенным дядькою, покатил в столицу. Прибытие его в полк, его сержантские подвиги при равносиянии финского солнца и при мерцании фонарей, которые нередко бивал он, и, наконец, перевод поручиком в один армейский кирасирский полк не принадлежат к нашей истории, и потому я скажу только, что дядя мой стал молодцом в полном смысле слова. По росту и дородству вы бы могли счесть его потомком Сухаревой башни42, а сила соразмерна была огромности туловища, – словом, он был достойный богатырь времен суворовских. Вообразите себе, что в одном сражении с турками конь его на ретираде43 был контужен в передние ноги. Он любил коня как брата и не хотел, имея надежду вылечить, оставить его в добычу неприятеля.
«Бедняжка! – сказал он, – ты не раз вывозил меня из беды неминучей, теперь за мной череда послужить тебе», – и с этим словом, подхвати четвероногого товарища под передние лопатки, поволок на себе, между тем как тот переступал задними ногами.
Таким центавром прибыл он ко фронту44, и когда офицеры стали удивляться его усилию, он извинялся тем, что протащил не более полуверсты. Впрочем, дядя мой, славный уже рубака на войне, был лихой товарищ и в обществе. Охотник пошутить и посмеяться, он не был лишним ни за бутылкой, ни подле женщин. Природа не обидела его даром слова, а столица весьма и весьма округлила в обращении. Вероятно, эти качества доставили ему место бессменного ординарца, и, кажется, ни генерал, ни генеральша не имели причин в том раскаиваться. Варшава, со своим венгерским вином и милыми польками, показалась ему настоящим земным раем: его жизнь плавала там в океане меду, – но гроза невидимо собиралась над русскими и грянула ужасно. Судьба сулила, однако ж, дяде моему погибнуть не в Варшаве. Он, на страстной неделе, отправлен был с важными депешами в Литву и, удачно выполнив свое поручение, повольно возвращался в главную квартиру45, ничего не зная, не ведая. На другой день светлого праздника он уже находился верстах в полутораста от Варшавы, поспешая навстречу погибели. У худых вестей долгие ноги, и если б дядя мой был более догадлив или менее доверчив, то легко мог бы заметить, что в народе происходит необыкновенное волнение. Но он, по обычаю всех русских курьеров, просыпался только побраниться на станции, выпить рюмку старой водки у жида и снова залечь в плетеную бричку, лишь по временам покрикивая: «Пошел!» – и пересыпая это увещание перцем весьма выразительных русских междометий, разнообразие которых неоспоримо доказывает древность и богатство нашего языка, хотя их нельзя отыскать в академическом словаре. На облучок с ним садился вахмистр того же кирасирского полка, Иван Зарубаев, удалец не хуже моего дяди. Он был у него квартермистр46, казначей, камердинер и телохранитель в одном лице; и сомнение ли поляков об удаче варшавской заутрени или робость при виде двух великанов, вооруженных с ног до пояса, – только, несмотря на косые взгляды и проклятия, процеженные сквозь зубы, им до сих пор везде давали лошадей, и нагайка Зарубаева, гуляющая без лицеприятия по спинам четвероногих и двуногих служителей почт, доставляла путникам очень скорую езду. Зарубаев, однако, видя необычайное столпление шляхты, которая, заломив шапки и засунув руки за пояс, гордо волочила за собой ржавые сабли, явно браня русских и с хвастливым видом угрожая искрошить их на табак, счел за нужное отрапортовать о том поручику.
«Ваше благородие, – сказал он, вытянувшись сколько мог, половиною тела, на облучке, – поляки затевают что-то недоброе, они грызутся на нас, как волки на собак. Во многих деревнях, я видел, насаживают косы на ратовища47 и привязывают флюгарки к вилам48; шляхта чистит дробовики и сабли, – вон, изволите ли видеть, нам перескакали дорогу человек пять с пиками? Это неспроста!»
«В самом деле, Зарубаев, – отвечал мой дядя, – я и сам заметил, что поляки стали с нами горды, как трехбунчужные паши49, и вместо прежнего „падам до ног“ готовы влезть на шею, – далеко, брат, кулику до Петрова дня! А что, есть ли у нас, Иван, Адамовы слезы?»
«Как не быть, ваше благородие! – отвечал вахмистр, открывая пробку оплетенной фляги, которая висела у него через плечо. – Я всякий день насыпаю на полку свежего пороху».
«Так не о чем и горевать, – сказал мой дядя, потягивая душеспасительный травник, – покуда у русского солдата есть чарка в голове, сахар в кармане и железо в руках, – ему нечего бояться. Пошел!»
В этих миролюбивых мыслях прикатили они к следующей станции.
Шумный круг теснился у крыльца почтового дома; с него сухощавый поляк, – вероятно, эконом фольварка50, весьма похожий на тощую фараонову корову, которая проглотила тучную, не став оттого сытее51, – что-то с жаром проповедовал, и грозные клики: «Вырзнонць, вырзнонць!»[55] – вместе с шапками летели на воздух.
«Лошадей!» – закричал Зарубаев, между тем как ропот: «Москаль, москаль!» – раздавался кругом.
«Тройку из курьерских, по указу ее императорского величества», – сказал мой дядя, швырнув подорожную в нос эконома.
«Тым горжей[56] – гордо возразил тот, – коней не ма».
«Как „не ма“? для курьера „не ма“? Хоть роди, да подай! – вскричал, вспыхнув, мой дядя. – Или я тебя самого впрягу в хомут, тюленья харя!»
Между тем поляки сжимали круг ближе и ближе, и с каждой минутой угрозы их становились дерзостнее, поступки бесчиннее.
«Схватить их, связать их!» – кричали одни.
«Убить, убить! – ревели другие. – Им одним скучно будет в Польше, отправьте их гонцами к свату их, сатане!» – и тому подобные любезности.
«Не пустить ли, ваше благородие, шутиху в зубы этой челяди?52 – спросил Зарубаев у дяди. – Пистолеты у меня заряжены картечью; или по крайней мере позвольте поработать палашом, – ему, бедняге, душно в ножнах».
Но дядя мой имел благоразумие запретить вахмистру наступательные действия и дал знак держать только оружие наготове.
«Завладей сперва бричкою этого шляхтича», – потихоньку сказал он Зарубаеву, и тот вмиг исполнил фланговое движение к бричке. Тогда дядя мой решился, – медлить было нечего. Толпа готовилась задавить их множеством; самые хвастливые из шляхтичей обнажили уже клинки свои и, гарцуя над головою дяди, то подносили концы их к носу его, заставляя нюхать старопольскую славу, то втыкали их в землю, то потачивали на колесе. Это вывело его из терпения; он сверкнул глазами и палашом скомандовал Зарубаеву: «Укороти поводья!» – схватил за ворот сухощавого поляка и, между тем как тот кричал: «Злапайце тего дурня!»[57] – бросил его под мышку, как зонтик, и потащил, задушая, к бричке. Вскочить в нее, втащить за собой пленника и крикнуть Зарубаеву: «Катай по всем!» – было дело двух мигов. Зарубаев, который, выставя из-за края брички, как из-за бруствера, пару седельных пистолетов, грозился на каждую пулю пронизать по крайней мере по три души, не дожидался повторения, и бич свистнул над конями.
«Слушай, пане экономе! – сказал дядя пленнику, сжимая ворот его при каждой запятой. – Объяви этой сволочи, что если хоть один кинет в меня камнем, или выстрелит, или станет преследовать, то я не иначе явлюсь в пекле, как верхом на тебе!»
При окончании этого родительского увещания он так давнул бедного шляхтича, что тот заревел, как Фаларидов бык53, и ради всех святых стал умолять бегущую сзади громаду не трогать русских, щадя его. Долго еще им слышались брань и проклятия раздраженной черни, у которой ускользнула из рук верная добыча; но повозка летела, и треть дороги была уже за ними, когда звук набата в селе, впереди на дороге лежащем, принудил их остановиться. Ехать назад было им безрассудно, вперед еще опаснее, – что тут прикажете делать? Дядя призадумался, спросил Адамовых слез, которые были у него вроде карманного вдохновения во всех чрезвычайных случаях жизни… потом приложил палец ко лбу, как будто для извлечения электрической искры ума, и снова ухватил шляхтича за ворот.
«Слушай, ты, вавилонская лихорадка, – сказал он ему, – веди меня окольными дорогами не слишком близко к большой дороге и недалеко забираясь в сторону. Если же ты задумаешь бежать или, чего Боже сохрани, завести меня в западню, то я впущу тебе в брюхо такую ягоду, что она не сварится в нем до Страшного суда, хотя бы желудок твой был крепче, нежели у страуса. Зарубаев! отдай ему вожжи да держи за кушак, и чуть он покривит душой или зашевелит усами, спусти гончую собаку. Понимаешь?»
И трепещущий поляк понял это весьма хорошо, влез на козлы, своротил вправо, и путники наши скоро выехали на какую-то проселочную дорогу.
Мы не удивимся поведению дяди в таком необходимом случае, где он действовал уже в отместку за обиду и по чувству самосохранения; но, впрочем, он, подобно всем военным того времени, без всякой нужды готов был на подобные выходки. Их век был веком, в который люди угнетали других людей во всей невинности сердца; тогдашний дворянин крепко веровал, что Бог создал для него только девять заповедей, а десятую отдал ему в бенефис, что крестьяне суть животные и что спины их необходимо требуют побоев, лбы рогов, а карманы просевки, и если ропщут, то, верно, по глупости или от непривычки. Солдат в свою очередь почитал себя тоже привилегированным существом. Следуя примеру старших, он приходил на квартиру как в завоеванный приступом город, – и мужик, вчерашний товарищ его, бог знает почему, становился его вассалом. В целой деревне мальчики прятались за углы и собаки, поджав хвост, влезали в подворотню, когда старый служивый совершал по улице свое торжественное шествие из кружала, и он, свертывая голову курице или паля краденого поросенка, бывало, приговаривал: «За матушку за царицу, за святую Русь», в полной уверенности, что этому не должно быть иначе54. Мы еще застали образчики солдатского молодечества на постоях, но это была уже одна тень золотого века, о котором вздыхают отставные усачи, говоря: «То-то было времечко! Пришел ли на квартиры, все твое – и куры и жены; офицеры пьют да бьют исправников, а мы свозим стога сена и щиплем бороды неугомонным; ведро вина для квитанции, и – все шито да крыто… Что за ябеда на слуг государевых? Бывало, что день – то масленица. На Руси кантуй как в земле неприятельской55, а у союзников – как на Руси!» Мудрено ли же, правду сказать, что с такою политикою между нашими гренадерами поляки не слишком рады были незваным гостям?
Между тем, господа, бричка катилась, солнце садилось, и дядя мой, стягивая патронташ с пистолетами, очень умильно поглядывал в обе стороны, не увидит ли где деревушку для взыскания с нее контрибуций в пользу тощего своего желудка. Вместо деревни, однако же, увидел он столб пыли на дороге, которая тихо вилась к ним навстречу. Они расслышали хлопанье бича и дребезжание досочек, и винтов, и цепей какой-то повозки, – и вот пыль расступилась: целый цуг коней в высоких хомутах с веющими по ним флюгерами, кистями и бляхами тащил старинную низкоходную карету. Верх у ней был сквозной, и кожаные завесы, заменяющие наши стекла, подвязаны к столбикам. Внутри, на горе из подушек и всякой рухляди, лежал, преважно растянувшись, какой-то вельможный пан, покручивая усы для препровождения времени.
«Долой с дороги!» – кричал Зарубаев.
«Вправо или стопчу!» – был ответ польского кучера, и между тем оба катили прямо друг на друга, не уступая места, как добрые дипломаты.
«Кеды москаль гицель не звруци з дроги, – паль го в леб з бича!»[58] – закричал вознице своему гордый пан, которому и самая степь киргиз-кайсаков показалась бы узка при встрече; но кони уже сгрянулись, дышла затрещали, колесо пополам, и обе повозки полетели вверх копылками56. Между тем как ездовые хлестались и кони храпели под тяжестию кузова или запутанные в упряжь, дядя мой, который выходил из себя от одного грубого слова, бежал к пану в бешенстве от обидных слов, обнажив свой шестипядный палашище и обещая сделать из него двуглавого орла. Но пан уже успел выбиться из-под перин и ящиков и с саблей в руке ожидал нападения. Разумеется, ни один из них не скупился на удары, и между тем как искры сыпались с клинков, брань летела с языков и удвояла запальчивость обоих. Дядя мой кричал, что он допытается, чем подбита польская кожа, а пан ревел, что он отрубит русский нос на завтрак своему пуделю; и в самом деле противник был лихой рубака и дважды уже задел его по локтю, между тем как дядя мой косил направо и налево без всякого разбора. Счастье, однако, лучше уменья, – и дядя мой, рубанув с плеча, раздробил саблю, которая была уже на дороге короткого знакомства с его носом, и так стукнул противника в лоб рукояткою, что он рухнул в крови, не успев ахнуть. Нажив новую беду на руки, любезный дядюшка мой спешил ретироваться, покуда слуги суетились около вельможного. На беду пленный шляхтич, пользуясь замешательством, ударил до старого замка, то есть до лесу, а Зарубаев, потирая бока, докладывал, что он не знает дороги.
«Ступай куда глаза глядят!» – был приказ, и нагайка опять взвилась над бегунами.
Скоро потеряли они из виду место побоища, и солнце юркнуло за горизонт, будто только и ждало конца славных подвигов. Среди врагов, в местах незнакомых, в темную ночь – не слишком весело хоть какому рыцарю; но, что хуже всего, дядя мой чувствовал тогда страсть ужаснейшую всех прочих, ибо она не знает забвения, ни примирения и убивает в три дня, – страсть, которую в просторечии называют голодом! Вообразите же себе его радость, когда, обогнув лесок, он увидел невдалеке перед собою старинный польский замок и в окошках его освещение, достойное святой недели, которая в Польше есть настоящий праздник гостеприимства. Подъезжая ближе, он с изумлением заметил, что просека, ведущая ко въезду, заросла уже мелким березняком. Ограда во многих местах была осыпана, гнилые ворота лежали у верей в крапиве57, весь двор заглох дикими растениями, и самый палац разрушен по оконечностям; одним словом, все доказывало давнее запустение и необитаемость. Это поразило Зарубаева, и он сдержал коней.
«Ваше благородие! – сказал он, крестясь, – тут нечисто! В этих брошенных палатах могут стоять на постое только злые духи. По всему заметно, что здесь лет сорок не бывало живой души, а теперь в них говор, шум и пенье. Если б сюда съехались крещеные люди, так были бы кони и повозки, – ведь одни киевские ведьмы летают на помеле. Не лучше ли, ваше благородие, переночевать в поле, а то не вынесем мы отсюда своих косточек!»
«Пошел хоть к самому сатане! – сердито закричал мой дядя. – Крестом или пестом у чертей и у людей можно всего добыть, и я так голоден, что готов вырвать ужин из пасти у медведя!»
Мигом перекатили они широкий двор, и дядя мой, в сопровождении Зарубаева, который ни за что в свете не хотел остаться один, пустился ощупью отыскивать вход в залу, откуда неслись громкие голоса. Взбежав по полуразвалившейся лестнице во второй этаж, не без опасности сломить себе шею, в передней, наскоро превращенной в буфет, встретил он толпу суетливых слуг. Все они были в охотничьих платьях и, споря наперехват, кто услужит хуже, готовились нести ужин. Несколько свор и смычков собак лежали и прогуливались попарно, в ожидании добычи или подачки, и дядя заметил одного лакея, который тер блюдо хвостом борзой, между тем как она, ворча, грызла заячью косточку. Запах кушанья заставил его удвоить шаги – и вот он посреди залы, между множеством польских панов и дам, и в недоумении, к кому обратить слово.
Появление русского латника исполинского роста, косой сажени в плечах, вооруженного с головы до шпор, в перчатках с раструбами по локоть, в сапожищах с крагами до полубедра и в суперверсе[59] на груди с огромным орлом, что делало его весьма похожим на странствующий пограничный столб Московской губернии, а далее за ним, на благородном расстоянии, точно такая же фигура, ласкающая рукой эфес палаша, – изумили и даже испугали собрание. С беспокойством поглядывали поляки, нейдут ли вслед за этим передовым корпусом другие с примкнутыми штыками, затем что время и место их сбора недаром могли казаться подозрительными. Наконец дядя мой, выбрав пана, у которого гордее всех была осанка, длиннее прочих усы и богаче пояс, изъяснился как мог, что он русский курьер, сбился с дороги и, зная польское гостеприимство, просит теперь хлеба-соли для себя и потом коней для службы государевой. К этому он придал глупость самого большого калибра: назвался племянником главнокомандующего – ложь, которая бывала ему доселе очень удачна для получения подвод, хороших ночлегов, и угождений, и угощений.
«A-a! – сказал вельможный, потирая руки, – милости просим! Мы весьма рады пану племяннику главнокомандующего».
Эта новость обтекла в одно мгновение ока вокруг залы, и все, наиболее дамы, столпились около дяди моего, измеряя его глазами, как страсбургскую колокольню58.
«Но позвольте спросить, где ваша подорожная?» – спросил ласково хозяин.
«Вот здесь», – отвечал дядя мой, опустив руку в лосинные панталоны и вытаскивая трехпечатный лист.
Взглянув на него, поляки успокоились, веселость возвратилась, и, рады не рады нежданному гостю, усадили, однако ж, его за стол рядом с очень милою дамою, и все беды, все страхи исчезли из головы моего дяди точно так же, как яства с его тарелки, а вино из серебряной стопы, в которую лукавый сосед не уставал подливать беспрестанно. Успокоив первые вопли желудка, дядя пустил глаза на волю. В самом деле, все, что ни окружало его, вовсе не походило на вещи здешнего мира: огромная зала, расписанная плесенью al fresco[60], грозила падением, потолок был выпучен волнами, карнизы, украшенные паутиной, начинали обваливаться, и выбитые окна на этот вечер завешены были коврами, попонами, даже плащами охотников. Только на столе стояло несколько подсвечников, но по стенам воткнуты были охотничьи ножи и на них пылали факелы. На одной из стен висел ряд фамильных портретов, мужчин и женщин попеременно: это безмолвная летопись ничтожности человеческой. Краснощекие красавицы, перетянутые, как муравей, и обвешанные рядами кружев, на высоких золоченых каблуках, нежно косили глазки на букет чудесных цветов с серебряными листиками, наверно подарок женихов, потому что в старину девушки принимали подарки только от женихов. Усатые, бритоголовые паны с длинным чубом на маковке, иные в латах, грозно держась за саблю, другие в расшитых кафтанах и кунтушах59, миролюбиво размещая пальцы по квартирам между алмазных пуговиц, беспечною своею физиономиею и двойным подбородком невольно возбуждали аппетит, и дядя очень остроумно заметил, что старики не без намерения вешали портреты свои в столовых: любя попировать в жизни, они и по смерти давали потомкам охоту к тому же. В мебелях представлялись остовы многих веков от самого потопа. Там широкие кресла протягивали одну ручку, будто прося милостыни, между тем как на вышитой спинке трепетались лоскутки прежнего величия. Там долговязый точеный стул качался на трех ножках, потеряв остальную в каком-нибудь домашнем сражении, и все они разного роста, цвета и вида, на утиных и кривых собачьих ножках, с высокими и низкими задниками, под блеклой позолотой или из дуба, источенного червями, казалось, сбежались туда со всех чердаков, как на толкучий рынок или в инвалидный дом заслуженных утварей. Сбор гостей был не менее чудесен: они казались живыми списками висящих по стенам портретов, и все покрои платьев, начиная от короля Ляшка Белого60, имели на них свое место. Многие молодые люди носили, однако ж, завитые волосы, и французские шитые жилеты сверкали из-под их двурукавных кунтушей. Хозяин, видя, что дядя мой изумляется, окидывая глазами гостей, и комнату, и уборы, поспешил успокоить на этот счет его любопытство.
«Не дивитесь, любезный ротмистр, – сказал он (поляки любят производить в чины), – что видите нас в этих развалившихся стенах. Травя сегодня с соседами медведя, я избрал этот давно уже покинутый палац местом отдыха после охоты, по близости его к лесу, где мы полевали. Не дивитесь и тому, что прекрасное это здание заброшено в пользу нетопырей; я расскажу вам о том историю.
Надобно вам сказать, что полвека тому назад дом этот сиял как алмаз и был как полная чаша. Им владел тогда граф Фелициан Глемба, родственник мой по женской линии, человек страх богатый деньгами, но еще более прихотями и страстями. Он был женат на единственной наследнице дома Тарлов61, женщине очень умной и прекрасной, но, по обычаю всех славянских жен, чрезвычайно своенравной и повелительной. Чтобы рассеяться немножко от домашнего благополучия, он уехал за границу, обрыскал всю Европу, дурачился везде как нельзя более, влюблялся по пяти раз за день, дрался на поединках без счету и наконец, истощив наличные деньги и здоровье, воротился домой с новыми долгами и застарелыми пороками. Несколько лет после того протекло довольно тихо, потому что жена была ревнива – равно к его сердцу и карману – и держала молодца, что называется, в ежовых перчатках, – он же в свою очередь боялся ее больше всего на свете.
Вот в одну осеннюю ночь какой-то всадник прискакал на вороном коне к воротам замка и просил ночлега, уверяя, что он имеет сообщить графу весьма важные вещи. Разумеется, велено просить гостя к ужину, и граф с удивлением заметил в чертах незнакомца что-то очень знакомое; но как путешествия и связи его были обширны, то он никак не мог припомнить, где он его видел. Неизвестный ел мало, говорил еще менее, поглядывал на графа исподлобья так мрачно, что у него сжималось сердце, и наконец, для открытия тайны, просил особого свидания. Ему назначили для ночлега дубовую комнату, и через полчаса явился туда и Глемба. Нельзя описать внезапный страх его, когда вместо незнакомого мужчины он нашел слишком знакомую ему женщину, синьору Бианку Менотти, которую обольстил он, увез от отца, тайно женился на ней, и потом бросил, и забыл в каком-то немецком городке. Она, как водится, плакала, укоряла и наконец объявила, что если он не признает ее за жену свою, то, не могши утешаться его любовью, она найдет отраду в мести, что она итальянка и знает средство обнародовать его вероломные и беззаконные поступки, что она не пожалеет даже пролить кровь или отравить изменника, для которого забыла она невинность, дом отеческий, родину и родных и долгие лета разлуки скиталась в чужбине без имени и пристанища. Граф притворился, будто разнежился до слез, и, трепеща, чтобы его не подслушали, дал Иудин поцелуй примирения обманутой итальянке. Все, все обещал он: развестись с первою женою, признать ее, любить верно и горячо, и между тем как Бианка всему верила (влюбленное сердце так доверчиво), он вращал в голове кровавые замыслы: сжить с рук опасного свидетеля и увядшую, постылую любовницу. Медлить было невозможно; он страшился ревности настоящей супруги более ада, – и скоро созрел губительный умысел в душе порочной. Ласками усыпил он легковерную; потихоньку оторвал от оконного переплета листок свинцу, растопил его на свече в серебряной ложке и приблизился к сонной жертве своей. Руки его дрожали, совесть громко вопияла: „Удержись!“ – но страх позора, но боязнь преследований итальянки и вечных укоров жены перемогли все: кипящий свинец канул в ухо Бианки, и жизнь ее прервалась одним вздохом.
Совершив злодеяние, граф позвал ловчего, всегдашнего поверенного его проказ; вместе с ним выбросили труп за окно и зарыли тут же под деревом. На другой день он сказал жене, что это был обманщик, хотевший выманить у него денег, и, получив отказ, он убрался до свету. Никто и не думал заботиться о человеке, который так же скрытно уехал, как прибыл; одним словом, все, кажется, было улажено, – и концы в воду; но кровь не смывается ничем. Каждую полночь стали мечтаться графу привидения; бессонница высосала у него здоровье; совесть преследовала повсюду. Уверяли, впрочем, будто и всем домашним чудилась женщина в белом платье, с распущенными волосами: она медленно выходила из дубовой комнаты, пробегала весь замок и, встретив графа, грозила ему перстом, указывая на небо, и потом исчезала. Гонимый раскаянием, терзаемый призраками, Глемба вдруг покинул дом этот, вскоре заболел горячкою, высказал в бреду ужасные подробности преступления – и умер.
С той поры на замок легла печать отвержения. Село, бывшее вблизи, рассеялось, дороги поросли кустарником, и доселе так еще сильно поверье, будто здесь живут духи и прогуливаются мертвецы, что дровосек, не ждя вечера, выезжает домой из окрестностей и охотник, хотя бы ему попался пестрый зубр, не погонится за ним под ночь в соседние кущи. Мы, однако же, надеясь на учтивость привидений, решились попировать здесь после подвигов травли и повторяем, пане ротмистре, весьма рады случаю, что вы вместо пустых стен нашли здесь сытный стол, вместо бледных покойников – краснощеких весельчаков, готовых пить и любить… от пана до пана!»
Между собеседниками пошли разные толки: кто улыбался, кто морщился, однако все стали поговаривать, что пора ехать. Но заздравные кубки. кружилися, и все тайны всплывали на верх вина, как масло, мало-помалу. Дядя мой плохо понимал по-польски и вовсе не разумел по-латыни, но и он заметил нечто неприязненное к имени русских. Толковали о всеобщем восстании в Варшаве, о том, что везде исполняется то же. Взоры гостей сверкали, восклицания становились шумнее, воинственнее; наконец тост: «Pereat Stanislas, pereat Moscovia!»[61] – загремел так, что дрогнули стены. Многие вскочили, другие пили, стуча саблями о стол, хрусталь летел на пол, – и дядя мой, не понимая ни крошки, подтянул хору и, во всей чистоте души, осушил стопу свою.
В промежутках между чарами он не забывал, однако ж, своей соседки: смешил ее, ломая польский язык без милости, забавляя рассказами о России, льстил как умел, – и ему казалось, что ему отвечают. Вкусы у женщин причудливы, и недурной мужчина двух аршин и двенадцати вершков роста имеет свои достоинства, будь он латыш, не только русский; политические же распри не входят в расчет женских склонностей, – на этом пункте они истинные космополиты, – и пана племянника главнокомандующего нашли бардзо пршиемным!62 Ободренный огневыми взорами милой польки и переполненный через край любовью и венгерским, дядя мой решился на объяснение. Должно полагать, что его речь была подобие Цицероновой «Pro Milone»[62]63; он сам был очень растроган, ибо первый почувствовал силу собственного красноречия, и в самой средине изъяснения, желая вздохнуть, – зевнул до ушей, нежно взглянул на прекрасную вполглаза – и заснул богатырским сном.
Судя по высоте месяца, было за полночь, когда он пробудился; в ушах его звенел еще говор ужина, – но, открыв глаза, он чрезвычайно удивился, видя, что сидит один-одинехонек. Все было кругом в мертвом молчании; гости исчезли, и никакого следа пирушки, кроме обнаженного стола и опрокинутых стульев! Дядя мой не раз протирал глаза, щупая себя за желудок и щипля за ухо, чтобы увериться, точно ли он испытал все это во сне. И все-таки сомнение не покидало его. Зачем поляки были здесь и куда девались, не разбудив его? Люди были это или злые духи изволили забавляться над ним? И ежели злые духи, подумал дядя, то неужели разлетелись они от пения жареного петуха, которого не успел он почать? Предполагать же петухов живых никак нельзя было в окрестности. Полный месяц ясно светил в полые окна, и морозный ветерок, чтобы не сказать – дума о мертвецах, русалках и домовых, которыми набожно набивали его голову с малолетства, заставили героя пожаться: ему вовсе не было охоты провести ночь в этом чертовом решете. Мурашки бегали по ретивому, да и портреты поляков, которые за час он находил так миловидными, хмурили брови, сторожили его страшными глазами и, колеблемые ветром, казалось, хотели выпрыгнуть из рам и разделаться с незваным посетителем по-свойски.
Найдя свой плащ в углу и завертываясь в него, он заметил, что при нем нет уже ни палаша, ни пистолетов. Эта потеря поразила его как гром; без оружия он вовсе опустил крылья и опрометью кинулся к выходу, трепеща звука собственных шпор. Первый шаг за дверь – и дядя мой был уже на полу, запнувшись за какое-то мертвое тело, – но ужас его дошел до неимоверной степени, когда в нем он узнал Зарубаева, исколотого и плавающего в крови. Верный служивый был еще жив; он распознал своего поручика, собрал последние силы, приподнялся на локоть и через два слова в третье рассказал ему, что он не покидал во все время ужина своего поста у дверей, видел, как заснул дядя мой, слышал, как поляки хотели связать и с торжеством везти в Варшаву племянника главнокомандующего; но хозяин настаивал, что он берет его к себе на поруки и что стыдно платить унижением человеку, пришедшему просить гостеприимства. На беду прискакал шляхтич с вестью к одному из вельможных, что родной брат его умирает, раненный в пути русским курьером, и, узнав их обоих, указал как на убийц и разбойников. Тогда хмельные паны разъярились, и, несмотря на все увещания доброго хозяина, сабли засверкали над головою сонного дяди. Зарубаев кинулся защищать его, спустил курок по одному и саблей сбил еще двоих, но был в минуту изрублен сотнею клинков и, падая, видел, как распахнулись на другом конце залы заколоченные двери – и вышла женщина в белом платье, бледная как смерть… Завидя ее, поляки стихли, сабли опустились, и все кинулись вон, давя друг друга, побросались на коней и ускакали, восклицая: «Фантом, фантом!»64 После этого он потерял память.
«И теперь умираю молодцом, – прибавил Зарубаев, силясь перекреститься, – солдату всегда пора умереть, а тому и подавно кстати, кто выкупил свою душу парою вражеских; у меня же ни роду ни племени! Велите, ваше благородие, отслужить только по мне панихиду, и пусть товарищи выпьют за мою грешную душу на поминках, – деньги в артели!»
С этим словом он упал, вытянулся в последний раз по-солдатски – и баста. Дядя ждал, не очнется ли добрый товарищ, но труп холодел постепенно; и он, уронив пару слез на убитого, удалился искать себе приюта и безопасности. Смущен сердцем и не видя ничего в темноте, он никак не мог найти выходу: из коридора попал он в комнату, из ряда комнат в сени, оттуда на лестницу, там на другую, – это его утомило. Он бросился в первую встречную горницу и, найдя там древнюю запыленную кровать, растянулся на ней, жмуря глаза, с твердою решимостию заснуть до света; но сон бежал от глаз дяди: труп Зарубаева и рассказы о белом привидении неотступно ходили кругом. Для развлечения он стал рассматривать комнату чудного своего ночлега.
Она вся убрана была дубом под тяжелою резьбою; высокие панели и широкие наличники, на коих хитро сплетались фантастические головы зверей, птиц и людей, долго занимали его. Казалось, под каждой рамкой скрывался шарнир, готовый повернуться и выпустить из-за себя какое-нибудь привидение или по крайней мере убийцу. Разбитое зеркало, тусклое от дождей, будто манило мертвецов поглядеться в себя. Старая дверь скрипела так жалобно, так заунывно, словно оплакивала своего жильца, и лестница, едва озаренная луною, казалось, вела прямо в преисподнюю. К этому же сырые стены пахли могилой, и флюгер, качаясь на ржавом стержне, царапал дядю по сердцу; ему стало жарко и холодно, когда он вспомнил, что это должна быть роковая дубовая комната и на кровати, на которой лежал он, умерла несчастная Бианка! При этой мысли он вздернул плащ себе на голову, но обнажил ноги; потом, желая обернуть ноги, обнажил плечи, и наконец, после многих перемен одного и того же, проклиная портных и домовых, он свернулся в крендель, под епанчою65, и таким образом, герметически закупоренный от влияния духов, заснул, потея как губка.
Вино и молодость, подобно пружине, уступают на миг силе, но потом разыгрываются по-прежнему. Вино и молодость забушевали опять в сердце моего дяди, хотя он находился в тех же тисках. Ему снилось, будто он еще за столом и прелестная соседка шепчет ему: «В дубовой комнате, в полночь!» – и палец таинственно сомкнул милые уста… И вот он на пыльной кровати, ждёт-пождет красавицу… Ему дремлется, – тяжкий сон клонит к подушке. Но вот скрипнули половицы под легкою ножкою… Кто-то смотрит ему в очи; жаркое прерывное дыхание горит на его щеке, с биением сердца простирает он руки… и тут проснулся в самом деле. И в самом деле, рядом с ним лежала прекрасная полька и при закрытой туманом луне спала крепким сном. Голова пошла вальсировать у моего дяди, сердце вскипело, как неудержимая пена шампанского, – он невзвидел света от восторга!..
Когда рассеялся чад упоения, облако сбежало с месяца, и он как день озарил всю комнату. Красавица лежала в томном забытьи; дядя мой снова взглянул на нее, и волосы его стали дыбом, мороз проник в самое сердце костей – это была женщина-мертвец!!
Могильная бледность заменяла на щеках ее румянец жизни, кровь не двигалась в жилах, дыханье не вздымало груди, и страшны были синеющие глаза ее без зрачков, – так по крайней мере предполагал дядя, потому что они были закрыты. Он уверял даже, что собственным своим носом чувствовал, как от нее пахло гробовой доскою, – и я верю ему тем более, что он клялся только за картами. Как бы то ни было, господа, я сам согласился бы скорее жарить ручные гранаты наместо каштанов, чем разделять ложе с выходцем того света! И бедный дядя мой, молясь всем угодникам, желал бы спрятаться тогда в свой карман, если бы это было возможно.
Но вот скелет поднялся с кровати; говорю – скелет, потому что дядя мой очень явственно слышал бряканье косточек, вероятно собранных на проволоке, а на месяце белое платье ее сквозило, будто надетое на вешалку. Женщина-скелет подошла к окну, закрыла себе лицо рукою, будто стыдясь чего-то, потом потерла себя по лбу, словно рассуждая, из чего мой дядя заключил, что у жителей могил точно такие же телодвижения, как и по сию сторону гроба. Потом она приблизилась к дяде, и тот, воображая, что она начнет его грызть для препровождения времени, закрыл глаза и предался на Божию волю. Привидение удовольствовалось, однако ж, одним поцелуем, – и дядя клялся, что с той поры щека эта стала у него отмерзать при самом обыкновенном холоде. Потом она дала знак рукою за нею следовать, и, как осужденный, побрел он вслед за белым привидением. Сошли с лестницы, прошли темный переход, и ему мнилось уж, что оборотень заведет его в какой-нибудь погреб и оставит в глубине на съедение мышам, как польского короля Попела66. Долго не мог он отвести души, вышедши и на свежий воздух; однако же ободрился, увидя, что вожатая вовсе не хотела ему зла; он готов уже был с нею раскланяться, когда она стала говорить ему гробовым голосом. Дядя мой не знал, по несчастью, никакого чернокнижного наречия и потому стоял перед нею выпуча глаза. Видя, что он ничего не понимает, она указала ему дорожку влево, послала прощальный поцелуй рукою и исчезла в воздухе, оставя после себя серный запах, как ракета. Дядя отдохнул, перекрестился обеими руками и побрел далее мыкать горе, не зная, где пройти и куда выйти. Не удалился еще он двухсот шагов от замка, как ему послышались крики и потом погоня, и скоро заблистали огни по окнам. В ту же самую минуту человек дикого вида, в зеленой куртке, с огромным ножом на поясе, с двухствольным ружьем на плече и с легавою собакою у ног, заступил ему дорогу.
«Кто ты? – спросил изумившийся дядя. – Друг или недруг?»
«Доверься мне, и ты узнаешь, – отвечал угрюмый незнакомец. – Взгляни туда, – тебя ищут, назади верная гибель; впереди – сомнительная опасность. Следуй за мною!»
И, не дожидаясь ответа, врезался в обнаженную от листьев чащу.
Дядя мой шел следом, собака бегала кругом, заменяя патрули и ведеты67. Давно уже закатился месяц, и кирасир наш, в тяжелых ботфортах, перелезая через пни, бродясь через речки, едва тащил ноги свои и пыхтел как волынка. Незнакомец отрывисто отвечал на вопросы и скоро шел далее и далее. Наконец собака залаяла… Лес стал редеть, – и вот увидели они на поляне потухающие огни биваков. Но русские то или поляки? – вот задача!.. Встретиться с последними – значило попасть из огня в полымя… а провожатый что-то очень подозрителен!..
«Кто идет?» – раздалось в цепи, и человек в зеленой куртке, сжав по-дружески руку спасенному им дяде, скрылся в лесу, не слушая никаких благодарений.
«Кто идет? Говори, или убью!» – закричал часовой вторично, и слышно было, как он ударил ружьем в руку, прицеливаясь.
«Русский, ей-богу, русский!» – отвечал дядя мой, и казачий объезд наскакал на него, воображая, что поляки покушаются на ночную атаку.
Можете вообразить себе радость, когда увиделся он с земляками и со знакомыми! Отрядом командовал подполковник Тучков68. Великодушие полек спасло жизнь многим русским офицерам; любовь спасла артиллерийскую роту Тучкова. Одна шляхтянка любила страстно фейерверкера этой роты69, известила его об опасности, тот кинулся к начальнику. Тучков в ту же минуту ударил сбор и, присоединяя к себе рассеянные побоищем кучки, успел уйти из окрестностей Варшавы, беспрестанно сражаясь и беспрестанно отстреливаясь. Тут, господа, кончатся похождения моего дяди; случаи войны не принадлежат к нему, да и без них рассказ мой имеет в себе слишком много северной долготы.
– И дядюшка ваш так был поражен этим, что пошел в монастырь? – спросил сфинкс в зеленом сюртуке.
– В монастырь, – отвечал артиллерист, снова закуривая трубку, – только ровно тридцать лет спустя, когда он имел несчастие потерять имение и зубы.
– Но неужели он не был довольно любопытен, чтобы расспросить у человека с двухствольным ружьем или хоть у двуногой его собаки, почему он спасает его ни дай ни вынеси и так удачно, кстати? – спросил гвардейский капитан.
– Прошу извинить, капитан, – возразил артиллерист, – дядя мой не забыл этого, и добрый вожатый вкратце, но ясно разгадал ему все. Он был киевлянин, то есть полу поляк-полу русский, женился в Риге на немке из любви, не имея ни гроша за душой и ни пяди земли в подсолнечной. Но будучи лихим стрелком, он воспользовался слухами о привидениях в замке и поселился там с женою, охотясь в окрестности и продавая дичь в ближнем местечке. Боясь, чтобы смелость польских панов, которые съехались туда на совещание об истреблении русских, не была примером для других, он с женою согласился пугнуть их порядком: она набелилась, надела белое платье и, видя, что дядю моего хотят изрубить сонного, вбежала с ужасающим криком в залу, в самую минуту свалки. Паны разбежались от страха. Желая спасти его от преследований, которые не замедлили бы конечно, когда образумятся беглецы, она упросила мужа проводить его к русским, о приближении которых носились слухи. Прочее вы можете, господа, разгадать сами.
– Это слишком обыкновенная развязка, – сказал таинственный человек со вздохом.
– В другой раз я вас угощу такою страшною повестию, – отвечал артиллерист с ироническою усмешкой, – что не только ведьма станет творить молитву, сидя на трубе, по словам баллады70, но даже нерожденные младенцы перекрестятся во чреве матернем и все нянюшки вздрогнут спросонок,
– Теперь ваша очередь что-нибудь рассказать, – сказал драгунский капитан соседу своему, молодому гусарскому офицеру, который, завернув носик в меховой воротник ментика71, из лени или от слабости, во все это время не вымолвил ни слова и потому не обращал на себя внимания, – гусарская ташка72 – арсенал любовных писем и чудных или забавных выдумок и приключений.
– Не лучше ли идти спать? – возразил гусар. – Вам, наверное, во сне приснится более занимательного, чем вы можете услышать от меня.
Разумеется, возражения задождили отовсюду.
– Сон своим чередом, – говорили одни.
– Завтра ни мое, ни ваше, – толковали другие.
– Хоть лепту в казну общего удовольствия, – возглашали все хором.
Гусар сдался.
– Господа! – сказал он, – я расскажу вам случай, который имеет только два достоинства: во-первых, он не выдумка, во-вторых, он краток. Ему-то благодаря я принужден был приехать сюда лечиться. Прошу прослушать.
Три года тому назад полк наш переходил на новые квартиры в Гродненскую губернию. Это было в августе месяце, то есть в самую веселую пору для сельских жителей. Поляки везде встречали нас радушно, и каждая дневка наверно знаменовалась балом или обедом у которого-нибудь из панов окрестных. Всякий военный сознается, что нигде нельзя найти большего удовольствия, как в польском обществе. Гостеприимство мужчин, остроумие женщин, непринужденная веселость и эта светская образованность или по крайней мере товарищеские приемы во всех невольно вас очаровывают, и вы довольны с самыми малыми средствами. Прибавьте к этому тысячи развлечений: охоту, стрельбу, катанье, гулянье, танцы и любовь – стихию польских дам, – и вы не удивитесь, что русские воздыхают об этом крае, обетованном для юношей. Я сам не любил терять времени за картами или за трубкою, и каждый часок, на который мог урваться от службы, конечно, посвящен был прекрасному полу. Бывало, устав от похода, скачешь за несколько миль, чтобы рассидеть вечерок или отгрянуть мазурку с милою дамою, которую видишь в первый, а может быть, и в последний раз. Чуть завидя на балконе вьющиеся ленты, перья или платья – сейчас кивер зверски набекрень73, бурку наопашь и скачешь во весь опор к крыльцу, молодецки осаживаешь коня с лансады74, и прежде чем хвост ляжет на землю, я уже на третьей ступени. Входишь, бывало, котом – что когтей не слыхать, раскланиваешься, представляешь самого себя хозяевам, режешь по-польски, не краснея, – и пошла потеха! Гитара настраивается, фортепьяно звучит, – и вместо флейты аккомпанемент из нежных вздохов. В промежутках толкую с матерью о хозяйстве, рассказываю дочерям новый роман Вальтер Скотта, не забывая главы из собственного, хвалю и цитирую молодым людям польские напечатанные стихи и восхищаюсь с отцом славою Косцюшки75. Добрый старик со слезами патриотизма говорит об отчизне своей, ищет сабли, не может забыть Наполеонова гения, любезности французов и вкуса венгерского вина, от которого у него осталась в ногах подагра, а парижские союзники в погребе его оставили одни черепки. Но все веселы, все довольны, и время летит на крыльях забавы.
Однажды, подходя к одной мызе76, меня встретил наш эскадронный квартиргер77, по обыкновению на маленькой обывательской лошадке, так что издали казалось, будто у нее шесть ног.
«Знатная квартира, ваше благородие, – сказал он мне, снимая фуражку, – конюшня чище горницы, речка у ворот для водопою, и соломы в пояс».
«Есть ли паненки?»
«Целых три, ваше благородие».
«И хороши?»
«Что твой месяц, ваше благородие, кровь с молоком! Одна другой чище, одна другой дороднее, так что глаза разбегаются. Одна беда: они собираются ехать верст за десять к дядюшке на именины».
Признаться, вкус и похвалы квартиргера мне были весьма сомнительны, и, зашедши на минуту к хозяину, я уверился, что предчувствия мои не напрасны: три дюжие панны, разряженные в пух и перья, мне вовсе не понравились; в формах тела, как и в поэзии, я люблю что-то неопределенное, воздушное, и я очень охотно принял предложение ехать с ними в гости, поискать инде счастия. Переодевшись, я поскакал вслед за болтливою их линейкою, и через час мы были уже у пана Листвинского, доброго старосветского поляка, куда съехалось довольно соседей и соседок. Между последними я встретил одну даму, знакомую мне еще в Вильне, которая имела все потребные качества, чтобы свести с ума самого хладнокровного человека: каждая шутка ее была мила и колка, подобно розе, а взгляды – настоящий греческий огонь78. Подле нее за столом, преследуя ее в саду, безотвязен в танцах, я ничего не видел, кроме приманчивой знакомки своей, и не заметил, как минул день и вечер. Перед ужином, по моде, многие разъехались; по обычаю, многие остались ночевать. Меня все уговаривали последовать благому примеру, – а пуще всех сердце; но зная, что завтра достанется мне в дежурство, я не мог и не хотел согласиться. К виленской красавице каждые полчаса приходили с докладом, что сбираются тучи, что будет гроза, что крапает дождик… Я понимал, что это значит, – она упрашивала остаться, но я скрепил сердце и был непреклонен. Упрямство нравится женщинам, и эта выходка пригодилась бы мне вперед. Она уверяла меня, что я промокну, простужусь, могу заблудиться или попасть в реку; что лес, через который мне должно ехать, теперь небезопасен от беглых, ставших разбойниками. Я возражал, что простуда будет спасительна пылкому сердцу; что купанье в реке может излечить меня, как пучина Левкада79; что все разбойники в свете мне менее страшны, чем жестокая женщина; наконец, что долг службы и самое благоразумие требуют моего удаления, – а завтра, может быть, я буду не в состоянии оторваться от ног ее. Станется, в этих словах было немного и правды, но все шло за шутку; она смеялась, я был грустен и радостен в одно время, и наконец зловещая кукушка выпрыгнула с шумом из дверец стенных часов, прокуковала двенадцать и скрылась. Душа во мне замерла; я стал прощаться.
«Ветер ужасный, дождь идет ливмя», – сказали мне.
«И все-таки я еду!»
«Но темнота, но звери, но разбойники?»
«Русский ничего не боится! Коня!» – и с этим словом я уж был на крыльце. Все вышли провожать меня, упрекая в упрямстве; я отдал поклоны кому следовало, бросил значащий взор красавице моей – и ногу в стремя, и шпоры в бок, и через четверть часа уже был в дремучем лесу.
Я долго мыкался по белому свету, много странствовал в чужбине и в отечестве, но нигде, даже в самой Сибири, не видал таких густых лесов, как в Литве. Бывало, охотясь за дичью, зайдешь в такую чащу и глубь, куда от века не проникал солнечный луч, ни крыло ветра. Во многих местах растаявшие снега образуют глубокие болота и огромные деревья кажутся водяными растениями. В других сосны тлеют на корне, не имея простора упасть. Толстые пни лежат под мохом и травою, как трупы великанов, и мертвое молчание нарушается только стуком дятла по дуплистому дубу или гробовым карканьем ворона, которого тень налетает на вас и наводит невольный трепет. В таком точно лесу ехал я. Буря уже затихла; один мелкий дождь роптал, пробираясь по листьям, и звук подков, бьющих о корни елей, которые змеями перевивались через тропинку, далеко раздавался по бору. Мне казалось днем, что я хорошо заметил дорогу, но, судя по времени, давно бы уже следовало быть дома; ехал, ехал, а селения нет как нет! Передо мной едва светлела узкая тропа, а над головой низко склонялся свод неба, отягченный тучами. Наконец заметил я, что лес редеет, и скоро почувствовал, что конь мой бежит по траве, потом по вязкой почве, потом вовсе по болоту. Удивленный тем, я слез долой и уверился, что битая дорога потеряна. Куда идти? Позади чернел бор, впереди слышалось журчанье речки, и я побрел к ней по затопленному лугу, таща в поводу коня своего. Достигнув берега, мне показалось, на той стороне разбросана деревня; как теперь гляжу – заборы, кровли и трубы обрисовывались во мраке; в одном окне виднелся огонек, и под ним стоял патронный ящик – верный признак квартиры эскадронного командира. Мне чудилось даже, будто я различаю, как подле ящика расхаживает часовой, как возникает на ветре ночной переклик его «слушай!» – а потом сливается с безмолвием ночи.
Несколько раз кричал я часовому, но все было тихо. Прислушиваюсь: только паденье дождя, только шумок лопающихся в речке пузырьков и журчанье быстрины, пробивающейся сквозь рыболовную заколь80, отвечало мне. Воображая, что голос мой не достигает ни до часового, ни до селения, погруженного в мертвый сон, я решился переправиться через реку во что бы ни стало. Сон и усталость одолевали меня, и, кроме того, я был промочен с ног и с плеч. Так наша братия, дорожа подчас жизнию в случаях важнейших, где нередко выгоды и слава ожидают отважного, иногда готовы рисковать ею за один час успокоения, из одной нетерпеливости или прихоти. Речка была неширока, но глубока, и я решился перебресть ее по шаткому плетню заколи. Пудель мой переплыл первый и визгом звал на другую сторону; зато я насилу мог согнать в воду коня: он храпел, и упирался, и бился даже на плаву; между тем как я осторожно переступал по сучьям, беспрестанно изменяющим ноге, он уздой тащил меня то вперед, то в сторону. На самой середине, где вода кипела через плетень, обманутый тенью, я оступился и ухнул в воду выше колена. К счастию, другая нога удержала меня, я кое-как справился и, хватаясь за верхи кольев, торчащих из воды, добрался до другого берега, хоть мокр, но жив. Едва ступил я на суходол – создания мечты моей рассеялись: нет ни селения, ни зарядного ящика, ни часового; все дичь, и лес, и пустыня кругом; но огонек точно мелькал между ветвями и согрел во мне надежду найти какую-нибудь избушку для приюта.
Спешу туда, приближаюсь, – и что же? То была ветхая униатская часовня81 с деревянным крестом наверху, и из ее-то маленького окошечка едва лилось слабое сияние лампады.
Я привязал коня за угол и толкнул железом кованные двери; они растворились – и глазам моим представился гроб и в нем покойник, покрытый саваном.
Как ни был я чужд предрассудков, но такая нежданная встреча неприятно изумила меня. Сама природа вложила в нас таинственный ужас при виде разрушения себе подобных и нас самих ожидающего. Но так как в свете нет вещей, к которым не привыкло бы воображение, особенно подкрепленное неизбежностию, то, раздумав хорошенько, что ночевать под кровлею все-таки лучше, нежели мокнуть в грязи, что находка моя нисколько не чудесна, потому что и у нас, русских, и у литвинов-униатов выносят всегда покойников из деревень в церковь или в часовню, и, наконец, что мертвое тело есть не более как глыба земли и, конечно, не побеспокоит меня своим соседством, – я стоически бросил свою мокрую бурку в угол и улегся как мог, закрыв плечи сухим углом ее, и положил в голову пуделя, верного товарища в трудах и забавах. К удовольствию моему, почувствовал я, что небольшая печка, сложенная, вероятно, для разжигания углей в кадило, была топлена и разливала кругом приятную теплоту. Одно показалось мне странно – из нее пахло жарким, а покойники, сколько мне было известно, не ужинают! Но чтец и караульщик могли, поминая покойного, не забыть и свое человечество; так не мудрено ли, что вздумали наутро упитать наемную печаль свою куском баранины? В этих мыслях начал я засыпать… Воображение гуляло бог знает где; мысли путались и бледнели; как вдруг пудель мой заворчал, и очень сердито. Я взглянул вполглаза на гроб, и мне показалось, будто мертвец приподнимает голову; долго и пристально смотрел я, но теперь он был вновь неподвижен, и полотно, закрывавшее лицо его, лежало спокойно, не волнуясь даже от ветра. Лампада перед образом меркла и тускнела, почти погасла, – и мрак, обступая меня, стал проливать какой-то неведомый страх в сердце. Привидения всегда заводятся в темноте, как червячки в лимбургском сыре82; это испытал, я думаю, всякий, и человеческая храбрость в этом отношении едва ли не закатывается вместе с солнцем на другое полушарие. Иной молодец, насмехаясь над сказками и причудами, в полдень грозится поймать черта за хвост, если бы он дерзнул к нему явиться, а в полночь за версту обходит кладбище и сердце у него бьет тревогу от полета летучей мыши. Признаюсь откровенно, что необыкновенная охота покойника заглянуть мне в лицо, а может быть, и откусить мне голову, как маковку, сначала весьма меня встревожила. Вся эта сцена была точь-в-точь как в «Светлане» Жуковского, но я не видал вблизи голубка-хранителя, который мог бы защитить меня от зубов кровопийцы. Однако же мало-помалу уверенность возвратилась.
Что до мертвых, что до гроба?
Мертвых дом – земли утроба, –
сказал я самому себе и обернулся к стене. От прелестных стихов Жуковского, где месяц светит и мертвец едет, мысль моя на Астольфовом гиппогрифе83 залетела на луну, на которой, говорят, живут люди, которые пьют воздух и строят стены от ветра, как китайцы от просвещения. Отдохнув в этой «гостинице земли», как сказано в отчете о луне, с нее сквозь Гершелев телескоп84 и чрез Петербургскую обсерваторию спрыгнул я на материк подле биржи. Биржа напомнила мне свежие устрицы; от них перешел я к патриотическому желанию, чтобы у нас удабривали поля устричными раковинами, для экономии; потом вздумал о превосходстве многопольной методы; потом о капусте вообще и о свекловице в особенности; с этим связалась идея континентальной системы85; потом идея о скале св. Елены; потом о супе из костей графа Румфорда86, сваренном на дыму чужой трубы; потом о курении вина в деревянных чанах; потом о просвещении в России; далее о карманной паровой машине, хозяйственно приспособленной к действию зубочистки; далее, по странному сцеплению мыслей, о поездке на пароходе в Кронштадт87 с прелестною англичанкою; с него прыгнул я в Ост-Индию, взглянул на прядильные машины, которыми британцы тянут целый свет в свою нитку; потом подумал о коварной их политике, о сдаче Праги88, бомбардировании Копенгагена89, о греческом восстании, о лорде Байроне90, потом о скаковых лошадях, до которых все великие поэты были страстные охотники, – потом, господа, все это вместе могло бы составить заглавный листок «Телеграфа»91 и, верно, усыпило бы вас так же, как усыпило оно меня. Очень помню, что последний образ, с которым окунулся я в сонную Лету, был милая виленская дама, – и только.
Должно полагать, пестрая моя дума крепко и глубоко усыпила меня, потому что хотя я и не однажды слышал ворчанье и громкий лай собаки, лежащей у меня вместо подушки, но никак не мог открыть глаз. Наконец пудель с визгом выпрыгнул из-под головы моей, и я, испуганный, вскочил на ноги. Вообразите, какая картина была передо мною: мертвец злобного лица, со сверкающими очами и с ножом в руке, порывался ко мне, между тем как пудель грыз его, у хватя за горло. Кровь ручьем бежала по савану, и он с проклятиями и глухим стоном боли боролся с остервенившимся животным, а оно, хотя два раза было поражено ножом, не покидало своего противника. В то же самое время я увидел за печью бородатое лицо другого разбойника, который целил в меня из ружья; и еще двое, подняв доску подполья, готовились вылезать на помощь к товарищам… Еще миг – и было бы поздно! Раздумывать некогда, а защищаться нечем: я имел неосторожность в одном доломане92, без сабли, выехать из дому.
К счастию, в руке моей был плетеный хлыст с тяжелою бронзовой рукояткой, – и ею-то со всего размаху ударил я в голову одетого в саван злодея; он зашатался, упал, и я через него кинулся к двери. Выстрел и другой полетели вслед, но оба ударились в притолоку. Спрыгнул опрометью со схода – и к лошади… За повод – он затянут узлом; тороплюсь – и путаю крепче; рву – не рвется!! Убийцы за мной, – но отчаяние двоит мои силы, повод пополам, я перекидываюсь через седло, вскрикиваю – и борзый конь уносит меня как вихорь, куда ему хочется. Грязь брызжет, ветви хлещут в лицо, – лечу стремглав по берегу речки влево, на старый мост, который, гремя, качается под скоком, гнилое бревно хрупает – и конь мой со всех ног падает на скользкий помост. Больно ушибленный, силюсь я встать, слышу топот погони, конь бьется и скользит, – гибель неизбежная!
Удачная попытка подняла, однако ж, бегуна моего, и я снова помчался во весь опор. Разбойники между тем настигали меня, гаркая и угрожая.
«Не уйдешь от нас!» – кричали они.
«Бей его, режь!» – звенело в ушах моих.
Еще выстрел просвистал мимо, – но он подстрекнул моего коня; однако ж это усилие было лишь на несколько шагов. Погоня не переставала, а бегун мой хрипел, качаясь на скаку, как вдруг я увидел вблизи крестьянскую избу, и огонь в окнах ее, и будто мелькающие тени людей. С напряженным биением сердца, задыхаясь, с холодным потом на лице, направлял я к ней побег мой, – доскакал, бросил коня непривязанного и с криком: «Спасите, спасите!» – вбежал в двери.
Первое, что представилось мне, был гроб и тусклое сияние свечей в дыму ладана. Я невзвидел свету… Природа не выдержала более… Сердце мое закатилось – я без чувств рухнул на пол!!!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Я опамятовался уже на другой день, в доме пана Листвинского. Издыхающий пудель мой лежал подле кровати, пробитый ножом местах в пяти, и кровью своею заверял, что происшествие ночи не был сон горячки, меня палившей. Бедное верное животное с радостию лизало мою руку, и я тронут был до слез его преданностию и вдвое потом его смертию. К стыду людей, должен я сказать, что эта собака была моим лучшим другом: она своею жизнию искупила мою!
Взаимные объяснения не замедлили. Хозяин рассказал мне, что я упал в обморок в его деревне, в избе одного крестьянина, у которого накануне умерла мать, и по ней совершали тогда панихиду. Мой рассказ удивил его более. В ту же минуту, с пособием исправника, послан был обыск в роковую часовню, – но в ней не застали уже разбойников. Там нашли только лоскутья добычи, изломанное оружие и несомненные следы их пребывания. Вероятно, они избрали часовню своим притоном по уединенному ее положению, а вздумали играть комедию мертвеца, чтобы удалить любопытных и заманить на верную гибель отважных. Расшитый золотом доломан соблазнил их, и я, конечно, исчез бы с лица земли, ежели бы сторожкий пудель мой не был со мною.
Скоро минул для меня светлый час присутствия разума. Нервная горячка, следствие испуга и простуды, повергла меня на шесть недель в беспамятство. Я оправился на тот раз, но потрясение было жестоко; с той поры здоровье мое видимо стало склоняться к западу, и наконец доктора присоветовали мне для исцеления Кавказские воды. Здесь я в самом деле чувствую себя гораздо лучше, но половиною моего выздоровления, господа, я, конечно, обязан удовольствию знакомства с вами.
– Благодарим за честь приветствия и занимательность рассказа, – произнес гвардеец, благодаря гусара от лица всего собрания, – премилая повесть!
– Тем более что она с романтическою завязкою соединяет историческую достоверность, – прибавил драгунский капитан.
– А всего более потому, что она последняя, – возразил гусар, улыбаясь. – Господа, уже два часа ночи!
Стулья загремели, и все схватились за разбор шляп, калош и шинелей,
– Часы люди выдумали, – сказал таинственный человек, ожидая, что на скрепу заседания кто-нибудь расскажет повесть, в которой явился бы сам лукавый au nature[63]
– И мы не боги, – возразил артиллерист, – и потому должны жертвовать сну волей и неволей.
Видя, что все выходят, зеленый сфинкс поспешил последовать общему движению и забился в середину толпы, чтобы, в случае нападения горцев, быть в безопасности по крайней мере от выстрелов, – и для этого он избрал своим мантелетом93 рязанского толстяка. Дорогою успел он насказать о зверстве и дерзости чеченцев тьму ужасов: как два года тому назад они увезли отсюда двух дам с дочерьми, и еще очень недавно убили часового на редуте, и проч., и проч., и проч.
– Но что сталось с племянником полковника? – любопытно спрашивали многие друг друга. – Что заставило самого полковника, бледнея, покинуть залу?
– Я бы дал отрезать себе левое ухо, чтобы услышать первым окончание повести о венгерце, – сказал сфинкс.
– Может быть, господа, – сказал я, – ваш покорный слуга будет вам полезен в этом случае; полковник мне приятель, и если тут нет домашних тайн, он объяснит нам все. Утро вечера мудренее.
– Итак, до приятного свидания, милостивый государь! Доброго сна, господа! Покойной ночи, г<осподин> читатель!
Следствие вечера на кавказских водах
(отрывок)*
Может быть, господа, вы не забыли занимательного молодого человека, который своим чудным возвратом в залу гостиницы был причиной рассказов, мною описанных. Если же забыли, то ваше дело вспомнить, что он был племянник полковника, который, пригласив меня остановиться у себя, исчез вместе с ним из общества. Теперь я предлагаю отрывок из его журнала; как он попал в мои руки, будет объяснено в своем месте.
Между множеством особ, которых привлекало на воды желание здоровья или рассеяния, замечательнее всех был один венгерский дворянин, прозванием Коралли. Сходство вкусов, не глядя на различие возрастов, сблизило нас, и немудрено: в пестрой толпе сборного общества, которое слетелось на воды, как гуси и кулики разных стран на одно болото, почти он один мог понимать мои мысли, оценить, если не разделять, мои чувства. По опытности своей, он был уже вне обольщений света. Он скучал ими. По молодости, я еще не знал их. Стало быть, оба мы были свободны от причудливых требований наводного круга. Все другие утром заняты были сплетнями, вечером зевательными пирушками и посещениями, которых ждали, словно доктора, и рады были, как лихорадке.
Кони и собаки, свадьбы и похороны, связи и производства, о которых беспрестанно говорили, конечно, весьма почтенные вещи, но они не могли занимать меня после Саллюста1 и Гете, после Альфиери2 и Байрона, а всего более в виду стоглавого Кавказа. Здоровье мое было слабо, но душа крепка от изучения умов высоких, на лоне грозно-величавой природы. Как часто в уединенных прогулках наших по берегам Подкумка3 по целым часам читали мы то того, то другого автора! Сведения его в языках были неисчерпаемы; чувство красот пылко и верно, слух его не про-ронял ни одного сладостного звука; ум схватывал смысл, незаметный для других, в малейшей безделице. Порой он ценил, объяснял, плодил мысль автора, но порой, когда бывал тронут глубоко, тихие слезы катились по лицу его, книга скользила из рук, и мы долго безмолвствовали, проникнутые каким-то неизъяснимо полным ощущением высокого, изящного.
– Что сталось бы со мной, – говаривал он, – без чтения? Книги – друзья бескорыстные, друзья неизменные – вы одни утешали, укрепляли меня на терновом пути моей жизни! Одна смелая мысль, часто один звучный стих, одно счастливое выражение занимало, радовало меня целый день. Чужие беды давали мне бодрость сносить собственные. Славные примеры возбуждали душу быть им подобным. Радуясь, плача, негодуя с лицами, может быть, никогда не существовавшими, я забывал существенное горе. Дивлюсь, право, что на свете такое множество людей, которым чтение – работа египетская, которым лучший советник – бутылка и приятнейшее рассеяние – карты.
Ужель человек не может избегнуть от времени, не став бессмысленным животным или настоящим ребенком, играя в бирюльки, в бумажные лоскутки и в копеечки? Как жаль, что они не чувствуют выгод книги: это верный друг, это маяк в сомнении, это якорь в буре страстей! Сколько раз, пылая гневом, хватался я за книгу, и елей лился на бушующие волны души моей! Сколько раз, готовясь на дурное дело, садился я читать, чтобы скоротать ожидание, и час порока бил, миновал неслышим, и я вставал из-за книги не с мутным наслаждением удовлетворенного желания, но с чистой радостью собственной силы для победы над собой!
Он очень здраво судил и об изучении языков, называя их гранью слова, ума, воображения, под которою та же самая вещь представляется в тысяче различных видах. Напрасно думают, прибавлял он, схватить в переводе смысл подлинника: это все равно что отдавать редкую медаль за столько же золотников серебра; цена та же, но то же ли относительное достоинство металла? В каждом языке, в каждом авторе есть выражения непереводимые, и все объезды слога не выразят их вполне; и не в одной литературе, даже в философическом отношении, изучение языков полезно. для ума наблюдательного вся история народа, все развитие ума начертано в его языке, и часто простое слово, которое один человек употребляет в составлении речи, как наборщик свинцовую букву, дает ему новую идею, внушает счастливое сравнение, оправдывает историческую догадку.
Порядочное произношение при этом необходимо; иначе как будете ценить поэзию, не почувствуя стройности речи, звучности выражений? Те, которые недоучились или не научились этому, ломая бесчеловечно чужие стихи и зубря гладкую прозу, обыкновенно винят в том язык. Дался им итальянский камертон благозвучия, и зато уже не смей похвалить иного, между тем как всякий язык под пером искусного писателя может стать гармоническим и нежным. Учиться, говорил он, чему бы то ни было, особенно языкам, надо со страстью; только она может истребить все предрассудки, победить все препятствия, оценить, оплодотворить занятия.
Рассуждения его о людях всех времен были новы и глубоки. Он много почерпнул из книг, гораздо более из опыта. Живши в самую любопытную эпоху сражения старых порядков и обветшалых мнений с новыми идеями, с новыми образами, он был бесстрастным наблюдателем крайностей, беспристрастным судьей тех и других. Много путешествовал, он знал почти всех значительных людей своего времени, и это делало беседу его чрезвычайно занимательною. Искренность юноши рождает дружбу, искренность человека пожилого укрепляет ее: мы сдружились, мы стали неразлучными. Применившись к его характеру, я заметил, что его снедал не телесный недуг, но какая-то грусть душевная. Он был с небольшим за сорок, а уже ранняя седина посеребрила его волосы, глубокие морщины проглядывали на челе. Всякий раз, как речь заводил я о счастье семейном, о любви сыновней, глаза его наполнялись слезами… он отворачивался и умолкал. Я не дерзал нескромными вопросами растравлять ран сердечных, но участие бывало написано на лице моем, и верно оно вызывало доверие.
– Юный друг мой, – сказал он однажды, – я объясню тебе причину моей тоски, послушай: я сын магната; молодость моя протекла в роскоши и рассеянности; я объехал всю Европу, бросая деньги и время на ветер; черпал наслаждения горстями, но душа моя, как бочка Данаид4, была ненаполнима. Удачи не утоляли, но воспаляли жажду исканий; неудачи не исправляли меня: я хотел все знать, все испытать, все изведать. Как с изношенного праздничного платья, одна по одной, в тесноте опадают блестки, так облетали они с моего идеала. Искренностью моею нажил неприятелей, золото свое променял на мишурную любовь. Двадцать раз расточительность и запальчивость моя вводила меня в крайности, в беды, в искушения. Чудные случаи спасали меня; я выходил или убегал из темниц. Природа побеждала не только раны и болезни, но и сами лекарства. Полунагой, расплачивался я с заимодавцами и снова запевал прежнюю песню, но из этого извлек я одну выгоду: это познание людей и света. Из одной крайности бросился я в другую. Сперва считал людей лучше, нежели они могли быть, потом стал думать о них хуже, чем они есть. Я был их игрушкой, а потом сам начал играть ими. Обманутый тысячу раз в самых благороднейших чувствах, предан в самых полезных намерениях, я сказал сам себе: станем же отделываться словами и обещаниями – это дешевле и безопаснее. Я нес навстречу красоте сердце, готовое любить бескорыстно, пламенно, готовое жертвовать всем на свете любви, и что же было мне ответом? Тщеславие, прихоти, измены! Боготворив женщин, я стал презирать их, я обратил в жертву моих идолов. Так провел я три года в свете, которым скучал, с людьми, которым не верил, с женщинами, которых не уважал. Одно чтение, одна жажда познаний сдерживали меня на столбовом пути светской безнравственности, но рассудок спал, страсти еще кипели, и привычка брала свое. Я тем злее чувствовал пустоту сердца, что мог ценить ничтожность своей жизни, что не имел перед самим собой извинения, будто делаю худо по незнанию, по неопытности. В это время я возвратился в Пресбург оплакивать смерть отца, которого не утешал при жизни. Имение мое было велико, но расстроено, мои долги необъятны… не имея терпения поправить доходы бережливостью, ни умения умножить их порядком, я, как вся молодежь в целом свете, кинулся в расточительность очертя голову. Доломан мой блистал алмазными пуговицами, конь был облит золотом, жемчужные кисти висели на моих гайдуках. На всех балах, на всех гуляниях гремело имя Коралли, и там, где бренчали шпоры мои, расступались рубаки, и за ними любезники уступали мне место. Не могши успокоить души, я хотел закружить ее, обуять себя вихрем рассеянности и в усталости вкусить усыпление нравственное.
Однажды я верхом выехал посмотреть на учение гренадерского полка Гогенлое.
Между зрителями было множество дам в экипажах… Все любовались стройными движениями пехоты, и множество молодых венгерцев, по обычаю нашему в разноцветных, расшитых доломанах и ментиках5, в собольих шапках, рисовались между каретами, любезничая с красавицами; я, напротив, неся за собой повсюду скуку, тихо проезжал вдоль рядов потупя голову. Я исторжен был из моей задумчивости батальным огнем, открытым пехотою, и в то же время сзади меня раздался вопль и крики: «Спасите, удержите!» Испуганные пальбой лошади одной коляски, закусив удила, начали бить, стоптали кучера, понесли ее вкруг плаца, ломая и топча все встречное… Несколько человек кинулись вслед за коляской, в которой сидели две женщины; но, опасаясь сломить голову или не умея взяться за дело, бесполезно толкались, когда я, вонзив шпоры в бок своему арабу, как вихрь понесся наперерез бешеной четверке: уже одно колесо было разбито вдребезги, кузов трещал, сокрушаясь, и кони, разметав по ветру гривы, несли прямо к крутому берегу Дуная, когда я со всего наскоку врезался в середину их. Конь мой хотел перепрянуть, но, пробитый в грудь дышлом, грянулся о землю; он стоптан копытами, раздавлен передком; но удар был так силен, что одна из коренных пала, и вся четверка, запутавшись в уносах, оборвав ремни, фыркая и топчась на месте, стала, будто гром упал у ней перед ногами. Я был выброшен из седла с первой встречи, но так счастливо, что сей же час вскочил на ноги. Кидаюсь к коляске, и в то же мгновение одна из дам, бледная как снег, с криком падает ко мне на руки.
Бесчувственную, я принес ее в ближайший дом, руки ее замерли, обвившись около моей шеи, и почти целый час не могли развести их, не могли возвратить ей памяти, и мне должно было все это время держать ее в объятьях. Правду сказать, эта обязанность была мне вовсе не тяжела. Незнакомка была прелестна как ангел; чем более глядел я на нее, тем сильнее билось сердце. Светло-русые локоны, отброшенные назад в беспорядке, сыпались с высокого чела ее на алебастровую шею, на грудь, не движимую дыханием… С неизъяснимым чувством, тяжким подобно тоске, сладостным как восторг, ждал я ее пробуждения; из этих бледных уст, казалось, должен был вырваться приговор моей судьбы, из-под этих ресниц – взор, который бы осудил меня на муку или погрузил в блаженство… Наконец я услышал под рукой моею тихое биение сердца красавицы; руки ее скользнули с плеч моих, она открыла глаза!..
Не умею высказать, какой нектарный пламень облил меня, когда глаза наши встретились, и вслед за этим я обомлел, как будто она ожила моею душой, поглотила мое существование. Я ничего не слышал, я видел только ее. Она с изумлением смотрела на меня, осматриваясь кругом, припоминая, что с нею сталось, и вдруг она вспрянула с криком: «Матушка, матушка!» – и упала в объятия к матери, которая и сама едва лишь тогда приходила в себя после долгого обморока.
В это время вошел в комнату высокий мужчина пожилых лет, но разодетый щеголем; он развязно поклонился хозяевам и с усмешкой подошел к незнакомкам; поцеловал руку у старшей, поцеловал в голову молодую.
«Вы потерпели кораблекрушение, – сказал он по-французски, – очень рад, что оно кончилось одним страхом; меня встретила по дороге тысяча вестей о вашем приключении, и я насилу отыскал, куда вы скрылись. Судя по описанию, я вам, должно быть, обязан избавлением жены и дочери, – примолвил он, обратясь ко мне. – Примите, милостивый государь, благодарение и удостойте знакомства: я русский дворянин Георгий Градов».
Он протянул ко мне руку. Я готов был кинуться на шею отца красавицы, но этот неискренний тон светской учтивости, эта хладнокровная встреча оледенили меня. Я отвечал ему невнятными приветствиями; но зато ласковость матери, но зато взор дочери сторицей наградили меня за бесчувственность отца.
Почтенная дама посадила меня подле себя и со слезами благодарила за свое спасение, за спасение ее Верочки и между тем с нежностью перебирала кудрями дочери, которая, склонив голову на руку, с нежностью ее целовала. Я не знал, что со мною сталось, я не понимал сам себя. Никогда в самых первинках любви не был я так робок, так смущен и вместе так доволен, так счастлив. Доселе вольный с женщинами до дерзости, шутливый как нельзя более и всегда ненавистник сладких вздыхателей, я не смел смотреть на Веру; слова становились у меня в горле, как рыбьи кости, и румянец на лице и вздохи на устах вспыхивали при каждом к ней приближении. Между тем отец Веры, любезничая с хозяйкой, шутил, смеялся, как будто все это происшествие, в котором жизнь его дочери висела на волоске, значит не более как выигранная карта на пе6, которая могла проиграть застольную ставку. Лицо его было весьма правильное, даже приятное; но что-то насмешливое в устах, что-то ледяное в глазах обличало человека себялюбивого, расчетливого и отталкивало всякую короткость.
– Я проехал мимо моей изломанной коляски, – сказал он, играя цепочкою часов, – и видел вашего павшего коня, он был прекрасное животное. Какая голова, какая стать! Жаль, очень жаль!.. Это чистая арабская кровь!
Я негодовал на его хладнокровие; мы раскланялись с намерением не продолжать нашего знакомства. Но учтивость требовала, но сердце звало, но новая страсть непреодолимо влекла меня в дом Градова, и я стал ездить к ним часто.
Я искал случаев, где бы их встретить, и, разумеется, встречал везде. Мало-помалу в очах милой Веры стал отражаться пламень очей моих, грудь ее – волноваться от моих вздохов. Не знаю, что-то чистое, что-то светлое возникло во мне, обновляло, молодило, перерождало меня в присутствии этого младенчески невинного существа. Казалось, около Веры проведен был огненный круг очарования; я чувствовал, что все остатки, все выгарки прежних страстей моих сплавлялись, очищались, превращались во что-то новое, блистающее, прозрачное, крепкое, как алмаз.
Алмаз! а разве он не сгорает? но зачем в рассказе упреждать время, которое мольбой желал бы удалить из действительности и памяти? Я стал любим, и сколько чувств, сколько восторгов, сколько страданий заключено было в этих немых звуках: целый мир новых мечтаний, новых происшествий развился передо мною. Казалось, я оставил за собой дряхлые части света, и с Колумбом нашел девственную землю7. Океан протек между настоящим и минувшим. Все в ней поражало меня новостью, пленяло прелестью неизъяснимою. Самый воздух, которым дышал с нею, был сладостнее. Быть, только быть с Верой было уже мне высочайшим счастьем.
Вообразите, что за блаженство было говорить с ней, говорить ей о взаимной любви, развивать небо надежд, тонуть в мире наслаждений и забывать в одном поцелуе настоящее, будущее, самих себя и всех! Любовь есть сильнейший действователь природы в пользу усовершения.
Посмотрите, как заботливо влюбленная женщина старается украсить свою память, если не ум, чтобы понравиться достойному человеку! Как жадно ищет юноша случаев привлечь внимание любимой особы каким-нибудь блистательным действием, благородным поступком и нередко бросается в неистовые глупости, выказывая смелость или преданность!.. Порочный пригнетает на время свою природу и кажется благонравным; каждый старается сбросить или скрыть свои недостатки… Можно сказать, любовь похожа на Ринальдово зеркало. Оно обличает наши пятна, и если мы хоть на миг чуждаемся собственных недостатков, это уже есть невольная дань добродетели; следственно, сама любовь есть добродетель, потому что всего сильнее и всего скорее заставляет ее чувствовать, уважать ее, выражать на деле8.
Но если многих, не исключая меня самого, любовь заставила казаться, если не быть, лучшим, моя Вера не имела в этом нужды. Душа ее была чиста и прозрачна, как гладкая поверхность, по которой не может всползти ни одно насекомое. Луч любви оживил только эту призму своими цветами и начертал около нее радужный круг неизъяснимой прелести. Рожденная в том веке, когда всеобщее нетление нравов коснулось русского дворянства, она подобна была цветам, которые в первую эпоху роста развиваются, храня свежесть свою росой небесною, занимая зелень от солнца, и как любила она, о, как она любила!! Бывает, что и светские женщины «умеют любить»9; но это искусство, а не чувство, это ум, а не душа; в ней, напротив, было все природа, и природа чистая, светлая. Как противоположна была ее тихая, самозабывающаяся любовь с моею прихотливою, бурною, полною эгоизма страстью! Она трепетала как листок от моих порывов, она таяла как снег, сквозь который проникает лава. Но чем всегда кончалось это боренье? Я, я, неукротимый и неверующий, падал в прах перед святой силой умоляющего взгляда и слезой укора, этих двух неодолимых оружий невинности!
Прости, что я на старости лет так болтливо вспоминаю об единственной любви моей! Другие связи с тех пор я не величал и не дразнил этим именем. Сердце мое только в воспоминаниях о Вере оживает снова весною, от теплоты ее оно испаряется мечтами, как вода туманами.
Мать Веры была добрая женщина, но, правду сказать, не выше предрассудков своего века и звания; зато она искупала их безграничной привязанностью к дочери, привязанностью, которая, впрочем, упала бы до слепого баловства, если бы дочь ее могла избаловаться. Угождать своей Верушке, предупреждать все ее желания, рядить ее, учить ее, любоваться и восхищаться каждым ее шагом, каждым словом было ее занятием, отрадой и наградой. Она бы весь век готова была продержать дочку у себя на коленях! Вера отвечала ей самой покорной, самой нежной любовью… Отец Веры был олицетворенная противоположность жене своей. Он был один из тех бездушников, которыми 18 век населил высшее общество10. Более гордый своим родством, чем предками, заносчивый расточитель своего добра и раб перед чужим богатством, готовый все предать и продать для наслаждений или выгоды, недоступный настоящего честолюбия, но тщеславный в игрушках до ребячества, он не задумывался обобрать в картах друга для того, чтоб полчаса спустя бросить копейку бедняку перед толпой; человек, у которого ничего не было заветного для других, ничего священного для себя; человек, который боялся более пятна на платье, чем на совести, но гибкий, уклончивый.
Я открыл свои намерения матери Веры; добрая женщина плакала от радости: она так любила нас обоих! Когда же объявил о том отцу ее…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Прощание с Каспием*
Я быстро скакал по берегу, я предался воле бешеного моего скакуна. Прочь с дороги, прочь!.. Брызжут искры, пыль кипит по следу, ветер уносит окрестность! Сладко, легко сердцу лететь с быстротой мысли; отрадно убегать от пространства и времени. О, есть, есть упоение в быстроте, есть поэзия в скачке, когда свет бежит мимо очей и дух занимается будто в восторге любви! Скорость есть сила, механическая сила всех веков и особенно нравственная сила нашего. Скорость есть уже сила, говорю я, а быть сильным обворожительно! Вперед же, вперед, конь мой!.. А, ты закусил брошенные удила, ты несешь, ты пытаешь сбить меня! Бей, неси! Я найду зверя лютее тебя для твоего укрощения…
И я направил разъяренного карабахца прямо в прибой Каспийского моря.
Видали ль вы, когда молния падает в волны? Один миг – и конь мой стал среди валов, изумленный их ревом и плеском. Как дикие степные кони, разметав гриву на ветер, стадами рыскали, прядали они кругом, набегали, отбегали вдаль; и он строптиво, недоверчиво поводил своими раскаленными и черными, как уголь, глазами, вздувал дымные ноздри, обнюхивал незнакомых ему товарищей, и, каждый раз, когда всплески расшибались в пену о грудь его, он злобно отряхал брызги с ушей, бил копытом песок и, оскалив зубы, готовился грызнуть неуловимых зачинщиков. Я трепал его по крутой шее, и наконец он смирно стоял, лишь повременно вздрагивая от набега всплесков.
Буйный северный ветер гнал волны свистящими крылами своими на берег, как гонит орел лебединое стадо. Серо было небо; лучи солнца рассыпались веером сквозь летучие струи облаков и порой зажигали бисерною радугою брызги над валами. Я склонил навстречу этому приветному дождю лицо свое, я полной грудью вдыхал ветер родины, – и мне чудились в гармонических переливах его говор родных, давно разлученных со мною, голоса друзей, давно погибших для сердца, пение соловьев над Волховом, звон столичного колокола! Мне казалось, он напоен дыханием милой, свежестью снегов, ароматом цветов туманной отчизны моей, он веял, пахал на меня поминками юности, и на клич сердца отозвались все любимые мечты былого: они слетелись как ласточки, засверкали как звезды, брызнули из земли как цветы. Вы ли это, яркие чувства, блестящие грезы наяву, огнистые частицы моего бытия, божественные отрывки времени, которые обнял я на миг и потерял навечно? Вы ли?.. Я жадно желал вас, я долго ждал вас…
Все исчезло! Только ветер шумит, только бушует море.
Что ж воспоминание, как не ветер, веющий из минувшего, играющий волнами воображенья! Счастлив, кто поймал на лету хоть один миг этого живого воспоминания, будто воскресшую ласточку после оцепенения зимы.
Праздником моему сердцу было такое самозабвение: то было отрадное чувство, перевитое с горестною мыслию. Последний раз перед разлукой любовался я Каспием: завтра я должен сказать ему последнее прости!
Негостеприимное, пустынное, печальное море! я, однако ж, с грустью покидаю тебя. Ты было верным товарищем моих дум, неизменным наперсником чувств моих. В твои горькие воды лились горькие слезы мои; в твоих кипучих волнах охлаждал я пылкое сердце; к тебе уходил от людей, бежал от самого себя. Шум твоих непогод заглушал, безмолвил мои душевные бури; голос человека сникал перед величественным глаголом природы, вечно однозвучным и всегда разнообразным наречием, знакомым и непонятным, вместе.
Нет, порой я понимал тебя, море! Душа разговаривала с тобой, погруженная в какую-то магнетическую дрему. Не только отголосок, но и ответ пробуждался в ней на зов твой. Ты шептало мне про свои заветные предания; я проницал в твои заповедные тайники; я разгадывал чудеса твоих бездн, бегло читал твои дивные руны1, которые пишешь ты зыбью на песке взморья, прибоем на груди скал. Лестная, напрасная мечта! С прежней загадкою уходил я с берегов твоих. Многим и часто раскрываешь ты лоно свое, но как могилу, не как книгу. Подобно небу, ты замкнуто для опыта; подобно ему, ты доступно лишь мысли, беспрестанно изменчивой и так нередко обманчивой. Еще-таки человек вооруженным взором проник до Млечного Пути и буравом пронзил глубоко оболочку земную; но чей глаз, чей лот досягнул до дна твоих хлябей?2 Кто до сих пор срывал твое влажное покрывало? Бедный человек! ты осужден собирать раковинки на берегах океана и напрасно расточать свою премудрость, разгадывая кусочки морской смолы[64] или зерна жемчуга[65]. Неизмеримый вечный сфинкс пожирает тебя, как скоро ты дерзнешь покататься на его хребте и не сумеешь понять его языка, разгадать его загадок. Везде, всегда любил я море. Я любил и люблю его тиши, когда бездна, сомкнувшись зеркалом, молчит, словно полная какою-то божественною думою; и дном ее – лежат небеса, и звезды плавают в ее влаге. Люблю я зыбь его дыхания и бой жизни в вечно юном, лазуревом его лоне, все обновляющем, все очищающем. Люблю его туманы, которые посылает оно жаждущей земле через небо, где морские воды теряют горечь свою. Но больше всего, страстнее всего люблю я бури и грозы на море. Люблю их в час дня, когда солнце пробивает лучом черные тучи и огненным каскадом обливает купы валов, рыщущих во влажной степи; другие с боя теснятся в светозарный круг, загораются, воют от ужаса и стремглав окунаются вглубь, чтоб затушить пламенеющие кудри; другие перегоняются с касатками, чудовищами, которые с безобразием моржа соединяют быстроту ласточки[66]. Иные бросают снопы радуг в грудь смелого корабля, презирающего все стихии, и землю, от которой отторгся, и воздух, который рассекает, и воду, которую топчет он. Гордо бросается он в битву с валами, режет, расшибает, мнет их, так что кажется, будто великаны зыбей, набегая на него с угрозою, ниспадают с блестящею улыбкой, рассыпаются врозь как прах, летящий с колеса!
Люблю их и в час ночи, когда бледный месяц подымает из-за туч свой череп, как мертвец из могилы, и неслышно идет по небу, влача за собой через море белый саван. Тогда валы возникают, как тени оссиановских героев, в вороненой броне, с белыми кудрями по плечам, со – звездами брызгов над шлемом. Яростно бегут они в бой, гонят, достигают друг друга; сшибаются, сверкают сталью и падают в ночь, раздавленные другими ратниками, их настигшими! А там, вдали, грозно гуляют исполины смерти, надев тучу вместо шлема и пеня в молоко бездну моря стопами: еще шаг – и он задавит корабль!.. Но перун грянул4, ад и небо дрогнули отголосками; смотрите! – исполин пал, застреленный молниею.
Люблю видеть бессильный гнев твой, море, на каменные берега, не пускающие тебя залить землю. Ты крутишься и шипишь тогда, как змей, уязвляя пяту скал. Ты прядаешь на них и грызешь их, как тигр, с ревом и воем. Как хитрый человек, подрываешься ты под их основы, точишь, пилишь, растравляешь раны, нанесенные временем; неутомимо разишь своими влажными перунами. Ты хочешь поглотить, затопить по-прежнему землю, когда-то в тебе зачатую и потом не раз тобой покрытую. Прочь, второй Сатурн! Тебе не пожрать своего дитя!5 Ты дал ему лишь тело, но Бог вдохнул в него душу – человека. Ей ли, ему ли быть жертвою стихий?..
Да! я видел не одно море и полюбил все, которые видел; но тебя Каспий, но тебя – более других: ты был моим единственным другом в несчастье; ты хранил и тело и дух мой от нетления. Как обломок кораблекрушения, выброшен был я бурею на пустынный берег природы, и, одинок, я нелестно узнал ее и научился бескорыстно наслаждаться ею. Я не ждал жатвы полей или добычи леса; я не вымучивал у моря ни рыб, ни драгоценностей; я не искал в нем средств жизни или светских прихотей; я просил у него советов для разумения жизни, для обуздания прихотей. Не овладеть стихиями, а сродниться с ними жаждал я; и сладостен был брак сердца – сына земли, с мыслию – дочерью неба… Здесь человек не заслонял от меня природы; толпа не мешала мне сливаться со вселенною. Она ясно отражалась на душе моей, я сладостно терялся в ее неизмеримом кругу; границы между я и она исчезали. Самозабвение сплавляло в одно безмятежное, тихое, святое наслаждение частную и общую жизнь, распускало каплю времени в океане вечности.
Но, кроме того, меня влекло к тебе сходство твоей судьбы с моею судьбою. Ниже других и горче других твои воды[67]. Заключено в песчаную тюрьму диких берегов, ты, одинокое, стонешь, не сливая волн твоих ни с кем. Ты не ведаешь ни прилива, ни отлива и даже в порыве гнева не можешь перебросить буруна своего на черту, указанную тебе перстом довечным. И кто знает, как поглощаешь ты столько огромных рек, падающих в жерло твое, столь мало отдавая дани воздуху? И кто разгадал твои огнедышащие подводные волканы, рядом с волканами, извергающими грязь?[68] Кто скажет нам, сколько народов, потерявших имя, протекло по забережьям и по волнам твоим? сколько безыменных жертв пожрано твоей пучиной? На тебе нет следу первых, нет крови вторых: только где-где обломки, изверженные на берег, знаменуют, сколько драгоценного похоронено в твоей глубине.
Не лета, а бури бросают морщины на чело твое, бури – страсти небес. Страшен, мутен, шумен бываешь ты тогда; зато порой, прозрачный и тихий, ты даешь лучам солнечным и взорам человека купаться в своем лоне и засыпаешь, играя раковинками приморья, как младенец, напевая лепетом сам себе колыбельную песню!
Да, Каспий! во мне есть много стихий твоих, в тебе – много моего, много, кроме воли и познания вещей. Ты не можешь быть иначе как есть, – а я мог!.. Скажу вместе с Байроном: «Терны, мною пожатые, взлелеяны собственною рукою: они грызут меня, кровь брызжет. Пускай! Разве не знал я, каковы плоды должны созреть от подобного семени!»[69]6
Величествен венец из лучей, пленителен из ветвей лавра иль дуба, мил из благовонных цветов; но чем же не венок из тернов?..
Прощай, Каспий, – еще раз прощай! Я желал видеть тебя, я увидал нехотя. Неохотно расстаюсь я с тобою, но свидеться опять не хочу… Разве ты постелешь волны свои широким путем на родину!
Я последний раз взглянул на грозную, прекрасную картину бурного моря. Валы широкими грядами катились к берегу, вздымали головы, загибали всплески и, кипя, распрыскивались в пену о плиты и башни сбитой ими стены[70]: взбегали на песок и потом далеко обнажали его.
Какой-то туманный дождь сорванных вихрем верхушек клубил над поверхностию моря, – а оно, яркий хамелеон, зеленело, синело, белелось, сверкало и меркло мгновенно…
Когда я, скрепив сердце, поворотил коня, мне показалось, будто море и ветер слили свою гармонию в жалобу, будто волны, как маленькие братья, прядали, просились ко мне на седло. Я дал повода, и обрадованный конь одним прыжком вынес меня на сушу…
Когда я въехал в город, щеки мои были влажны, – но не от брызгов моря.
Мулла-Нур*
О вахта эды-ки, Гиндустан падишахи эглешиб, меджилисында аали зияфат варады; нече шахза-деляр, нече пегливанляр, нече везириляр, нече улемаляр, дести раст дести растдан, дести чап дести чапдап, эглешиб, мешкулядыляр.
В ту пору случилось индийскому царю сидеть в беседе, было у него пированье, великий пир. Сколько (там) царевичей, сколько богатырей, сколько визирей, сколько улемов1, от правой руки к левой, от левой руки к правой, усевшись, промеж собой перемолвливали!
I
Чахдаши, чакмахдаши, Аллах версын ягыши!
Кремешки и камешки, дай Бог вам дождя умыться!
Грустно раздается намаз, будто поминка по ясном дне, отлетевшем в вечность.
– Жарко, душно в Дербенте! Взойди-ка на кровлю, Касим; посмотри, как падает за горы солнышко: не краснеет ли запад, не сбираются ли тучи на небе?
– Нет, ами (дядя)! Запад голубее глаз моей сестрицы. Солнце упало ярко, словно «золотой цвет» на ее груди[72]. Ни один взор его не гаснет в тумане.
Ночь распахнула звездистый веер свой. Темно.
– Взойди-ка на кровлю, Касим. Присмотрись, не канет ли капель росы с молодого рога май-месяца, не прячется ли он в ночную радугу, как жемчужина в перламутровую раковину.
– Нет, ами: в чистой синеве плывет месяц; не слезы, а стрелы сыплет он на море! Кровли сухи, как степь Мугана3; по ним весело бегают скорпионы: вещуют зной и на завтра!
– Беда без дождя! – говорит старик дядя, засыпая; а город уже спит. Только переклик часовых обвивает дряхлые стены звеньями звука, да море мерною зыбью ходит по берегу… Вы бы сказали – это души покойников беседуют с вечностью: так все кругом сходно с кладбищем!
Край моря сквозит пожаром. Ласточки опередили своим приветным щебетаньем клич муллы над мечетью; но и мулла не поздняя птичка; он уж поет, ходя вокруг купола[73], склонив голову на ладонь: «Проснитесь, правоверные! Встаньте: молитва лучше сна».
– Взбеги на кровлю, Касим; погляди, не катится ли туман с гор Лезгистана. Не чернеет ли море, не скачет ли белогривый прибой через камни?
– Нет, ами! Горы облиты Божьей позолотой; море сверкает будто зеркало. Флаг на крепости Нарын-кале обнял древко, как обнимает чадра стан красавицы. Ни одна волна не рассыплется жемчугом на берег; ни малейший ветерок не завьет в кудри пыль по дороге. Смирно все на море, тихо все на земле, ясно на небе!
Старик дядя закручинился. Совершив омовенье, он вышел для молитвы на плоскую кровлю. Разостлал ковер по мягкому кыру[74], стал на колени и, кончив молитву из памяти, горячо молился еще из сердца:
– Бисмилла, эль-рагман, эль-раагим! – произнес он, обводя печальным взором окрестность. – Во имя Бога, всещедрого и всеблагого, будет слово мое. Облака вешние, дети нашего моря! Зачем вы стадитесь по хребтам и прячетесь в ущелья? Или вы, как разбойники лезгины, любите рыскать по утесам и дремать на острие вершин? Зачем же вы, забрав с наших лугов в добычу всю влажность, расточаете ее безумно на голые камни; распрыскиваете свой жемчуг на кудри лесов, недоступных человеку, и поите до бешенства горные потоки, которые врываются в наши долины для того, чтоб унести или залить берега или засыпать их осколками, будто обглоданными костями своих жертв. Дети неблагодарные! посмотрите, как мать ваша, земля раскрыла тысячи уст своих… она сгорает от жажды, она просит напиться! Посмотрите, как меньшие братья ваши, колоски, дрожат, бедняжки, без ветра, ломаются под кузнечиком, вытягивают головки, – думают высосать из воздуха влагу, а встречают луч, который подсекает их словно раскаленною косою. Засуха выпила водоводы – в них перепел вьет гнездо, а паутина заплела все бороздки. Жаркий ветер безвременно и насильно отнял у цветов благоухание и разбросал по степи листья. Дерева блекнут, трава горит, марена чахнет4. Буйволы бодают друг друга за лужу; голодные кони роют копытом нагую землю; мальчики дерутся у фонтана за оскудевшую струю… Первиядер (Всевышний), что будет с нами! Засуха – мать голода, а голод – отец болезней, брат разбоев! Ветер горный, ветер свежий! принеси нам на крыльях своих благодать Божию! Облака, – сосцы жизни! пролейте небесное молоко на землю. Разразитесь грозой – но смойте с лица земли загар, свейте укор в бесплодии. Бросьте стрелы свои на грешных, но обрадуйте невинных… ведь не все грешники на свете, и в лоне вашем не одни молнии: есть и дождь освежающий; есть не только страх, но и надежда! Сизые тучи, крылья ангелов! повейте нам прохладой, отряхните с себя росу! О, летите же, спешите!.. Милости просим.
Нейдут тучи, не слушают приглашений. Жарко, душно в Дербенте. Засуха томит окрестность.
И это было в мае месяце, в ту пору, когда ладожский лед грозит петербургским мостам по три раза на день, затирает в своих холодных объятиях пестренькие ялботы и навевает на столичную атмосферу прохладу и насморки; в ту пору, когда красавицы большого света выходят толпами на Невский проспект пользоваться свежею пылью, округляя прелестные формы своих капотов ватою, без всякого нарекания, в ту пору, когда Северная Пальмира не знает еще других цветов, кроме распускающихся под творческою рукою Лапиной5, других благоуханий, кроме высиженных в баночке, – одним словом, в ту прекрасную пору, когда тающая белая зима уступает свое место зеленой зиме; когда северный зефир, питомец Лапландии, еще переносит румянец щек на кончик носа и камелек, это русское солнце, отогревает любезность, дрожащую от прогулки, или остроумие, съеженное разводом. Да, в Дербенте уже заботились о жатве, когда в Петербурге еще толкуют о дороговизне дров.
Вот уже пять недель не кануло капли дождя на поля южного Дагестана, а засуха есть величайшее из бед в жарком климате, особенно если она падет весеннею порою. Она лишает тогда все дышащее настоящего и будущего пропитания, пожигая пажити и жатвы. В краю, где перевоз хлеба из других областей или очень затруднителен, или вовсе невозможен, голод есть неминуемый наследник неурожая. Азиатец искони живет день до вечера, не вспоминая, что было третьего дня, не заботясь, что случится послезавтра; живет именно спустя рукава, потому что лень и беспечность – его лучшие наслаждения. Но когда бедствие, которое он полагал за тридесять невозможностей от себя, вдруг расступается под его ногами, когда завтра становится сегодня, он пробуждается опрометью, начинает плакаться, что нет средств, или роптать, что не дают ему средств, вместо того чтобы искать их. Шумит, когда надобно действовать, и увеличивает опасность испугом в той же мере, как он уменьшал ее неверием. Можете же теперь вообразить, каково было уныние в Дербенте, когда ранние жары своим палящим дыханием стали пепелить надежды купца и земледельца, а почти все жители Дербента, вместе земледельцы и купцы, распахивают свои участки наполовину под пшеницу, наполовину под марену.
Да и правду сказать, им на этот раз было много законных причин к страху. Окрестные дагестанцы, со времени Кази-муллы6, были достойно казнены голодом за мятеж свой. В пору посева они сеяли пули; в пору жатвы пожали месть: конь и огонь опустошили их нивы; или ветер осени развеял неснятые хлеба, оттого что горцы бегали за знаменами изувера или прятались от русских в глубине пещер. Тогда лишь коса смерти гуляла в поле.
Следствия угадать было нетрудно. На другое лето озими были съедены не в зерне, а в колосе. Все, что пощадила война, как-то: медная посуда, дорогое оружие, хорошие ковры, продавалось на городских базарах за бесцен, для купли необыкновенно вздорожавшей муки. У кого и этого не было, доедали стада свои, ушедшие от зубов друзей и неприятелей. Наконец толпами стали сходиться нищие с гор просить в городах милостыни. Попечительное начальство приняло все меры для отвращения голода и монополий перекупщиков. Корабли пришли с мукой из Астрахани; богатые были приглашены пожертвовать избытками для спасения бедных, и на время народ успокоился. Урожай мог все поправить.
Дербентцы только что отпраздновали тогда хатыль, религиозно-театральное воспоминание о судьбе Шах-Гусейна, первого мученика-халифа секты Алиевой7. Предавшись с ребяческим простодушием мелочным заботам и обрядам этого праздника, единственного развлечения народного в круглый год, они в свежести ночей, посвященных представлениям, вовсе забыли о жатве и о зное. Чего забыли! Они радовались не раз, что дождь не мешает их диким забавам.
Но когда утих шум празднества и они из минувшего воротились в действительность, когда, хорошо выспавшись, взглянули они за ворота городские, сожженный вид полей обдал их варом. Страх голода или – что для корыстолюбца гораздо хуже голода – страх убытка подкрался к ним на цыпочках, со стклянкой розовой воды в руке, под звук бубнов да песен, – и тем ужаснее показалась всем его бледная образина, чем неожиданнее она оскалилась перед ними. Посмотрели бы вы тогда, как зашевелились все черные и красные бороды, как пошли стучать все деревянные и янтарные четки Дербента! Все лица вытянулись восклицательными знаками; на всех ртах бродили междометия. На базарах в караван-сараях, по углам улиц – везде, где только лежало несколько бревен или камней, наверно уж сидела кучка татар на корточках, толкуя о погоде, и на этот раз толки о погоде, которые у европейских горожан беспрестанно повторяются и никогда не слушаются, ложились свинчатками на сердца дербентцев. Шутка ли, в самом деле, потерять от засухи марену, единственный источник их благосостояния, или платить за пшеницу на вес серебра? Бедные трепетали за жизнь свою, богатые – за кошелек. Одним грозила нищета, другим – невольная благотворительность. Желудки и карманы ежились при одной мысли о дороговизне – все ахало и охало, «а как скоро, – говорит Монтань, – кто заражен страхом болезни, тот уже заражен болезнию страха»[75]8. Тут мечта превращается в действительность и здоровое настоящее заранее мучится будущим, которое, может быть, совсем не придет или придет совершенно иное.
Вспомним про недавнюю холеру; вспомним, каким разрушительным ужасом нахлынула на Русь весть о набеге этого индийского чудовища, этой причудливой заразы, которую не могли оковать цепи, не могли умолить молодость и здоровье, которая без разбору поражала осторожного и невоздержного, бесстрашного и труса. Сначала мысль о холере отравила самый воздух, не только радости, но мало-помалу человек свыкся с разрушением, которое он видел кругом и впереди. Плач был короток тогда; с ним рядом слышался порою смех, и если под конец люди не пели и не плясали – так это потому только, что самый страх смерти не отучил их лицемерить.
Вот и прошла холера – и мы увидели, что холера преполезная выдумка, преблагоразумная хозяйственная мера природы. Она, как говорит один профессор, любит держать человечество в границах благопристойного числа и не размножаться без ее дозволения, для того чтоб сила производимости была всегда в равновесии с силой разрушения. Нечего сказать, природа выкинула в этом чудесную штуку! Она утешительна для оставшихся, но те, которые умирали для арифметики, могли бы, между прочим, спросить:
– Не ошиблась ли госпожа природа в расчете, потому что расчет вовсе не дамское дело. Не действует ли она из какой-нибудь личности? Раздосадована, пожалуй, тем, что люди так дерзко поднимают ее покрывало и заглядывают к ней в грудь и роются в лаборатории ее таинств словно в своем кармане?
Если это так – умирать, право, досадно. Досадно, если и не так; горько, несмотря на приемы сладкой ртути; грустно, несмотря на все утешения. Но покойников уже нет, ни слова о покойниках! Зато посмотрите, сколько пользы принесла холера живым! Сколько выгод доставила человечеству и продавцам хлоровой извести! Пусть так: она унесла от нас несколько отличных умов и светлых, благотворных душ, но зато от какого множества пустейших людей нас она избавила, скольким талантам открыла путь вперед, развязала руки на доброе! Сколько наследств пустила в оборот! Потом нельзя же забывать и того, сколько найдено благодаря ей необходимых, спасительных средств, которые не вылечивали разве тех, кому на роду написано было умереть. Сколько сочинено прелюбопытных статей, ясно доказавших, что холера вовсе не заразительна и весьма прилипчива, развернувших вполне великолепное незнание или, лучше сказать, сознание врачей: что есть неразрешимая притча? А между тем журналы питались этими статьями: тысячи получали награды за бескорыстные услуги большинства, и когда зараза кончилась, все остались довольны ею как нельзя более, расставшись с ней так радушно – как будто при новом свидании встретят ее с распростертыми объятиями. И в самом деле: попробуйте-ка возвратить на белый свет все жертвы холеры – насмотритесь тогда суматохи, наслушаетесь ропоту, за всех и ото всех, не исключая самих покойников. Холера, как все грозы на свете, есть благодеяние промысла, который самым истреблением готовит плодородие и перемену на лучшее. Холера кроме обновления родов имела в виду и нравственное исправление человечества. Примером сказать, наш Граблин – он целый век служил черту – а после болезни он Бога просит жалованья; или Цаттаев Алексей – его, бывало, упрекали в сребролюбии – а теперь ни за что не возьмет взятки иначе как золотом. Подонкину запретили в холеру пить крепкие напитки – он капли воды в рот не берет: вода, говорит, мельницы ломает. И столько тогда записалось в приход неба прекрасных обетов: или чтоб не делать вперед зла, или чтоб творить благо, отпустить должникам своим – жаль только, что те, которые умерли, не исполнили их по возможности, а те, которые уцелели, – по ненадежности. Со всем тем я бы готов написать холере оду или похвальное слово, если б не заметил за ней предурной замашки нападать на слабых и бить лежачего…9
Как бы то ни было, а страх неурожая одолел дербентцами. Надо правду сказать: все мусульмане народ очень набожный, а набожность у невежд почти всегда падает в суеверие. Давай они молиться в мечетях: нейдет дождь! Давай потом сочинять торжественные ходы за город в надежде, что Аллаху сквозь открытое небо слышнее будут их мольбы, чем сквозь плитные своды: ни капли! Пождут, поглядят, – небо словно медное, так и тает лучами, а раскаленная земля рассыпается под ногою в окалины и жадно пьет капли пота, падающие с лица богомольцев. Что делать?.. Принялись за языческие поверья. Мальчики расстилали платки на перекрестках и сбирали с проходящих деньги на воск да на розовую воду – и потом, обвязав ветвями хорошенького как ангел мальчика, обвесив, разукрасив этот пук цветами и лентами, пробегали по улицам, напевая в лад песни в честь Гюдуля, вероятно когда-то бога рос и дождей. Говорю – вероятно, потому что я не мог собрать о нем никаких положительных сведений. Призывание дождя заключалось обыкновенно припевом:
То есть:
Приветствуем тебя, Гюдуль:
Вслед тебя льется дождик!
Встань, красавица, на ноги
И полным ковшом утоли свою жажду.
Молодежь, плеща руками, плясала и пела кругом веселым хороводом с самоуверенностью простодушия, и – глядите! – в самом деле влажные облака загасили солнце… Небо нахмурилось, как скупец на росстанях с деньгами, тень, как чужая собака, убежала прочь, поджавши хвостик; окрестность померкла; зато глаза всех заблистали и со слезами радости обратились навстречу живой воды… стал капать дождик. «Аллах! Аллах!» – раздалось в воздухе, и клики торжества, шипя как ракеты, крестились над Дербентом. Напрасные, преждевременные клики! Подул ветер из Персии, жаркий словно лисья шуба, и спахнул долой перелетное облачко. Солнце вдруг засверкало ярче прежнего, и пуще прежнего запечалился народ.
Минул еще день. Вот еще день, как усталый путник по знойной степи, жарко дыша, прошел за горы. Все молят, все ждет дождя… Нейдет!
II
Халх – народ.
Бербат – чепуха.
Когда вы поедете через Дербент, непременно зайдите посмотреть главную месджид, – а то вам, право, нечего будет про этот богоспасаемый град, иже на Хвалынском море10, рассказывать или вспоминать. Мечеть эта, – так станете вы разглагольствовать, пощелкивая указательным пальцем по табакерке или прижимая им табак в трубке своей, – мечеть эта, по всей вероятности, была в старину христианскою церковью (не запинайтесь: я все приму на себя), потому что она лицом стоит на восток, а магометанские мечети обыкновенно обращены входом к северо-востоку, чтобы молиться на Мекку, то есть на юго-запад. Во-вторых, следы теперь сломанного алтаря очевидны, и хотя татары утверждают, будто она построена в первом веке гиджры (около тысячи двухсот лет назад)11, но мы, опираясь на исчисление греческих епархий, в котором дербентская упомянута очень правильно, можем полагать поосновательнее, что древность этого храма гораздо глубже12. Широкий четвероугольный двор, помощенный плитою, осененный огромными чинарами, с водоемом посереди, расстилается будто ковер гостеприимства перед мечетью. Трое ворот, всегда отверстых, призывают правоверных от мирских забот в затишье думы о небе. Восточная сторона занята рядом келий, северная – высоким навесом (айван)13, убежищем молельщиков от летнего зноя. На запад возвышается древняя, мхом про-зеленевшая стена мечети, во всю длину двора; ее подпирают плечом дебелые устои. Над срединою здания восходит к небу, как молитва, заостренный купол, и маковка его рассыпается лучами звезды[77]. Стих из Корана горит над главными дверями. Входите – и вдруг какой-то влажный сумрак объемлет вас, невольное безмолвие уважения покоряет (вылитый Шато-бриан!)14. Долой туфли, прочь мысли-смутницы! Не вносите в дом Аллаха грязи улиц ваших, грязи ваших помыслов. Преклоните земле колена, а сердце вознесите к небу… Считайте по четкам не барыши, а грехи свои. «Ля ила иль Алла, Мугаммед ресуль Алла!» (здесь для эффекту вы можете чихнуть). «Бог истинный есть Бог единый, а Мугаммед пророк Божий!..»15
Тихо журчит молитва правоверных; сидя на коленях или припав челом к ковру, они погружены в благоговение; и ни слух, ни взор не вызывает их внимания на окружные предметы. Направо и налево по два ряда аркад со стрельчатыми сводами16, переплетая на помосте тени столбов своих, уходят в мрак. Там и сям купы молящихся чуть озарены бледным лучом, заронившимся во мглу сквозь небольшие окна сверху. Ласточки реют под куполом и вылетают в поднебесье, будто слова моления; все дышит отсутствием настоящего (ей-ей, лихо – это хоть бы в исторический роман годилось) и навевает прохладно-отрадные чувства усталому сердцу. Память перебирает струны давно минувшего и мыслит: где же вы, христиане, зиждители этого храма? где о вас поминки? Вы забыты, даже в баснословной истории Дербента, в Дербент-наме, и кровожадные стихи Корана раздаются там, где звучали некогда священные песни благовестия!
Двор мечети у мусульман Дагестана и всех горцев есть вечевая площадь. Туда сбираются они толковать о раскладке повинностей и для ябеднических сделок против начальников. Там притон пересудов и суд мнения, ристалище происков и суеверий, у порога правды и веры, – странное проявление дерзости и лицемерия человека, который, вместо того чтоб трепетать соседства святыни, говоря или совершая зло, старается укрыться под тень ее и ее именем скрепить свои замыслы!
Так и во время бездождия двор главной дербентской мечети кипел народом. Вкруг иссохшего водоема под тенью чинаров, на галерее, еще блестящей зеркалами, парчами, золотошвейными занавесками, знаменами с надписью из Корана, толпы притекали и утекали. Красноглаголивые мюэммины (то есть крепковерные) составляли средоточия многих кружков. Около них дружною цепью теснились биюк-сакаллы (долгобородые), то есть вся косматая премудрость мусульман[78], потому что у них ум не иначе свивает гнездо как в бороде, вещь чрезвычайно удобная для статистических сведений: вам стоит только подвесть итоги ко всем бородам, и вы будете иметь меру татарского ума в английских футах или в аршинах; можете безошибочно сказать тогда, что в такой-то мусульманской провинции умственные способности народа, вытянутые в волосок, – равняются, например, сотне верст длиннику17, приняв, разумеется, в уважение число выбывающих бород по случаю смерти к числу бород, отпускаемых вновь[79]. Очень жаль, что Мальтебрюн или Мальтус18 – да почему же и не оба! – не вздумали и не выдумали найти точного соотношения между двумя знаменателями европейского и азиатского умов, бородою и пером. Если когда-нибудь эта гениальная догадка пойдет в дело и подобная перепись произведется на сем основании, я непременно потребую патента на изобретение.
Промежду длинными бородами из второго круга, и то с великим подобострастием, осмеливались просовывать носы свои глюкли, то есть полубородые, – молодые люди уже с усами, но еще без речей, потому что в Азии уста, не вооруженные волосами, не смеют на совете отверзаться, разве для того только, чтоб зевнуть. Тюксюсы (или безбородые), отроки или юноши от десяти до семнадцати лет, бродили поодаль, не имея права мешаться не только в важные дела, но даже просто в разговоры со старшими. Там-то виделось первобытное общество в простейшем своем выражении – с тремя ступенями прав, которых стихийное начало есть борода.
Впрочем, я утешаю себя мыслию, что борода и патриархальный порядок не сегодня так завтра возьмут свое: круглые бакенбарды завладевают уже подбородком, сливаются почти в одно целое – вещают близость божественного переворота. О честолюбцы, отпускайте скорее бороду!19
Однако ж из бород всех величин и всех цветов радуги, бород, раскрашенных хною и природою, дербентские мудрецы не могли выжать ни капли дождя, ни выдумки чем бы заменить его. Говорили много, спорили еще более, так что на потоке из пусторечья можно бы выстроить мельницу о четырех поставах, тем лучше кстати, что старые мельницы за безводьем не мололи уже неделю. Все рассуждения, однако ж, оканчивались отчаянным вопросом – «Неджелеих (Что ж будем делать)?» А затем на миг воцарялось молчание; а затем взлетала на воздух стая охов и вздохов. Плечи подымались до ушей, брови до шапок; ропот сливался в умолительное восклицание: «Аман, аман (Пощади, помилуй)!» Вот, наконец, возвысил речь один ага-мир[80], муж святой по наследству, ибо он был родственник Магомета, а родственники Магомета, как известно и доказано, получили от него с зелеными чалмами дух святости в вечное и потомственное владение. Набравшись вдохновения свыше и дыму из кальяна, он изронил золотое слово из уст своих, смешанное с благоуханием ширазского табаку20:
«„Аман, аман!“ – взываете вы к Аллаху. А! Дербентцы принялись небось просить пощады у Бога, и тузить себя в грудь, и с горя щипать себе бороду! И вы думаете, что Аллах будет так прост, что за одно слово простит вас? что поверит на слово вашему раскаянию? Хейр, юлдашляр, хейр (Нет, товарищи, нет)! Наевшись грязи, Корана не целуют! Бога не обманешь поклонами да жалобным голосом, как русского коменданта: знает он вас давно! Сердца ваши исписаны грехами чернее, чем книга седжиль, в которую заносит ангел Джебраил злодеяния человеческие21, а вы и не думаете вымыть сердец своих в молитве и посте. Придет ли ураза (пост великий), в который днем набожной душе страшно хлебнуть даже дыму трубки[81], а вы, смотришь, где-нибудь за углом чурек грызете либо у свиноедов чаек распиваете, будто вам мало ночи наедаться раза по три, до того, что кушак рвется! И вот вам за то адское дерево закум22 проросло на землю. Кушайте же его горькие плоды, плоды – головки змеины. Охотники вы пить тайком жидкий грех, смертный грех – водку, да ведь от Аллаха не запрешь ворот на запор, не уверишь его, что это делается нехотя, болезни ради, дерман еринда[82] (вместо лекарства)! Он стережет за вами оком солнца в день и тысячами тысяч глаз-звездочек ночью. Он знает по имени каждую мысль в вашей голове, слышит малейший шепот сердец ваших. Как же не знать всеведущему ему, когда я не кала-бек[83], а знаю, что вы не только на водку, да и на вино посягаете своими многогрешными устами! „Кто на земле пьет вино безумия, того не напою я из потока радости, текущего вином в дженнете!“23 – сказал Аллах пророку нашему. Не надейтесь же вы, винопийцы, испить в раю вина блаженства, обещанного пророком, затем что вы сосете проклятие из бутылок, слепленных неверными руками на вашу пагубу! Не надейтесь и дождя на ваши нивы за то, что вы иссушили до дна терпение Божие огнем порочных желаний ваших! Это вам задаток той мучительной жажды, которою накажетесь в джаганнеме24. И растрескаются ваши уста, прося капли воды, как растрескалась теперь земля, и ни росинка не падет им в освежение. Аллах велик! Вы сами накликали себе на голову проклятие…
Но за что, прости господи, терпим за вас мы, в чьих жилах течет чистая кровь пророка, в чьих головах пересыпаются, как жемчуг, святые правила Корана? Вай-вай! Подкопали грехи стену эль-Араф, делившую праведных от неправедных25, и она падает всем на голову, и давит и того, который ни разу не ел с гяурами баранины, убитой и очищенной не по закону, и того, который ест пилав не пальцами, а богопротивною ложкой, сидя… о времена, о нравы!., сидя на стуле, а не, как Бог показал, на пятах! И тех…»
Всеобщий плач и восклики: «Шах Гусейн, вай, Гусейн» – заглушили проповедника, ведь слезы на Востоке нипочем. Я подозреваю, впрочем, что все эти проделки печали и набожности клонились к тому, чтоб замять поименную перекличку грехов, а может быть, и грешников: на воре и шапка горит, говорит пословица, – как же не гореть щекам? Мусульманин на своем ковре заткнет за пояс любого из европейских развратников, зато вне дома он важен и степенен, не сделает неприличного движения, не обмолвится скоромным словом, и лучше пырните его по-дружески кинжалом в бок, чем рассказывать на майдане (площади) про его задверные проказы. Наперекор европейцам базары мусульман – самая нравственная часть их городов, а пороги – самая нравственная часть домов их, и то я разумею половинку, глядящую на улицу: это не моя тайна!
Видя, что речь задела слушателей за живое, бородатый цветослов приосанился, торжественно крякнул и, раскинув взоры по всем углам двора, возвел их наконец к небу с тихим восклицанием: «Эль хамдули'ллах!» Правая рука его в то время грозно сжимала красную его бороду, так что он страх походил на Юпитера, готового бросить пук молний. И, правду сказать, лихой был «низатель бисера»[84] этот Мир-Гаджи-Фетхали-Исмаил-оглы! Бывало, как пустит дробь языком – ну соловей, точно соловей! Каждое слово как сахарный ногуль[85] катится, будто розовая вода на душу льется; да и столько он набьет вам в уши фарсийских и арабских речений26, что руки врознь; двух человек в целом Дагестане не найдешь, кто бы его понял хоть вполовину, – а в Дагестане, благодаря Аллаху, живут не собаки. Случалось, что даже комендантский мирза, человек, который съел всех стихотворцев Фарсистана27, как примется переводить ага-мира – да и язык проглотит. Куда ему!
Хорошо сказал наш сафия[86] свое поучение, и самому стало хорошо. Вокруг него все жужжали как пчелы: «Дюрюст сюз (Правое слово)! Герчек диды (Истину говорит)! Аллах, иншаллах!» И все, как пчелы, кормили его медом похвал. Облизнувшись очень умильно, крепковерный сказал своему кружку: «Кулаг ас, кардашляр (Развесьте уши, братия)!» – и уже поласковее начал:
– Что делать, однако ж, товарищи! Кто не виноват Аллаху! До третьего неба выросли грехи наши, но еще четыре неба осталось Божией милости28. Наказывает он правых вместе с виноватыми, зато за одного праведника милует целые народы нечестивых. У грешных и безгрешных желудок просит есть одинаково, и мы все молились о дожде одинаково. Видно, не взошла на небо молитва наша, забрызганная грязью помыслов! Нет успеха! Скажу, братья, одно слово: не знаю, придется ли оно вам по душе, а слово это будто ангел обронил из своей думы. Отцы и деды наши в истому засухи выбирали, как сами вы слышали, сами своими глазами видели, чистого душой и телом юношу и посылали его со своей молитвой к Аллаху ближе, на высь гор. И он должен бывал набрать снегу с темени Шахдага в кувшин, и молиться за своих ближних с теплою верою, и принести этот кувшин, не ставя его на землю, в Дербент, и вылить растаявший снег в море. Аллах велик! Море закипало, и тучи слетались откуда невидимо, и благодатный ливень напоял, живил мертвую землю!
«Правда!! Аллах акбер! Я, мы, все видели, – загремела тысяча голосов, – восемь лет, десять лет тому назад! Я сам тут был! Мой брат нес воду! Чудо чудное! Вода в море стала сладка, как молоко… капли дождя были с яйцо куриное». Наконец вся дребедень невнятных восклицаний слилась в явственный крик: «Выбрать юношу, послать его на Шахдаг!»
– На Шахдаг! – заревел весь Дербент.
– На Шахдаг! – повторило эхо мечети.
Казалось, это слово разрешило загадку, которая у всех свинцом лежала на сердце; это слово пронизало всех одною уверенностью. Бородачи были рады средству, которое не стоит ни копейки. Молодежь с гордостью думала: «Выбирать-то ведь станут из нас!» Даже мальчишки веселей прыгали на одной ножке и как сороки щебетали: «На Шахдаг!» Стоит только выбрать молодца, толковали все, и через три дня каждая нива у нас оборотится озером. Дербентцы сводили счет без хозяина: многостоящим оказалось – стоит послать. Найти невинность – безделица? Невинность в горожанине, в юноше и азиатце? Помилуйте, да такого клада в наш век если и на святой Руси поискать, так пары три железных чоботов стопчешь! А в жарком климате и подавно.
Если наш ледяной истукан целомудрия подтаивает от дыхания страстей, питающихся имзеновым шоколадом на исландском мху, то в какую тень спрятаться можно от азиатских желаний, стреляющих калеными ядрами? Слова нет, наше северное игривое воображение, протопленное романами и вальсом, становится для нас безвременно жарким климатом: пороки у нас – подснежники, взбегают необыкновенно рано, а зреют гораздо ранее огурцов; но, господа, взгляните на термометр Реомюра, прочтите надпись над тридцатью тремя градусами тепла – «Жар крови», и сознайтесь, что климат, который развивает не только ранние страсти, да еще ранние для них силы, что-нибудь да значит в животной экономии. Такие страсти не требуют теплиц, орошения вином и прививки чужих прихотей; нет, они взбегают без подпор и крепнут на воздухе, или, лучше сказать, воздухом, который заряжен двойным патроном электричества, который дышит, веет, окачивает негой и бросает в ваше сердце столь причудливые мечты наяву, что вы под русским небом и во сне таких не видывали. Чтоб судить и осуждать Восток, надо сбросить с себя все европейское: понятия, привычки, предрассудки и решительно сказать самому себе: «Я сегодня родился». Но к этому надо привезть на Восток и тело гибкое, восприимчивое, и душу с не порванными еще струнами; и потом отдаться безусловно расплавке знойной атмосферы, впечатлению всех внешних предметов, не процеживая их сквозь ветошь книжных поверий, не мешая туда собственных предубеждений. Предположив, что это хоть приблизительно возможно, вы помиритесь со всем и со всеми, что окружает вас. Вы сердцем убедитесь тогда, что природа и ее формы, люди и нравы их составляют там неделимый гармонический аккорд, или, еще того лучше, вы будете жить и делать как соседи, не спрашивая и не заботясь – почему?
Да-с, растительность Востока, которому Дагестан служил переднею, быстра до невероятия и роскошна до мотовства, а жизнь азиатца – полурастение, полуживотность. Мудрено ли ж после этого, или с этим вместе, что дербентцы крепко затруднились, когда дело дошло до выбора? В самом деле, найти юношу, чистого как снег, который должен собрать он, как луч, который растопит этот снег; найти человека, которого уста не знали бы сладости заветного поцелуя, ни вкуса поросенка под хреном, – черт возьми, это не шутка под тенью виноградников и персиковых дерев, и в таких коротких связях с русскими! Пошли толки и пересуды; все расцветающие репутации оборваны были по листику; и к концу счета оставались те же пять голых пальцев. Этот слишком молод, чтоб мог назваться невинным; этот чересчур смышлен, чтобы невинным быть. У того нет пуху на щеках, а у того «пушок на рыльце есть». Беда, да и только: старый за малого хоронится. Никто не хочет принять на себя славы тамис тамислярдан (чистого из чистых). Не находят достойного, или, кого находят таким, сам отпирается. Спор и перебор этот делал мало чести невинности дербентцев, по крайней мере много чести их совести. «Взять бы Сафар-Кули, – говорили иные. – Он стыдлив, словно красная девушка, да та беда, что недавно обесчестили у него коня, отрубил какой-то разбойник хвост29, и это, верно недаром!» (А почему недаром, спросите у барона Брамбеуса30: он жил с мусульманами долго31 и, верно, растолкует вам эту притчу. Я не растолкую; я имею на то свои причины.) – «Не то Мурад-Амина? Он живет тихо, как цветок цветет; да, сказывают, недавно был в гостях в саду у этого старого грешника Алескер-бека и распевал такие песни, что даже черти уши затыкали. Нельзя!» – «Или Мехмед-Расуля? Про него нечего сказать худого, а подумать можно. У них в доме живет премиленькая лезгинка. Купил он ее во время голода у отца за двадцать рублей серебром, а теперь не продаст и за сотню; человек ведь? инсан дегильми! Сабля – сталь, а и та без ножен ржавеет».
Про того много говорят; другой сам много говорит, – ищут не сыщут достойного. Повесили дербентцы свои буйные головы… Опять прежнее горе!
– А Искендер-бек? – сказал кто-то в толпе.
– В самом деле! – подхватили многие голоса. – А Искендер-бек-то на что? Да как это мы его забыли, как пропустили розу между цветами, сокола между птицами? Аллах, Аллах! Или у нас жар-то весь мозг из головы вытопил? Это странно! Это непостижимо! Это удивительно!
Я так ни крошки не нахожу тут удивительного. Не то что у татар, у нас, православных, не знаю, как это делается, только достойнейших всегда вспоминают напоследок; хорошо, если еще вспоминают. Это, должно полагать, от худого механизма нашей памяти!
– Ну, слава Аллаху, нашли! Чего ж даром зубы студить: Искендера так Искендера! Скорее звать, просить, тащить его! Ступай, беги к нему! Дай Бог удачи нашему Искендер-беку, он выручит, он спасет нас! Он не ест, не пьет и дружбы не водит с гяурами. Не помнит кто, чтобы он хоть раз ночевал в садах; никто не видывал, чтобы он поднял глаза на чадру (женское покрывало). Не поют ему песен наши молодцы и дарить цветов не смеют: он живет ясен и одинок, как месяц в ночи.
– Да, да, ступай к Искендер-беку, – возразил кое-кто.
– Нет, брат, к нему не во всякий час суйся. Порою бывает такой крутой, что на козе не подъедешь; а горд всегда, всегда, и дома и на улице, в разгуле и спросонья. Посмотрите-ка на него: идет нейдет, башмаки волочит, а рассядется – что твой кала-бек! Слово у него по целковому, а улыбка – хоть ты колесом катайся, не выманишь: такой дутик! К нему идти, надо два раза подумать да один раз хорошо выдумать!
Сгадали, сдумали, сложили совет: идти послом от всего дербентского народа Гаджи-Фетхали-Исмаил-оглы, тому самому витии, что говорил последнюю проповедь.
– Ты нам вложил в сердце выбрать из среды нашей молодца, ты же и бей челом, баш урсын, Искендер-беку. Пусть он на наше горе смилуется, на нашу просьбу сдастся! Как хочешь, Гаджи-Фетхали: кроме тебя, некому уговорить его, кроме тебя, некому нас выручить.
Отнекивался, отнекивался Мир-Гаджи-Фетхали, – и он имел на то законные причины, – однако ж честолюбие перемогло: уступил. В придачу к нему послали еще двух почетных беков, толстяка Гусейна и сухопарого Ферзали: то были два прилагательных, без которых как модные русские, так и модные фарсийские существительные имена не выезжают. Разумеется, и здесь употреблены были они не для смыслу, а для парада, для поддакиванья. Депутация отправилась.
– Уговорит, как ему не уговорить? – раздавалось в толпе. – Фетхали, если прибеднится, так у нищего полбороды выканючит… Самого шайтана перехитрит!.. Змею на хвосте заставит плясать! Преумнейшая бестия! Препочтенный плутяга! Тебя же обманет, с тебя ж за то придачи возьмет, да ты же ему и накланяешься. А как примется говорить, Господи, твоя воля, как он говорит! Кажется, язык у него не во рту, а в сердце; так цветы и сыплет: успевай только загребать ушами.
– Эле люр, точно так, – прибавил другой, – как станет Фетхали уговаривать пожертвовать на мечеть либо на Кербелу[87], так не только мы, да и кисы наши рот разевают[88]. Недаром он хвалится, что «облегчает» нас!
Эта игра слов развеселила всех кругстоящих, подстрекнула всех на злословие, и бедному Фетхали вышили спину в узор шелками шемаханскими. Охотники татары «умывать чужие глаза розовою водою», то есть льстить без милосердия; зато, чуть отвернись, распестрят они вас вдоль и около. У них, как и у нас, безделье замешано на пересудах, на кайбет. Люди везде люди!
III
Эмюрум-баши гитты, яры, сен-сюс.
Без тебя, милая, вянет весна моей жизни.
Достопочтенный Мир-Гаджи-Фетхали-Исмаил-оглы тихо ступал с камня на камень, подымаясь от мечети в гору по узкой и кривой улице. Полы его чухи, против обыкновения не подобранные, мели пыль; огромные каблуки его туфель беспрестанно подвертывались на клыкастой, неровной мостовой Дербента, хотя Фетхали глядел так пристально себе под ноги, будто выбирал хорошенький булыжник для перстня. То Гусейн, то Ферзали, почтенные его сопутники, один пыхтя, другой кашляя, справа и слева закидывали ему вопросы; он не отвечал, не слышал их; он до того был рассеян, что брызги его плевков летели на черную бороду Гусейна и на розовую Ферзали без извинения; они оба осерчали.
– На адам-дюр бу! – сказал первый, отирая полою лицо. – Что это за человек? Ему говоришь, а он плюет! Из какого фарсийского поэта украл он такую рифму, чертов племянник!
– Пох онын батина (грязи бы ему в голову)! – воскликнул другой, стряхивая бородку. – Недаром сказано: если хозяин дома, так одной клички довольно, сейчас отопрет двери; а коли дома нет, и палкой не достучишься. Что даром и толковать, Фетхали, когда здесь пусто!
Но у Фетхали не было тут пусто. Напротив, голова его была полна таких забияк гостей, что за шумом он не мог расслушать даже голоса разума. В ушах его звенели еще крики толпы: «Он уговорит, как ему не уговорить», а сердце шептало: «Едва ли! Вспомни, Фетхали, как обидел ты Искендер-бека, и как недавно обидел!» Я расскажу вам, господа, за что и почему между ими стало нелюбие: только, чур, никому ни слова. А то, пожалуй, эти мерзавцы прославят меня решетом: налгут на меня, будто мне нельзя ничего поверить за тайну; а вы сами знаете, что я скромнее мусульманской могилы[89], – про наши не говорю: они болтают такой вздор эпитафиями, проговариваются так неосторожно, что краснеешь за них. Смотрите ж, господа: между нами!
Искендер-бек, прекрасный, нравственный юноша, родился уже во время владычества русских над Дагестаном, но он всосал к ним ненависть с молоком матери и с речами отца. Отец его был любимцем изгнанного Фетх-Али-хана32 и упорно сохранял к прежнему владетелю горячую привязанность, доказал свою преданность на словах и на деле, по всей справедливости за многократные возмущения был лишен поместьев и дотлевал в забвении, в опале. Он умер в 1826 году, убитый известием, что персияне, которых нетерпеливо ждал он в Дербент, прогнаны из Кубы; но, умирая, завещал сыну – не служить русским и не дружить дербентцам.
На дербентцев был он зол особенно за то, что они согласились дважды выдать своих ханов в руки врагов. «Потешились мы с Фетх-Али-ханом, когда после краткого изгнания воротились с властию и грозою в Дербент[90], – говаривал он. – Не Осталось ни одного хорошенького мальчика, который бы не взят был во дворец, ни одной красавицы, которая бы миновала его ложа или нашего ковра[91]. Наши стали все лавки, наши все сундуки изменников. Бывало, едешь по улице, так все до своего колена лбом кланяются да целуют стремя; а теперь они растолстели, мерзавцы, и хребет у них не сгибается, как у свиньи! Говорил я Фетх-Али-хану: „Вырви с корнем это купеческое семя, обруби головы этим торговцам души“; нет, поскупился он, не послушали меня, – и вот за то награда! Сам ест чужой хлеб, пересоленный упреками, а мы, его верные слуги, умираем без куска хлеба».
И он умер, но его поверья, его пристрастия и предрассудки ожили в сыне. Искендер-бек почерпнул их из гораздо чистейшего источника – из сыновней любви, а не из собачьей привычки; из уважения, совершенно бескорыстного, к порядку вещей, давно разрушенному, а не из платы за поддержание настоящих беспорядков; со всем тем его мечты и сожаления о самовластии ханов, о разгульной жизни подвластных им беков, об удалых набегах на соседние земли – одним словом, о рыцарских временах, когда меткое ружье, лихой конь и отвага могли доставить человеку все, чего жаждала душа его, были чересчур дики. Не зная черной стороны прежнего правления, он не видел хорошей нового. Золото, не боясь более грабежа от спутников хана, пошло в оборот, разрослось сторицею и, наконец, разлило довольство во все классы народа. Русский орел широко покрыл своими крыльями округ Дербента, – и садовник и пахарь, без прежнего страха быть изрубленным горцами у самых ворот, далеко в горы и поле выдвинули свои виноградники и нивы. Безопасная торговля с Русью и с Персиею принесла дешевизну и сделала доступным для самых бедняков те предметы роскоши, что добывались прежде за редкость богачами. Сперва не было у семи домов одного медного котла; теперь у каждой семьи не только посуда и кувшины, но даже мангалы34 из меди. Сперва для торжественных дней брака во всем городе был один богатый кафтан тонкого сукна, и женихи брали его напрокат, теперь Дербент славится щегольством одежды и почти каждый облит галунами, а собольи шубы не диво. Но всего этого не видал Искендер-бек или не хотел верить, что прежде было иначе. Исключительная гордость его страдала равенством перед законами; возвышение в чины из недворян, по заслугам, а не по роду, считал он личною обидою и, разлученный, таким образом, от русских и татар двумя враждами, заперся в одиночестве добровольно, в небольшом наследственном доме, довольствуясь небольшими доходами с лоскута земли, – и не скучал: он был молод.
Молодость, молодость! Волшебный край жизни! Прелестен ты, когда лежишь впереди, необозримый как надежда, а не назади, как воспоминание; когда развиваешься очам как панорама, а не как обнаженная карта. Зачем не дано человеку способности, как сурку, засыпать на всю зиму настоящего горя, чтобы хоть во сне дышать твоим вешним воздухом, перевкушать прежние радости и, прежним, крепким еще сердцем, выносить бури твои? Напрасно! Ничем не обновить юности, и никогда ее не забыть, и всегда сожалеть – удел наш! Где взять теперь твоей плавкости характера, твоей неистощимой готовности к слезам и смеху, твоего мимолетного гнева, исчезающего без досады и мести? Огорченный безделкою, утешенный вздором, счастлив до исступления от одного взгляда, одного слова, юноша предается доверчиво, и ему так же предаются доверчиво, также скоро. Везде находит он отголосок своей любви и дружбе, но, бросая той и другой беззаботно жизнь свою в жертву как перчатку или как платок, он не отдает им счастия жизни. Потеря друга, измена любовницы оглушают его, но гроза рассыпается дождем, и завтра уже его рука трепещет в руке нового друга, кипит бокал за здоровье нового заветного имени. Его связи не вросли еще в сердце и, расторгаясь, не рвут сердца пополам; мысли – ему не думы, и самые думы ему – мечты. Плененный их красотою или величием, он не предчувствует, что эти великаны острят на его сердце топор, сбираясь безжалостно казнить собственных детей или задушить, как Отелло, веру в высокое пуховой подушкою клеветы.
Горсть пшена, чашку воды, немного света и много, много воздуха – вот что нужно было юноше Искендер-беку. Весной, когда весь свет превращался в любовь и в поэзию, он снимал со стены свою длинную драгоценную винтовку, работы славного Гаджи-Мустафы, седлал лихого карабахского коня, сажал на левую руку золотого ястреба, кызыл куш, и скакал по горам и по долам; скакал до усталости, если жажду неги можно назвать усталостью. И потом он бросался в тень на берегу какого-нибудь горного ручья и, под опахалом благоуханного ветра, дремал под его журчанье, покрытое порой звонкою трелью соловья. Музыка ли природы струилась для него мечтами, или мечты осуществлялись ему в цветах и звуках? Не знаю я. Не знаю и того, мечтал ли он или размышлял; но он жил, жил всем своим существом; чего же более?
Зимою же, когда резкий ветер приносил с севера в его решетчатое окно хлопья снегу, он любил прислушиваться к заунывному вою каминной трубы; разлегшись у мангала, любил глядеть на игру раскаленных в нем углей или на причудливый дым своей трубки, в котором мелькали ему и крылья ангелов и рожи злых духов. А между тем воображение сказывало бесконечную свою сказку, величая его героем этой тысячи второй ночи. Он жил в каком-то дивном, безыменном царстве; сражался, дружился с кем-то неведомым, грабил сокровища, увозил красавиц, любил и был любим, тонул в опасностях и в наслажденьях; и потом, когда ночь задергивала над ним брачный свой полог, он не знал наутро, видел ли он все это во сне или мечтал с открытыми глазами. Порой он читал также тетрадку со стихами из лучших фарсийских поэтов и досказывал сердцем непонятный смысл этих сладкозвучных песен. Порой он призывал наемного нукера своего из лезгин, и тот напевал ему дикие песни гор под звук бубна, славил набеги своих предков, удальство своих братьев в битве и в охоте, и сердце азиатца разгоралось на кровь, на истребление. Он сверкал очами, он пробовал лезвие кинжала, он восклицал: «Скоро ль удастся мне сразиться?»
И ему скоро удалось это. Кази-мулла осадил Дербент35: отважным раздолье открылось кидаться на вылазки. Я каждый раз ходил с татарами, и каждый раз видел Искендер-бека впереди: догнать его было можно, обогнать – никогда. Он, как серна, прыгал между гробовых стоячих плит, – всегдашним полем стычек были кладбища, опоясывающие Дербент, – метко метал смерть из своей винтовки и потом с диким воплем кидался на врагов, махая кинжалом, – и мы, как пожигающая лава, гнали бегущих. Как теперь помню встречу с ним на последней нашей вылазке на кубинскую сторону. Выбив неприятеля из виноградников, мы отступали с успехом, но в беспорядке, как водится у азиатцев. Две срубленные головы воткнуты были на отнятое знамя, одна над другою, и дербентцы с криками торжества скакали около кровавого трофея. Толпа провалила уже в ворота, но я с немногими, прикрывая отступление, остался у фонтана освежить запекшиеся от зноя, и пыли, и пороху уста. Ядра ревели над нами вслед врагам; их пули чикали о плиты водоема. Я поднял голову: передо мной стоял тезка мой Искендер-бек в одном архалуке36, с засученными рукавами, опершись на винтовку; он был живописен, он был гневно-прекрасен тогда. Уста его роптали укоризны, взгляд с презрением следил дербентцев.
– На кого ты сердишься, Искендер? – спросил я.
– Бездельники, заячьи души, – отвечал он, – они умеют только вперед идти шагом, а чуть назад, то бегут опрометью. Мы там оставили Нефтали.
– Какого Нефтали, Искендер? Не того ли красивого мальчика с крашенными зюльфами37, который просил у меня патронов при начале схватки?
– Того самого! Из целого Дербента одного его любил я… Прекрасная душа!.. И он погиб!
– Взят в плен?
– Лег на месте. Храбрый, лучше взрослого, он был безрассуден как дитя. Погнался за кистью винограда и заплатил за нее головою. В глазах наших лезгины резали ему шею, и я не мог прогнать, не мог умолить товарищей ударить на выручку его тела… Мы бросили его на поругание! Еще раз, последний раз зову! – крикнул он, обращаясь к нескольким татарам. – В ком есть вера и у кого душа не потаскушка, пойдем, отобьем труп товарища, снимем с себя позор предательства!
– Пойдем, – сказал я.
– Пойдем! – сказали еще двое, увлеченных примером.
Пошли.
И мы вышли без боя, хотя убитый лежал далеко в виноградниках, вне крепостных выстрелов. Лезгины никак не надеялись подобной дерзости. Мы тихо вынесли, на плечах своих, обезглавленный, обнаженный труп несчастного и положили у ворот. С воплем, раздирающим душу, упала на него мать; шепот сожаления пробежал по толпе. Искендер-бек стоял, сдвинув брови, но слезы против воли заливали ему глаза. Я поднял руку и сказал:
– Жаль, что ты не русский! Он сжал ее и отвечал:
– Я поздравляю тебя только с тем, что ты не татарин. Искендер-бек не годится в придворные шегиншаха. В пору соловьев, бюльбюль заманы, минуло двадцать лет Искендеру, и тогда только пробились у него усы; и тогда только стал беспокоен сон его, а наяву посетили юношу пламенные грезы. Давно уже замечено, что первые усы, признак мужества, всегда ровесники первым приступам любви. Искендер-бек испытал истину этого на самом себе. С каждым тонким, нежным волоском на верхней губе рождалось в сердце его новое желание – темное, безотчетное, но тем не менее сладостное, носящее цвет и плод на одной ветке, подобно бразильским апельсинам. Мудрено ли же, что усы так нравятся женщинам, когда они вылиты из одной стихии с любовью, когда они вьются от жара неги! Будь я дама, – мне страх бы хотелось побыть дамою, – как могла бы я хладнокровно глядеть на юношу, у которого персиковая кожица на щеках явно доказывает, что его усы только что произведены из пуху, завиты сейчас розовыми пальчиками природы и так резво глядят во все стороны, будто просят: «Пригладьте нас поцелуем!» Да-с, молодые усы – живой мост между двух коралловых ротиков, с молодыми усиками не нужно подписывать внизу письма: «Всегда готовый к услугам»; это будет плеоназм. Не чета они нашим заслуженным усам, подстриженным как наши надежды и колким будто эпиграммы Пушкина, обожженным порохом и вином, измятым страстями. Вовсе не чета! Я по крайней мере никогда не дерзаю входить в состязание с такими усиками и, опустивши свои, убираюсь за добра-ума.
В пору соловьев, по нашему стилю – в апреле месяце, Искендер-бек выехал однажды пополевать на перепелов с ястребом. День был прекрасный – настоящий праздник южной весны; жаркий, но без зноя, свежий, но без сырости. Воздух, казалось, напоен был дыханием цветов и пением птичек; он струился вдали, как живой сафир. Яркая зелень волнами лилась и переливалась с холма на холм, а по ним плыли, как расцвеченные флагами яхточки, гранатники с огненными, миндальные деревья с белыми, персиковые с розовыми цветами. Искендер-бек лавировал по этому морю зелени, между этих миленьких созданий, и каждое осыпало его дождем цветочным, будто лаская, будто заманивая в тень. И долго так ездил Искендер из ущелия в ущелие, носился как безумный во всю прыть, то на круть горы, то на берег моря, и все чего-то ему недоставало: и мало было ему воздуха целого света, и в первый еще день волновалась грудь его, как покрывало женщины, чуть завидя женщину в покрывале. Бывало, проезжая по узким улицам города, он не подымет глаз на чадру, хоть распахнись она до пояса; а теперь каждый носик и глазок, лукаво проглядывающий из-под складок, бросал его в лед и в уголья. Он сроду не слушал лекций сравнительной анатомии, но с чрезвычайной быстротою уже воссоздавал всю женщину без исключений, а может быть и без ошибок, по маленькому следку в персидском шалевом чулке, выказывающемуся из-под красных туманов[92], отороченных позументом. Не знаю, право, удачна ли была в тот день его охота, только ни одна сколько-нибудь статная татарка, на возврате из садов, не ускользнула от его взора: вероятно, он почитал их перепелками. Он пускал чап-чап, то есть марш-марш, своего карабахца, и вдруг осаживал его близ испуганных, и тихо проезжал вперед. Лукавец уж выучился рассматривать всю подноготную, не обращая глаз, чтобы не испугать робости или стыдливости девушек. Но, увы, все лица были закрыты для него, подобно книге семи печатей!38 Мусульманки страх боятся показывать себя одноземцам, а восемнадцатилетнее воображение с едва пробивающимися усиками любопытнее самой усатой женщины: оно не довольствуется парою ножек, даже самых пророческих… Желания Искендер-бека, не находя образа, в который бы могли у ютиться, разлетались в воздух; он пригорюнился и оборотил коня к дому.
Никогда я не миную придорожного фонтана в мусульманских краях без умиления и благодарности. Они выстроены с большими издержками, с немалыми трудами в безлюдных степях или на безводных распутьях для утоления и омовения прохожих, и выстроены не казною, не обществом частных людей, но всегда кем-нибудь одним для общей пользы – «на помин души» или «по обету», как видно из надписей, врезанных на мраморной доске над бронзовыми трубами. И в ключе свода горит обыкновенно заветный стих Корана: «Благотвори и по смерти!» И несколько вековых дерев, посаженных тут рукою веры как дань раскаяния за злое дело или залог надежды за доброе, расстилают свою прохладную тень усталому путнику. Правда, мусульманин живет для себя, зато он умеет безропотно умирать за веру и, умирая, не думать о себе; не заказывает сорочин39 и свечей по три пуда, – нет, он завещает часть имения бедным или на вклад в казну училища, всего чаще на постройку водопровода или водоема, потому что вода в жарком климате есть первая необходимость и лучший напиток. В обгорелой от зноя пустыне, на окаленной дороге, вы издали видите гостеприимный памятник, осененный тополями, и спешите к нему с отрадой, и с наслаждением пьете чистую струю, и с признательностью думаете, глядя на эту осязаемую идею примирения с Богом и с людьми посредством общей пользы: «Мир праху твоему, блаженство твоей душе, добрый человек! Ты сочетал здесь дань Всевышнему и дар твоим ближним!»
У подобного-то фонтана, верстах в двух от города, спустился Искендер на дорогу, и вдруг, – то не была уже мечта, но что-то столько же прелестное, как мечта, кроме ее воздушности, – то была девушка лет шестнадцати, для которой слово «милая», азиз, казалось, только что вырвалось из юного сердца, а не стариною выдумано. Она умывала лицо, разогревшееся от движения, то плескалась струйкою, то любовалась собою в зеркале водоема, – и ничего не слыхала.
Черные как смоль косы порой закрывали ей все лицо; порой распадались на полуоткрытой груди, которую напрасно замыкала ревнивая цепь золотыми монистами и бляхами; она выглядывала сквозь разрез розовой сорочки из тафты, рвалась проколоть парчу архалука, впившегося, как любовник, в стройный стан. Вообразите ж себе юношу, раскаленного впервые мечтою о женщине и почти не видавшего женщин, а потом судите, что сталось с ним, когда он увидал нечаянно это прелестное личико, озаренное лучом души, и два эти снежные холма, будто две зари, разделенные таинственным сумраком; когда он заметил, как мятежно возникали и опадали они… А между тем золотая смородина пуговиц, унизанных по распашным рукавам, звучала, ударяясь о край водоема; а между тем тонкая белая ткань ее покрывала прельстительно играла около, роскошными складками, то обрисовывая формы тела, то раздуваясь широко. У Искендера занялся дух: он горел и таял как амбра, благоухая; свет улетел из-под ног его; он до того сосредоточился весь в зрение, что не слыхал, как разгоряченный бегун его бросился к водопойке, – ошибка, непростительная кавалеристу: долго ли запалить коня! Главное в том, что всадник, дав поводья невоздержности четвероногого, лишил сам себя рая. Красавица с ужасом увидела жаркую морду и, с криком: «Ай, Искендер-бек!», набросила на лицо покрывало и упорхнула.
Искендер-бек почувствовал всю неприличность своего поведения в отношении к вере и нравам (дербентские красавицы пляшут перед мужчинами и ездят по ночам за город с нукерами только в русской словесности: в действительности – никогда), но почувствовал не ранее как потеряв из виду незнакомку. Она, правда, раза три останавливалась, будто поджидая старуху служанку, которая с ней была, но Искендер не смел повторить своей невинной дерзости и не тронулся с места. Между тем как сердце его, пытая первые крыленки, провожало красавицу, в молодой голове поднялись тревожные мысли… «Аллах, аллах, что скажут про меня и про нее, если нас видели? А как мила!..Беда ей будет от отца и от матери!.. Чудо что за глазки!.. Пойдут сплетни!.. Как хорошо, что она не румянится: она бы не мылась, если б была намазана. А шейка-то, шейка, что за милочка! Ох уж мне эти дербентцы! Да еще знает меня по имени: верно, ей недаром захотелось узнать мое имя… Так и есть, это две женщины: плакали на могиле и, верно, все видели… А эти два полушара, нежные, белые, полупрозрачные! Я бы очень желал… знать, за что они поссорились; а вдвое того – помирить их поцелуем».
За что они поссорились!!.
«Ну, за что ж?»
Вы слишком любопытны, господа. Если вы знаете это, вам напрасно рассказывать, а если не угадываете за что, я отниму у вас прелесть изведания при опыте. Я уверен, что пословица: много будешь знать, скоро состареешься – выдумана по любовному департаменту. Довольно с вас, что Искендер-бек поехал домой влюбленный вровень с краями и ехал впервые как вор, оглядываясь и трепеща каждого взгляда, каждого слова, брошенного прохожими невзначай. Вы напрасно, впрочем, подумаете, что это было раскаяние: у новопожалованного любовника кипела совсем другая забота. «Если это пройдет без следов – я могу найти случай опять с нею встретиться, – думал он, – если ж неравно встреча моя пойдет в огласку, ее запрячут и закутают так, что в три года не дороешься!» И бедненький новичок трепетал и таял. Недаром наказывал ему отец: «Искендер, помни, что у розана цвет на час, а шипы навечно. Ласкай женщин, но не люби их, если не хочешь из властелина сделаться рабом. Поверь мне, любовь сладка только в песнях; в правде начало ее – страх, средина – грех, а конец – раскаяние. Смотри не заглядывайся на чужих жен и не слушай свою собственную!»
С тех пор как изобретены советы, конечно, этот был в роде своем не последний; зато – надобно отдать честь Искендер-беку – позабыл он его не ранее как через четверть часа, хотя признано всеми подверженными советам, что весьма полезно пускать их мимо ушей и только в случае неудачи помнить одну минуту. Молодой татарин любил и боялся, и никак не замечал, что над ним совершается отцовское предсказание.
Днем моложе, как покойно спал наш юноша! Ночь для него была кратка и освежающа, словно глоток шербета40. А теперь? Посмотрите на него теперь: он мечется, он бредит, он грызет пуховую подушку; прозрачная бязь[93] душит его хуже савана, ему кажется, будто целый эскадрон черных гусар скачет по нем, хотя я заподлинно знаю, что, несмотря на необычайную производительность дагестанского климата, по телу Искендер-бека прыгали тогда вовсе не подозрительные животные, а просто жгучие искры желаний. Ночь эта, по самому верному его счислению, продолжалась ровно семь ночей с полночью, и он, истомленный снами и бессонницею, с радостью протянул руку первому лучу, запавшему в его окно, как руке давно невиданного друга. И отчего все это? Оттого, что шалуну случаю угодно было показать ему одно прелестное личико и потом забросить это личико в неизвестность, в тайну, в запрещение; оттого, что природе забавно вселять в нас страсть ко всему неясному, таинственному и заветному; одним словом и наконец, оттого, что он был он, а она она. Но кто ж она? Искендер вскочил уколотый в сердце этим вопросом. Она? Какое дурное слово «она»! Любовь не любит местоимений, по крайней мере дагестанская любовь: ей нужна существительность и собственность, ей нужно обладание выше всего. Искендер-бек в тот же миг увенчал свою возлюбленную завоевательным местоимением и временным именем. «Я узнаю, как зовут мою Лейлу41, – сказал он, опоясывая кинжал, – хоть умру, да узнаю!» Миг после он стоял на перекрестке.
Бог построил горы, человек – города: так по крайней мере я думал, сравнивая щепетильность нашего зодчества с неподражаемым величием зодчества природы. Дербентцы судят свой город с гораздо большею справедливостью: они говорят, что их город построен чертом. Геркулес персидского баснословия, Рустем, так отзубрил однажды бока своему завистнику, шайтану, что тот запросил: «Аман, аман!»42 К Рустему за час перед этим поступило прошение от поселян несчастной деревнишки, где сидит теперь Дербент, защитить их от горных набегов. Рустем был великан, не только телом, но и душою, и готовый загребать жар чужими руками для всякого бедняка, – блистательная черта героев, великодушных от безделья и щедрых на все, что ничего им не стоит. «Кстати, – сказал Рустем черту, – ведь мне на тебе не ездить; смотри ж, собачий сын, чтобы к утру ты мне выстроил тут город со стенами и с башнями. Да станет Дербент!»
И стал Дербент. Черт строил в потемках и торопливо; месил в своих лапах камни, дробил их, плевал на них, бросал дома один на другой, отбивал улицы по хвосту; к рассвету Дербент поднялся на ноги, но заря ахнула от изумления, взглянувши на него впервые: это был поток камней и грязи с трещинами вместо улиц, которых сам почтенный строитель не распутал бы среди белого дня. Все дома родились слепыми, все их черепы были расплюснуты адскою пятою, все они пищали от тесноты, ущемленные между двух высоких, длинных-предлинных стен. Все вместе походило, одним словом, на огромного удава, который под чешуею домов растянулся с горы на солнышке и поднял свою зубчатую голову крепостью Нарын[94], а хвостом играет в Каспийском море. Затейник хотел и тут увековечить образ животного своего герба – змея-искусителя. Надул первую чету и до сих пор этим хвалится. «От людей, – говорит он, – от охотников и охотниц соблазняться нет отбоя: да у кого ж из этих бедняков есть рай в промен за яблоко?.. Ей-ей, разоримся, если за нынешних людей платить и наличной) клюквой! Грехи и грешники ужасно подешевели».
Но, должно быть, лукавый что-нибудь да оставил в Дербенте из своей прельстительности. Сколько раз и сколько завоевателей дрались за него! Сколько молодцов положили там свои души за его красавиц или золото! Обольстил этот змей и Искендер-бека. Ходит он, бродит по его излучистым закоулкам; заглядывает во все ворота, чуть зевнут они; хочет пробуравить глазами грязные стены домов, сорвать взглядами чадру с каждой прохожей. Напрасно! Татары говорят: девушка в окне все равно что яблоня у мельницы – и закладывают камнями даже кошачьи лазейки. Коран твердит: «Недобро мужчине смотреть на женское лицо: взгляды – семена греха!»43; и завистливое покрывало скрывает каждую, от головы до самых пят. Ее так же трудно узнать в тысяче белых покрывал, как мелькнувшую волну между синих волн Каспия. От кого узнать ее имя? Кто покажет дом ее? Томимый любопытством сердца, он вмешался в толпу, влекомую на площадь барабаном; но там вместо бесценной своей узнал только цену мяса. Долго прислушивался к крику перепродавца ветошей на базаре: «Купите, купите, господа!.. Славная чуха! Узорочные женские шалвары! Десять абазов и три бис ты (гроша)! Три бисты с десятью абазами; кто больше? Право, за отъездом в Кабиристан (в страну гробов) продаются они… Возьмите, ага, шалвары!»
– Бош зат (пустая вещь)! – сказал Искендер-бек и пошел далее.
Искендер-бек терпеть не мог пустых вещей.
В рассеянности подошел он к армянину, торгующему балыком, а Лейла неотступно танцевала перед его глазами… «Как зовут?» – спросил он, нежно схвативши за хвостик одну рыбку: он думал, что сжимает ножку красавицы.
– Шамая[95], – отвечал хладнокровный армянин.
Без мыслей блуждал он по базару, грязному даже среди лета, но и среди лета прохладному. Солнце едва проникало туда, и купцы, сидя на откидной двери своих лавочек, набитых всякою дрянью и всякою роскошью, однозвучно бросали ему в оба уха свое «Что угодно вашей душе?» «Ах, если б вы знали, чего хочет моя душа! – думал Искендер-бек. – Если б могли продать или подарить мне то! Я бы отдал все, что имею, и закабалил себя на вечную службу вместо кабина (вена); да счастье не дарят и не покупают». И он пришел в открытые ряды, где, по восточному обычаю, каждая лавка – вместе и рукодельня, где поет тетива шерстобоя, визжит пила оружейника, играет шило чеботаря и рядом с ткацким станом бренчит молоточек кубичинца[96], насекающего дивные арабески на кинжалах. Искендер-бек остановился у прилавка золотых дел мастера, старика Джафара.
– Аллах версын кемак (Бог поможет тебе)! – сказал он ему.
– Бог да заплатит тебе счастьем! – отвечал тот, не переставая что-то кропать обломком пилочки; и Бог заплатил ему счастьем нежданно. В чашечке перед стариком, в куче переломанных украшений, лежала серьга незнакомки – та самая серьга, которая обличила ему вчера премиленькое, премаленькое ушко. В этом не сомневался он и не ошибался: он бы узнал ее в целом четверике драгоценностей…44 Сердце его билось, будто он прочел начальную букву заветного имени, будто увидал розовую манящую его ручку. Он долго не смел сказать слова, долго не умел с чего начать, – так дрожал его голос, так перемешаны были все мысли. Любовь наконец подсказала ему военную хитрость: он будто без внимания просыпал сквозь пальцы пуговки и колечки роковой чаши и вынул ненароком, серьгу незнакомки, поиграл ею на свет возле самого носа Джафара и вдруг обронил на мостовую. Она давно уже щекотала хитреца за рукавом, а он все шарил по полу, наконец поклонился и жалобным голосом произнес:
– Потерял!
Огромные очки спрыгнули долой с носа Джафара, – так сильно вздуло опасение его ноздри.
– Аллах! я Аллах! – вскричал он. – Что ты наделал, Искендер-бек? Да теперь старая лиса Мир-Гаджи-Фетхали меня из белого света в три шеи вытолкает! Шутка ли, эмалевую серьгу!
– Душа моя, Джафар, не смейся ты над моими усами: статочное ли дело, чтобы такой степенный человек, как Мир-Гаджи-Фетхали, носил в ухе женскую серьгу с подвесками!
– Да кто тебе говорит, что он сам ее носит? Нет и жены у старого скряги; он находит, что самая дешевая жена не стоит своей цены: такой товар и есть и одеться просит, и наскучит – с рук не сбудешь и на стенку не повесишь, как комуз[97], сыгравши песню. Да у него ведь под опекой есть невеста-племянница. Брат его, Шафи, уж лет десять тому бежал в Персию и оставил больную жену с дочерью на Божью волю… Кичкене едва ли было тогда лет шесть… Хурды-мурды[98], правда, немало осталось…
– Так ее до сих пор зовут Кичкене?[99] – спросил Искендер-бек, усмехаясь.
А между тем имя Кичкене показывалось ему во сто раз сладкозвучнее Лейлы. Надо признаться, татары плохие знатоки эвфонии.
– Я думаю, однако ж, эта малютка теперь порядочно подросла?
– Сам ты знаешь нашу землю, Искендер-бек: годовой ребенок двух лет становится, пятилетний десятилетним глядит. А девушки – что твоя виноградная лоза! Не успеет с земли подняться, чуть привили, смотришь – гроздок налился. Такая, говорит дядя, стала Кичкене красавица да резвушка, что Аллах упаси! Вчера одну серьгу ни с того ни с этого из уха вырвала; да и ты на беду…
Искендер-бек опустил в руку словоохотного Джафара серьгу Кичкене – и был таков. Чего было ему слушать более? Теперь он узнал все, что хотел узнать, – род и племя своей красавицы, имя и жилище ее… Он побежал опрометью осмотреть клетку райской пери, или, лучше сказать, сундук, в котором заперто было его сокровище: сундук этот стоял, прислонившись к городской стене; на улицу выпустил он только надворную стенку да чернавку трубу чурешни[100], и те царапались своими угловатыми камнями и гвоздистыми воротами. Не голос милой услыхал Искендер-бек изнутри, а сердитое ворчанье собаки; он грустно прошел мимо и с досадою бросился дома на ковер. В голове его ходил жернов, а в сердце разгорался пожар, в котором, как на всех пожарах в свете, спасалась дрянь, а драгоценное летело в огонь. Впрочем, одиночество, в котором жил наш юноша, если не дало ему лоску общежительных приличий, зато сохранило душу от разврата общества. Предвечная совесть начертала свои законы на юном сердце симпатическими чернилами: чем сильнее разогревалось оно страстью, тем явственнее горели заветы. Кончилось тем, что все его проселочные желания вышли на большую дорогу, взялись за руки и побежали вперед. Коран велит, а сердце упрашивает жениться как можно ранее. Искендер-бек решился жениться; и почему же нет? Чем бы он не жених какой угодно ханум? Он посмотрелся в зеркальце – и улыбнулся; он высыпал на изголовье заветную кубышку – и ободрился… Он уж видел в каждой монете взор своей Кичкене, разменивал каждый червонец на жаркие поцелуи. Он целовал их, прижимал их к сердцу. «Деньги – всё!» – думал он. Неопытный! Он еще не знал, что на золото в нравственной торговле можно купить только мишуру, заглавие вещи, а не самую вещь, личину, а не лицо. Юноша, он считал все легким и возможным; он думал, что и в людях, как в нем самом, все враждебные чувства расступятся для приязни; что старость так же забывчива на старое, как молодость беззаботна о будущем. «Кичкене, ты будешь моя, непременно моя! – восклицал он. – С какою радостью отдам за тебя все, что добывал с такими трудами! С каким восторгом кинусь в первый раз тебе на шейку, вздохну на твоей груди!.. И ты будешь любить меня, Кичкене. Не правда ли, милочка, ты будешь? Я стану наряжать, лелеять, нежить тебя; отдам душу за твою душечку!..»
Искендер-бек безумствовал. Он хотел получить в свою власть Кичкене; страстно, как мусульманин, который в любви не знает прелюдий; хотел получить скоро, как юноша; а ведь одни только юноши имеют дар все делать скоро и хорошо, и если б Искендерово счастье зависело от женщин, дело бы решилось вмиг в его пользу. Женщины так любят порывы страсти, ими внушенной! Любят гораздо большие глупости, для них сделанные, нежели преумные вещи, об них написанные или им сказанные. Это естественно: чувство для них, созданий раздражительных, сильнее, выше, увлекательнее мысли. Жар на них более имеет влияния, чем свет. Будь юноша пылок хоть на минуту, его подерут за ушко, поставят на колени, скажут: «Какой вы дитя!» – и всё простят, всё позволят. И вот из этого премилого «дитяти» выходит преизбалованное дитя; разберите, кто виноват: маменьки или воспитанницы? И в первый раз почувствовал Искендер необходимость в связях; а он был отбитое звено в обществе, в которое кинула его судьба. Кстати, он вспомнил, что у него есть какая-то старушка тетка, – я уверен, что все тетушки земного мира выдуманы и назначены самой природою в свахи и вестоноши, – она могла бы пособить его горю, посоветовать ему на успех. Он запасся куском клетчатой дораи[101] на чадру, двумя часами терпения на случай пеней и отправился к доброй старухе. Он воротился от ней чуть не лётом от радости: тетушка обещала ему употребить все невинные хитрости, позволенные мусульманскими нравами, для сближения свадьбы. «Приходи ко мне завтра за час до азана[102], – сказала она, провожая племянничка до дверей, – я зазову к себе Кичкене красить ресницы; ведь лучше меня никто в целом Дербенте не смешивает краски и ровней не выведет кружков. Я тебя, шалуна, спрячу за этою занавескою в простенок. Смотри ж только будь умен: не дохни, не шевелись, и потом никому даже глазком не мигни – был не был».
Не верьте, пожалуйста, господам путешественникам по Востоку, будто все женитьбы мусульман совершаются так, что будущие супруги не видят и не знают друг друга. Это справедливо только в отношении к ханам, богатым купцам, людям власти или роскоши, которые на слух сватают или покупают себе жен. Средний класс народа и бедняки живут слишком тесно друг с другом, чтобы не знать взаимных отношений и даже соседних лиц. Крепко заперты их ворота, но плоские кровли открыты для прохожих, и в городах, где все женщины проводят жизнь на двориках или под навесом, а домы, сходя ступенями вниз, заглядывают друг другу в сердце, конечно, можно найти извинительный случай поглядеть на красавиц. Слова нет, это считается великою обидою, большим стыдом, но любопытство хитро на выдумки, и бывают часы, в которые даже мусульмане и мусульманки забывают о кинжале. Девушки до одиннадцати лет ходят с открытым лицом, и потому предусмотрительные женихи могут замечать будущих невест по колосу. Потом, есть всегда услужливые бабушки и тетушки, которые украдкою покажут «желаемую особу» желателю. И он скажет потом: «Чудо, а не девушка! Бела как хлопчатая бумага, стройна как серна. Голос – песня соловьиная; пойдет – пава, да и только!» О душе он не заботится: в Несомненной книге сказано, что у женщин нет души. Об уме еще меньше: ум мусульманки состоит в шитье и в стряпанье. Если она умеет разнообразить пловы, альмы-дольмы[103] и все супружеские сладости, начиная с пирожков до ласканий, она жемчужина всех жен и может надеяться, что муж долго позволит ей угождать без смены. Многоженство, впрочем, кроме самых богачей, редко до невероятности. «Я Аллах! и одной жены слишком!» – сказал мне Аслан-хан. «О, конечно, – возразил я, – но любовницы?» Он засмеялся.
И дело любви кончено. Начинается дело расчетов. Тесть просит много кабину за честь… Зять сбавляет, думая про себя о красоте. Наконец торг кончился: бьют по рукам. Часть кабину по условию отдают вперед, и на эти деньги снаряжают приданое; остается сводить невесту с торжеством в баню, и на другой день к вечеру, когда все пожитки ее перенесены с музыкою в дом жениха, ее сажают на осла (пророческая выдумка) и под пологом везут в новое жилище, с кликами, с бубнами, с пальбою из ружей. Назавтра она уже супруга. Нет ни обручанья, ни венчанья. Мулла прочел молитву над условием брака: остальное в воле Аллаха и мужа.
Вся эта перспектива будущего блаженства снилась Искендер-беку в очаровательных цветах с местными подробностями. Еще на темной заре поднялся он, а за два часа ранее полудня сидел уже у тетки за сундуком. При малейшем шорохе его бросало в лихорадку. И наконец послышался лепет башмаков по плитам дворика: две девушки, хохоча между собою, взбежали на айван, бросили обувь у ковра и с приветами подсели против дверей к старухе Адже-ханум. То была Кичкене с одною из, своих подруг. Покрывала обеих упали долой.
Не знаю, по каким законам акустики каждый звук голоса Кичкене отдавался в сердце Искендер-бека, только оно во все время посещения не переставало звенеть словно колокольчик. Когда же тетка его вывела тонкую сурмяную черту по ресницам красавицы и большие черные глаза ее засверкали на воле, ему показалось, что два пистолетных дула брызнули в грудь его молнию. Сама старуха опустила кисть и долго любовалась своею гостьею; потом поцеловала ее в стыдливо опущенные очи и сказала:
– Скоро ли, моя милая Кичкене, я разрисую тебя под песни подружек, в бане? У тебя такие миленькие глазки: дай Бог, чтобы они каждый вечер замыкались поцелуем и ни в одно утро не отворялись слезами!
Кичкене с негою во взоре обняла старушку: Искендер-беку послышалось, что она даже вздохнула; я не слыхал, я не уверю в этом.
– Дядюшка Фетхали говорит, что я еще слишком молода, – примолвила она почти грустно.
– А что говорит твое сердечко, малютка моя? – возразила смеючись Аджа-ханум.
Кичкене резко схватила бубен, висевший на стене, и, колебля его звонки между расцвеченными хной пальчиками45, вместо ответа пропела известную песню – «Пенджарая гюн тюшты»:
Для чего ты, луч востока,
Рано в сень мою запал?
Для чего ты стрелы ока
В грудь мне, юноша, послал?
Светит взор твой – не дремлю я;
Луч блеснул – и сон мой прочь.
Так, сгорая и тоскуя,
Провожу я день и ночь!
У меня ли бархат – ложе,
Изголовье – белый пух,
Сердце – жар; и для кого же,
Для кого, бесценный друг?
И она покраснела до плеч, будто промолвилась тайною задушевною, потом захохотала как дитя, уронила бубен, прижатый доселе накрест сложенными на груди руками, и упала в объятия своей подруги. Потом обе они смеялись от души, но об чем? Я думаю, о том именно, что тут нечему было смеяться; может быть, тому, что каждая из них думала о разном и каждая видела ошибку подруги.
Но старушка была догадлива и хотела кой для кого превратить эту догадку в уверенность.
– О, ты мой гюл ииси (ты мой запах розы)! – сказала она, играя кольцами на мизинце Кичкени. – Если б мой племянник Искендер-бек услыхал хоть за стеной твою песню, он бы разбил стену грудью, чтобы увидать певицу; а если б увидал, то похитил бы тебя, как лев серну.
Хрустальный кувшин с розовою водою слетел в этот миг с сундука и разбился вдребезги. Хозяйка и гостья побледнели, обе от страха, обе от разного страха.
– Бу надан хабер-дюр (Откуда этот слух)? – спросила Кичкене трепетным голосом.
– Упал сверху, – отвечала старуха, притворяясь, будто не понимает вопроса. – Уж эта мне черная кошка!
– А я и пестрых кошек терпеть не могу, – сказала Кичкене с сердцем, – они везде со своим хвостом суются да мяукают по всем кровлям на худое[104]. Саг олсун (Будь невредима), Аджа-ханум! Пойдем, милая Аспет. Маменька меня на часок отпустила, а вот уж мулла кричит.
Кичкене холодно поцеловала хозяйку, но та, провожая гостей до ворот, шепнула на ухо:
– Ты напрасно сердишься, Кичкене: не беды, а цветы я хочу тебе на голову. для меня дорого твое счастье, как золотая нитка, а есть человек, который бы свил душу свою с этою ниткою, и только я да Аллах вдвоем про то знаем!
Кичкене раскрыла очи от изумления, от любопытства, но дверь захлопнулась таинственно, и только гром засова был ей ответом.
Искендер-бек чуть не задушил добрую тетку в объятиях, когда та журила его, что не мог он высидеть смирно в своей обсерватории.
– Насыпал бы пеплу на мою бедную головушку, если б они догадались, отчего разбился и разлился кувшин!
– Мог ли я не вздрогнуть, когда у меня сердце чуть не расторглось, чуть не пролилось речью, когда я увидел эти лилии и розы на щеках Кичкени при моем имени? Я хотел сорвать их устами: кто сеет, тому должно и пожинать.
– То-то и беда наша, что мы в черном саду сеем.
– Купи же мне этот сад, Аджа-ханум: не дай умереть, как соловью, на шипах этой розы. Высватай мне Кичкеню, и ты узнаешь, что я не только влюблен, но и благодарен. Я куплю тебе лучшую буйволицу изо всего Дагестана.
На другой день Искендер-бек получил ответ от опекуна Кичкени, Мир-Гаджи-Фетхали-Исмаил-оглы: он был полный господин ее судьбины, потому что больная мать не имела никакой воли. «Скажите от меня Искендер-беку, – наказывал он Адже-ханум, – что я живо помню отца его, помню и то, что долги отца платят дети до третьего колена. Старик был буйный человек и назвал меня однажды сыном позора в глазах всего народа. Я не успел взять с него крови за это, потому что русская власть придавила тогда наши обычаи широкой полой своей; я не схоронил с ним вместе моей обиды, не жег его гроба. Но разве я собака, чтобы ластиться к тому, кто бьет меня? Да, правду сказать, хоть бы между нами не было не только лезвия, даже соломинки, что за находка мне, ага-миру, потомку пророка, залезать в родню к этому беку? В Дербенте семьдесят беков, ага-миров только пять, и я, конечно, из них не последний. И что поешь ты мне о кабине? На кабин его станет; а потом чем будет жить с моею племянницею? Где у него родня, которая бы могла помочь ему в нужде, через которую и мне бы везде дали почетное место? Сколько вороньих яиц получает он доходу с дома? Много ли продает крапивы с поля? Голыш он, голыш науличный! Скажи ты ему наотрез – нет и сто раз – нет. Я не принимаю к себе в родство молокососов, у которых голова и киса так пусты, что дунь – улетят. Саг олсун!»
Предоставляю судить всякому, какое бешенство обуяло Искендер-бека, когда ему слово в слово был передан насмешливый отказ. Наконец пена ярости скипела, и он затаил глубоко в сердце обманутую страсть свою и голодную ненависть. Он был татарин.
IV
Янанерден, чихар тютюн.
С места, где горит, всегда дым подымается.
Теперь вы знаете отношения Мир-Гаджи-Фетхали к Искендер-беку и не подивитесь, конечно, что он с большою неохотою, не сказать ли – с робостью, принялся стучать в его дубовые ворота. Это не был наглый стук заимодавца, не частые повелительные удары палкою комендантского есаула или чауша[105], вестника приказа явиться в диван или наряда ехать гонцом куда-нибудь. Не походил он на бранчивый стук ревнивого мужа по возврате с базара или гордые колотушки отца, не ожидающие ни замедления, ни прекословия, – одним словом, на все звуки, имеющие свойство разрыв-травы, от которых замки распадаются как соль и половинки раскидываются настежь; нет, это был стук, средний между гордостью и лестью, между извинением и просьбою, учтивый мягкостью тона и многозначительный от расстановки.
Искендер-бек был не женат и не богат, и потому двери его растворялись очень скоро, без обычных мусульманских вопросов – кто там, что надобно; и растворялись наотпашь, а не чуть-чуть, из страха, чтобы гость не увидал его жены или сундука. Искендер-бек принимал гостей не на улице, как это большею частию водится у людей семейных, а прямо в доме, и просто в заветной своей комнате. Ему нечем было соблазнять воров сердец и воров денег; замки и подушки его не боялись чужого прикосновения.
– Буюрун, эфендиляр (Милости просим, господа)! – раздалось из дому, и двери распахнулись приветно.
Искендер-бек сидел на пороге и покуривал коротенькую трубочку. Он наблюдал, как холил лезгин, нукер, его коня. Не встал, а вскочил он, завидя Мир-Гаджи-Фетхали в голове гостей своих… Молодая кровь хлынула в лицо. Но он быстро подавил и негодование и любопытство свое; он учтиво положил руку на сердце и, с легким склонением головы, просил пришедших в комнаты. Когда они уселись на ковры по родам, оправили чинно полы платья над поджатыми калачиком ногами, огладили бороды с восточною важностью и разменялись «селямами» да вопросами о здоровье родных и домашних, о состоянии благовонных мозгов и о прочем, начались сперва вздорные разговоры, околичнословия и предисловия, первые раз-махи пращи, назначенной ринуть камень. Дагестанские горожане, народ необыкновенно церемонный и красноглаголивый, – достойные подражатели персиян, которых именем и родством они очень гордятся. Там всякая глиняная голова величает себя золотою, кызиль-баш. Бегать они умеют только от неприятеля и не любят ветрености ни в речах, ни в приемах: я уверен, что для этого не хотят они строить и ветряных мельниц. Наконец Мир-Гаджи-Фетхали расступился речью о бедствиях, грозящих жатвам дербентцев. Не раз обращался он к свидетельству своих товарищей, которые в самом деле составляли приличный пролог и эпилог его картинам, – толстый и румяный Гусейн как настоящее довольство, сухопарый Ферзали как будущий голод. Видно было, однако ж, что засуха подействовала и на красноречие оратора: слова сыпались из его рта как из переспелого колоса, но завялые семена падали на каменную почву. Искендер-бек был, или казался, равнодушным, и только порой столбом вырывающийся из ноздрей его дым доказывал, не в пользу оратора, что в груди его что-то кипело. Мир-Гаджи-Фетхали заключил восклицаньем к пейгамбару Али, «пророку» шиитов: «Горе, горе Дербенту!»
– Маалюм-дюр (Конечно)! – произнес Искендер-бек.
– Хальбетте-дюр (Непременно), – подхватил Гусейн.
– Шекк-сюс-дюр (Без сомнения)! – прохрипел Ферзали.
И потом минута молчания.
И потом Искендер-бек с холодною учтивостью спросил, какую связь имеет засуха с его недостойною особою.
Он не мог дослушать до конца изложения, приглашения и назначения своего на подвиг водоноса.
– Мехтель зат (удивительная вещь)! – произнес он сердито. – Дербентцы не удостоивали меня до сих пор поклоном, не только добрым словом, и вдруг навешивают на меня заслугу, которой я не стою и не желаю. Зачем бы я, позвольте узнать, просил у Аллаха дождя? Я очень рад, напротив, что моя кровля не течет теперь, что на небе нет туманов, а на улицах грязи. Вы смеялись, что я не сажаю своей марены: с чего же я стану плакать о вашей? Вы доносили, клеветали на отца моего; обобрали, гнали его, порочили и презирали меня, а теперь хотите, чтобы я служил вам, трудился за вас, пытал для вас милосердие Божие, может быть на позор моей доброй славы. Ну есть ли какая-нибудь справедливость требовать этого? Есть ли какое право ожидать? Да и не в насмешку ли мне выбрали вы почтенного и высокостепенного Мир-Гаджи-Фетхали-Исмаил-оглы ее-килем, поверенным ваших озарительно мудрых выдумок? Впрочем, верблюда не вьючат, когда он на ногах; вьючат, когда поставят на колена: у меня с Мир-Гаджи-Фетхали особенные счеты; извините, господа, мы выйдем на минуту потолковать с ним, к сторонке!
И он дал рукою пригласительный знак Мир-Гаджи-Фетхали; и Мир-Гаджи-Фетхали, у которого лицо вытянулось длиннее осенней ночи, встал с такою улыбкою, будто она хотела укусить; оба вышли на галерею.
Должно думать, язык у старой лисы был точно обмакнут в мед или волшебство, в джадуллух, потому что, не прошло получаса, оба недруга вошли в комнату лучезарные и миловидные, ни дать ни взять как персидский орден Льва и Солнца, тем сходнее, что тегеранские живописцы изображают обыкновенно льва бородатым козлом, а солнце – червонцем.
– Эфендиляр! – произнес Искендер-бек, обращаясь к посланцам, – я имел свои причины не соглашаться на выбор дербентских жителей, но почтенный Мир-Гаджи-Фетхали, да сохранит его Аллах в своей милости, разжалобил меня над бедами скудного народа, убедил, упросил испытать последнего, верного, священного средства, которое вы предлагаете, – принести снегу с Шахдага и вылить его в море. Конечно, все в воле Аллаха и в заступлении пророка, но, если теплая, чистая молитва, может смягчить сердце Всевышнего, я дерзаю думать, что облака развернут сжатую руку свою и дождь прольется. Молитесь, я буду трудиться. Я еду в эту же ночь: время дорого.
Приветы благодарности посыпались, туфли зашаркали. Искендер-бек остался один, глаз на глаз с своей душою. «Право, мне пришлось краснеть, – думал он, – перед этим Мир-Гаджи-Фетхали: я знаю, что он терпеть не может меня, а для общей пользы помирился со мной, выдает за меня свою племянницу… Абур адам (Честнейший человек)!»
– Не человек – душа этот Искендер, – говорили промеж собой беки, – крепко сердит и на дербентцев и на Фетхали, а как брызнули на него слезами бедных – растаял!
Народ, обрадованный вестью о согласии молодого бека, запел и заплясал. Мир-Гаджи-Фетхали чуть не закинули с благодарности на небо. Похвалам добродетели Искендера не было конца.
А Фетхали смеялся в рукав. «Слово не заклад, – говорил он сам себе, – за полу не потянет. Машаллах, я не дурак! Валлахи'ль-азим, бил-ляхи'ль-керим, не дурак! Я бы захлебнулся позором, если б Искендер-бек отказал мне. Сказали бы – он мыльный пузырь на весах уважения, он переломленного гроша не стоит! Что ж делать! Съел грязи – ударил рукой в руку этому гарам-заде (бездельнику); зато и завернул же я ему словцо в условие: если счастливо кончишь поход свой… Поглядим, посмотрим!»
А Искендер-бек с радости целовал своего коня, приговаривая:
– Дураки они, дураки, воображают, что я для их пшеницы отдаю пот свой! За такую красоточку я не пожалел бы и крови. Эй, Ибрагим, задавай ячмень гнедому!
Скольких людей заклеймили бы мы стыдом, вместо того чтоб наряжать в похвалы, если б узнали, на какой закваске пекут они свои добрые дела! Но провидение – великий химик: оно кипятит и очищает в горниле своем все частные замыслы, все расчеты, для того чтобы отлить из них общее благо в прекрасную форму.
V
Насиб олсун!
Да свершится судьба!
Куда, подумаешь, прекрасная вещица – нос! Да и преполезная какая! А ведь никто до сих пор не вздумал поднести ему ни похвальной оды, ни стихов поздравительных, ни даже какой-нибудь журнальной статейки хоть бы инвалидною прозою!46 Чего-то люди не выдумали для глаз! И песни-то, и комплименты, и очки, и калейдоскопы, и картины-то, и гармонику из цветов. Уши они увесили серьгами, угощают Гайденовым хаосом47, «Робертом-Дьяволом»48, «Фра-Дьяволом»49 и всеми сладкозвучными чертенятами музыки. Про лакомку-рот и говорить нечего: люди готовы бы жарить для него не только райских птиц, да самих чертей; скормить ему земной шар с подливкою знаменитого Карема50. А что выдумали они для носа, позвольте спросить, для почтеннейшего носа? Ничего! Положительно ничего, кроме розового масла и нюхательного табаку, которыми развращают они носовую нравственность многих и казнят обоняние остальных. Неблагодарно это, господа, как вы хотите: неблагодарно! Он ли не служит вам верою и правдою? Глаза спят, рот смыкается иногда прежде пробития зори, а нос бессменный часовой: он всегда хранит ваш покой или ваше здоровье. Он вечно в авангарде. Испортятся глаза – его седлают очками. Нашалили руки – ему достаются щелчки. Ноги споткнулись, а он разбит! Господи, воля твоя… за все про все бедный нос в ответе, и он все переносит с христианским терпением; разве осмелится иногда храпнуть: роптать и не подумает.
Ну да забудем мы, что его преискусно изобрела природа, как бы разговорную трубу, для усиления нашего голоса, для придания ему разнозвучия и приятности. Умолчим, что этот духовой инструмент служит также и орудием всасывания благоуханий природы, проводником и докладчиком души цветов душе нашей. Откинем пользу его, возьмем одну эстетическую сторону, красоту, – и кто против носа, кто против величия носиного? Кедр ливанский, он попирает стопою мураву усов51 и гордо раскидывается бровями. Под ним и окрест его цветут улыбки, на нем сидит орел, – дума. И как величаво вздымается он к облакам, как бесстрашно кидается вперед, как пророчески помавает ноздрями – будто вдыхает уже ветер бессмертия.
Нет, не верю, чтоб нос предназначен был судьбой только для табакерки или сткляночки с духами… Не хочу, не могу верить!.. Я убежден, что, при всеобщей скачке к усовершенствованию, нос никак не будет назади!.. Для него найдут обширнее круг деятельности, благороднее нынешней роли.
И если вы хотите полюбоваться на носы, во всей силе их растительности, в полном цвету их красоты, возьмите скорей подорожную с чином коллежского асессора и поезжайте в Грузию. Но я предсказываю тяжкий удар вашему самолюбию, если вы из Европы, из страны выродившихся людей, задумаете привезти в Грузию нос на славу, на диковину. Пускай объявите вы у тифлисского шлагбаума, в числе ваших примет, нос Шиллера или Каракаллы52: суета сует! На первой площадке вы убедитесь уже, что все римские и немецкие носы должны, при встрече с грузинскими, закопаться со стыда в землю. И что там за носы в самом деле, что за чудесные носы! Осанистые, высокие, колесом, а сами так и сияют, так и рдеют; ну вот, кажется, пальцем тронь – брызнут кахетинским. Надо вам сказать, что в Грузии, по закону царя Вахтанга VI53, все материи меряются не аршинами и не локтями, а носами со штемпелем. Там говорят: «Я купила бархату семь носов и три четверти» – или: «Куда как вздорожал канаус, за нос просят два абаза»54. Многие дамы находят, что эта мера гораздо выгоднее европейской.
Да и в Дагестане, нечего Бога гневить, хоть редко, а попадаются такие носы, что ни один европейский nasifex, или ринопласт, то есть носостроитель55, не посмеет без стропил выкроить. Не дальше искать, у дербентского бека Гаджи-Юсуфа, да укрепит Аллах его плечи, такой ветрорез, что, конечно, сделал бы честь любому носорогу. Нельзя мимо пройти без страха и умиления; так, кажется, и рухнет этот эрратический[106] утес на ноги! Зато под его тенью могли бы спать три человека. Должно полагать, такой нос был в большом уважении между всеми правоверными носами, потому что дербентцы выбрали хозяина его в проводники Искендер-бека; других достоинств, по крайней мере мною, за ним не замечено. Правду сказать, Юсуф, побывав при каком-то своем родственнике в Мекке, столько рассказывал чудес про все, что видел и делал, что между ротозеями, на базаре, слыл по крайней мере за льва пустыни. «Билян адам-дюр, гаджи хавай дегюль (Опытный человек, недаром путешествовал)», – говорили усы и бородки, когда тот без милосердия рубил языком головы кровопийцам, железоедам, разбойникам, каничан, дамиреян, гарамиляры; как однажды заблудился он в таких горах, что по хребту идешь, звезды, как репейник, в шапку цепляются; как питался он там две недели яичницею из орлиных яиц; как ночевал в пещерах, в которых такое сильное эхо, что чихни – оно «Аллах сахласын (Здравия желаю)!» отвечает[107]. И пальцы слушателей невольно прыгали в рот от удивления, и восклицания: «Машаллах, иншаллах» – раздавались кругом. Понабрался бы у него Бальби56 топографических и статистических сведений! Говорит – не задумывается, а скажет – так задумаешься. Господи, твоя воля, каких-то птиц, каких зверей не ловил он! Сам Кювье57 в допотопном мире подобных и не выкапывал. А людей-то, что за людей видал! Черти, да и только! У тех две головы и одна нога; у других вовсе нет головы, а думают брюхом. Эти питаются одними облаками, те глотают скорпионов не поморщившись, а скорпионы там с буйвола. Ну уж рассказчик был этот Гаджи-Юсуф! Да как примется клясться и божиться, даже пророк за бороду хватается. Я подозреваю, что он сам назвался в товарищи Искендер-бека, затем что россказни его очень поизносились; несмотря на множество заплат, которыми он их подновлял, надо было нарвать пучок свеженьких на Шахдаге. Как бы то ни было, миг спустя после намаза58 Гаджи-Юсуф, в полном вооружении и на коне, стоял у ворот Искендер-бека и кликал его на всю улицу. Все соседние щенки и ребятишки сбежались полаять и подивиться на пегливана (на богатыря)[108]. И точно он был, говоря словами волынского летописца, «дивлению подобен»59. На папах свой, по праву молельщика, навертел он в чалму целую простыню; ржавая кольчуга и стальные поручни выглядывали из-под чухи, испещренной галунами. На боку бренчала сабля; огромный кинжал рисовал на брюхе эклиптику60. За поясом торчал пистолет; с пояса висели сумки и сумочки, накременники и пороховые рожки; сзади ружье, на которое заброшены были откидные рукава; на луках висели ковш, плеть и карманчики, – с чем, не знаю, – да и черт знает чего у него не было. Желтые сапоги с высокими каблуками довершали наряд: ратник наш насилу шевелился под своей военной сбруей. Граненый нос его сверкал последним румянцем зари и вовсе не мусульманскою краснотою. Молодец, кажется, на дорогу хватил заветного.
Искендер-бек выехал.
И оба они, миновав чешуйчатые ворота Дербента и осыпанные напутными благословениями народа, сидящего у ворот, пустили вскачь коней своих по Кубинской дороге: как не показаться, не поджигитовать перед толпою! Разумеется, что молодец Искендер несся впереди на лихом своем карабахце; за ним Юсуф; потом какая-то собачонка, которая из одного усердия провожала с лаем каждого коня; потом пыль, потом…? Потом ничего. Путники исчезли.
Но не вдруг исчез Дербент для путников. Доскакавши до холма Дашкесен, они остановились, чтобы послать прощальный взгляд городу. Вид был прелестный: слева крепость Нарын-кале ярко отделялась своими белыми зданиями и красноватыми башнями на зелени предгорий, а яркая зелень обнимала холмы, как фата грудь красавицы. Сквозь нее там и сям пробивались каменные сосцы. Справа играло море, как оживленное серебро или глазетовая дымка, чуть струимая ветерком. Жемчужная бахрома прибоя то обнажала, то покрывала опять взморье; два брига, как спящие киты, тихо зыбились на влажном поле. Городская стена, спадающая ступенями, тянулась, чернея, поперек и, будто дряхлый старик, подпершись башнями, казалось, дышала открытыми воротами; буйволы, неподвижные как на картине, стояли сбоднувшись; вереница ослов, с медными кувшинами на спине и с мальчиками, сидящими у них на хвостах, завивалась около фонтана. Подвижные группы идущих и сидящих татар, по холмам и близ стен, сновались живописно, и между них порой мелькали две-три белоснежные чадры, пролетали будто лебеди по черной туче, и пасть ворот поглощала их. Зоревой барабан, последний приказ дня, смолк, флаг упал, ворота сомкнулись тихо за толпами жителей, все опустело, все померкло… Грустно стало Искендер-беку, неизъяснимо грустно. Ему казалось, он позабыл душу в Дербенте. Уверенность в успехе его оставила, даль и сомнения раскинулись впереди безбрежною степью. Она на севере, – а надо ехать к югу, разорвать надвое сердце, раскинуть половинки бог весть куда, бог весть надолго ли!.. О, если вы были когда-нибудь молоды душою, любили душою и в первый раз удалялись от того места, где живет она, вы поймете тоску Искендер-бека! Если вы хотите, это глупость – воображать, что, дыша одним воздухом, мы мечтаем одну мечту; что, взглянувши десять раз на окно, даем десять воспоминаний; но это утешительная глупость! Это дарит нам самим мечты и воспоминания, правда одинокие, зато чистые, зато яркие, зато умирающие девственными. Воображение наше всегда роскошнее действительности; воображение – поэзия: оно порхает птичкою, на его крыльях нет ни бальной, ни подорожной пыли. Действительность – проза: она роется в подробностях словно крот, она зевает за бостоном с матушкою61 и в восторге от своей невесты разглядывает, не поддельный ли жемчуг у нее на шее; или ухаживает за мерзавцем мужем, подкупает служанок, шляндает по задворьям, чтобы пробраться в рай; в обетованной земле может хотеть египетского чесноку, то есть ужина; и… и… Со всем тем я бы отдал целый поток чистейших мечтаний за одну струйку одеколона, брызнутую на меня кстати: добивайтесь вы толку у людей!
– Поедем! – сказал Гаджи-Юсуф. – Коли не остались в городе с живыми, нечего медлить за городом с мертвецами, – сожгу я их гробы! улларын кабириляры яндырам! Посмотри, Искендер: гробовые плиты по кладбищам будто шевелятся, будто обходят нас; да и проклятая виселица у третьих ворот вытягивает вслед за нами свою черную лапу.
– Это она по себе вздыхает, Гаджи-Юсуф-бек; боится, чтобы ты не изменил ей, не убежал от нее, – возразил Искендер шутя.
– Плюю в бороду ее отца! Всякий раз, что пройду мимо, кажется, она так и хватает за ворот. По правде тебе сказать, Искендер-бек, не будь над нами этих гяуров, не усидели бы мы, молодцы, за стенами. Ружье за плечи, ногу в стремя, и чуть улитка-месяц покажет рожки свои – берегись, караваны! Уж задал бы я себя знать и этим табасаранцам: парча-парча эйляр-дым, в куски, в лепестки бы рубил!
– Ну, брат Юсуф, ты, видно, из совиного яйца проклюнулся, что ночью такой храбрый становишься. Во время осады Кази-муллою видел я тебя днем в схватке, или, лучше сказать, не видал я тебя ни разу в схватке. Не орлиное, кажется, у тебя сердце.
– Душечка, жертвочка ты моя, джаным, курбаным, Искендер-бек! Что ты вечно шутишь надо мной? Не при тебе ли я снес голову бейрахчи (знаменщику), когда ходили на вылазку на Кейфарскую гору? Гарам-заде так был зол на это, что голова его уж на полу укусила меня за ногу! Неужто ты не видал этого?
– He хочу хвастать, не допустил Аллах!
– Да и разве люди эти лезгины! Лезги ганда, гюзги ганда! Ли ганда, дораи ганда! (Куда лезгину глядеться в зеркало! Куда медведю одеваться в тафту)! Стоит ли их глупым, необтесанным пулям подставлять свой образованный лоб? Убей лезгина – одною лопатою меньше[109]; а ведь если меня убьют, сам Аллах призадумается, кем заступить мое опустелое место на дербентской шахматнице. Зато уж валял же я их из пушки! Топчи-баши, бывало, так меня за полу и держит: «Наведи, говорит, Юсуф, ты мастер целить». Что делать, наводишь; иногда и нехотя: гьозим усти! башим усти! изволь! ради моего глаза! ради моей головы! Да как грянешь из падишах тапенджасындан (из царского пистолета), так, где кучка лезгин была, одни крошки летят! Посмотришь – воробьи расклевали! Ну уж потешил я свою душеньку: и все даром отличался! Забыли начальники, так же как и тебя, Искендер. Обоим нам фук дали!
«Шайтан апарсын (Черт возьми)! – подумал Искендер-бек. – Сперва я рад был, что меня не наградили наравне с некоторыми трусами, а теперь и в числе недовольных вместе с Юсуфом быть стыдно».
– Однако не слыхал ли ты чего, Искендер?
– Чего здесь услыхать, кроме шелеста ветра по лесу да чакальего плача!
– Анасыны, бабасыны, атасынын эвельдакиляры батаим (И мать, и отца, и предков отца этих чакалов утоплю я)!.. Что это они распелись, словно тавлинские девки62 на чикмасане (на вечеринке) Улу-бея?
– Верно, чуют себе ужин из свежих трупов, так заранее радуются. Да и правду сказать, если твой нос достанется им в добычу, есть чему! Дербентские беки сделались нынче такие сидни, что самим чертям их мясо в диковинку; чакалкам и подавно!
– Не пугай понапрасну, душа моя Искендер! Худое слово кличет худое дело. Долго ли до беды! Теперь что ни самая-то пора для разбойников, теперь они рыщут по дорогам, как голодные тигры: ведь недаром говорят, когда в горах зерно не родится и сам-друг, порох родится сам-сот. Если Мулла-Нур?..
– А кто такой Мулла-Нур?..
– Тише ради Гусейна и Алия! Тише, Искендер! Не дожить мне с тобой до завтрашней бороды! У этого проклятого Мулла-Нура уши на всех деревах вместо ягод растут, паутины его раскинуты везде. Не думаешь, не гадаешь, а он, откуда ни возьмется, давай строчить из ружей, покуда «аман» не закричишь.
– А потом?
– А потом, разумеется, к расчету: Мулла-Нур большой шутник; если заметит, у кого душа вынимается вместе с червонцами, оберет до нитки; с иного, напротив, если ему взгляд по душе придет, не возьмет и рубля. У того потребует золота весом на две на три пули; у другого – серебряных монет сколько уложится на кинжал. «Я, – говорит он, – сам купец, торгую свинцом да булатом». Порой, бывает, только два на сто с товара возьмет. «Ведь платите же вы рахтар[110] на всякой переправе, в каждом городишке. А чем я хуже шамхала?» И все платят, да еще похваливают, что без прижимок и проволочек пропускает.
– Да разве у этих купцов одни трубки вместо огненного оружья? Разве этот разбойник из чугуна вылит?
– Не то из чугуна – из кованой стали! Сказывают, никакая пуля его не берет. Аллах акбер (Бог велик)!
– Если тебе верить, Юсуф, так он шайтан, не менее: потому что без чертовской помощи как мог бы один человек останавливать и грабить целые караваны!
– Видно, душа моя Искендер, что ты в сундуке рос и, кроме домашнего петуха, песен не слыхал. Да кто тебе говорит – у Мулла-Нура нет товарищей? Кому несеяный хлеб наскучит? Взойди здесь на первую горку: «Кто ко мне, кто со мной, стрельцы, удальцы, бездомные молодцы?» – от всех сторон, с поморья и с угодья, на это слово слетятся все головорезы, все, у кого имение укладывается в ножны, все, кому ружейный заряд души дороже. Примером сказать, не будь у меня сбоку родных да впереди наследства и этого стоглазого коменданта над головою… я бы сам… друг мой Искендер… Ой, Искендер-бек, куда ты удрал? Этакой иноходью как раз въедешь в пасть шайтана! Недаром говорят, что темнота – чертов мост; а теперь так темно, зюльмат кими (точно в преисподней)! Что же не отвечаешь, Искендер?.. О чем ты задумался?
– Я думаю, что ты был бы плохой наездник, Гаджи-Юсуф.
– Я – плохой наездник? Я? Есть ли у тебя стыд, утан мазмисын, Искендер! Баллах, биллях! Жаль, что ты не видал, как под самым Шамом (Дамаском) отработал я разбойников. Не хвастовски сказать могу, весь караван молельщиков у меня в ногах валялся. Правду сказать, и было за что. Дуз чурек кой гоздяры тутсун (Пусть мне хлеб-соль очи залепит), если я лгу! Ружье у меня раскалилось докрасна, так, что само стреляло, а сабля – чистый мисир63, с золотою струйкою, – она у меня до сих пор как свидетель у стенки стоит, – сабля гребнем вызубрилась: да и расчесал же я этим гребнем арабские бороды, анасыны, бабасыны! А что за бороды у них, Искендер! Черкес япунджа кими (Словно черкесская бурка), на плечи закинуты. Кончилось тем, что ровно семерых я до смерти убил, а двух, алин аллиннан баглииб, эгерустине чекиб (рука с рукою связавши, на седло встянувши), в тороках до ночлега привез. На другой день шамский паша, при нас же, всех трех этих разбойников сжег: словно бурьян горели, бездельники, – так и трещат. Куда сухой народ эти арабы!
– И чернолицый, я думаю?
– Аллах упаси, какой чернолицый! Ни дать ни взять, сапог русских офицеров. Бывало, не пощупавши рукой, никак не узнаешь, где у них рожа, где затылок.
– И не краснеют они?
– Заводу нет краснеть! Я пробовал: даже пощечинами краски не добьешься.
– Вот бы тебе оттуда вывезти пару таких щек, Гаджи-Юсуф! А то, не ровен случай, родимые, хоть и желтый сафьян, все могут иногда полинять от подобных россказней. Ружье твое, на что железо, а и то имело больше тебя совести: покраснело-таки!
– И ведомо, покраснело от накала: спроси хоть у Сафар-Кули!.. Жаль, умер он недавно; что бы ему подождать, мошеннику, до сегодня! А то перед тобой хоть весь в клятвы рассыпься – не поверишь. Такая, видно, в тебе кровь, что ни с водой, ни с маслом смешать нельзя: след в след по отцу пошел! Да что же ты в самом деле трусом, что ли, в уме держишь меня? Подавай мне сейчас дюжину самых лютых людоедов: разобью я их путь и веру, иолины, динины кесем! Проглочу; и на семь лет без вести пропадут! Покажи мне их! только покажи ты мне их! Пхе!.. Ну-тка, умудрись мне их показать теперь? Чего, брат, я не вижу, того знать не хочу! Заглазно и коня не покупают; а я тебе стану без глаз драться? Нашел дурака! Я люблю, чтобы солнце любовалось на мою отвагу, чтобы сам я видел, куда метить; я ведь человек расчетливый, никуда не бью врага, кроме правого глаза. Чем он будет целиться, когда правого нет, а левый прищурен? Заневолю ружье бросит!
– Я повода бросил, Гаджи-Юсуф! У меня оба указательные пальца во рту от удивления. Машаллах!.. Иншаллах, как бы нам поскорее свету дождаться да, Бог даст, встретить хоть десяток разбойников на закуску… Я отступаюсь от своей доли, я их всех тебе отдаю. Я не обнажу не только кинжала, даже вилки из кинжала[111], валлах, биллях, не обнажу!
– Не божись даром, Искендер: черт меня унеси, это предурная привычка! Здесь и без исканья много разбойников, а ты к ним на встречу напрашиваешься. Видишь, какой здесь край воровской: шайтан, у тащил с неба месяц, а ночь у нас и дорогу из-под ног вытаскивает… Ай-ай-ай, Искендер!
– Что с тобой сталось, Юсуф? Кто тебя?
– Ох, ох, перепугал проклятый!.. Я поймал кого-то, Искендер. Ким сен, гардан сен (Кто ты, откуда ты)?
– Тащи его сюда, бездельника!
– Упирается, нейдет!
– Так брось его, да в сторону: я буду стрелять!
– То-то и беда, что не пускает: вцепился, мошенник, точно ястреб в фазана… Ой-ой, до костей когти запускает…
– Ты, видно, забыл, что на тебе кольчуга, Юсуф, что у тебя пистолеты за поясом!
– Забудешь, что и голова на плечах!.. Ой, выручи, Искендер-бек, ради самого пророка, выручи!
Искендер-бек не спешил; он знал, что у страха глаза велики. Он подъехал шагом, ощупал кругом Юсу фа и сказал вполсмеха и с полудосадою:
– Так и есть! В него терновый куст вцепился! Ах ты, дали-баш, дали-баш, горемыка[112], возил бы ты лучше на осле воду из фонтана, чем ездить на коне в горы за снегом! А еще разбойничать собирается!
– На худой конец разбойников колотить мое дело, – произнес ободренный Юсуф. – Задал же я ему тумака, бездельнику… Лови, лови, Искендер; вон он под кустом шелестит словно ящерица… Слышишь?
– Слышу, как на тебе колечки дрожат!
– Дрожали, брат, и у этого лезгина косточки, когда я его тузил! Сжег я бороду его отца, да и его собственной бороде спуску не дал. Теперь он черту в чубукчи годится64: пощупай-ка, сколько волос я у него из усов выщипал!
И Гаджи-Юсуф рванул целый клок из правого зильфа своего (локона сзади уха) и насильно втиснул его в руку Искендер-бека. Между хвастунами есть свои ханжи и свои мученики. У Юсуфа текли слезы от боли.
И вдруг он схватил за поводья коня Искендерова.
– Посмотри, погляди вперед, – произнес он трепетным голосом, – видишь ли, как сыплются искры? Это с полки срывает… Там засада!
– Там Дарбас, – отвечал спокойно Искендер, – неужели ты не видишь и не слышишь, как сверкает и шумит река?.. Худые же приказчики твои уши и глаза, Юсуф: надувают тебя на всяком шагу в половине со страхом! Право, я бы тебе советовал выбрать в проводники свой нос и ехать лучше ощупью.
– Лучше совсем не ехать, Искендер! Река?.. Безделица! Бешеная река!.. Шутка! Да теперь сам шайтан нарочно, я думаю, кипятит снега и камни в горах, чтобы в мутной воде утопленников ловить; он не разбирает, есть ли, нет ли чешуя на этой рыбе[113]. Искендер-бек, душечка ты мой, Искендер, не езди! Пожалуйста! Миннет эйлярам! тавакой эйлярам сана! У меня конь так и спотыкается. Пустим коней покормиться, а сами переждем здесь ночь… Не слушает! Уф-уф, так на седло и плещет! Напьешься после, разбестия. Да какая же холодная вода!.. Что ж ты стал среди реки, гарам-заде? Ух, кто-то тянет меня за полу!.. Ой, падаю, ой, тону!
К счастию, Юсуф удержался в седле, и конь, выскочив на берег, зафыркал, затрусился, заржал. Переправа была в самом деле опасна, и молодой бек, выехав ранее на другой берег, то хохотал, то трепетал, слыша жалобные восклицания своего хвастливого спутника. По крайней мере Юсуф, почти выкупавшись, выудил в реке достаточную причину сваливать на лихорадку страх свой. Перед рассветом наши путники доехали до Самбура, а тот ревел и кипел, разлившись широко. В мутных волнах прядали, гремели, мелькали каменья; глухой гул стоял над потоком. Они стреножили коней и пустили их щипать мураву, а сами легли отдохнуть под бурками. Юсуф и тут не перестал бояться, не перестал хвастать; Искендер мечтал, засыпая. Один рассказывал про то, чего никогда не было; другой наслаждался в мыслях тем, что, может быть, никогда не сбудется. Наконец разговор, составленный из вздохов Искендера и зевков Юсуфа, редел, редел и прекратился. Впрочем, пугливый герой спал вполглаза и вполуха: он раз десять окликал собственный свой нос, воображая, что кто-то крадется задушить его, что кто-то трубит в рог, – а это он сам храпел. Он бредил, но и сквозь бред пробивались клятвы и обломки хвастовства…
Разгадайте мне, пожалуйста, отчего трусы всех возрастов и всех стран на одну стать. Природа или расчет – в них хвастовство? Так или этак, но меня не обманывала примета: кто обнажает саблю, не видя неприятеля, или много рассказывает про себя после дела, тот, верно, не из храброго десятка. Истинное мужество немногоречиво: ему так мало стоит показать себя, что самое геройство оно считает за долг, не за подвиг; а кто рассказывает про свои долги? Трусость, напротив, бесстыдно скрываясь перед неприятелями, бесстыдно поднимает нос перед приятелями и сочиняет наглые небылицы. Чем же, вы думаете, это кончается? Очевидцы хохочут, а слушатели привыкают верить, особенно люди, в которых более чести, чем прозорливости. Смотришь, хвастун награжден вдвое; и немудрено: у строевого меча одно острие, а язык – меч двуострый. Дело уходит в область минувшего без возврата, слово повторяется по произволу; оно живет, оно живит.
По-моему, шпага есть прекрасная эмблема истинной храбрости, одетой в скромность: она всегда в ножнах во время мира, она не бренчит и не сверкает как болтливые шпоры.
Впрочем, пусть не ропщут на меня охотники пенить свою водицу: хвастовство – природа человека, потому что человек горд от природы. Послушайте-ка, что говорит он: «Свой ум – царь в голове, а с умом я – царь природы». Дом его провалился сквозь землю, нос упал на землю, сам он умирает оттого, что холодный ветер дохнул ему в лицо – а он даже на исповеди не кается, что называл себя царем природы. Обманывая себя, привыкают обманывать других. И в самом деле, что такое воспоминание, что такое надежда? Хвастовство минувшего и будущего! То и другая надувают, хотя не наполняют нашего настоящего. Настоящее – миг пробуждения между двумя снами, но – миг забот и страхов, миг голода желаний и жажды ума, миг, помноженный на страдания и наслаждения души и тела попеременно. Только в этом мы страх близоруки: все, что еще вдали или уже далеко, нам кажется величавым и пленительным. Все, что нам заветно или недоступно, рождает неутомимую охоту овладеть им.
Вот почему хвастун и завистник, две стороны одной и той же поддельной монеты, сами на себя доказывают, что дела или достоинства, которыми они хвалятся или которые они унижают, им невозможны.
VI
Сычан гюранда, пелянга охшатан пишик, ос-лан гюранда, сычана дюнды!
Кошка, завидя мышь, тигром надулась, а перед льпом сама прикинулась мышкою!
Сладостно пробудиться от первого луча солнца, когда он, как резвун попугай, прокрадывается сквозь занавес и спальню и золотым клювом своим сбрасывает одеяло мрака с милого лица жены, покоящейся будто роза на листике. Сладостно, едва ли не сладостнее, открыть очи после краткого сна на свежей мураве, под пологом неба; открыть – и прямо, уста к устам, увидеть, ощутить лицо природы. Невеста всегда милей жены, еще не своей, – а природа вечно невеста! Искендер-бек потянулся с негою, медленно поднял веки, еще полные сновидений, и перед ним как их продолжение открылась пышная картина утра. Кругом дремал лес, облитый, перевитый южною зеленью; перед очами в вышине горел и дымился снежный Шахдаг, как серебряное кадило; перед очами внизу катился бешеный Самбур, то разбрызгивая влажным вихрем, то судорожно свивая в кольца волны свои, точно змей, ущемленный между скалами. Соловей повременно покрывал своею песнею рычанье потока…
И глубоко отозвались в душе Искендера эти прерванные звуки. Казалось, ими разрешалась недосказанная загадка души; казалось, в них обретал он собственные выражения, язык любви, его томящей… Он был весь внимание… Но в самый тот миг, когда певец лесов рассыпался звездами блистательных звуков, Юсуф захрапел, как лопнувший барабан. Искендер-бек потерял терпение и в досаде ткнул закрученным носком своего сапога выставленный из-под бурки нос его… Юсуф вскочил!
– Что там?.. Шайтан тебя унеси, Искендер-бек: наступил мне на нос, а у меня, слава Аллаху, нос не горошина, у тебя глаза не на затылке.
– Однако ж и не на каблуках. Извини, брат Юсуф, пожалуйста.
– Какой леший учил тебя плясать по моему носу? В плясуны по канату, что ли, ты собираешься или хочешь заранее привыкнуть к переходу через эль-Сырат?..[114]65 Стряхну я в ад твою душу! Валлага, билляге!
– Из каких пустяков, право, ты разгневался! Ведь нос твой не из фарфора литой, не из Стамбула привезен! Видишь, я топнул ногой с досады на соловья: помешал мне, крылатая свистулька, слушать, как ты храпишь.
– Чтобы вам обоим питаться весь век одним запахом роз; чтобы шипы их были для вас колючи, как носок твоего сапога; чтобы!..
– Полно, полно, Юсуф, не корми чертей этими пряниками! Слышишь, что поет мулла в Зеафурах?[115] «Молитва лучше сна!» А я добавлю – «и лучше клятвы!»
Совершив омовение и молитву, путники наши решились бродиться за реку. Вода, от растопленных дневным жаром снегов, за ночь немного стекла; но кто знает горные реки летом, кто знает Самбур в особенности, тот скажет вам, что переправа через эту реку в разливе во сто раз опаснее боя. Если конь ваш споткнулся, вас не спасет ничто и никто. В один миг череп разлетится о камни, а быстрина увлечет в море. Со всем тем привычка и необходимость обращают этот подвиг в самое обыкновенное дело, хотя ни та, ни другая не мешают проезжим тонуть весьма нередко. Предчувствуя беду, конь упирается, мочит ноздри в пену, озирается во все стороны, дрожит; но удар по крутым бедрам – и он бросается в воду, задними ногами скользя с крутого берега. Чтобы противустать быстрине, он ложится навстречу ей: седло погружено, волны прядают через луку, брызги летят в глаза, часто камни, ударившись один о другой, крутятся мимо… Кажется, конь клонится, падает, грузнет; и точно, будто не трогается с места, – так стремительно несется река, так блещет и кружится перед глазами ртутная влага!.. Горе тому, у кого несилен конь; вдвое горе, у кого сдаст голова или сердце в роковую минуту поворота посередине реки. Обыкновенно сперва съезжают вниз по течению и потом, описав острый угол, едут против быстрины на въезд. Да сохранит же вас Бог вспоминать тогда правила кавалерийской езды, чтобы, посадив лошадь на задние ноги, вдруг повернуть ее пируэтом! Масса воды, ударившись в широкую площадь бока, непременно собьет лошадь, не имеющую опоры. Напротив, заставьте коня лечь на перед и отдайте потом все его тело силе течения, – оно само поворотится на оси и конь, уже твердо стоя на каменном дне, грудью пойдет вразрез валов[116]. Говорю об этом вместо маяка для тех, кого судьба приведет на Кавказ… Я потерял одного товарища моего детства, оттого что он не умел у править конем в ничтожной речонке: он был измолот!
Оба бека, благодаря сноровке и привычности коней, счастливо совершили переезд через оба рукава Самбура. Юсуф, который во все время это не вымолвил слова, – потому что у него занялся дух, – едва выскочил на берег, снова принялся браниться и клясться; он откашливался проклятиями, как будто бы они от этого невольного воздержания набились у него в горле:
– Выпей черт эту реку! Утоплю я в ней свинью!.. Пускай водятся в ней одни бесенята вместо рыбы!.. Слыханное ли дело – надулась до того, что вода под самое сердце хватает? Иссохни же так, чтобы лягушке нечем было вымыть лапок перед намазом! Захлебнись твое дно грязью! Оборотись оно большою дорогою собакам!..
Да то ли еще говорил Гаджи-Юсуф! Так ли он величал беднягу Самбур по всем восходящим и нисходящим поколениям! Щедр был он на это, нечего сказать, да и разнообразен, куда разнообразен: что ни брань, то обновка. Только все эти обновки обшивал он старинною бахромою – анасыны и прочая, агзуа и прочая, из которых во время владычества татар мы кое-что для домашнего обихода «переделали на русские нравы». Говорю – во время владычества татар потому, что ранее ни в одних летописях таковых не встречается, следовательно, в русском языке оных дотоле и не существовало: это ясно как червонец66.
– Ну, к кому же заедем покормить ячменем коней и пообедать сами[117]? – сказал Искендер-бек. – У меня в Зеафурах нет ни души знакомой.
– Да и незнакомой души не найдешь в целой этой деревне. Сожгу я бороды этих двуногих собак! Без абарата[118] здесь и лбом ни одной двери не отворишь. Хоть умри на улице, никто не поднимет, как зачумленного.
– Видно, зеафурцы учились у наших горожан гостеприимству? По крайней мере у нас есть базары.
– А вот попытаем и здесь, не выманим ли какую душонку на абаз, как скорпиона на свечку. Поглядывай по дворам, не увидишь ли серой бородки, Искендер… Серые бороды добрей и сговорчивее прочих. Белая борода, верно, старшина, то есть, верно, плут; красная борода, без сомнения, человек зажиточный; у него и серебрецо водится, и женка покрасивее; не пустит из одной ревности. А кто дожил до серой бороды, у того, конечно, есть домишко и желание купить хенны, чтобы перекрасить себя. Эй, приятель! селям алейкюм! Не позволишь ли нам у тебя отдохнуть часок да отведать хлеба-соли?
– Алейкюм селям! – отвечал высокий угрюмый татарин, глядя через колючий забор. – Вы по службе, что ли?
– Нет, по дружбе, добрый человек!
– Абарат есть?
– Фитат[119] есть, и больше ничего. Ну, шевелись, товарищ, отворяй-ка вороты!
– Милости просим! Хош гяльды! У меня часто керван-сагибляры[120] ночлегуют; и ни конь, ни человек на Аграима не пожалуется.
Запор упал. Странники въехали во двор, попустили подпруг коням, насыпали им на бурку ячменю. Надо вам сказать, что дагестанские поселяне живут очень опрятно; домы почти всегда в два яруса; построены где из нежженого кирпича, где из плетеной мазанки, но выбелены снаружи и внутри. У одной стены – камин, выходящий углом; кругом комнаты в рост человека – лепной карниз, уставленный посудою; на полу если не паласы[121], то очень чистые циновки, гасиль. Окон почти никогда нет, потому что все работы и беседы происходят на открытом воздухе, даже зимой. Мусульманин заботится не о том, чтобы видеть, но чтобы не быть видимым: это – основное правило не только его архитектуры, но и всей жизни. Аграим просил гостей в верхние комнаты. Поставив оружие в углу передней, они вошли в хозяйскую спальню и очень удивились, не встретя прежде никаких примет самки, что посередине стоймя стояли женские туманы. Вопросы вообще для азиатцев – самая щекотливая струна, но вопросы о женщинах они просто считают неприличностью, о жене – обидою. У Гаджи-Юсуфа очень чесался язык по крайней мере подтрунить над заветною мебелью, но он боялся навести хулу на свою городскую учтивость.
– Не попотчуешь ли нас пловом, хозяин? – спросил он.
– Сам пророк не едал такого плова, какой готовила у меня жена! Аллах, аллах! Бывало, все гости пальцы обкусают; так весь в жиру и купается! А уж белый-то какой, рассыпчатый, да с изюмом, с шафраном!
– Это, кажется, Дербент-наме[122] повесть67, – шепнул Искендер-бек товарищу.
– Это Дербент-дары[123], – прибавил Юсуф, укусивши чурек с пендырем (сыром из овечьего молока) как предисловие обеда. – Кажется, этот смурый грешник хочет угостить нас только жениными туманами!
– А почему нет! – возразил Искендер. – Хозяйка не пожалела на них масла. А что если б твои домашние[124], приятель, сложились в одну душу, бирджан олуб, да состряпали нам хотя хынкалу?[125] – обратил он речь к хозяину.
– Хынкал? Где ж у меня хынкал! Кази-мулла съел баранов, земля проглотила посев. Домашние! Вай-вай! Кто ж у меня теперь домашние, кроме этого кота? Умерла моя молоденькая, пригоженькая Уми… С ней закопал я свои последние пятьдесят серебряных рублей в могилу! Плачу не наплачусь досыта над ее туманами!
И он зарюмил.
– Чудесный памятник! – шепнул Юсуф.
– Придется и нам поплакать, – молвил Искендер.
– Дай нам хоть кислого молока, хозяин.
– Кислого молока, джаным? То-то, бывало, моя Уми превкусно его готовила… Да на это ли одно была она мастерица!.. А теперь…
– Теперь тебе стоит поглядеть в пресное, так мигом свернется, – вскричал Юсуф, почти выталкивая Аграима за дверь, – поди принеси какого-нибудь, ты увидишь, что я говорю правду. Продам я твою мать за две луковицы, кислая харя, анасыны сашаим! У меня в желудке петухи поют, а он рассказывает сказки; сам он хоть грязь ест, а нас даже дымом не потчевает, ит оглы (сын собаки)! Эй, хозяин! Кой черт ты любуешься на наши ружья да с проезжими, словно шемаханская плясунья, шепчешься? Мы так голодны, что съели бы кита, на котором свет стоит; подавай нам чего-нибудь поскорей!
– By сагатта, бу сагатта (Сейчас, сейчас), – отвечал тот и принес наконец чашку молока да пучок луку.
Нечего было делать, пришлось довольствоваться и этим. Хозяин между тем оплакивал свою Уми. Юсуф ел и бранился, Искендер смеялся и ел. Пообедавши вкратце, Юсуф метнул полтинник в чалую бороду Аграима, дал пинка туманам, так что с этого монумента полетели заплатки, и они вышли, при угрозах хозяина, что он будет жаловаться на наглецов за бесчестье, нанесенное шалварам его жены. Скоро Зеафуры остались далеко за ними; они удалились вправо на горы.
– Посмотри назад, – робко сказал Юсуф Искендеру, – тот самый бездельник, что разговаривал с хозяином, следит нас, замечает, куда мы поедем.
В самом деле, какой-то лезгин стоял вдали на холме, вложив ногу в стремя и припавши на седло своего коня; два мгновения после его уже не было, словно он утонул в земле.
– Тебе каждый пастух кажется разбойником, – возразил Искендер-бек, улыбаясь.
– Да разве здешние пастухи честные люди? Пхе! Мало ты знаешь здешние обычаи! Кюринцы – всегдашние половинщики разбойников из Кази-Кумык и вольных табасаранцев, а Посамбурье – всегдашняя для горцев дорога. Горцы ограбят караван или проезжего, а пастухи долин их кормят, скрывают добычу; без стад они не могли бы недели прозабавиться тут. Вся шайка Мулла-Нура собрана из горцев, как рассказывают.
– Ну что твой Мулла-Hyp, что твои горцы? Разве не такие же люди, как все мы?
– Люди такие же, да места, где они грабят, иные, чем на долинах. В горах, брат, и ослиное копыто искру дает[126].
– Аллах ишитсын (Бог да услышит меня)! Я бы дорого дал, чтобы стать лицом к лицу с твоими хвалеными! Посмотрел бы я, кто б из нас кому дал дорогу. Пускай я сосал позор, а не молоко из груди матери.
– Опять ты принялся клясться да просить у Аллаха, чего и от шайтана остерегаться надобно! Не грех ли тебе это, душечка Искендер? Разве ты пес или гяур какой, или тебе тяжело носить душу в теле, а голову на плечах? Перекуси черт пополам мой нос, если не лучше повстречать голодного льва, чем этого, не вслух будь сказано, Мулла-Нура!
– Вот то-то, Юсуф, если бы ты поменьше хвастал да поменьше трусил, ты бы лучше знал или видел дорогу: а то, взгляни-тка, в какую трущобу завел ты меня? Здесь сам черт без фонаря обломает голову.
В самом деле, тропка, по которой они ехали, давно спряталась в какую-то лисью нору. Скалы, обросшие многовечными деревами, пробивались сквозь лесную зелень все острее и обнаженнее, точно кости сквозь кожу старика. Наконец каменный порог, сажен сто в отвесе, преградил им ход совершенно. Огромные дубы, вырванные бурею из расщелин, лежали, истлевая, у подножия. Великанские орешники, склонившись над ними, одевали их ночною тенью, а широкие перевязи плюща, то перекидываясь по локтистым сучьям, то падая на землю, оплетали живыми кружевами подол этого плаща, будто сброшенного с плеч утеса. В одном только месте, расторгнутый надвое, он давал исток горному водопаду, когда-то могучему, теперь едва струящемуся по скату плитных обломков. Вода, сверкая по каменной чешуе, заставляла волноваться растения, подернувшие дно ее: казалось, катится каскадом зелени, а там вверху, где высокий уступ задвинул ущелье, через него низвергался луч потока, разлетавшийся в глубине в дым и в пену, будто газовый шарф, затканный в узор битью68 и шелками по кайме своей. Дивная игра природы дала все цвета призмы порослям, детям влаги, оживляющим скалу, так что ручей, играя светом солнца, переливался как прозрачная радуга накрест другой окаменелой радуги. Вверху его струйки, прядая через порог, белелись и веялись, будто страусовое перо, и, распрыскиваясь о камни, играли снопами павлинных перьев. Искендер-бек долго любовался этим восхитительным зрелищем и, не сводя с него глаз, зачал взбираться по крутому ложу. Валуны катились из-под ног до самого дна, конь нередко съезжал назад и дышал вразрыв подпруги. Юсуф, по всегдашнему своему обычаю, клялся, что он ни за какие радости в свете не ступит шагу далее, и, по всегдашнему обычаю, следовал за передним. Подъехавши почти под самый водопад, путники наши увидели вправо и влево две расселины, обнимающие столп, с которого он кидался в воздух. Расточенные водой, усыпанные валунами расселины эти обещали хотя стремнистую, однако возможную стезю до самого верху. Только необходимо было совершать это полувоздушное путешествие на хвосте лошади. Нос Юсу фа нимало не пострадал, волочась по кремнистому ложу, и когда оба странника очутились на площадке, негодование его рассыпалось гроздами брани:
– Рагрызи черт эту гору! Пусть все кабаны Дагестана совьют в ней гнездо свое! Пускай затрясет ее лихорадка землетрясений, пускай она лопнет, опившись дождями, проклятая!
– Сам виноват, а бранишь горы, – сказал ему Искендер. – Не ты ли уверял, что знаешь дорогу на Шахдаг как на базар, что скалы его тебе знакомы как пять пальцев?
– Разве я солгал? Анасыны, бабасыны! Как пять пальцев? Да кто же лазил на гору Пяти пальцев[127], не имея когтей черта? С Новруз-беком, он не даст мне соврать, мы обнизали подковами всю эту гору; да тогда как-то она была совсем иначе, была глаже ладони; видно, эти бородавки наросли на нее после, либо она обернулась к солнцу спиной погреть старые кости, промороженные севером.
Почти всегда, как замечено геологами, южные стороны гор бывают обрывисты, потому что они подвержены частым обвалам и размывке тающих снегов от зноя солнца; напротив, северные склоны, покрытые тенью почти весь день, отлоги и богаты лесом, муравою, всяким растением. В том же отношении, только с меньшею резкостью, находится восток к западу. Но природа часто подсмеивается над системами и задает господам систематикам такие задачи, что они со всею своей премудростью становятся в тупик. Природа действует по неизменным законам, но свод ее законов напечатан в целой вселенной и без оглавления. Можно ли нам, обитателям одной точки пространства, одного мига времени, прочесть вполне смысл творения, разбросанный по тысячам миров? Можно ли отпереть тайны, от которых ключи в руке Бога? Так и здесь: северный обрыв Шахдага возникал стеною, в улику господ геологов, и только голова его была убелена снегами; на крутизне груди не могли держаться они, как беды на высокой душе. Странники наши увидали свою ошибку; убедились, что приступ с этой стороны невозможен, и принуждены были опоясать Шахдаг, попытать взойти на него с востока. Впрочем, вздумать это было гораздо легче, нежели исполнить. Еще растительная черта была выше их, но она змеилась уже не краем зеленого покрывала, а подобно городкам ковра, изорванного по каменьям69. Громады скучивались над громадами, точно кристаллы аметиста, видимые сквозь микроскоп, увеличивающий до ста невероятий. Там и сям, на гранях скал, проседали цветные мхи или из трещины протягивало руку чахлое деревцо, будто узник из оконца тюрьмы. Все было дико, угрюмо, грозно в окрестности. Тишину пронзали одни клики орлов, негодующих на человека за набег на их область – пустыню. Изредка слышалась тихая жалоба какого-нибудь ключа, падение слезы его на бесчувственный камень, не пускающий бедняжку слиться на воле с милой рекою. Искендер-бек остановился, устремил бродивший около взор на Юсуфа, и укоризненный взор этот выговорил: «Ну что?»
– Две тысячи проклятий на голову этого Шахдага! Насыплю я праху на его снежное темя! Видишь, как он вражески принимает гостей! Заперся в стены и все лесенки убрал внутрь; да еще скалит свои каменные зубы, старая собака! Куда теперь нам деться? В гору? Надо лезть вверх ногами! А под гору – лететь вниз головой! Как хочешь, Искендер-бек, – примолвил Юсуф, снимая саквы с седла70, – а я посоветуюсь с моей фляжкой: преудивительная вещь эта водка! Валлага, билляге, преудивительная! Шепнет тебе «буль-буль-буль» – смотришь, всю беду отговорит; в голове ум будто звезда взойдет, а сердце в груди розаном распустится.
– Ах ты, немытый грешник! Мало тебе православных грехов, так ты, как блудливая кошка, из чужих отведываешь! Разве не знаешь, зачем пророк запретил вино?
– И очень знаю, жертвочка ты моя, Искендер-бек! Очень хорошо знаю: он запретил его для того, чтобы подсластить; про это и Гафиз сказал:
Пейте: самых лет весна
Упоенье без вина!
Что заветно, то и слаще.
Пей, но лучшее да чаще!
Будешь гяуром вдвойне
Проклят на плохом вине71.
– Прекрасные у тебя заповеди, Юсуф! Амма (но) с ними, я думаю, легче искать дорогу в преисподнюю, чем к небу!
– Кто тебе это сказал, душа моя Искендер? Черт меня возьми, если от вина не растут крылья! Так, кажется, лётом летишь, носом облако бороздишь. Погляди-ка на меня теперь, когда я хватил души винограда! Я, наверно, подрос на ханский аршин! Я прежде ни одной дорожки не видал, а теперь передо мною их целая дюжина егозит.
– Я у тебя ни одной и в долг не возьму, Юсуф: я поеду по своей дороге, куда бы она меня ни вывела. Ты ступай влево, а я попытаюсь прямо подняться. Если кто из нас найдет удобный подъем, тот должен воротиться сюда и кликнуть товарища или дождаться его. Далее получаса не отъезжать на поиск. Худа гафиз (До свиданья)!
Гаджи-Юсуф так нахрабрил себя, что на этот раз не сделал ни одного возражения и отважно пустился один в дорогу, или, правильнее сказать, на ловлю дороги. Искендер, ведя лошадь в поводу, полез по трещинам почти на отвесный утес. Солнце давно перекатилось за полдень.
Прямо над местом разлучения наших странников, на границе между облаков и снегов, возникала огромная скала, как наковальня Перуна. Казалось, летучее копыто дикой козы не нашло бы опоры на гладких боках ее, и между тем на самой ее вершине, срезанной площадкою, нашли себе приют кони и люди. Человек шесть татар и лезгин лежали около огонька, разложенного под котлом. Столько же бегунов жевали траву, накошенную кинжалами и брошенную им расчетливою рукою. В числе прочих, но поодаль от прочих, под тенью бурки, развешенной на коне, превращенном в живой щит от солнца, на небольшом ковре сидел, поджавши ноги, мужчина лет под сорок, приятной наружности. Проста была его чуха с откидными рукавами, но оружие блистало серебром и чистотою – верный признак не городского избытка, но боевой власти. Он курил трубку и с нежностью смотрел на молодого человека, спящего у него на коленях. Порой он играл шелковистыми кудрями зильфа, падающего на плечо юноши; порой, склонившись над прекрасным его лицом, которое, как снег Шахдага, не могло осмуглить жаркое солнце, а только подернуло зарею, прислушивался к его дыханию, затаив свое, и только из страха разбудить не срывал поцелуем улыбки, полу расцветшей на устах. Иногда он грустно качал головою и вздыхал тяжело, и потом взоры его, как два сокола, стремились с подзорной башни, построенной природою перед замком Шахдага; как два сокола, играли сперва в поднебесье и потом, широкими кругами, низревались на долину, жадные охоты и добычи.
Это был Мулла-Hyp, гроза Дагестана; разбойник Мулла-Hyp со своею шайкою.
И он увидал внизу Гаджи-Юсуфа, пробирающегося по каменьям. Тот казался не более ящерицы и, как пестрая ящерица, полз на коне своем. Мулла-Hyp улыбнулся лукаво и, склонившись над ухом юноши, сказал: «Проснись, Гюль-шад!»[128] Юноша открыл очи.
– Гюль-шад, – примолвил Мулла-Hyp, – хочешь ли ты, чтобы я поклонился тебе в ноги?
– Хочу, – произнес юноша с видом избалованного дитяти, – очень хочу! Для меня будет диковинкой видеть тебя, гордеца, у своих ног.
– Аста, acma (Потише, потише), Гюль-шад! Тебе недаром достанется эта потеха: у пчел есть жало прежде меду. Взгляни под скалу: там едет путник, и я знаю имя, знаю сердце этого путника; он бесстрашен как барс, он стреляет метко. Ступай обезоружь, свяжи его. Если ты исполнишь это и приведешь его сюда пленным, я твой слуга (куллухчи) на целый вечер; я поклонюсь тебе при всех товарищах. Разымисын (Соглашаешься ли?)
– Разы-эм (Согласен)! – отвечал Гюль-шад; взнуздал коня, вскочил в седло и смело бросился вниз по стремнистой тропинке; только звон сорванных копытами плит означил путь его, самого не было уж видно.
Все товарищи Мулла-Нура, припав к земле, любопытно смотрели через край скалы, что будет; сам атаман заботливо посылал свои взоры вниз: казалось, он раскаивался, что подверг опасности молодого собрата, может быть брата своего, и когда оба противника были друг от друга на полвыстрела, трубка в зубах и улыбка на лице его погасли.
Если б трус мог вполне сознаться в своей трусости, он бы не посмел быть им или по крайней мере никогда бы не решился искать опасности, чтобы выказывать себя наголо. Но в том-то и беда, что никто, за глаза опасности, не считает себя робким, а Гаджи-Юсуф, сверх того, принадлежал к полку тщеславных, к полку людей, которые, для того чтобы иметь право рассказывать про битвы, про чудесные встречи, готовы прискакать на миг в пыл схватки, вызваться на трудное предприятие, потом, проклиная свою неуместную храбрость, дрожать от страху или выдумывать тысячи лжей, чтобы ульнуть от беды72. Гаджи-Юсуф сам-друг с вином уверял себя, и почти уж верил, что он храбрее самого Рустема:
– Разве даром написано на моем ружье: «Трепещи, враг, я дышу пламенем!» Опалю ж я бороду первому разбойнику или первому барсу, который вздумает добраться до моего добра! Да и кой черт мне бояться чего-нибудь? Кольчуги моей не возьмут ни пуля, ни когти; ружье мое одно посылай в драку, так убьет неприятеля. Где ж эти разбойники? Запрятались небось в норы, только завидели меня, мерзавцы, трусишки, аджизляр! Терпеть не могу таких трусов: изрублю я дорогу и веру таких трусов!..
И вдруг, при повороте за угол скалы, грозное «Стой, долой с коня» прострелило его уши; но когда, подняв испуганные глаза, он увидел в десяти шагах от себя блестящий ствол, нацеленный прямо в грудь его, бедный Юсуф обомлел; сердце его будто упало в муравейник.
– Аттан тюш (Долой с коня)! – раздалось снова. – И не смей тронуть ружья, ни рукояти сабли! Если ты вздумаешь бежать или защищаться, я спущу курок! Снимай оружие!
У Гаджи-Юсуфа помутилось в глазах: не замечая, что против него стоял безусый мальчик, он видел только роковой ствол, один ствол и более ничего, и ему казалось, что дуло его растет, разевает огромную пасть, ревет огнем; он чувствовал уже весь свинец заряда в своей голове и повалился на землю с кликами пощады, с просьбою не бить, не стрелять его:
– Не только оружие, душу отдам тебе, эфенди разбойник, гарамиляр (глава разбойников здешних гор). Ты добрый человек, а я смирный человек, не губи меня, душечка, жертвочка ты моя! Возьми лучше к себе в нукеры: я буду разувать тебя, холить твоего коня!
И он снимал и бросал одно за другим все свои оружия, всю одежду; выворачивал карманы, выщипал половину своих усов, запутавшихся в кольца панциря, а между тем клялся как ведьма на экзамене у сатаны.
– Отрежу я твой язык и выброшу его собакам, нестерпимый пустомеля! – сказал Гюль-шад. – Молчи, или я тебя навек молчанью выучу!
– Не пикну, если твоей душе этого угодно.
– Молчи, говорят!
– Слушаю и повинуюсь!
Наконец выразительная хватка Гюль-шада за пистолет замкнула рот испуганного Юсуфа. Ему связали руки поясом, притянули их к стремени и повели раба Божьего в гору. Через четверть часа, после трудного ходу, бледный, перецарапанный о кремни, стал он перед грозными очами Мулла-Нура, среди зверских лиц его товарищей. Куда ни обращал он глаза, везде встречал злобную усмешку или беспощадный, но безмолвный приговор. Все молчали. Гюль-шад положил к ногам атамана оружие пленника, и атаман три раза ударил челом о землю перед Гюль-шадом, назвал его удальцом, поцеловал в лоб. Потом обратил он слово к Юсуфу:
– Знаешь ли, кто обезоружил тебя, Юсуф-бек?
Юсуф вздрогнул от этого голоса, будто кто провел терпугом по его телу.
– Храбрый из храбрых, меным биюгум (мой повелитель), – отвечал он трепеща, – сильный из сильнейших! Что мог сделать против него я, когда лев против него щенок, а Исфендияр – мальчишка!73
Все захохотали кругом.
– Знай же этого богатыря, против которого храбростью Исфендияр – мальчишка, а силою лев – щенок! – сказал Мулла-Нур и снял шапку с головы Гюль-шада.
Волной хлынули из-под нее черные волосы и роскошно рассыпались по плечам. Как маков цвет покраснела красавица – тогда уж нельзя было сомневаться в противном – и упала на грудь Мулла-Нура…
– Это моя жена! – промолвил он.
Залп буйного смеха оглушил Юсуфа; его щеки сгорели бы в уголь от стыда, если б страх не заморозил гораздо прежде в нем всей крови. Однако ж он ободрился немного; он спешил посеять в миг общей веселости словцо за свое избавление.
– Помилуй, властитель мой, – жалобно зарюмил он, – не сгуби меня, не продавай в горы: за меня дадут тебе славный выкуп!
Брови Мулла-Нура сошлись как две тучи: быть грому!
– Знаешь ли, кому предложил ты выкуп, заячья шкурка? Достойный сын Дербента, ты вообразил уже, что всякую душу можно спечь на червонце и съесть, поклявшись вашим Алием! Разуверься в этом. Я благодаря Аллаху не шаги[129], и моей воли не обуздать ни серебряною, ни золотою уздою. Выкуп? За тебя выкуп? Неужели ж ты смел думать, что я, как дербентский лавочник, стану продавать гниль за свежину и черно-совестно требовать за тебя персидского золота, когда ты не стоишь свинцовой дробинки, бирсечма дегмезсын. Ах ты, бесхвостая собака! Да и зачем я продам тебя в горы? Сказки там не считаются работою, а заставь тебя хоть носом лук копать, ты и того не сумеешь. Зачем я возвращу тебя домой? Чтобы ты женился и наплодил целое поколение трусов? Да сохранит от такой мысли Аллах! В Дербенте и без тебя зайцев много. Ну, Юсуф! Ты видишь, что я тебя знаю, и знаешь теперь, что льстить я не люблю. Скажи мне, что ты думаешь обо мне самом? Я Мулла-Нур!
Как зарывает ноздри в песок верблюд, почуяв гибельный налет самума, так пал ниц Гаджи-Юсуф от повева этого имени; пал, расплющенный страхом тоньше турецкого шаура[130].
– Аллах, Аллах! Мне ли, который за счастие бы почел умыться пылью твоих ног, наложить суд на твою голову! Наузуби Гусейн Али-да (Пусть удержат меня от того Гусейн и Али)! Что я знаю? Я ничего не знаю!.. Я желаю только, чтоб твоя рука всегда была мне шапкою!
– Послушай, Юсуф, – грозно молвил Мулла-Нур, – давно я ведаю, что ты большой охотник перенимать и повторять фарсийские нелепости. Но я простой человек: где мне понимать твой ибараш, твой высокий слог! Без всяких обиняков скажи мне, что обо мне думаешь?
– Что я думаю? Пусть шайтан разгрызет, как орех, мою голову – ничего я не думаю, да никогда и не думал; валлага, билляга, не думал! Смел ли я поднять на тебя свою мысль! Что я за зверь? Прах, ничто, пучзат!..
– Юсуф, я не шучу! Я выжму из твоего мозга то, что хочу слышать, или вырву мозг из черепа! Ну!..
– Не сердись, высокостепенный, звездами питающийся эфенди Мулла-Hyp! Не жги меня в пепел своим гневом! Твои повеления родили жемчужины в глупой моей голове, но все-таки эти жемчужины – стеклярус в сравнении с твоими достоинствами. Я думаю, ум твой – ружье с золотою насечкою, заряженное премудростью доверху, стреляющее правдой и никогда не минующее цели. Я думаю, сердце твое – кувшин с розовым маслом, льет через край щедроты. Я думаю, рука твоя всегда отворена сыпать добро для чужого, готова помогать всякому. Я думаю, язык твой – стебель, на котором распускаются цветки справедливости, великодушия, бескорыстия, милости… Я уж вижу между них один, полный росою слов: «Ступай себе домой, добрый человек Гаджи-Юсуф, да поминай добром Мулла-Нура!» Хорошо я сказал?
– Нечего сказать, хорош ты рассказчик, Юсуф, только плохой угадчик. А чтобы доказать, что ты лгал с начала до конца, вот приговор мой: за то, что ты, будучи беком, то есть воином по роду, позволил без выстрела обезоружить, связать себя слабой женщине, за то, что ты до бесстыдства трусил и унижался перед подобным себе человеком…
– Смерть разве человек? – хныкая, заметил Юсуф.
– Дай мне кончить, а там недалек и твой конец. Кто так сильно боится смерти, тот не достоин жизни: ты умрешь! Завтра ты увидишь последний рассвет свой, а если вздумаешь говорить, то сей же миг кинжал пересечет тебе слово пополам в самом горле. Отведите его в пещеру и свяжите хорошенько: пускай там клянется и молится на просторе до рокового утра!
Мулла-Hyp махнул, и беднягу уволокли, как мешок с просом.
– Он умрет со страху прежде смерти, – сказала Гюль-шад мужу, – не пугай его так жестоко, душа моя!
– Ничего! – отвечал Мулла-Hyp, улыбаясь. – Это будет ему уроком, что робость не спасенье. Трус умирает сто раз, храбрый – однажды, и то не скоро. Ну, ребята, я на часок оставлю вас: по всей дороге не видать ни одного верблюда, никакого проезжего. Впрочем, если что встретится, моя Гюль-шад поведет вас, и горе тому, кто на один волос уклонится от ее приказа. Прощай, Гюль-шад; мне предстоит встреча немножко важнее твоей. Давно желал я померять плечо с Искендер-беком, и, спасибо Мешеди-Багиру, я его выследил. Если не ворочусь к восходу месяца, ищите моего тела по следу. Ранее, какой бы крик, какую бы стрельбу ни заслышали вы, ни один не тронься с места! И не роптать на то: я еду не на добычу, а на охоту.
Он забросил за спину винтовку и был таков.
Искендер-бек между тем взобрался на каменный пояс, по которому, хотя с большою опасностью, можно было ехать. Направо под ним синела пропасть; налево вставали скалы над скалами, там, инде изгрызенные молниями. В иных расселинах еще лежал снег, недосягаемый лучам солнца, и дробные струйки, как стеклянная бахрома, вились через плиты, на которых он медленно таял. И не было возврата дерзкому путнику: узкий, как острие меча, прилеп не представлял места для поворота коня; неволею должно было ехать вперед, и он ехал, ехал, ехал… Он уперся наконец в край треснувшего утеса. В трещине этой, не более шагов десяти шириною, упавшие с вершин лавины образовали гибельный мост, под которым, невидим, ревел и гулил поток, глубоко внизу. На миг сжалось сердце юноши; но мысль о Кичкене опять согрела его. Он еще более ободрился, заметив одинокие следы подков на рыхлом снегу, и быстрою рысью пустился в гортань ущелия, зная, что один миг остановки мог раздавить случайный свод снегу, по которому скользил он, если не разделять точек опоры скоростью. Страшно хрустел и трещал под копытами снег. Не раз оседал он за ним целыми глыбами, оставляя на закраине утеса белую ленту. Конь потел от ужаса и вот-вот, кажется, пробил насквозь пласт, вот рухнут! Но Искендер вздохнул отраднее: за углом, как заря, рассветала яркая полоса, обет выезда, и вдруг, как будто упавший на луче, всадник стал перед ним внезапно. Озаренный в тыл западающим солнцем, он чернел на снежной белизне, как вылитый из чугуна памятник: он был огромен и неподвижен, как памятник.
– Стой! – загремело навстречу Искендер-беку. – Стой и брось оружие, или ты погиб: я Мулла-Нур!
Изумленный сверхъестественным видением, Искендер сдержал было своего коня, но, услышав заманчивое имя противника, он удвоил бег.
– Береги свое, Мулла-Hyp, – закричал он, взводя курок, – и прочь с дороги!
– Пускай же судьба решит, кому проехать этою дорогою, – возразил Мулла-Нур, поднимая пистолет в уровень с грудью Искендера, остановившегося в десяти шагах. – Стреляй!
– Стреляй ты! – сказал Искендер. – Я не прячусь за коня.
Они с минуту стояли друг против друга с нацеленным оружием, выжидая первого выстрела, – это обыкновенная формула разбойничьих приветствий Дагестана; потом оба опустили стволы.
– Ты решил (удалец), Искендер-бек! – молвил Мулла-Hyp. – Я не хочу разлучать тебя с оружием. Отдай мне коня и ступай куда хочешь!
– Возьми оружие, возьмешь и коня; но покуда есть заряд в дуле, а душа в теле, рука позора не тронет ни этого замка, ни этой узды!
Мулла-Hyp улыбнулся.
– Не надо мне твоего ружья, твоего коня, – сказал он, – надобна твоя покорность. Не из добычи – из прихоти своей разбойничает Мулла-Нур; и беда тому, кто станет поперек его прихоти. Я слышал про тебя не раз, Искендер-бек, и теперь сам уверился, что ты игит75. Но я недаром искал встречи с тобою: мы не разойдемся, не сложив рук или сабель. Ахырымджи сюз диим (Вот мое последнее слово): поклонись мне, скажи: «Будь другом» – и дорога твоя!
– Вот мой последний ответ, наглый хвастун! – кликнул Искендер, прицеливаясь, и спустил курок.
Далеко брызнули искры из дула, но, к удивлению Искендера, выстрела не последовало… Только огненный фонтан кипел долго. Он с гневом бросил ружье за левую руку и выстрелил из пистолета; слабо раздался удар, пуля упала к ногам Мулла-Нура, а Мулла-Hyp, сложа руки, глядел на бешенство Искендера и, будто надежный на очарование, насмешливо улыбался.
– Не спасут тебя ни чары, ни латы, – вскричал Искендер. И тут же сверкнули сабли обоих противников, и тут уже ярость вспыхнула в обоих сердцах, и они оба ринули коней на роковую схватку, – грудь с грудью сгрянулись бегуны, сабля свистнула над головой Мулла-Нура, удар пал как Божий гнев.
Но с глухим треском расселась под копытами сразившихся лавина: она не смогла выдержать тяжести двух всадников. Конь Искендер-бека встал на дыбы в самый тот миг, когда сабля, описав полкруга, падала на Мулла-Нура и не достигла его; он обрушился. Искендер-бек опрокинулся назад и только этим был задержан в падении. Но оторванная от ущелин глыба садилась, уступала и, трескаясь, клонилась в бездну. Притоптанный своим конем в снегу, Искендер судорожно выбивался, с ужасом прислушивался к гулу падения несчастного Мулла-Нура, к шороху катящихся льдинок, сорванных с утеса, к зловещему лопанию глыбы, на которой сам он висел над гибелью. Наконец все стихло кругом. Только бездна глухо рычала, точно тигр, когда он пожрал свою жертву и щелкает языком, зарясь на новую, и лижет еще окровавленную морду. Жалость проникла в сердце Искендера; он ползком добрался до края провала и взглянул вниз: у него захватило дух и померкло в глазах от ужаса.
Летя с конем в глубину по крайней мере полверсты, Мулла-Hyp пробил два снежные помоста, вдалеке друг от друга образовавшиеся от падающих лавин. Эти проломы широко разевали пасти свои; но далее, в самой глуби, невозможно было ничего разглядеть: все сливалось в мутный дым, в синеватый мрак, сквозь который временем мерцало что-то, будто глаза какого-нибудь чудовища. И со дна вставал какой-то страшный ропот, будто хрипение умирающего… Искендер отвратил очи и осторожно подполз к коню своему; но желание спасти или по крайней мере увериться в судьбе Мулла-Нура не замлело в нем. Он скоро выехал из гибельного ущелия, проскакал по каменному поясу и спустился вниз, отыскивая исток ручья, текущего по дну теснины, в которую обрушился Мулла-Hyp. Ему нетрудно было найти его: гора в этом месте раскололась почти до корня, и белая полоса снегу, залепившего трещину, издали отбивалась на буром поле утесов. Искендер сошел с коня и пешком, ползком почти, решился войти под свод, из которого вырывался быстрый, но мелководный поток. Чем далее – свод этот возвышался и наконец сомкнулся высоко над головою, так что смелый бек мог вольно идти под ним. Свод этот, от паров мерзнущей воды, подернулся ледяною корою; ледяные сосульки гребешками низались по плитняку. Там царствовал мрак и холод могилы. Там гробовой саван снегу задушил или грозил задушить все живое; и самый ручей, притаившись на донышке, спешил вырваться на вольный свет, покуда мертвенность не сковала его вовсе. Мороз страха пробежал по всему телу Искендера и сосредоточился на сердце, когда он огляделся, когда оценил всю опасность пути. Но великодушие перемогло чувство самосохранения: он бегом пустился по дну потока кверху и скоро, путеводимый просветом, достиг до того места, где должен был упасть Мулла-Hyp сквозь два пробитые им помоста из снегу. Первое, что поразило взоры юноши, была размозженная голова коня, избитого падением, издохшего под грузом лавин. Одна рука и лицо Мулла-Нура выказывались из-под снегу; остальное было погребено в нем. Смертная бледность лежала на лице павшего, глаза были закрыты, уста незыблемы дыханием. С неизъяснимою тоскою, с торопливостью отчаяния принялся Искендер отрывать его, тереть полою виски и сердце. Казалось, ни одного члена не было изломано, ни одной раны по телу, только одежда там и сям была изорвана острыми каменьями. И наконец грудь Мулла-Нура ответила вздохом на призвания жизни! Он открыл тусклые очи, он хотел говорить, но звуки замирали на губах, не связанные в слово. Искендер-бек волоком вынес его из ледяной пасти, и только на чистом воздухе совершенно очнулся Мулла-Hyp. Со слезами на глазах сжал он руку великодушному врагу своему.
– После Бога тебе первому благодарность, – сказал он, – тебе одному вечная приязнь моя! Не за свою жизнь благодарю я тебя, Искендер-бек, а за твою, которою ты жертвовал для моего спасения. Люди обидели меня: я платил им с лихвою. Спасибо тебе, я помирюсь хоть с одним человеком. Много злых качеств дала мне судьба, еще более взвалили их на меня враги мои; но и самые враги не скажут: «Мулла-Hyp неблагодарен!» Послушай, Искендер-бек: беда ходит по всем головам без разбора; если она ступит и на твою – мое сердце, моя рука к твоим услугам; а это сердце, эта рука не дрогнут ни от чего в свете. Пусть Аллах будет по мне поручителем: я продам за золото, отдам железу свою голову, чтобы выкупить и выручить тебя из беды! Я сказал, я докажу это.
И оба медленно стали всходить на гору: Мулла-Hyp хотя чувствовал себя разбитым, однако не согласился сесть на коня Искендерова. Он указал ему незаметную тропинку, которая скоро привела путников к утесу, служившему подзорной башнею разбойников. Закат уже осыпал последними искрами грани Шахдага, когда они достигли до площадки.
– Вот мой старший брат, – сказал Мулла-Hyp своим товарищам, любопытно столпившимся около пришельца. – Ему почет, ему все услуги ваши при всякой встрече. Кто поможет ему в пустом или в заветном деле, тому я должен до смерти. Кто сделает ему вред, тому я мститель, как за кровь… того не схоронит от моего гнева ни могильная доска, ни волна морская! Пью клятву[131], и пусть она сожжет ядом мою грудь, если не исполню этого!
И Мулла-Hyp предложил гостю скромный ужин, за которым лилась веселость вместо вина. Гюль-шад скромно стояла в стороне, и хотя Искендер-бек узнал уже, что она жена хозяина, однако ж и не подумал просить ее сесть вместе на ковер поужинать; в каждом краю свои обычаи. Между тем молодой месяц всплыл золотою рыбкою над голубым океаном неба и плескал бледным светом своим в лицо заснувшей красавицы Земли, полуодетой сотканием теней и туманов. О, какая тихая, прелестная ночь растекалась тогда по Дагестану! Тихая, как чистая совесть; прелестная, как самая молодость, томящаяся в таинственном огне своих желаний, в радужных парах мечты своей! На востоке, перед очами Искендера, море, подобно хрустальной стене, возникало гранью небосклона с золотой трещиною посередине. Внизу, будто по дну моря, видимого сквозь прозрачную влагу, расстилалась Кубинская долина и побережья Самбура, чуть-чуть потопленные зыбью туманов. Влево тянулись, толпились, мерцали, чернели зубчатые, волнистые верхи Кара-сырта и кюринских, табасаранских, каракайтахских гор. Они были безмолвны и чудны, как сонные грезы, облегшие ложе Дива – Шахдага, погруженного в очарованный сон на снеговых подушках своих. И тихо разливался аромат лугов по охладевшим слоям горного воздуха, и усладою журчал невдалеке горный ключ, летя падучею, но не гаснущей звездою с утеса; и все в небе и на земле было очарование, повторенное зеркалом души, не только взора, слышное не только тимпану уха76, но и сердца; очарование в воздухе, в камне, в тишине ночи, в сладкозвучной песне природы. О, какое бы юное, любящее сердце не распустилось негою, как ночной цветок, под свежим дыханием южной ночи и не отдало ей своего благоухания в замену капель росы? За дружные советы Мулла-Нура Искендер отдарил полною откровенностью. С юношеским самоверием он рассказывал о любви своей, о своих надеждах и замыслах.
– О, если б я мог птичкою перелететь через месяц вперед, я бы привез мою Кичкеню на эту гору, я бы показал ей все, на что глядеть мне совестно одному, – так оно хорошо; я бы наслаждался ее восхищением, и когда б у нее из уст вырвалось восклицание: «Прекрасно!» – я бы сжал ее на груди и прошептал: «Ты еще прекраснее!» Посмотри, Мулла-Hyp, как мило земля, озаренная месяцем, засыпает в тысяче улыбок; но, я верю, милей человеку засыпать под тысячею поцелуев. Счастливец ты: волен как ветер, как орел не знаешь пут, как ему, тебе подругой орлица. Не дивлюсь я, а завидую судьбе твоей!
В краю, где война есть не что иное, как разбой, а торговля – воровство, разбойник в общем мнении гораздо почтеннее купца, потому что добыча первого куплена удальством, трудами и опасностями, а добыча второго одной ловкостью в обмане и в обмене. Рыцарство не умерло на Востоке, но восточный паладин, наездник, игит, выезжает погулять не для избавления красавиц от чародеев, а для похищения их себе, не для возмездия притеснителям, а для грабежа встречного и поперечного. Очень часто кидается он в опасность очертя голову, без всякой надежды на выгоды, – из одной неодолимой охоты побуйствовать, истратить на ком-нибудь избыток жизненной деятельности, – чтобы принести домой осколок отбитого оружия или рану на теле и потом весело охать под шумом поздравительных песен соседей. Разбойник – самое занимательное лицо азиатских сказок и поэм, неизбежное лицо напутных анекдотов, и вообще весь быт его так плотно вкраплен в характер народа, его слава так заманчива, а неприступность гор и покровительство жителей, даже ханов, дает столько способов удачно и безнаказанно быть им, что разбои в подвластном нам Закавказье, несмотря на все старания правительства, очень нередки. Непокорные горцы хищничают, вкрадываясь под личиною мирных; мирные делают то же под именем непокорных, – и разве сотый виновник впадает в руки правосудия. Не дивитесь же, меряя Азию европейским аршином, что Искендер-бек от глубины чувства позавидовал разбойнической жизни Мулла-Нура. Но грустно качал головою Мулла-Hyp, слушая неопытного юношу.
– У всякого есть своя звезда, – возразил он, – не завидуй мне, не ходи по моему следу; опасно жить с людьми, но и без них скучно. Дружба их – безумящий или усыпительный терьяк[132]; зато и вражда к ним горче полыни. Не охотой, а судьбой выброшен я из их круга, Искендер: нас делит струя крови, и не в моей силе перешагнуть за нее назад. Прекрасен вольный свет: но разве нельзя наслаждаться им, не быв изгнанником? Раздолье в глуши человеку; но пустыня всегда пустыня: никакие думы не населят ее, никакие чародейства не оборотят камни в товарищей. Было время, я ненавидел людей; было время, я презирал их; теперь устала душа от того и другого. На один год станет забавы для гордого внушать своим именем страх и недоверчивость; но страх – игрушка, подобная всем другим игрушкам: она скоро опостылеет. Потом наступает злая охота унижать людей, насмехаться над всем, чем они хвастают, обнажая на деле их гнусности, топча под ноги все, чем дорожат они более души… Жалкая потеха! Она забавляет на миг, а дает желчи на месяц, потому что как ни дурен человек, а все-таки он брат нам. На конец концов, отрадно ли, подобясь коршуну, в каждом живом существе видеть только добычу, оставлять в каждом встречном нового врага? При молитве думать о проклятиях, посылаемых заочно на мою голову; засыпать и ждать измены самых близких; пугать собою, не доверять никому?.. И посмотри кругом, Искендер: неизмеримо широки угорья Дагестана, богаты они дарами своими; но в целом свете, не только здесь, нет деревца, которое бы покрыло меня своей тенью и сказало: «Спи спокойно, здесь не тронет тебя вражеская пуля, здесь тебя не выследят, как дикого зверя». Многолюдны ваши города, богач и бедняк теснятся там, но каждый имеет свой угол, каждый укрыт от непогод зимних; а у меня бурка – единственная кровля, а мне город не даст ни для дома покоя в стенах своих, ни даже горсти земли на кладбище закрыть погаснувшие очи. Да, Искендер, да! Печаль, как ханская жена, умеет ходить по бархатным коврам и, как серна, прядать на утесы. Ты видишь: я и в пустыне не ушел от нее!
– Ты многое претерпел, Мулла-Hyp? – спросил Искендер-бек с живым участием.
– Не говори, не поминай об этом! Когда поедешь мимо треснувшей скалы, не допытывайся, разбита ли она молниею или разорвана морозом, но проезжай скорей мимо: она может рухнуть на твою голову. В саду садят цветы, а не зарывают умерших; не хочу отравлять твоей юности повестями о моем прошлом. Что было – было: оно не стлеет и не изменится. Что будет – не минует нас: его не отведешь рукою, не отмолишь слезами. Добрый сон тебе, и дай Аллах, чтобы никогда не приснилось никому во сне, что случилось со мной наяву! Завтра я укажу тебе самую краткую дорогу к снегам Шахдага на свершение твоего подвига. Прощай!
И он завернулся в бурку. Прочие давно спали.
Искендер долго думал о происшествиях дня, о судьбе Мулла-Нура, и когда заснул, странные мечты не раз пробуждали его: то ему казалось, выстрел взрывает грудь, то конь сорвался в бездну – и он летит бездыханен по острым кремням сквозь мрак и холод, – и нет конца паденью! Грезы наши – отголосок настоящей жизни и прежнего хаоса. Крепкий сон – казовый конец смерти.
VII
Тепелярдан ель кими, дерилярдан селль кими;
Баш ястуга коймииб; поз юхуя вермииб.
Он мчался, как ветер по хребтам, как водопад по ущелиям,
Не преклоняя головы на подушку, не предавая очей сну.
Одна за одной облетали с неба звездочки, как поблеклые блестки с темно-голубой чадры ночи. Просветлело небо, как взор девственницы, и вот закипел восточный край моря, подобно заздравному кубку; солнце брызнуло лучами на горы. Проснулись все около Мулла-Нура и, отдав молитвою «селям» новому сыну вечности, весело принялись холить коней, чистить оружие, готовить завтрак.
– Товарищ твой провел худую ночь, – сказал, смеючись, Мулла-Нур гостю своему. – И знаешь ли где? В пятидесяти шагах отсюда. Ты еще вчерась просил меня послать за ним в поиск, но я пустил это мимо ушей, не хотел беспокоить тебя вестью, какое наказание готовится хвастливому Юсуфу. Возьми его с собой и делай что хочешь… А между прочим, эй, молодцы, снесите-ка поесть нашему пленнику! Я знаю, что для него, как для янычара, котел – святыня[133]. Накормите и скажите, что Мулла-Нур не хочет голодным отправлять его в бесконечное путешествие: пусть он ест плотнее, чтобы мог дождаться второй трубы ангела Страшного суда[134].
Тут Мулла-Нур рассказал Искендеру, как жена его перепугала Юсуфа и как, в возмездие его лести и трусости, он послал его связанного ждать до утра казни. Искендер-бек хохотал до слез. Когда новые друзья позавтракали, Мулла-Hyp прижал руку гостя к сердцу и потом к челу.
– Ты у меня здесь и здесь, – сказал он, – я не отведу от тебя глаза, не отниму руки. Теперь ты знаешь дорогу к верху и к подошве горы: спеши быть полезным для своих земляков! Я еду в другую сторону и на иное дело: кто поборет судьбу! Она бросает одного в свет абазом, другого пулею: моего свинца не перечеканить в монету. Прощай, друг, помни Мулла-Нура!
Вереницей диких голубей, обгоняя друг друга, понеслась шайка разбойников к Тенгинскому ущелью. Скала опустела. Искендер-бек свел в поводу коня до пещерки, в которой наперед указали ему Юсуфа, лежащего ниц с завязанными руками и глазами.
– Встань и приготовься умереть! – произнес Искендер густым басом: ему захотелось продлить комедию, начатую Мулла-Нуром. Гаджи-Юсуф, трепетный как тополевый лист, поднялся сперва на четвереньки, а потом на колени: ничего в мире нельзя было выдумать уморительнее его тогдашней образины. Вся краска его лица взобралась на кончик носа, как будто спасаясь в самом неприступном месте. Огромные усы, висящие словно крылья огромного носа, были растрепаны и перепачканы глиною; бритая, но не выбритая борода, проседая в отчаянном беспорядке по впалым щекам, еще более обличала их бледность. И весь он был расстегнут и распоясан, будто на карантинный осмотр. И он умильно протягивал к небу у кистей связанные лапки свои; и так жалобно упрашивал помиловать себя, что надо было опоясаться тройным поясом: простой бы лопнул от смеха.
– Ангел Азраил! – восклицал он, – пощади мою голову; она еще не созрела для смерти77. И чем я обидел тебя? В чем я виноват перед тобою?
– Не моя воля, приказ Мулла-Нура казнить тебя. Он говорит: этот недоверок Гаджи-Юсуф, как свирепый тигр, дрался с моим другом, Кази-Магамма[135], и я должен отомстить кровь моих товарищей, зарезанных им во время вылазок из Дербента!
– Кто? Я дрался с воинами Кази-муллы? Я? Осрамлю гробы отцов и дедов того, кто наговорил на меня такие небылицы! Я зарезал многих лезгин на вылазке, я? Аллах, Аллах! Чего не выдумают клеветники! Нет, джаным, курбаным, не таковской я человек, чтобы стал воевать против правоверных. Бывало, во время осады, юс-баши кличет: «На стену, на стену!» А я шмыг на базар. Мне очередь в караул[136], а я себе храплю всю ночь напролет во славу пророка. Из ружья, правду сказать, согрешил раза три, да и то когда неприятели были верст за пять; а сабли не вынимал, валлаги'ль-азим, билляги'ль-керим, не вынимал! Отведай сам, можно ли ее вынять: она еще при отце моем срослась с ножнами; и я соглашусь охотно, чтоб ею отрубили мне голову… долголетен я буду на земли! Да и за что стал бы я драться с Кази-муллою? Прекрасный он был человек; святой он был человек. Не руби он голов за трубки да за чарки, я бы сам пристал к нему!
– Еще, говорит Мулла-Hyp, он такой отчаянный шаги, что с нашим братом суннитом из одного ковша воды пить не станет! А Мулла-Нур поклялся истреблять всех, которые в молитвах своих поминают Али, в упрек Омару!
– Ощиплю я бороду этому Али, ему, да и двенадцати халифам, которых муллы наши зовут имамами (угодниками Аллаха). Что они мне? Пхе! вздор, пыль, пучзат! Какой я шаги? С какого конца я шаги? Молюсь я только тогда, как некуда деваться; затыкаю уши разве для того, чтобы не слышать имени Алия[137], а в ус себе никогда не дую: черт меня унеси, не дую! Да и рук не опускаю по швам, а, будто поправляя кушак, то и дело складываю их по-вашему, по-суннитски. Воды не пью, не хочу лгать; ни с кем не пью; у меня природная болезнь – водобоязнь. Зато поднеси мне водки не только ваш брат горец, а просто солдатский поросенок – посмотрел бы ты, кто кого перепьет! Спроси об этом у нашего Фергат-бека: он у нас почетный человек, достоверный человек, да и питух такой, что между русскими поискать ему равного, – а, верно, сознается, что я его при всякой попойке спать укладываю. Баллах, биллях, я не шаги! Я сунни: снутри и снаружи. Разве люди эти шаги! Пхе! Утоплю я в армянском бурдюке (в мехе с вином) души этих недоверков шаги!
– А главная вина, за что велел убить тебя Мулла-Hyp, – твоя дружба с Искендер-беком, его заклятым врагом. «Еще вздумал этот Гаджи-Юсуф, – говорит он, – провожать на Шахдаг, в мое владение, без спросу, для какого-то шагийского колдовства, этого мальчишку Искендера! Обрадовался невидальщине: по всему свету трубит, что он товарищ самому чистому, самому благородному, самому достойному юноше из всего Дербента!» Плачь, Юсуф! Голова твоего приятеля слетела уже прежде твоей.
– Слетела? Туда и дорога… Голова была самая лишняя вещь у этого трусишки. А кому спасибо за то, что он попался в руки Мулла-Нура? Разве не мне, скажи: разве не мне? Я нарочно привел его в западню! Друг? Откуда это известие? Нашли вы мне прекрасного дружка, нечего сказать! Продам я его за полпряника да еще пряник дам придачи! И кто это, признайтесь пожалуйста, выдумал, будто Искендер – самый благонравный у нас юноша? Припечь бы калеными щипцами язык у такого враля. Искендер – такой гуляка, что Аллах упаси! Кто первый поздравляет новое винцо в Армянской слободке?.. Искендер-бек! Кто у русских офицеров ест да похваливает богопротивную свинину? Опять Искендер-бек! Кто выплясывает лезгинку на чьей хочешь бурке, не говорю уже – на ковре; кто спит в саду на бубне вместо изголовья? Все-таки Искендер-бек! У нас разве ленивый не целует Искендера, а вы зовете его чистым юношею! Сожгу я бороду его матери!
– Ах ты, лгун, собачья голова! Мало тебе чернить Искендера, так ты принялся и за мать его? Да уж хоть без обмолвок бы бранил ты, кого хочешь без совести разбранить; а то нет в твоих россказнях ни складу ни сладу. Ну разве могла быть у Искендеровой матери борода?
– Ей-богу, была б длиннее Фетх-Али-шаховой[138]78, если б она ее не брила. Сколько бритв перезубрила у меня покойница, это известно только моему брусу, больше никому: я не люблю хвастать добрыми делами. Нет, не срамите, не вините вы меня дружбою к Искендеру; отрекаюсь и от него, от его рода и племени. Как может он быть добрым человеком, когда отец его был грабитель, мать глупа, а дядя сапожник!
– Устал я слушать тебя, бесстыдный враль. Протягивай голову: кинжал готов!
– Ох, пощади меня, раба твоего, твою верную собаку! По крайней мере дай мне посмотреть на смерть свою.
– Смотри на свой позор! – произнес Искендер и сдвинул с глаз повязку.
Весельчак был этот Юсуф, а умирать не любил: можете же вообразить его изумление, когда вместо палача он увидел перед собой смеющееся лицо Искендер-бека, когда вместо свиста кинжала он услыхал только упреки его.
– Что ты смотришь на меня, будто на моем лбу хочешь прочесть сотое имя Аллаха[139], ты, кабан, начиненный небылицами, бурдюк лжи, грязный перекресток грехов, базарная лавка всех глупостей? Повтори-ка, смей повторить, проклятый отступник веры, мне в глаза, что отец мой был грабитель, дядя шил сапоги, а сам я пляшу на бурке и на бубне сплю!
Что ж вы думаете, Юсуф сгорел от стыда, смутился, замешкался?.. Напротив, он хохотал, обнимая Искендера.
– Ай да я! – говорил он. – Успел-таки рассердить моего Искендера: умел отплатить насмешкой за насмешку. Что, брат, обжегся? Вперед не ешь чужой грязи, не наскакивай на терновый куст. Ставил силок на сокола, да и поймал ворону! Нашел простака надувать своими затеями! Да я узнал тебя по голосу с первого слова: я различу твой голос, если б ты даже вздумал лаять или мяукать промеж тысячи кошек и собак!
– Ах ты, ртуть бегучая! В тебя и в ступе пестом не попадешь. Ну, пускай ты узнал меня, пускай я поверю, что ты успел меня одурачить: да с чего же ты, беззаконный трус, отдал свое оружие жене Мулла-Нура? Как допустил раздеть себя бессильной женщине?
– Не хочешь ли ты, чтоб я застегивался на все пуговки перед красавицами? Чье же дело раздевать молодца, как не женское?.. А что, разве не правду я говорю? Мудрено очень, что я растаял, завидевши такую милочку, что я отдал ей все, начиная с чухи до сердца!..79 Посмотрел бы я, что бы ты сделал, встретясь с ней гиоз-би-гиоз оланда, глаз на глаз? Ведь ходит она – галуны меряет, говорит – червонцами дарит. Два глаза и носик ее точно буквы «джим», «алиф» и «нун», рядком поставленные, с двумя точками внутри[140]. Ротик так мал, как скважина жемчужины, а пояс мог бы служить мне вместо перстня.
– Особенно если б руки твои были одного размера с твоим носом! Ну, допытай, Юсуф, поскорее; мне, право, некогда… Так ты из любви дал связать руки?
– Душа ты моя, Искендер, что ж мне делать, что у меня такое мягкое сердце! Не то ремнем – волоском привяжи она меня, так я пошел бы за ней на край света. Да как пристал к ней мужской наряд! У самого падишаха, я чай, нет таких нукеров.
– Ну, ну, надевай, добро, свое оружие! Мулла-Hyp велел его выбросить, чтоб оно не заразило трусостью оружия его товарищей. Я уверен, что ты по крайней мере при мне не станешь рассказывать про свой ночлег в этой пещерке. В утешение тебе, однако ж, скажу, что встреча с нами была приготовлена вперед. Нас предал зеафурец, у которого мы завтракали; известил Мулла-Нура и налил воды в ружья наши. Мулла-Hyp схватился было со мною, да оборвался в ущелие.
– А что, уехал он?
– Теперь уж далеко.
– Оборвался? А ведь черт не сломил ему шеи! Зачем не провалился он сквозь землю! Наплюю я когда-нибудь в дуло этого разбойника, заставлю ходить иноходью. Не будь у меня мокры заряды, я бы и вчерась дал ему знать, из каких букв слово хараб (гибель) складывается.
– Если ты будешь его бить по-вчерашнему, похвальными речами, так он скорее умрет от смеху, а ты с испугу, чем от твоих ударов.
– С испугу? Я умру с испугу! Да есть ли что в целом свете, чего бы испугался я?! Баллах, биллях, таллах, я разве самого себя испугаюсь!
И между тем оба бека взбирались по указанной Мулла-Нуром тропинке. Никакой глаз не отличил бы ее снизу, никакое воображение не создало бы возможности взобраться на столь крутую скалу, но опыт оказывал противное: коленчатые, незаметные уступцы выводили реями до самого венца80.
Так многое считают неприступным, недостижным; но когда необходимость или крепкая воля увлекает нас, мы находим, что невозможное есть только трудное, только опасное. Хочу – половина могу.
Достигши, вблиз снегов Шахдага, Искендер-бек отдал держать своего коня Гаджи-Юсуфу, а сам с медным кувшином, бардаком, полез на круть. Солнечные лучи, протаяв верхний слой снега, образовали почти ледяную кору. На ладонь ниже под рыхлым снегом лежала такая же кора; глубже – еще и еще, в подобном порядке, так что промывающийся под ногами путника слоеный наст очень затруднял подъем. Ослепительное отражение солнца, пылавшего во всей красе, кружило голову Искендера. Перед очами его, по снегу, вспыхивали алые пятна и тысячи радуг пересекались на каждом шагу. К счастию, хребет Шахдага не сахарной головой, а крутым порогом проникает в область холода и снежная черта его, во время лета, неглубоко вьется от вершины. Задыхаясь от усталости, пал наконец Искендер на снег, не топтанный от века никем, кроме ангелов; но он пал на самом темени81.
Слишком чист, нестерпимо чист для человека воздух неба; ослепительно ярок луч солнца. Сыну земли необходимы испаренья земли для дыхания. Ему нужно раздробить или переломить свет, чтобы он мог наслаждаться им. Он ничего не может пить из родника, даже самой истины; родник поражает его холодом или пламенем невыносимым. Так и бек Искендер изнемог на вершине Шахдага: грудь его расторгалась от редины воздуха, очи залиты были волнами света. Но если небо замкнуто было для взоров его лучезарным замком солнца, земля раскрывалась внизу тем прекраснее. Зрение, заманенное в сеть оптики, не знало, куда обратиться и что покинуть. Прямо перед ним, на север, гряда за грядой вставали хребты, идущие от моря до Аварии, дающие ложа рекам Самбуру, Гюльгори, Дарбасу и другим меньшим[141]. Они смыкались между собою множеством ветвей и, пробив параллельною морю каменною волною Кара-Кайтах, изливались хребтом Салатафа в синюю даль. Влево, вблизи, изумрудные холмы ханства Кюринского роскошно купали в воздухе кудри своих плодовых лесов, то взбрасывая на опененные скалами волны флот деревень, то почти поглощая его в глубину зелени. Далее между хребтов, там и сям убеленных снегами, черною полосой тянулись ущелия ханства Кази-Кумык, осажденные враждебными крутизнами вольных обществ Алты-Пара, Докус-Пара, Ахти, Сиргили, Акуши, Табасарани и, наконец, замурованные в облачном отдалении скалистым берегом Койсу, под прямым углом кидающимся с запада на север. А там – горы Султанов Елису, рядом с горами Джарскими, крепостью свирепых глуходаров. А там Шекинская и Шамахинская области, тонущие во мраке гор Карабахских. И все это смешение света и теней, зелени и буризны камня, переливающихся дивными узорами и кое-где затканных золотой ниткою вод, волновалось перед очами, как покрывало, накинутое рукою Аллаха на тайны земли. На востоке, будто стальной, повороненный щит, окованный горизонтом, сверкало море под огневой насечкою лучей. И все было тихо, безмолвно кругом; с высоты снегов не было видно никого, ничего не слышно: туда не долетал обаятельный лепет жизни! И вот мир заснул в груди Искендеровой – мир, который носит человек с собой неотлучно, и в пустыню дикую и в святыню молитвы. Привлеченный на темя этой горы своекорыстным желанием овладеть любимою женщиною, он почувствовал, проникнутый благостью небесного воздуха, как недостойны были народного доверия его замыслы. Несчастия беднякам от засухи обступили, стеснили в нем сердце. Сомнение, которое мелькало в нем порой к щедроте Божеской, перешло в сомнение к самому себе. «В чистом сосуде подобает зажигать Аллаху курение молитвы за братии, а я?..» Он пал на колени и с примирительными слезами раскаяния молился за себя, с слезами умиления – за Дагестан. Наконец безотчетное, темное чувство веры умастило его душу. Он набрал снегу в кувшин, обвязал его чистым полотном и с набожною осторожностью стал спускаться долу. Обратная дорога была гораздо труднее восхода: стопы скользили по насту, крутизна увлекала. Но, даже скатываясь несколько раз, Искендер сохранил в своих объятиях не коснувшийся почвы сосуд надежды, долженствующий увлажить жадные поля. Так по крайней мере думалось суеверным дербентцам; так верил сам Искендер. Соединившись с Юсуфом, он не отвечал шутками на шутки его и дурачества: он уже был исполнен важных дум, и благоговение к своему подвигу, проницая наружу, давало его осанке какое-то гордое благородство. Гаджи-Юсуф не мог надивиться такой перемене.
– Уж не наелся ли он там солнца, – говорил проказник бек сам с собою, – что боится выпустить его из-за зубов вместе с речами! Или не сыграл ли в шахматы с ангелами, что так загордился! Да посею я в его бороду соль, пусть только она вырастет! Какое мне дело, что он стал угрюм, как голодный кади в пост82: какая в этом убыль мне? Ведь если он и приморозил себе язык, так ушей, верно, не отморозил. Я все-таки буду говорить; посмотрел бы я, как он запретит мне говорить, а себе слушать?
В Юсуфе тоже, видно, произошло что-то необыкновенное: он сдержал свое слово.
Как ни спешили наши всадники, но была глубокая ночь, когда они домчались до запертых ворот Дербента. Сильно билось сердце Искендера: если б насадить его на бревно гарана, оно бы само пробило стену. Страх, сомнение, надежда то вздували, то стискивали его. Повесив роковой кувшин на дерево, Искендер с тоскою смотрел то на черную стену, грозно и таинственно сомкнутую надо всем, что ему мило, то на мрачное небо: он от всех предметов пытал ответа – будет ли, не будет ли удачи? Он с отрадою увидал наконец, что легкие облачка неслись по небу и, подобно стаду диких коней, прядали через огонь месяца.
– Видишь ли? – сказал он, толкнув засыпающего Юсуфа. – Взгляни на его рога!
– Чего глядеть, – бормотал тот впросонках, – резать его дажарить, возьми мой шомпол и стряпай скорее шашлык.
– Я говорю тебе про месяц, Юсуф!
– А я думал – про барана!.. Страх есть хочется. Месяц? Какой черт месяц! Я, кажется, круглый год не проглотил зернышка.
– У тебя только еда на уме, долгоносый аист; а небось не порадуешься со мною, что по небу ходят облака!
– А ты, каменное сердце, небось не погрустишь со мною, что по брюху у меня ходят мурашки! Облака? Вишь, нашел невидаль: кушай себе их на здоровье; ты ведь с неба воротился. Я бы гораздо больше был рад, если б по небу летали жареные фазаны. Не мешай мне, пожалуйста, хоть во сне обед увидать!
– Постой, постой, Гаджи-Юсуф. Не чувствуешь ли ты в земле сырости?
– Я только чувствую засуху в желудке. Такую засуху, что там, я чай, паук сети раскинул. Юхун яхши олсун (Да будет сладок твой сон)!
И он зевнул; и он заснул.
Раным-рано весть о счастливом прибытии кувшина с священною водою из шахдагского снегу электрическою искрою промчалась по сердцам в Дербенте. Все, что могло не только говорить – лепетать, зашумело. Все, что могло ползать, если не ходить, задвигалось. На дворе мечети ужасная была давка, суматоха неописанная; ожидание хода томило всех. И вот, после моления в мечети, все муллы и почетные жители города, с знаменами, исписанными текстом Корана, потянулись в голове бесчисленной толпы народа к морю. Искендер скромно нес кувшин; зато Гаджи-Юсуф, выбритый наново, в новой чухе, расправляя свои усы за ухо и закидывая за плеча рукава, к великому соблазну людей степенных, выступал преважно с ним рядом и хозяйничал, будто на своих похоронах. То семенил он впереди шествия, то равнял толпы мальчишек, то, забравшись в середину зевак, разглагольствовал про чудеса, встреченные им на Шахдаге. Одним говорил – он так близко был к небу, что слышал, как чихают гурии83. Других уверял, что привез с собой уши Мулла-Нура. Пуще всего, по его словам, претерпели они от медведей и змей. Шкуру с самого большого, убитого им в рукопашном бою, хотел он привезти домой, да разбойник конь никак не посмел запрячься его тащить. А из змей на Шахдаге в одном месте сплелась рогожка, так что они принуждены были мостить из камней мост через эту змеиную полосу. Он перестал врать только за недостатком слушателей, потому что все бросились смотреть, как будут выливать воду в море.
С самого утра дул горный ветер: небо подернуто было туманною пеленою, но дождевых облаков не виделось нигде. Когда, после долгой слезной молитвы, главный мулла готовился опрокинуть роковой сосуд в волны Каспия, Искендер-бек с приметным волнением сказал Мир-Гаджи-Фетхали:
– Ага, вспомни свое обещание!
– Вспомни свое условие, – отвечал тот с насмешливою улыбкою. – Судьба твоя не в кувшине этом, а в дождевой туче. Ты угоден мне, если угоден Аллаху!
И, говорят, прыснуло море о камни, когда благословенная вода пролилась в его лоно. Прыснуло и зашумело глухо. И черные тучи покатились с гор Табасаранских, как будто в раздумье налегли на край Дербентского угория; но вдруг, широко взмахнув крылами, быстро помчались врознь по небу, словно спугнутые с утеса выстрелом бури. Грянул далекий гром, горное эхо проснулось из мертвого сна, окрестность загудела под вихрем. Листья весело отряхали с себя пыль; мусульманки со смехом выказывали свои личики на совесть ветра, срывающего долой их покрывала; все руки, все очи поднялись навстречу дождя, столь искренно молимого, столь давно ожидаемого, – и дождь проливной зашумел, напояя обильными струями исчахнувшую землю, освежая раскаленный зноем воздух. Невозможно описать, ни оживописать радостной толпы в тот торжественный миг. Шапки летели в воздух и воду! Восклицаниям и молитвам не было конца! Все обнимали, все поздравляли друг друга; всех, однако ж, более был рад Искендер-бек: ему упала с дождем премиленькая невеста.
Предоставляю судить господам философам и естествознателям, явилась ли в этом призванном дожде счастливая игра случая или колдовство. Я просто рассказываю дело, которому был очевидцем.
VIII
Гечме намерд кюрпинсиндан: кой апарсын чай оны!
Ятма тюлкю далдасында: кой джирсын аслан аны!
Не ходи через мост лукавца: пусть лучше быстрина унесет;
Не ложись в тень лисицы[142]: пусть лучше лев растерзает!
Что за юность без любви, что за любовь без юности? Ярко светит свеча в чистом воздухе: а какой воздух чище весеннего? И не греть огню без воздуха, не прожить юному сердцу без страсти где бы то ни было. Правда, высоки стены дворов мусульманских, крепки затворы; но ветер проницает и туда! Глубоко лежат сердца их красавиц, замкнутые за тридесять предрассудков, закованные в тысячу приличий, но любовь, как воздух, находит и к ним дорогу. Кичкене уж любила, не смея самой себе в том признаться. Искендер-бек стал любимою ее мечтой в день, приятнейшим сновидением ночи. Вышивая золотом сафьянный накременник или подсокольную перчатку для своего незнаемого будущего, она думала: «Что, если б это было для Искендера карагюздара (черноглазого)!» Какова ж была ее радость, когда суровый дядя с досадою, но решительно объявил ей, что она невеста Искендер-бека! Вспыхнули ее щеки, затрепеталось ее сердце, словно голубь, пущенный на волю. Итак, сбылись ее тайные желания, ее безымянные надежды облеклись в законное имя! Теперь уж она гордо может принимать цветы и поздравления от своих подружек и, сидя с ними за шитьем приданого, хохотать и толковать о своем будущем муже сколько душе угодно. Теперь уж никто не запретит ей примерять хоть сто раз в день свадебное платье и повторять обычные проделки первого свидания; золотить воображением то, что знакомо ей в быту супружеском, и множить на миллионы наслаждений все, что неизвестно. Ну право, если есть счастливцы на земле, так это женихи и невесты. Что поете вы мне о сладости медового месяца? Медовый месяц, как и все его братцы, родится с рожками и пророчески обмывается в непогоде. Притом или нынешние пчелы разучились делать мед, или вкус наш испорчен сахаром, только я знаю многих новобрачных, которые уверяют, что медовое варенье, даже розовое, приторно. Иное дело – пора между помолвкой и свадьбою; это приход голодного в столовую; пышный обед развивается перед ним уже не вдалеке, а на хват руки. Вкус его изощрен аппетитом, взор и обоняние ласкают и манят плоды, перевитые цветами, блюда, жарко дышащие благоуханным паром. Слух обольщен приветным бряцанием рюмки о рюмку или падением серебряной вилки на фарфор. Каждое мгновение множит его нетерпеливость, зато близит к верному наслаждению. Он грызет пустоту, он глотает воздух, зато чародей воображение обращает ему каждого петуха в золотого фазана, предсказывает шамбертен под каждою длинною пробкою84, уверяет, что он может съесть полмира и запить его пол-океаном. И как милыми, как остроумными кажутся люди женихам перед свадьбою и гастрономам в виду обеда. Не скажу, чтоб они казались также милыми и остроумными людям, но все-таки пресчастливое состояние жениха, и если в обеих наших столицах увидите вы кучу невест и женихов вечного цеха, это явный признак утонченности нравов: они вытягивают в канитель эстетическое наслаждение между помолвкой и размолвкой; они каплей по капле пьют амброзию, которой полный глоток отяготил бы всякий благовоспитанный желудок. Но, перед всеми частными и всесветными женихами, тебе пальма, достославный Л.! Только ты вполне постиг сладость предбрачного состояния, которому посвятил три четверти жизни. Скажи, какая красавица в Петербурге не была твоей невестою? Укажи хоть одну звезду бульвара, которая бы не считала тебя женихом? Мне сказывали за диво, будто и тебя попутал Гименей. Тебе же хуже, если – да! Ты сам узнаешь зевоту, которую безданно доселе внушал.
Мусульманину вовсе не следовало бы чересчур радоваться женитьбе, потому что он, по закону, может играть вдруг четыре, не включая в то число утешительной перспективы замещения после развода; потому что он каждый угол своего дома украсить может живою статуйкою, купив ее точно так же, как покупаем мы у носячего85 алебастровых Диан и Психей. Но Искендер-бек, вероятно, знал, а быть может, предчувствовал, что редкий мусульманин дочитывает и первый том четырехтомного романа брака, и потому спешил насладиться всеми радостями первинки. Он не слышал под собою земли, бегая по лавкам; он измучил свою тетку закупками; и, в награду себе за невозможность пройтись даже близко дома своей невесты, – этого требовал строгий обычай, – не переставал о ней думать наедине. «На этом новом коврике будет она сидеть за работою, на балконе у решетчатой двери! В этой узорной чаше станет зерно по зерну выбирать пшено для моего плова! Перед этим зеркалом моя Кичкене в первый раз увидит свое милое личико вместе с лицом мужчины; из этого посеребренного рукомойника освежит свои пылающие щечки; под этим атласным одеялом…» Но, впрочем, для таких мечтаний вовсе не нужно обручального кольца: вы можете, не платя свадебных прогонов, съездить в эту заветную сторону и на собственном воображении, воля ваша, – я не отдаю в извоз своего. А между тем спальня женатого – презанимательная вещь, по крайней мере для холостых.
Но на вешнем льду строил Искендер замок своего счастия: в то время, когда он готовился увенчать его золотою маковкою, судьба простирала на разрушенье свою огромную, неотразимую десницу.
В наши закавказские области вероисповедания Али нередко приезжают из Тебриза или Исфагани странствующие проповедники, муллы. Толкуют Коран, рассказывают легенды про чудеса своих имамов и нередко вздорными россказнями питают вражду к русским нововведениям. Самая обильная пора на этих ораторов, сказочников и плясунов бывает в месяц мухаррем, который в тридцать три года обходит все месяцы нашего солнечного года. В этот месяц, начиная с первого его дня, шииты празднуют, как я где-то описал, поминки по Гусейне, сыне Алия, который после гибели отца своего восстал на Езида, сына Моаввии, за халифат, но, встреченный в теснине Кербела, на походе из Медины в Куфу, был разбит наголову воеводою Езида, Обейд-Аллахом, и потерял там жизнь в 10 день мухаррема, 61 года гиджры. Все это происшествие, драматически изложенное, представляют шииты с большим великолепием, а нередко и с чувством, по ночам, при блеске тысячи светильников86. Повесть наша началась по окончании этой религиозной трагедии. Гусейн с детьми своими был уже изрублен в куски по всем правилам военного искусства и по всем правам восточной политики. Остальное семейство его бежало, а голова его отправилась как трофей за седлом гонца в Мекку перед светлые очи торжествующего халифа Езида. Но этим еще не кончается спектакль. Через две недели обыкновенно, на которой-нибудь из площадей, представляют в подробности судьбу бегствующих Гусейнидов и приношение головы Гусейна перед трон злобного халифа. для устройства этого праздника, со всеми затеями, приезжий из Тебриза мулла Садек остался в Дербенте целый месяц, склонясь на неотступную просьбу почетных граждан и того более на невозразимый звон серебра. Мулла Садек был человек лет сорока пяти, но глядел степенно и ходил с расстановкою, будто семидесятилетний старик; его разговор и молчание равно вышиты были именами Аллаха и Алия, вели Аллах (святого Божия); четки перебирал он даже во сне, и вообще от него сияло святостью и пахло розовым маслом на двадцать шагов в окружности. Впрочем, Садек, разрабатывая ниву небесную, не забывал округлять и свои земные делишки. Дружбу водил он с немногими, а деньги брал он от всех: истинно был добродетельный человек, – не обидит отказом благосклонного дателя; да, кроме частных подарков, еще согласился (благородная душа!) принять по окончании хатыля, за весь пот ума и тела, одну сотнягу серебряных рублей из расходов мечети. Не довольствуясь этим, он хотел прочнее устроить свое житье-бытье каким-нибудь брачным родством и, поразведав стороной, куда бы выгоднее забросить крючок, наживленный красным словом, решил обратиться к Мер-Гаджи-Фетхали, за племянницей которого, как единственной наследницей, прочуял он изрядное именье.
Вкравшись в доверенность Фетхали похвалами его уму и познаниям, его учености и красноречию, бранью русских за то, что они не умеют отличать такие высокие достоинства, и что, по их милости, потомки истинных имамов стали равны с простолюдинами, и что даже – я Аллах! – Алием проклятые сунни сидят с ними рядом, а если служат России, стране раздора и неверия, то нередко распоряжаются мирами как обыкновенными людьми.
– Ай-вай! – восклицал он, – пришли последние годы. Суд судов зреет над головою! Скоро, скоро встрепенется рыба Хут, на которой стоит свет87, и сбросит с себя долой это гнездо змеиное, этот котел греховный! Правоверные гордятся крестами, и темляк для них стал почетнее бороды!.. Не знаю, право, что сталось бы с колесом Дербента[143], если бы ты, Мир-Гаджи-Фетхали, не служил ему осью веры и мудрости. Почтенный ты человек! Святой ты человек, истинный Гусейн! Не садишься в диване с немытыми армянами и с неверующими свиноедами, донгусеян кафирляр; не хочешь чернить своей души ни чернилами, ни порохом на их службе. Твоя шагия (политика) – сливки благоразумия! Только одного не мог я уложить в свою голову, одному поверить не хотел, свидетели газ реши Алие (святые потомки Алия): глупая чернь, кара хаях, толкует, будто ты выдаешь свою племянницу за какого-то безбородого бечонка? «Наузу биллях (убежище мое у Бога)! – сказал я самому себе на ухо, – этого не может быть; такой благочестивый человек, как Мир-Гаджи-Фетхали, не бросит в лужу перлу пророка, не отдаст простому человеку дочери брата своего, не смешает с грязью крови сеида88. Вель хамду ли'ллях, ве ля иляге илля гуэ! Сбыточное ли дело, чтоб такой кельби Али (такой пес Алия)[144] допустил съесть бесхвостому котенку райскую птичку? Ее же Аллах ему отдал под призор! Хейр (нет)! Это хош таплых (это шутка); бир фикирды (какая-то выдумка); она родилась в пустом арбузе и разнесена вертучим ветром по базару. Даром бросают такую пыль в бороду Фетхали. Не верю я тому, чего быть не может!»
– А между тем это правда, – сказал Фетхали с таким лицом, будто его застали в чужом винограднике.
И он рассказал мулле Садеку, каким образом и почему принужден был дать на этот брак свое согласие. Притом же, замечал он, в Дербенте нет пары его племяннице из числа немногих миров. Все они такое старье или такая голь, что если за иного выдать, так свадьбу придется играть на перекрестке, а новобрачным спать на своих башмаках, прогуливаясь.
Мулла Садек два раза погладил свою бороду, два раза пропустил девяносто девять зерен своих четок между пальцев и сказал:
– Все исходит от Аллаха, все к нему возвратится. Разве нет достойных Гусейна в стране Ирана, в Персии, в благословенном краю наследников Сефи?89 Солнце два раза в день восходит и западает в виляете (владении) шегиншаха (государя государей): так оно неужели не светит в глаза ни одному жениху твоей племянницы? Вели пейгамбар, ваазы пейгамбари (О святой пророк, о завет пророческий)! Если ты хочешь женить светлый месяц на звезде утренней, я пришлю сюда моего двоюродного брата по матери, Мир-Фейзуллаха-Тебризи, – указательный перст учености, изумруд красоты: борода его считается третьею после шаховой; богат он так, что индеек кормит жемчугом, и со всем тем скромен, как изголовье. Клад, а не человек, валлаги, билляги! Когда он в нашем городе идет по базару, даже те, у которых глаза выколоты, кричат ему: «Гьозим усти»[145], а купцы бьют челом кто пряником, кто изюмом, кто горстью табаку; ни один не сунется без пешкеша (подарочка). Если твоя племянница за него выйдет, так ей даже в бане все ханум и бегум (все ханши и бекши) станут давать почетное место, – а Тебриз не вашему глиняному Дербенту чета!
Это предложение польстило и гордости Фетхали, потому что он знал, каким уважением пользуются в Персии миры, и ненависти его к Искендеру. Однако ж в нем еще были искры совести. Он возразил мулле Садеку препятствиями со стороны матери Кичкени и со стороны строгого коменданта, который, вероятно, не позволит переселения из русской области. Притом «что скажут» горожане? «На диаляр» – важная вещь и на Востоке. «Le ce qu'en diraton» держит в узде парижанина и петербуржца, обитателя Пекина и Шамахи. Это почти совесть людей бессовестных.
– Что скажут? – с насмешкою отвечал Садек. – Скажут, что ты умный человек. Простительно делать ошибки, но исправлять их похвально. И что, в самом деле, за услугу оказал тебе Искендер? Будто бы до него Аллах дождя не выдумал? Он тебя поймал в западню: оставь же лучше в западне свой хвост, как лисица, и уйди от него, чем целый век кланяться немилому человеку. Да я научу тебя, как, с помощью пророка, выбраться из обещания, не запятнав своей чести. Откажи Искендеру и расславь по городу, что твоя сестра при смерти и дала обещание, если выздоровеет, выдать свою дочь не иначе как за потомка пророка, за имама. Этому в Дербенте не один пример. Сестра твоя не выходит из дому; да и дома почти нема как рыба: так на нее, для пользы внуков Алия, можно все взваливать; а слушать ее бредней будет позор на твою голову. Разве не знаешь, как плотно поколотил Эйюб, алейги'с селям, Иов (мир с ним!), свою жену за то, что она советовала ему поклониться шайтану?91 А разве мать Кичкене – твоя жена? Разве ты купил ее? Что она тебе? Только сестра; а это четвертью меньше, нежели ничто. Плюнь ты на ее волю!
– А комендант? – со вздохом спросил Фетхали.
– А комендант что за помеха? Разве невесты – запрещенный товар к вывозу? Да пускай себе и запрещенный: можно надуть коменданта, попросить билет в Персию для свидания с родственниками, да и пошел, покатил себе. Обмануть гяура – все равно что приложить кусочек к сердцу Али: три греха с души долой. Тебе же более славы, если ты на черте привезешь дар Каабе, меккскому храму92, за неимением белого верблюда.
Два лукавца ударили по рукам.
Наутро Искендеру отослана была половина кабина, то есть откупа за невесту, обращаемого обыкновенно на приданое. Искендер-бек чуть не оторвал себе ушей, чтобы увериться, не обманывают ли они его! Нет; весть эта была слишком несомнительна. Возвращенный мешок с рублями лежал перед ним неотвергаемым доказательством; тетка его Аджа-ханум бранилась так искренно, что слов ее нельзя было принять за шутку. Сначала, оглушенный неожиданным отказом, он сидел бледный, безмолвный, с неподвижными очами, как тело, только что охладелое в труп. Но скоро юная кровь зажглась негодованием, и оно вырвалось наружу буйным потоком угроз и проклятий. Быть столь близким к счастию, подносить уже к устам заветную чашу – и вдруг вместо желанного, драгоценного питья выпить горькую обиду, облиться несмываемым позором! О, это заставило бы вспыхнуть самое ледяное сердце, закипеть самую ползучую кровь! Никогда любовница не кажется нам так прелестною, так любимою, как похищенная изменой или судьбой. Тогда любовь нарастает на весь ужас разлуки, а бешенство за разлуку раскипается всем пламенем страсти. Искендер-бек неистовствовал: разбил вдребезги хрустальный кальян свой, выбросил за окно зеркало, изорвал в клочки свою круглую подушку, вытолкал в шею нукера, который явился было с неуместными услугами. Он упал от изнеможения, но злость не потухла вместе с силами: он грыз подушку и плакал. Наконец рассудок взял верх, но если гнев, если безнадежная любовь покинула голову, они тем не менее терзали его сердце. Два дня и три ночи, обманутый в самых законных своих надеждах, юноша не мог спать, не хотел есть. Но потом азиатская природа передвоила все бурные чувства в тихий, медленный яд желания и мести. Он перебирал и отвергал все средства отмстить вероломному Фетхали, не подвергая себя опасности от русского правительства. О, если б это было при ханах, – удар ему кинжалом в бок, и все кончено! И Кичкене стала бы его собственностью, после месячного бегства! Теперь иное!.. Теперь надо!.. Искендер углубился в размышление, как это надо? А перед ним давно уже стоял Гаджи-Юсуф. Право, за вычетом хвастовства и трусости, этот Гаджи-Юсуф был предоброе создание. Горесть товарища тронула его: если б умел, он бы заплакал, глядя на безмолвную задумчивость Искендера. Он тихо коснулся плеча хозяина и хотя разодет был как свежепривозный кашенг, франт из Тебриза, однако сказал свой «селям» самым степенным голосом.
– На хабер (Что нового)? – спросил очнувшийся Искендер.
– Пришло три корабля с хлебом: народ веселится.
– Если б пришли три корабля с мышьяком на отраву всем дербентцам, я бы радовался один более, чем теперь они все вместе.
– Помилуй, Искендер, за что такая опала! Не хочешь ли ты подражать Эгри-Абу-Талебу[146], который еще в люльке на кого-то рассердился и до сих пор косится на целый свет? Пришло – пройдет!
– Ты слышал, Юсуф? Верно, уж слышал! Ну, рассказывай, что про меня шепчут в Дербенте?
– Ничего не шепчут, на всех базарах и перекрестках только в бубны бьют, что тебе отказала мать Кичкени.
– Мать? Мерзавец этот Фетхали!.. Убью его и уйду, скроюсь в горы!
– А что, разве тебе Карадаг[147] дядя! Видно, ты еще не лакомился просяными чуреками, душечка Искендер. Велика хитрость убить да уйти, и потом по конец жизни облизываться на дым родного города! Анасыны, бабасыны… Гораздо лучше побить порядком этого Фетхали – и гайда в Баку! Там, если тебя оседлала такая охота жениться, ты можешь на пробу купить себе жену на два, на три месяца. Прекрасное это заведение – метеги[148], для удобства путешественников, черт меня покарай, прелюбезное! Я сам женился на четыре месяца; да, слава Аллаху, бежал до срока от моей красавицы. Рад, что ноги унес! Бывало, сплю и боюсь – откусит она мне нос из нежности. Так-то, Искендер-бек! Отведай сам, правду ли я говорю, и, воротясь, – об заклад побьюсь, – ты за спасибо пешкеш привезешь Фетхали, что он не отдал тебе племянницы. Искендер-бек был угрюм и безмолвен.
– Душечка, цветок ты, Искендер-бек! Ты ничего не слышишь, будто уши по воду послал; а печален так, словно сердце твое забили в фелаку (лещотку)93 и отдубасили по пятам. Экая невидаль – невеста! Брось только горсть червонцев на улицу да закричи: «Гель-гель-гель!» – набежат свахи словно куры. Надоедят тебе жены, вспомни меня, надоедят!
Искендер не внимал ничему.
– Да и об чем ты так грустишь, Искендер? Что за звезда твоя невеста! Что за красавица такая! Глаза у ней один больше другого, а сама так смугла, что ты разоришься на одни белила; да к тому ж, кажется, немножко кривобока. Видел, брат, я ее не раз!
Искендер-бек схватил Юсуфа за ворот.
– Ты ее видел? Где ты видел ее? Как ты дерзнул поднять на нее свои пьяные глаза? Говори же, бездельник, когда и как ты ел ее своими глазами?
– Ради Аллаха, пусти, Искендер-бек!.. Разве не видишь ты, что я шучу?! Ты знаешь, что я глаза ношу всегда в кармане, а карманы мои все в дырах. Где мне видеть ее! Да и на кой черт стану я заглядывать на эти двуногие жемчужины! Пропадай они, право: я не пахарь таких нив! Я умильнее погляжу на свиной бурдюк с кизлярским чихирем, нежели на женщину. Эй, не женись, душечка Искендер-бек! Беда тебе – жениться: ты такой ревнивец, что Аллах упаси! В соседстве с русскими молодцами тебе придется стоять всю ночь на карауле и целый день, как рахтарщику94, осматривать и щупать, кто входит и что вносят в твой дом. Ну уж что за люди эти русские. Только поставят их постоем – смотришь-глядишь, они уж приятели с нашими молодушками! Подкатится яблоком, рассыплется бисером, а там… Знаешь ли ты Муллу-Касима, того сухопарого зверка, про которого говорят, что с него снята была кожа для таинственной книги Джефр[149]. Ну, мой ага, этот Мулла-Касим, старый ревнивец, купил себе беду под белою чадрою и не спускал с нее глаз. Что ж вышло? Он по три раза в неделю отворял ворота одной подружке хорошенькой женки своей и сидит, бывало, у ворот, чтоб не дать жене на проводах выглянуть на улицу; а эта подружка и был русский офицер в женском платье!
Оба приятеля схватились за бока от смеху.
– Мужчина? Под чадрою? Это прелесть! Это единственно! Спасибо тебе, Юсуф; разутешил ты меня этим рассказом.
И бек Искендер чуть не задушил гостя в объятиях.
– Ну да прощай, душа моя! Мне теперь хлопот целое стадо. Я сегодня ночью представлять буду фиренг эльчиси (франкского посла) при дворе Езида: так надо заранее умудриться, как мне влезть в узкие шальвары! Пусть выкроит шайтан себе подметки из кожи этих гяуров за адскую выдумку тесных мундиров и панталон: в них так же ловко двигаться, как в железных тисках. Недаром, право, носят они на шее удавки: запалю я гробы их отцов да сам и огонь залью! Не попадайся мне теперь ни один русский петух: разом ощиплю весь хвост на султан для треугольного папаха! Я уж задал жгучей травы[150] комендантскому павлину; перестанет он хвастать своим веером. Да и русской водке достанется: какой я буду кяфир95, если не вытяну стакана четыре? Яхши олсун, Искендер-бек, яхши олсун! Увидишь, я таким выйду на хатыль полным франком, что солдаты будут говорить мне: «Здравия желаю, ваше благородие!»
– Советую только переменить тебе имя Юсуф на Аллах-верды![151]
– И разумеется! Аллах-верды – прекрасное слово. «Бог дал» вино, так черт не отымет. Ох, служба, служба! Горька она и в нашем правоверном платье, а в кургузом и того втрое. А еще говорят, будто я мало служу. Неблагодарные!..
Юсуф удалился, разговаривая сам с собою про безумие Искендера:
– Рехнулся бедняга; без сомнения, рехнулся! То он несносен, как пустая бутылка, то хохочет, будто исфаганского нагильчи (сказочника) слушает, то бранит меня, словно капитан, то обнимает ни за что ни про что. Жаль!
И, молодецки закинув рукава за плечо, он пошел, переваливаясь, по улице и напевая стихи в честь Гусейнова побоища при Кербеле:
Неджа кап агламассын даш бугюн!
Кеселибты етмиш-еки баш бугюн!
Как сегодня не прослезиться тебе, камень, кровью?
Сегодня отрублено семьдесят две головы!
Зато Искендер вовсе не думал об отрубленных головах; ему Юсуф приставил новую своим рассказом. Яркая мысль – пробраться к своей милой под чадрою – озарила его сердце. «Я шел законною дорогою, – говорил он себе, – и она привела меня к пропасти. Теперь я во что бы то ни стало дойду до своего окольными тропинками. Теперь все связи мои разорваны, и не мною. Пусть же узнает Фетхали, что значит разбудить барса и потом дразнить его. Бесславием, похищением – всем готов теперь я добывать вырванную у меня Кичкеню. Да! Я оденусь женщиною, но докажу, что я не мальчик: сегодняшний ночной праздник сблизит меня с бесценною, – пускай дорога к ней помощена остриями кинжалов! Неслыханную между мусульманами дерзость сделаю я; но разве не такова моя обида, моя любовь?» Так рассуждая, или, верней, безрассудству я, Искендер обшивал сам свои шальвары кружевным позументом, как носят мусульманки; примерял купленное для будущей невесты покрывало, учился подбирать его по подолу и около рта, ходить смиренно, говорить тоненьким голосом. К сумеркам он мог бы представлять на хатыле сестру Гусейна, верно, лучше своих собратий. «Сурьма по бровям и темнота ночи скроют остальное», – думал он; однако боясь болтливости своего нукера в таком деле, где бросал на ставку свою голову, он услал его пасти коней на траву. С трепетом сердца ждал он ночи; но день не хотел умирать, как богатый дядя. Наконец-то, наконец зоревой барабан сказал его сердцу отрадную весточку. Пламенники, напитанные нефтью, замелькали по улицам и вот слились в одном месте в багровый дым зарева… Скоро придет время.
Пустяки говорят, будто мы только в первый раз любим крепко и пламенно. Одно верно, что мы только в первый раз любим сладостно; потому что тогда все в любви нам ново, потому что мы верим тогда неизменности любви и взаимному для ней геройству. Проходят лета, и незваный гость опять стучится в сердце: он подает очки свои, которые разлагают все мечты, показывают все цветы, всех бабочек в настоящем их виде, и говорит: «Это линючая краска, бесполезное насекомое. Черт возьми твой микроскоп, опытность! Я хочу роз, а ты подаешь мне скляночку с духами. Скажи мне, счастливее ли я стал, узнав, из чего составлена слеза и какой нерв движет улыбку? Счастливее ли, умеряя сильные чувства, чтоб не нажить аневризма? Счастливее ли, что, завидя в ком-нибудь, даже в самом себе, вспышку прекрасного чувства, я говорю: „Знаю, чем это кончится!“ Холод и пустыня тем ужаснейшие, что опять дают угадчивость уму, а не избавляют от страстей, от чувства».
Искендер плавал в безызвестном для него океане любви, искал Нового Света счастия, который новому Колумбу96 живописался на воображении полным сокровищ и восхитительным новизною. Но если б вы спросили его, какие он имеет к успеху залоги и для чего выбрал эту дорогу, для чего хочет он видеться с Кичкенею? Он бы не умел дать отчета и самому себе. Счеты изобретены, конечно, не влюбленными. Все, что он мог бы отвечать вам, состояло в словах: «Я так решил! Я на это решился!» С Богом!
Начернив огромную бровь, которая, по последней моде, должна была соединять, как мост, оба уха, и налепив на щеки две золотые звездочки, Искендер заткнул за пояс, стягивающий атласный дун (род бешмета), пистолет, обвил голову маленьким тюрбаном, закутался весь до ног в белую чадру с каймою и робко пошел к нижнему магалу97. Спрятавшись подле дома Кичкени в ворота, он выждал, покуда она вышла с двумя подругами, и, не теряя ее из виду, чтоб после не утратить вовсе меж тысячи покрывал, отправился по пятам ее до самого места представления. Площадь, улицы кипели пешими и конными зрителями; кровли домов покрыты были купами и рядами женщин, живописно рисующихся в белых и цветных чадрах. Драма еще не начиналась; на возвышении, приготовленном для Езида, говорил пролог мулла Садек, а два других стояли на ступеньках, крытых ковром, махальными чувствительности, и при каждом трогательном описании громко кричали народу: «Что ж вы не плачете? Плачьте!» В ответ на это раздавалось обыкновенно вверху и внизу оглушающее хныканье; потом поток красноречия снова пробивался сквозь жужжанье. Почти в лихорадочном жару взбежал Искендер за Кичкенею по крутой лестнице чужого дома, беспрестанно прикасаясь к женщинам, на плоскую кровлю. На ней уже было до сотни мусульманок, сидящих, стоящих, бегающих взад и вперед и более или менее озаренных блеском множества мангалов, поднятых на шесты. Женщины встречались, целовались, болтали без умолку, смеялись без удержу. Все они одеты были в лучшие платья, увешаны золотыми звездами и монистами; и все это не забывали они выказывать при встрече с знакомыми, широко распахивая чадры.
Тот, кто не знает азиаток, не знает и половины азиатца, хотя бы он жил с ним сто десять лет запанибрата. Вместе с туфлями мусульманин надевает непроницаемую личину и вне гарема не покажет родному брату своему ни дна души, ни дна кошелька; притом же страсть хвалить нравы и обычаи своего народа, свойственная всем народам младенчествующим, обладает им вполне. Послушать каждого из них, так вы подумаете, что это целое поколение праведников, что у них все мужья и жены ходят между строчек Корана и никогда не помыслят вильнуть в сторону. Только в семье смеет мусульманин быть самим собою, потому что жена и дети для него вещи, которым не обязан он ни малейшим отчетом. В отместку ему жена бывает собою всегда, кроме его присутствия. Покорная, предупредительная, почти безответная раба мужу, который для нее свет, публика, власть – все, она вознаграждает себя за домашнее принуждение на гулянье, в садах, в бане со своими соседками. Вы скажете, что подруги ей домашние, а домашние – чужие. Они откровенны между собою, ибо между ними нет иной ревности, кроме за наряды. От этого выходит двойственный мир, совсем отличный от европейского, – мир, более недоступный для мужчин, чем для женщин, потому что муж перед женой разоблачается вполне, она перед ним – вполовину. Теперь вообразите, что вы каким-нибудь счастливым случаем вкрались в доверенность мусульманки или подслушали ее болтовню с подругою, заглянули в гарем хана a vue d'oiseau[152], и вы, конечно, узнаете больше, нежели мусульманин захочет вам сказать, больше, нежели может сказать. Вообразите и то, как загадочно изумлен был ничего не знающий юноша Искендер, брошенный в середину женских нескромностей, в середину женщин, большею частию прехорошеньких, он, который сроду не говорил ни с одной, кроме старух; он, который если и видел их личики, так это в почтительном отдалении, и то на миг. Он пожирал их глазами, напрягал слух и ум, чтобы уловить и понять долетающие до него отрывчатые фразы. Напрасно! Они оставались для него, как останутся, вероятно, для многих моих читателей, загадками.
«Ах, душечка, молодица моя! эй, джан, джюван! Какая у тебя прелестная баги (головное украшение). А мой скупец был в Зинзилях да в гостинец привез только шелковый треног: правда, затканный золотом, да что мне в этом пользы? Его не наденешь ни в мечеть, ни в баню». – «Нет, мой муж хоть и прихотлив, а ничего для меня не жалеет; грех на этожаловаться. Надарил мне кучу вещей за то, что я до жаров не спорю за летний обычай». – «Слышала ли ты, Фатме-ханум, что мой старый черт в Баке взял другую жену? Я в слезы; а он мне: „Разве мне там без плову жить!“ Муж только до семи гор обязан жене верностью. Шах Сейн, вай, Сейн! Да разве, когда он переедет за семь, от меня до него будет только шесть? Отплачу я ему за это! Берет другую жену, а сам даже джума-ахша-мы (кануна недели) не справляет: такой беззаконник!» – «Наверное ли?» – «Как, моя жертвочка, не наверное! В русской земле вышел указ, чтобы все женщины носили туманы по-нашему. Я сама видела, что и здешние начальницы перестали гневить Аллаха, надели-таки беленькие шальвары… Да и пора была! Бывало, по горе идут, при ветре…» – «Чудесный дала ты мне ваджибет, Шекер-ханум; тысячу раз тебе за него спасибо: тело от него точно персик становится». – «Не умеет Аспет-ханум готовить дольмы, вовсе не умеет: хоть бы на свадьбе такой есть, не только на похоронах, так горек покажется». – «Умерла? Сама виновата! Умела с чужим любовь водить, умей концы хоронить; а то муж только со двора – она в гости, да еще с фонарем». – «Так он до смерти ее заколол?» – «Насквозь, джаным! Тут же и душу Азраилу отдала». – «Надоели мне мои ребятишки, баджи (сестрица); хоть бы подросли поскорее, а то такие крикуны, что голову разломит!» – «Ох, сестра, от маленьких детей болит голова, от больших – сердце! Пристал ко мне мой Мешгеди: купи да купи ему жену, а ведь жена не свистулька… дорог стал этот товар: откуда я возьму денег!» – «Ай-вай, какой стыд! С армянином, с переводчиком! Разве мусульман или русских ей недостало?.. Любой армянин с придачей двух кусков зеррбафта98 и четверти греха не стоит!» – «Прелесть манер, чох испаи тегер, душечка! И прелегонький! Он называет его тегеранским; наподобие буквы „джим“, да, кажется, такими узорами переберу я всю азбуку. Преученый человек муж мой!» – «Ох, не поминай, сестрица! Вот точь-в-точь такой затейник был покойный муж мой; бывало, как начнет учить мою малютку, так она шепчет, шепчет… Аллах веку ему не продлил, а то бы читать ее выучил…»
Восклицания: «Башлады, башлады (началось, началось)» – прервали все россказни. Все кинулись смотреть на драму. Езид, в красном кафтане, в зеленой чалме, сидел уже на троне; по левую его руку, немного ниже, бог весть по какому преданию, сидел европейский посол, в фантастическом мундире русского покроя, в треугольной шляпе с огромным султаном, при европейской сабле и шпорах. Приближенные Езиду и шейхи арабских племен в белых чалмах обнимали трон полумесяцем. Европейского посланника играл Гаджи-Юсуф, но он, затянутый в непривычном наряде, беспрестанно путаясь в портупее и шпорах, беспрестанно поправляя шляпу, которая прогуливалась по бритой его голове, был так уморителен, что наверное не заманил никого быть европейцем. Огромный нос его и еще того огромнейший султан из петушьих и павлиньих перьев дали повод к жаркому спору между женщинами.
– Шах Гусейн! вай, Гусейн! Сестрицы, посмотрите-ка, что за зверь сидит по левую руку проклятого Езида? – закричала одна хатынь, госпожа.
– Это лев, – пресериозно отвечала ей соседка. – При мучителях, османских халифах, всегда дежурил какой-нибудь лютый зверь: чуть не понравится кто-нибудь, сейчас того отдавали на завтрак.
– Лев-то, – возразила другая, – только он тот самый, что плакал над гробом Гусейна, а не в службе у Езида; плутяги чауши (десятские) подсмотрели, что он жалеет нашего имама, да и взяли под караул. Слышите ли, Езид говорит ему: «Прими мою веру»; а он только сморкается: это значит – не хочет.
– Какой лев? – насмешливо произнесла другая. – Это птица!
– Как же, птица! – возразила та. – Разве у птиц хвост на голове? Это грива; так, грива и есть.
– Совсем не грива, а хохол попугая: должно быть, этот попугай был у Езида мирзою (секретарем); видишь, как халиф ласкает его, а тот воркует не по-человечески!
– Племянница ты попугая, душа моя!
– Львиная ты мордочка, сестра моя!
Спор сделался общим. Одни говорили – птица, другие утверждали – зверь. Однако ж сторона, восставшая за попугая, перемогла: женщины всех стран отменно любят попугаев. Надобно сказать, что красный нос Гаджи-Юсу фа всего более способствовал этому мнению; только и в нём возникли расколы. Иные думали, что нос у этой птицы природный, иные спорили, что он накладной. Все это доказывало, что каждая из почтенных мусульманок, там сидевших, могла бы выдержать профессорский экзамен в невежестве истории естественной и сверхъестественной, о которой шло дело; а дело шло своим чередом. Бедный Юсуф, никак не воображая, что подлинность его носа и его человечества подвержена такому сомнению, говорил приветственную речь Езиду: «Государь мой, повелитель Френгистана (таков был смысл ее), заслышав о твоих победах, прислал меня просить о дружбе и союзе с тобою». Езид отвечал, что покуда ему нет досуга управиться со свиноедами, что он дарует им мир и время покаяться, но если они не примут шекксиз китаб (Несомненной книги) законом, так он объявит им джигад (войну за веру) и начнет систему обрезания с голов. В это время радостная весть о разбитии воеводой халифа враждебного ему Гусей-на приходит вместе с трофеями. Пуки стрел, сабель, кольчуг, мешки с добычею рассыпаны к ногам Езида; подносят на блюде голову Гусейна. «Вот участь всех, кто мне противится! – гордо говорит посланнику халиф, и сброшенная его ногой голова катится по ступеням. – А этот человек был родственник Магомета, хотел быть халифом; многие звали его пророком, заступником молитв, имамом; и что теперь он? Прах!» Фиренг эльчи осмеливается спросить, неужели у них мода так обходиться с пророками. «Со лжепророками», – гневно отвечает Езид. «В таком случае легко можно убедиться, ложный был он или настоящий, – продолжает франк. – Голова Гусейна! – примолвил он, обращаясь к голове, уже воткнутой на копье, – если ты истинно пользовалась откровением Бога мусульман и если вера, тобой проповеданная, не обман, скажи мне символ ее, и я, христианин, клянусь обратиться в мусульманство!» И голова отверзает мертвые уста; молитва «Ла иляге иль Аллаху, эшгеду, энна Мухаммеда ресулю'ллах», как труба, раздается в воздухе. Пораженный, убежденный чудом, европеец падает ниц, восклицая: «Мусульманам, шагиям (я мусульманин, я шиит)!» – «Ты глупец, – говорит ему Езид, раздраженный примером дерзости для своих последователей, – ты стоишь казни. Отрубить ему голову!»
Гаджи-Юсуф, которому так же ловко было сидеть на стуле, как на копье, особенно с грузом винных паров в голове, не дожидаясь удара, покатился на пол. Эта потеря равновесия, приписанная ужасу, произвела необыкновенный эффект. Павшего франка утащили, подменили куклою, и срубленная голова его запела стихи в честь Гусейна.
Под шумок между тем Искендер подсел рядом к Кичкене: дух у него занимался от радости, сердце обливалось невыразимо сладким пламенем. Он был подле нее, касался ее, чувствовал жар ее щек, аромат ее дыхания; и он был мусульманин, и ему только что минуло двадцать лет! Он не мог выдержать искушения, когда Кичкене, привстав, чтобы лучше взглянуть вниз, оперлась рукой на его колено.
– Кичкене, – произнес он тихо, – встань; мне нужно сказать тебе два слова, – и он крепко сжал ее руку, поднимаясь.
Мысли задумчивой Кичкене были полны Искендером: его искала она в потоке лиц, озаренных факелами, его взор надеялась встретить между тысячами взоров. Не Езид привлек ее на представление, не Езид занимал теперь. Уверенность поглядеть хоть еще разик на жениха, которым ее поманили и которого отняли потом без причины, поглотила все ее внимание; каково же было ее изумление, ее страх, когда голос, которого эхо было сердечное воспоминание, прозвучал ей на ухо! Крик замер у нее на устах, она не имела силы, ни жестокости сопротивляться. Искендер-бек увлек ее на самый темный угол кровли; зрительницы так заняты были Езидом и эльчи, что их внимания нечего было страшиться.
– Я люблю тебя, Кичкене, – сказал он испуганной красавице, – горячо люблю! Ты видишь, на что я решился для того только, чтобы поглядеть на тебя, сблизиться с тобою; можешь угадать, на что решусь, если ты скажешь: «Искендер-бек, я тебя не люблю»… «Да» или «нет», милая?
Глаза его пылали, жгли; правая рука сжимала пистолет. Бедная девушка трепетала, робко озираясь. Казалось, она бы рада была, если б кто ее выручил; казалось, она прокляла бы того, кто помешал бы ей слушать эти страшные и вместе чарующие слова.
– Искендер! – наконец произнесла она, послышав резкий взвод курка, – я твоя жертва; только не сгуби себя, не обесчести меня… Позволь мне уйти!.. Я бы рада обнять тебя, как пояс сабли… но ты знаешь, какой человек мой дядя!
Звонкий поцелуй раздался, и звук этот тихо сошел на нет, не прерываясь. Краткий миг дан любви на Востоке, но она, как сновидение, умеет умещать в него тысячи оттенков, тысячи происшествий, всю долговременную борьбу европейской страсти.
– О, не говори мне про утреннюю зарю, азизым! Как можешь ты любить свою завистницу?.. Так ты соглашаешься, не правда ли? Ты соглашаешься, бесценная, кыматсиз! Мы увидимся завтра ночью!
Никто не слыхал, что сказала Кичкене, но на лице Искендера отразилось – «завтра». Мнимые подруги расстались.
Не знаю, как провела ночь после такой поучительной встречи милая Кичкене; но Искендер-бек заснул сладко и скоро: есть грехи, после которых спится лучше, нежели после доброго дела. Если б вы увидали тогда его прелестное лицо, покоящееся под улыбкою неги, вы бы сказали, что сами видите гирлянду мечтаний, обвивающую беззаботное чело юноши.
IX
М. Т.
На послезавтра от окончания празднества тризны по Гусейне в крепости Нарын-кале у комендантского дома был большой съезд беков по случаю какого-то царского дня. Нукеры и уздени[154] в блестящем вооружении водили и держали коней под попонами, расшитыми шелком с бахромою из кистей. Живописные купы табасаранских, каракайтахских и дербентских владельцев разговаривали между собою у фонтана или на площадках лестниц, беспрестанно пересекающихся как на театральной декорации. Вверху обсаженная тополями караульня венчала эту картину своими белыми аркадами и сверкающими иглами штыков.
Зала была полна почетных гостей и граждан. У дверей комендантский переводчик что-то рассказывал с жаром: его слушали и расспрашивали со вниманием. Везде шептались; старики пожимали плечами; видно было, что произошло недавно что-то необыкновенное.
– Да, – продолжал дильмач, – разбойники разломали потихоньку простенок и влезли в спальню Сулейман-бека; он проснулся тогда только, когда один из них стал снимать оружие над его постелью. Разумеется, он выхватил из-под подушки пистолет и выстрелил наугад, но, видно, дал промаха. В это время двое других, которые успели в соседней комнате связать жену его и в сенях работника, подоспели на помощь двум возившимся около Сулеймана: темнота мешала видеть друг друга, и потому он успел нанести несколько ран наступавшим, прежде чем был сам ранен.
Наконец многие удары по голове кинжалом оглушили его; он упал замертво. Между тем выстрел и крик растревожили соседей, и покуда они зажгли фонари, сбежались и разломали ворота, разбойники разбили сундуки, очи стили их и ушли, убежали, так что следу нет.
– И неужели ни одного не могли поймать или отыскать по приметам? – спросил кто-то из приезжих.
– Поймали вблизи одного их товарища: он, видно, поставлен был на карауле. У него около тела обвита была веревка, конечно для того, чтоб спустить молодцов через городскую стену. За поясом нашли заряженный пистолет и кинжал. Ну да кинжал, правда, он имел право всегда носить по званию бека!
– Бек? Не может быть, чтобы какой-нибудь бек захотел участвовать в разбое! – вскричали многие.
– А почему бы и не так, – возразил мирза, насмешливо посматривая на некоторых. – Есть беки, которые вздыхают по ханском правлении. Молодежь любит погулять не то чтобы из добычи, а для удальства.
– Да-с, пойманный вчера с поличным был бек из лучшей фамилии. Вы удивитесь, когда я скажу, кто он! Он Искендер-бек-кальфаси-оглы! Комендант рассматривает теперь донесение кала-бека и дежурного по караулам, а Искендера вы сейчас увидите: его велено привести с гауптвахты.
Все, кому было это новостью, вскрикнули от удивления и сожаления. Как! Тот юноша, которого поведение признано было в один голос целым городом за примерное, попался участником в уголовном преступлении, в воровстве и ночном разбое?..
Впрочем, нашлись люди добрые, которые говорили, что им это нисколько не удивительно, что Искендер-бек был всегда скрытен, что пороки не ждут возраста, что они всходят несеяные, нелелеяные. Людей обыкновенных всегда увлекает наружность, особенно в худом, потому что для них лестнее предполагать в каждом, наравне с собою, три четверти худого, чем три четверти хорошего, – а наружность обвиняла Искендер-бека кругом. Выход коменданта прервал жужжанье суда и осуждения.
Он был из того небольшого числа людей, которые постигают азиатский характер в тонкости. Ласков с разбором, для того чтоб привет его ценился выше подарка, – строг без грубости, которая отравляет самую справедливость. Он не подражал тем начальникам, что воображают пленить азиатцев братаньем, пожатием рук, объятиями на оба плеча, доверием в оба уха и кончают тем, что становятся игрушкою и притчей всех себе подвластных. Не принадлежал он и к разряду тех, что думают вселить к себе почтение острасткою и заменить прозорливость шумом, зато, кроткий и важный в своих сношениях с мусульманами в домашнем быту, он был непреклонен в решениях; но, достойный представитель русского правительства, он приучал любить его за справедливость и уважать за силу. Невообразимо трудно править областью, составленною из многих разнородных стихий, совершенно противоположных сущностью и наружностью нравам и понятиям европейским. То, что у нас считается преступлением, у них нередко похвально; что у нас терпимо, у них рождает кровавую месть; и на равнине – так, в горах – совсем иначе. Притом же по необходимости допущенное тройственное судопроизводство, то есть русское, ханское и третейское, по старинным обычаям, шариат99, затрудняет равно следствие и решение. Тут мало быть законоведом и беспристрастным: тут надо быть сердцеведцем этого народа. Горцы вообще прямодушнее, зато непокорнее; горожане – плашмя перед властью, зато вы не найдете в свете людей, умеющих лучше ее обежать или провести. Лукавцы и кляузники, они с удивительною сметливостью угадывают и разрабатывают в свою пользу слабости тех, кто ими правит. Не находя в этом коменданте пищи для своих козней и того менее им пощады, они сначала крепко невзлюбили его, поперечили ему, клеветали на него потихоньку. Тот все шел и наконец увлек их прямой дорогой. Он явился в залу в полном мундире.
Положив правую руку на сердце и потом при поклоне сжимая ею свое правое колено, ряды беков и граждан жужжали приветы начальнику, желанья счастия всему дому падишаха. Комендант кланялся всем, говорил немногим о делах: иного журил за невысылку подвод или обвиненных, других благодарил за успешное поручение; подал руку двум или трем владельцам, отличным своею преданностью России; пригласил некоторых к обеду.
– Благодарю вас, агаляр, – наконец сказал он собранию, – что вы навестили меня в праздник, радостный для всех подданных русского императора: сегодня мы празднуем память рождения одного из царских сыновей. У нас – один Бог, один падишах, и мы каждый по-своему помолимся Богу, чтобы он сохранил здоровье нашего падишаха для общего нашего счастия. Господа окружные беки! Вы слышали, я думаю, о грабеже, случившемся здесь прошлою ночью. Я имею все доказательства, что он совершен не жителями Дербента, а прихожими горцами. Прошу вас поэтому употребить все средства, открыть и представить ко мне виновных; с моей стороны будут посланы доверенные беки разведать об участниках и укрывателях. Здесь уже делаются обыски и допросы. Ну что, – сказал он, обращаясь к мирзе, – увещевал ли мулла Искендера признаться и что говорит он сам?
Мирза отвечал, что Искендер стоит в своей невинности по грабежу. Что ж касается до прочего, он признает себя неправым, хотя без всяких преступных намерений. Веревку взял он, по его словам, чтобы спуститься с городской стены в поле погулять; ему стало душно внутри города: а кто ж пойдет за город без оружия ночью, когда и днем всякий вооружается?
– Неуместные прогулки! – заметил комендант. – Тут что-то кроется, хотя я никак не могу согласить с этим грабежом всегдашнего доброго поведения Искендер-бека. Введите его сюда.
Искендер-бек, по общему обычаю, вошел в шапке, но без туфлей, почтительно поклонился коменданту, гордо – собранию и скромно стал на указанное место.
Комендант вперил проницательные очи в обвиненного; юноша покраснел от мысли, что его подозревают, но взгляд его был ясен и неробок.
– Никогда не ожидал я, – произнес наконец комендант, – видеть тебя перед собою, Искен дер-бек, как преступника!
– Не преступление, а судьба привела меня перед суд, – отвечал тронутый Искендер.
– Знаешь ли ты важность вины, в которой обвинен ты?
– Я узнал только здесь, в чем меня обвиняют. Сознаюсь в своей ветрености; чувствую – все обвиняет меня; но я непричастен к этому делу, видит Бог!
– Люди должны уступать явным доказательствам, и потому, покуда сомнения на тебя не рассеются, ты должен быть арестован. Впрочем, если найдешь из почетных гостей моих законного поручителя, я избавлю тебя от заключения.
Комендант знал, что в беду падают, как в пропасть, вдруг, но в преступление сходят по ступеням, и не хотел ожесточить суровостью неволи, может быть, невинного молодого человека, тем менее, что он имел все средства надзора за его сношениями. Искендер-бек окинул глазами собрание, как бы спрашивая взором: «Кто за меня будет порукой?» Но беда, как зараза, удаляла от него всех. Все потупляли очи, поглаживали бороду и молчали.
– Что ж, никто? – сказал комендант.
– Сизин ахтиарын! – отвечали все кланяясь, – ваша воля!
– Я ручаюсь! – произнес Гаджи-Юсуф, протолкавшись из-за долгобородых вперед.
Комендант улыбнулся: разумеется, гости чуть-чуть не засмеялись. Он нахмурился: и у всех вытянулись лица до пояса.
– Для меня странно, господа почетные граждане Дербента, что вы, беспокоя меня просьбами выпускать на поруки ваших отъявленных мошенников и не раз ручаясь за таких людей, которые, презрев порукой, бежали в горы, не хотите успокоить молодого бека, которого неделю назад признали за самого достойного, которого я, по вашим же свидетельствам, представил к награде в числе пропущенных отличившихся во время осады города Кази-муллою. От суда не скроется его преступление, если он виновен, и оно примет полную меру наказания; но, покуда он не судим, не осужден, он ваш товарищ, и его примерная прежняя жизнь стоит какого-нибудь внимания. Впрочем, порука – дело добровольное. Искендер-бек, отправляйся домой: я сам за тебя порукой.
Комендант раскланялся, чтоб ехать на церковный парад.
Слезы, сладкие слезы благодарности брызнули из очей растроганного юноши. Никогда не ожидал он от русского, от начальника, такого великодушия, и тем сильнее оно на него подействовало. Он готов был пасть на колена перед комендантом, поцеловать его руку как у отца, рассказать тайну любви своей, которую из него не исторгла бы пытка, – тайну, которая и теперь вела его в вечную ссылку, с тяжким именем преступника.
Между тем татарская знать отхлынула из залы коменданта. Самые завзятые честолюбцы, не успев своими частыми поклонами выработать у начальника пары слов, оставались назади и, пережидая друг друга, чтоб выйти последними, готовы были выдержать по нескольку пинков от мирзы100, только бы успеть остаться минутку за дверями, – потом важно надеть у порога туфли и, с значительно гордым видом, расталкивая завистливую толпу, за тайну молвить кое-кому: «Ну уж замучил меня комендант расспросами да поручениями!» Есть свои, есть и общие коньки у всех народов, а татаро-персияне, как известно, народ конный по превосходству.
Жаркое утро золотило каменный помост большой дербентской мечети, но свежая тень келий с востока, зыбкий шатер огромных чинаров посреди и прохладная галерея, висящая на воздухе у северной стены, давали приют целому народу премиленьких татарчат, распевающих перед муллами свои уроки[155]. Подобно жужжанию пчелиного роя, струились в воздухе голоса их и, казалось, перекликались с приветным шумом фонтана, плещущего, сверкающего в глубоком водоеме. Около него резвилось несколько мальчиков и девочек, черпая воду звонкими кувшинами. У открытых дверей мечети сидели старики, грея солнцем и рассказами о бывалом свои холодеющие сердца. Два-три всегдашних или случайных нищих теснились под сводом ворот. В углу, на брошенной бурке, отдыхал какой-то путник: вся жизнь, все случайности мусульманской жизни виделись тут в лицах. Надежды и воспоминания, заботы гражданства и краткий отдых боевого пути сошлись, по обычаю, под мирную сень святыни, простертую равно для богача и бездомного, для довольного и несчастливца.
Невдалеке от путника разостлал свой коврик мулла Садек. Святой муж готовился назавтра выехать из Дербента и потому сводил свои счеты, выкладывал барыши и, мурлыча про себя похвалы собственному уменью обтачивать свои дела, с счастливым лицом макал тонкие лаваши[156] в чашку кислого молока с чесноком – лакомство татар; то макал тростинку в медную чернильницу, заткнутую у него за поясом в виде кинжала, и что-то записывал на листке лощеной бумаги, наперед заботливо отгоняя мух, чтобы они нескромною лишнею точкою не переиначили смысла рукописи[157]. Умилительно было глядеть на него, как он жевал с душевным наслаждением свой завтрак и потом еще с большим восторгом считал на ладони карманные деньги. Он так был погружен в созерцание серебряных созвездий, с таким вниманием разбирал стертые подписи на русских четвертаках и персидских двуабазниках, что вы бы могли его почесть придворным астрологом шаха или одним из членов Академии надписей101. Он не слыхал и не видал, что перед ним минут пять стоит и канючит бедный лезгин, у которого давно уже дербентская грязь служила вместо подошв, а дагестанское небо вместо бурки; у которого сквозь лохмотья видно было все тело, а сквозь тело, наверно, можно бы увидать желудок, если б нашелся человек, чтоб его в этом подозревать. Бедняк так жалобно просил милостыни, бир Аллах учюн (ради единого для всех Бога), так жадно глядел на завтрак муллы Садека, что не грех было побожиться: он не ел ни крошки хлеба с последнего новолуния. Грех было не тронуться его положением, но черствое сердце сребролюбца не размягчит сострадание, и совесть напрасно изломает над ним зубы. Мулла Садек поднял глаза на нищего, надвинул на брови папах и принялся считать эхад, ашурат, мият, альфагп (единицы, десятки, сотни, тысячи) …
– Я три дня не ел, мой ага, мой эфенди, мой пир![158] – говорил несчастный, протягивая руку.
– Эхад, ашурат, мият, – повторял мулла Садек.
– Один грош спасет меня от голодной смерти хоть на день, а тебе отворит ворота райские навек.
– Ашурат, мият, альфат, – твердил Садек.
– Ты мулла: вспомни, чему учишь всех из Кур-ан-и-алишан (из высокостепенного Корана); не первый ли долг мусульманина – милостыня?
Мулла Садек потерял счет и терпение:
– Убирайся ты к черту, суннитский недоверок! – вскричал он с сердцем. – Разве для таких, как вы, мошенников выдумал Аллах милостыню? Для вас есть трава в поле и палки в городе: вот все! Есть сила, так вы разбойничаете; нет силы, вымаливаете у правоверных шаги родные денежки да после над ними смеетесь. Нет тебе от меня ни куска чурека, ни гроша; сам я дорожный человек, да и последнее отнял у меня проклятый земляк ваш, Мулла-Hyp, когда я ехал сюда: облупил, словно каштан, разбойник.
Путник, безмолвно до сих пор лежавший в углу, приподнялся на руку, разгладил свое угрюмое лицо и учтиво спросил раздраженного рассказом муллу:
– Неужели Мулла-Hyp был так безжалостлив и бессовестен, что пустил такого почтенного, святого человека, как он, нищим? Я слыхал, – прибавил он, – будто Мулла-Hyp грабит очень учтиво, очень полюбовно и редко берет с головы более двух рублей серебром.
– Двух рублей? Аллах я Аллах! Это такой жид, что не задумается вынуть у вас последние два глаза! Да низвергнет его имам Али в джегеннем и сварит в том золоте, которое у меня он отнял! Даже на мой верблюжий плащ позарился, волчья душа!
– Суннет-герчек (Обрезанная правда)! – сказали человек пять дербентцев. – Мулла Садек приехал к нам, будто из Ноевого потопа выплыл: мы складывались, чтобы одеть, снарядить, вознаградить его. Да будет проклят этот разбойник Мулла-Нур!
Путник встал на ноги, улыбаясь; слышно было, как брякали его стальные поручи о кольчугу; он достал из кармана червонец и, показывая бедному лезгину, сказал:
– Прокляни Мулла-Нура, и он твой!
Лезгин быстро протянул было за ним руку, но потом остановился в раздумье:
– Мулла-Нур помог деньгами в нужде моему брату и многих земляков моих выручил из беды. Я не знаю его в лицо, но по сердцу знаю: возьми назад свое золото; я не продаю проклятий.
Странник с удивлением поглядел на изнемогающего от голода бедняка, с укором – на богатого муллу. Богач бросил проклятие вместо милостыни в суму нищего. Нищий не хотел проклясть за глаза незнакомого разбойника за спасение жизни! Странник всунул пять червонцев в руку удивленного лезгина, ударил по плечу муллу Садека, сказал обоим:
– Есть Бог правды в небе, есть добрые люди на земле! – и скрылся.
У ворот мечети был привязан конь его; он сел на коня и тихо стал спускаться по искривленной улице к базару. Миновав шумный базар, он въехал в переулок, на котором стоит дом кала-бека, то есть полицмейстера дербентского. Там, под широким навесом ворот, сидел обыкновенно кала-бек, окруженный просителями и чаушами, творя суд и расправу. Он был уже старик, но славно чернил свою бороду, носил чуху, испещренную бафтами, галуном, и в знак памяти по удалой молодости держал четырех жен да трех наложниц; опорожнял каждый вечер a huis clos, за запертыми дверями, по нескольку бутылок шипучего, и если б не носил огромных зеленых очков на носу, морщин на лбу и дебелого пуза в кушаке, вы бы могли его почесть молодым человеком. В этот день кала-бек был не в духе. Небогатые жители жаловались ему, что, платя наравне с богатыми за орошение полей с мареною, они имеют менее их воды на полосу. Упрямцы эти никак не могли вдолбить себе в голову, что по законам азиатской гидростатики неотменно разливается вдвое больше воды на полоску того, у кого вдвое более земли. Уж он, уставши кричать, сбирался было писать выкладку этой задачи на пятах непонятливых слушателей, когда таинственный путник соскочил перед ним с лошади.
– Салям алейкюм, Мугаррам-бек!102 – произнес он.
Мугаррам-бек вздрогнул, будто скорпион кольнул его ниже кушака.
Восклицание замерло на губах; пальцы и рот разинулись от удивления. Положив руку на пистолет, путник наклонился над ухом кала-бека.
– Послушай, Мугаррам, не тронь старого знакомца. Я приехал сюда не для своей, а для твоей пользы. Я сослужу тебе славную службу; пойдем только в твои покои. Там я скажу тебе такую тайну, за которую ты мне, а весь Дербент тебе вечное спасибо! Впрочем, если ты заикнешься или мигнешь своим, чтобы схватить меня, так знай, что в этом пистолете пуля да шесть картечей и – сейчас с базара – кремень. А когда твой желудок переварит все это, то двенадцать молодцов отомстят за мою гибель. Ты знаешь, что я не люблю хвастать. Пойдем!
И весело, как будто он предложил кала-беку удалую гулянку, пошел незнакомец по лестнице. За ним, кряхтя, можно сказать скрипя, потащился испуганный кала-бек. Что и о чем толковали они битые полчаса, не мог я дознаться даже от болтливого чауша, имевшего похвальную привычку подслушивать у дверей. Знаю только, что незнакомец преспокойно сел на коня, которого с почтением подвели ему. Бросил полтинник нукеру, поддержавшему ему стремя, и, озираясь на все стороны, выехал из городских ворот. Дня через два рассказывали, будто это был знаменитый Мулла-Нур103, будто кала-бек послал догонять его дюжину нукеров, но что он показал им только подковы своего скакуна. Кажется, это сказка.
А между тем бедный юноша изнывал в стенах своего дома. Злобный случай привел его вблиз того места, где совершилось злодеяние, и он вместо сладостного поцелуя свидания на уста получил тяжкий удар обвинения в самое сердце; но он лучше хотел отдать поруганию собственную честь, нежели запятнать доброе имя невинной девушки. Разлука томила его, но неизвестность терзала еще более; медленность суда – ад для всех жителей Азии; они охотнее перенесут неправую казнь, чем справедливую проволочку. И не думайте, что это привычка: нет, это природа Востока. Мгновенное решение паши или джемаата меслаата[159], шариата, каково бы оно ни было, чего бы ни стоило, для жителя Востока всего милее подробного, беспристрастного, милосердного приговора европейского суда. Азиатец живет только в настоящем, потому что сегодня его так прекрасно, а завтра так неверно. Завтра дунет ветер с юга и навеет гнилую горячку, холеру. Завтра он купит себе чуму в тюке хлопчатой бумаги. Завтра он поедет в путь и оборвется с утеса, будет измолот буйною рекою, растерзан тигром, кроющимся в камышах, застрелен из-за куста разбойником или кровоместником. Перемените природу Востока, дайте его жизни европейские условия, перелейте в нашу форму нравы его обществ и тогда требуйте от восточных терпеливости в ожидании неумытного суда104, твердости в неволе; но покуда над ним дышит тлетворный, хотя прелестный климат, покуда он окружен опасностями на каждом часу и каждом шагу, он не перестанет быть фаталистом и ценить настоящий миг выше всего в обеих жизнях. «О! – восклицал нетерпеливый Искендер, – скорей бы смерть или вечные оковы на снегах Сибири, чем это ядовитое подозрение русских, которые научили себя любить, и насмешки земляков моих, которых ненавижу более, чем прежде. Лучше умереть от сабли, чем умирать от пилы!» И он, запертый замком честного слова, прыгал, как тигр в своей клетке, рвал с досады рукава платья, плакал как дитя.
В сумерки, в тот час, когда мусульманские улицы пустеют, а дома оживляются голосом и светом, когда отовсюду несется звук чаш и подносов, повсюду разливается благоухание плова, упитанного пряностями, в сумерки, когда семейный мусульманин отдыхает душою, а одинокий горюет вдвое у пустынного своего огонька, – Искендер-бек послышал, что в его окно что-то прожужжало и упало на пол. То была привязанная к камню записка: «Мулла-Hyp – Искендер-беку привет! Лучше быть невинному в неволе, чем виноватому на свободе: верь этому! Я все знаю и все делаю для выручки тебя из беды; Аллах да устроит остальное! Терпи, надейся: оправдание недалеко!»
И в самом деле, на другой день Искендера потребовали к коменданту, но он не успел еще дойти до него, и его уж двадцать голосов поздравили с счастливою развязкою. «Шюкюр Аллах! Аллага шюкюр! – раздавалось навстречу и по следам его. – Разбойники пойманы. Они собрались к Бах-тиару делить добычу и были захвачены все вдруг: четверо из них лезгины, двое горожан, в том числе сам хозяин. У этого бездельника нашли двойную стену, за которою заложенные воровские вещи несколько раз избегали обысков. Теперь воровское гнездо разорено, и честные люди могут спать спокойно. Допросы оправдали Искендер-бека, так что имя его стало белее и слаще сахару!»
Неблагодарность не была пороком Искендер-бека: он так мало занял у своих земляков! Тронутый, пристыженный великодушием начальника, он открыл глаза на достоинства русских, и убеждения, долго отреваемые, толпой втеснились в его сердце. Великое дело вера! Она воскрешает все воспоминания, убитые равнодушием, и облекает их в юношескую красоту, в силу непобедимую. Веря, мы рассыпаем доблести одного человека на целый народ или, смотря на него сквозь призму любимой нами доблести, видим все его поступки добродетелями. Одна идея тогда закрашивает, поглощает все другие и, сердцем переплавленная в чувство, загорается нередко сокрушительною страстью. Будь это фанатизм, будь это приязнь, будь это любовь – это всегда будет достойно уважения, потому что оно искренно, потому что исток его чист. Искендер-бек так же пылко привязался к русским, как прежде не любил их от глубины сердца. Он рассказал все коменданту, и похождения своей любви и превращения своей ненависти; он просил одной только возможности доказать службою свою привязанность. Его пожурили за нарушение обычаев; его похвалили за доброе намерение. Комендант заключил словами: «Искендер-бек, ты сам испытал, до чего могла довести тебя непозволенная склонность! Ни Бог, ни люди не прощают преступления своих заветов: ты обвинен был напрасно в одном деле, но спроси у своей совести – был ли ты прав в другом? Разве одна лишь кража вещей позорна?.. Смирись же перед судьбой своей и знай, что неправдой не загладить неправды, не купить счастья; знай и то, что добрый человек ничего не делает втайне: ночь и тайна – одежда разбойников и обманщиков. Будущее счастье твое в твоем сердце, твоем усердии. Русские умеют отличать и награждать достойных».
Искендер-бек избавился от неминучей беды, но избавление есть отрицательное благо; оно радует на миг и притом не приливает капли счастия в кубок жизни. Тяжко было юноше расстаться с мечтой – сестрой его сердцу, с мыслию обладания, которую он привык звать кровным правом своим. Поцелуй, полуданный-полусорванный с уст Кичкени, как роскошное эхо тысячу раз повторялся в его сердце, пожигал жаждою его уста. Он припоминал все подробности последней счастливой встречи с милою: душа замирала в нем от ее голоса, слышимого эфирным ухом воображения. Он с сладким трепетом смыкал очи от незримых искр, брошенных неотступным видением; простирал руки, чтобы обвить их около стройного стана красавицы, так сладострастно перехваченного извивом парчового архалука. Он кидался как безумный с ковра, желая зубами сорвать золотую пуговку[160], замыкающую от дерзкого взора целый мир очарования, и приходил в ярость, встречая воздух вместо своей невесты. «Нет! – восклицал он, – вздор писал ко мне Мулла-Hyp; я готов преступлением купить себе Кичкеню и уверен, что с ней буду счастлив на голой земле, под кровлей света! Волею или неволею заставлю ее бежать со мною в горы. Окунуть хоть на час свое сердце в блаженство, – и потом я готов съесть его медленно».
И милая Кичкене грустила в одиночестве: и она узнала счет в часах разлуки, в долгих безрадостных часах. «Роза прижалась к груди моей и пролепетала: „Взгляни на меня: я весна!“ Соловей пропел мне свою заветную песню: я назвала его радостью. Искендер-бек взглянул на меня и поцеловал меня: я в нем узнала любовь! Но где же роза, где соловей, где Искендер мой? Куда улетело мое счастье?»
X
Биримис екимис олды;
Екимис биримис олды.
Буйно клубится Тенга, спертая в узком ущелий, но не тяжкая сила огромных озер пробила насквозь огромный хребет, чтобы излиться ниже; не под бременем веков треснул он; нет, он раскололся до сердца ада в раннюю пору мироздания, когда растопленный гранит кипел еще под самою пятою его и кора земли, остывая, расторгалась легко от взрыва паров. Бури многих столетий не смыли со стен Тенгинского ущелия черного клейма огня. Серные и селитряные полосы и пятна видны повсюду, где текло его бурное дыхание. Целые скалы, брошенные землетрясениями с вершин, нахмуренных над бездною, завалили низ трещины и стали дном быстрого потока. По ним, как по ступеням, катится он, гневный и шумный; злобно грызет волнами ложе свое, как бешеный зверь мечется на стены, хлещет пенною гривою, ревет громом и наконец, разбив грудью свою темницу, весело скачет по Рустамской долине, мелькает между деревьями леса, исчезает в холмах, не пойманный ни в одно колесо мельницы. Угрюмы и дики окрестности тенгинской пасти; ужасен самый зев ее. Правый берег далеко на долину бросает тень своих отвесных утесов; левый, уклоняясь немного в сторону, вгоняет в воду конную тропинку, бегущую сквозь клиновидную рощицу. Далее нет иного пути, кроме ложа водострема; волею и неволею путник должен въезжать навстречу быстрине и, положа свое спасение на крепость ног коня, пробиваться выше и выше. Бока этой пропасти, надвигая свои громады над громадами до самых облаков, грозят раздавить его; рев потока оглушает, клич орлов наводит зловещий страх на сердце, вечный сумрак и холод бросают трепет на тело. Беда неопытному всаднику, если он, без проводника, решится на борьбу с этим текущим адом в час дождевой ростепели или в пору таяния снегов! Беда, если судьба приведет его встретить здесь разбойников; а это место любимо разбойниками, потому что бегство и защита в нем невозможны, потому что крутые повороты и узкость проезда предают в их руки каждого проезжего поодиночке. Здесь-то Мулла-Hyp, с двенадцатью человеками, остановил три полка карабагских и ширванских всадников, возвращавшихся с богатою добычею из похода генерала Панкратьева105 восвояси. При самом спуске в реку он предстал им, вооруженный с головы до ног, на лихом бегуне; бросил на землю бурку и сказал: «Приветствую вас, товарищи; да будет высок ваш порог, как высоко вздымалась ваша рука над врагами. Аллах даровал вам победу и добычу: мубарек ольсун (поздравляю с этим)! Сделайте ж и меня участником вашей радости; не требую, но прошу: дайте мне, из чести, от доброты своей, каждый что захочет. Подумайте, братья: вы несете дары своим домашним, вы теперь богаты, – я беден, и у меня нет крова, и за минутный покой я должен платить золотом. Впрочем, знайте, братья, – люди у меня отняли все неправдою, но правдивый Аллах оставил мне храбрость, щедрый Аллах отдал мне в удел пропасти и голые утесы, презренные вами. Я властелин их, и никто без моей воли не перейдет через мои заповедные теснины. Вас много, вы храбры, однако если вздумаете пробиться силою, много потеряете крови, еще больше времени, прежде чем я и удальцы мои ляжем трупом: за меня будет драться каждый камень, каждый орел этого ущелия, я сам, до последнего зерна пороху, до остальной капли крови. Решайтесь: вам много терять; мне нечего. Я называюсь Свет, Hyp, но жизнь моя хуже тьмы».
Ропот пробежал по толпе карабагских всадников; многие негодовали: «Мы стопчем Мулла-Нура подковами, – говорили они, – посмотрите, сколько нас и сколько их. Вперед, вперед на разбойников!» Но никто не хотел быть первым; отвага уступила место расчету. Согласились не на дань, а на дар. «Мы добровольно уделяем тебе, сколько кому вздумается, – говорили всадники и, морщась, бросали на бурку Мулла-Нура мелкие монетки. – Силою ты бы у нас не взял гвоздя из конской подковы!» – и поодиночке проезжали мимо. Мулла-Hyp кланялся, лукаво улыбаясь. «Мудрено ли стричь дагестанских баранов, – говорил он после, – когда я снял волну с карабахских волков! И напрасно жалуются на неурожай в этом году: мои камни дают хорошую жатву; надо уметь только взяться за дело, так не только с каждого вьюка – с каждого дула можно снять по арбузу».
Но в начале того лета, в которое развилась наша повесть, нигде ничего не было слышно про Мулла-Нура: он будто в воду канул. Удалился ли он в Шекинскую область, бежал ли в Персию, убит ли кем в глуши гор, – не знал, не ведал никто. А между тем керваны тянулись за керванами из Кубы в Шамаху, по самой ближней дороге через Тенгинское ущелие, не встречая обычного взимателя пошлины. Перекат людей и денег совершался свободно; никто не был остановлен Мулла-Нуром. И хотя известная честность и умеренность его никогда не отпугивали от горной дороги через Кунакенты купцов и путников, однакож все были очень рады кончать путешествие бесплатно и безостановочно.
Выехав из Кубы с рассветом, достопочтенный мулла Садек к полудню достиг уже того места, где река Тенга вырывается на волю из тисков ущелия. Скупой до высшей степени, он никак не решился нанять проводника, чтоб не разрознить своего любезного семейства червонцев и рублевиков, нажитого в Дербенте. Уверенный в Кубе всеми насчет безопасности дорог, он более всего надеялся на два серые предыдущие дня, которые не могли много растопить снегов, и потому русло Тенги полагал проездимым. Но день его выезда из Кубы был ясен и жарок. Июньское солнце пекло нестерпимо, так что странствующий мулла несколько раз перебрасывал с плеча на плечо разгоревшееся свое ружье: оно жгло его набожную спину. Он рад был, добравшись в тень леска и утесов прибрежных, но очень не рад, увидя вздутую реку. Тенга кипела, бушевала, росла. Как ни велико было его желание поспеть к празднику курбан-байрама (жертвоприношения) в Шамаху, где надеялся получить порядочную плату за свои проповеди, потому что свет новомесячья имеет магическое свойство расплавлять сердца мусульман в щедрость, – только страх погибели заглушал в мулле Садеке зуд корыстолюбия. Кровь охолодела в нем, когда он взглянул на громады, висящие над его головою, на влагу, ревущую под ногами. «Черт возьми! – подумал он, – если б эта река текла жидким серебром по яхонтам, я бы и тогда не решился кинуться в нее без товарища. Ну не настоящий ли я был осел, что не нанял в Рустах проводников? Пожалел червонца, когда мне каждый час дороже двух!» И он с тоскою обвел взорами окрестность: она была пуста и безмолвна. Одно эхо, осужденное на вечную каторгу пения, вторило грозному шуму мятежных вод. Однако ж, приглядываясь пристальнее, он заметил в лесу пасущуюся лошадь под седлом, которому баранья шкура служила вместо чапрака; и немного далее – среднего роста, доброго с виду татарина в простой серой чухе без всякого оружия, кроме кинжала. Мука, обелявшая бороду, шапку и платье этого человека, доказывала его ремесло. Мулла Садек ободрился.
– Эй, приятель! – закричал он незнакомцу, – ты, верно, здешний, верно, знаешь все броды этой безумной реки?
– Здешний, – отвечал тот, работая над черствым чуреком. – Как мне не знать всего житья-бытья Тенги, когда она течет сюда сквозь мое решето и с моего позволения! Эта речка – моя рабыня: она у меня ходит в колесе выше ущелия; толчет и мелет без отдыха.
– Кстати же ты мне попался, добрый человек! Да благословит тебя Аллах, если ты сослужишь мне службу, проведешь сквозь это ущелие.
– Погоди до ночи, – хладнокровно возразил мельник, – вода стечет, конь мой насытится, я сам отдохну от дальней дороги, и тогда в четверть часа мы проедем по этой живой дороге. Теперь опасно.
– О, ради самого Аллаха, ради святых Алия и Гусейна, ради молитвы моей (я ведь мулла), проведи меня без замедления, теперь же, сейчас, в этот же миг!
– А, да ты шаги! – с презрением произнес мельник. – На кой же черт мне твои молитвы и благословения! Разве для пророка в джаганнем? Для нашего брата сунни призадумался я бы в такое полноводье пускаться в проводники, а для недоверка шаги и в засуху не поеду.
– Полно, полно упрямиться, душа ты моя, череп ты мой, меным тад-жисарым). Аллах прольет на тебя щедроты свои за то, что ты сделаешь добро мулле.
– Будь ты муллой хоть над всеми собаками, моим муллой не будешь! Аллах утопит меня середи реки, если я проведу этот конный грех к людям.
– Куда брюзгливая у тебя совесть, молодец ты мой! Проведи безопасно: я заплачу тебе.
Лицо мельника зашевелилось улыбкой.
– А что ты мне дашь за мой пот? – спросил он, почесывая бородку.
– Если ты умудришься вспотеть по такому холоду, я дам тебе два абаза.
– Не возьму двух рублей серебром. Баллах, таллах, менее червонца не поеду! Твоими абазами не подкуешь коня, если он сорвет подковы по этому дну. Да, правду сказать, и червонца вместо головы не приставишь: а тут немудрено сломать ее!
Пошли переторжки. Мулла Садек, которого корысть сделала почти храбрецом, настаивал ехать. Мельник упрямился в цене и поставил-таки на своем. Мулла Садек согласился.
Вручив проводнику повод коня, мулла совершенно предался его воле, его опытности, и недаром. Проводник беспрестанно переезжал от одной стены к другой, избегая глубины или водопадов; то направлялся в самый бой быстрины, то, обогнув камень, возвращался почти на прежний след. Каждый шаг открывал и поглощал новые виды, но мулла Садек был не из тех людей, что находят прелесть в ужасе; он вздрагивал при каждом всплеске, летящем через седло; тень утесов лилась на него холодом страха; страшную песню напевали ему клубящиеся около валы. Когда конь скользил по гладкой, подобно зеркалу, плите и, несмотря на отчаянные усилия, съезжал в глубь кипучую, он проклинал свою дерзость, свое корыстолюбие, он молился громко, желая заслужить молитвою сознание грехов. Впрочем, мятежница совесть слышна бывает людям только в неминучей беде или в тяжкой болезни; а чуть миновало, чуть отдало – сейчас на замок эту крикунью, долой голову петуху, который нас будит так рано! Щипли его, жарь его, подноси на блюде своему сластолюбию! После воздержания – двойной аппетит: смотришь, ото всех обещаний и намерений исправления не осталось даже косточек. Мулла Садек, в тисках опасности, почувствовал необыкновенную нежность к святой, безупречной жизни и, надавав Алию девяносто девять заветов не кривить душой для стяжания золота и хорошеньких жен, – стал прежним скупцом и сластолюбцем, едва ущелие расступилось долиною. Золотой, веселый луч солнца просыпался на него как червонцы, которых ждал он в Шамахе. Зелень манила его, как покрывало красавицы, которую купит он на эти червонцы. Он вздохнул отрадно и оглянулся на пасть теснины, как на страшный, на зловещий, но вздорный сон; он уже гордо закричал проводнику своему: «Пошел скорее, гарам-заде! Тэз гит, тэз!» Но рано, слишком рано ободрился наш странствующий мулла. Широкая река, поглощаясь вдруг жерлом ущелия, прядая внезапно через зубчатый порог, кипела тут ужаснее чем где-нибудь. Отшибенные волны ниспадали навстречу набегающим вновь и, споря, сливались в шумный водобой. Проводник остановился в самом снопе быстрины, где огромные лучи влаги распрыскивались друг о друга, и оборотил коня своего.
– Ну, мулла Садек, – сказал он, протягивая руку, – берег в десяти шагах, пора к расплате. Ты видишь, что я недаром заслужил червонец!
– Червонец? Есть ли в тебе душа, приятель? Шутишь ты, что ли? Разве не знаешь, что в червонце три монеты[161], то есть пятнадцать абазов! Этак за каждый шаг по полуабазнику придется! Что я тебе, серебром мост разве мостить стану! Пхе! Велика важность – проехать сквозь эту лужу: тут курица без башмаков ноги не промочит, а рыба пешком взойдет. Полно, брат; с тебя будет и двух абазов: возьми-тка их, да с Богом!
– А уговор? – сердито сказал мельник.
– Вынужденный уговор, любезный мой, пустяк; это и в Коране сказано. Где мне, горемычному путнику, заплатить тебе такую пропасть денег! Меня уж и то обобрали здесь мошенники до кожи, так что я, даром мулла, а беднее всякого фагера[162] стал. Не хочешь брать? Твоя воля! Вот же тебе мое благословение вместо платы. Что ж ты не едешь?
– Я не тронусь с места, покуда не сведу с тобой счета, – грозно возразил проводник, – а счет мой не за один сегодняшний проезд будет. У тебя нет совести, мулла Садек, но есть память. Ты расславил в Дербенте, для того чтоб выманить у легковерных горожан лишнюю дюжину червонцев, будто Мулла-Нур ограбил тебя, пустил почти нагого: скажи теперь, бесстыдный лжец, где и как это было?
– Никогда не говорил я этого! Пусть покарает меня Аллах, не говорил! Пусть не Азраил, а шайтан примет мою душу; пусть я в этой жизни не найду воды для омовения, ни огня закурить трубку!
– Набивай грех на грех, венчай обман ложью, топи в проклятиях черную душу свою! Помнишь ли двор мечети, Садек? Помнишь ли, что ты сказал нищему, что рассказывал путнику, лежавшему на бурке? Разве не ты был тогда передо мною, разве не я видел тебя лицом к лицу?
Мулла Садек расширил испуганные очи; страшное сомнение закралось в его сердце. Черты лица мельника, омытые водою, совершенно изменили свое выражение; густая черная бородка, проглянув из-под мучной пыли, орамила смуглое лицо. Из-под сдвинутых бровей засверкали грозные очи. Однако ж, не видя на нем никакого оружия, мулла Садек почувствовал выгоды свои и схватился за винтовку; но прежде чем он успел оборотить ее, дуло пистолета уперлось в его грудь.
– Шевельни усами, не только пальцем, красноголовая баба, и ты от правишься вниз головою по реке проповедовать рыбам, чтобы они не пили водки! Брось ружье, сними долой саблю! Аллах не для персиян выдумал железо. Твое дело обмеривать народ в лавке, обманывать его на кафедре[163], лгать везде; только не твое дело битва, не твое добро отвага. Не шевелись, говорю я тебе, сын собаки; мне не надо на тебя тратить даже пороху: стоит пустить повод твоего коня – и ты труп!
Бледный как воск, трепетный как плат на ветре, стоял мулла Садек, схватившись обеими руками за гриву коня, следя обоими глазами малейшее движение пистолета, направленного ему в сердце. Бедою прыскал и шумел под ним прибой; смерть зияла из руки разбойника; он вовсе потерялся между двумя гибелями; он невнятно роптал:
– Помилуй, я мулла!
– Я сам мулла, – возразил разбойник, – более чем мулла, хотя не муфти, не муштаид[164]: я – Мулла-Нур!
Со стоном упал Садек на шею лошади, закрыв одной рукою свою шею, – будто роковой кинжал замахнут уже был над его головою. Долго, злобно смеялся Мулла-Нур испугу Садека, но наконец велел ему подняться и сказал:
– Ты обесчестил меня рассказом своим перед дербентцами, ты уверил всех, что я отнял у тебя последнюю копейку, последнюю рубашку, я, который отдаю нищему кровью купленный кусок хлеба, я, который ни с одного купца не взял более червонца в жизнь мою, и то не для себя – для товарищей моих; а мои товарищи, если б не висела над ними моя рука, грабили и резали бы встречного и поперечного бессовестно, беспощадно. Мало этого: ты хотел обмануть в условной плате проводника за опасный труд оттого только, что считал его беззащитным бедняком; готов был пулею заплатить ничтожный долг свой… убить меня!..
– Сжалься, помилуй! – вопиял Садек.
– Пожалел ли ты нищего, умирающего с голода? Пощадил ли бы ты меня, если б я не предупредил твоего выстрела? Бездушный, корыстолюбец, злой грешник!.. Толкователь святыни, ты чеканил деньги из каждой буквы Корана, и, проповедник мира, ты для выгод своих смущал семейства, разлучал сердца. Я знал тебя и дал спокойно проехать мимо; ты не знал меня и оклеветал. В первый раз и добровольно ты стал предсказателем своей судьбы, собственным судьею. Да будет! Завтра ты без обмана можешь рассказывать в Шамахе, что я тебя ограбил. Вынимай все деньги, которые выподличал в проезд свой!
Тяжко было расставаться скупцу с родною деньгою, но с жизнию еще страшнее. С жалобным стоном, будто из него щипцами вырывали душу по кусочку, вынимал он из переметных сум серебро и бросал в полу Мулла – Нура, сжимая крепко в руке каждый рубль, будто в надежде, что серебряное масло останется на пальцах.
– Все, – наконец произнес он, вздыхая.
– Ты, я думаю, и в могиле червей обманывать станешь, Садек! Если не хочешь узнать, сколько в моем пистолете картечей, то вернее считай, сколько у тебя в кармане червонцев. Ты отдал мне сто двадцать рублей серебром, но у тебя есть еще золото и мелочь – и мне известно количество каждого!
Прослезился мой Садек, бросив последнее в кису Мулла-Нура, как плачем мы, бросая горсть земли в могилу родимого брата! А между тем буйная река кипела и ревела кругом; а между тем пистолет разбойника все еще грозил груди ограбленного муллы. Вытащив его на берег, Мулла-Нур сошел с коня и велел ему сделать то же. У бедняги сердце так сжалось, что его можно бы уложить в грецкий орех.
– Еще дело не кончено, – произнес Мулла-Нур. – Ты разбил свадьбу Искендер-бека, ты же должен уладить ее по-прежнему. Чернильница у тебя за поясом: пиши к Мир-Гаджи-Фетхали отказ за своего брата. Скажи, что он не хочет, не может жениться на его племяннице, что он уехал в Мекку, заболел со скуки, умер от безделья. Выдумай что хочешь, только бы Искендер-бек непременно стал мужем своей прежней невесты: не то я прежде срока женю тебя на всех гуриях! Пиши, то есть лги: лишняя ложь не разорит тебя!
– Никогда! – вскричал отчаянный мулла Садек. – Этого никогда не будет! Ты отнял у меня все, что имел я; но что могу я иметь, отнимешь вместе с душой.
– В самом деле? – произнес Мулла-Нур и ударил в ладоши: двенадцать разбойников, один другого рослее, один другого страшнее, возникли на этот звук будто из земли и обстали муллу Садека, пронзая его свирепыми взглядами.
– Почтенный мулла хочет писать, – сказал им Мулла-Hyp, – приготовить все, чего пожелает его присутствие!
Один лезгин почтительно вытащил кинжаловидную чернильницу из-за кушака Садекова; другой подал ему листок бумаги, вылощенный, с золотыми рамками; третий обдул тростинку, очинённую на восточный лад… Между тем Садек шептал:
– Не хочу, не стану писать! – но, окинув робким взглядом долины и убедившись, что в таком пустыре напрасно ждать избавителей, со вздохом принялся за дело. Сначала, однако ж, оно шло очень плохо:
Потом губка, намоченная чернилами, показалась ему так тверда, что он долго не мог выдавить из нее ни капли; потом мозг его зачерствел хуже самой губки.
– Пиши хоть своею кровью, думай хоть шапкою! – вскричал сердито Мулла-Hyp, заметив, что Садек возится с пером и трет пальцем лоб свой, – но пиши скорее, не то я поставлю у тебя над бровями такой дюзир[166], что один разве бес догадается, на какую букву походил нос твой.
Как скоро послание Мир-Гаджи-Фетхали было готово и печать «Абдулу мулла Садек-ибн-Ахмед», то есть раба Божьего муллы Садека, сына Ахметова, приложена краскою, подобно замочку последней строки, Мулла-Нур высыпал на голову чуть живого проповедника все деньги, прежде у него отнятые.
– Вот твое золото, Садек: возьми его назад и скажи, кто из нас двух корыстолюбец, кто вор?.. Впрочем, это не дар, а плата: ты должен за нее позолотить мое имя в Шамахе, зачерненное тобою в Дербенте, и сказать в тамошней мечети мне похвальное слово. Ступай, но помни завет мой; и если ни благодарность, ни страх не заставят тебя исполнить его, то знай наперед, что моя пуля найдет тебя и на тайной дороге и на шумном базаре, в объятиях твоей жены в гарем-хане и на крыльце тебризской мечети. Ты испытал, что я все знаю: я докажу тебе, что все могу!
Обрадованный мулла Садек только тогда поверил, что его избавление – не сон, когда счел до последнего абаза свои милые денежки. Страх, чтобы Мулла-Hyp не раздумал, вытеснил удовлетворенное сребролюбие, и он, бросившись на коня, понесся вперед без оглядки.
Через два дня мулла Садек, к немалому удивлению шамахинцев, разлился красною рекою похвал – умеренности, великодушию и бескорыстию Мулла-Нура, которого назвал он не разбойником, а покровителем дорог, львом с сердцем голубя. Каждый раз, что какой-нибудь из слушателей клал руку на кинжал или под полой коварно шевелилась ручка воображаемого пистолета, он бледнел, он заикался, – и потом опутывал бесконечною цепью сравнений Мулла-Нура, нанизывая на него звезды и цветы, наряжая его в кожу всех вельмож зверинца. Народ шептал промеж собою, что достопочтенный мулла, наверное, хватил лишнюю полдюжинку пилюль терьяка.
Вероятно, что письмо, доставленное к Мир-Гаджи-Фетхали от приятеля Садека, с приличным увещанием со стороны Мулла-Нура, возымело полное действие. Через неделю после встречи в Тенгинском ущелий ночная тишина Дербента смущена была скрипом зурн, сопелок, ударами в бубны, кликами и песнями толпы; летучее зарево от множества пламенников, подобно огненному змею, забагровело из тесных улиц: то везли невесту в дом Искендер-бека из дома родительского. Пешие и конные, мужчины и женщины окружали шатер, под которым, как луна в облаке, скрыта была красавица Кичкене. Приветы и восклицания рвали воздух, вслед и с кровель раздавались ружейные выстрелы: и ни одного из них не было вниз[167]; казалось, весь Дербент ожил любовью и радостью счастливца Искендера.
А Искендер-бек чах от нетерпения, страстная лихорадка пробегала по нем то ледяною, то пламенною щеткою… Заслышав гром поезда, он двадцать раз подбегал к воротам, не слушая выговоров тетки своей, строгой почитательницы причудливых, важных обрядов свадебной встречи. И вот, едва он выставил в двадцатый раз свою голову в чуть отворенную дверь, какой-то всадник протянул к нему стальной перчаткою одетую руку.
– Аллах версын тале, Искендер! – произнес он, – Бог пусть дарует тебе счастье!
И, крепко пожав руку изумленного бека, поворотил коня и как раз носом к носу столкнулся с Гаджи-Юсуфом, который и тут нашел средство втереться в число поезжан и хозяйничал в голове брачных проводов. Гаджи-Юсуф так был поражен этим неожиданным явлением, что бросил поводья и в ужасе вскрикнул:
– Мулла-Hyp! Пощади!
Смутился поезд. Крики: «Мулла-Hyp! Здесь Мулла-Hyp! Держите, ловите разбойника!» – раздались по всем переулкам. Конные родственники и друзья дома невесты кинулись вслед за ним, но он летел как стрела по извилистым, кривым, неровным улицам Дербента, сыпля искры на мостовую. Впрочем, так как ворота городские были давно заперты, уйти ему было невозможно, а скрыться от преследователей некуда; его держали на виду, в него стреляли. Доскакав до моря, замкнутого с обеих сторон стенами, входящими в воду, он остановился. Буйно плескал и крутился перед ним прибой; враги настигали… Но вдруг нагайка его мелькнула сквозь мрак, и он исчез в пенящихся и ревущих валах Каспия.
Долго, пристально смотрели прискакавшие на берег всадники в глубь ночи… Только белелись и сверкали там брызгами буруны, расшибаясь о подводные гряды.
– Он утонул! Он погиб! – наконец закричали они в один голос.
Громкий смех и пронзительный свист отвечал им за стеною.
Плотно сомкнуты двери Искендер-бека. Тишина в его спальне. Веселость ищет шуму и толпы, счастие любит уединение и безмолвие: не станем же смущать блаженства новобрачных. Я только, раскланиваясь с читателями, удостоившими милую Кичкеню проводить до самого полога, переведу им первую половину татарского эпиграфа моей последней главы: это значит –
Каждый из нас стал двойной…
Остальное потрудитесь отгадать.
Заключение
Меркло. Тучи плескались, как волны, по небу – грозили залить ледяной остров Шахдага. Только одно его темя блистало еще снегами, пылало огнем солнца, как душа поэта, как жерло волкана. Другие хребты слева, справа – отовсюду вздымались великанскими головами один над другим, один за другим все выше, и синее, и мрачнее, подобны чудовищным валам, вздутым Божиим гневом в страшный день потопа.
Под кипучею пеной облаков, казалось, они идут, идут, грозные, крутятся, падают горами, расступаются безднами; прыщут и воют! Ливень бичует, хлещет, гонит их, догоняет нас. Дорога шумит и несется водопадом… проливается небо, земля тонет!.. Это уже не обман зрения!
– Скорее, скорее, чапархан107, скачем в гору! Еще миг – и нам не выбиться из этого внезапного озера!
Слава Богу, долина за нами! Мы едем уже по суходолу. Кони храпят и дымятся; дайте вздохнуть коням! Люблю встретить бурю лицом к лицу; любуюсь ее гневом, как гневом красавицы, и радостно крещусь, приветствуя первый гром. Привольно, весело мне, свежо на сердце. С наслаждением глотаю капли дождя – эти ягоды полей воздушных. Полной грудью вдыхаю вихрь… О, в буре есть что-то родственное человеку! Дремлет чайка в затишье, но чуть взыграло море – она встрепенется, раскинет крылья на высь, с радостным криком взрежет ветер, смело поцелуется с бурунами. Таков и дух мой! С самого младенчества я любил грозы. Гром для меня всегда был милее песни, молния – краше радуги. Бывало, когда все бежали под кровлю, я под дождем бродил по целым часам, прислушиваясь к говору и реву туч, или стоял, томясь желанием уловить памятью дивный узор, которым перун вышивал черный плащ бури.
Ах, посмотрите сюда, взгляните сюда, ради Бога! Небо прорвалось на западе, и разделенные лучи его просыпались, как огненные стрелы из колчана архангелов. А там, а кругом еще клубятся сизые тучи; распадаются, разматываются прядями ливня, и ветер то волнует, то разбрызгивает их своим крылом. Вдруг все затихло, дождь перестал, ветер пал ниц, будто со страха, и недаром… ужасный удар перуна разразился над головою, упав в двадцати шагах впереди. Все кони сели назад, как убитые в лоб! Оглушенный, я схватился рукой за глаза, мне показалось, они сожжены молниею!.. Открываю их, озираюсь: все целы, только разбитый дуб курится вблизи каким-то серным дымом да земля дрожит еще, гудит еще робким ответом на грозный зов грома.
Львиной страстью любит небо землю нашу: поцелуй его – всепронзающая молния; его ласки развевают в прах утесы, плавят металлы, как воск. Но разве не такова любовь всего великого, всего сильного на земле? Земная скудель не выдерживает небесного пламени; алмаз тает в лучах солнца. И все равно, вырывается ли она из сердца или приемлется другим сердцем, – погибнут оба. Молния расторгает и облако, в котором родилась, и скалу, на которую пала. Пепел и развалины след ее.
Но кто, дерзкий, осмелится сказать, что гроза бесполезна, что природа разрушает не для того, чтобы творить? Ответствуй за нее, разлив Нила и пожар Москвы.
Пусть даже на целый век осудит природа какой-нибудь край на пустыню или кого-нибудь на гибель в страшный час своих переворотов… это лишь жертва очистительная, это урок смертным. Не беспокойтесь о погибшем! У нас одна жизнь, у Бога две для нас. У нас один свет, у Бога вселенная, у Бога вечность в запасе. Думаете ль вы, что напрасно для мира, что случайно открыт был из-под лавы столетний труп Геркуланума, этот город-мумия?108
Порочны люди, окруженные всеми угрозами законов и стихий: можно судить, что бы из них было, если б океан не грозил залить их, а землетрясение – поглотить каждый миг; если б они ходили не под топорами и не по могиле. Как ни привычны мы к напоминаниям о смерти голосом, природы, но я не верю, чтобы самый закоренелый злодей не вздрогнул, когда труба Страшного суда воет раскаленною лавою иль когда перст необычайной бури пишет молнией по ночи зловещий приговор Вальтазара109.
Если б грозы и не очищали воздуха, не приносили никакой вещественной пользы для земли, то уже одно нравственное впечатление на умы людей ставит их в число величайших явлений природы. Семена Божьего страха глубоко западают в сердца, размягченные перуном, и если хоть одно раскаяние зазеленеет на них добрым намерением, заколосится добрым делом – человечество больше выиграло, чем напоением целой нивы.
Стихает… Изредка светлые капли дождя носятся, перепадают по воздуху; как изорванные знамена после боя веют тучи. Гром, будто рокот бегущих с гор колесниц, гудя, исчезает в отдалении. Ущелье вторит последнему храпению умирающего там ветра. Вот и пелена новорожденного солнца – радуга; вот и само солнце, дитя бури, – но где же буря? Не говорил ли я, что все прекрасное гибельно лону, в котором оно зачато! Посмотрите! Этот чинар расколол корнем гору, а она лелеяла его, когда он был ничтожным желудем и нежным стеблем. Рождение Цезаря стало смертным приговором его матери110.
Чтобы дать жизнь – надобно отдать жизнь. Мысль убивает блеском своим, чувство – жаром, и тем скорее, чем сильнее оба.
Но тот, кто оставил после себя хоть одну светлую, новую мысль, хоть один полезный для человечества подвиг, не умер бездетен. Воспоминание – тоже потомство.
– Куда ты ведешь меня? – закричал я проводнику, заметив, что он своротил вправо.
– В гору, – отвечал тот, не вынимая изо рта своей трубки. – Река теперь от дождей непроездима! Лучше дать агача два крюку111 по хребту, чем сидеть у берега и ждать, покуда стечет вода.
– Я не буду сидеть и не буду ждать – поезжай на Тенгинское ущелье… Ну!
Татарин поглядел на меня с головы до ног, пожал плечами и, проворчав: «Сенын ахтиарын (Твоя воля)», поехал влево.
Скоро сквозь обнаженный еще лес приблизились мы к берегу, издали встреченные шумом спертых каменными воротами вод. Потом влажный холод повеял в лицо с отвесных скал противоположного берега, наконец я въехал в тень самого ущелья.
Гляжу вверх – и роняю шапку, прежде чем глаз мой досягает до гребня стен, построенных природою; гляжу под ноги, и сердце замирает, прежде чем ступить в разъяренный поток. Страшно тяготеют надо мной эти громады, мнится, хотят упасть, уже зыблются, уж рушатся!.. Страшно кипит, и плещет, и воет Тенга, огрызаясь волнами на плиты, замедляющие бег ее. Сыро, душно, темно в теснине, она глядит полу разверстою могилою, но есть и у могилы, как у всякой бездны, свое обаяние… что-то невольное манит, тянет туда броситься… я брошусь туда!..
– Чапар, ступай впереди, показывай брод! День вечереет, а мне пора!
– Нет, ага, – хладнокровно отвечал проводник, – наш староста при тебе мне наказывал не ездить по реке, я не смею ослушаться. Ты утонешь, тебе ничего, а с меня ведь спросят ответа, зачем я ввел тебя в беду. Да, правду сказать, в такую полноводь я и сам к молодой жене ехать не решился бы.
Я показал ему червонец.
– Дай хоть пулю, не только монету, и тогда не поеду. Мне своя голова еще не надоела. Посмотри на скалы, черной полосы нигде не видать, значит: вода все идет на прибыль.
– Послушай, приятель, – сказал я ему, – если ты не поедешь впереди, то посмотрел бы я, как ты поедешь за мною.
И с этим словом поскакал я к берегу, но подъехать к нему было гораздо легче, нежели с него съехать. Проклятое четвероногое, на котором сидел я, видно, тоже помнило наказ рустамского[169] старосты и никак не хотело купаться в мутных волнах Тенги. Однако ж несколько ударов нагайки придали ему достаточное количество бодрости, чтоб спрыгнуть в воду, но никак не более. Упершись по грудь в воде, оно с стоическим хладнокровием выносило град ударов острыми турецкими стременами в бока да семихвостой персидской плети по крестцу, не включая в то число браней на всех готических и семитических языках. Эта борьба не могла длиться, я принужден был поднять коня на дыбы – и в этот миг ринуть его вперед силою всех подстреканий; он пошел нехотя, но пошел. За мной с кислыми, длинными лицами готовились съезжать гуськом один за одним двое русских и татарин-проводник, споря, кому последнему.
Не успел я проехать пяти шагов против течения, вдруг какой-то всадник, вооруженный с головы до ног, схватил за уздцы моего коня. До сих пор не могу объяснить себе, откуда он взялся и отчего я так внезапно его увидел? Вывернулся ли он из-за утеса, обогнал ли он меня или встретил? – ничего не знаю. Знаю только, что когда я поднял на него изумленные взоры, он стоял передо мной смело, на сильном коне. Эриванский папах, закинутый назад, вполне открывал его загорелое, но приятное лицо, опушенное короткою черною бородою. Он был среднего роста, широкоплеч, строен. Из-под чухи с откидными рукавами сверкала кольчуга с бляхами, насеченными золотом. Кроме ружья, за спиной его, на крюке, прицеплен был коротенький мушкатон112, какие носят одни турки. В петле пояса, над кинжалом, выглядывал пистолет, два подобных висели в сквозных кобурах седла.
– Лхалсиз ми сен? – сказал он мне, не отнимая от поводов руки, одетой стальным налокотником и кольчатою наручью. – Разве ты безумен?
Железное кольцо правой руки моей невольно упало на курок пистолета[170]. Я стал на стременах, чтобы измерить дерзкого, гнев у меня отнял слова. Я не скоро нахожусь в нежданных порывах гнева.
Впрочем, этот всадник очень мало заботился о моем пистолете и негодовании. Он преспокойно оборотил моего коня и, можно сказать, вытащил меня на берег. Потом слез с седла, отдал подержать своего жеребца проводнику и, подошедши ко мне, учтиво молвил:
– Не сердитесь, ага, на мой поступок. Это было не только для пользы – для спасения вашего[171]. Река бушует необычайно от снеговых и дождевых потоков, до того, что проезд по ней в этот час просто невозможен. Я жилец этих скал; конь мой знает это ущелье лучше, нежели свою торбу, но я разве от смерти решился бы отважиться на нем проехать по Тенге за хребет. Переждите час, много два, я сам провожу вас, пусть только на пядь стечет вода!
Спутники мои, хваля доброго человека, уже треножили коней. Мне самому смешно стало сидеть, надувшись, верхом и держаться за курок, когда никто не грозит нападением или обидою. Я спрыгнул на землю, сбросил с плеча бурку и, пригласив знаком руки незнакомца сесть рядом, сказал, складывая под себя ноги:
– Делать нечего. Волею и неволею остаюсь здесь. Я никак не думал, что Тенга ест гостей своих и что у ней есть приятели, которые встречают этих гостей не очень ласково.
Незнакомец мрачно улыбнулся.
– Я горец, ага, – возразил он, – я всегда считал лучшим вытащить из воды человека хоть за бороду, чем утопить его за ноги. Персияне золотят для жен своих миндаль, зато золотят на них и кинжалы. Горец подает не крашеную[172], но верную руку на приязнь и не кланяется врагу, подбираясь ловчей поразить его в сердце. Впрочем, если я неприветливо помешал вам утонуть, тахсырумдан кечь (извините меня)! Я мало жил с русскими и давно забыл то, что знал!
Горячая мысль промелькнула у меня в голове: эта встреча, эти приемы, эти речи…
– Твое имя? – спросил я быстро и неожиданно.
Незнакомец в это время высекал огонь на трубку.
– Мое имя? – ответил он. – Я еще не сделал его[173]. А я бы хотел, чтобы мое имя могло смущать и страшить целые дружины, как пушка тревоги; чтобы каждый злодей бледнел, слыша его, как внемля шелесту крыл ангела смерти. Не воли, а силы недостало такому желанию, и меня теперь вместо блистательный, щедрый, правдивый победитель Мулла-Hyp зовут очень просто – разбойником Мулла-Нуром!
– Ты – Мулла-Hyp? – вскричал я, вскочив с бурки и хватаясь за шашку.
В моей голову закрестили разные мысли… схватить, убить его… он был один, а нас четверо; с другой стороны, думал я, кто дал мне право убивать беззащитного, а взять его открытою силою, живьем нечего было и думать. Притом за что бы я стал преследовать человека, который оказал мне услугу?..
Мулла-Hyp хладнокровно, однако ж пристально глядел на меня и, как будто угадав мое колебание, положил трубку на землю и дважды хлопнул в ладоши. Следуя взором за его взорами, я взглянул вверх, – более десяти ружей из-за камней на утесах, из-за пней деревьев наведены были прямо мне в голову… Спутники мои уже спали, закрывшись бурками… Я вздрогнул.
– Это, – сказал он, улыбаясь, – для того, чтоб доказать тебе, что мне нечего бояться! – Он хлопнул… стволы исчезли. – А это, чтоб показать тебе, что при мне ты безопасен. Людская честность не совсем еще для меня изверилась, однако ж я нахожу: кольчуга – самая прочная рубашка, а пистолет – самое мягкое изголовье, и всегда держусь правила: верь немногим, а берегись всех! Если я когда-нибудь погибну изменою, то, конечно, не в западне доверчивости. Это не касается до тебя… я не знал тебя в лицо, не помню твоего имени; но я знаю твою душу и помню все, что про тебя мне рассказывали. Вчера я был в Кубе и сведал: ты скоро должен отправиться в Шамаху, стало быть, я ждал тебя. Ты гость мой и дорогой, хотя невольный, гость.
Он хлопнул три раза, и через две минуты стал перед нами, сбежав с утеса, молодой татарин, щегольски одетый. Шубка его была подбита хорьковым мехом, чуха обложена широкими галунами, и пряжки на перевязях патронницы и рога, надетых накрест, сверкали золотою насечкою. Мулла-Hyp ласково глядел на него, когда он разостлал маленькую скатерть, положив на нее чурек, сыр и несколько яблоков.
– Буюр[174], ага, – сказал он мне, предлагая вечерю. – Не чуждайся ничьего хлеба, это дар Аллаха, а не человека, и, переломив его со мной, ты не обяжешься мне приязнию. Этим же самым кинжалом, которым отрежешь ты кусок, можешь пробить мое сердце, когда служба твоя того потребует, и я не обвиню тебя. Аллах, аллах! Люди сосут одну грудь и потом отравляют друг друга, а я стану ждать дружбы от пришельца за то только, что он вкусил от одного со мной хлеба!
– Яхши олсун! – примолвил я, ломая чурек. – Да будет во благо!
С каждым мгновением любопытство мое узнать этого человека покороче возрастало. Изучить дикий ум, сбросивший с себя все условные путы общества, вглядеться в игру страстей, отданных собственной воле, – да это находка, которая не всякому дается или по крайней мере не всяким ловится!
– Знаешь ли, Мулла-Hyp, – сказал я ему, – что я очень хотел, даже искал тебя увидеть и очень рад, что неожиданный случай свел нас.
– Только увидеть, только поглядеть на меня, как на ручного тигра, желал ты, наравне со многими своими земляками? Да, вот судьба моя: одни бегут меня из страха, другие следят из любопытства! Никто не придет пожалеть, утешить меня! Впрочем, сожаление и утешение сносны только из уст друга. Не прошу их, не хочу их! Извини меня… в одиночестве бог знает откуда берутся чудные прихоти, странные мысли: они сыплются невольно на голову первого встречного, как осенние листы с дерева.
Видно было, что Мулла-Hyp тронут; он поник головою, потом весело взглянул и примолвил, желая переменить разговор:
– Ты глядишь наездником… у тебя, верно, хорошее оружие? – и в рассеянности протянул он руку к моему пистолету, заткнутому за поясом.
Ружья у обоих нас были сняты и дружно висели на одном сучке: этого требовал азиатский этикет. Следственно и очевидно, что, отдавая свой пистолет Мулла-Нуру, я безусловно предавался его власти. Кроме очень двусмысленной славы, ничто не ручалось мне за честь разбойника, а богатая оправа под золотом и чернетью дорогого венецианского ствола еще более умножала искушение. Я очень хорошо знал, что самый бескорыстный азиатец растает при виде отличного оружия, неподкупный прежде ничем… знал, что за оружие на Кавказе нередко льются реки крови, продаются деревни и целые стада; но показать недоверчивость значило бы признаться в робости… Все эти мысли вместились в один миг; я вынул пистолет из чехла и подал Мулла-Нуру.
Я уверен, что он без всякой думы попросил посмотреть мое оружие, но потом взвесил важность своей выходки и уже с намерением длил опыт. Несколько раз взводил и опускал он курок, уставя на меня дуло, а между тем взглядывал на меня исподлобья. Но будь он в десять раз проницательнее, он и тогда бы не увидал на лице моем тени того, что происходило внутри: я спокойно курил трубку. Никто в свете не ценит лучше азиатцев полного доверия и отваги. Я заметил уже, что Мулла-Hyp был сам не свой от удовольствия. Когда он отдал мне пистолет, глаза его сверкали.
– Чудная вещь, – сказал он, – железо и оправа стоят друг друга, а в руке стоят, верно, двух!
– Ты еще не заметил в нем лучшего, – молвил я, – это полка с пружиною новой кубачинской выдумки: пожми огниво – из него отпадет на полку золоченая покрышка, чтобы порох не развеялся и не отсырел, а при выстреле она сама входит в прежнее место. – Я показал ему секрет этой выдумки, он очень занимался ею, вскрывал, закрывал: азиатец ребенок, когда дадут ему в руки оружие. Он дивился также пистонному ружью моему: выстрел без кремня был для него непонятным чудом. Впрочем, ему гораздо более понравилось мое азиатское с золочеными кольцами ружье.
– Вот это иное дело, – говорил он, – легко, ловко на коне, не то что твое фиренское, с лопатою вместо приклада.
Спустив на ноготь лезвие моего кинжала и щелкнув в него раза два над ухом, с видом знатока, он с нежностию вертел его в руках.
– Настоящий Базалай113 – отец Базалай, – сказал он. – Знаешь ли, какую штуку выкинул он в Дербенте с поддельными под его имя клинками? Раз толкается он на базаре, а носящий кричит: «Кинжалы, базалаевские кинжалы!» Покупщики кинулись к нему на пробой; подходит и сам мастер, а его никто не знал в лицо. Досада взяла его, что всякий кузнец подрывает его славу, он вынул свой кинжал и пересек им более дюжины самозванцев-клинков легче свечек и бросил их пристыженному обманщику в лицо. Конечно, у него был заветный клинок, однако и твой хорош, он мне очень, очень нравился.
Не надобно долго жить с азиатцем, чтобы понять этот намек. Я отстегнул с пояса ножны и, приложив правую руку к сердцу, поднес левою кинжал Мулла-Нуру.
– Пешкеш сана, – сказал я. – Прошу принять.
Он рассыпался в благодарениях.
– Это будет мне всегдашний памятник по тебе; в замену, ты позволишь, ага, предложить тебе мой. Он, правда, не так красив, на нем не написано золотом молитвы, зато никакая молитва не спасет, никакая кольчуга не удержит от его удара!
И Мулла-Hyp положил серебряный рубль на пень, взмахнул кинжалом и две половины упали наземь.
Я, конечно, не потерял в промене. Кроме внутреннего достоинства странность его получения от знаменитого разбойника наверно чего-нибудь да стоит. Я буду хранить его всегда.
– А вот, – сказал он с глубоким вздохом, снимая с сучка свою винтовку, – вот причина всех моих бед, всех грехов моих! Она мне досталась от отца как семейная святыня, и я сберег ее как святыню!
Он одушевлялся, глядя на свое сокровище, бросая его на приклад, лаская рукой блестящий, сереброструйный ствол. На другой стороне реки, на высоком белом камне, бегала маленькая серенькая птичка: Мулла-Нур приложился по ней, выстрелил, и птичка без головы упала на месте. С самодовольным видом взглянул он на меня; потом, заряжая снова, примолвил медленно:
– Да, это ружье дороже крови, за него пролитой! Многим оно стоило жизни; мне более чем жизни – счастья, более нежели счастья – родины!
Я с участием глядел на Мулла-Нура. Тяжкая тоска отзывалась в последних словах его, тоска, глухо ревущая из сердца, как лев, замкнутый в пещере, обрушенной скалою. Бурные чувства вздымали грудь его, зажигали взор, струились по лицу.
– Это тайна? – спросил я Мулла-Нура.
– Что на свете есть тайного, кроме нашего сердца? Рассветает ночь, крывшая злодейство; дремучий лес находит голос на обвинение; расступается хлябь моря и выдает утопленное хищниками добро. Могилы, самые могилы не скрывают во мраке своем преступлений, и с червями зарождаются в ней мстители. Я видел: русские узнавали по внутренностям жертв прошлое, как идолопоклонники, предки наши, угадывали по ним будущее. А когда можно заставить говорить мертвецов, кто заставит молчать живых?.. Тайное скоро становится явным, и базарная молва нередко трубит о том, что было шепотом сказано между двоими. Нет, моя жизнь не тайна, мои похождения может рассказать тебе последний мальчик в Кубе. Он убил своего дядю и бежал в горы! Вот вся повесть обо мне, и она не ложь, но полна ли она? Но справедливо ли осудит меня по этим словам всякий, кто их услышит? На это могу отвечать только я. Пусть отрубят мне голову: что ж найдет в этой голове судья для объяснения моего преступления? Пусть вырежут сердце: как отгадает в нем врач пружины, которые двинули на убийство?.. А в этом вся важность для меня! Только это зову я на суд совести, все остальное – дело случая, все остальное пусть как хотят судят в людском диване. Тяжело мне думать об этом, еще тяжелее рассказывать, и между тем оно меня душит… Мучительно вырывать зубчатую стрелу из раны, но и оставлять в ней нестерпимо…
Мулла-Hyp опустил голову на грудь и трудно дышал… С безмолвным участием глядел я на него, не желая неуместными вопросами пенить желчи, и без того кипучей.
И вот он будто пробудился из глубокого сна, повел взорами окрест, покачал головою и потом, устремив свои черные, выразительные очи на меня, молвил:
– Я положу свое сердце на ладонь твою и расскажу тебе все.
И он рассказал главные случаи своей жизни; но только сначала обращался он ко мне; потом, разгораясь на бегу подобно колеснице, рассказ его превратился в какую-то жалобу, в какую-то прерывчатую исповедь, в чудный разговор с самим собою!.. Казалось, он вовсе забыл, что тут есть слушатель. Была ли то необходимость облегчить сердце, сбросив с него накипь страстей; была ли то жажда оправдания: безотчетное, но святое чувство уважения – дань мнению, равно общее и невинно страждущим и отъявленным злодеям? – не знаю. Не смею уверять, что я записал рассказ Мулла-Нура вполне, еще менее – во всей силе… Я многого мог не понять, многое забыть. Притом как передам я обаяние истины чувств, не выраженных, а вырвавшихся из возмущенной души? Чем заменю ужасно живописную природу, перед лицом которой была встреча эта? Холодным ли чернилам блеснуть горючей слезою? Враны ли буквы на белом поле безжизненной, снежной бумаги нарисуют в воображении эти громады гор, проливающих на нас влажные гробовые тени свои, и Тенгу, вырывающуюся из удушающих объятий великанов-утесов?
Река стекала, грозно перекликались над головою орлы. Мулла-Hyp с жаром рассказывал мне свою повесть, и речь его походила на бушеванье горного потока, на крик пустынного орла при добыче…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Он был убит*
От праха взят, ты снова станешь прахом!
Но вечно ли? но весь ли я? Мой взор,
Неведомым одолеваем страхом,
Таинственный читает приговор.
Ужели дух и мысли – чада света,
Не убегут тлетворного завета?1
Он был убит, бедный молодой человек! Убит наповал! Впереди всех бросился он на засаду – и назади всех остался; остался в тесном кружке храбрых, легших трупом с ним рядом. Я знал его отвагу, я знал быстроту коня его – и, удивленный, не видя его перед собою, проникнутный холодом страшного предчувствия, оглянулся назад: в дыму, окровавленном выстрелами, сверкнуло мне лицо друга – железная рука смерти на всем скаку осадила разгоряченного бегуна его – задернут, он стал на дыбы, и пораженный всадник падал с него, качаясь. Я едва успел оборотить своего коня, едва успел сброситься с седла, чтобы принять на руки несчастного. Тихо опускаю его на землю, гляжу – глаза закатились, не слышит, не дышит он… Рву сюртук, раздираю на груди рубашку – нет надежды! Свинец пробил сердце навылет, самое сердце!! И еще около нас свистали вражеские пули, еще «ура» и гром стрельбы раздирали воздух, но уж того, кем было начато это «ура», кто вызвал эти выстрелы, – не стало. Быстрее пули умчался он, исчез кратче звука. Но и пролетный звук оживает хотя на миг в отголоске; неужели ж ты, прекрасная душа, не оставила по себе никакого следа? Ужели нет тебе на земле ни эха, ни тени?
Я с горькой тоской смотрел на убитого и думал: «Разве тень или отголосок души – это гордое, выразительное лицо, с которого кончина не успела еще стереть пылкого боевого румянца, сорвать улыбки бесстрашия? Но пусть пролежит на нем одна ночь, пусть только вампир – тление – насосет на нем багровые пятна, сомнет его своими ледяными перстами, и кто узнает тогда в обезображенном облике – вчерашнего товарища? Через три дня это стройное тело, в котором только что гаснет теплота жизни, замирает биение силы, – будет пиршеством червей и ужасом взоров».
Я освободил из оледеневшей руки мертвеца рукоять шашки – на клинке было написано имя того, кто за миг владел им.
И брус неприметно источит этот булат, и ржавчина догрызет остальное. Нет пощады ни мечу, ни руке, вращавшей его, ни имени того, кем был он страшен когда-то!
И потом, что такое имя? Павший лист между осенними листьями, волна между волнами океана, флаг тонущего корабля, который на минуту веется над бездною: мелькнул – и нет его! Забвение пожирает память, как смерть – существованье; но смерть есть только переход из одного бытия в другое, возрождение феникса из пепла2, а забвение – безымянная могила, свинцовый гроб, ничего не отдающий стихиям, бездонная и вечно ненасытная пасть ничтожества. В газетах напечатают: «Такой-то, убитый в сражении против горцев, исключается из списков». Товарищи когда-нибудь вспомнят о нем между трубкою и стаканом. Потом и память умрет в них о погибшем, или сами они умрут и сгибнут: вот и все!
Безотрадная истина!
Впрочем, не все имена тонут в забвении, – конечно, не все! Что ж из этого! Звезды имеют лучи вместо крыльев, чтоб перелетать бездны неба; слава на воздушном шаре переносит любимцев своих через море, веков – но только любимцев, только баловней, а слава прихотлива, как женщина, и у ней, как у Фортуны, завязаны глаза3 – друг мой не попался ей под руку; он не выслужил у нее ни железного венца Чингисхана4, ни петли Ваньки Каина5. Не успел он взять ее за себя как награду или похитить как добычу. Он был только добрый, благородный, умный человек, каких мало, – и храбрый офицер, каких много. Он умер, он умрет весь.
Что же значит имя, сорванное смертью на самом востоке? Имя, ни разу не написанное кровью на знаменах или лучами на скрижалях законов? Имя, которое не таяло песнию на устах красавицы, которое не заставляло биться сердце юноши, не давало важных дум старику? Имя, которое не летало перуном6, не горело звездой путеводною, не было пригвождено к столбу изумляющего позора? Словом, имя, никогда не утомлявшее всесветной или народной молвы! Что, если не звук, не возбуждающий мысли, иероглиф без значения, погребальная урна, из которой самый прах разнесен ветром!
Итак, бедный друг мой, ты осужден судьбою на забвение, на всегдашнее забвение! На ничтожество, на вечное ничтожество! Тяжело говорить «прости» мертвецу, но прощаться даже с памятью умершего, предавать его не только тлению земли, на которой он цвел, но забвению мира, которому он был красою, – о, это ужасно, это несправедливо, сказал бы я, если б не веровал в будущую жизнь.
Правда, ничто не вечно на свете, – не вечен и самый свет. Постареет он и выживет из памяти, забудет знаменитых мужей давних времен. Одряхлеет, оледенеет наконец сам – и умрет после потомков своих: стихий, существ, деяний, мыслей – и долго будет спать сам без действия, одеян кладбищем природы, как саваном, покуда голос Бога живого не воззовет его из лона смерти и, очистив купелью вод или пламени, не благословит на новую жизнь!..
Не все ли ж равно искать земной славы, что желать упрочить свой образ на зеркальной поверхности мыльного пузыря! Он лопнет – и прощай портрет наш; свет разрушится – и над его развалинами погибнут все мечты, все произведения людей! Все божеское и человеческое сольется в одну неделимую, хаотическую толщу, над которою только око провидения прочтет надпись: «Припас для будущих миров».
И ты уже достиг до этого рокового равенства, погибший друг мой; равенства, которое, как меч Дамокла, грозится пасть на все живое7. Миг или миллион лет – одно для мертвецов. Время существует только для того, кто существует.
Ты скончался для мира – и в тот же миг мир кончился для тебя, исчез со всеми своими радостями и обольщениями, – зато со всеми бедствиями и муками. Грезы счастья и величие не тревожат покоя могилы. Там есть черви, но нет змей; там разрушение совершается без терзаний.
Зачем же закинуто во все сердца желание продлить свое существование за черту смерти, повториться в детях, в деяниях, в мраморе, в бронзе, в подражании, в памяти друзей, в молве народной? Зачем ученый истощает жизнь свою над книгами, воин умирает на щите, или святой отшельник самоубийствует в пустыне плоть свою? Для чего, если не для памяти, не для славы? Под тысячами различных предлогов кроется это желание, но оно врождено человеку и всеобще всем народам, а и самые заблуждения человеческие непременно основаны на какой-нибудь затерянной, или неразгаданной, или худо понятой истине. Жажда славы есть потребность любви за гробом. Слава есть любовь настоящего к минувшему, любовь тем чистейшая, что она бескорыстна и справедлива, тем более дивная, что она оживляет своим дыханием пылинки пепла в искры вдохновения и рассыпает их с лучезарных крыльев своих в души потомков, как семена всего прекрасного, доброго и высокого. Чувствуете ли вы, сколько отрадной поэзии в этом томлении, в этой страсти человека к отдаленной, но дорогой взаимности незнаемых им поколений, родственных ему только по душе? сколько святыни в неподкупном поклонении этих поколений памяти человека, от которого они уже не ждут ничего, кроме примера? И почему знать: может, эта живая, электрическая связь, соединяющая мир прошлого с миром грядущего, снуется до самого неба и каждый раз, когда провидение допускает дальних потомков прибавить несколько колец достойных подвигов или высоких мыслей к этой цепи воспоминания прежних достойных подвигов и прежних светлых открытий, – может быть, говорю я, эфирная часть умерших виновников, зачателей всего этого, где бы ни витала она, чувствует сладостное потрясение, венчающее и на земле райский миг творения.
Лестная мечта!..
Но неужели одному величию дано две жизни на этом свете? Ужели звон трубы только долетает до того света? А тайное горячее чувство любви, а никому не ведомое самоотвержение дружбы, а не подслушанные светом новые мысли – погибнут, и навсегда, потому что они не были славны, не были громки? не повторятся ни одними устами? не отзовутся ни в чьем сердце? О нет, верно нет! Прекрасное, сильное, светлое – прекрасно, сильно, светло во всех размерах! Ты не исчезнешь без следа, без тени, без отголоска, благородный, несчастный друг! Горы Кавказа отражают грохот перунов и говор соловья. В море так же ясно видится вечное солнце, как и перелетная искра. В сердце человеческом есть струны для Байрона и для тебя, есть слезы для удивления и для участия. Я брошу в вихорь света немногие листки, вырванные из твоего дневника, как невольную дань твою свету, и счастлив я, если эти небрежные строки хоть на миг приманят к себе взор и душу красавицы; извлекут хоть один, но глубокий вздох из груди влюбленного! Вдвое счастлив, если это безмолвное сострастие сердец, кипучих жизнью, с сердцем, давно истлевшим, – порадует тень твою – или заставит вспыхнуть твою душу в новом бытии сладким пламенем, как вспыхивает пламя, когда брызнут на него ароматным маслом!..
Хотят, чтоб я стал писателем! Но знают ли эти советники, как тяжело писать человеку с душою и для души? Знают ли, что дарование есть бытие автора и что он расточает для забавы света лучшие мгновения этого бытия, отравляя заботами остальные? Пишут или из памяти, или из воображения; но что такое воображение, как не память, вскипяченная, улетученная пламенем сердца? А много ли красных дней насчитывает в минувшем гордая, раздражительная душа любого писателя? Есть у него воспоминания – цветы, но есть и воспоминания – раны. И эти раны растравляются, точат кровь, и опять горят, и мучительно ноют, когда срываешь с них перевязку забвения или равнодушия, когда беспощадный сонд любопытства проницает в их заветную глубину. Таковы раны, нанесенные рукою судьбы, жалом злобы или измены! Но легче ли раны от стрел любимых склонностей наших? Радостно ли вспомнить в беде об улетевших минутах блаженства, перегорать в одиночестве страстью к той, с которой уже давно разлучены и никогда не увидимся? Каково думать в жажде советов или утешений друга: «О, если бы он был теперь со мною!» – и находить вместо его живительного взора в очах своих слезу о его погибели! Возьмись только за перо, вздумай только описать, что случилось когда-то с тобою или могло сбыться с другими, – и все воспоминания подымутся толпой, званые и незваные, желанные и неожиданные, и станут перед тобой как духи, вызванные неопытным чародеем, который уже не в силах с ними совладеть. Озаренные бледным месяцем минувшего, эти мертвецы начинают свою страшную, гальваническую пляску8. Есть венки на их черепах, но они подернуты прахом могилы, они пахнут тлением. Есть улыбка – но она ползает как червяк по окостеневшим устам. Как заступ о гробовую крышку, звучит в живом сердце их голос – их ласки обливают морозом… И вы хотите, чтобы я играл костями и пел, подобно Гамлетовым гробокопам?9 чтобы я писал портреты с мертвецов? чтобы я из пепла строил великолепные замки, был весел, когда мне хочется плакать, рассыпался в роскошных описаниях, когда существенность моя так бедна? когда у меня нет насущной крупинки радости? Всесильно, разнообразно воображение, когда оно творит из настоящего – но мутен и слаб ключ его, если он течет сквозь могилу.
Я сказал, есть воспоминания-цветы, но эти живые цветы любимых заблуждений и невинных грехов юности росли на сердце. Отрывая их с корня, чтобы перенесть на бумагу, мы разрываем сердце – и ни свои, ни чужие слезы не оживят этих цветов теплого края под холодом светским; не заживят ран осиротелой почвы.
И свет назовет эту тяжкую исповедь – сказкою, если автор облечет свои страсти в вымышленные имена, и не поверит ей, если он признается в былине, под собственным. Свет так привык слышать и говорить ложь, что от него лучшая похвала гению – «Как он мастерски прикидывается чем захочет! Как искусно умеет скрывать или передразнивать все чувства!»
И свет думает, что писать историю сердца так же легко, как сплетать ябеды, как точить приветствия, как печатать ситец. О, если б они могли – не говорю почувствовать, не говорю рассудить, но только разглядеть, что светильник тем скорее сгорает, чем более бросает искр и лучей вокруг, что сочинитель тратит душу свою в звуках, что, может быть, он пишет кровью и слезами и что на страницах, внушенных тоскою, еще трепещутся обрывки его сердца, как некогда трепетали куски Геркулесовой кожи на пропитанной ядовитою мазью одежде, присланной ему коварною любовницею10, – то, как ни себялюбивы они, как ни любопытны, как ни безжалостны люди во всем, что сулит им новую забаву или чудное потрясение, а решились бы упросить поэта молчать, все еще жадничая его рассказов. Тяжело таить на сердце угли безнадежной любви и холодно улыбаться, внимать стону собственного сердца – и в то же время слушать чужие нелепости, небрежно поправлять волосы, когда под ними кипят ядовитые думы, молчать, когда бушующие, воспламененные чувства готовы разорвать грудь и пролиться лавою признания, – но еще тяжелее, гораздо ужаснее, выражать все это – с гневом, что не можешь высказать души своей вполне, с опасением, что высказанное будет брошено в снег равнодушия или, что и того хуже, стоптано невежеством в грязь! И потом, чтобы говорить понятно людям, надо развешивать, соразмерять выражение своих чувств с их понятиями. Надо раболепствовать правилам языка, потворствовать моде, ползать у ног приличий, подбирать падежи и созвучия, когда бы хотел я выразить себя ревом льва, песнию вольного ветра, безмолвным укором зеркала, клятвою пожигающего взора, хотел бы пронзить громовою стрелою, увлечь бурным водопадом. И чтобы эхо моей тоски роптало, стенало в душах слушателей, чтобы молния страстей моих раскаляла, плавила, сжигала их сердца, чтобы они безумствовали моею радостию и замерзали ужасом вместе со мною.
Не могу я так выражаться, а иначе не хочу: это бы значило пускаться в бег со скованными ногами.
Правда, бывают часы, бывают ночи, в которые полнота груди и головы душит, когда откровенность необходима как воздух, когда волею или неволею должен бываешь отдать тайны сердца и ума участию дружбы, сбросить их на ветер или на бумагу. Но пусть же пила и отвес правил никогда не касаются этих диких громад, в живописном беспорядке разбросанных, наваленных одна на другую. Как эти горы, изорванные волканами и потопами, рассеченные ущелиями и реками, возникают отрывчатые строфы невольной импровизации. Видите ли эту нагую, опаленную перунами, неприступную даже зелени скалу? Это печаль поэта: там гордая душа, как снежногривая гора, скрывает в облаках чело свое! Там, в глубине, кипит ключ юного чувства! Там, во тьме пещер, сверкают очи и зубы алчной гиены, – это совесть! Постойте! слышите ли, как пронзительно, как страшно раздается в этой пустыне одинокий и безответный вопль отчаяния?.. И сколько чудных, но диких, но и безыскусственных красот может представить слог, выброшенный прямо из души? Зато по нем нет стези для обыкновенного читателя. Его стремнины разлучены друг от друга на прыжок льва, на перелет орлиный. Такие руны разгадает лишь тот, кто начертал их11. Лишь он может бродить мыслию по этим зубристым обломкам прежнего своего бытия – и душою отдыхать у надгробья собственного сердца.
Но сочинять для света… и еще для нынешнего света? Тяжкая служба! Имя сочинителя более требует наличными, нежели дает в обетах. Знают ли те, которые с таким добродушием верят похвалам приятелей и собственному самолюбию, и те, которые думают, что для того, чтобы сделаться писателем, нужна только чернильница и перо, – ведают ли они, сколько надо испытать, перечувствовать, передумать, поглотить учености, чтобы написать несколько страниц, достойных века и человека, достойных духа, который соединил в себе всю причудливость младенца и взыскательность старика? Чтобы расшевелить притуплённый вкус, который не знает сам чего хочет, но все знает и всего хочет? Угодить, удовлетворить жадной страсти к новому, к пронзающему, к потрясающему, к чудесному? Надо целые скалы дарования, чтобы насытить хотя на миг этого прожорливого великана. Надо слез – реки слез; крови – море крови, чтобы упоить его до веселья. Его должно поранить, чтобы тронуть, испугать, чтобы убедить, поработить, чтобы ему понравиться. Надо быть невиданным зверем, или сверхъестественным лицом, или необыкновенным чертом, если желаешь увлечь за собой этого избалованного зеваку. Надо ограбить рай и ад, оборвать лучи с солнца и наслаждения с земли, стопить в одно все язвы Египта12 и все ужасы преступления, чтобы заманить и угостить его на славу. Но разве этот людоед птенец твой? брат твой? или друг он, что ты, как пеликан, разрываешь для него грудь и точишь кровь жизни?13 Нет, он твой враг природный, твой непримиримый враг! Он будет смеяться над тобой, поглощая твое же сердце, принесенное ему в гостинец, и выбросит собакам – критикам объедки твоего полубожеского мозга!
Писать, печатать для света, предавать себя тиснению? Неужели не чувствуете вы предсказательного смысла этих слов? Тут в зерне таятся мытарства, ожидающие дерзкого искателя людской похвалы. Вчерась он был властелином своих мечтаний, – потому что не пускал их в люди. Сегодня напечатал их – и стал рабом своих слов. Он трепещет уже глупого смеха невежды и пошлых острот какого-нибудь чесоточного журналиста; трепещет лукавых толкований на свои невинные выходки. Стрелы, брошенные в воздух, падают ему на голову; друзья бегут как от клеветника; враги становятся гонителями. Еще вчерась он был отличный офицер, дельный чиновник, смышленый человек. Сегодня типографские тиски выжали из него все общественные достоинства. «Он сочинитель! он поэт!» Это значит: он никуда не годится. С этих пор благословение небес будет казнить его, как проклятие матери. На его блестящее имя станут вешать дурацкие шапки и черные небылицы. За милость разве будут звать его полоумным. Какие желчные мысли! Какие мрачные краски! Свет ветрен, но, право, не зол, – именно потому, что он ветрен, что ему некогда воспитать и взлелеять вражду. Более остры, чем колки его суждения, и если он любит недолго, зато любит горячо. Пользуйся же его любовью, покуда не спала пена, будь халифом хотя на час14, упивайся рукоплесканиями и похвалами, играй вниманием модников, ревностию прекрасных. Ты не искал, а нашел все это: почему же не взять процентов радостями жизни с долгих лет учения, трудов, страстей и лишений? Сдайся на приглашения – и ты баловень лучшего общества, ты званый, желанный гость за столом знатных и в гостиных большого света!
Знаете ли ж вы, м<илостивые> г<осудари>, что поэт, гость вельможи, есть уже слуга его15, что поэт, гость высшего круга, – его игрушка? Неужели думаете вы, что я довольно прост или столько самолюбив, будто возмечтаю, что меня позовут для моих достоинств, а не для чужой забавы. Знатным хочется прослыть меценатами16 за дешевую цену; им любо посмеяться со мной или надо мной, потому что смех способствует пищеварению, – и я, второй Исав, продам свое первородство за блюдо чечевицы?17 И я стану сыпать свой жемчуг под ноги зевающих невежд? Стану кувыркаться и служить на задних лапках и добиваться до ошейника с гербом того, чьи предки торговали оружием, когда мои были уже им славны? Подумали ли вы, что мне предлагаете? Не значит ли это давать себя напоказ, как слона, откупоривающего бутылки, – с тою только разницею, что плату за это поднесут мне на фарфоровой тарелке, а не бросят в голову?
Правда, обаятельна атмосфера большого света; лепет гостиных игрив, как музыка Россини18. Но эти раззолоченные стены сложены из обломков Китайской стены19 самых вздорных предрассудков; этот скользкий паркет вылощен причудливыми условиями; этот потолок расписан картинками мод, – и горе тому, кто решится покормить своею особою лакомое любопытство исключительных обывателей этого мира! Смешна будет его роль для других; жалка доля его для самого себя. Что принесет он в жертву этому египетскому богу, крокодилу, кроме ранних морщин лица и запоздалого покроя платья? Он не поймет языка, которым говорит мода; он не знает тех важных мелочей, которые составляют жизнь столицы, которые требуют целой жизни на изучение, – для того чтоб умереть отсталым школьником. И вот наш поэт в гостиной, и вот его встречают благосклонные взоры и ласковые улыбки. Это все наживки удочек, чтобы зацепить авторскую болтливость. И вот его потчуют пережеванными приветствиями; сводят на спор с каким-нибудь шутом; мистифируют в глаза, а чуть он за двери – давай расстреливать бедняжку вслед отравленными стрелами злословия.
– Какие допотопные приемы!
– Да-с, это древнее петербургского наводнения.
– Говорят, поэзия – язык богов, а вы из их семьи, графиня: удостойте перевести для нас, простых смертных, о чем говорил он.
– Я не химик, князь: не умею разлагать туманы.
– Мудрено ли, впрочем, графиня, что он так таинствен! C'est une sommite litteraire[175], а верхушки гор всегда облечены туманами.
– Но это не мешает видеть, что все почти маковки оканчиваются плоскостями.
– Если не видеть, по крайней мере испытать. Все путешественники доказывают эту истину в лад.
– Скажите, ради имени Виктора Гюго20, к какой школе принадлежит этот господчик? к горной или к озерной?21
– К болотной-с. Он родился на тундрах новогородских.
– Это и заметно. Он страх похож на водяную лилию, засохшую между листов латинского словаря.
– Вы ошибаетесь, барон: наш поэт вовсе не водян. Скажите лучше, он чересчур пылок, и вы скажете правду.
– Сухая трава быстро загорается; зато и гаснет вмиг.
– О нет, барон; поэт живет пламенем, которым сгорает. Если б послушали вы, сколько толковал он мне об искрах очей, о зареве страсти, о пожарах души!
– То я бы представил его в брандмайоры22, не правда ли, княжна?.. Такой несгораемый человек, без противуогненного прибора, – находка для пожарной команды.
– Смейтесь, смейтесь, а все-таки огонь – его стихия, и вдыхать пламень для него приятнее, чем для нас духи «Капризов Валерии».
– В таком случае позвольте его причислить к породе двуногих саламандр23, княжна!
– Вы предупреждены, барон: он давно состоит в списке редкостей – и отпущен только в отпуск из кунсткамеры24.
И это еще цветки модного злословия. Еще тут нет ядовитых ягод, которые зреют для тебя при лучах восковых свечей и лунном свете ламп. Погоди немножко – и модный свет отнимет у тебя твой мирный уголок посещениями, твой вдохновенный досуг данью в альбомы, подточит веру во все прекрасное сомнением, отравит любовь твою догадками, отвеет взаимность насмешками. А когда не удастся ему сделать тебя смешным, он ославит тебя опасным… и доведет до того, что ты, жадный прежде известности, станешь молить свет о полном забвении как о самой драгоценной милости. И свет позабудет твое лицо, позабудет твои сочинения, позабудет все, кроме твоего имени. И это имя обратит в укор. «Ведь читали же когда-то этого ***ва!» – скажет он; или: «Слава Богу, такой-то схоронен на одной полке с Вальтером Скоттом!»
И эти вздорные толки огорчат тебя – тебя, напоенного сладкой росою небес? И булавки изорвут твое сердце, не разбитое под молотом судьбы? Стыдись! Не тебя отдаю я свету, а свет тебе. Люди обыкновенные созданы для забавы умных: играй же ими в шахматы, выжимай из общества краски для палитры своей, собирай оброк с его странностей, с его нелепостей, с его причуд и пороков. Но если ты хочешь быть ровней с знатью и наслаждаться мелкими приятностями лучшего общества не в лице искателя, а в виде товарища, – единственное средство узнать таинства палат, услышать речи их жильцов без прикрас, застать лица без румян, а сердца без маншетов, – то стань богат.
Что слава? Яркая заплата
На бедном рубище певца –
Нам нужно злата, злата, злата:
Копите злато до конца25.
Проклятый металл, это золото! Неутоляющий напиток ада! Напрасно промысл схоронил его глубоко: мы нашли средство вымучивать его у земли руками преступников для новых преступлений. Добытое каторгою из тьмы, оно каторга света. Каждый раз, когда червонец касается моей руки, мне кажется, он сообщает ей свой гальванизм. Правда, на нем нет и не может быть ржавчины, – но, сдается, будто он сыр тяжким потом, будто каплет кровью, мерцает, как зрачок лукавого. Не золотое ли было яблоко грехопадения? Не оно ли, разбившись в блестящие кружки, раскатилось по свету! Пусть судьба кидает их на драку толпе, как орехи мальчишкам, – я не нагнусь ни за одним. Скажите, на что мне это золото? Я не богат, но, любя роскошь, умею и умерять свои прихоти, потому что легче стерпеть отказ от собственной воли, чем от чужого нехотенья. Верю, что многие имеют много, – никто довольно; зато верую твердо, что богатство состоит более в желаниях, нежели в обладании. Вы говорите, золотом можно намостить дорогу куда угодно; им можно купить людей. Вы делаете слишком много чести людям, друзья мои: стоит ли покупать простую грязь за золотистую грязь? Стоит ли платить золотом, за что не дал бы я железного гроша? За улыбку, высиженную зевотою? За пожатие руки, привыкшей к взяткам? За поцелуй Иуды с рукавами a la folle?26 Люди готовы продавать, продавать друг друга и сами себя; жаль, что я не торгаш и не покупщик тел и совестей, и, признаюсь, по самому верному расчету: тот, кто отдается напрокат за деньги, не стоит денег. О, я знаю людей! знаю до подноготной. Плюй им в лицо, только золотом, – и они станут тебе кланяться. Да по мне уж менее презрителен тот, кто подличает из барыша, нежели тот, кому лесть и ползанье нужны как хлеб насущный.
А между тем золото – солнце большого света: только в его лучах замечают достоинства, только в его призме исчезают недостатки. Блесни оно, и ему навстречу все зачиликают, как пташки, и лица красавиц распустятся улыбкою. Невольно увлекает сердца и головы вихорь золотой пыли. Золотой мешок – идеал красоты, колодезь ума, Протей27 любезности. У богача все мерзости – извинительные, все ошибки – образцовые, все дела достойны подражания, а слова – памяти. И постичь я не могу, и ничего глупее в мире не нахожу уважения людей к богатству. Уважайте ум, любите остроумие: один учит, другое веселит вас. Уважайте силу, – это естественно: она может защитить или истребить вас. Но ради самого Маммона28 скажите, что даст вам богач за ваши униженные поклоны, и умильные облизни, и одобрительные усмешки? за все ваши поддакиванья и наглую лесть? Что? Стол его без прибора для тех, которые целят пообедать, а не полакомиться. Круто его крыльцо для чахоточной груди искателей покровительства. Крепки затворы сундуков: кошелек завязан гордиевым узлом на ссуду. Сердца не размочить и слезами. Оно – глыба земли, из которой не высечешь огня, не источишь воды и не вырастишь макового зернышка. И пусть я стал подобным этому истукану – богачом; и пусть я топчу всею тяжестью золота прежних своих совместников. Мне поклоны гордецов; мне ласки милых; для меня зажигаются лишние свечи на вечерах, лишние искры в глазах невест; для меня тратят, наконец, все ласкательства, приготовленные для гораздо важнейших случаев; но скажите, куплю ли я на звон денег вместе с чужими ласкательствами веру к ним? Я был, я жил в этом свете – он видел меня – и не заметил. Красавицы меня слушали – и не оценили. А я был тогда свежее умом и на лицо; был добрее, чувствительнее, пылче. Я готов был обожать, обоготворять их; отдать за их любовь не дрянное золото, а кровь сердца, покой души, самое небо.
И все это миновало! Не воскресить юности дождем Данаи29. Прочь, змей-искуситель, прочь! Ты мог бы обольстить меня в моем раю, в моей юности; но теперь уже поздно. Не верю я светской дружбе, еще менее светской любви; дружбе, которая ступает с гривны на гривну30; любви, прилетающей не иначе как на бумажных крыльях из банковых билетов. Не верю и славе, которая разбегается врозь или улетает парами. Теперь дорылся я до грязи, которою питаются корни лавра и мирта, так гордо играющие в воздухе. Теперь я видел страшное лицо истины без покрова. Страсть к богатству, змей-искуситель, язви меня в пяту, она на голове твоей! До сердца моего тебе не достать.
Но неужели в этом мире нет ума, чье одобрение лестно поэту? Нет сердца, чей вздох тебе отраден? И поэт, ты схоронишь в землю дар небес, талант свой? И человек, ты выбросишь душу в пустыню без сочувствия? Неужели не одушевляет тебя мысль, что пылкий юноша за чтением твоих чарующих страниц забудет урок свой, светский человек – званый пир, красавица – час свидания? Что твои вдохновенные творения зажгут светлые мысли в голове еще самому себе незнаемого поэта, очистят огнем своим душу власто- или корыстолюбца, пробудят сладостные, святые чувства в груди невинной девушки?.. Может быть, она задумается над твоими мечтами, и ее прелестные томные очи наполнятся слезами, и она вспомнит тебя со вздохом, и тонкий жар, проницающий весь ее состав, вспыхнет на сердце мыслию: «Как страстно любил он! Как, должно быть, приятно быть так любимой?.. О!»
Вы хотели этого, жестокие друзья, – и я увидел ее; да! я был с нею, я обворожен ею. Но разве не видали ее вы? Разве не было у вас очей, чтобы любоваться красотою Лилии, или ума – постичь, или сердца – полюбить ее? Счастливые слепцы! Хладнокровные… Нет, мало этого, – бескровные счастливцы! – Вы знаете Лилию давно и можете преспокойно, пребеззаботно спрашивать товарища: «Не правда ли, она недурна?» – точно так же как вы бы спросили: «Не правда ли, что этот фазан недурно зажарен?»; можете произносить ее имя, не трепеща от удовольствия, не бледнея от ревности! И все равно для вас, скажет ли он «да», скажет ли он «нет», и как произнесет он свое «да» или «нет»; все равно, если тот и ничего не ответит. Недурна! Только недурна? Боже правый, можно ли так бессмысленно играть словами? Неужели прекрасное – лишь отсутствие недостатков? Неужели ангельскую прелесть можно заключить в эту грязную черту отрицания? Недурна! Жалкое наречие привычки!
И между тем где сам я найду слов девственнее снежного пуху, еще не запятнанного прикосновением к земле? где возьму имен, достойных ее, не растленных еще дыханием человека? Что сделали мы из всех выражений удивления, страсти, нежности? Ожерелье распутницы! Ковер для вытирания ног! Поэты, поэты, сколько драгоценных жемчужин распустили вы в дрянном уксусе! сколько звезд утопили в луже!
Да если б даже слова были краски, а живопись была зеркало, мог ли бы я дать этому лицу жизнь и этой жизни душу? Нет, Лилия, ты невыразима! Тебя нельзя забыть и невозможно вполне припомнить.
Скажи, ровесница цветов, когда успела ты украсить свой ум такими здравыми познаниями? как умела сохранить на сердце самый пух невинности от налета ранних пташек – обольщений? Эти воробьи расклевывают чувства светской девушки не в плоде, а в почке, распаляя воображение пряностями похвал, слогом модных романов, вихрем танцев. Скажи, по какому счастию не разучилась природе в большом свете, который есть ложь и притворство во всем, начиная с нежности молодой маменьки, спешащей по Невскому, с эмалевыми часами на руке, кормить грудью сына, до скорби знатной дамы по муже, вымеренной длиною траурного хвоста, – в свете, где приветы, и слезы, и улыбки выучены наизусть, примерены к лицу заранее? Ты не так, Лилия? Покорная влиянию минуты, ты смеешься от сердца, не прячешь и не высказываешь слез умиленья, не запрещаешь себе краснеть от удовольствия. Ангел, сосланный на землю, чтобы убедить неверующих в добродетель с красотою, можно ли узнать твою душу и не полюбить тебя?
А я? Странно, непостижимо это, едва ли вероятно; мой первый взгляд, упавший на Лилию, был уже лучом любви, как будто я увидел ее сердцем, а не глазами! будто не зрение отразило ее милый образ в душу, а душа зажгла его на чувствах. Казалось, он очнулся во мне из магнетического сна и расцвел вдруг из неясной мечты в живую действительность. Не мое ли сердце было его отчизною? Так коротко, знаком и радостен мне этот пленительный образ. Миг, в который я взглянул на Лилию, обдал меня всею свежестью первой встречи, всей отрадой желанного свидания. Он был нов и таинствен, как надежда, а между тем сладостен, как награда. «Увидеть» было близнецом «полюбить», – но какое сравнение передаст неделимость, одновременность этого чувства??…
И тихо, отрадно, торжественно было это мгновение; да! тихо, отрадно, торжественно, как миг восхода солнца, когда оно каплей света чуть брызнуло на край востока. И ярче, каждый миг ярче растекается по небу эта лучезарная капля, блещет, зажигает небосклон, объемлет и пронзает землю лучами, топит ее в волнах тепла и света. Так взошла в моей душе роковая звезда этой страсти, не слышимая, чуть видная при восходе, светлая и пламенная потом. Теперь стоит она на своем бестенном полудне, и никогда, никогда не сойдет она с полудня. Одна смерть будет ее вечером; ее закат – могила; ее могила – вечность. Жизнь моя прервется ранее любви… Дайте мне уверовать хоть в это. Неужели и та жизнь обманчива, как здешняя?..
И зачем я так часто бывал, так долго беседовал с Лилиею? Зачем вниманием крепил на себя чары ее слов, упивался огнем ее глаз – огнем, затепленным прямо на солнце? И сколько раз с орлиною дерзостью хотел я вглядеться в них, – хотел и не мог! А между тем у ней очень кроткие взоры: они не пронзают, а только ласкают сердце и, как ароматная слеза, капают в глубь его. Индейцы верят, будто жемчуг родится от капель дождя, запавших в морские раковины; и почему ж нет? Я сам, как ревнивое море, берегу и лелею в тайнике души драгоценные для меня взоры Лилии. В них мое сокровище, в них единственный подарок милой, и могу ли ожидать, посмею ли требовать большего, когда я трепещу промолвиться роковым объяснением! И к чему послужило бы оно, что могу я высказать ей словами, если она не поняла моих взоров?
Мне казалось, однако ж, эта задумчивая грусть, этот летучий румянец, этот голос, прерванный вздохом… Нет, Лилия, нет; все это мечта самолюбия. Ты не должна, ты не можешь любить меня: природа разделяет нас гораздо более, чем судьба. Можно еще умолить людей, можно покорить себе обстоятельства, но самый огонь неба не силен спаять булата с амброю. Никогда любовь, какой я жажду, не зажжет твоего воздушного состава; не кровь, а свет льется в этих жилках; твоему сердцу не вместить и не вынести всех мук и восторгов страсти. О, не понимай моих взоров, Лилия, не угадывай моих желаний, и да сохранит тебя небо от роковой ко мне взаимности! Нежный цветок Севера, ты увянешь под моим знойным дыханием. Я истерзаю тебя ревностью, истомлю своими бешеными ласками, сокрушу в объятиях, поцелуями выпью жизнь. Несбыточной мечтою была моя дума, будто я могу быть счастлив твоею безмятежною любовью, Лилия; будто моему усталому, разбитому бурями сердцу-горюну отрадно и сладостно будет забыться дремотою на груди подруги, зыблясь на ней, будто в колыбели младенец. Прислушиваясь к твоим мыслям прежде слов, любуясь душою твоей прежде лица, я воображал иногда, что мои мятежные чувства уникают под твоими ясными взорами, как злые духи под кропилом, что я дышу твоим спокойствием, вкушаю какую-то неведомую тихую негу. Тогда очарованный круг прелести, обнимающий тебя, горит мне венчиком святыни, перед тобою тогда я благоговею, как в храме. Но вдруг придавленная на время лава прожигает снег, увлекает, пепелит сердце. И отчего все это?.. отчего? От ресниц, стыдливо опущенных, от косынки, спахнутой ветром, от колебания локона, который то гасит, то раздувает румянец щек, от ножки, бегляночки из-под платья. О, тогда кровь моя пенится и брызжет в голову, как шампанское, падучие звезды крестят в глазах, громко бьются все пульсы! Тогда я готов упасть к ногам твоим, как преступник, готов броситься, как зверь на добычу, и сжечь тебя поцелуями, задушить на сердце! И потом я впадаю в какое-то неизъяснимо сладкое изнеможение, в доброту без границ. Каждое дыхание принимаю я тогда как подарок; могу снести обиду без гнева. Ты говоришь мне, Лилия, и твои слова звучат словно родная песня на чужбине. Ты поешь, и я слушаю со слезами то, что поешь ты с улыбкою. Уходишь, и я гляжу вслед тебе с грустью, но без тоски. Ты здесь, и я чувствую твое приближение не слухом и не глазом, – нет! какой-то магнетический холод пробегает по телу, какая-то радость по сердцу; оглядываюсь – это ты, Лилия, легкая, прелестная, неуловимая, подобная видению прерванного сна поэта!..
Нет, Лилия, ты лучше всякого сновидения; я ненавижу этих чародеев, этих коварных Армид!31 Они бог весть куда заносят сердце в мыльном своем пузыре, мыкают его сквозь тридевять чудес и высаживают на берег, на котором все возможно, кроме полного наслаждения, где счастие убегает уст, как волны су раба32. «Добрая ночь!» – говорила ты прощаясь? Но думала ль ты, Лилия, так невинно, младенчески произнося эти слова, что они падут семенами бури в грудь мою? Счастливица! ты не ведаешь, засыпая без тоски и пробуждаясь без сожаления, сколько раз твой милый образ прилетал возмущать мою душу! какие блестящие и ужасные мечты лелеяли и топтали мое сердце! То одеяло тяготело надо мной как свинец, то постель волновалась как море, то изголовье дышало пламенем. И все ты, Лилия, носилась перед очами неотступно по черной туче ночи и сквозь алый полусвет зари, ты, очаровательница, со своей холодною красою, с кудрями, веющими около словно колосья северного сияния, с улыбкою словно луч месяца, играющий по льду, с голубыми вечно кроткими очами…
Но я пробужден жаждою, неутолимою жаждою неги… Куда ж ты скрылась, Лилия? Где ж найду ответ любви моей? Воля моя не сблизит с тобою; самый сон не может придать тебе пылкости. Внушать, а не делить любовь рождена ты, а я хочу целого Юга, целой Африки любви. Не для меня мерные ласки, не для меня счетные поцелуи. Жажду пить наслаждения через край и до капли, – пить не напиться! О, дайте мне черных, бездонных глаз, которые поглощают сердце в звездистой влаге своей, дайте уст, которых ароматное дыхание упояет пламенем, дайте вздохов, освежающих лучше ветерка в зной лета, дайте слез восторга, сладких, как роса медвочная, и отрадных, как спасение друга, дайте поцелуев, которые расплавляют кровь в нектар, улетучивают тело в душу, уносят душу в небо!., долгих поцелуев с трепетом страсти, с нежными угрызениями! Испытала ль ты, Лилия, всю сладость поцелуя, эту высокую поэзию чувств, это девственное, хотя не душевное, наслаждение, не отравляемое ни страхом, ни раскаянием, – наслаждение, в котором сливаются все заветы и обеты любви, все надежды и воспоминания блаженства; миг, в который ощущение разнообразно, воздушно, как мысль, и сладостно, как самозабвенье; святыня, которою творец подарил одного человека? Да, Лилия! полюби меня, как я люблю, и ты разделишь со мной эту роскошную тайну, сердцем на сердце, сбросив прочь все украшения, кроме своей стыдливости. Новый Прометей, я передам тебе огонь, похищенный с неба33, и каждая искра его вспыхнет на тебе новою прелестию. Второй Пигмалион34, я…
Я безумствую. Скорее можно одушевить мрамор, чем лед!..
Тихие воды глубоки!
Что, если?..
Пустая надежда – родовое имение глупцов!
Молчи, молчи, бедный разум.
Сентября, – дня, 1834.
Крепко устал я. От ночи к ночи не слезал с коня. Фуражировка была очень удачна35; мимоходом спалили три аула; раза два был в жаркой схватке. Застрелил одного шапсуга36 из пистолета; он кинулся на меня с шашкою, но заряд иголок вместо пули прошил кольчугу и самого чуть не насквозь. Спасибо за эту выдумку кабардинскому абреку37, Адли-Гирею. «Надо бить зверя, не портя шкурки», – говорил он; чертовская расчетливость!
Насилу дочел сейчас четвертую песнь Дантова «Paradiso»[176]38. Отчего так пышен твой ад мучениями и так скучен твой рай иносказаниями, padre Dante?[177] Не оттого ли разве, что имя Лилии вкрадывалось везде вместо Беатрисы и ее глазки сверкали между стихами твоими? Не хочу верить проклятому англо-итальянцу, который доказывал, что Дант под заглавным В con ICE[178] подразумевал владычество Австрийской империи (ведь он был проповедником и пророком ее в своей родине!)39. Едва ли тот, кто написал:
Beatrice mi guardo con gli occhi pieni
Di faville di amor, cosf divini,
Che, vinta mia virtu, diedi le reni,
E quasi mi perdie con gli occhi chini.
Беатриса глядела на меня очами, полными столь
божественных искр любви, что моя твердость
предалась бегству; даже потупленные взоры ее
меня мертвили!40 –
едва ли, говорю, он мыслил об отвлеченностях и посылал свои огнепернатые стрелы на ветер! Впрочем, воображение поэта всесильно41: оно претворяет свечку в звезду утреннюю, кроит радужные крылья ангела из пестрого плаща. Не разрушайте хрустального мира поэта, но и не завидуйте ему. Как Мидас, он превращает в золото все, к чему ни коснется; зато и гибнет, как Мидас, ломая с голоду зубы на слитке42.
Вследствие сего я бы посоветовал одному человеку зарубить на носок, – а этот человек едва ли не сам я, – что обыкновенные котлеты гораздо выгоднее для смертного желудка, чем золотые котлеты, и что на земле милее кругленькая Ангелика, нежели недоступный неосязаемый ангел.
Кстати об аде: научите меня, почему география человеческих предрассудков заключила его в сердце земли? О самолюбие, самолюбие, где ты не повторяешь себя! в чем не находишь своего микрокосма и тождества. Однако же и рай в сердце человека, а он ищет его над головою.
…Отдай мой рай, отдай мой ад,
Отдай мне молодость назад!43
Вечером, день после.
Кто мне даст голубиные крылья слетать на темя Кавказа и там отдохнуть душою? Не знаю сам, отчего к ним жадно стремятся мои взоры, по них грустит сердце. Не там ли настоящее место человека?.. Там он не на земле, но уже выше земли, в природе, но уже обнимает природу сверху и широким образом. Хребет гор – достойное подножие человеку, достойный порог небожителей. Но взгляните туда, – только в девственной ризе снегов дерзает земное величие всходить на небо: прекрасный иероглиф довечного завета, что только чистой душе дано вкусить неба, душе, которая смогла оледенить пары земных страстей священным холодом благоговения, убелила их раскаянием и молитвой и превратила свой тленный венок из земных наслаждений в лучезарное сияние мысли, в царственный венец, осыпанный молниями откровения!
Нет, я не достоин вас, главы Кавказа! Моя одежда не снег бесстрастия, а грозовое облако…
Но орел ширяется выше туч, а он младший брат моей мысли: ей нет высоты недолетной.
Я ваш поклонник, если не гость, любимцы солнца! Вам дарит оно первый росистый поцелуй и последний прощальный взор свой. Вам и я посылаю приветы на заре и по сумеркам; вами любуюсь, когда золотое солнце и звезды серебряные горят на голубом щите неба.
Свежи цветы твои, Кавказ, живительны ключи; дубровы тенисты; но не одно величие твоих огромов44, не одна прелесть растений, не только удальство твоих детей заманивают к тебе: нет, пытливый ум любит тебя, как приют столь дивных тайн, столь высоких дум!.. Воображение силится понять рев водопадов и шепот пещер, разверзающих, как сфинкс, гортань свою45, хочет выкопать из циклопеанских гробниц46 имена стлевших там героев, вглядеться, в туманном зеркале древности, в лица давно мелькнувших поколений, может быть предков наших, и жаждет прочесть на изломе скал, брошенных как надгробья над веками хаоса, чудную летопись мирозданья.
Гляжу на перламутровую цепь гор – и не могу наглядеться. Скажите, чего тут нет? Расскажите, что есть тут? Невозможно. Дно ада, опрокинутое на землю, обломки рая, одичалого беглеца с берегов Тигра47. Холмы – бархат ковров хорасанских48; ледники, граненные как хрусталь воображения; зубчатые, волнистые вершины – прелестная корона земли, затаившая в себе все звезды ночи, все рубины зари, все золото солнца, сродненные во что-то неизъяснимо прекрасное, и это что-то сливается с синью небес, мерцает сквозь дымку отдаления, – и вот исчезло, и вот возникло опять бледной радугой облаков, – и не облака ль это столпились горами? не горы ли разлетаются подобно парам? Все так неясно, так неопределенно, так безгранично: высокий идеал романтизма!
Очень люблю Кавказ, люблю мою родину, люблю тебя, Лилия, – и как люблю! Но в созерцании гор, – не знаю, чем это делается, – сплавлено для меня все мое былое, настоящее и будущее. Вот, кажется, бронзовый конь Петрова монумента гордо скачет передо мной по утесам, и звезды брызжут из-под копыт. Вот величавый Кремль вырастает из холма, и муравленые, узорчатые башенки49 его распускаются в высоте золотыми маковками. А там, а здесь, вблизи и вдалеке, перед глазами и в сердце, опять ты, очаровательница, – всегда ты!
Но печальны все эти образы, повиты крепом и кипарисом. для меня вчера и завтра – два тяжкие жернова, дробящие мое сердце. И скоро, скоро это бедное сердце распадется прахом: я это предчувствую; недаром бой часов по ночи стал будить меня иногда, словно стук заступа в гробовую кровлю. Заснуть навек, умереть? Так что же! Сейчас приди за мной смерть, и я подам ей руку с приветом… Обнаженная жизнь моя – такой же остов, как она сама; живой, я свыкся уже с ночью и с сыростью могилы. Тому красна жизнь, у кого настоящий миг плавает всегда в радостях, как роза пиршества в благоуханном фалерне50, у кого перед очами летает вереница надежд; а у меня одно забытье – наслаждение, одно сомнение – надежда. Провидение дает человеку в пору счастья удовольствия, а в пору злополучия – мечты; но судьба давно пожрала первенцев моего сердца, – а другие изменницы покидают меня сами. Нет услышания моим мольбам, на зов мой нет ответа! Разлука передо мной, и около, и за мною – горькая разлука с родиною, с радостями жизни, с милою душе.
И есть люди, что дивятся моей безрассудной отваге. Да разве не был я храбр, когда еще ценил жизнь, когда желал расцветить, увенчать ее? Что же остается мне делать теперь, когда я презираю существование более, чем сперва презирал гибель? Со всем тем пример самопожертвования и бесстрашия живет долго, заслуга – всегда. Пример – самое красноречивое убеждение и самый одушевительный приказ. Храбрые умирают скорее и чаще других, но память о них долго хранится в дружинах и увлекает в пыл боя, как обрывок знамени.
Грустно. Листопад не в одной душе моей, но повсюду. Блеклые листья роятся по воздуху и с шорохом падают в Абин… Мутная волна уносит их далеко. Замечательно, что листья осенью переходят по всем цветам радуги – из зеленого в голубоватый, потом в желтый, в оранжевый, в красный, и облетают. Не таково ль и воображение? Мало ему луча небесного; надобно, чтобы он отражался под известным углом.
В цветущее время Венеции суд и расправа гражданских дел свершалась там только по воскресеньям: пример, достойный подражания и уважения, сказал бы я, если б не знал, что одна торговая жадность венецианцев была виной этой выдумки, если б надеялся, что чернила ябеды не запятнают святыни. В самом деле, можно ли достойнее почтить праздник Бога правды, как не защитою слабого от сильного, как не карою вредного преступления? Суд не работа, а священный долг перед Богом и людьми.
Несчастна? Ты несчастна? Кто ж после этого поверит всем залогам и вероятностям? Кто бы подумал, что та, которая одним взором, одним словом может осчастливить каждого, не имеет сама крохи счастия! Я, однако, думал, подозревал это. У тебя вырывались слова, пронизающие душу. Среди резвого разговора находили на тебя мгновения невыразимой грусти: я уловил, я угадал это пролетное сдвижение бровей, это судорожное сжатие губ, это задумчивое колебание головы, – они отзывались во мне каким-то болезненным ощущением. Лилия несчастлива! Эта дума вырывает из груди сердце. О, если б я мог переплавить каждую каплю своей крови в минуты благополучия, я бы выточил ее для тебя безраздумно, бескорыстно, и последняя струя моей жизни пролилась бы в холод могилы с благословением судьбе. Может быть, ты украдкою плачешь теперь, и я не могу улелеять тебя в радость, погасить лобзанием очи, горящие слезами, развеять вздохами печаль! Тяжело быть самому несчастным, но видеть тоску того, кого любишь, и не мочь, не сметь разделить его горя – это просто мука! И пусть мы сблизимся, пусть ты полюбишь меня, – ведь сердца несчастливых легко отверсты взаимности, они жадны излиться одно в другое! – чем отплачу я за твою искренность и горячность, кроме лишних печалей? Какую надежду принесу тогда на зубок новорожденной любви?.. Пепел и грезы! Нет, Лилия, тысячу раз нет! Будь я даже уверен в тебе, я не возмущу тебя признанием. Твое спокойствие для меня священно. Я ли подарю тебя, взамен житейских горестей, мертвящею тоскою разлуки, я ль, который падаю под ее терновым венком, несокрушимый прежде под жезлом судьбы! Мне бы отрадно было подать, пожать тебе руку, отклонить, притупить собою шипы на пути твоей жизни, устлать ее любовью, укрыть, согреть тебя душою своей в зиме света, – и что ж? – раз только встретились дороги наши и бегут врознь навсегда. Да будет! Станьте ж непроницаемы очи мои, как тюремные окна, уста безмолвны, как могила! Истлевай сердце без дыма и пламени!
Мило негует роза с тиховейными ветерками и в благоуханном поцелуе передает им свою душу; а между тем червяк уже подточил ее стебель. Драгоценный алмаз манит взоры красавиц и поклоны корыстолюбцев; но химик наводит на него свои зажигательные зеркала, и звезда земли – уголь! Высоко ширяется в поднебесье орел, купает крылья в радуге, хочет закрыть ими солнце, – и на земле уж все мое, думает он, – и вдруг откуда ни возьмись зашипела стрела, ветка, только что оперившаяся, на которой он отдыхал не далее как вчера, – и властитель воздуха, пробитый ею, издыхает в грязи, игрушкою ребятишек!
И вот символы трех идолов, трех летучих целей человека, за которыми он гоняется, ползает и скачет целый век, которым в гостинец приносит тело и совесть и самую душу, о которых мечтает в разгаре юношеских страстей и в бреду предмогильном. Люди совестливые зовут этих идолов собирательным именем – «счастие»; я буду откровеннее, – или подробнее, – я переведу слово «счастие» словом «наслаждение» в трех лицах – любви, богатства, власти. И каждое из них для нас то цель, то средство, и каждому из них имя – легион!
Коварный дух желаний уносит душу нашу на темя гор и говорит: «Смотри, любуйся, выбирай: мир богат и необозрим: поклонись мне – и все твое!» Какой смертный возразит ему: «Vade retro, Satana»?[179]51 Мы падаем в ноги искусителю и ставим годы жизни на карту. Бесстрастная судьба с ужасною улыбкою на устах мечет банк свой. Роковой баламут подобран52, но она хочет заманить неопытных. Соника53 – и раз за разом падают валеты и дамы налево! Первый банк сорван.
Но во всем положен человеку предел, за который не перейти ему без казни. Прекрасно дерево наслаждений, сладки его яблоки, но берегитесь прокусить их до сердца: у них сердце – яд тлетворный, мучительный, убийственный яд! Распутник скормил душу и силы своей обезьяне, любви, и в цветень54 жизни чахнет дряхлый, бессмысленный. Он уже в самом себе схоронил чувственность, для которой пожертвовал всем. Рядом с ним любовник – мечтатель, который без боя дался в рабство преступной или несбыточной страсти, который забыл, что он человек и сын отечества, гибнет в келье умалишенных, угрызая цепь с жажды поцелуев Своей Элеоноры55. Винолюбец задыхается водяною. Богач-лакомка умирает на рогоже мучеником пресыщения и расточительности. Богач-скупец нищенствует с боязни обнищать и замерзает от холоду, от бессонницы у сундука с деньгами. Но пусть в наш век самое сребролюбие роскошничает, дает пиры из барышей и, для покровительства, прячет лохмотья свои под батист, пакует себя в английское сукно; неужели ж вы думаете, что миллионер-откупщик менее скряга, чем миллионер-ростовщик? Напрасно! Вся разница в том, что один считает восковые, а другой сальные огарки. Поверьте мне: он мучится каждым куском стерляди, на которую звал вас; зубы гостей, отличаясь над страсбургским пирогом56, жуют его сердце. Не шамбертеном он их потчует57, а своею кровью; наливает – и следит каждый глоток и раскидывает на мыслях, как на счетах, сколько процентов принесет ему бутылка, а сам мечтами загребает золотые горы, хочет выпить весь Урал с его песками, сбирается проглотить целиком всю Индию, – и что ж? – захлебнулся, глядишь, одним бочонком червонцев, подавился кораблишком, истек векселями – и лопнул, он банкрот! А там мятежный честолюбец гибнет под колесницею или на колесе. А там властолюбивый вельможа, захватывая власть над другими, теряет ее над собою, с ней доверие царя, затем даже наружное поклонничество толпы. Презренные орудия его прихотей становятся орудиями его казни, насмешки и проклятия провожают в опалу. А там завистливый царедворец сохнет на одной ножке, оттого что дождь милостей льется на тех, кто его достойнее; а на беду целый свет достойнее его. А там изнывает в забвении сочинитель, привычный дышать дымом похвал, с комическою горестью видя, что его прежние кадила коптят уже новых кумиров. Но кто исчислит все терзания желаний и обладания, начиная с полководца, читающего в газетах свои военные ошибки, доказанные яснее дня, и победы, смешанные с грязью, или в приказах повышения соперника, до бульварного любезника в отчаянии оттого, что у приятеля лучше его бекешь58, а у него краснеет нос на морозе в решительную минуту встречи с графинею N? Добровольные мученики то славы, то моды, мы страстны к изобретению орудий на собственную пытку; мы страх любим поджаривать себя на малом огне прихотей, не замечая того, что раздуваем его в пламя раскаяния; и дивитесь в этом правосудию провидения: мы казнимся всегда и неизбежно тем же, чему предались без меры, – непременно тем самым.
А между тем есть цветы, девственные как розы денницы. Есть алмазы столь же ясные, как звезды небесные. Есть жезлы и венки власти и славы, цветущие благословением народов. Желать их искать, добывать и потом лица и кровью сердца мы стремимся природою, но чтобы они просияли нам радостями невозмутимыми, радостями, каплющими прямо с венца Божия, надо самоотвержения для любви, благодетельности для богатства, того и другого для власти, а то и другое есть два слога любви, любви к ближнему, переливающейся из единства во всемирность.
Кто же посмеет сказать, что истинная любовь есть бренная страсть? Напротив, она есть чувство бесчувственной, душа живой, бог одушевленной природы. Да, бог: это собственные слова Спасителя59. И можно ли иначе назвать эту разумную силу, которая заставляет цветок увядать от неги зачатия, велит влюбленному соловью отдавать свои поэмы дебрям, учит кровожадного тигра ластиться, стремит былинку к родной былинке и произращает из них то кристалл, то деревцо, то животное, плавит металл с металлом ударом электричества, внушает неизменное постоянство магнитной стрелке? наконец, проясняет души человеческие, созывает, мирит, роднит их, сливает в одно прекрасное, почти небесное бытие? наконец, сгибает пути сфер в обручальное кольцо около перста Предвечного!!!
И мне ли, существу в высшей степени раздражительному и пылкому, не покорствовать такому закону, выраженному пленительным голосом Лилии и ее небесным взором? О, встреча с нею – поцелуй огня с порохом! Я загораюсь тогда как существо и как вещество. Каждый волосок тогда оживает на мне отдельною жизнию, и все, начиная от самой ничтожной капли до высокой думы, отзывается во мне сладостью любви. Миллионы сердец трепещут в груди, миллионы звуков брызжут сквозь поры, и душа под перстами какого-то ангела звучит и ропщет дивною гармониею, будто огнеструнная лира!
Трансценденталисты находят в человеке сокращение всего мира60. В тебе, Лилия, нахожу я, напротив, только изящную, возвышенную, прелестную природу. Не весна ли твое дыхание, не денница ли румянец, не горный ли снег белизна? Разве не отдало небо восточную синету очам твоим, а взорам звезды – звезды, каких не видал до сих пор вдовый край Севера[180]61. Станешь ли – и легкий стан твой зыблется как облачко! Ступишь – и будто зовешь на бег ветер! Губки твои, эти розовые, лучше, нежели розовые, губки – полу разверстые и трепетные, словно чашечка цветка под первым лучом солнца, под утренним повевом зефира! Они ждут, кажется, поцелуя, чтобы расцвесть улыбкою, чтобы выронить, как росинку, слова отрады.
Прочь!.. Не смущайте меня, воспоминания; желания, не жгите! Вы так неодолимо прельстительны, покуда не помрачены обладанием, не убиты опытом – этим палачом воображения! Долой с моего сердца холодная его рука. Хочу любить и верить, и для того пусть умру молодой; пусть мечты прекрасного закроют мне веки еще непоблеклым крылом своим.
Да, грустно сознаться в себе и убедиться на других, а надобно: с молодостью умирает в человеке все безотчетно-прекрасное в чувствах, в словах, в деле. Какая ж радость слоняться по свету собственным гробом и рассказывать о добрых своих качествах как о покойниках? Не пережил я своей молодости, а сколько уже схоронил высоких верований! Каждый день развязывает по узлу, крепившему к земле душу. Остаются только слабые путы дружбы и неразрешимые цепи любви; да и той я верю только в себе потому, что она томит, снедает, уничтожает меня. Зачем же не уничтожит скорее!..
2 октября. Ночь.
Нет, еще не умерло во мне сердце; ключи его не застыли до дна; порой, оттаянные думою или звуками, они пробиваются наружу слезами и неслышной, но целительною росою падают на грудь. Сидя у палатки, я рассеянно глядел на лагерь наш, облитый пламенем и тенями заката. Предметы обозначались и опять исчезали передо мной сквозь глубокий дым трубки. Абин широким кольцом охватывал стан слева, и от него тянулась вереница коней с водопоя. Пушки прикрытия гремели цепями, въезжая на батарею; ружья идущей за ними роты сверкали снопом пурпуровых лучей. Там и сям кашевары несли по двое артельные котлы с водою, качаясь под тяжестью. Туда и сюда скакали, гарцуя, мирные черкесы или вестовые казаки. Огоньки зачинали дымиться, и около них густели, чернели кружки солдат. Все будто ожило отдохновением, и, уложив до завтра дневные труды, весело заговорило поле ржаньем коней, строевыми перекличками, нарядами в цепь, в караулы, в секреты, бубнами песельников, полковой музыкою перед зорею, – и под этот-то шум падало за горы солнце, залившись кровью, будто сбитое с неба дружинами огненных, багровых, золото-бронных облаков. Они быстрым лётом теснили, преследовали убегающее светило, – и постепенно померкали ряды их: изредка лишь вонзался в огромные их щиты луч, перестреленный через хребет, – и погасал. Наконец почернело все небо, исчезли и малейшие розовые следы запавшего солнца, – и никто в целом лагере не думал о солнце. Солдаты ластились к огню, на котором кипел их ужин. Офицеры приветно улыбались самовару; кони рыли землю копытом, ожидая овса. Во мне только голод и усталость придавлены были грустным созерцанием. И вдруг раздалась в воздухе одна песня – заветная песня моей юности. О, сколько страданий и восторгов заключено было в каждой ноте, в каждом заунывном ее звуке!
In questi voci lanquide risuona
Un no so che di flebile e soave,
Ch'al cor gli scende, ed ogni sdegno ammorza
E gli occhi a lagrimar Pinvoglia e sforza.
В тех звуках томных отзывалось, не знаю,
Что-то грустное и усладительное! Они проникали
В сердце, они снимали с него всякое огорчение,
Охотили и неволили очи к слезам62.
Плакал и я, невольно и охотно плакал. Слезы утолили душу, давно жаждущую гармонии и поэзии. Есть у меня часы, когда стихи и звуки необходимее для меня, чем в иное время питье и пища. В такие часы люблю я напевать задушевные строфы Гете и Байрона, ямбы Пушкина, терцеты Ариоста63, Муровы мелодии64, даже стихи Вальтера Скотта из «Красавицы озера» или «Последней песни барда»65. В музыкальном отношении Вальтер Скотт едва ли не выше всех английских поэтов. Я читаю их вслух, и благозвучные рифмы льются тихо и стройно, льются как масло олив, подмывают сердце, и оно лебедем всплывает наверх, зыблется и дремлет, лелеемое волнами звука. Никогда никакая проза не заменит нам поэзии, но только для выражения мечты, а не действительности. Действительность так разнообразна, что ей не впору никакой размер. Там, где слово должно рифмоваться с мыслию, созвучие – ребяческая игрушка.
Ночь накрыла землю необъятными своими крыльями. Шипучая ракета взвилась высоко, прямо и с ударом рассыпалась блестками по облаку. За ней взревела зоревая пушка, и все ущелия откликнулись ей, стеная. Затих последний перебой барабана, и все потонуло во мраке и тишине. Только порой вспыхивал кое-где огонек и на миг озарял белые полосы палаток и черные коновязей, или знамена, положенные вкось на барабаны, или рогатки штыков да купы лиц, которые, как духи из Макбетова котла66, улетали вместе с дымом и с искрами. Только мерный оклик: «слушай!» – обходил дозором по цепи. Многозначительно и спасительно слово это, – и кто ему внемлет, кроме часовых? Враг подкрадывается под душу, а мы спим. Совесть или разум кричит: «слушай!», а нам лень поднять голову. Беда, наконец, застает нас врасплох, – и мы давай плакаться на судьбу! Воля у человека не часовой, а вестовой – вечно на побегушках для его прихотей, никогда или почти никогда для пользы.
Облака сомкнулись тяжелым сводом. Ни одной звездочки нигде; со всем тем ночь свежа и тиха; ночь, желанная для счастливых любовников. Не знаю, право, кому взошло в голову расхваливать одиночество ночи, когда она выдумана для взаимных радостей, для пирушек дружбы, для таинственных свиданий любви! Я согласен с Гете: подобно жене, данной человеку в лучшую ему половину, ночь для нас, право, – лучшая половина жизни67. Разумеется, я прибавлю к этому небольшое условие sine qua non[181], за неявкой которого со вздохом опускаю голову на седло и поневоле делаю пушкинское воззвание к заштатному языческому богу:
Морфей, до утра дай отраду
Моей мучительной любви!
Приди, задуй мою лампаду,
Мои мечты благослови68.
Назавтра.
Грудь на груди мать сырой земли засыпал я вчера, и она тихо, тихо дышала мне свежестью, между тем как доброе небо растворяло воздух росою, готовя для смертного живительную атмосферу. Сладкий миг забытья сходил уже на меня. Какие-то безвидные, безымянные мечты-младенцы мило лепетали около моего сердца, карабкались на него, как на челнок, и перевернули его, шалуны: оно погрузло в сон глубокий, плотный, крепкий сон, каким могут спать одни праведники и солдаты.
И не знаю, долго ли, коротко ли спал я, только вдруг пробужден был содроганием и гулом земли. Прислушиваюсь, поднявшись на руку: так и есть – это быстрая прыть атаки! Скачут кругом, рассыпаются врознь, – ближе, вот стопчут палатку! У меня занялся дух; это черкесы! Я вскочил (ночуем мы всегда одетые) и вооружился. Бужу своего товарища: он спит как убитый.
– Валерьян Петрович, слышите ли?
– Слышу, – отвечает он впросонках, – пора и нам, фуражировка сказана в три часа; верно, казаки собираются!
– Нет, это не казаки! Какой черт смел бы строить полки в галоп, и в такую темь, и в лагере, собираясь для тайного набега!
Говорю, а он уж храпит. Я выскочил из палатки… Сердце так и бьется. Все тихо, а ночь темнее, непроницаемее чугуна. И вот опять загудела, загрохотала земля, как бубен, под копытами тысячи коней. Ну вот, кажется, ринулись мимо: хвосты пашут холодом, пена летит в лицо с их удил, шашки сверкают в трех шагах; но почему ж нигде ни выстрела, почему нет дикого крика азиатского натиска, нет барабана тревоги? Неужели могли черкесы тихомолком вырезать часть цепи и решились железом изгубить сонных?.. Постойте! Там, кажется, крикнули: «В ружье!» Нет, это оклик: «Рунд мимо!..»69
И тяжкий гром разразился над горами… Молния хлынула морем. А, понимаю теперь, это гроза! Но никогда обман не был так полон и вероятен: я жил долго в горах, а ни разу не видал и не слыхивал ничего подобного. И мог ли я вообразить себе грозу в октябре месяце? Да еще какую грозу. Ужас: с первого удара целый час не прерывался гром ни на одно мгновение. Он кипел и клокотал подобно аду, сливая в один лютый рев все отголоски ущелий, заставляя трепетать все долины как осенний лист. Когда ж над этим океаном мертвящих звуков и блистаний, раздирающих ночь по всем ветрам, сверкал еще ярче поток молнии, стрелял новый гром с оглушающим треском, – мнилось видеть пролет необъятного ангела разрушения с крыльями из туч, следить размахи жар-меча его, рассекающие Кавказ до сердца; мнилось слышать вещий голос его трубы, сокрушительницы мира, призывной трубы к Страшному, последнему суду. В самом деле, всякий раз, что взрыв перуна озарял заснеженные верхи гор, они проявлялись на миг, как толпы мертвецов великанов в белых саванах, – и потом точно стремглав падали в преисподнюю, отвечая леденящим кровь стенанием на грозный удар осуждения, – стенанием таким пронзительным, что лихорадочный трепет пробегал по всем жилам земли и скалы скрежетали от ужаса.
Постепенно холодело и во мне сердце; молнии зажигались снопами по теменям далеких гор и разгорались, как извержения вулканов; буйный вихорь крутил и бросал капли крупнее винограда, а потом воцарялась опять душная неподвижность в воздухе; земля колебалась и звучала под ногой будто пустая. Я невольно вспомнил о последнем дне Помпеи…70 «Почему ж не погибнуть этому краю от землетрясения и лавы!» – думал я, и думал это не в шутку: гроза бушевала все ужаснее и ужаснее. Никогда и никому не расскажу про думы, которые волновали меня в этот час: люди мне не поверят, а Бог меня видел сам. Скажу одно: в ту минуту, когда я убедился, что все меня окружающее должно через миг разлететься вдребезги и в искры, у меня было странное желание, дикое желание – погибнуть вместе с Лилиею, прижать ее в первый раз к сердцу и потонуть в пламени любви и землекрушения!..
К рассвету мы были уже с отрядом за пятнадцать верст от лагеря. Взяли с боя пропасть сена и просушились от проливного дождя, заключившего ночную бурю, у пожара сожженных нами аулов. Жаль: у меня убили лихого унтер-офицера.
12 октября.
Я тоскую, здесь горечь. Чувствую, что рука судьбы тяготеет на моем сердце, и нет друга, нет родного вблизи, кто бы снял с меня половину бремени. Это одиночество, этот воздух чужбины душат меня, – сегодня втрое, чем когда-нибудь, – необычайно!.. Шапсуги дрались на славу – отважно, упорно. Много храбрых пало с обеих сторон; много пролилось крови на каждую спорную скалу. Перестрелка на час умолкла: отряд остановился для разработки дороги сквозь неприступные прежде утесы. Задыхаясь, весь в поту, насилу вскарабкался я на круть и сел под дерево. Застрельщики мои, раскинутые цепью, улеглись за камнями и кустами, глаза настороже, и палец на курке. Солнце, больное осенью, лишь повременно бросало свои бледные лучи в глубину дикого, необитаемого ущелия, по обеим сторонам которого мы тянулись. Облака стадились по хребтам Маркотча; горный ветер кружил иссохшими листьями; грустная дума запала мне в голову, – грустная и отрадная вместе она была: мне недолюжить, и зачем, в самом деле, разводить водой безрадостную жизнь мою? Я с раскаянием обращался к прошлому, с мольбою простирал руки к будущему: нет ответа, нет привета. Иногда на прежнее можно купить то, что будет: у меня бездна призывает бездну!..71
Глубоко внизу стенал Атакваф, перебираясь по каменьям, ограненным вешними водоворотами. Прямо против меня на другой стороне реки, как погребальный ход, тянулся обоз по утесам; на него укладывали убитых и раненых. Взглянул вверх, – дикий кипарис, опахало мертвецов, простирал на меня венок из ветвей своих, и я вспомнил стих Вальтера Скотта:
Везде зачатки смерти, везде кровь и траур… но почему я впервые заметил это?
Я бы желал отдать последний вздох тому краю, который внимал моему первому крику. Как все младенцы, я плакал, когда родился, но, как немногие люди, живучи узнал о нем. Отравленный напиток – воздух бытия, но в отчизне по крайней мере мы вдыхаем отраву без горечи. В отчизне я бы уложил свои кости рядом с прахом отца моего, – и мягче и легче была б для меня родная земля! Враг не сорвал бы креста с моей могилы; прохожий помолился бы за грешную душу мою по-русски. Если же паду на чужбине, я бы хотел быть схороненным на берегу моря, у подножия гор, глазами на полдень, – я так любил горы, море и солнце! Пускай и по кончине согревает меня взор Божий; пусть веет мне горный ветерок; пусть кипучие волны прибоя напевают и лелеют вечный сон мой.
Дитя, дитя! Прах бесчувствен. В гробу снятся сны не из нашего мира!
Но неужели вы забьете, за клеплете в колоду и это бедное сердце – сердце, которому тесно было даже в груди? Учились ли вы физиологии? Знаете ли, что сердце живет прежде всего в человеке и умирает гораздо после? Не вдруг погаснет оно и застынет нескоро. Смерть превратит взоры в лед, а язык в камень; но сердце долго, долго потом будет еще роптать страстию. Зачем же душить его гробовою доскою, зачем отдавать подлым червям на потеху благороднейшую частицу мою? Лучше выньте его и сожгите: пламень был его стихиею.
И развейте пепел по ветру: пускай летает в поднебесье!.. Оно уж привыкло летать в поднебесье.
И, может быть, какая-нибудь пылинка перелетит за моря и сольется с родной землею… О, тогда весело вздрогнут останки мои в земле чужой!
Ничто не гибнет в природе, умирая, – ничто! не погибнет и лучшая половина меня самого – душа. Но я бы жаждал, чтобы она стала неразлучным твоим спутником, Лилия, твоим ангелом-хранителем. Как бы чисты были сны твои под моим крылом, как покойны чувства и думы! И почему же нет? Я и теперь, одетый в мятежное тело, обуреваемый страстями, готов бы охранять, вести тебя бескорыстно и безупречно; готов купить так же дорого твою непреклонность, как иной твое падение, – теперь, когда малейшая победа над собою мне наносит глубокие, горючие раны.
Когда же не станет меня, не ранее как тогда, пусть узнает Лилия, что я любил ее; но где возьму я слов, чтоб выразить, где найдет она чувств, чтобы постичь, как я любил? Что я отказался от надежды на ее взаимность за ее позднее уважение, что я не хотел напрасными приветами и забегами ни на один миг возмущать ее равнодушия, ее домашнего покоя и для того не пытал в ней моего счастия, – а одно слово, один взгляд ласки мог бы меня осчастливить. Ненасытны, беспредельны были мои желания в жизни, – и я бежал тебя, Лилия; но если ты уронишь хоть слезу на мою память, прах мой будет утолен. Одну слезу, Лилия, – за все мои страдания, – как единственную усладу, единственную награду моей тайной, нераздельной любви; и пусть за то будет вся жизнь твоя ясна, как слеза! Будь счастлива, Лилия… счастлива и за гробом!
Но кто спросит, кто расскажет про меня? Те, кто бы могли, не захотят, а кто бы желал, не может!.. Я сирота и в грядущем.
14 октября.
В один короткий осенний день сколько разных ощущений! Они наподхват вырывали друг у друга мое сердце и забрасывали его то в тихую радость созерцания, то в горячку истребленья, то в холод ужаса. Замечу мимоходом, что шапсуги сегодня в первый раз попытали передавить нас огромными каменьями, скатывая их с крутин, – и напрасно; что я оцарапан стрелою в правый бок; что я был восхищен видом на обе стороны, взобравшись на хребет Маркотча, отделяющий приморье от Закубанья. Позади тысячи долин и ущелий под чернетью теней от гор, под серебром речек, сверкающих от солнца. Впереди необъятное Черное море, со своими приютными заливами, с изумрудными волнами, с утесами, ворвавшимися в их середину. А кругом воины, бросающие победное «ура» на ветер Кавказа в привет знаменам нашего великого царя. И сами знамена шумели ему славу, играли радугой завета для Черноморья.
Теперь следует «зело любопытственное сказание о том, как имярек поражен бысть ужастию велиею, и яхся бегу, и о прочем»73. Не шутя, сегодняшний вечер стоит быть вписан в мою памятную книжку.
Рекогносцировка для устройства дороги реями по крутой горе кончилась на теме Маркотча74. Только три батальона назначены были открыть сообщение с крепостцой Г-м и привести оттуда на вьюках провиант. Полк наш возвратился; я был послан вперед для закупок. Крутой спуск, перестрелка, бездорожье задержали нас, так что к взморью у Суджукской бухты достигли мы в потемках. По сказам проводника, оставалось еще версты четыре до Г-а, а ночь до того стемнела, что тропины в пяти шагах прятались от глаза. Овраги и рытвины беспрестанно пересекали дорогу; терновник закидывал ее своею колючею рогаткою. Отряд двигался медленно и осторожно: тем медленнее и осторожнее, что надо было поберечь раненых, которых везли мы верхом; перевалиться за хребет с повозками не было никакой возможности. И вот мне страх наскучило идти с ноги на ногу и поминутно слушать однообразный гул рогов. «Застрельщики, стой». Все, что было у нас кавалерии, умчалось вперед, посланные генералом известить крепостцу о прибытии отряда, а голод, а жажда и усталость меня томили. Воображение рисовало вдали кипучий самовар и вокруг его разгул стаканов, дымящихся китайским нектаром. Котлеты порхали «там, там в мерцании багряном»75, словно райские птички. Милочки летучие рыбы, про которых мне насказаны чудеса, танцевали на сковороде французскую кадриль на масле; как тут не соблазниться? Я подъехал к одному из оставшихся проводников.
– Тюрк-Абат, катнем вперед!
– Аллах коймасын (Да не попустит Бог)! – отвечал он. – У меня нет заводной головы. Ты лучше другого знаешь, черкесы невидимками вьются около каждого отряда, и чуть удались кто из стрелков – цап-царап, да и на аркан раба Божьего!
Я возразил:
– Натухайцы слабее других горцев76, и в доказательство тому, что они убрались восвояси, нет ни одного выстрела ни по нас, ни по всадникам, которые уехали вперед, а, уж конечно, эти разбойники не упустили бы случая кого-нибудь из них застукать, если бы вблизи были.
– Будь их много, они бы, конечно, напали на горсть наших всадников, – отвечал Тюрк-Абат, – а что скажешь, если их какой-нибудь десяток для дозору?
В инструкции полковникам о кареях против турецкой кавалерии77, данной стариком Каменским78, между прочими чрезвычайно дельными замечаниями сказано: «Пехота, которая вышлет стрелков далее восьмидесяти шагов от фронта, может исключить их из списков». Почти то же можно сказать в рассуждении всадников, выезжающих далее восьмидесяти шагов за цепь в сторону, в войне с черкесами. Кажется, их нет за пять верст, все тихо, а попробуйте остаться на полвыстрела от арьергарда, они налетают как вороны, выскочат из дупла как рысь, как гриб вырастут из-под земли. «Все это так, – думал я, – однакож мне удавались и не этакие штуки. В такую ночь можно уйти от совести, не то что от черкеса».
Тюрк-Абат, как будто возражая на мои мысли, сказал:
– Нет, достум (Нет, друг мой); теперь разве на птице можно перелететь до крепости; на лошади – нет.
Во мне загорело ретивое. Я потрепал по крутой шее своего буланого и сказал:
– Послушай, Тюрк-Абат, ваш Магомет был великий чудодей. Однажды он снял месяц с неба, разрубил его надвое, как пятак, и пропустил половинки сквозь рукава своего кафтана, и опять сложил их, и опять повесил месяц на небо79. Слова нет, штука недурная. Однако наш падишах выкинул поудалее этой: он сорвал Магометову луну с этого неба и положил к себе в карман. Давно ли точил на нас рога свои полумесяц над здешними горами? А погляди-ка вверх, теперь ни четверть месяца не смеет выглянуть. Я русский. Я не барышня. Да и не раз изведал, что и черкес не черт. У него ружье, и у меня не флейта; под ним конь, да и подо мной не собака. Еду один.
– Поехать легко, – возразил хладнокровный азиатец, – но не проехать. Впрочем, у нас есть пословица: «Жизнь – любовница человеку. Кому она мила, тот ей раб; кому постыла, тот хозяин». Твоя воля!
Le coquin a frappe juste[183]. Плеть хлопнула, и в три мига я был далеко, так что, когда обернулся, мне уж не видно было огненной струйки дыма, слетавшей по времени с трубки проводника. Я то скакал, то сдерживал коня, чтобы прислушаться, нет ли шороха или топота. Ничего кругом: ни души, ни искры; только вдали за мной раздаются русские песни как неясное воспоминание. Легкий туман чуть подымался; зато безбрежная ночь чернела все пуще и пуще и, казалось, мигала мне тысячью огромных глаз своих80. Не зная дороги, я ехал почти ощупью, вставал на стременах: нет как нет крепости, – она завернулась, верно, в валы свои, прикурнула под какой-нибудь холмик и зажмурила все свои огоньки, – спит себе и не подаст голосу. Й вот мне стало казаться, будто пни дерев шевелятся, перебегают дорогу, разрастаются великанами, все ближе и ближе, и сбрасывают наконец свой оптический наряд леших, и давай подтрунивать надо мной, как баловни школьники. Иной щипнет за ухо, другой, подкравшись, тянет долой шапку, третий подставляет ногу коню моему, то прыщет в лицо холодной росою, и в каждом дупле, казалось, пищит какой-нибудь Пук или Ариель, защемленный туда за проказы. Лес для меня ожил, населился, заговорил всеми созданиями Шекспировой фантазии и карикатурами Гетевого шабаша ведьм…81 И вдруг вдали передо мною брызнула синяя искра, – верно, блудящий огонек.
– Эй, приятель! – закричал я ему словами Мефистофеля, – посвети-ка мне на дорогу, чем тебе маячить даром!82
Нет, это не блудячий огонек, не светляк зажигает свою искру на листке, это не вечерняя звездочка на краю небосклона: она искрится, разбрасывает лучи, расцветает, – вспыхнула! Бог мой, как это прелестно! Это яркий фалшфейер на люгере83 в привет братьям русским.
Вообразите себе зажженный яхонт над прозрачною зеленью моря, озаряющий волнистым, дымным, голубоватым светом своим и корабль, на котором сиял, и волшебный круг из двух бездн – воды и воздуха, в которых плавал этот корабль. Казалось, все снасти нижутся дорогими каменьями, а самое тело люгера вылито из цветного хрусталя; казалось, весь он зыблется, трепещется, летит, тонет в пучине взор ласкающего света. И вмиг все погасло, все исчезло. Тьма поглотила берег и море и сомкнула над ними непроницаемую пасть свою. Расширяю глаза, чтоб уловить хоть след милого виденья, направляю туда бег свой, посылаю взор за взором в погоню, скачу; и вдруг конь мой стал, храпя, и, фыркая, уперся испуганный плеском моря, которого не видал он сроду. Роняю взоры вниз: новое очарование! Все прибрежье горело фосфорной пеной прибоя. Волны рядами тихо катились на плитный берег, сверкали зубчатыми гребешками своими, ударяли в грудь камней и рассыпались на них огнем и звуками, как поцелуй брата с братом. И каждая рыбка, всполохнутая мною, исчезала в огненном вьюне; и каждая капля, брызнутая с ее живого весла, освещала дно приморья, так что виднелись на нем раковинки, как видны все мысли в глубине души невинной девушки при блеске страсти. Невыразимо прелестным пламенем играли струи этого изумруда, растопленного в сердце природы, и какая-то отрадная свежесть веяла с них… Скажите, мог ли я в такую пору думать об опасностях? Я ехал вдоль берега на волю коня. Говорят, замерзающие, после грызущих мук, впадают в сладкую, неодолимую дремоту оцепенения. Со мной совершалось то же самое… Душа из ледяных объятий света падала на лоно бесчувствия; все чувства растекались забытьём ничтожества. Будто сквозь дрему мелькали и хрустели под ногами белые камни, словно черепы на кладбище. Бледный фосфорический свет моря мерцал мне, как привычное озарение моего могильного мира, и говор волн отдавался в ухе, как понятная беседа собратий мертвецов!
Не таков ли сон вечности? Дайте ж мне скорее морскую волну в изголовье; плотнее задерните полог ночи. Пусть даже бессмертные звезды, не только смертные очи, туда не заглядывают. Пусть не будит меня петух раным-рано. Хочу спать, долго и крепко, покуда ангел не разбудит меня лобзанием примиренья.
Но криком войны был пробужден я: как призраки, возникли передо мной черкесы и, восклицая: «Гяур! ай, гяур!» – кинулись с обнаженными шашками наперерез. Я обомлел от ужаса: мысль попасть в мучительный плен к этим варварам пробила сердце. Но прежде чем успел я на что-нибудь решиться, мой перепуганный конь вернулся на пяте84, я дал поводья, и он, ринутый ими, взвился как стрела с тетивы.
У римлян был закон для воинов: одного врага – победить; на двух – нападать, от троих – защищаться, от четверых позволяется бежать. Я бежал от семерых по крайней мере; бежал не смерти, а позорного плена, – и в первый раз в жизни, – но все-таки бежал. Не хочу золотить того, что и полуды не стоит85: это был явный пример самовластия тела над волею, и этим еще не кончилось. Я скакал целиком86, сквозь терн, через камни и рытвины; и вот в сотне шагов от места роковой встречи конь мой перепрянул через ложе иссохшего потока, поскользнулся на голом камне – и я брык с ним через голову.
Несколько мгновений катясь колесом, я думал отчаянным усилием удержаться в седле. Никакого средства! Конь придавил меня под собою, а между тем крики: «Гяур! гяур!» – жужжали за мной вместе с пулями. Лежа, взвожу курок; наконец удается мне вскочить на ноги, и первым моим движением было приложиться навстречу врагам, чтоб продать им не иначе душу как за душу; но они медлят, они пешком. К счастию, я не выпустил из рук повода. Тороплюсь сесть; конь не дается, бьет, становится на дыбы. Вздор, ты не уйдешь от меня! Полмига после я уже несся во весь опор к отряду; но там ждала меня новая невзгода. Стрелки, послышав конский топот, сочли меня за неприятеля и открыли беглый огонь. Штыки уже сверкали близко моей груди, прежде чем они расслышали мой оклик: «Стрелки, свой идет!»
Это было мое первое, надеюсь и последнее, знакомство со страхом.
Пишу эти строки под кровлею. Как нетерпеливо хотелось мне отдохнуть под кровлею! Удалось – и я жалею о свежей палатке, о ночлеге под открытым небом. Стены душат меня, потолок гнетет; грудь просит раздолья и ветра. В гробу хорошо только мертвым, а эта комната – настоящий гроб.
Четыре дня потом.
Показалась кровь горлом – повестка адской почты! Зовут на получение савана… Не замедлю я, не замедлю! Мне бы не хотелось, однакож, чтобы Лилия видела меня в таком наряде. Женщины очень любят мундиры, за исключением кирасирского мундира смерти: полотняный колет и сосновые латы не красят человека!87
Хочу, и не могу, быть веселым. Нет сна на мое утомление; нет слез на тоску. Мысль о смерти гнездится в душе; порох пахнет ладаном. А мир прекрасен! На расставанье он, подобно коварной любовнице, удвояет нежность, осыпает ласками, является младенчески невинным, плачет неутешно, не хочет выпустить из объятий. Бессердечная прелестница, что сделала ты с моею любовью? А теперь хочешь возбудить мое сожаленье! Великолепная твоя гостиная была для меня пытальней. Не гостем, а мучеником скитался я на твоих пирах. Не для меня там кипели чаши радостей; все блага обносились мимо.
Voir n'est pas avoir[184].
Братья люди, братья Иосифа! один завет вам: не продавайте своего меньшего ни за хлеб в час голода, ни за пряники в праздник. Тяжка ему работа египетская, но вы позавидуете ей на смертной своей постели88.
…Едва ли не Наполеон отвечал на вопрос, какую смерть желал бы он себе: «Самую скорую и самую неожиданную!» Это значит – не надеяться ни на тело, ни на душу. Что за воин, который страшится долгого боя!
Кажется, 23 октября; рано.
Бьют поход! Шапсуги грозно скликаются по вершинам: быть горячей схватке; и я рад этому. Сегодня я бодр и весел необыкновенно. Луч утра стопил долой с сердца весь свинец горя; рука сама хватается за шашку. Вид – чудо: заря перебросила уже розовый шарф свой с плеча на плечо горы, а котел ущелия, в котором таится наш стан, все еще темен и дымен; люди бродят как тени по туманному берегу Стикса89; обнаженные деревья будто вылезают из трещин, в которых спали ночь. Теснина, кажется, хочет задавить нас в объятьях. Утесы-великаны уперлись грудь с грудью, в плитных латах, заржавленных веками, спустили на нас сердитую реку, завалили все тропки обломками, набили частокол дремучего леса, – и все это вздор для русского. Захотели – и притоптали стремнины в широкую дорогу, накинули мосты на пропасти; и с хребта на хребет, с дива на диво пойдем, полетим на пробой. Догоним мы эти вершины: не спрятаться им в облаках! Мы сами будем сегодня второй раз в гостях у неба.
Никогда еще с таким томленьем не ждал я битвы, как теперь. Кажется, за этим хребтом ждет меня Лилия на условное свиданье; кажется, я куплю ее взаимность моею кровью.
Чего ж медлят? что ж не ревут и не прядают по скалам наши горные единороги? Пора, пора! Страстно хочу я кинуться в пыл схватки: только ее обаятельный вихорь может сравниться с упоеньем любви. Были минуты, когда, изнемогая от полноты счастья, прильнув устами к груди прекрасной, невольно роптал я: «Теперь бы сладко умереть». Сладко умереть и на груди славы… умереть теперь же, в этот миг!.. Лил…
То была песня лебедя: его желание разразилось над ним его судьбою. Он был убит, убит наповал, и в самое сердце. Его тайны легли с ним в гроб; немногие цветки из венка его мечтаний отдаю я свету. Пусть обрывает их злословие или участие лелеет: ни для друзей, ни для врагов не покажу я остального. Любовь и ненависть были ему равно гибельны в жизни; зачем же я брошу в их треволнение память друга? А сколько ума, сколько познания насыпано там! Какою теплою любовью к человечеству все это согрето! Но пусть все это не имело бы никакой цены для словесного богатства человека: его действительный быт был лучшим его творением. Душа общества в веселую пору, он не покидал изголовья больного товарища, не спал ночей, ухаживал за ним как нежная мать, сносил все причуды как самый покорный служка. Его рука и кошелек были открыты для каждого: никто не удалялся от его порога с тяжелым словом «нет!» Кто вернее его служил государю словом и делом? Кто бывал впереди его в жаркой битве? Одним словом, кто был достойнее назваться человеком и кто носил это имя с большим благородством?
И мы схоронили юношу, возвратясь в Г-н, схоронили в чужую землю, в виду гор, на самом берегу Черного моря. Кровью залилось мое сердце, когда священник бросил горсть земли на гроб его, когда и моя горсть глухим прощанием отозвалась из могилы… Земля поглотила свое лучшее украшение и тихо сомкнула уста. Все кончилось! Все уж было пусто, когда я очнулся от бесслезных рыданий над могилою достойного друга: только море шумело; только ветер уносил к небу струйки фимиама с кадила вместе с облаком порохового дыма от почетной пальбы. «Вот жизнь и смерть его», – подумал я.
Вадимов
(отрывки)*
Осада*
Заря чуть занималась против твердынь Ахалциха, обложенного русскими войсками. Только в вышине, над морем мрака и дыма, можно было различить зубчатые стены замка и головы минаретов, краснеющие то неверным отблеском востока, то кровавым огнем повременных выстрелов. Замок этот походил тогда на исполинский корабль с обломанными мачтами, реющий по волнам и бьющийся, утопая. Это было в роковое утро ахалцихского приступа, 15 августа 1828 года1. Батареи наши, устроенные против северного вала города, неумолчно громили его целые сутки, во-первых, чтобы разрушить бастион, который прикрывал куртину, обреченную на приступ2, во-вторых, чтоб мешать врагам и ночью исправлять разрушенное. Но к рассвету велено было пальбу разредить, – вероятно, для того, чтобы до решительной минуты утаить истинные замыслы. Батарея правого крыла замолкла вовсе.
На этой-то батарее, окопанной земляным бруствером с короною из туров3, артиллеристы, прикорнув к орудиям, дремали с банниками4 и зарядными сумами5 под рукой. Пальники, воткнутые в землю6, роняли искры на ветер. Подле одной из амбразур спал, сидя на земле, командир батареи подполковник Винградов, завернувшись в шинель и опустив голову в колена. Турецкие ядра, гудя в ночном воздухе, прыгали через его голову; гранаты, брошенные наудачу, лопались на лету или ударяли в ограду, осыпая его землей и осколками, – но он спал.
В это время с холма, отделявшего стан от окопов, прискакал к батарее офицер высокого роста, спрянул с коня, бросил повод в руки барабанщика и наконец доискался подполковника. Добудиться его, впрочем, было не так легко, как найти. Несколько раз кликал он и дергал за плечо сонливца, все напрасно. «Проснитесь, подполковник!.. Иван Ильич! Взгляни, пожалуйста! Не слышит! Винградов!» – наконец закричал он тому на ухо так звонко, что многие канонеры бросились по местам7.
Винградов проснулся.
– Пора, что ли? – сказал он, вскакивая… – К орудиям! Смирно! Батарея, залп будет?
У Винградова был чертовский голос. Бывало, под Эриванью, где он командовал брешь-батареей, чуть раздавался любимый привет его: «Батарея! Залп будет!» – неприятельская стена пустела и крепостные орудия замолкали вдруг. Все бежало долой или падало ниц, пушкари и стрелки: так хорошо знали они голос русского топчи8, так боялись меткости его выстрелов. И тут спросонков он гаркнул прямо по-богатырски: казалось, что клик его покрыл рев пальбы и что дрогнувший над ним свод пороховых облаков сыплется, роняет камни. Как нарочно будто лопнула в воздухе граната на заключение оглушающего crescendo[185] Винградова, и чугунные иверни ее9, форча мимо ушей, вонзились в землю.
– Тише, ради Бога, тише! – произнес приехавший офицер. – Ты до поры до времени переполошишь турок. Я не привез тебе очереди стрелять; я приехал сам от себя хорошенько разглядеть позицию, где бы всего выгоднее и всего короче провести свой батальон, когда пойдем на приступ.
– Только-то? – сказал подполковник, потягиваясь. – Зачем же не попросишь свой орден Персидского Солнца10 посветить тебе в потемках!.. С моими фитилями немного толку. Дай мне заснуть еще хоть минутку, Вадимов. Я не спал трое суток – сон так и морит, так и клонит меня. «Вольно!» – скомандовал подполковник и завернул голову в шинель.
– Нет, нет, Иван Ильич! Стара, брат, шутка. Мне нужны твое знание местности, твои советы, твоя дружба. Может статься, немного минут осталось нам быть вместе на этом свете – неужели же мы бросим эти минуты сну?
Подполковник, еще дремля, подал из-под шинели руку свою Вадимову, и тот сжал ее с чувством.
– Ну да и меня в сторону; время ли теперь спать! – сказал он. – Через час решится участь Ахалциха и нашего войска. Заря осветит славу или бесславие русских… Жизнь многих тысяч идет на одну ставку: судьба уж тасует карты, а ты спишь!
– Пятерка ва-банк! – вскричал, вскакивая, подполковник и протянул к городу жилистую руку свою11.
Приезжий рассмеялся.
– Да, русская рука владыка! Она сорвет хоть какой банк под конец игры; но разве в первый раз русские под стенами Ахалциха? А турки все-таки говорят: сорви прежде месяц с неба, а потом с мечети Ахалциха! Дивлюсь я тебе, Иван Ильич; надо много иметь немецкого равнодушия или чисто русской, беззаботной храбрости, чтобы спать и шутить за миг до кровавой, неверной битвы.
Подполковник с важностию взял за руку приезжего.
– Послушай, друг! – сказал он. – Шутить я стану и в сражении, – у меня такая природа, именно природа, и не более. Это не отвага, не привычка, не хвастовство, в этом не моя вина и не моя заслуга. Это просто широкая кровоносная жила, которая позволяет мне так же легко дышать в пороховом дыму, как на чистом воздухе. Но сплю я перед делом не из бесчувствия, а потому что у меня все в исправности, потому что я уверен в успехе, наконец, потому что я измучен усталостью и бессонницей. Посмотри на моих канонеров: неужели ты думаешь, что они все Волжинские?[186]12 Напрасно! Я уверен, что между ними есть петые трусы, а разбери-ка ты их теперь с храбрецами! Они все храпят равнехонько, потому что равно истомлены, заряжая и надвигая три дня беспрестанно орудия. Теперь зато не пробудит их взрыв никакой бомбы под носом, ничто, кроме моего голоса.
– И всегда было так с тобою? – спросил приезжий.
Подполковник задумался…
– Однажды, да, это было только однажды, – отвечал он после минутного молчания, – что я не смыкал очей, усталый во сто раз больше теперешнего, что я молился всю ночь перед сражением, что я плакал как дитя.
– Ты, ты плакал?
– Я, да, я плакал; но это было в ночь перед Бородинским сражением!! О, то была роковая, грозная, священная ночь для всех русских, а я был русский без примеси, как теперь; но я не был стар, как теперь. Я знал каким-то чутьем, что за той ночью решится судьба отечества, и трепетал за него, как трепещет теперь наш граф за жизнь солдат своих, за русскую славу. Тогда ж не об одной славе, не об одной жизни русских, но о свободе Руси шло дело: о том, быть ли ей или не быть, носить ли нам имя народное, не краснея, или видеть его сорванным, растоптанным в грязи!.. Тяжко было, ужасно было! И вот святой ужас проник тогда все сердца, все умы, от полководца до последнего рядового. Никто не боялся тогда умереть, боялись, что трупы наши не загородят Наполеону дороги к порабощению милой родины. Я бесился, читая в некоторых романах и журналах описания Бородинской ночи: слушать их, так у нас в лагере был тогда чуть не пир горой – и песни да шутки, и смехи да потехи!! Писали это или не русские, или не очевидцы, или какие-нибудь дутики, лишенные всякой наблюдательности, люди, которые даже из крови умеют пускать мыльные пузыри, надутые пошлыми газетными восклицаниями. Неправда ж, горькая неправда, будто мы тогда радовались. С нами был Кутузов, напротив нас был Наполеон; а кто из нас не знал его военного гения, кто не видел его несметных полчищ, его неистощимых средств? Эта безмолвная, тяжелая дума утопила весь стан наш в смертную тишину. Никто не спал. Солдаты заботливо чистили ружья, точили штыки и, готовясь к смерти, надевали чистые рубашки. Шепотом завещали они землякам отнести поклон: кто к жене, кто к брату, кто благословение детям, если вынесет Бог из сражения и службы. Многие менялись крестами и образами. «Крестовый брат! Не выдай! – говорили они друг другу, прощаясь. – Братья товарищи! Не поминайте лихом». Они знали, что завтра будут драться на пороге Москвы, а Москву каждый считал воротами в дом свой; но это не был страх, не было отчаяние: то была гордая решимость умереть за свою отчизну, и умереть не напрасно. Странствующий образ Смоленской Божией матери13 стоял в лагере. Тысячи солдат толпились около него, прикладывались, молились в землю. Всегда коротка солдатская молитва, но в ту ночь она была особенно искрения, потому что солдаты молились за спасение России, потому что русское войско был тогда русский народ. И они набожно бросали последние копейки свои в кружку, благоговейно подклоняли головы под кропило14, умываючись святою водой, готовясь умыться священною кровью; какая ж кровь не священна, пролитая за отчизну!! О, это было умилительно, это было торжественно! С тех пор как брата полюбил я русского солдата15: это самое безропотное существо в самой тяжкой доле; это самое беззаботное в опасностях созданье и, что всего чуднее, самое нехвастливое существо после чудес храбрости, существо, которое за царя проливает радушно остальную каплю крови, отдает Богу остальную лепту!.. Я был тогда вольнодумец, по крайней мере на словах, по крайней мере по моде, но, приблизясь к образу из любопытства, я был увлечен примером… Я пал ниц, плакал горько, молился с верою и едва не с отчаянием… Судьба родных моих, судьба моей родины как чугунное ядро тяготела в сердце; я чувствовал, что одно чудо могло спасти их, а чтобы верить свершенью чудес, необходима пылкая вера! Я поднял голову, и мне показалось при мерцании лампады, будто лик образа с любовию склоняет ко мне свои взоры, будто небесные очи его сверкают слезами, будто уста шепчут слова надежды: мне стало легче, с души будто гора скатилась. «Нет! – сказал я самому себе, – Русь не будет рабыней Франции». И я молился еще, но уже с отрадою. И слезы, и дыханье, и мысли – весь я превратился тогда в молитву!..
– Ты был поэт! – с жаром произнес приезжий, прижимая руку подполковника к груди.
– Я был артиллерийский подпоручик, – хладнокровно отвечал тот. – Я и не забыл тогда этого; я осмотрел все заряды, все скорострельные трубки, каждую ось, всякий винт на лафете16, всякий ремень на упряжи, даже остры ли срезные ножи у бомбардиров17. Так внимательно исполнял в ту ночь должность каждый… и вот засерело утро!
Но не здешнее, не сегодняшнее утро, без зари и тумана, а наше русское осеннее утро, со своею свежестью и запахом павших листьев; с туманами, которые то обдают тебя холодком, то словно одевают горностаевою шубой. Краснее крови встало солнце и озарило вышины Бородинского поля. То была чудная картина… Она врезалась в мое воображение так ярко, так живо, как будто я теперь стою, опершись о колесо пушки, которая уж давным-давно отслужила свой срок, удостоена в ломку и перелита бог знает во что. Лениво снимались туманы, но с каждой улетающей волной дальше и дальше распахивалось поле, и наконец, когда они отхлынули совсем, все раздолье наступающей битвы проглянуло как в райке18. Там и сям дымились испепеленные уже деревнишки; батареи, правда, были скрыты, но холмы щетинились штыками, и колонны волновались, словно забытые серпом полосы жатвы. Земля уж испахана была колесами орудий и подковами коней, готовая, родимая, принять посев картеч и ядер и потом упиться кровавым дождем, чтобы на весну взошла ужасная озимь – заразою. Полки входили в линию безмолвно, но на лице каждого написано было: умру, а не побегу. Адъютанты и ординарцы носились стремглав, крестили взад и вперед. Ропот русской земли с каждым мигом становился слышнее и грознее: казалось, она с негодованием гнула хребет свой под тяжестию вражеской артиллерии и конницы… Она колебалась и гудела, как море перед грозою: того и ждал я, что она всплещется валами и поглотит новую армаду.
– А разве не расступилась, разве не поглотила русская земля этой армады? – сказал задумчиво приезжий. – У стен Кремля застыла все пожигающая лава Наполеона, и теперь на пепле ее зеленеют виноградники свободы народов. В 1825 году рыскал я по Бородинскому полю, вслед за принцем Оранским, и вот он, тринадцать лет спустя, пришел с берегов Шельды поклониться тому месту, на котором русские заложили первый камень освобождения Европы, и этот камень была гробовая плита двадцати тысяч наших собратий!19 И мы теперь стояли на холме, покрытом этой плитой, и думали: он о минувшем, я о будущем.
– C'est un pelerinage d'expiation[187], – сказал мне принц.
– Pelerinage de reconciliation[188], – возразил я.
Да, время примирило все вражды, залечило все раны. Роскошные жатвы всходили на нивах, утучненных трупами, увлажненных кровью двадцати народов. Красивые села красовались на пепелищах деревень, когда-то растащенных для бивачных костров. В деревне Горки один старик грелся на солнце, сидя на доске, положенной на двух гранатах. Здоровые ребятишки резвились на улице. Один из них подбежал к нам и, вертя в руках пуговицу, сказал: «Купите, барин, французскую пуговицу: отец мой вчерась выпахал ее из земли!» Принц дал малютке червонец и взял от него безделку. «Вот судьба орлов Наполеоновых!» – сказал он, показывая ее нам; на ней под орлом выбит был нумер славного 61-го полка.
– Да, бомба меня убей, это был храбрый полк! – вскричал подполковник. – Батарея наша стояла на гребне, лихо окопана и сильно прикрыта! Но этот чертовский полк пошел на нас молча, ружье под курок, равняясь под картечами, как на разводе, – только надвинув на глаза кивера20. Страшно и любо было смотреть на этих удальцов. Говорят, Багратион закричал: «Браво, браво!» – и захлопал им в ладоши21. Я постигаю это увлечение: для героя исчезли тогда враги – он видел только неустрашимых, кто бы они ни были. Только половина этого полка дошла до нас и сбила нас, другая лоском легла на скате.
– С нами, статься может, через час будет то же: турки за стенами сидят насмерть, особенно в Ахалцихе; он искони славится неодолимостию своих стен, неустрашимостью своих защитников22. Когда французы дрались на диво за пустое слово, за безумный замысел своего повелителя, не понимая ни того ни другого, чего не сделают турки, изуверные, бесстрашные по природе, на защиту своей веры и родины? В них непримирима ненависть, в нас ненасытна жажда отличий: битва будет ужасна. Я иду впереди на приступ… и кто знает, может быть, паду из первых! Какой-то неясный, тайный голос даже, что я паду наверно… Друг! Тебе в таком случае предсмертный завет мой – дай слово, что ты исполнишь его?
– Это не личная месть?
– Сохрани Боже! Пусть никакая злоба не переживет меня! Да и зачем ей вываривать яд из костей моих, когда не могла она доселе выжать ни капли яда из этого сердца, полного любовью, одной любовью!
– Понимаю теперь: поручение твое будет по сердечному отряду!
– О, не шути этим, Иван Ильич! Любовь моя для меня не одно сердце, не одна душа, но сам я, но весь я: она моя мысль, мой свет, жизнь моя. Видишь ли ты красное знамя над крепостью? Каждый из вас превращает его своим желанием: кто в патент на следующий чин, кто в орден, кто в лист реляции, где его имя напечатают не буквами, а звездами; но не крыло славы мне веет в этом знамени, нет, покрывало той, которую люблю. Дорога к ней через трупы, через разбитые стены, сквозь пламень и воду – и что устоит, когда я устремлюсь к ней с саблей в руке? Кровь мою, всю кровь выпоил бы я славе, если б славу эту мог я постлать себе в изголовье, чтобы с ней вместе склонить на него голову – и потом умереть.
– Мечтатель, мечтатель! – произнес, улыбаясь, подполковник. – Жар-голова!
– Что ж доброго делалось бы на свете с лед-головами! О, не отнимай у меня этой мечты: она мое неизменное копье, мой конь-игрень23, мои латы заколдованные; мечта эта – вина и цель моей отваги. Какое дело, одинаковы ли пружины, когда они все согласно двигают машину к общей пользе… Обещай же мне, Винградов, что, если меня не станет, ты съездишь в Петербург: там отыщешь одну даму, по адресу этого письма, и отдашь ей мои бумаги. Расскажи ей мою службу, мою жизнь, обе через край полные крови и желчи, лишений и отличий. Военную славу избрала она свахой между ей и мною – скажи ж ей, что я, как Цезарь, пал у стоп этого холодного идола славы, пал, хватясь за венец!24 И последняя мысль моя была о ней, и последнее слово мое было ее имя!.. Друг! Ты исполнишь это?.. Обещаешь ли ты мне это?
– Вадимов, ты знаешь меня!
– Винградов, ты понимаешь меня!
Друзья обнялись крепко, долго. Щеки обоих были мокры, когда они подняли головы от плеча друг друга.
– Какие мы ребята! – произнес подполковник. – Что за невидаль приступ! Что за предчувствия смерти! Увидишь сам, что выйдешь из дела цел и жив; притом же и то сказать: может быть, я угожу прежде тебя к сатане на ужин a la fourchette[189].
– По крайней мере по расчету вероятностей, любезный Иван Ильич, едва ли до тебя дойдет очередь умереть сегодня. Бруствер довольно высок!
– Да неужели ты думаешь, что я усижу за этим бруствером до конца дела? Ей-богу, нет! Бомба меня убей, нет! Когда колонны прорвутся за палисады25, я подвезу свои орудия на пистолетный выстрел и буду окачивать бусурманов чугунным ливнем сквозь кровли и стены.
– Как-то еще позволят!
– О, я уверен, что граф позволит мне, прикажет мне это. Сидеть на батарее сиднем, бомба меня убей!.. Да лучше бы мне лежать со штыком в боку, под колесом моего орудия, которое французы сбирались увезти с Бородинского поля, чем зевать на бой, когда другие дерутся. Да, брат Вадимов! Жарко здесь, а все-таки не чета Бородину – я…
Народная война и потом война во Франции была слабая струна подполковника. Рассказы о них приплетались у него ко всему и ко всем то для сравнения, то для противоречия. «Вот, ни дать ни взять, так случилось под Смоленском», – начинал он; или: «То ли дело было под Кульмом!26 Так ли дрались мы под Фершампенуазом!27» И вслед за этим предисловием тянулась бесконечная, как петергофская бумага28, история о позициях, сшибках, преследованиях, о всех ратных случайностях. Описания его были необыкновенно верны и оригинальны – его можно было заслушаться: он все видел сам, везде был сам, все знал, все помнил, да на беду нашу, все, кроме того, сколько раз он рассказывает одно и то же одним и тем же. Видя, что рассвело, Вадимов прервал многоглаголивого артиллериста просьбою разглядеть вместе застенье Ахалциха29; и вот оба друга, вскочив на амбразуру, внимательно принялись изучать всю игру местности: канавки, рытвины, пригорки, поясняя друг друга замечаниями. Ядра и гранаты прыгали, летали через них, с шумом разрывая воздух.
Между тем восток загорелся, и окрестность почти вдруг возникла из мрака, будто земля, впервые озаренная солнцем из хаоса. Ни одного облачка не было на небе, никакого тумана по горам. Весь Ахалцих открылся как на ладони. На высоком каменном сосце дерзко вставал старинный замок его, подпершись башнями и оскалив зубцы свои, между которыми сверкали пушки. Домы города, с нависшими ярусами, с цветными ставнями, с плоскими кровлями, возвышались неровными, уступчатыми купами, затмив спутанные между собой улицы. Иные из них, казалось, лезли в гору к стопам замка, чтобы приютиться под его защиту; другие словно разбежались по склону холма вдаль от жадности нашей. Там и сям среди их просились в небо стройные минары[190], получившие голос, подобно статуе Мемнона30, от солнечного луча. Муэдзины кричали свою обычную молитву31, хотя рев пушек заглушал ее, а меткие ядра вырывали кирпичи из столба.
Кое-где, подле изразцовых или белых куполов мечетей, возносились стреловидные тополи, и они свежо, отрадно зеленелись между грудами грязных зданий, точно светлые мысли, запавшие случайно в огромную книгу схоластических нелепостей.
Все валы, охватывающие город, опушены были облаками дыма, и лишь когда ветерок раскатывал их на миг, видны были разноцветные чалмы янычар32 и горские папахи над огрудниками33.
В городе замечено было необыкновенное движение, ржание коней, скрып колес, сверкание оружия.
– Что это значит, – сказал приехавший офицер, пристально посмотрев на ставку главнокомандующего, которой золотая маковка виднелась из-за холма. – По приказу давно бы пора в работу, а нет как нет вестовой ракеты.
– И очень хорошо, что попозже начнем: наш брат русский любит драться начистоту, не как ночной вор. Да и вообще в ночные штурмы суматохи не оберешься: много шуму, мало толку; то ли дело днем – любо взглянуть врагу в лицо, видишь, куда бить и кого бить.
– Это что-нибудь да значит.
– Поживем, так увидим; умрем, так узнаем. Но я рассказывал тебе про Бородино самые обыкновенные вещи, теперь расскажу я тебе происшествие, само по себе ничего не значащее, однако ж оно произвело на меня сильное впечатление.
Бородинское солнце, которое вовсе не по шерсти назвал Наполеон аустерлицким[191], взошло34. Бомбардиры мои замахали фитилями, оглядываясь, не скачет ли адъютант с приказанием стрелять. Против нас выехала очень близко на холм французская батарея, и новенькие с молоточка пушки так заманчиво играли на солнце, что мы нетерпеливо грызли зубы пощелкаться с ними. Глядим, как в руку сон, принесся на нашу батарею волонтер35, находившийся при главнокомандующем. Мы уже знали его в лицо, но его имени, его родины никто не ведал.
– Генерал Кутузов приказал сбить эту батарею, – сказал он нашему полковнику. – Он уверен, что вы перед ним оправдаете честь начать это дело. С моей стороны, позвольте мне навести первую пушку.
Полковник был восхищен. Притом же задобрить человека при штабе, человека в милости у главнокомандующего – нелишнее.
Незнакомец спрыгнул с коня, потрепал орудие сверху, вложил руку в дуло, как бы давая мне знак поцеловать ее, и взялся за винт подъемного клина, будто давно выслужил фейерверкером галуны36. Но эта пушка была моя, мне стало досадно; что за черт, думал я, что приезжий отбивает у меня первый кус славы! И я с уверенностию знатока поправлял его: немного вправо, немножко ниже – в дуле есть расстрел.
Незнакомец гордо поднял глаза от диоптра37.
– М<илостивый> г<осударь>, – сказал он, – я сам знаю, что делать. Артиллерия, решительница сражений, не только мое ремесло, – моя стихия. Будьте покойны, возьмите трубку. Видите ли вы над третьею неприятельскою пушкой золотого орла?38 Это орел какого-нибудь полка из прикрытия за гребнем батарей. – Взор его засверкал. – Я сшибу ему крылья, я сшибу тебя с неба, орел Наполеона. Час твой грянет этим выстрелом!
Признаюсь, я мало доверял похвальбе незнакомца, но между тем взор мой невольно перелетал от прицельной мушки к орлу, который, казалось, ширялся над батареей; все наши орудия были наведены.
– Первая, – скомандовал полковник.
– «Пли!» – перенял незнакомец.
Орудие запело, отскочив назад. Я зажал уши: я сроду не слыхивал такого оглушающего выстрела.
Несколько секунд протекло от первой до второй команды; но когда раздалось третье «пли!», первое ядро разбило колесо неприятельской пушки – и медный орел пал.
Какой-то невыразимый восторг обуял всех нас. «Ура!» – закричали наши артиллеристы. «Ура!» – отдалось на обоих флангах: там шли уже на штыки.
Незнакомец исчез в дыму. И этот-то самый незнакомец, которого я готов был расцеловать за выстрел из моей пушки, если б он не уехал или мне было досужно, тот, который дал мне какой-то фаталитет39 в успехе русского оружия, – до того, что в самых неудачах наших я напевал песни, убежденный, что завтра все поправится, – этот самый волонтер теперь здесь у меня на батарее – вот он!
Подполковник указал на крайнюю батарею. Там, опершись рукой о дуло единорога40, стоял высокий худощавый человек лет пятидесяти, с выразительным лицом. Он смотрел на город; но взоры его перелетали и за город, и за горы, и за моря: они исчезали в пространстве, тонули в будущем. Костюм его был несколько странен, но чуден. Персидский папах, надвинутый на брови, сомкнутые думой, серый сертук плотно охватывал его стан, согнутый, как казалось, военными трудами; внизу казачьи шальвары, турецкая сабля на боку, и на плечах живописно брошен был черный плащ, подбитый малиновым бархатом. Он был странное явление в стане, где все было единообразие, где одежды имеют свой неизменный характер. Приезжий с любопытством рассматривал незнакомца.
– Я его где-то видел, – сказал он.
– Да и я его видел, – молвил подполковник. – Это было у палисадов Парижа. Утром, 19 марта, шли еще переговоры, но мы надеялись еще драться, и пушки мои, во ста шагах от ворот, наведены прямо на них. Между палисадами, как в калейдоскопе, сменялись тысячи голов, глядящих на нас с ужасом и любопытством. С нашей стороны съехалась тоже куча офицеров зевнуть хоть в щелку на Париж, про который слыхали мы в сказках наших гувернеров.
Мы хохотали, глядя на одного оборванца, однополого француза, парикмахера, который чем свет удрал из предместия засвидетельствовать свое почтение aux messieurs les Russes[192], поплатившись за это полою своего фрака: ее оторвал часовой, желая удержать беглеца…
– Что ж вы ждете, господа? – говорил он, попрыгивая около огонька. – Скорее в город, там есть чем погреть руки: я вам покажу, где золотые раки зимуют; дайте мне хоть тесак, господа, я вам покажу, что я недаром был лихим санкюлотом41.
В этом можно было ему поверить; санкюлотизм гордо выглядывал из-под всех прорех его необходимого платья.
– Я брал Бастилию, – сказал он с гордым видом.
Я сейчас вспомнил французского парикмахера у Йорика Стерна: «Окуните мой парик в океан, и ни одна кудря не распустится». В океан, когда для парика за глаза довольно одного ведра42.
– Я назывался тогда Катоном, – продолжал он по-французски, – это значит непобедимый43. Скорей же в город, господа. Чего зевать, мы там дадим себя знать, не правда ли! Что там за женщины, что за лавки, господа… я затем и пришел к вам, что надеялся пограбить.
Мерзавца прогнали пинками.
Видно парижская чернь со времен революции сделала успехи в гражданских добродетелях. Разграбив дворцы и церкви своими руками, почему не пограбить своего соседа руками неприятеля? Это правосудие!!
И вот, вижу я, подъехал мой канонер-незнакомец. Он был необыкновенно весел.
– Здравствуйте, старый знакомый, – сказал он мне, – я и теперь попрошу у вас фитиля; но в этот раз для того только, чтобы закурить трубку. Мир, и вы можете отвинтить диоптр с вашей пушки надолго; надолго останетесь вы и она без цели. Сегодня мы увидимся у Вери44.
– Французы! – закричал он, махая белым носовым платком, – долой орла, вот вам на место его знамя.
Он бросил им платок свой чрез палисад, с насмешливою улыбкой, и поскакал вдоль палисадов.
Платок долго летел над головами по ветру и упал в прах, никем не поднятый.
– Что ж отвечала великая нация?
– Да что она будет отвечать под пушками? Великая нация молчала, стиснув зубы.
В это время на батарею сошлось много офицеров поглядеть на крепость… слух, что приступа не будет, летел уже по лагерю. Зачем? Для чего? Никто не знал.
Незнакомец, казалось, ничего не слыхал – он пристально смотрел в зрительную трубку на одну из амбразур.
– Надвигают орудие… Господин Вельский, – сказал он, обращаясь к одному молодому офицеру, – посторонитесь: в вас целят.
– У вас, видно, зоркие глаза, – отвечал тот, когда вы можете читать отсюда надпись ядра – кому оно назначено.
И он поднял еще выше голову над грудною обороной.
– Я сказал, – мрачно молвил незнакомец…
Ядро взвыло между веселою толпой офицеров. Вельский упал без головы к ногам их.
– Бедняга, – сказал незнакомец, стряхая со своего плаща кровь и мозг, которыми забрызгало всех окружающих.
На минуту затих говор и смех: все с недоумением глядели то на незнакомца, то на труп товарища.
– Начинайте! – кричал адъютант издалека, махая подполковнику фуражкой.
Солнце всходило, пушки с обеих сторон перебранивались отрывисто. Но каждый луч, падающий с неба, казалось, запалял, как фитиль, огонь новых орудий, так что, когда солнце возникло в полном блеске, вся окружность Ахалциха закипела пальбой. Сначала мерно, хладнокровно отвечали наши батареи на бешеную стрельбу с валов; но потом, будто разгораясь постепенно гневом, они раз за разом чаще и грознее двоили, усиливали огонь свой, так что когда городские орудия, будто после неистовства от опиума, притихли, падая в дремоту бессилия, наши с возрастающею лютостию, зыбля ревом землю, метали чугунный вихорь свой в неприятельские бойницы, – вихорь, который должен был распылить и сместь их с лица земли.
Но приступ был отсрочен лишь на несколько часов. Граф Эриванский хотел всполошить неприятеля45 и успел в этом как нельзя лучше. Общая канонада превратилась в частную перестрелку. Видя, что весть о приступе несправедлива, турки успокоились.
К полудню орудия умолкли, и муэдзины спокойно затянули свою: «Ля илля ил Алла, Мугамед резул Алла, Алиям вели юлла»46. Всем колоннам велено было сварить обед на местах и около четырех часов пополудни, по вестовой пушке, вдруг кинуться с трех сторон на приступ.
Вадимов безмолвен стоял на огруднике батареи, положив локоть на рукоять турецкой сабли, которая, лезвием вверх, висела у него чрез плечо на шелковом шнуре. Он пожирал глазами город, он бил ногой с нетерпением; ноздри его вздувались, будто жаждая дыму битвы, запаха крови, лицо разгоралось гневом.
Не знает тот чувств храброго перед боем, кто сам не храбр, кто сам не бывал воином. Трудно вообразить, как первый выстрел, услышанный вдали, превращает природу человека, как один и тот же электрический удар может зажечь порох и оледенить воду. Так вспыхивает сердце храброго, между тем как сердце труса холодеет. Куда денется тогда усталость, и один страх – не ушел бы неприятель, не послали бы меня в резерв, – волнует грудь. И вот чем дальше, тем более открывается поле, по которому сверкают огоньки сквозь синие облачка дыма… Перестрелка кипит невнятно и слитно, только громы орудий разговаривают между собой из черных туч отрывисто, грозно: это язык смерти… и вот ядра начинают бороздить ваш строй и землю… молча падают ваши товарищи… чувство мести растет с каждым шагом вперед, жажда крови разгорается больше и больше… Наконец, в каждом враге видишь личного, злейшего врага.
Все ждали вестовой пушки с напряженным сердцем – она грянула в четвертом часу, в самую пору мусульманского обеда. Вслед за ней раздался голос подполковника: «Залп будет – „пли!“» – и две палисадины расскочились в щепы в воздухе, между тем как ядра и гранаты осыпали еще более атакованный бастион.
– Пушки на элевацию!47 – закричал подполковник, и туча гранат, с ревом раздирая воздух, зарокотала над головами русских… Земля дрогнула, пыль и дым взвились столбами.
Ширванский полк, свернувшись в колонну к атаке, двинулся мерным шагом, ровно, стройно: впереди, как на обыкновенном переходе, за застрельщиками шли песельники с громкими, веселыми песнями. Но этот переход вел к ночлегу смерти. Турки на полкартечных выстрела обварили колонну чугуном и свинцом. Страшно было смотреть, как ложились целые ряды бесстрашных, но новые волны храбрых бурно катились вперед по трупам крутящихся в пыли мертвецов, и вот через брешь бастиона, таща на руках один горный единорог, колонна ширванцев хлынула в город, где. каждый дом был крепостью. Сизая, с огненными блестками полоса дыма, охватывавшая нашу колонну, развивалась дальше и шире и наконец, достигнув до католической церкви, спорного пункта меж обеими сторонами, потопила сражающихся – перестрелка слилась в один гул, бой сделался общим.
Между тем саперы начали рубить палисады и устроивать переправу через ров для перевоза орудий. Срубленные палисады стлали мостом, накатывали одну подле другой. Пушки бастиона пронизывали рабочих сбоку, ружья турок из-за палисадов били в упор, кровь лилась, убитые давили раненых. Остервенение было столь велико, что солдаты втыкали штыки в промежутки палисадов, стрелялись на верную смерть; турки резали кинжалами.
Мимо батареи подполковника беглым шагом шли баталионы для подкрепления штурмующих. В это время на батарее молодой артиллерийский офицер, бывший под командой подполковника, спрыгнул с бруствера, чтобы остановить объятиями своего брата юнкера, который с пылкостию юноши шел в первых рядах на приступ. Они молча сжали друг друга, молча расстались – меньшой брат на бегу оборотился и послал рукой прощальный поцелуй брату, старший перекрестил его вслед. Он безмолвно воротился к своим орудиям, но каждый раз, когда подвинчивал их, взор его искал брата; но серая шинель его исчезла в рядах солдат, ружье его слилось с дулами других ружей, и каждый лезущий на вал, каждый падающий в прах солдат казался ему братом. Братья у него множились тысячами, падали сотнями, и он за всех их боялся, страдал за каждого.
Подполковник с душевным участием глядел на терзания доброго юноши, терзания тем сильнейшие, что они были сдавлены на сердце.
– Желал бы я заглянуть теперь в сердце нашего главнокомандующего, – сказал он незнакомцу, который бесстрастно смотрел на роковую схватку, сложив на груди руки. – Как глубоко должен быть тронут он, посылая столько славных, столько храбрых людей на смерть!
– Неужели вы думаете, подполковник, что сердца вождей вылиты из одного металла с нашими? Если бы это было так, то они не решились бы ни на что великое. Они, дорожа частностями, потеряли бы целое. «Это необходимо» – есть убеждение и утешение героев. И в самом деле, что было бы с нашим войском, если бы мы отступили. Вы знаете, что такое в Азии отступление: это хуже бегства, и, стало быть, приступ неизбежен, и – приступ решительный. Видите ль этот красный бейдах над крепостию?48 Он грозно машет своими концами по ветру, будто вызывает на бой; на него-то устремлены очи вождя – он не видит, как падают наши, он ждет, когда падет это знамя, когда русский меч подсечет его, и кровавый поток унесет это кровавое знамя. Да, души великих если не имеют мелких доблестей обыкновенного человека, зато не имеют и мелких пороков…
Выстрел*
Полковник рассматривал литографию, изображающую какую-то битву русских с турками в 1829 году; я рассматривал полковника: я был довольнее своею картиной. Любо мне было видеть его открытое лицо, просмугленное пороховым дымом; его высокий лоб, на котором французская сабля поставила ударение прежде, чем дума написала свои глубокие строки; его черные волосы, в которые походы, а не старость бросили свой иней; его стройное, крепкое телосложение, в котором каждое мановение обличало отвагу… Он сидел, облокотись правою рукой о стол, в левой держал он трубку, позабыв курить ее.
Видно было, как постепенно овладевали им досада и нетерпение: он качал головой с презрительною усмешкой, взоры его разгорались ярче и ярче, ноздри вздувались; носком ноги бил он неравную такту, рука мяла угол картины.
Сперва воспоминание военной жизни разливалось тихим румянцем по щекам его живей и живей, потом встрепенулось оно воображением битвы. Не в поминках уже, а в действительности вел он эскадроны вперед в атаку; он стрелял взорами; вытянутая рука будто хотела пронзить саблей врага; сквозь зубы будто вырывались брань и угрозы; казалось, растопленным свинцом стекли долой с плеч его годы; кровь его закипела, как прежде; он стал свеж и грозен, как прежде; он кипел, он в мыслях скакал, и вдруг, на всем разлете, воображение его поскользнулось, как на льдине, на холодном, безжизненном изображении боя – боя, который совершался еще в глазах его, пылок и разнообразен, со всею свежестью истины, со всею истиной ужаса. Прибавьте к тому, что живая картина войны отражалась, чертилась молниями в памяти солдата, который на войне вырос и устарел раньше поры, для которого война была жизнь, вся жизнь, во всем раздолье этого слова, и вообразите потом его негодование, глядя на пародию, на карикатуру этой поэмы, которую писал он так долго своими ногами по грязи и по скалам булатом сабли, огнем пистолета, потом лица своего, кровью сердца! Он разорвал эту литографию и бросил на пол обрывки.
– И вы, сударь, любитель художества, имели дух хвалить подобные картины, – вскричал он мне с гневом, – и вы, военный человек, могли сказать не шутя, что сражение тут изображено довольно истинно! И то сказать, кто теперь не любитель, кто не военный? Что у нас на святой Руси не истинно? Стоит прогуляться с любою газетой по Невскому, так придется износить шляпу на руке, как перчатку, кланяясь героям, художникам, поэтам, правдолюбцам нашим, и со всем тем, черт меня оседлай, не в укор вам сказано, Андрей Петрович, ваши хваленые батальные живописцы (о других молодцах покуда молчок) не знают в своем деле аза в глаза. Вот вам одна из лучших русских литографий – нечего сказать, загляденье – в подписи ни одной грамматической ошибки, да и нарисовано-то чистенько, отчетисто; на руке у каждого ровно пять пальцев, у всех лошадей по четыре ноги сполна, даже сабли на левом боку, ну и со всем тем. сударь, по мне – лучше суздальские лубочные картинки, которые, с тараканами и паутиной, составляют неизбежные обои нашей станции. Над ними по крайней мере нахохочешься досыта; в них по крайней мере увидите вы Русь наголо: и дух, и уменье, и просвещенье православных мужичков. «Страженье пат Масквой; в хот в Парыш; взятие славнай крепасти Карса с помощию флатилии»… Флотилия на речке, которую русский солдат выпьет с похмелья! И тут, как водится, впереди валяется вверх ножками или сидит на корточках раздутая пушка, и колеса у ней не более звездочки на шпоре у генерала, который стоит подле, верхом, отворотясь от сражения и надувшись, будто собирается чихнуть. Внизу убитый француз или турка ничком. Еще далее казак колет упавшего всадника; у него и пика, и борода под красною краской! Без красного у русских и бой не бой, праздник не в праздник: уж коли кушака нет алого, зато нос клюквой. Вот вам и обе армии, каждая из семи рядов: одна палит, поднявши правые ноги, словно кочерги, другая улепетывает, а за ней гонится витязь на пряничном петухе, и, к довершению очарования, вверху крепость, в виде кабачка, с перечницами вместо башен, а внизу надпись с нелепыми возгласами зауряд-стихов. Глупо, зато смешно; зато на этом лубке не подписано: «Рисовано с природы», как на вашей литографии, между тем в ней столько же природы, как в Вольтеровой трагедии1. Да, сударь, я повторяю вам: ваши художники или не имеют поэтического чутья выдумать сражение, если его не видали, или не имеют души постичь поэзию битвы, если ее видели.
Я осмелился спросить у полковника – чем он недоволен в этом рисунке?..
– Всем, сударь, всем сверху донизу; всем вдоль и поперек, равно мыслью, как исполнением. С того начать – что за притязание представить чуть не целое поле? глаз много видит, да зуб неймет. Вот почему картина эта ни дать ни взять разоренный муравейник; внимание раздергано во все стороны и нигде не захвачено в плен. Да и что это за дым? Что за огонь пушки? Он воткнут в жерло ее, как метла из лучей! Я не знаю ничего величественнее, ничего прекраснее батареи, которая громит вас с гребня холма: в небе ясно, а вокруг нее тучи ходят; они летят, волнуются, кипят, то вспыхивают, то гаснут вдруг; каждый выстрел бросает новые узоры, новые краски в эту зыбкую картину, и как чудно прелестен этот выстрел! Сквозь дым, полураздунутый им, он мелькает, как взор гения сквозь будущее, ярок, пылок, неуловим; мелькнул – и нет его!
Огонь выстрела не багровое пламя пожара; не синий блеск молнии, не звезды искры его; нет, в нем есть все это, в нем играет румянец зари и бледность месяца, кровь ран и радуга завета вместе, и вслед за тем с медного зева, как вихорь, взвивается опаловидное облако2, меркнет, синеет, чернеет и быстрым змеем крутится вверх или порой вспархивает венцом, летит, летит шире и шире и наконец, догнав своих собратий, исчезает, как волна в волнах дыма, – и между тем озаренные соседним выстрелом артиллеристы, чернея на огненном поле, мелькают словно тени; и мне видно, как они надвигают орудие, машут банниками3, и снова потонуло все в пучине мрака. Напишите мне одну пушку с таким выстрелом, в такое одушевленное мгновение, и это будет целая картина, полная поэма!.. Пушку только, говорю я; а что если вы окружите ее артиллеристами, каждого со своим лицом, с разными чувствами на лицах! Выстрел только грянул, туча распахнулась: посмотрите, с какою нетерпеливою заботливостию бросается канонер4 с банником к дулу, а фейерверкер – к запалу5, чтоб заткнуть его пальцем; вы скажете: они ждали ее звука, как вы первого «люблю»; третий, вынимая из сумы заряд, косо глядит на орудие; он, кажется, молвит ему: «Ешь, собака! ешь, ненасытная!», отряхает ухо, вложив в него мизинец, будто хочет выпустить оттуда, как воду, выстрел, от которого звенит у него в голове. Фейерверкер, который наводил орудие, оттенив рукой глаза, пытливо смотрит вдаль, куда пошло ядро; зубы его стиснуты угрозой, но все лицо отдано ожиданию: это уже есть желание отличиться, это уже зародыш честолюбия. Оно резко развито на лице офицера: он, кажется, летит в его дыму, он упивается его дымом. Вглядитесь в лицо этого честолюбца: сабля его – луч, пронзающий облако; он весь страсть; в тучах битвы он видит только всходящую звезду свою; туда его взоры; там его сердце; он поднялся к ней на стременах; он хочет коснуться до нее своею саблею. Помани она, и он готов раздавить своим орудием первого друга, навести его на грудь старшего брата; орудия для него не больше как орудия; он без сожаления утопит их в болоте крови; он занят ими, занят сражением, как пылкий любовник занимается лестницей и темнотой ночи, которые проведут его к окну милой. Настоящее для него – колесо, на котором он катится к цели, а цель его, душа его – весь он в будущем. В противоположность ему, посмотрите на коня его, посмотрите на этого бомбардира, заботливо обдувающего фитиль; конь вовсе не разделяет страсти своего властелина; он заворотил голову и заигрывает с цепочкою мундштука; рев пушек и ропот летающих ядер не пугают его; привычка истребила в нем страх, а усталость – жар. Он преспокойно смотрит на гранату, с огнем и с пылью крутящуюся у ног его, и не пятится; он не трогается с места, хотя шпоры ездока в боках его, – ни дать ни взять народ, который пустил корни в бесстрастие и не хочет двигаться ни назад, ни вперед. Бомбардир совсем другое: в нем уже видна не животная, но солдатская привычка; обдувая фитиль, он поднял правый локоть над колесом, не ниже как столько, чтоб оно прикатилось при отдаче орудия, не задев его. Он видит, он знает, что подле него сейчас лопнет граната; но он стоит вытянувшись, потому что в артикуле нет команды, как избежать взрыва гранаты6. Притом он принадлежит к тому классу людей, которым никогда не впадала в голову мысль разгадать загадку жизни или смерти; для него жить – значит ходить у колеса пушки; ему все равно – бить сваи или бить людей: он никогда не спросит зачем? Доказательство тому, что он живет в настоящем, что он живет только телом, – он сторонится от искор фитиля, чтоб не спалить усов, не отставляя даже ноги от гранаты, которая может убить его, – настоящий солдат, каких желал Наполеон, чтобы опрокинуть вверх дном весь свет; и правду сказать, русский штык стоит Архимедова рычага7. Мало вам и этого романтизма, очеркните же на переднем плане, в облаке дыма, неясный, но ужасный призрак судьбы, с неумолимою усмешкой на лице, с протянутою, с разверстою жадно рукой, чтобы схватить ринутое из жерла ядро и устремить его в цель наперекор всех расчетов человека.
Не видал я человека раздражительнее и приимчивее полковника. Он переливался в чувство, в страсть; он каждый образ изображал речью, и тут, увлеченный своим созданием, он возник в волнах дыма трубки с сверкающим злобою лицом, с распростертыми руками, как будто отмечая перстом левой руки чело честолюбца и хватая правою ядро: вся картина боя вспыхивала тогда перед ним огненными чертами. Орудие с громом отпрядывало назад, взрывая хоботом землю и злобно визжа, как черкес, сбросивший на врага огромный камень с утеса. Артиллеристы засуетились около орудия; будто уж знакомое лицо офицера мелькнуло сквозь дым, и впереди, грозен, ужасающ, возник призрак судьбы, кровь капала с рук его, его взор оледенял, как луч мороза. Я содрогнулся! Но в полковнике и во мне обаяние было мгновенно… Он улыбнулся не роковым, самым обыкновенным, человечьим образом, закурил свою трубку и сел.
– Да, – продолжал он, утихая, как бокал шампанского, – да, безумно браться изображать целое сражение. Это невозможно физически и логически. Картина есть миг драмы, следовательно, в ней должно быть единство действия: надо, чтобы всё и все столпились около главной мысли, чтобы они на плечах выносили ее на свет, чтоб она била тараном в сердце зрителя. для меня изображение солдата, которого режут горцы, во сто крат занимательнее панорамы, на которой полки мух сражаются с полками блох… Упади при вас в воду ребенок, я не ручаюсь, что вы не кинетесь спасать его; но пусть тонут люди в двадцати местах вдруг, вы, хотя бы плавали лучше финского тюленя, станете выбирать, кого спасти, рассуждать, как спасти, и они все успеют отправиться на жемчужную ловлю прежде, чем вы решитесь получить для них насморк. Таков человек! Гибнут тысячи в сражении, он и ухом не ведет; Лисабон провалился8, он танцует; холера у дверей, а он поет «За горами, за долами»9; но разбей себе пьяница нос на мостовой, упади пристяжная10 у вельможи – сейчас соберется около куча народу – и охать, и пособлять, и советовать, – таков человек!.. На целый свет не стает у него сердца, а. на частную беседу он готов бросить его также скоро, как червонного туза; только сердце, говорю я, потому что оно не стоит ни копейки. Пользуйтесь же этим расположением: высекайте из мрамора Лаокоона11 или двух борцов12, создавайте Отелло, Гяура, Фауста13, пишите, как Вернет14, сшибку в четырех, в пяти лицах, изобразите рубаку Генриха IV, когда он кидается в самый пыл сражения, восклицая: «Ne m'offusquez pas, je veux paraftre!»[193]15; Наполеона на мосту Аркольском, со знаменем в руках16; нашего Петра, когда он говорит под Полтавой солдатам своим: «Помните, что вы сразитесь не за Петра, а за родину», когда он прыгает в разверстую пасть Балтики, чтобы спасти флот свой, разбитый бурею17. А то что вы задрямили мне везде лепить бесконечные барельефы, похожие больше на конную, чем на битву18 в двадцать верст раздолья; писать свои картины сражений со слов реляции с топографическими подробностями! Не знаю, право, куда заведет этот дух бесконечно малых – эта страсть к единообразию? Посмотрите-ка, – продолжал он, складывая разорванные лоскуты литографии, – посмотрите на этих солдат, на этих коней: все они вытянуты и затянуты в мундиры, у всех кивера с султанами19; люди будто собрались на парад, кони вылощены как на скачку, усы подобраны, хвосты расчесаны; то ли бывает на деле, и в деле то ли? Во-первых, солдаты наши дерутся всегда в шинелях, подтыкав полы за ремень, на который страсть у них понавешать мешочков – у кого с табаком, у кого с солью, с сухарями; какие-нибудь цветные шаровары забраны в сапоги, у которых, надо заметить, не мазаны голенища; ранец запрокинут назад; сума нередко поворочена под руку, чтоб ловче доставать патроны; кивер в чехле и набекрень; но, черт меня оседлай, если бы даже я был не солдат, а просто художник, я предпочел бы этих подлизанных, великопостных гречневиков20 залихватской и удалой роже русского солдата в шинели с заплатами, с заваленным назад оружьем, с прибаутками в зубах под картечью, у которого одна щека нарумянена водкой, а другая порохом, левый ус растрепан ветром, а правый сожжен вспышками. И как не понимают господчики баталики наши того, что шероховатое дает гораздо более игры теням, следственно, более эффекту картине, и вот почему неуклюжие, косматые лошади Орловского21 всегда будут ценнее англизированных, пи-афирующих лошадей Зауервейта…22 Вернет всегда выше Дезарно23. Притом ни на одной картине не видывал я, чтобы убитые были обнажены, и ни в одном сражении, чтобы они были одеты. Нельзя вообразить быстроты, с какою обдираются убитые в деле: не успеет иной бедняга упасть, и уж гол как мать родила, по крайней мере, если одежда и обувь его не в лоскутьях. Не видишь и не узнаешь, кто их раздевает так проворно!! И кавалерия прехладнокровно скачет по трупам, и колеса орудий давят их так, что кости хрустят, и зачем же нет этого здесь? Художники жалуются, что им негде теперь выказать человеческое тело; да вот оно им, вот во всей. ужасающей наготе, в судорогах кончины и боли, в ледяном покое смерти, в грязи, в крови, истерзанное свинцом и железом!
– Но разве не бывает исключений, полковник, – сказал я, – разве не случается, что после схватки и свои и неприятели расходятся быстро или так быстро преследуют опрокинутого, что оставляют своих раненых и убитых на Божью волю?
– Да, бывают исключения, – сказал он, – но они очень редки, и то когда летучий отряд дрался с фуражирами или с рекогносцирующим отрядом24 без обоза, без лазаретных фур, без денщиков и маркитантов[194], и там, где прошла пехота, раненые останутся, но будут раздеты: это вернее смерти.
– Поле сражения! – произнес потом полковник рассеянно, говоря сам с собою…
Видно было, что пред его глазами воскресало былое, что боевые образы и картины рисовались на дыму его трубки, подобно приведениям в пару волшебного котла ведьмы.
– О, как пленительно-ужасно поле сражения, часов пять после дела, когда дым улетит в небо, когда боевые страсти улягутся в душе зрителя, когда мертвая тишина льется с блеском месяца на эту жатву судьбы! И как редко случается солдату созерцать это безгробное кладбище! У него нет досуга или нет охоты, а всего чаще средства: если и случится ему на ординарцах или в разъезде скакать ночью через поле, усеянное трупами, он невольно шпорит коня, но мечтает о том, как бы скорей исправить поручение, приласкать чайник на огоньке и добыть торбу овса коню своему. Да, только однажды во всю мою службу случилось мне…
Полковник сморщился, будто от физической боли, и задымил трубкой, затягиваясь долгими глотками; пауза длилась с минуту, а эта минута по крайней мере полчаса по циферблату моего нетерпения. Наконец я не выдержал; я пристал к полковнику безотвязно, чтоб он рассказал, когда, и как, и что случилось ему видеть… Сначала отнекивался он, потом сдался; по всей вероятности, это была хитрость коменданта, который ведет переговоры, покуда не подвезут ему снарядов, – кокетство весьма позволительное старому служивому.
– Черт меня оседлай, – начал он.
Восклицание это употреблял полковник всегда, вместо заглавной буквы, при всех сердечных, то есть картечных, рассказах своих.
– Черт меня оседлай, мы славно дрались в двенадцатом году под командою Витгенштейна25. С этой зимы я снимал и в дождик фуражку пред каждым из своих гусаров, каждому говорил: «Здравствуй, товарищ», и пусть выбреют мне усы, если не я гордился этим именем! Грешное дело, не всегда-то весело таскаться в походе по слякоти, не зная куда, не зная зачем, или стоять в пикете с голодным брюхом; бывало, в другие походы ропщешь на весь свет, то есть на весь штаб, но в двенадцатом году я не слыхал ни однажды ропота. Голодны, истомлены, а чуть затрубили генерал-марш – каждый гоголем, едет весело, дерется лихо, умирает молодцом. Я командовал тогда эскадроном; я был тогда в авангарде; ну-с да не о том дело… И вот наскочили мы однажды, невдалеке от деревни, на французских латников. «Строй взводы, строй эскадроны, сабли вон, марш-марш», – несемся, а кирасиры стоят себе как стена. Народ – лес, кони – слоны; только черные хвосты шишаков26 играют по плечам да кони машут гривами; славно ж и встретили они нас, разбойники: залп из их карабинов сварил из нашего фрунта кашу; подо мной лошадь – брык, я с нею обземь, бьюсь под нею; гусары мои вертятся и, как водится, с криком «ура» собираются улепетнуть. Меня так и взорвало. Трубач в это время соскочил с седла и хотел было посадить меня на коня своего, но мне было не до коня. «Вперед, мерзавцы! – закричал я своим гусарам. – Посмотрю я, кто посмеет бросить своего командира», – и с саблею в руке кинулся на латников, которые в сорока шагах осыпали нас пулями и проклятьями.
Разумеется, меня опередили. «Ура» слилось в какой-то рев остервенения, и латники были пробиты, смяты. Они сделали вольтфас без команды27. Но, черт меня оседлай, не завидовал я ни разу атакам французской кавалерии, а ретираде, признаюсь, тут позавидовал28. Сбить с поля не значило еще разбить латников. Под топотом, под бряком оружия и под стрельбой резко послышались голоса французских офицеров: «Attention, conversion par quatre a droite, au galop, marche!»[195] – и вдруг из целого полка нам остались лишь восемь задних рядов колонны: голова ее врезалась уже в тропинку дремучего леса.
Увлеченный запальчивостию, я не переставал преследовать отступающих. Двадцать раз наскакивали мои передовые на хвост последнего отделения. Да черта ты ему сделаешь в кирасе29 – словно в кувшине; шея и руки под хвостом каски; французские латники были непроницаемы; клинки наши скользили по железу, а между тем, оборачиваясь, они не раз жаловали тычками своих длинных палашей30 гусаров моих. Меня всех более взбесила дерзость замочного их унтер-офицера31; шельма этот вертится назади всего фрунта и ругает нас на чем свет стоит; я уже два раза положил на крестец его жеребца русское тавро32 – не унимается, да и только. Выхватив свой пистолет из ольстряди33, я подскакал к нему шагов на пять, чтобы вернее прошпиковать свинцом его туловище сквозь латы, как он вдруг осадил коня, огрызнулся на меня из-под гривы своей, как волк, и, заложив карабин под левое плечо, спустил курок в один миг со мной! Черт меня оседлай, мне кажется, я еще теперь слышу его злой хохот, так что узнал бы его в целом хоре адских песельников; лицо его покажу я пальцем и на страшном смотру между миллионами грешников, хоть мы все будем там не только без лат, но даже без мундиров. Мне казалось, что этот выстрел разорвал мою голову как гранату, что она разлетается искрами, – больше не помню.
Ужасная боль в голове пробудила меня; воздух в ушах журчал, как журчит вода в уши утопленника; пытаюсь открыть глаза – тяжелы, будто смерть уже приложила к ним свинцовую печать свою; открываю – кровавые звезды и тени ходят передо мной; где я, что я? Ничего не постигаю! Чувствую только, что мне холодно, что какое-то бремя давит меня; силюсь встать, силюсь крикнуть, нет движения, нет звука в гортани; ужас взял меня; мне казалось, что я зарыт в землю, и вдруг будто попрояснело: в глаза мне заглядывает месяц; озираюсь, гляжу – передо мной лес, справа и слева лес, поляна кругом, трупы людей и кони, – и тихо везде, как в могиле. Изголовье мое – замерзшая кровь из пробитых навылет челюстей; на мне поперек лежит убитый карасир…
Журнал Вадимова*
Ахалцих. Чума. Вадимов заражен.
Дайте мне писать собственною кровью, – это облегчит меня, это, быть может, спасет меня!.. Безжалостные! Они меня не слушают, даже не слышат, они чуждаются больного; все бегут зараженного; я брошен один, один с чумою, меня пожирающею. Только смерть сидит у ног моих и заботливо глядит на меня пустыми своими очами. Она глядит на меня так умильно!.. Жадный взор коршуна на поле сражения сноснее твоей улыбки!..
Да, прекрасен мир, жизнь пленительна, сладка любовь, как сладка!.. Хоть бы я мог взглянуть еще раз на него в полном свете и цвете; хоть бы мог еще насладиться я бытием; хоть бы капля божественной росы пала на мое сожженное сердце! Напрасные мольбы! Погибшие надежды! Роковая закваска смерти уже бродит во мне, бушует с кровью. Да будет!
Чувствую, что разум изменяет мне, что рука изменяет воле… Однако я буду писать, пока смогу… Это развлекает, это занимает меня… Притом я хочу сделать полезными даже минуты своей кончины. Пускай лекаря разлагают ощущения зараженного чумой, угадывают причину его дивного бреда!.. Почему знать, может, искусство от того и выиграет: я буду историком страданий моих.
Задолго прежде чем болезнь проявилась, во мне исчезла веселость духа; внезапная робость, безвинная печаль несколько раз потрясали сердце; глаза вдруг кружились в вихре тумана или звезд; резкие звуки пронзали слух; там и сям в жилах будто падала кипучая капля; но это было так редко, так быстро, что минуту спустя я думал, что мне почудилось. И мало-помалу какое-то свинцовое чувство тяжести стало одолевать меня… Глухая боль сдавила составы и как змея начала сосать сердце; мысль: я заражен – пробила мозг подобно Конгревовой ракете1; она рвала, терзала, жгла мою голову; ее неугасимые брызги западали как семена в сердце; они произросли уже адским пламенем…
Я чувствую порой, как раскаляются мои легкие, как расторгаются они и стреляют молниями в жилы; чувствую, как кипит, клокочет кровь моя, будто растопленная медь: то прорываясь в жилах потоком, то капля по капле цедясь сквозь составы… и потом вдруг останавливается она; смерть силится холодом костяной руки своей закрыть упорные очи. О, это ужасные минуты!
Но вот я опять оживаю для новых страданий! Малейший шум, едва заметный звук извне раздирает тимпан моего уха2; кажется, все тело мое превращено в слух, все фибры – в заветные струны: они страшно звенят от малейшего повева ветра, они бичуют, разрывают меня! Трепетание их сыплет на меня жгучие искры, будто от раскаленной проволоки; адские звуки их обливают огнем мое тело, проницают душу, будто ядовитые стрелы, рвут ее словно клещами! Они звучат как вздох кончины любви, как проклятие матери, свистят как удары кнута!.. И чего мне не слышится в этих аккордах пытки! То хохот разбойничьей пирушки, то стоны зарезанных, то скрежет зубов вечного ада, то вой волков, спорящих о добыче, и, наконец, клики демонов!.. И потом опять все стихало, все погружалось в мертвенность… Слух напрасно уловлял тончайшее дыхание тишины – нет звука… нет движения! Лишь изредка, мнится, возникает что-то, будто тихо ползет могильный червяк, будто скользит подземная капля сквозь камень склепа!.. Так бывает, покуда какой-нибудь скрып двери или «слушай!» часового на валу не вонзит опять зубов пилы в мое сердце…
Зато в минуты отлива болезни, в минуты сладкого расслабления, даруемые природой за долгие часы нестерпимых, невыразимых мук, порой слышу я, как возникают во мне тихие звуки, сперва отдельно, отдаленно, будто звезды на туманном небе, и потом будто сливаются они в электрические кисти, в смелые аккорды… я с благоговением прислушиваюсь тогда к гармоническому биению сердца… Кажется, будто крыло серафима извлекает из тысячи струн3 его неземные песни: дыхание мое звучит, как обаятельная свирель, как ветерок, играющий тростником моря!.. Тысячи голосов поют в груди моей… Я внимаю, мне кажется тогда, плавному течению крови: она то рокочет ключом, падающим со скалы, то рассыпается как гармония дождя, то как море, когда оно, засыпая между камнями, шепчет вечернюю молитву свою.
Да, кровь моя – жизнь моя, сам я будто расплываюсь огромною рекой; в ней свежеет зелень берегов, синева неба, я дышу тихою зыбью; я пью свет; я весь тишина и ясность; я слышу порой твой ангельский голос, милая, о! Тогда душа моя впивает жадно его, как пески ливийские росу неба, – она распускается как ночной цветок.
Но кратки промежутки блаженства; это роскошные палаты даже между двумя виталищами пытки4 – пломбами и колодцами[196], это мгновенная радость летучей рыбы, которая в глуби и в воздухе добыча врагов.
И вдруг, мнится мне, будто грудь и голову мою расторгает, взрывает волкан; весь состав мой вздувается в исполинские, неизмеримые формы, и я как бы отделяюсь от моего существа, нисхожу в самого себя и, подобно тени Данта, протекаю в сумраке лабиринт моего сердца и мозга5, вращая с изумлением микроскопические взоры окрест; я вижу игру внутренностей; я присутствую процессу крови и слежу дивный гордиев узел тела и души, чувств и мыслей, который, за нищетой языка, называем мы «сердце». Но вымыслы и думы, мечты и воспоминания, страхи и надежды – все, из чего соткано былое, настоящее и грядущее, все, что заключает в себе нравственную жизнь человека, все это является мне в образах, в которых зачалось или представилось оно в уме, в образах чудных, прихотливых, иногда нелепых, чудовищных. Как спутанная цепь, как лес, поломанный бурей, как мир, убитый незапным морозом, лежали в этом дивном, безграничном архиве мои поверья, мои воспоминания: то повитые цветами, невинны как дети, то связаны змеей, то попалены перуном, будто казненные титаны6. То были чертоги сна, описанные Виргилием7; то Мильтонов рай и ад Данте8, смешанные, набросанные, как незрелые мечты, полу рожденные думы. И мысли, давно забытые или еще не возникавшие никогда в душе моей, лежали рядами, как дивы9, спящие сном волшебным под ризой мрака. И все, что читал, чему учился я, что видел я в моей жизни, проходило мимо безмолвными картинами; все свершалось, как наяву, слитно и между тем отдельно, обновляя кругом себя землю, воздух, здания и окрестности мест, где они сбывались когда-то. Мир путешественников, историков, поэтов перед взорами души зеленел, расцветал воображением, трепетал жизнию, кипел страстями, у меня занятыми. Я был ровесник всех веков, жилец всех климатов, согражданин всех народов. Этого мало, – проникнутый духом геологии, я проницал в бездну хаоса, в таинственную эпоху мироздания; я, казалось, бушевал с океаном, с которым боролась юная земля, чтобы вырваться из его влажных объятий и вздохнуть свободно. Я видел, как многоразличные растворы оседали слоями на ядро земного шара; видел, как хребты гор в один миг возникали под небеса, взорванные волканами, и пылающая лава, ими изрыгнутая, застывала, погребая в себя вековые леса, завоевывая сушу и моря!.. Как целые моря, унесенные в облака, после многих веков пробивались сквозь заклепы и рушили, увлекали стремотоками целые утесы на невероятные пространства!..
Итак, я должен умереть – умереть неизбежно, бесславно… в цвете лет, в расцвете надежд моих! Ужасно! И эта рука, для которой тяжкая сабля была легка как перо, которою становил я на колена буйвола, – через день не в силах будет сбросить могильного червяка; и эта полная грудь, на которой могла бы покоиться голова любимой женщины, лелеясь негою в сладких мечтаниях, – эта грудь будет придавлена гробовою доской, и сердце мое, – о мое сердце! Неужели и оно распадется прахом? Неужели пламень, его оживлявший, погаснет в тлении? Неужели черви земли поглотят его небесные чувства?.. Неужели гробовой гвоздь может прибить к гробу дух мой, а всесильная могила заклепать навеки мои мысли? Ужели голова моя, это поле-океан, на котором носились они, станет их гробом, и свет не услышит высоких песен, звучавших только для моего слуха, и люди не наследуют торжественных глаголов, которые так долго хранил я в себе, и лелеял, и растил невысказанные?.. Безумец я! Преступник я! Для того ль был дан мне талант, чтоб я зарыл его в грудь мою? Я уж земля! И я-то за земные побрякушки отдал звезды небес, продал первородство за чечевицу10, на скудельное творение променял дар неба!..11 О, тлей, гибни тело мое, расплывись грязью мое сердце, гибни зародыш моей славы, сотрись на песке начертанное имя мое… но оживите вы, мои создания, вы, младенцы моей фантазии!.. О, дайте мне пожить еще год, хоть полгода, чтобы я мог перевести себя на язык, понятный людям, вылить душу звучною речью русскою! Тогда пускай с последнею буквой умру я, но я умру счастлив, я исполню тогда свое призвание, кончу урок, заданный мне провидением; я сладко опочию сном могилы, я успокоюсь, – и вечность будет для меня субботою!..
Полгода… дерзкий! Полвека бы не стало на высказ того, что крутится вихрями в моем воображении, на перепись буквами дум, насыпанных в сокровищницу ума, на разработку рудников, таящихся в лоне души! И сколько лет, обреченных высокой работе, украл я у самого себя, бросил в бисерный прах света и, владея целым, пышным, новым миром в груди, гонялся за мыльными пузырями этого мира!.. Нося в себе святыню, падал перед глиняными истуканами; я говорил: «Успею завтра», – и вот пришло это завтра, – и это завтра ничтожество по обе стороны гроба!
Позднее раскаяние! Напрасные слезы! Они льются и не истощают горечи – они не живая вода!
Кличу, зову – никто нейдет, никто не внемлет; у стен нет ушей, у могилы нет уст! Никто, ничто не угадает мыслей моих, не повторит их! На земле нет эха моей душе, нет следа! Я умру, весь умру, я поглощен буду смертию, я, который мог мечту воображения, грезу своего сна облечь жизнию… И жизнь не подарит одного мгновения тому, кто мог праху сказать: «Встань и ходи»12.
Гомер, Данте, Мильтон, Шекспир, Байрон, Гете, – яркое созвездие, венчающее человечество, великаны, которым не верит свет! Чувствую, что мои думы могли б быть ровесниками вашим; но если я скажу это своему лекарю, одному существу, которое посещает меня, он не засмеется только из жалости… он покачает головой, он подумает: «Болезнь переходит у него в бред», он назовет меня бедняжкой, меня, раздавленного сокровищами, меня, как Мидаса, умирающего с голоду на горах золота!13 Это мучительно, это невообразимо мучительно!..
Да, огромную, необъятную поэму замышлял начертать я: «Человечество» было бы имя ее, человечество во всех его возрастах, во всех кризисах. Я бы сплавил в этой поэме небо с землей, поднял бы из праха века, допытался бы от судьбы не разгаданных доселе приговоров ее; зажег бы над мертвецом минувшего погасшие лучи жизни, озарил бы молниями будущее, и в облака, в океан, в землю полными руками посеял бы семена неиспытанных, незнаемых звуков, мыслей, ощущений, – зерна сладостные, как райская роса, как улыбка неба!.. Засеял бы полными руками землю звездами неба, засеял бы небо мыслями земли и сплавил бы радугой в одно: небо с землей. О время, время! Дай мне жизни; за каждую песчинку я воздам тебе неоценимою жемчужиной!
Как Данте, я бы взором своим разбил адские ворота; как Мильтон, я взлетел бы к престолу Всевышнего и проник в заповедные сады рая; как Шекспир, рознял, разгадал бы я сердце человеческое и показал его на ладони своей – кровавое, трепещущее!.. Я все, что было, что совершилось на деле, на письме, в душе и в воле, в меди и в мраморе, в звуках и взорах, историю и басню, роман, драму, ученость и заблуждение, веру, суеверие – все, все это стопил бы я в необъятном горниле труда, все поглотил, всосал бы как море и послал к небу в чистых испарениях или, переработанное, очищенное, сокрыл бы в лоне своем яркими кристаллами!..
Да, моя драма приняла бы на свои руки человечество, едва повитое природою на лоне Индии. Там вещественность заглушила разум; там природа-царица, там богиня-судьба; там величаво и сильно все, кроме человека; он пьет молоко из сосцов земли как дитя и как пылкий юноша пожирает страстными поцелуями грудь ее; он вечно дремлет на ней в утомлении неги. Солнце взводит для него несеяную жатву, но мешая в нее ядовитые растения: оно высасывает облака ароматов и зловредных испарений; там под каждым цветком шипит змея, под каждым камнем копышатся фаланги и скорпионы14, и убивственная тень манценилла манит своею коварною прохладой15. Крокодил плачет младенцем в струях реки, и тигр, притаясь в огромных бамбуковых тростниках, сторожит свою добычу!..
И в этот мир чудовищных богов и дивных вымыслов, и в этот-то кипучий мир жизни и смерти бросил бы я действователей моей «Сакунталы»16, людей, не имеющих воли, без рассудка, но не без воображения, у которых кровь знойнее климата, страсти необузданные.
Кровь льется, как ливень из облаков; вооруженные слоны топчут людей, как муравейник, и люди радуются, хохочут, когда пред их глазами, за их пиршеством тысячи палачей исторгают языки и очи у пленников, губят их медленными, неслыханными муками; они безжалостнее тигров, кровожаднее людоедов Америки, которые, по крайней мере, терзая собрата, ищут утолить голод или причуды вкуса; эти набобы из страданий человека делают себе забаву и наслаждение!17 И в этих-то людях проявлю я любовь, любовь земную, но прекрасную, но роскошную, как самый климат Индии; любовь, которая палит, как тамошнее солнце, плачет крокодилом, рыкает как лев, – любовь сладострастную и безжалостную, как сама природа Индии!..
И вот человек бежит из Индии, бежит упояющих, убийственных объятий этой прелестницы, бежит сторуких и триглавых богов своих; но он теряет на дороге и символы и предания о них – но на нем еще бьются обрывки цепей фатализма. Он отдыхает в Персии; он спит там на цветах, но уже не потому, что не может бодрствовать, а потому, что любит спать. Неверность будущего убивает его деятельность, а богатство даров природы лелеет его лень. И в самом деле, для чего ж бы, для кого бы трудился он, за что бы сражался он? Горские народы, так сказать, осеверенные, окреплые свежестью гор, придут завтра и пожнут саблей его жатву. Шах возьмет в свой гарем дочь его, пошлет на убой его сына; сильный сосед отнимет его дом… или землетрясение его поглотит; повеет чума – унесет его самого в минуту! Там человек уже чувствует в себе волю, но не ищет проявить ее; боготворит уж не природу, но все еще силы природы; отрицает идолов и поклоняется огню; он ползает перед сатрапом, коварствует, льстит, отравляет, потому что все это легче труда, потому что все это может доставить ему наслаждение на сей день.
Мудрость и доблести Киров – сказка, изобретенная для пристыжения греков18; злодейства Белуса19, ненасытное сладострастие Семирамиды20, пресыщение Сарданапала21, безумная отвага Ксеркса22 – вот истина! Вот восточные владыки! Вот тип их нравов!.. Какое богатое поле для драмы…
Свидание*
Карета катилась мимо Волковского кладбища. Вадимов дернул за снурок. «Стой!» – закричал он кучеру. «Что хочешь ты делать?» – спросила Ольга.
– Выйдем на минуту прогуляться. Душа моя рвется разлиться на всю природу, а в карете так тесно, будто в тюрьме; я отвык от классического колебанья, меня укачивает в ней, как новичка на корабле. Погода прелестна. Солнце будто растаяло негою в небе… пойдем подышать воздухом вечера… дай мне поглядеть на тебя без свидетелей.
– Для тебя, Лев, я на все готова, но, признаюсь, я не люблю прогулок по кладбищу. Посмотри, гробницы, как подорожные столбы, на каждом шагу; граница этой дороге могила… зачем пугать резвую жизнь образами смерти?
– Пугать, говоришь ты, милая, скажи лучше: возбуждать жизнь. Греки любили попировать и умели повеселиться. Однако греки, между чашами, клали на стол мертвую голову; «Спеши, наслаждайся, жизнь коротка», – говорили они, и гости следовали безмолвно совету.
– Бывали ли на этих пирах женщины, милый мой?..
Вадимов смутился.
– Право не знаю наверно, – сказал он, усмехнувшись, – но что нам до этого? Если бы ты любила меня, чувство любви окрасило бы для тебя в розовый цвет все предметы, проникло бы все своею прелестию, одушевило бы мертвую природу, причаровало бы к тебе живую. Я верю в это, я уверен в том по опыту.
Ольга задумчиво устремила на Вадимова свои черные очи, на которых мерцали две звездочки.
О, какое сердце не растаяло, не вспыхнуло бы от их лучей, будь оно хоть алмаз! Невозможно выразить, какая обаятельная сила заключалась в них; и свет этих глаз то носился как искра во мраке, то распускался лучезарною денницей любви, то вспыхивал яркою, хотя безмолвною, зарницей страсти!.. То была светлая мысль, то была душа самая пылкая, прекрасная душа!..
Она тихо сжала руку Вадимова.
– И ты мог сказать, мог подумать, что я не люблю тебя за то, что не люблю мертвецов!.. Не выходец ли ты с того света? – примолвила она шутя… – О, не смотри так на меня, как ночной всадник на Людмилу…1 нет, ты жив во мне, ты жив для меня, ты всегда будешь в моем сердце! Если б я могла пережить тебя… Любовь бальзамирует останки милого.
– Да, я верю тебе, бальзамирует, не более. Я не терплю мумий! Нет, нет! Вздохи любви согревают, слезы любви спрыскивают, как живая вода, милые кости воспоминанием, и они отрясают гробовую пыль, встают, вспрыгивают, полные жизни, с розами на щеках, со всеми своими прелестями и причудами! Сама ль ты любовь или любовница, очарованье или очаровательница?.. Дай мне налюбоваться на улыбку этой страсти в тебе, дай мне вкусить ее поцелуй… Когда так живительны, так всемогущи улыбка, вздохи и слезы ее, как сладостны должны быть ее поцелуи! Если любовь воскрешает на белый свет мертвых, как же не уносить ей в небоживых!
– Ты безумствуешь, милый, – с нежностью возразила Ольга, – в долине ли смерти думать о поцелуях, – в стране ли покоя предаваться мятежу страсти?..
– Зачем же нет, Ольга, зачем же нет? Мысль о тебе и на поле битвы, истинной жатве смерти, соединяла меня с тобою; даже в те минуты, когда в глазах были хладные памятники разрушения, а живые разрушители сверкали надо мной саблями, когда рев ядер и свист свинца мешался с громом выстрелов, я искал твоей улыбки в смертных судорогах! О да, любовь всемогуща; она может поглотить вдруг время и пространство, может произрастить цветы из льющейся крови!..
– Ты много видел крови?
– Видел ли я? Я сам много пролил ее. Что ж ты содрогаешься так, милая? Неужели ты так же малодушна, как те судьи, которые почерком пера посылают под топор, а сами, не бледнея, не могут видеть ланцета? Не ты ли сама ринула меня в бурный поток войны?.. И я, который не мог видеть сперва зарезанного при себе цыпленка, я закалил свое сердце до жестокости, – до того, что страдание и падение товарищей в битве не производило на меня никакого впечатления, до того, что гибель врага меня утешала; я радовался как ребенок, когда от моей пули падал в прах с коня какой-нибудь наездник. Когда ж удавалось вонзить свою шашку в сердце, о! тогда я был в восхищении и, вытирая кровавую полосу о гриву коня, думал: «Если б моя Ольга видела этот удар, она бы наградила меня поцелуем!» Награди ж меня, моя божественная! Рука, обнимающая твой стройный стан, по твоей воле обагрена в крови по локоть!
– Ты все говоришь о смерти и о крови, Лев, к чему это? Ты воротился счастливо сюда… ты достал славу на поле смерти… и рука твоя так же бела, как прежде.
С минуту длилось безмолвие… Вадимов терялся в созерцании лица своей милой; Ольга играла волосами его.
– Как ты загорел, Лев! – сказала она.
– Это двойной загар, Ольга… от пылу души и восточного солнца. Ты еще не хочешь досказать своего привета; зыбля головой, ты думаешь: «Ах, Лев, как ты постарел!» Да, я очень постарел лицом, но я молод сердцем, я это знаю… Не столько бессонные ночи на страже, не столько заботы походов, усталость, битвы и тяжкая боль ран пробороздили мое чело, – нет, их нарезала разлука… Горский разбойник кинжалом взрывает пядь земли на гранитном черепе и сеет в нее зерна, обрызганные кровью. Так же взрывала разлука чело мое! Да, Ольга, в этих браздах всходили чудные мысли, злобные мысли, когда я думал: если она изменит мне? Но ты верна была мне, ты не изменила мне, не правда ль, милая?..
– Можешь не сомневаться!..
– Сомневаться! Почему ж не сомневаться в наш век, который сомневается во всем, даже в аде и в небе! Но, признаюсь, разочароваться, убедиться было бы мне трудно, мучительно, убийственно; я так постоянно, так пламенно любил тебя! Нет, ты не имела соперниц, Ольга!.. Зато и я… разве один только гроб потерпел бы соперником!.. Под этим холодным камнем скорее желал бы я тебя видеть, чем в объятиях другого.
– Ты меня ужасаешь, Лев: мы первый раз видимся после такой долгой разлуки, и вместо приветливых речей на языке твоем одни страхи!
– Прости, моя милая, бесценная, прости; опасения были так долго у меня на уме, опасности так часто окружали меня, что невольно вырываются мрачные слова, – зато небо нашей любви не помрачится никаким облачком.
– Зато петербургское небо померкло, облака стелются ниже и ниже; вот накрапывает дождик…
– Что мне до дождя, что мне до всех стихий, когда я подле тебя… отвечай же мне, милая…
– Это зависит от судьбы!
– Но кто кует судьбу, как не мы сами!.. Наш ум, наши страсти, наша воля – вот созвездие путеводное, вот властители, планета нашего счастья!.. Не поклонюсь я этому слепому истукану, воздвигнутому на костях человеческих, не устрашусь призрака, который изобрели злодеи, чтобы выдавать свои замыслы орудиями рока, и которому верят слабодушные, для того что в них нет решительности действовать самим. Верить фатализму – значит не признавать ни греха, ни добродетели, значит сознаваться, что мы бездушные игрушки какой-то неведомой нам силы, что мы цветы на потоке жизни или перекати-поле, носимое по прихоти ветров! Это не моя вера…
– Друг мой, миллионы людей не верят, что земля вертится; но мешает ли это ее путешествию в раздолье небес?.. Впрочем, не дамское дело разбирать законы провидения или заветы судьбы.
– Или провидение, или судьба, что-нибудь одно, милая; свет и мрак не могут быть вместе.
– Но со светом может быть тень!..
Вадимов задумался.
– Ты остроумна, милая Ольга, – молвил он, – еще одним качеством в тебе более; однако ты права, сказав, что философия не женское дело… Ваше дело и ваше безделье – любовь, но любовь для мужчины не дело и не безделье: она цель его жизни, душа его жизни. Так люблю я сам! Всегда и везде твой образ носился передо мной, твое имя шептал я как молитву, засыпая; ты одна украшала мои сны, и первая мысль о тебе согревала мое сердце, уже холодевшее под рукой смерти. Много, да, очень много вытерпел я! Но когда товарищи роптали, дрожа от холода, изнывая от голода на походе, я думал: она хотела, чтоб я был воином, – и топь, и скалы сглаживались предо мной, и я шел вперед припеваючи, будто на свидание, и каждая звездочка на эполете всходила для меня как звезда надежды близкого обладания тобой, слава для меня была ты, – мудрено ли, что я кидался за нею как безумный; и вот я полковник гвардии, и вот меня знает государь, уважает начальство, обо мне говорят, меня ласкают, мне завидуют! Но кому на земле или в небе позавидую я подле тебя, любимый тобой?..
Коварный финский небосклон вдруг обложился тучами; крупный дождь прибил пыль, возметаемую ветром. Любовникам невольно должно было искать убежища; карета их осталась далеко; они вошли в большой фамильный склеп, воздвигнутый барскою роскошью, которая и в лоне самой смерти не хочет мешать своего брения с прахом простолюдинов!..
Забывают они, что пред судом Бога нет сана, нет семейных связей, нет никакой опричины2 и что, быть может, им придется просить каплю воды у бедняка, которого заставляли они лить горькие слезы, которого сердце раздавили безжалостно, которого прах попирали с презреньем!..
Вход этого гробового склепа украшен был двумя сфинксами3, этими истинными символами смерти с ее неразрешимыми загадками! У задней стены видна была из белого мрамора высеченная женщина на коленях, плачущая над урной; переломленный якорь лежал у ног ее; несколько простых каменных гробниц стояли по стенам…
Мрак густел под сводами, только статуя белелась, как привидение, и, по временам, молния сквозь распахнутые двери багровила своим неверным блеском черные камни, и на них золотые буквы вспыхивали и вдруг, неуловимые, гасли, будто бы их чертил неведомый перст на стене Валтазара4. Все наводило какой-то священный невольный ужас. Резвая как ласточка, вспорхнула Ольга во внутренность склепа, но с криком бросилась она назад и почти упала в объятия Вадимова…
– Что с тобой, чего ты испугалась, моя Ольга, – заботливо спросил ее Вадимов. – Ты побледнела, как батист твоей косынки, ты вся трепещешь…
– Спаси, спасите… – шептала Ольга, указывая на гробницы…
– Отбрось пустые страхи, милая, – говорил Вадимов, ободряя, нежно прижав к груди испуганную красавицу, – здесь живых только мы двое.
– Но знаешь ли, кто здесь мертвецы?.. Знаешь ли, кто хозяева этого дома смерти?.. Это предки мои!..
– Тем лучше, милая; свой своему поневоле друг: они хотят приютить родную от непогоды…
– О, не шути, Лев. Это недаром… они ждут меня.
– Но только в гости, бесценная, только на один час.
– И как я не узнала этого склепа? Правда, я была здесь однажды, когда хоронили матушку, но тогда мне было не до наблюдений!
– Видишь ли, милая, что это случайность!
– Но страшная случайность, Лев… зловещая случайность. О, пойдем скорее отсюда! Этот гробовой свод душит меня; эта могильная темнота, как свинец, гнетет сердце; из подземелья веет могильным нетлением, и гром отдается глухо, будто голос самой смерти.
– Смерть безмолвна, милая, смерть хранит свято вверенные ей тайны, – с мертвыми безопасны мы от злобы живых.
– Нет, я не останусь здесь… пойдем туда, туда, на Божий свет, на чистый воздух, в область жизни…
– Там буря и ливень…
– Краше буря, чем здешняя тишина… туда, туда…
И Ольга бросилась в двери; но в тот миг, когда она переступила порог, оглушающий удар грома разразился над головой, и в двадцати шагах молния упала на одну надгробную пирамиду; пламенный сноп осыпал окрестность – и вдруг все потонуло во мраке… ночь стала еще чернее, ливень пролился с двойною яростию, будто перун расторг чреватые водою тучи…5 Ольга закрыла ослепленные очи, колени изменили ей, сердце замерло страхом…
– Молния! – вскричала она, упадая в объятия страстного Вадимова.
– Не бойся молний, душа моя!.. Неужели ты думаешь, что они сверкают в небе и свергаются на землю, чтоб поражать любовников?.. Любовников! Когда ни один знаменитый злодей не был еще сожжен ими! Молния одинаково поражает и главу церкви, и шпиц темничной башни; она проницает в могилы, падает в степи, так же как в волны моря, бьет в полезное дерево, в невинное животное, а грешник, не бледнея, пирует в своих палатах под громовым отводом. Не бойся же, милая! Можно ли отклонить гнев неба железным прутом? Поверь мне, что это слепая игра природы, это лишь разлив сил ее, потерявших равновесие.
Так говорил Вадимов, присев на гробе, сжимая в своих объятиях Ольгу.
Тиха и недвижима лежала она в его объятиях, и мало-помалу страх уступал место чувству более нежному; мало-помалу окружающее исчезало для нее; при блеске молний видно было, как румянец живей и живей разыгрывался на ее прелестном лице… сердце ее еще билось сильно, порою даже трепетала она; но это было уже не от испуга. Только при блеске огней из туч вздрагивала она и, скрывая лицо свое в плащ Вадимова, произносила: «Молния!»
– Это улыбка бури, душа моя, – говорил ей Вадимов, осыпая ее лобзаниями, – это поцелуй двух туч, которые слетелись с двух краев горизонта, чтобы слиться воедино любовью. Да, милая, любовь везде и повсюду; она и в пылинках, сплывающихся в кристаллы; она на ветке дерева и в дикой берлоге; она в чашечке цветка, равно как в сердце человека; она в стихиях земли и в мирах небесных! Сам Бог есть любовь6, любовь высшая, чистейшая, святейшая! Любовь сближает нас с Божеством. Прижав тебя к груди моей, я чувствую в себе разгар святого пламени, чувствую, что земное, как растопленный свинец, каплет, стекает долой с души, что она легчает, светлеет; к ней прильнули уже крылья серафима. С восторгом и страхом машу я ими, как молодая ласточка, которая рвется с высоты в поднебесье. О, почему не улечу я, почему не улетим мы оба туда… даже из-под могильного свода, почему эта гробовая плита не будет нам первою ступенью на небо?..
– Зачем улетать в неизвестное, – сказала ропотом Ольга, – зачем… когда и земля так прелестна!
– Да, прекрасна наша земля, она драгоценная жемчужина в ожерелье миров, но драгоценнейшая ли она? Но совершеннейшая ли она? И если есть планета совершеннее нашей земли, каково ж должно быть небо этой планеты, когда в сновидениях один рассвет его или две звезды его неба, твоим очам подобные, погружают, топят мое сердце в океане блаженства! Но ты не слушаешь меня, ты не веришь мне; может быть, не понимаешь меня даже, а все потому, что ты не любишь, как я люблю… Скажи правду: ты не любишь так? Ты женщина, ты бабочка, для которой жизнь – дыханье цветов, многих цветов! У которой золотой пух на крыльях мешает подняться высоко, которую уносит каждый ветерок, манит каждая свечка! Отвечай же мне Ольга! Ужель и ты, как все твои сестры… ужели моя безграничная любовь не находит полного отголоска в твоем сердце?.. О, будь хоть откровенна, жизнь моя, выкупи признательностию, умей сказать в очи своему любовнику: да, и я женщина, и я такова же, как все. Да, ты не можешь разорвать цветочных цепей, которыми приковал свет к земле твое сердце, когда ни медь, ни булат не сдержат моего в полете… не терзай меня сомненьем, отвечай мне!..
Она отвечала страстным поцелуем! Этот поцелуй осыпал звездами счастливца, обдал его молниями. Как он роскошно отозвался много раз! И кто бы мог противостать этому обольстительному поцелую, не позабыв всего на свете! И Вадимов забыл все на свете, забылся тем сном, который, может быть, лишь первый человек мог вкушать до падения; сном, в котором чувство, разум и воля сливаются в три буквы «рай»; сном, который в поминки по себе оставляет сладкие слезы на щеках, сладкое трепетание в усталом сердце и какую-то негу, часто без мыслей, без желаний, негу полного, безотчетного блаженства!
Ольга, проникнутая счастием, перетопленная, так сказать, пламенною любовью Вадимова, тихо покоилась на широкой груди его. Сердце в ней трепетало, как голубица, утомленная полетом в небо; но оно отдыхало, будто в родимом гнезде, и кровь, которая за миг еще огнем прорывалась в жилах, теперь лилась в них, подобно густому вину Токая7. Казалось, небесная молния сплавила страсти обоих любовников в одно неделимое… они жили одним чувством, дышали одним дыханием – «мы» для них было тогда «я».
Но надолго ли даны человеку, с самой страстною душой, эти мгновения самозабывчивости, этого знакомства с небом? Быстро прогорают они, как янтарь, с блеском и ароматом. Незваный гость «мысль», точно ласточка в басне, закрадывается в дом кролика чувства8 и овладевает им насильно: пробужденные души, как два младенца, уснувшие друг у друга в объятиях, распрыгиваются за разными игрушками.
Между тем буря стихла, небо выяснело, луна, будто невеста под дымчатым покровом, свежа, как из купели, возникла на краю небосклона. Памятники блестели каплями дождя, будто слезами этой звезды мертвецов… они скользили вдоль холодных камней и гармонически падали в потоки, которые с грустным журчанием подмывали надгробия и сочились в могилы на разрушение останков и памяти людей. Все было тихо кругом, и вдали, лишь одному сердцу, не уху, слышно было веяние духов, которые возвратились повидаться с землею; но у ней уже не было отголоска для шагов их, не было тени их образу. Казалось лишь порой, будто какие-то призраки мелькали, переплетаясь с лучами месяца. Алмазные былинки росы, не тронутые ветром, зыбились и исчезали из персей цветов намогильных, будто незримая стопа касалась их, будто воздушные уста всасывали чистую их влагу. И когда напряженный глаз, напряженное ухо силились поймать малейшее движение, тончайший звук, усталому взору казалось, что камни круговращаются, что они возникают на грудь земли, которая забилась жизнию, но медленно, безмолвно. Лишь уху слышалась повременно гармония, которая родится в нем самом и замирает в пространстве, между тем как душа отзывается ей, сыпля искры и звуки, подобно электрической струне Эоловой арфы9.
– Посмотри, милая, – сказал Вадимов своей возлюбленной, дремлющей на груди его, – оглянись кругом, как любовь украсила эти печальные стены для нас.
Ольга подняла очи; она, казалось, не слушала слов его.
– Как здесь сыро и холодно, – молвила она, закутываясь в плащ Вадимова.
– Холодно? На груди моей, в объятиях моих тебе холодно?.. Между тем как в столетние годы разлуки, за тысячу верст от тебя, одна мысль о тебе согревала меня в нетающих снегах Кавказа, под осенним дождем!..
– Милый мой, разве я виновата в этом? У вас, мужчин, бронзовое сердце!..
– Да, бронзовое: одно электрическое прикосновение может раскалить его… Зато уж ваше ледяное сердце не тает ни от какого жара.
– Замолчи, клеветник, – с улыбкою сказала Ольга, закрывая своею прелестною ручкой уста Вадимову, который с жадностию лобзал ее… – Я здесь, я с тобою наедине, и ты можешь упрекать меня в холодности! Однако, – примолвила она, спорхнув на землю, поцеловав Вадимова мимолетом, – пора домой.
Мысль разлучиться так скоро с обожаемою вдруг и вновь запалила Вадимова; он упал на колена перед нею, он пожирал ее стан лобзаниями.
– Нет! Еще миг, бесценная! Еще миг останься со мною! Посмотри, дождевой поток, словно обручальное кольцо, обнял эту гробницу, мы теперь отделены от света, мы здесь на острове, мы как цветы жизни на гробах, мы вместе! Зачем же нам желать разлуки, или ты не пресыщена ею, или мало пролил я слез горести, что ты похищаешь у меня слезы блаженства?
– Лев, как ты причудлив, мы и без того слишком долго оставались наедине; что подумают люди мои, что будут говорить в свете, если об этом узнают!
– Пусть думают, пусть говорят, что им угодно! Разве ты не невеста моя, разве ты не моя Ольга? Разве я не заслужил твоего сердца, не выстрадал твоей руки?..
– Здесь не место говорить о таких вещах, – сказала Ольга, освобождая руки свои…
– Нет, здесь-то, при святых гробах, при тенях твоих предков, должна ты дать обет, столь давно желаемый, столь нетерпеливо ожидаемый, обет принадлежать мне на жизнь, на всю жизнь, навек, на вечность… Ольга, вспомни заветы свои, вспомни мои жертвы для тебя, осчастливь меня своим звуком, одним словом, потому что одного твоего слова недостает к моему счастию!
Ольга молчала.
– О, не терзай меня, не заставляй подозревать то, чего нет, чего, может быть, век не станется; не заставь меня считать тебя худшею, нежели ты есть. Или…
Вадимов остановился и долго, долго всматривался в лицо Ольги; мысли его, как брызги растопленного металла, упали в снег сомнения… и вдруг очи его засверкали; он вскочил… вырвавшийся из груди его стон был рев тигра, у которого весной похищают тигрицу.
– Но если я обманут тобой, Ольга, если любовь твоя была не что иное, как тщеславие, если нежность твоя теперь одна отраженная на тебе страсть моя, если другой… прочь, прочь эта мысль!.. Нет никто другой не будет владеть тобою, покуда я жив, – никто…
Дополнения
Страшное гаданье*
Посвящается Петру Степановичу Лутковскому1
Давно уже строптивые умы
Отринули возможность духа тьмы;
Но к чудному всегда наклонным сердцем,
Друзья мои, кто не был духоверцем?..2
…Я был тогда влюблен, влюблен до безумия! О, как обманывались те, которые, глядя на мою насмешливую улыбку, на мои рассеянные взоры, на мою небрежность речей в кругу красавиц, считали меня равнодушным и хладнокровным. Не ведали они, что глубокие чувства редко проявляются именно потому, что они глубоки; но если б они могли заглянуть в мою душу и, увидя, понять ее, – они бы ужаснулись! Все, о чем так любят болтать поэты, чем так легкомысленно играют женщины, в чем так стараются притвориться любовники, – во мне кипело, как растопленная медь, над которою и самые пары, не находя истока, зажигались пламенем. Но мне всегда были смешны до жалости приторные вздыхатели со своими пряничными сердцами3; мне были жалки до презрения записные волокиты со своим зимним восторгом, своими заученными изъяснениями, и попасть в число их для меня казалось страшнее всего на свете.
Нет, не таков был я; в любви моей бывало много странного, чудесного, даже дикого; я мог быть непонятен, но смешон – никогда. Пылкая, могучая страсть катится как лава; она увлекает и жжет все встречное; разрушаясь сама, разрушает в пепел препоны и хоть на миг, но превращает в кипучий котел даже холодное море.
Так любил я… назовем ее хоть Полиною. Все, что женщина может внушить, все, что мужчина может почувствовать, – было внушено и почувствовано. Она принадлежала другому, но это лишь возвысило цену ее взаимности, лишь более раздражило слепую страсть мою, взлелеянную надеждой. Сердце мое должно было расторгнуться, если б я замкнул его молчанием: я опрокинул его, как переполненный сосуд, перед любимою женщиною; я говорил пламенем, и моя речь нашла отзыв в ее сердце. До сих пор, когда я вспомню об уверении, что я любим, каждая жилка во мне трепещет, как струна, и если наслаждения земного блаженства могут быть выражены звуками, то, конечно, звуками подобными! Когда я прильнул в первый раз своими устами к руке ее, – душа моя исчезла в этом прикосновении! Мне чудилось, будто я претворился в молнию: так быстро, так воздушно, так пылко было чувство это, если это можно назвать чувством.
Но коротко было мое блаженство: Полина была столько же строга, как прелестна. Она любила меня, как никогда я еще не был любим дотоле, как никогда не буду любим вперед: нежно, страстно и безупречно… То, что было заветно мне, для нее стоило более слез, чем мне самому страданий. Она так доверчиво предалась защите моего великодушия, так благородно умоляла спасти самое себя от укора, что бесчестно было бы изменить доверию.
– Милый! мы далеки от порока, – говорила она, – но всегда ли далеки от слабости? Кто пытает часто силу, тот готовит себе падение; нам должно как можно реже видеться!
Скрепя сердце я дал слово избегать всяких встреч с нею.
И вот протекло уже три недели, как я не видал Полины. Надобно вам сказать, что я служил еще в Северском конно-егерском полку, и мы стояли тогда в Орловской губернии… позвольте умолчать об уезде. Эскадрон мой расположен был квартирами вблизи поместьев мужа Полины. О самых святках полк наш получил приказание выступить в Тульскую губернию, и я имел довольно твердости духа уйти не простясь. Признаюсь, что боязнь изменить тайне в присутствии других более, чем скромность, удержала меня. Чтоб заслужить ее уважение, надобно было отказаться от любви, и я выдержал опыт. Напрасно приглашали меня окрестные помещики на прощальные праздники; напрасно товарищи, у которых тоже, едва ль не у каждого, была сердечная связь, уговаривали возвратиться с перехода на бал, – я стоял крепко.
Накануне Нового года мы совершили третий переход и расположились на дневку. Один-одинехонек, в курной хате, лежал я на походной постели своей, с черной думой на уме, с тяжелой кручиной в сердце. Давно уж не улыбался я от души, даже в кругу друзей: их беседа стала мне несносна, их веселость возбуждала во мне желчь, их внимательность – досаду за безотвязность; стало быть, тем раздольнее было мне хмуриться наедине, потому что все товарищи разъехались по гостям; тем мрачнее было в душе моей: в нее не могла запасть тогда ни одна блестка наружной веселости, никакое случайное развлечение.
И вот прискакал ко мне ездовой от приятеля с приглашением на вечер к прежнему его хозяину, князю Львинскому. Просят непременно: у них пир горой; красавиц – звезда при звезде, молодцов рой, и шампанского разливанное море. В приписке, будто мимоходом, извещал он, что там будет и Полина. Я вспыхнул… Ноги мои дрожали, сердце кипело. Долго ходил я по хате, долго лежал, словно в забытьи горячки; но быстрина крови не утихала, щеки пылали багровым заревом, отблеском душевного пожара; звучно билось ретивое в груди. Ехать или не ехать мне на этот вечер? Еще однажды увидеть ее, дыхнуть одним с нею воздухом, наслушаться ее голоса, молвить последнее «прости»! Кто бы устоял против таких искушений? Я кинулся в обшивни4 и поскакал назад, к селу князя Львинского. Было два часа за полдень, когда я поехал с места. Проскакав двадцать верст на своих, я взял потом со станции почтовую тройку и еще промчался двадцать две версты благополучно. С этой станции мне уже следовало своротить с большой дороги. Статный молодец на лихих конях взялся меня доставить в час за восемнадцать верст, в село княжое.
Я сел, – катай!
Уже было темно, когда мы выехали со двора, однако ж улица кипела народом. Молодые парни, в бархатных шапках, в синих кафтанах, расхаживали, взявшись за кушаки товарищей; девки в заячьих шубах, крытых яркою китайкою5, ходили хороводами; везде слышались праздничные песни, огни мелькали во всех окнах, и зажженные лучины пылали у многих ворот. Молодец, извозчик мой, стоя в заголовке саней, гордо покрикивал: «пади!» – и, охорашиваясь, кланялся тем, которые узнавали его, очень доволен, слыша за собою: «Вон наш Алеха катит! Куда, сокол, собрался?» – и тому подобное. Выбравшись из толпы, он обернулся ко мне с предуведомлением:
– Ну, барин, держись! – заложил правую рукавицу под левую мышку, повел обнаженной рукой над тройкою, гаркнул – и кони взвились как вихорь! Дух занялся у меня от быстроты их поскока: они понесли нас.
Как верткий челнок на валах, кувыркались, валялись и прыгали сани в обе стороны; извозчик мой, упершись в валек ногою и мощно передергивая вожжами, долго боролся с запальчивою силою застоявшихся коней; но удила только подстрекали их ярость. Мотая головами, взбросив дымные ноздри на ветер, неслись они вперед, взвивая метель над санями. Подобные случаи столь обыкновенны для каждого из нас, что я, схватясь за облучок, преспокойно лежал внутри и, так сказать, любовался этой быстротой путешествия. Никто из иностранцев не может постичь дикого наслаждения – мчаться на бешеной тройке, подобно мысли, и в вихре полета вкушать новую негу самозабвения. Мечта уж переносила меня на бал. Боже мой, как испугаю и обрадую я Полину своим неожиданным появлением! Меня бранят, меня ласкают; мировая заключена, и я уж несусь с нею в танцах… И между тем свист воздуха казался мне музыкою, а мелькающие изгороди, кусты леса – пестрыми толпами гостей в бешеном вальсе… Крик извозчика, просящего помощи, вызвал меня из очарования. Схватив две вожжи, я так скрутил голову коренной6, что, упершись вдруг, она едва не выскочила из хомута. Топча и фыркая, остановились наконец измученные бегуны, и когда опало облако инея и ветерок разнес пар, клубящийся над конями:
– Где мы? – спросил я у ямщика, между тем как он перетягивал порванный чересседельник и оправлял сбрую.
Ямщик робко оглянулся кругом.
– Дай Бог памяти, барин! – отвечал он. – Мы уж давно своротили с большой дороги, чтобы упарить по сугробу гнедышей, и я что-то не признаюсь к этой околице. Не ведь это Прошкино Репище, не ведь Андронова Пережога?
Я не подвигался вперед ни на полвершка от его топографических догадок; нетерпение приехать меня одолевало, и я с досадою бил нога об ногу, между тем как мой парень бегал отыскивать дорогу.
– Ну что?
– Плохо, барин! – отвечал он. – В добрый час молвить, в худой помолчать, мы никак заехали к Черному озерку!
– Тем лучше, братец! Коли есть примета, выехать недолга песня; садись и дуй в хвост и в гриву!
– Какое лучше, барин; эта примета заведет невесть куда, – возразил ямщик. – Здесь мой дядя видел русалку: слышь ты, сидит на суку да и покачивается, а сама волосы чешет, косища такая, что страсть; а собой такая смазливая – загляденье, да и только; и вся нагая, как моя ладонь.
– Что ж, поцеловал ли он красавицу? – спросил я.
– Христос с тобой, барин, что ты это шутишь? Подслушает она, так даст поминку, что до новых веников не забудешь. Дядя с перепугу не то чтобы зааминить али зачурать ее, даже ахнуть не успел, как она, завидя его, захохотала, ударила в ладоши, да и бульк в воду. С этого сглазу, барин, он бродил целый день вкруг да около, и когда воротился домой, едва языка допыталися: мычит по-звериному, да и только! А кум Тимоша Кулак ономесь7 повстречал тут оборотня; слышь ты, скинулся он свиньей, да то и знай мечется под ноги! Хорошо, что Тимоша и сам в чертовщине силу знает: как поехал на ней чехардой8 да и ухватил за уши, она и пошла его мыкать, а сама визжит благим матом; до самых петухов таскала, и уж на рассвете нашли его под съездом у Гаврюшки9, у того, что дочь красовита. Да то ли здесь чудится!.. Серега косой как порасскажет…
– Побереги свои побасенки до другого случая, – возразил я, – мне, право, нет время, ни охоты пугаться… и если ты не хочешь, чтоб русалка защекотала тебя до смерти или ночевать с карасями под ледяным одеялом, то ищи скорей дороги.
Мы брели целиком10, в сугробах выше колена. На беду нашу небо задернуто было пеленою, сквозь которую тихо сеялся пушистый иней; не видя месяца, нельзя было узнать, где восток и где запад. Обманчивый отблеск, между перелесками, заманивал нас то вправо, то влево… Вот-вот, думаешь, видна дорога… доходишь – это склон оврага или тень какого-нибудь дерева… одни птичьи и заячьи следы плелись таинственными узлами по снегу. Уныло звучал на дуге колокольчик, двоя каждый тяжелый шаг, кони ступали, повесив головы; извозчик, бледный как полотно, бормотал молитвы, приговаривая, что нас обошел леший, что нам надобно выворотить шубы вверх шерстью и надеть наизнанку – все до креста11. Я тонул в снегу и громко роптал на все и на всех, выходя из себя с досады, а время утекало, – и где конец этому проклятому пути?! Надобно быть в подобном положении, надобно быть влюблену и спешить на бал, чтобы вообразить весь гнев мой в то время… Это было бы очень смешно, если б не было очень опасно.
Однако ж досада не вывела нас на старую дорогу и не проторила новой; образ Полины, который танцевал передо мною, и чувство ревности, что она вертится теперь с каким-нибудь счастливцем, слушает его ласкательства, может быть, отвечает на них, нисколько не помогали мне в поисках. Одетый тяжелою медвежьею шубою, я не иначе мог идти, как нараспашку, и потому ветер проницал меня насквозь, оледеняя на теле капли пота. Ноги мои, обутые в легкие танцевальные сапоги, были промочены и проморожены до колен, и дело уж дошло до того, что надобно было позаботиться не о бале, а о жизни, чтоб не кончить ее в пустынном поле. Напрасно прислушивались мы: нигде отрадного огонька, нигде голоса человеческого, даже ни полета птицы, ни шелеста зверя. Только храпение наших коней, или бой копыта от нетерпения, или, изредка, бряканье колокольца, потрясаемого уздою, нарушали окрестное безмолвие. Угрюмо стояли кругом купы елей, как мертвецы, закутанные в снежные саваны, будто простирая к нам оледенелые руки; кусты, опушенные клоками инея, сплетали на бледной поверхности поля тени свои; утлые, обгорелые пни, вея седыми космами, принимали мечтательные образы; но все это не носило на себе следа ноги или руки человеческой… Тишь и пустыня окрест.
Молодой извозчик мой одет был вовсе не по-дорожному и, проницаемый не на шутку холодом, заплакал.
– Знать, согрешил я перед Богом, – сказал он, – что наказан такой смертью; умрешь, как татарин, без исповеди! Тяжело расставаться с белым светом, только раздувши пену с медовой чаши; да и куда бы ни шло в посту, а то на праздниках. То-то взвоет белугой моя старуха! То-то наплачется моя Таня!
Я был тронут простыми жалобами доброго юноши; дорого бы я дал, чтобы так же заманчива, так же мила была мне жизнь, чтобы так же горячо веровал я в любовь и верность. Однако ж чтоб разгулять одолевающий его сон, я велел ему снова пуститься в ход наудачу, сохраняя движением теплоту. Так шли мы еще полчаса, как вдруг парень мой вскрикнул с радостию:
– Вот он, вот он!
– Кто он? – спросил я, прыгая по глубокому снегу ближе.
Ямщик не отвечал мне; упав на колени, он с восторгом что-то рассматривал; это был след конский. Я уверен, что ни один бедняк не был столь рад находке мешка с золотом, как мой парень этому верному признаку и обету жизни. В самом деле, скоро мы выбрались на бойкую дрововозную дорогу; кони, будто чуя ночлег, радостно наострили уши и заржали; мы стремглав полетели по ней куда глаза глядят. Через четверть часа были уже в деревне, и как мой извозчик узнал ее, то привез прямо к избе зажиточного знакомого ему крестьянина.
Уверенность возвратила бодрость и силы иззябшему парню, и он не вошел в избу, покуда не размял беганьем на улице окоченевших членов, не оттер снегом рук и щек, даже покуда не выводил коней. У меня зашлись одни ноги, и потому, вытерши их в сенях докрасна суконкою, я через пять минут сидел уже под святыми, за набранным столом, усердно потчуемый радушным хозяином и попав вместо бала на сельские посиделки.
Сначала все встали; но, отдав мне чинный поклон, уселись по-прежнему и только порой, перемигиваясь и перешептываясь между собою, кажется, вели слово о нежданном госте. Ряды молодиц в низанных киках, в кокошниках12 и красных девушек в повязках разноцветных, с длинными косами, в которые вплетены были треугольные подкосники с подвесками13 или златошвейные ленты, сидели по лавкам очень тесно, чтоб не дать между собою места лукавому, – разумеется, духу, а не человеку, потому что многие парни нашли средство втереться между. Молодцы в пестрядинных или ситцевых рубашках, с косыми галунными воротками и в суконных кафтанах увивались около или, собравшись в кучки, пересмехались, щелкали орешки, и один из самых любезных, сдвинув набекрень шапку, бренчал на балалайке «Из-под дубу, из-под вязу». Седобородый отец хозяина лежал на печи, обратясь лицом к нам, и, качая головой, глядел на игры молодежи; для рам картины, с полатей выглядывали две или три живописные детские головки, которые, склонясь на руки и зевая, посматривали вниз. Гаданья на Новый год пошли обычной своей чередою. Петух, пущенный в круг, по обводу которого насыпаны были именные кучки овса и ячменя с зарытыми в них кольцами, удостоив из которой-нибудь клюнуть, возвещал неминуемую свадьбу для гадателя или загадчицы… Накрыв блюдом чашу, в которой лежали кусочки с наговорным хлебом, уголья, значение коих я никак не мог добиться, и перстни да кольца девушек, все принялись за подблюдные песни14, эту лотерею судьбы и ее приговоров. Я грустно слушал звучные напевы, коим вторили в лад потрясаемые жеребьи в чаше.
Слава Богу на небе,
Государю на сей земле!
Чтобы правда была
Краше солнца светла. Слава!
Золотая ж казна
Век полным-полна!
Чтобы коням его не изъезживаться,
Его платьям цветным не изнашиваться,
Его верным вельможам нестареться!
Уж мы хлебу поем,
Хлебу честь воздаем!
Большим-то рекам слава до моря,
Мелким речкам – до мельницы!
Старым людям на потешенье,
Добрым молодцам на услышанье.
Расцветали в небе две радуги,
У красной девицы две радости,
С милым другом совет,
И растворен подклет!
Щука шла из Новагорода,
Хвост несла из Бела озера;
У щучки головка серебряная,
У щучки спина жемчугом плетена,
А наместо глаз – дорогой алмаз!
Золотая парча развевается –
Кто-то в путь во дорогу собирается15.
Всякому сулили они добро и славу, но, отогревшись, я не думал дослушивать бесконечных и неминуемых заветов подблюдных; сердце мое было далеко, и я сам бы лётом полетел вслед за ним. Я стал подговаривать молодцов свезти меня к князю. К чести их, хотя к досаде своей, должно сказать, что никакая плата не выманила их от забав сердечных. Все говорили, что у них лошаденки плохие или измученные. У того не было санок, у другого подковы без шипов, у третьего болит рука.
Хозяин уверял, что он послал бы сына и без прогонов16, да у него пара добрых коней повезла в город заседателя…17 Чарки частые, голова одна, и вот уж третий день, верно, праздничают в околице.
– Да изволишь знать, твоя милость, – примолвил один краснобай, встряхнув кудрями, – теперь уж ночь, а дело-то святочное. Уж на што у нас храбрый народ девки: погадать ли о суженом – не боятся бегать за овины, в поле слушать колокольного свадебного звону либо в старую баню, чтоб погладил домовой мохнатой лапою на богачество18, да и то сегодня хвостики прижали… Ведь канун-то Нового года чертям сенокос19.
– Полно тебе, Ванька, страхи-то рассказывать! – вскричало несколько тоненьких голосков.
– Чего полно? – продолжал Ванька. – Спроси-ка у Оришки: хорош ли чертов свадебный поезд, какой она вчерась видела, глядясь за овинами на месяц в зеркало?20 Едут, свищут, гаркают… словно живьем воочью совершаются21. Она говорит, один бесенок оборотился горенским Старостиным сыном Афонькой да одно, знай, пристает: сядь да сядь в сани. Из круга, знать, выманивает. Хорошо, что у ней ум чуть не с косу, так отнекалась.
– Нет, барин, – примолвил другой, – хоть рассыпь серебра, вряд ли кто возьмется свезти тебя! Кругом озера колесить верст двадцать будет, а через лед ехать без беды беда; трещин и полыней тьма; пошутит лукавый, так пойдешь карманами ловить раков.
– И ведомо, – сказал третий. – Теперь чертям скоро заговенье22: из когтей друг у друга добычу рвут.
– Полно брехать, – возразил краснобай. – Нашел заговенье. Черный ангел, или, по-книжному, так сказать, ефиоп23, завсегда у каждого человека за левым плечом стоит да не смигнувши сторожит, как бы натолкнуть на грех. Не слыхали вы разве, что было у Пятницы на Пустыни о прошлых святках?
– А что такое? – вскричали многие любопытные. – Расскажи, пожалуйста, Ванюша; только не умори с ужасти.
Рассказчик оглянулся на двери, на окно, на лица слушателей, крякнул протяжно, оправил рукою кудри и начал:
– Дело было, как у нас, на посиделках. Молодцы окручались в личины24 и такие хари, что и днем глядеть, за печку спрячешься, – не то чтобы ночью плясать с ними. Шубы навыворот, носищи семи пядей, рога словно у сидоровой козы, а в зубах по углю, так и зияют. Умудрились, что петух приехал верхом на раке, а смерть с косою на коне. Петрушка-чеботарь спину представлял, так он мне все и рассказывал.
Вот разыгрались они, словно ласточки перед погодою; одному парню лукавый, знать, и шепнул в ухо: «Сем-ка, я украду с покойника, что в часовне лежит, саван да венец, окручусь в них, набелюся известкою да и приду мертвецом на поседки». На худое мы не ленивы: скорей, чем сгадал, он в часовню слетал, – ведь откуда, скажите на милость, отвага взялась. Чуть не до смерти перепугал он всех: старый за малого прячется… Однако-ж когда он расхохотался своим голосом да стал креститься и божиться, что он живой человек, пошел смех пуще прежнего страху. Тары да бары да сладкие разговоры, ан и полночь на дворе, надо молодцу нести назад гробовые обновки; зовет не дозовется никого в товарищи; как опала у него хмелина в голове, опустились и крылья соколиные; одному идти – страх одолевает, а приятели отпираются. Покойник давно слыл колдуном, и никто не хотел, чтобы черти свернули голову на затылок, свои следы считать. Ты, дескать, брал напрокат саван, ты и отдавай его; нам что за стать в чужом пиру похмелье нести.
И вот не прошло двух мигов… послышали, кто-то идет по скрипучему снегу… прямо к окну: стук, стук…
– С нами крестная сила! – вскричала хозяйка, устремив на окно испуганные очи. – Наше место свято! – повторила она, не могши отвратить взглядов от поразившего ее предмета. – Вон, вон кто-то страшный глядит сюда!
Девки с криком прижались одна к другой; парни кинулись к окну, между тем как те из них, которые были поробче, с выпученными глазами и открытым ртом поглядывали в обе стороны, не зная, что делать. В самом деле, за морозными стеклами как будто мелькнуло чье-то лицо… но когда рама была отперта – на улице никого не было. Туман, врываясь в избу, ходил коромыслом, затемняя на время блеск лучины. Все понемногу успокоились.
– Это вам почудилось, – сказал рассказчик, оправляясь сам от испуга; его голос был прерывен и неровен. – Да вот дослушайте бывальщину: она уж и вся-то недолга. Когда переполошенные в избе люди осмелились да спросили: «Кто стучит?» – пришлец отвечал: «Мертвец пришел за саваном»25. Услышав это, молодец, окрученный в него, снял с себя гробовую пелену да венец и выкинул их за окошко. «Не принимаю! – закричал колдун, скрипя зубами. – Пускай, где взял, там и отдаст мне». И саван опять очутился посреди избы. «Ты, насмехаючись, звал меня на посиделки, – сказал мертвец страшным голосом, – я здесь! Чествуй же гостя и провожай его до дому, до последнего твоего и моего дому». Все, дрожа, молились всем святым, а бедняга виноватый ни жив ни мертв сидел, дожидаясь злой гибели. Мертвец между тем ходил кругом, вопя: «Отдайте мне его, не то и всем несдобровать». Сунулся было в окошко, да, на счастье, косяки были святой водой окроплены, так его словно огнем обдало; взвыл да назад кинулся. Вот грянул он в вороты, и дубовый запор, как соль, рассыпался… Начал всходить по съезду… Тяжко скрипели бревна под ногою оборотня; собака с визгом залезала в сенях под корыто, и все слышали, как упала рука его на щеколду. Напрасно читали ему навстречу молитву от наваждения, от призору26 и всякой всячины, однако ничто не забрало… Дверь со стоном повернулась на пятах, и мертвец шасть в избу!
Дверь избы нашей, точно, растворилась при этом слове, будто кто-нибудь подслушивал, чтобы войти в это мгновение. Нельзя описать, с каким ужасом вскрикнули гости, повскакав с лавок и столпясь под образами. Многие девушки, закрыв лицо руками, упали за спины соседок, как будто избежали опасности, когда ее не видно. Глаза всех, устремленные к порогу, ждали встретить там по крайней мере остов, закутанный саваном, если не самого нечистого с рогами; и в самом деле, клубящийся в дверях морозный пар мог показаться адским серным дымом. Наконец пар расступился, и все увидели, что вошедший имел вид совершенно человеческий. Он приветливо поклонился всей беседе, хотя и не перекрестился перед иконами. То был стройный мужчина в распашной сибирке27, под которою надет был бархатный камзол; такие же шаровары спускались на лаковые сапоги; цветной персидский платок два раза обвивал шею, и в руках его была бобровая шапка с козырьком, особого вида. Одним словом, костюм его доказывал, что он или приказчик, или поверенный по откупам28. Лицо его было правильно, но бледно как полотно, и черные потухшие глаза стояли неподвижно.
– Бог помочь! – сказал он, кланяясь. – Прошу беседу для меня не чиниться и тебя, хозяин, обо мне не заботиться. Я завернул в вашу деревню на минуту: надо покормить иноходца на перепутье; у меня вблизи дельце есть.
Увидев меня в мундире, он раскланялся очень развязно, даже слишком развязно для своего состояния, и скромно спросил, не может ли чем послужить мне? Потом, с позволения, подсев ко мне ближе, завел речь о том и о сем, пятом и десятом. Рассказы его были очень забавны, замечания резки, шутки ядовиты; заметно было, что он терся долго между светскими людьми как посредник запрещенных забав или как их преследователь, – кто знает, может быть, как блудный купеческий сын, купивший своим имением жалкую опытность, проживший с золотом здоровье и добрые нравы. Слова его отзывались какою-то насмешливостью надо всем, что люди привыкли уважать, по крайней мере наружно. Не из ложного хвастовства и не из лицемерного смирения рассказывал он про свои порочные склонности и поступки; нет, это уже был закоснелый, холодный разврат. Злая усмешка презрения ко всему окружающему беспрестанно бродила у него на лице, и когда он наводил свои пронзающие очи на меня, невольный холод пробегал по коже.
– Не правда ли, сударь, – сказал он мне после некоторого молчания, – вы любуетесь невинностию и веселостью этих простаков, сравнивая скуку городских балов с крестьянскими посиделками? И, право, напрасно. Невинности давно уж нету в помине нигде. Горожане говорят, что она полевой цветок, крестьяне указывают на стекла, будто она сидит за ними, в позолоченной клетке; между тем как она схоронена в староверских книгах, которым для того только верят, чтоб побранить наше время. А веселость, сударь? Я, пожалуй, оживлю вам для потехи эту обезьяну, называемую вами веселостью. Штоф сладкой водки парням, дюжину пряников молодицам и пары три аршин тесемок девушкам – вот мужицкий рай; надолго ли?
Он вышел и, возвратясь, принес все, о чем говорил, из санок. Как человек привычный к этому делу, он подсел в кружок и совершенно сельским наречием, с разными прибаутками, потчевал пряничными петушками, раздаривал самым пригоженьким ленты, пуговицы на сарафаны, сережки со стеклами и тому подобные безделки, наливал парням водку и даже уговорил некоторых молодиц прихлебнуть сладкой наливки. Беседа зашумела как улей, глаза засверкали у молодцов, вольные выражения срывались с губ, и, слушая россказни незнакомца, нашептываемые им на ухо, красные девушки смеялись и уж гораздо ласковее, хотя исподлобья, поглядывали на своих соседов. Чтобы довершить суматоху, он подошел к светцу29, в котором воткнутая лучина роняла огарки свои в старую сковороду, стал поправлять ее и потушил, будто не нарочно. Минут десять возился он в темноте, вздувая огонь, и в это время звуки многих нескромных поцелуев раздавались кругом между всеобщим смехом. Когда вспыхнула опять лучина, все уже скромно сидели по местам; но незнакомец лукаво показал мне на румяные щеки красавиц. Скоро оказались тлетворные следствия его присутствия. Охмелевшие крестьяне стали спорить и ссориться между собою; крестьянки завистливым глазом смотрели на подруг, которым достались лучшие безделки. Многие парни, в порыве ревности, упрекали своих любезных, что они чересчур ласково обходились с незнакомым гостем; некоторые мужья грозили уже своим половинам, что они докажут кулаком любовь свою за их перемиги с другими; даже ребятишки на полатях дрались за орехи.
Сложив руки на груди, стоял чудный незнакомец у стенки и с довольною, но ироническою улыбкою смотрел на следы своих проказ.
– Вот люди! – сказал он мне тихо… но в двух этих словах было многое.
Я понял, что он хотел выразить: как в городах и селах, во всех состояниях и возрастах подобны пороки людские; они равняют бедных и богатых глупостию; различны погремушки, за которыми кидаются они, но ребячество одинаково. То по крайней мере высказывал насмешливый взор и тон речей; так по крайней мере мне казалось.
Но мне скоро наскучил разговор этого безнравственного существа, и песни, и сельские игры; мысли пошли опять привычною стезею. Опершись рукою о стол, хмурен и рассеян, отвечал я на вопросы, глядел на окружающее, и невольный ропот вырывался из сердца, будто пресыщенного полынью. Незнакомец, взглянув на свои часы, сказал мне:
– Уж скоро десять часов.
Я был очень рад тому; я жаждал тишины и уединения. В это время один из молодцов, с рыжими усами и открытого лица, вероятно осмеленный даровым ерофеичем30, подошел ко мне с поклоном.
– Что я тебя спрошаю, барин, – сказал он, – есть ли в тебе молодецкая отвага?
Я улыбнулся, взглянув на него: такой вопрос удивил меня.
– Когда бы кто-нибудь поумнее тебя сделал мне подобный вопрос, – отвечал я, – он бы унес ответ на боках своих.
– И, батюшка сударь, – возразил он, – будто я сомневаюсь, что ты с широкими своими плечами на дюжину пойдешь, не засуча рукавов; такая удаль в каждом русском молодце не диковинка. Дело не об людях, барин; я хотел бы знать, не боишься ли ты колдунов и чертовщины?
Смешно было бы разуверять его; напрасно уверять в моем неверии ко всему этому.
– Чертей я боюсь еще менее, чем людей! – был мой ответ.
– Честь и хвала тебе, барин! – сказал молодец. – Насилу нашел я товарища. И ты бы не ужастился увидеть нечистого носом к носу?
– Даже схватить его за нос, друг мой, если б ты мог вызвать его из этого рукомойника, я бы рад был съездить на адском бегуне в Ерусалим к заутрене31.
– Ты не так свят, барин, – возразил молодец, – чтобы заставить себя возить на богомолье. Но, – промолвил он, понизив голос и склонясь над моим ухом, – если ты хочешь погадать о чем-нибудь житейском, если у тебя есть, как у меня, какая разлапушка, так, пожалуй, катнем; мы увидим тогда все, что случится с ними и с нами вперед. Чур, барин, только не робеть: на это гаданье надо сердце-тройчатку. Что ж, приказ или отказ?
Я было хотел отвечать этому долгополому гадателю, что он или дурак, или хвастун и что я, для его забавы или его простоты, вовсе не хочу сам делать глупостей; но в это мгновение повстречал насмешливый взгляд незнакомца, который будто говорил: «Ты хочешь, друг, прикрыть благоразумными словами глупую робость! Знаем мы вашу братью, вольномыслящих дворянчиков!» К этому взору он присоединил и увещание, хотя никак не мог слышать, что меня звали на гаданье.
– Вы, верно, не пойдете, – сказал он сомнительно. – Чему быть путному, даже забавному от таких людей!
– Напротив, пойду, – возразил я сухо. Мне хотелось поступить наперекор этому незнакомцу. – Мне давно хочется раскусить, как орех, свою будущую судьбу и познакомиться покороче с лукавым, – сказал я гадателю. – Какой же ворожбой вызовем мы его из ада?
– Теперь он рыщет по земле, – отвечал тот, – и ближе к нам, нежели кто думает; надо заставить его сделать по нашему веленью.
– Смотрите, чтоб он не заставил вас делать по своему хотенью, – произнес незнакомец важно.
– Мы будем гадать страшным гаданьем, – сказал мне на ухо парень, – закляв нечистого на воловьей коже. Меня уж раз носил он на ней по воздуху, и что видел я там, что слышал, – примолвил он, бледнея, – того… Да ты сам, барин, попытаешь все.
Я вспомнил, что в примечаниях к «Красавице озера» («Lady of the Lake») Вальтер Скотт приводит письмо одного шотландского офицера, который гадал точно таким образом, и говорит с ужасом, что человеческий язык не может выразить тех страхов, которыми он обуян32. Мне любопытно стало узнать, так ли же выполняются у нас обряды этого гаданья, остатка язычества на разных концах Европы.
– Идем же сейчас, – сказал я, опоясывая саблю свою и надевая просушенные сапоги. – Видно, мне сегодня судьба мыкаться конями и чертями! Посмотрим, кто из них довезет меня до цели!
Я переступил за порог, когда незнакомец, будто с видом участия, сказал мне:
– Напрасно, сударь, изволите идти: воображение – самый злой волшебник, и вам бог весть что может почудиться!
Я поблагодарил его за совет, примолвив, что иду для одной забавы, имею довольно ума, чтоб заметить обман, и слишком трезвую голову и слишком твердое сердце, чтоб ему поддаться.
– Пускай же сбудется чему должно! – произнес вслед мой незнакомец.
Проводник зашел в соседний дом.
– Вечор у нас приняли черного как смоль быка, без малейшей отметки, – сказал он, вытаскивая оттуда свежую шкуру, – и она-то будет нашим ковром-самолетом.
Под мышкой нес он красного петуха, три ножа сверкали за поясом, а из-за пазухи выглядывала головка полуштофа, по его словам какого-то зелья, собранного на Иванову ночь33. Молодой месяц протек уже полнеба. Мы шли скоро по улице, и провожатый заметил мне, что ни одна собака на нас не взлаяла; даже встречные кидались опрометью в подворотни и только, ворча, выглядывали оттуда. Мы прошли версты полторы; деревня от нас скрылась за холмом, и мы поворотили на кладбище.
Ветхая, подавленная снегом бревенчатая церковь возникла посреди полурухнувшей ограды, и тень ее тянулась вдаль, словно путь за мир могильный. Ряды крестов, тленных памятников тлеющих под ними поселян, смиренно склонялись над пригорками, и несколько елей, скрипя, качали черные ветви свои, колеблемые ветром.
– Здесь! – сказал проводник мой, бросив шкуру вверх шерстью. Лицо его совсем изменилось: смертная бледность проступила на нем вместо жаркого румянца; место прежней говорливости заступила важная таинственность. – Здесь! – повторил он. – Это место дорого для того, кого станем вызывать мы: здесь, в разные времена, схоронены трое любимцев ада34. В последний раз напоминаю, барин: если хочешь, можешь воротиться, а уж начавши коляду, не оглядывайся35, что бы тебе ни казалось, как бы тебя ни кликали, и не твори креста, не читай молитвы… Нет ли у тебя ладанки на вороту?
Я отвечал, что у меня на груди есть маленький образ и крестик, родительское благословение.
– Сними его, барин, и повесь хоть на этой могилке: своя храбрость теперь нам лучшая оборона.
Я послушался почти нехотя. Странная вещь: мне стало будто страшнее, когда я удалил от себя моих пенатов от самого младенчества; мне показалось, что я остался вовсе один, без оружия и защиты. Между тем гадатель мой, произнося невнятные звуки, начал обводить круг около кожи. Начертив ножом дорожку, он окропил ее влагою из склянки и потом, задушив петуха, чтобы он не крикнул, отрубил ему голову и полил кровью в третий раз очарованный круг. Глядя на это, я спросил:
– Не будем ли варить в котле черную кошку, чтобы ведьмы, родня ее, дали выкупу?36
– Нет! – сказал заклинатель, вонзая треугольником ножи, – черную кошку варят для привороту к себе красавиц. Штука в том, чтобы выбрать из косточек одну, которою если тронешь, на кого задумаешь, так по тебе с ума сойдет.
«Дорого бы заплатили за такую косточку в столицах, – подумал я, – тогда и ум, и любезность, и красота, самое счастье дураков спустили бы перед нею флаги».
– Да все равно, – продолжал он, – можно эту же силу достать в Иванов день. Посадить лягушку в дырявый бурак, наговорить да и бросить в муравейник37, так она человеческим голосом закричит; наутро, когда она будет съедена, останется в бураке только вилочка да крючок: этот крючок – неизменная уда на сердца; а коли больно наскучит, тронь вилочкой – как рукавицу долой, всю прежнюю любовь снимет.
«Что касается до забвения, – думал я, – для этого не нужно с нашими дамами чародейства».
– Пора! – произнес гадатель. – Смотри, барин: коли мила тебе душа, не оглядывайся. Любуйся на месяц и жди, что сбудется.
Завернувшись в медвежью шубу, я лег на роковой воловьей шкуре, оставив товарища чародействовать сколько ему угодно. Невольно, однако ж, колесо мыслей опять и опять приносило мне вопрос: откуда в этом человеке такая уверенность? Он мог ясно видеть, что я вовсе не легковерен, следственно, если думает морочить меня, то через час, много два, открою вполне его обманы… Притом какую выгоду найдет он в обмане? Ни ограбить, ни украсть у меня никто не посмеет… Впрочем, случается, что сокровенные силы природы даются иногда людям самым невежественным. Сколько есть целебных трав, магнетических средств в руках у простолюдинов… Неужели?.. Мне стало стыдно самого себя, что зерно сомнения запало в мою голову. Но когда человек допустит себе вопрос о каком-либо предмете, значит, верование его поколеблено, и кто знает, как далеки будут размахи этого маятника?.. Чтобы отвлечь себя от думы о мире духов, которые, может статься, окружают нас незримо и действуют на нас неощутимо, я прильнул очами к месяцу.
«Тихая сторона мечтаний! – думал я. – Неужели ты населена одними мечтаниями нашими? Для чего так любовно летят к тебе взоры и думы человеческие? для чего так мило сердцу твое мерцанье, как дружеский привет иль ласка матери? Не родное ли ты светило земле? Не подруга ли ты судьбы ее обитателей, как ее спутница в странничестве эфирном? Прелестна ты, звезда покоя, но земля наша, обиталище бурь, еще прелестнее, и потому не верю я мысли поэтов, что туда суждено умчаться теням нашим, что оттого влечешь ты сердца и думы! Нет, ты могла быть колыбелью, отчизною нашего духа; там, может быть, расцвело его младенчество, и он любит летать из новой обители в знакомый, но забытый мир твой; но не тебе, тихая сторона, быть приютом буйной молодости души человеческой! В полете к усовершенствованию ей доля – еще прекраснейшие миры и еще тягчайшие испытания, потому что дорогою ценой покупаются светлые мысли и тонкие чувствования!»
Душа моя зажглась прикосновением этой искры; образ Полины, облеченный всеми прелестями, приданными воображением, несся передо мною…
«О! зачем мы живем не в век волшебств, – подумал я, – чтобы хоть ценой крови, ценою души купить временное всевластие, – ты была бы моя, Полина… моя!..»
Между тем товарищ мой, стоя сзади меня на коленах, произносил непонятные заклинания; но голос его затихал постепенно; он роптал уже подобно ручью, катящемуся под снежною глыбою…
– Идет, идет!.. – воскликнул он, упав ниц.
Его голосу отвечал вдали шум и топот, как будто вихорь гнал метель по насту, как будто удары молота гремели по камню… Заклинатель смолк, но шум, постепенно возрастая, налетал ближе… Невольным образом у меня занялся дух от боязненного ожидания и холод пробежал по членам… Земля звучала и дрожала – я не вытерпел и оглянулся…
И что ж? Полштоф стоял пустой, и рядом с ним храпел мой пьяный духовидец, упав ничком! Я захохотал, и тем охотнее, что предо мной сдержал коня своего незнакомец, проезжая в санках мимо. Он охотно помог мне посмеяться такой встрече.
– Не говорил ли я вам, сударь, что напрасно изволите верить этому глупцу. Хорошо, что он недолго скучал вам, поторопившись нахрабрить себя сначала; мудрено ли, что таким гадателям с перепою видятся чудеса!
И между тем злые очи его проницали морозом сердце, и между тем коварная усмешка доказывала его радость, видя мое замешательство, застав, как оробелого ребенка, впотьмах и врасплох.
– Каким образом ты очутился здесь, друг мой? – спросил я неизбежного незнакомца, не очень довольный его уроком.
– Стоит обо мне вздумать, сударь, и я как лист перед травой… – отвечал он лукаво. – Я узнал от хозяина, что вам угодно было ехать на бал князя Львинского; узнал, что деревенские неучи отказались везти вас, и очень рад служить вам: я сам туда еду повидаться под шумок с одною барскою барынею38. Мой иноходец, могу похвалиться, бегает как черт от ладану, и через озеро не далее восьми верст!
Такое предложение не могло быть принято мною худо; я вспрыгнул от радости и кинулся обнимать незнакомца. Приехать хоть в полночь, хоть на миг… это прелесть, это занимательно!
– Ты разодолжил меня, друг мой! Я готов отдать тебе все наличные деньги! – вскричал я, садясь в саночки.
– Поберегите их у себя, – отвечал незнакомец, садясь со мною рядом. – Если вы употребите их лучше, нежели я, безрассудно было бы отдавать их, а если так же дурно, как я, то напрасно!
Вожжи натянулись, и как стрела, стальным луком ринутая, полетел иноходец по льду озера. Только звучали подрези39, только свистел воздух, раздираемый быстрою иноходью. У меня занялся дух и замирало сердце, видя, как прыгали наши казанки40 через трещины, как вились и крутились они по закраинам полыней. Между тем он рассказывал мне все тайные похождения окружного дворянства: тот волочился за предводительшей; та была у нашего майора в гостях под маскою; тот вместо волка наехал с собаками на след соседа и чуть не затравил зверька в спальне у жены своей. Полковник наш поделился столькими-то тысячами с губернатором, чтоб очистить квитанцию за постой… Прокурор получил недавно пирог с золотою начинкою за то, чтоб замять дело помещика Ремницына, который засек своего человека, и проч., и проч.
– Удивляюсь, как много здесь сплетней, – сказал я, – дивлюсь еще более, как они могут быть тебе известны.
– Неужели вы думаете, сударь, что серебро здесь ходит в другом курсе или совесть судейская дороже, нежели в столицах? Неужели вы думаете, что огонь здесь не жжет, женщины не ветреничают и мужья не носят рогов? Слава Богу, эта мода, я надеюсь, не устареет до конца света! Это правда, теперь больше говорят о честности в судах и больше выказывают скромности в обществах, но это для того только, чтоб набить цены. В больших городах легче скрыть все проказы; здесь, напротив, сударь, здесь нет ни модных магазинов, ни лож с решетками, ни наемных карет, ни посещений к бедным; кругом несметная, но сметливая дворня и ребятишки на каждом шагу. Вышло из моды ходить за грибами, и еще не введены прогулки верхом, так бедняжкам нежным сердцам, чтобы свидеться, надо ждать отъезжего поля, или престольного праздника у соседов, или бурной ночи, чтоб дождь и ветер смели следы отважного обожателя, который не боится ни зубов собак, ни языков соседок. Впрочем, сударь, вы это знаете не хуже моего. На бале будет звезда здешних красавиц, Полина Павловна.
– Мне все равно, – отвечал я хладнокровно.
– В самом деле? – произнес незнакомец, взглянув на меня насмешливо-пристально. – А я бы прозакладывал свою бобровую шапку и, к ней в придачу, свою голову, что вы для нее туда едете… В самом деле, вам бы давно пора осушить поцелуями ее слезы, как это было три недели тому назад, в пятом часу после обеда, когда вы стояли перед ней на коленах!
– Бес ты или человек?! – яростно вскричал я, схватив незнакомца за ворот. – Я заставлю тебя высказать, от кого научился ты этой клевете, заставлю век молчать о том, что знаешь.
Я был поражен и раздражен словами незнакомца. От кого мог он сведать подробности моей тайны? Никому и никогда не открывал я ее; никогда вино не исторгало у меня нескромности; даже подушка моя никогда не слыхала звука изменнического; и вдруг вещь, которая происходила в четырех стенах, между четырьмя глазами, во втором этаже и в комнате, в которой, конечно, никто не мог подсмотреть нас, – вещь эта стала известною такому бездельнику! Гнев мой не имел границ. Я был силен, я был рассержен, и незнакомец дрогнул, как трость в руке моей; я приподнял его с места. Но он оторвал прочь руку мою, будто маковку репейника, и оттолкнул, как семилетнего ребенка.
– Вы проиграете со мной в эту игру, – сказал он хладнокровно, однако ж решительно. – Угрозы для меня монета, которой я не знаю цены; да и к чему все это? Скрипучую дверь не заставишь молчать молотом, а маслом; притом же моя собственная выгода в скромности. Вот уж мы и у ворот княжеского дома; помните, несмотря на свою недоверчивость, что я вам на всякую удалую службу неизменное копье. Я жду вас для возврата за этим углом; желаю удачи!
Я не успел еще образумиться, как санки наши шаркнули к подъезду и незнакомец, высадив меня, пропал из виду. Вхожу, – все шумит и блещет: сельский бал, что называется, в самом развале41; плясуны вертелись, как по обещанию, дамы, несмотря на полночь, были очень бодры. Любопытные облепили меня, чуть завидев, и полились вопросы и восклицания ливмя. Рассказываю вкратце свое похождение, извиняюсь перед хозяевами, прикладываюсь к перчаткам почетных старух, пожимаю руки друзьям, бросаю мимоходом по лестному словцу дамам и быстро пробегаю комнаты одну за другою, ища Полины. Я нашел ее вдали от толпы, одинокую, бледную, с поникшею головою, будто цветочный венок подавлял ее как свинец. Она радостно вскрикнула, увидев меня, огневой румянец вспыхнул на лице; хотела встать, но силы ее оставили, и она снова опустилась в кресла, закрыв опахалом очи, будто ослепленные внезапным блеском.
Укротив, сколько мог, волнение, я сел подле нее. Я прямо и откровенно просил у ней прощенья в том, что не мог выдержать тяжкого испытания, и, разлучаясь, может быть навек, прежде чем брошусь в глухую, холодную пустыню света, хотел еще однажды согреть душу ее взором, – или нет: не для любви – для науки разлюбить ее приехал я, из желания найти в ней какой-нибудь недостаток, из жажды поссориться с нею, быть огорченным ее упреками, раздраженным ее холодностию, для того чтобы дать ей самой повод хотя в чем-нибудь обвинять меня, чтобы нам легче было расстаться, если она имеет жестокость называть виною неодолимое влечение любви, помня только заветы самолюбца рассудка и не внимая внушениям сердца!.. Она прервала меня.
– Я бы должна была упрекать тебя, – сказала она, – но я так рада, так счастлива, тебя увидев, что готова благодарить за неисполненное обещание. Я оправдываюсь, я утешаюсь тем, что и ты, твердый мужчина, доступен слабости; и неужели ты думаешь, что, если б даже я была довольно благоразумна, чтобы на тебя сердиться, я стала бы отравлять укоризнами последние минуты свидания?.. Друг мой, ты все еще веришь менее моей любви, чем благоразумию, в котором я имею столько нужды; пусть эти радостные слезы разуверят тебя в противном!
Если б было возможно, я бы упал к ногам ее, целовал бы следы ее, я бы… я был вне себя от восхищения!.. Не помню, что я говорил и что слышал, но я был так весел, так счастлив!.. Рука об руку мы вмешались в круг танцующих.
Не умею описать, что со мною сталось, когда, обвивая тонкий стан ее рукою, трепетною от наслаждения, я пожимал другой ее прелестную ручку; казалось, кожа перчаток приняла жизнь, передавая биение каждой фибры… казалось, весь состав Полины прыщет искрами! Когда помчались мы в бешеном вальсе, ее летающие, душистые локоны касались иногда губ моих; я вдыхал ароматный пламень ее дыхания; мои блуждающие взгляды проницали сквозь дымку, – я видел, как бурно вздымались и опадали белоснежные полу шары, волнуемые моими вздохами, видел, как пылали щеки ее моим жаром, видел, – нет, я ничего не видал… пол исчезал под ногами; казалось, я лечу, лечу, лечу по воздуху, с сладостным замиранием сердца! Впервые забыл я приличия света и самого себя. Сидя подле Полины в кругу котильона42, я мечтал, что нас только двое в пространстве; все прочее представлялось мне слитно, как облака, раздуваемые ветром; ум мой крутился в пламенном вихре.
Язык, этот высокий дар небес, был последним средством между нами для размена чувствований; каждый волосок говорил мне и на мне о любви; я был так счастлив и так несчастлив вместе. Сердце разрывалось от полноты; но мне чего-то недоставало… Я умолял ее позволить мне произнести в последний раз «люблю» на свободе, запечатлеть поцелуем разлуку вечную… Это слово поколебало ее твердость! Тот не любил, кто не знал слабостей… Роковое согласие сорвалось с ее языка.
Только при конце танца заметил я мужа Полины, который, прислонясь к противоположной стене, ревниво замечал все мои взгляды. Это был злой, низкой души человек; я не любил его всегда как человека, но теперь как мужа Полины я готов был ненавидеть его, уничтожить его. Малейшее столкновение с ним могло быть роковым для обоих, – я это чувствовал и удалился. Полчаса, которые протекли между обетом и сроком, показались мне бесконечными. Через длинную галерею стоял небольшой домашний театр княжего дома, в котором по вечеру играли; в нем-то было назначено свиданье. Я бродил по пустой его зале, между опрокинутых стульев и загроможденных скамей. Лунный свет, падая сквозь окна, рисовал по стенам зыбкие цветы и деревья, отраженные морозными кристаллами стекол. Сцена чернелася, как вертеп, и на ней в беспорядке сдвинутые кулисы стояли, будто притаившиеся великаны; все это, однако же, заняло меня одну минуту. Если бы я был и в самом деле трус перед бестелесными существами, то, конечно, не в такое время нашла бы робость уголок в груди: я был весь ожидание, весь пламя. Ударило два часа за полночь, и зыблющийся колокол затих, ропща, будто страж, неохотно пробужденный; звук его потряс меня до дна души… Я дрожал как в лихорадке, а голова горела, – я изнемогал, я таял. Каждый скрип, каждый щелк кидал меня в пот и холод… И наконец желанный миг настал: с легким шорохом отворились двери; как тень дыма, мелькнула в нее Полина… еще шаг, и она лежала на груди моей!! Безмолвие, запечатленное долгим поцелуем разлуки, длилось, длилось… наконец Полина прервала его.
– Забудь, – сказала она, – что я существую, что я любила, что я люблю тебя, забудь все и прости!
– Тебя забыть! – воскликнул я. – И ты хочешь, чтобы я разбил последнее звено утешения в чугунной цепи жизни, которую отныне осужден я влачить, подобно колоднику; чтобы я вырвал из сердца, сгладил с памяти мысль о тебе? Нет, этого никогда не будет! Любовь была мне жизнь и кончится только с жизнию!
И между тем я сжимал ее в своих объятиях, и между тем адский огонь пробегал по моим жилам… Тщетно она вырывалась, просила, умоляла; я говорил:
– Еще, еще один миг счастья, и я кинусь в гроб будущего!
– Еще раз прости, – наконец произнесла она твердо. – Для тебя я забыла долг, тебе пожертвовала домашним покоем, для тебя презрела теперь двусмысленные взоры подруг, насмешки мужчин и угрозы мужа; неужели ты хочешь лишить меня последнего наружного блага – доброго имени?.. Не знаю, отчего так замирает у меня сердце и невольный трепет пролетает по мне; это страшное предчувствие!.. Но прости… уж время!
– Уж поздно! – произнес голос в дверях, растворившихся быстро.
Я обомлел за Полину, я кинулся навстречу пришедшему, и рука моя уперлась в грудь его. Это был незнакомец!
– Бегите! – сказал он, запыхавшись. – Бегите! Вас ищут. Ах, сударыня, какого шуму вы наделали своею неосторожностью! – промолвил он, заметив Полину. – Ваш муж беснуется от ревности, рвет и мечет все, гоняясь за вами… Он близко.
– Он убьет меня! – вскричала Полина, упав ко мне на руки.
– Убить не убьет, сударыня, а, пожалуй, прибьет; от него все станется; а что огласит это на весь свет, в том нечего сомневаться. И то уж все заметили, что вы вместе исчезли, и, узнав о том, я кинулся предупредить встречу.
– Что мне делать? – произнесла Полина, ломая руки и таким голосом, что он пронзил мне душу: укор, раскаяние и отчаяние отзывались в нем.
Я решился.
– Полина! – отвечал я. – Жребий брошен: свет для тебя заперт; отныне я должен быть для тебя всем, как ты была и будешь для меня; отныне любовь твоя не будет знать раздела; ты не будешь принадлежать двоим, не принадлежа никому. Под чужим небом найдем мы приют от преследований и предрассудков людских, а примерная жизнь искупит преступление. Полина! время дорого…
– Вечность дороже! – возразила она, склонив голову на сжатые руки.
– Идут, идут! – вскричал незнакомец, возвращаясь от двери. – Мои сани стоят у заднего подъезда; если вы не хотите погибнуть бесполезно, то ступайте за мною!
Он обоих нас схватил за руки… Шаги многих особ звучали по коридору, крик раздавался в пустой зале.
– Я твоя! – шепнула мне Полина, и мы скоро побежали через сцену, по узенькой лесенке, вниз, к небольшой калитке.
Незнакомец вел нас как домашний; иноходец заржал, увидев седоков. Я завернул в шубу свою, оставленную на санях, едва дышащую Полину, впрыгнул в сани, и когда долетел до нас треск выломленных в театре дверей, мы уже неслись во всю прыть, через село, вкруг плетней, вправо, влево, под гору, – и вот лед озера звучно затрещал от подков и подрезей. Мороз был жестокий, но кровь моя ходила огневым потоком. Небо яснело, но мрачно было в душе моей. Полина лежала тиха, недвижна, безмолвна. Напрасно расточал я убеждения, напрасно утешал ее словами, что сама судьба соединила нас, что если б она осталась с мужем, то вся жизнь ее была бы сцепление укоризн и обид!
– Я все бы снесла, – возразила она, – и снесла терпеливо, потому что была еще невинна, если не перед светом, то перед Богом, но теперь я беглянка, я заслужила свой позор! Этого чувства не могу я затаить от самой себя, хотя бы вдали, на чужбине, я возродилась граждански, в новом кругу знакомых. Все, все можешь ты обновить для меня, все, кроме преступного сердца!
Мы мчались. Душа моя была раздавлена печалью. «Так вот то столь желанное счастье, которого и в самых пылких мечтах не полагал я возможным, – думал я, – так вот те очаровательные слова „я твоя“, которых звук мечтался мне голосом неба! Я слышал их, я владею Полиною, и я так глубоко несчастлив, несчастнее чем когда-нибудь!»
Но если наши лица выражали тоску душевную, лицо незнакомца, сидящего на беседке43, обращалось на нас радостнее обыкновенного. Коварно улыбался он, будто радуясь чужой беде, и страшно глядели его тусклые очи. Какое-то невольное чувство отвращения удаляло меня от этого человека, который так нечаянно навязался мне со своими роковыми услугами. Если б я верил чародейству, я бы сказал, что какое-то неизъяснимое обаяние таилось в его взорах, что это был сам лукавый, – столь злобная веселость о падении ближнего, столь холодная, бесчувственная насмешка были видны в чертах его бледного лица! Недалеко было до другого берега озера; все молчали, луна задернулась радужною дымкою.
Вдруг потянул ветерок, и на нем послышали мы за собой топот погони.
– Скорей, ради Бога, скорей! – вскричал я проводнику, укоротившему бег своего иноходца.
Он вздрогнул и сердито отвечал мне:
– Это имя, сударь, надобно бы вам было вспомнить ранее или совсем не упоминать его.
– Погоняй! – возразил я. – Не тебе давать мне уроки.
– Доброе слово надо принять от самого черта, – отвечал он, как нарочно сдерживая своего иноходца. – Притом, сударь, в Писании сказано: «Блажен, кто и скоты милует!»44 Надобно пожалеть и этого зверька. Я получу свою уплату за прокат; вы будете владеть прекрасною барынею; а что выиграет он за пот свой? Обыкновенную дачу овса? Он ведь не употребляет шампанского, и простонародный желудок его не варит и не ценит дорогих яств, за которые двуногие не жалеют ни души, ни тела. За что же, скажите, он надорвет себя?
– Пошел, если не хочешь, чтобы я изорвал тебя самого! – вскричал я, хватаясь за саблю. – Я скоро облегчу сани от лишнего груза, а свет от подобного тебе бездельника!
– Не горячитесь, сударь, – хладнокровно возразил мне незнакомец. – Страсть ослепляет вас, и вы становитесь несправедливы, потому что нетерпеливы. Не шутя уверяю вас, что иноходец выбился из сил. Посмотрите, как валит с него пар и клубится пена, как он храпит и шатается; такой тяжести не возил он сроду. Неужели считаете вы за ничто троих седоков… и тяжкий грех в прибавку? – промолвил он, обнажая злою усмешкою зубы.
Что мне было делать? Я чувствовал, что находился во власти этого безнравственного злодея. Между тем мы подвигались вперед мелкою рысцою. Полина оставалась как в забытьи: ни мои ласки, ни близкая опасность не извлекали ее из этого отчаянного бесчувствия. Наконец при тусклом свете месяца мы завидели ездока, скачущего во весь опор за нами; он понуждал коня криком и ударами. Встреча была неизбежна… И он, точно, настиг нас, когда мы стали подниматься на крутой въезд берега, обогнув обледенелую прорубь. Уже он был близко, уж едва не схватывал нас, когда храпящая лошадь его, вскочив наверх, споткнулась и пала, придавив под собою всадника. Долго бился он под нею и наконец выскочил из-под недвижного трупа и с бешенством кинулся к нам; это был муж Полины.
Я сказал, что я уже ненавидел этого человека, сделавшего несчастною жену свою, но я преодолел себя: я отвечал на его упреки учтиво, но твердо; на его брань кротко, но смело и решительно сказал ему, что он, во что бы ни стало, не будет владеть Полиною; что шум только огласит этот несчастный случай, и он потеряет многое, не возвратив ничего; что если он хочет благородного удовлетворения, я готов завтра поменяться пулями!
– Вот мое удовлетворение, низкий обольститель! – вскричал муж ее и занес дерзкую руку…
И теперь, когда я вспомню об этой роковой минуте, кровь моя вспыхивает как порох. Кто из нас не был напитан с младенчества понятиями о неприкосновенности дворянина, о чести человека благорожденного, о достоинстве человека? Много-много протекло с тех пор времени по голове моей; оно охладило ее, ретивое бьется тише, но до сих пор, со всеми философическими правилами, со всею опытностью моею, не ручаюсь за себя, и прикосновение ко мне перстом взорвало бы на воздух и меня и обидчика. Вообразите ж, что сталось тогда со мною, заносчивым и вспыльчивым юношею! В глазах у меня померкло, когда удар миновал мое лицо: он не миновал моей чести! Как лютый зверь кинулся я с саблею на безоружного врага, и клинок мой погрузился трижды в его череп, прежде чем он успел упасть на землю. Один страшный вздох, один краткий, но пронзительный крик, одно клокотание крови из ран – вот все, что осталось от его жизни в одно мгновение! Бездушный труп упал на склон берега и покатился вниз на лед.
Еще несытый местью, в порыве исступления сбежал я по кровавому следу на озеро, и, опершись на саблю, склонясь над телом убитого, я жадно прислушивался к журчанию крови, которое мнилось мне признаком жизни.
Испытали ли вы жажду крови? Дай Бог, чтобы никогда не касалась она сердцам вашим; но, по несчастию, я знал ее во многих и сам изведал на себе. Природа наказала меня неистовыми страстями, которых не могли обуздать ни воспитание, ни навык; огненная кровь текла в жилах моих. Долго, неимоверно долго мог я хранить хладную умеренность в речах и поступках при обиде, но зато она исчезала мгновенно, и бешенство овладевало мною. Особенно вид пролитой крови, вместо того чтобы угасить ярость, был маслом в огне, и я, с какою-то тигровою жадностию, готов был источить ее из врага каплей по капле, подобен тигру, вкусившему ненавистного напитка. Эта жажда была страшно утолена убийством. Я уверился, что враг мой не дышит.
– Мертв! – произнес голос над ухом моим. Я поднял голову: это был неизбежный незнакомец с неизменною усмешкою на лице. – Мертв! – повторил он. – Пускай же мертвые не мешают живым, – и толкнул ногой окровавленный труп в полынью.
Тонкая ледяная кора, подернувшая воду, звучно разбилась; струя плеснула на закраину, и убитый тихо пошел ко дну.
– Вот что называется: и концы в воду, – сказал со смехом проводник мой. Я вздрогнул невольно; его адский смех звучит еще доселе в ушах моих. Но я, вперив очи на зеркальную поверхность полыньи, в которой, при бледном луче луны, мне чудился еще лик врага, долго стоял неподвижен. Между тем незнакомец, захватывая горстями снег с закраин льда, засыпал им кровавую стезю, по которой скатился труп с берега, и приволок загнанную лошадь на место схватки.
– Что ты делаешь? – спросил я его, выходя из оцепенения.
– Хороню свой клад, – отвечал он значительно. – Пусть, сударь, думают что хотят, а уличить вас будет трудно: господин этот мог упасть с лошади, убиться и утонуть в проруби. Придет весна, снег стает…
– И кровь убитого улетит на небо с парами! – возразил я мрачно. – Едем!
– До Бога высоко, до царя далеко, – произнес незнакомец, будто вызывая на бой земное и небесное правосудие. – Однако ж ехать точно пора. Вам надобно до суматохи добраться в деревню, оттуда скакать домой на отдохнувшей теперь тройке и потом стараться уйти за границу. Белый свет широк!
Я вспомнил о Полине и бросился к саням; она стояла подле них на коленах, со стиснутыми руками, и, казалось, молилась. Бледна и холодна как мрамор была она; дикие глаза ее стояли; на все вопросы мои отвечала она тихо:
– Кровь! На тебе кровь!
Сердце мое расторгалось… но медлить было бы гибельно. Я снова завернул ее в шубу свою, как сонное дитя, и сани полетели.
Один я бы мог вынести бремя зол, на меня ниспавшее. Проникнутый светскою нравственностию, или, лучше сказать, безнравственностию, еще горячий местью, еще волнуем бурными страстями, я был недоступен тогда истинному раскаянию. Убить человека, столь сильно меня обидевшего, казалось мне предосудительным только потому, что он был безоружен; увезти чужую жену считал я, в отношении к себе, только шалостью, но я чувствовал, как важно было все это в отношении к ней, и вид женщины, которую любил я выше жизни, которую погубил своею любовью, потому что она пожертвовала для меня всем, всем, что приятно сердцу и свято душе, – знакомством, родством, отечеством, доброю славою, даже покоем совести и самым разумом… И чем мог я вознаградить ее в будущем за потерянное? Могла ли она забыть, чему была виною? Могла ли заснуть сном безмятежным в объятиях, дымящихся убийством, найти сладость в поцелуе, оставляющем след крови на устах, – и чьей крови? Того, с кем была она связана священными узами брака! Под каким благотворным небом, на какой земле гостеприимной найдет сердце преступное покой? Может быть, я бы нашел забвение всего в глубине взаимности; но могла ли слабая женщина отринуть или заглушить совесть? Нет, нет! Мое счастие исчезло навсегда, и сама любовь к ней стала отныне огнем адским.
Воздух свистел мимо ушей.
– Куда ты везешь меня? – спросил я проводника.
– Откуда взял – на кладбище! – возразил он злобно.
Сани влетели в ограду; мы неслись, задевая за кресты, с могилы на могилу и наконец стали у бычачьей шкуры, на которой совершал я гаданье: только там не было уже прежнего товарища; все было пусто и мертво кругом, я вздрогнул против воли.
– Что это значит? – гневно вскричал я. – Твои шутки не у места. Вот золото за проклятые труды твои; но вези меня в деревню, в дом.
– Я уж получил свою плату, – отвечал он злобно, – и дом твой здесь, здесь твоя брачная постеля!
С этими словами он сдернул воловью кожу: она была растянута над свежевырытою могилою, на краю которой стояли сани.
– За такую красотку не жаль души, – промолвил он и толкнул шаткие сани… Мы полетели вглубь стремглав.
Я ударился головою в край могилы и обеспамятел; будто сквозь смутный сон, мне чудилось только, что я лечу ниже и ниже, что страшный хохот в глубине отвечал стону Полины, которая, падая, хваталась за меня, восклицая: «Пусть хоть в аду не разлучают нас!» И наконец я упал на дно… Вслед за мной падали глыбы земли и снегу, заваливая, задушая нас; сердце мое замлело, в ушах гремело и звучало, ужасающие свисты и завывания мне слышались; что-то тяжкое, косматое давило грудь, врывалось в губы, и я не мог двинуть разбитых членов, не мог поднять руки, чтобы перекреститься… Я кончался, но с неизъяснимым мучением души и тела. Судорожным последним движением я отбросил с себя тяготеющее меня бремя: это была медвежья шуба…
Где я? Что со мной? Холодный пот катился по лицу, все жилки трепетали от ужаса и усилия. Озираюсь, припоминаю минувшее… И медленно возвращаются ко мне чувства. Так, я на кладбище!.. Кругом склоняются кресты; надо мной потухающий месяц; подо мной роковая воловья шкура. Товарищ гаданья лежал ниц в глубоком усыплении… Мало-помалу я уверился, что все виденное мною был только сон, страшный, зловещий сон!
«Так это сон?» – говорите вы почти с неудовольствием. Други, други! неужели вы так развращены, что жалеете, для чего все это не сбылось на самом деле? Благодарите лучше Бога, как возблагодарил его я, за сохранение меня от преступления. Сон? Но что же иное все былое наше, как не смутный сон? И ежели вы не пережили со мной этой ночи, если не чувствовали, что я чувствовал так живо, если не испытали мною испытанного в мечте, – это вина моего рассказа. Все это для меня существовало, страшно существовало, как наяву, как на деле. Это гаданье открыло мне глаза, ослепленные страстью; обманутый муж, обольщенная супруга, разорванное, опозоренное супружество и, почему знать, может, кровавая месть мне или от меня – вот следствия безумной любви моей!!
Я дал слово не видеть более Полины и сдержал его.
Латник
Рассказ партизанского офицера*
Мы гнались за Наполеоном по горячим следам. 22 ноября послал меня Сеславин1 очистить левую сторону Виленской дороги, с сотнею сумских гусар, взводом драгун Тверского полка да дюжиною донцов2. Местом сбора назначено было местечко Ошмяны3, и я, получив приказание, что делать и чего не делать, на рысях пустился проселками. День был не морозен, но туманен, и порой перепархивал снежок – лихая пороша на зверей и неприятелей. Впрочем, и без нее легко можно было узнать, где прошли французские отряды: взорванные ящики, брошенные повозки, павшие кони и, что всего ужаснее, замерзшие солдаты устилали дорогу. Мы, правда, уж привыкли к подобным картинам и хладнокровно ехали мимо трупов, распухших и посинелых от антонова огня, не заставляя даже усталых коней своих через них перепрыгивать. На лицах этих несчастных видна была тяжкая печать мучительной кончины. Я бы привел туда молодцов, которые, сидя на печке, уверяют, что смерть от мороза – сладкое усыпление, они увидели бы там всю постепенность борения с одолевающею судьбою, борения судорожного, отчаянного тем более, что они обнажены были товарищами заживо, – чувство самосохранения заглушало тогда во всех сердцах голос сострадания, человечества и братства; мертвецы валялись обнаженные, и лишь снег одевал их холодным покрывалом своим. Отсталые и, как видно, последние были еще не совсем раздеты, но одежда их была плоха, изорвана, ноги обернуты соломою; и так велика была неопытность французов, что у многих из них на спинах веяли бараньи шкуры сверх мундира, вместо того чтоб надеть их под испод. Иные сидели и лежали у потухших огней, с которыми потухла в них жизнь; другие сгорели полуживые, не могши от истощения отодвинуться. Всех более поразил меня гренадер старой гвардии: глядим – он стоит вдали, опершись о ружье; подъезжаем ближе – он мертвый. Густая медвежья шапка отеняла сдвинутые страданием брови и закатившиеся его глаза; из-под огромных усов, на которых недвижимо низался иней, сверкали стиснутые зубы. Он был ранен в грудь, и кровь, струившаяся на снег, замерзла на нем клубами.
Под моей командою был прекрасный молодой человек, поручик Зарниц-кий, и волонтер Кравченко, полковой аудитор4, который, видя, что в народную войну нужнее сабли, чем перья, бросил артикул и принялся разрешать гордиевы узлы по-александровски5. Малый добрый, храбрый как пуля, зато и тяжелый как свинец, из которого она вылита.
Мы все трое подъехали к замерзшему и с содроганием смотрели на его выразительное лицо. Казалось, душа его улетела к милой родине в последнем взоре, но, улетая, оставила в чертах следы прежней гордости и отваги: движение губ выражало презрение боли, его победившей. Он прижимал к груди товарища своих походов – неизменное ружье, и на этой груди виделись раны – свидетели битв, и крест Почетного легиона – порука храбрости, звезда победы6.
– Бедняга, – сказал аудитор, – как не жаль этакого молодца, хоть, между нами будь сказано, и француза: ведь в любой полк во флигельманы годится7.
– Завидная смерть! – сказал я. – Он умер с оружием и стоя.
– Зато какого имени стоит этот Наполеон, бросая таких людей на жертву своему властолюбию! – возразил поручик с негодованием, показывая на мертвеца и на кровавый след его. – Эти кровавые буквы – приговор его осуждения!
– Попадись только Наполеон к нам в когти, – подхватил с жаром наш коротенький аудитор, – я как раз подведу законец, чтобы его, яко не имеющего дворянского звания, прогнать за побег сквозь строй шпицрутеном, а за мятеж весьма лишить живота!
Так разговаривая, приближались мы к лесу. Двое самых расторопных казаков почти за версту впереди оглядывали дорогу, а несколько других тянулись по бокам и сзади отряда. Вдруг завидели мы, что один из них стал на месте, между тем как другой начал разводить на скаку круги шире и шире. Зная, что это значит, я выстроил людей справа по шести.
– Сабли вон и стой! Равняйся!
Поджидаю, что будет. Страх люблю видеть русского солдата перед делом. Каждый, оглядывая кремень и отирая ногтем полку, шепчет товарищу: «Слава Богу, добрались до них!» И потом с такою непритворною набожностию крестит грудь свою, с такою теплою верою взглядывает на небо! И потом так гордо встряхивается в седле, так уверенно смотрит из-под руки вдаль, как будто говорит: «Ну, сколько вас там, бусурманы? Подавай их сюда!»
Синий дымок взвился с пистолета передового казака – и долго после услышали мы выстрел. Казак уже несся к нам навстречу, между тем как товарищ его принялся кружиться перед опушкою и выманил несколько выстрелов.
Неприятель оказался – вперед!
В тот же миг мы выстроили взводную колонну и пошли рысью к лесу.
– Много ли французов, земляк? – спросил я у казака.
– Словно крупа сыплется; да с ними и пушки есть, – отвечал он.
– Тем лучше, – вскричал поручик Зарницкий, – авось они стрельнут в меня Георгиевским крестом!8
Скоро мы были на полвыстрела от опушки, однако ни одна пуля не встречала нас. Это что за известие?
Чтобы не наткнуться на засаду, я не прежде ввел своих в лес, как уверившись, что неприятель стянул своих стрелков на дорогу. Спешив драгун с примкнутыми штыками, я оседлал ее, раскинув по чаще в обе стороны застрельщиков. Мы скоро нагнали отступающих французов; отряд их состоял из батальона пехоты при двух орудиях. Жалко и страшно было смотреть на обезображенных усталостию, морозом и голодом гренадеров; смешно бы было видеть их костюмы, если б мы сами не были убраны чуть не так же. И у них и у нас были люди в рясах, в балахонах, в женских шапочках, у кого нога в лапте, у кого в сапоге; мой вахмистр, лихой рубака, целых два месяца щеголял в салопе какой-то купчихи, а я сам был завернут в ковер, посреди которого прорезал место для головы. В столицах смеялись карикатурам бегства французов из России, но поход и бивачная жизнь нарядили и нас в их мундиры; пестрота была невообразимая!
Французский отряд шел медленно, зато в непроницаемом порядке, и каждым разом, как мы порывались ударить на них, обращался и, твердой ногой ставши, отстреливался. Батальонный командир вился около своих, ободряя их словом и примером. «Allons, courage, mes enfants, – montrez les dents, camarades, serrez vos rangs, halte! Criblez-moi d'importance, ces flandrins: Qa tient le coeur chau filez, filez, vous dis-je… feu!»[197] – и тому подобные приговорки лились у него рекой.
Всякий раз, когда перемежался огонь, голос его слышался громок и внятен. Видя невозможность успеть в нападении по узкой тропинке, мы следовали за ними, по временам меняясь пулями и бранью, которая со времен Гомеровых есть вечный припев сражений и подстреканий удальцов. Неприятельские орудия, подернутые морозом, скрипя и гремя цепями, прыгали через коренья литовских сосен; худые кони, натужась в упор, едва тащили их по гололедице – рвались, скользили, падали; наконец мы заметили, что одно из орудий стало отставать, отставать, и французы, видя, что ни бичом, ни криком нельзя ободрить коней, отпрягли их, загвоздили затравку9, изрубили спицы и бросили пушку на дороге.
Разумеется, что и мы сделали то же. Куда нам было возиться с этою дрянью, в двенадцатом году пушками хоть пруд пруди. Мимоходом сказать, большая часть кавалерии и артиллерии наполеоновской погибла не столько от недостатка в кормах, как от безделицы – от неуменья ковать лошадей на шипы. Бедняги на гладких французских подковах оставались, как раки на мели, на чуть-чуть гладкой дороге, и мы нередко ремонтировались брошенными конями, излечая их гарнцем овса10 и парою цепких подков.
Но лес начал редеть; неприятель выстроил колонну и сдвоил шаг, чтобы через поле скорее добраться до замка, который вдали выглядывал из-за деревеньки. Я усилил фланкеров11.
Казаки и гусары мои налетали на колонну, как ласточки на ястреба, и щипали его по перу; одни за другими падали французы на следы свои, порой валился и русский. Мне наскучили эти шутки.
Выбрав чистое место, я развернул фронт, в надежде смять натиском неприятеля и захватить пушку, – но он угадал меня, на бегу выстроил каре, маскировал орудие и стал недвижим. Люди у меня были сорвиголова, наезжены лихо, оружием владеть мастера, прокопчены порохом до костей и так приметались ежедневными стычками к нападениям, что слушались слова начальника пуще пули неприятельской; со всем тем атаковать опытную пехоту конницею – заставит хоть у кого прыгать ретивое. Впрочем, фланговые и замочные унтер-офицеры12 – это нравственное основание строя – были у нас в отряде народ отличной храбрости. Ходили мы в атаку не иначе как рысью, затем что нестись во весь опор за версту кончается обыкновенно тем, что строй разорвется, многие кони задохнутся, многие понесут и лишь одна горсть отважных доскакивает до неприятельского фронта и, опрокинутая, улепетывает назад быстрее натиска. Кричать «ура» не было заводу, затем что те, которые ревут прежде всех и раньше поры, первые осаживают под шумок коней и оттого расстроивают купность удара. Напомнив гусарам, что и как должны они делать, я повел атаку ровно, смело. Мерзлая земля загудела под мерною рысью; уланские пики, которыми тогда вооружены были и гусары, залепетали флюгерами13, и бренчанье оружия раздалось в осеннем воздухе; все это покрывалось изредка словами: «Равняться, не волноваться, не заваливать плеч!» В неприятельском фронте была смертная тишина, мы близились быстро; можно уж было различать бледные лица и сверкающие над стволами глаза гренадеров под наклоненными их шапками. В ста шагах я скомандовал «марш-марш» и с поднятою саблею кинулся на рогатку штыков; в то же мгновение за криком: «feu!»[198] – грянул пушечный выстрел, картечи запрыгали около, и густой батальный огонь покатился вдоль фасов14, – он развеял наш фронт как пух. Кони смешались, на раненых спотыкались здоровые, мы принуждены были обратиться назад. Картечь и штыки – нестерпимые вещи для лошадиной натуры. Три раза еще порывались мы пробить каре, и три раза были отбиты. Я грыз зубы. Поручик бесновался… но делать было нечего. Пришлось, сберегая людей, ограничиться перестрелкою, ожидая удобнейшего местоположения или времени. Завязать дело было необходимостью, чтобы развлечь внимание неприятельского корпуса. Пускай себе думают, что мы, обманувшись, преследуем Наполеона проселками, между тем как наши летучие отряды катились у него на шпорах.
Так догнали мы храбрых своих врагов до небольшой деревеньки при замке Треполь. Между тем люди и кони мои изнурились давним налетом как нельзя более, – надобно было освежить тех и других, а в поле ни стога сена, в саквах ни крошки сухарей15; волей и неволей приходилось добыть себе хлеб насущный и ночлег в деревне, прогнав из нее неприятеля. На русского солдата всего сильнее действует такая логика, и когда я объявил им в чем дело, они с жаром кинулись выбивать французов из засады. Впереди шли драгуны в штыки, гусары с карабинами подкрепляли их, казаки зажигали домы с боков, – это подействовало: мы потеснили их до самого замка, ворвались во двор, и наконец они заняли только самый корпус дома панского и в нем отстреливались тем отчаяннее, тем безопаснее, что взвели на подъезд свое орудие и очищали им весь двор, сквозь огромные двери сеней. С других сторон окна были высоко от земли, и потому самою выгодною точкою нападения оставалось орудие, во-первых, потому, что к нему и мимо его в дом можно было вбежать по подъезду, а в окна под ружейным огнем – плохая дорога; во-вторых, проникнув в средину, мы бы разрезали осажденных на две половины и, следственно, могли гораздо легче с ними управиться. Чего долго думать.
– Ребята, вперед, ура, в штыки, в дротики! За мной! – закричал мой поручик и бросился на пушку с охотниками; выстрел сверкнул – и наших обдало как варом. Зарницкий упал со стоном, и солдаты отступили в беспорядке. Я был впереди, кричал, сердился, приказывал, грозил – все даром: люди мои будто ничего не слыхали, перестреливаясь издали, медленно, лениво, – я кипел негодованием и досадой.
Вдруг, видим мы, несется к нам на рыжем коне всадник, в черных латах, в блестящей каске, из-под заброшенной за спину шинели сверкал штаб-офицерский эполет. Прискакав под выстрел, он спрыгнул с коня и обнажил палаш свой.
– Вперед, вперед! – крикнул он. – Сомкни ряды. Г<осподин> ротмистр, вы должны непременно взять этот замок! Ребята! вы русские, – вам стыдно отступать, за мной, товарищи; я вам начальник; смерть тому, кто отстанет, – на руку, ура!
С этим словом он кинулся к стене, не оглядываясь назад, как будто уверенный, что магический пример его увлечет всех за собою. И в самом деле, нежданное появление этого латника, его колоссальные формы, его бесстрашная осанка, его повелительный голос показались солдатам чем-то сверхъестественным; они ожили, посильнели.
– Ура! – раздалось в ответ на призыв латника, на усиленный огонь французов, и все мы кинулись к подъезду, вынося друг друга на плечах; выстрел, картечь через головы, пошла резня рукопашная. Мы ворвались в комнаты, и дело решилось. Кирасир рубил без пощады; каждый взмах его падал смертью, – он рассек голову французскому батальонному командиру, едва тот успел завалить затравку16, и несчастный упал в крови через лафет; солдаты мои остервенились потерею многих товарищей и с ожесточением кололи всех французов и вооруженных шляхтичей, упорно против нас защищавшихся.
Картина была ужасная!
Пороховой дым густыми облаками ходил по залам; кровь, смешанная с рассыпанным порохом, залила паркет, на котором лежали, между множеством трупов, украшения потолка, обрушенные от выстрелов. Разъяренные победители ломали мебели, били стекла и зеркала, обдирали обои; наконец, вызванные из замка для фуражировки17, добычи, гораздо для них нужнейшей самого золота, они рассыпались по деревне, и в замке все утихло. Воображать себе, что солдаты в военное время так смирны, как это пишется, – надо быть или очень легковерну, или вовсе слепу: общая опасность уравнивает больше или меньше все чины, а необходимость заставляет глядеть сквозь пальцы на некоторые своевольства. Так идет в строю; в летучем же партизанском отряде, которого главная цель есть вредить неприятелю всякими средствами, вести, так сказать, разбойничью войну, – еще более случаев пограбить за глазами начальников. Следуя правилу своему – расхищать, что могут найти, истреблять, чего нельзя унести, чтобы врагу не досталось ни синего пороха, ни соломинки на кровлю, ни прутика для огня, – мои молодцы с особенною ловкостию пустились шарить и шныхарить18. Взяв все предосторожности от внезапностей, я велел караульным разложить в одной из комнат, менее других пострадавших, огонь в камине и перенес туда оконтуженного поручика. Он кряхтел и бранился, между тем как фельдшер натирал ему больной бок спиртом. Я, усталый, лежал перед огоньком на гусарских плащах. В окно светило зарево дтожара, и от времени до времени слышались в селении пистолетные выстрелы.
– Проклятая пушка! – приговаривал, охая, Зарницкий при каждом разе, когда фельдшер касался до контуженного места. – Она, словно клад, не давалась мне в руки. Под Красным19 французская сабля мне хотя прорезала на груди петлицу, да по крайней мере я вдел в нее Владимира с бантом20, а эта упрямица отбоярилась от меня одним чугунным поцелуем. Ох, проклятая пушка!
– Утешься, Зарницкий, она не ушла от нас! – сказал я.
– Да не пойдет и с нами. Дорога еще не окрепла, кони истощены, и колеса будут резать за ступицы. Она свяжет нас по рукам и по ногам; при летучем отряде не впору ползти этому медному тюленю.
– О перевозке не заботься; я уж велел положить ее на розвальни, и тебя жалую начальником всей нашей зимней артиллерии.
– Эта зимняя артиллерия нагрела мне бок не хуже Петровок21; да скажи, пожалуй, куда девался этот кирасирский великан, который выхватил у меня пушку из-под носу? Когда я очнулся, то в облаках серного дыма он, в белом мундире и в латах своих, показался мне за привидение. Нечего сказать, удалец, – он крошил палашом своим, как будто в кулаке у него сидел целый легион чертей, и метался в схватке, будто на нем надета была заговоренная кожа Ахиллеса22. Не убит ли, не ранен ли он?
– Не знаю. Видел его я до самого конца дела, в запальчивости он истреблял встречного и поперечного; не было пощады даже тем, которые просили пардону. Кровь струей бежала с его клинка, с особенною, какою-то дикою радостью рубил он вооруженных врагов, и всякий раз, когда человек падал трупом к ногам его, он, вглядываясь в лицо, восклицал: «Это не он! все еще не он!» – и спешил далее. Мне сказывали, – увязавшись за кем-то в погоню, он исчез в потемках… Может статься, где-нибудь и застрелили его… Я велел всюду его искать, но до сих пор еще не нашли латника.
– Нашли, нашли! – кричал, вбегая, запыхавшись, наш кубический аудитор. – Ура! наша взяла! Мир России, слава и честь аудитору двенадцатого класса Кравченке; поздравьте меня, обнимите меня, расцелуйте меня в лепестки. Уф!., я не могу более…
При этом он упал в кресла и, пыхтя, с гордым видом поглядывал на нас свысока. Мы с улыбкою взглянулись, желая найти на лице другого разгадку этим междометиям.
– Теперь мое имя будет сиять не в одних скрепах шнуровых книг23 – оно загремит в реляциях, в газетах, в историях!.. – продолжал Кравченко, собравшись с духом. – Да, да, в историях!
– По крайней мере в какой-нибудь комедии, – сказал поручик, следя глазами аудитора, который в припадке самодовольствия вертелся и прыгал по комнате, словно кубарь.
– Чинов, крестов, пенсионов – бери не хочу! Да то ли еще? На меня сбегутся смотреть стар и мал, когда я приеду в Петербург, как на моржа, который в кадке играет на гитаре. Меня наперехват будут звать вельможи на обеды, а про места и говорить нечего – хоть в министры юстиции; впрочем, господа, я и в счастии не позабуду вас… Вы, пожалуйте, обращайтесь ко мне по-дружески, если припадет нужда, – для когоже и не послужить в случае, когда не для старых приятелей? Кстати, господа, вы будете моими дружками, когда я женюсь на дочери Платова!..24
Мы долго смотрели серьезно на его проказы, как он, подымаясь на цыпочки, воображал, что задевает носом за облака; мы долго слушали его нелепости, но при последнем восклицании хоть и уверились, что он рехнулся, но никак не могли удержаться от смеха, – так забавен был наш маленький человечек. В свою очередь и он с удивлением глядел на нас из широких кресел, как сытый кот из слухового окна; он не постигал, чему хохочем мы, схватясь за бока.
– Не проглотил ли ты, любезный Лука Андроныч, чертенка вместо мухи? – спросил поручик.
– Не опоили ли тебя французы дурманом? – сказал я.
– Или не хочешь ли ты прикинуться сумасшедшим, чтобы поправить прежнюю репутацию своего рассудка? Авось скажут, коли сошел с ума, верно было с чего, – подхватил Зарницкий.
– Не худо бы вам успокоиться, – примолвил я. – От бессонницы долго ли приключиться белой горячке?
– Советовал бы я вам пустить себе самим рожечную кровь…25 – отвечал Кравченко. – Экая невидаль – дочь Платова! Да чем бы я не зять атаману? Ведь он сам объявил всем и каждому циркулярно, что, кто захватит Наполеона, за того он отдаст дочь свою, будь он простой казак, не только аудитор двенадцатого класса, представленный к получению Анны на шпагу!26 Разве не слыхали вы этой новости?[199]
– А вы небось ей поверили? Знайте же, г<осподи>н аудитор двенадцатого класса, представленный к получению Анны на шпагу и проч., и проч., и проч., что у Платова нет дочери невесты, что он никогда не думал и не гадал объявлять подобного предложения. Но если б даже, по щучьему веленью, а по вашему хотенью, у него и была бы дочь, если б даже нелепая лотерея эта была в самом деле вещь сбыточная, – я все-таки не вижу, почему бы наш Лука Андронович мог иметь право на ее руку?
– Не только на ее руку, ротмистр, на ее обе руки, на нее всю с головы до ног, с душою и сердцем и с богатым приданым барыша. Да неужели я до сих пор не объявил вам о славном моем подвиге, о счастливой находке своей? Там, в темном подвале, в самой трущобе, между хламом и ломаною мебелью, знаете ли, какой клад открыл я?
– Верно, бочонок с водкою или свиной окорок, – хладнокровно отвечал поручик. – Я не знаю, что бы иначе могло до такой степени переболтать все параграфы умственного артикула в голове нашей полевой юстиции!
– О, зависть, зависть! – вскричал Кравченко, поднимая свои телячьи глаза к потолку. – Едва успел я отличиться, меня, заране хотят унизить насмешками, отбить славу клеветою. Пусть! Разве не все великие люди имели такую же участь, – да хотя бы и не все?.. Я тем не менее свершил дело знаменитое и заверил его законными и уважительными свидетельствами; теперь никто в свете не оспорит, что я этими руками взял в плен Наполеона!
– Наполеона? – вскричал поручик, вскакивая со стула невольно. – Наполеона, который уже два раза ускользнул у нас между пальцев, вы, сударь, ты, Кравченко, взял Наполеона?
– Я, сударь, я сам взял Наполеона с мясом и с костями, говорю я вам!.. Неужто я не знаю его покляпого носа27, его зеленых глаз, его синего мундира и шляпы корабликом? Разве не двадцать раз видел я его – во сне и на карикатуре! Да вот он и сам – лукавый легок на помине.
Мы оба очень мало верили проницательности аудитора, еще меньше – возможности захватить на этой дороге Бонапарта; но достичь его было самою меткою мечтою, самым пылким желанием, так сказать осью помешательства, – и в этот раз, по обыкновенной всей людям слабости к вестям самым несбыточным, впали в раздумье. «Чем черт не шутит! – ворчал поручик. – Легко статься может, что Наполеон нарочно кинулся проселками, обманывая погоню! Может, истребленный батальон был его конвоем!.. Из чего бы иначе им так упорно было драться!» В таких мыслях бросились мы к дверям, в которые входила толпа наших наездников с пленным посереди.
– Вот он, вот он! – шумели гусары. Они уж вспрыснули победу искупленною водкою, и были, что называется, навеселе, и еще более расхорохорились от уверений аудитора.
– Я первый увидел его, ваше благородие! – сказал, выступя вперед, рослый драгун.
– Я первый нашел его! – восклицал другой, пристукивая каблуком, чтоб его не забыли, так мочно, что с потолка падала известь.
– Я первый схватил его!.. – уверял казак.
– Я вытащил, я держал за руку, за ногу, за шею!.. – кричали другие.
– Без нас он бы дал стречка! – вопияли третьи.
Я велел всем молчать.
– Подведите-ка пленника ближе к огню.
– Бросьте в огонь – только дайте мне расписку, что получили от меня
Наполеона в целости, – ворчал аудитор сквозь зубы.
Пленник приблизился, и мы с жадностию, почти с трепетанием страха и надежды устремили на него глаза: перед нами стоял тамбурмажор какого-то егерского французского полка28, с преглупою и вместе с прежалкою рожею; общипанный мундир с полинявшими галунами, треугольная шляпенка на голове и на ногах вместо сапогов русские рукавицы – вот в каком виде представился нам двойник всемирного завоевателя. Надобно к этому прибавить, что, избегнув побоища, он был бледен как смерть, исключая носа, из которого и сам страх не мог выжать винного румянца. Он трепетал всем телом, потому что солдаты в жару патриотизма провожали барабанного императора, кажется, не одними угрозами.
Мы покатились со смеху. Аудитор между тем, выставя одну ногу вперед и водя чуть не по лицу пленника указательным пальцем, начал разбирать его по частям.
– Видите ли вы этот желтый, пергаменный лоб, на котором написаны его сатанинские замыслы? Видите ли этот ястребиный нос, который за тысячу верст чует добычу? Видите ли зеленые как у змея глаза, которыми он наяву морочит человека, эти коротенькие руки с длинными когтями, это крутое брюхо, которое было несыто, проглотив целиком Европу?.. Видите ли, что у него на лице написано число 66629, он же есть антихрист, сиречь Аполион, то есть Наполеон Бонапарт?
– Прокатись-ка верхом, любезный Лука Андронович, на этом пленнике, ты будешь точно грех на звере Апокалипсиса!30
– Не под седло, а под нозе русских31 надо низвергнуть этого сопостата. Зачем ты навалился на Русь с двунадесятью язык? Говори, отвечай! Не заминайся! – вскричал аудитор. – Признайся… кто у тебя были на Руси сообщники?
Бедняга тамбурмажор стоял ни жив ни мертв и дрожал словно осиновый лист, видя, как петушится около него аудитор, которого, без сомнения, он считал по крайней мере главным начальником отряда. «Mon capitaine, mon colonel, mon general»[200] – твердил он ему при каждом слове, прося пощады; но тот не хотел принимать от корсиканского выходца ни даже маршальского достоинства. Наконец нам стало жаль этого копеечного Наполеона, и я, попрося нашего героя успокоиться, сказал ему, что он очень ошибся в своем призе – что это ни больше ни меньше, как французский тамбурмажор, то есть почти барабанный староста.
– Хитрости, притворство, лицемерие! – воскликнул наш аудитор. – Вот еще новости – тамбурмажор! По барабану этого старосты плясала вся Европа, так пускай теперь спляшет по нашей дудке. Как ты ни зовись, мусье Наполеон, чем ты ни прикидывайся, а не миновать тебе железной клетки, как Пугачеву: будешь в птичьем ряду в Москве на потеху ребятишкам! Вы, господин ротмистр, как я усматриваю, хотите изменить отечеству и отпустить этого антихриста, – так знайте, что если это сбудется, я донесу обо всем высшему начальству… Будьте уверены, я возьму свое… Ни пенсия, ни приданое не ускользнут от моих рук!
Я вовсе не был расположен сердиться и потому очень скромно, однако ж твердо сказал ему, чтобы он не вмешивался в мои распоряжения; что если мне дана власть, то, само собой разумеется, возложена за нее и ответственность, только не перед ним; что по окончании наезда он может доносить что угодно и кому угодно, но когда будет писать об этом приключении, то не худо бы прибавить туда статью: что он, г<осподи>н аудитор двенадцатого класса, представленный к ордену св. Анны 3-й степени, был не в полном разуме.
– Эта статья будет излишня, – заметил поручик, пуская ему под нос клубы дыму, – и без нее никто в этом не усомнится. Впрочем, я не знаю, любезный ротмистр, почему бы не послать в главную квартиру Луку Андроновича курьером вместе с этим Наполеоном, они развеселили бы всю армию на целую неделю.
Аудитор принял это за чистые деньги и вытянулся, как фельдъегерь, готовый получить подорожную. Но я в таком же тоне возразил, что, по недостатку в нашем отряде хлеба и водки, для нас самих необходимо подобное ободрение. Я велел, между прочим, стеречь этого пленника да осмотреть его.
– И всеконечно осмотреть! – вскричал аудитор. – Говорят, сопостат завсегда носит в перстне яд. Умри он – так и поминай как звали дочь Платова, невесту мою.
– Разумеется, осмотреть, – примолвил насмешливо поручик, – того и гляди, что у него нос заряжен картечью: сохрани Боже чихнет, так и жениху не уйти.
– Мы уж и то обшарили его до самой кожи, ваше благородие, – отвечал один из гусар, – да ничего не нашли в карманах, кроме двух накрахмаленных воротников и фабренной щеточки!32
Рассерженный аудитор уселся в углу, что-то ворча про себя. Пленника увели очень довольного, что избегнул побоища по счастливой ошибке. Мы с поручиком уселись у огня. Не прошло пяти минут, к нам опять тащат другого пленника: казаки, которые чуют золото лучше всякого горного офицера, то пробуя шомполом стены и пол на звук, то наливая воду на землю, чтобы угадать по тому, скоро или медленно она всасывает ее, не взрыта ли она недавно, то перерывая даже золу в печках, – казаки, говорю, вытащили с чердака эконома замка, предоброго старика. Ободрив его ласковыми словами, мы от нечего делать принялись его расспрашивать, чей это замок, и то, и се, и пятое, и десятое. Вот вам вкоротке, что рассказывал дворецкий.
– Поместье Треполь – родовое князей Глинских. Последний из них, Наримунт Глинский, мой добрый старый господин, – помяни Бог душу его, – имел дочь Фелицию панну, такую красавицу, что загляденье. Женихов около нее вилось словно пчел около майского розана, только она от них отшучивалась, – видно, мила ей казалась воля девическая. В околотке, года за три до этого, расположена была русская артиллерийская рота… Ею командовал капитан… дай Бог памяти, имя такое мудреное, что нейдет ни в ум, ни из памяти. Собою был он человек рослый, видный – молодец лицом и поступью, а уж сердцем да обычаем так что твоя красная девушка! Он стоял в замке… с панной Фелицией бывал с утра до позднего вечера… Молодежь-то крепко полюбилась друг другу, да и сам князь был не прочь сыграть свадьбу, благословить дочь за капитана: он страх любил русских, все, бывало, говаривал, что он сам русской крови. Вот уж дело пошло и на ладах. Капитан был повещен женихом панны Фелиции; он и она были чуть не в небе от радости; да и вся дворня и хлопы, не то что соседи, не нарадовались, что у них будут такие добрые господа. На беду ли, на грех, перед самым шлюбом (свадьбою) пишет мать капитану, что она больна и хотела бы благословить его своей рукою на советную жизнь и на всякое счастье… Капитан свернулся мигом в дорогу… Слез-то, слез было на росстанях, что не приведи Господи, индо вчуже сердце разрывалось. Панна Фелиция упала в обморок, когда он сел на коня, ветер замел следы его на песке, – Бог не судил жениху воротиться. Здесь жил тоже дальний родственник старому князю, грабе33 Остроленский. Лицом, нечего сказать, красавец, зато душою вьюн; он опутал старика сетью шелковою, да и к жениху подпал он таким другом, что ни тот, ни другой не пили, не ели без него. Промежду тем он исподтишка больно зарился на панну Фелицию и спрятал в сердце досаду, когда капитан оторвал у него от губ подвенечную чару. Чуть уехал капитан, грабе стал рассыпаться мелким бесом пуще прежнего: улещает старика, плачет, словно от луку, с невестою. Уж не ведаю, как это сталось, только мы стали получать от капитана письма день ото дня реже, и с часу на час холодел к нему старый князь Наримунт. Вестимо, панове, дело заглазное; оправдать его было некому, а наговаривать на далекого нашлись добрые люди. Грабе, как жаба, лежал у старика на ухе. Вот и совсем перепала весть о женихе; месяца с четыре ни слуху, ни духу, ни загадочки. Панна Фелиция не осушала очей на солнышке; сидит, бывало, в своей комнате под окном, глядит на дороженьку да горюет, бедняга. Привозит однажды ездовой из города почту. Господа в то время сидели за столом тихо, печально, словно на похоронах. Только пан грабе шутил и смеялся, чтобы развеселить гостей. Подал ездовой князю связку писем, наверху одно с черною печатью. Открыл князь, прочел его и молча передал дочери… Не успела та заглянуть в него – вдруг побледнела как платок: то была страшная весточка для невесты – жених ее умер.
Время текло у нас тише воды; в гостиных было как на кладбище. Не прошло полугода, слышим: объявляют, что пан грабе Остроленский женится на нашей ксенжничке (княжне)! У девушек коротка память, панна Фелиция, однакож, не забыла прежнего милого; ее принудили выбрать другого. Отец твердил то и дело: «Я не проживу долго, дай себя увидеть не сиротою, выйди да выйди замуж за грабия»; надо было потешить отца на старости лет. У нас отпраздновали свадьбу. Нечего и говорить, что всего было вдоволь, всего, кроме радости, про любовь ни помину. Не прошло месяца, все оборотилось у нас вверх дном. Пану грабе нужно было не сердце, а приданое Фелиции. Старик отдал ему полную волю в доме и в именье, да и стал у себя первым невольником. Никому не стало житья от нового господина. Он сбил со двора даже старых собак, не то что покоевцев и ловчих34. А уж глядеть на нашу милую пани Фелицию – так сердце кровью заливается: чего-то, чего она не перенесла от злости мужа! Попреками да укорами отравлял он ей каждую ложку за обедом и, наконец, до того мучил ее, что заставил принимать к себе свою отъявленную любовницу – настоящую змею подколодную, которая, бывало, спит и видит, как бы огорчить нашу голубку своею наглостью. Бедная графиня сохла, как былинка на камне, таяла, как свеча воску ярого, плакала перед одним паном Богом и молчала перед добрыми людьми. Правду сказать, добрые люди скоро покинули замок наш, ворота заросли травою, и двери в столовой приржавели к петлям, – Бог снял свое благословение с майонтка княжего35 после смерти старика Наримунта. То дождь вытопит луга, то град побьет хлеба, то зверь попортит стадо; а карты, эта бесовская грамота, рассыпали по чужим карманам дедовское серебро и золото. Напировавшись со своими панибратами досыта, граф стал уезжать бог весть куда. Настала осень, желтый лист засыпал дорожки сада, однако барыня, не глядя на ветер, бродила по нем будто на прощанье с Божьим светом. В один день в сумерки (тут дворецкий оглянулся во все стороны и, уверясь, что его никто не подслушивает, перекрестился и, понизив голос, продолжал) – это рассказывал мне покоевец, который завсегда издали ходил за нею… в один день в сумерки она возвращалась тихими шагами в замок, печальна, бледна, потупив голову… как вдруг перед ней стал всадник на вороной, как воронье крыло, лошади… Покоевец присягал на свою душу, что все двери сада были заперты накрепко и что он не слыхал ни топоту, ни ржания конского, – он явился как тень, спрыгнул долой и схватил графиню за руку. Между тем как перепуганный покоевец стоял как вкопанный, всадник что-то тихо и долго говорил с нею… что-то похожее на поцелуй раздалось впотьмах, и вдруг графиня застонала пронзительно… Когда слуга подбежал к ней, черного всадника уж не было! Наутро не нашли даже конских следов по дорожкам сада. Спрашивать о том графиню никто не смел; сама она молчала. Когда ей после этого испуга предложили лекарства, она отвечала, что все напрасно… что она знает наверное час своей смерти и что, едва прорежется рог у нового месяца, ее не станет. С той поры в каждую пятницу сиживала она по вечерам в этой самой комнате, одна-одинехонька с своею собачкою, до поздней ночи, без свечек… и словно с кем разговаривает. Здоровье ее стало на закате, час от часу плоше: похудела, хоть насквозь гляди… И вот на ущербе месяца ей стало очень трудно, а все еще на ногах бродила. В четвертую пятницу она опять пришла сюда сидеть у этого окошка и глядеть на поле, покрытое снегом. Было уж одиннадцать ночи… Вдруг все ее ближние послышали: кто-то сходит тяжелой стопой на лестницу. Что за диво! Наружные двери я сам запер крепко-накрепко. Слушаем: чудится, будто графиня с кем-то разговаривает… Тише, тише, тише, все утихло. Со страхом вбежали в комнату ее панны, глядь – графиня лежит на софе в обмороке… Назавтра поутру приехал грабе из Вильны, и в следующую ночь, – когда блеснул ноготок молодого месяца, – она скончалась. Радость, которую наш пан не хотел и скрывать, мучительная кончина графини так скоро после его приезда и синие пятна, проступившие на лице покойницы, – все это, панове, свело на него подозренье, будто графиня умерла от яду. И то сказать: кого не любят за дело, на того сплетают и небылицы… Бог судья, правда ли это; осудитель Бог, если это правда! Только граф, едва переждавши три месяца после похорон, женился на прежней своей любовнице. Сказывали, что на кладбище у кляштора36, где положена графиня Фелиция, три раза после того являлся черный всадник неведомо откуда, скрывался неведомо куда. Так прошло два года. Грабе наш, схоронив с первой женой совесть последнюю, разорил крестьян, измучил всех нас и, наконец, отослал в землю и вторую жену. После этого, слава пану Богу, он уехал служить во Францию, и с тех пор мы не видали его до вчерашнего дня; он воротился беглецом из Москвы, как раз возмутил всю околицу, скликал шляхту, вооружил неволею слуг и хлопов своих, чтобы драться против русских до смерти: ему, вестимо, не жить в родине – именья и доброго имени не выкупить из черного долга. Вы видели, что он рубился напропалую. Однако ж у него в саду заготовлена была лошадь для побегу, и наши сказывали, что пан ускакал, когда увидел беду неминучую. Дай пан Бог, чтобы он никогда к нам не ворочался!
Старик кончил. Я успокоил и выслал его.
Аудитор спал в углу, сидя, мертвым сном; поручик сидел в глубокой думе перед камином. Простой рассказ дворецкого нас тронул обоих.
– Как несправедливо жалуются писатели, будто мы живем не в романическом веке! – сказал я. – Пусть заглянут в деревни, в маленькие городки, где еще не истерлась характерность и особенность с лиц, и они найдут неисчерпаемый источник, ключ прямо русский, самородный, без примеси. Притом, покуда существуют страсти и слабости, развиваемые обстоятельствами или связанные узами приличия, человек всегда будет любопытен, занимателен для человека; каждый век только обновляет новыми образами сердце. Я уверен, что, перебравши тайные предания каждого семейства, в каждом можно найти множество разнообразных происшествий и случаев необыкновенных. Сколько ужасов схоронено в архивной пыли судебных летописей! Но во сто раз более таится их в самом блестящем обществе! Я знал многих, которые подписывали чуть не смертные приговоры с гордым лицом, на котором бы должно лежать заслуженное клеймо отвержения; я знал людей, которые громко вопияли против порока и не заглушили тем голоса сознания в собственных злодеяниях!! Но, оставя умышленное, сколько еще остается случаев от неведения, от неопытности, от заблуждения!
Зарницкий молчал.
Он был из числа тех людей, которых мы привыкли называть мечтателями: от самой шумной веселости, от самого насмешливого разговора отпадал он вдруг в глубокую думу, в грусть неразвлекаемую, и тогда вы бы сказали, глядя на его неподвижные очи, что пред вами один труп его, а душа улетела. В другое время, напротив, вы бы могли видеть на лице его всю игру мыслей, как работу пчел в стеклянном улье. В этот раз он будто пробегал даль: то словно сам чего-то бежал с робостию, то улыбался младенчески:
– Друг! – сказал я, тихонько ударив его по плечу, – верно, душа твоя была теперь в домовом отпуску?
– Правда, – отвечал он, очнувшись, – тишина и сумерки стелют моему воображению мост на родину. Рассказ этого старика освежил во мне многие картины из моего младенчества, из моей юности. Но всего более эта унылая песня сырых дров, это завыванье трубы, словно призыв какого-то великанского рога, напомнили мне старину, когда, лежа в постели, я любил слушать ветер, стонущий сквозь трубу печки. Чугунная вьюшка звучала, как далекий погребальный колокол, и зимняя вьюга, сыпля иглами инея в стекла, рассыпалась едва слышною гармоникою. Какой-то новый мир, вовсе незнакомый, ощутительный, но безвидный, обнимал меня; какие-то чудные существа теснились к душе… Мне казалось, я слышу лепет их крыльев, шум стоп, жар дыхания, невнятный их говор. Еще более… порою предо мной вились, сверкали, огнились символические их письмена, которые вместе были и буквами и живыми образами; самые звуки принимали на себя какую-то неопределенную форму. Не умею выразить, что бывало со мной в этой дремоте: я трепетал, как струна, издающая божественный голос; томный и вместе сладостный ужас пробегал по моим жилам; я хотел постичь его и болезненно сознавался, что природа не дала самой душе органов для вкушения этого безыменного чувства; на меня находила тогда тоска; я походил на человека, который страстно любит музыку и страждет случайною глухотою. Бывало, завернувшись в одеяло с головою, из подобного состояния я переливался в чуткий сон; и в нем еще явственнее, еще живее мои видения кружились около; но тогда я уже сам становился действующим лицом: говорил, как Демосфен37, читал неведомые прелестнейшие поэмы, но от них при пробуждении оставались во мне только ощущение восторга, только слеза умиления. То ли еще: я летал птицею в безднах, я плавал как рыба, я как воздух проницал в глубь земли. Мне виделось, что я мог глядеться в душу свою, и чужие речи и мои мысли вставали, проходили передо мной, воочью совершались, как говорят русские сказки38. Особые места действия, особый круг знакомства, особенное родство имел я в сонном мире своем; но каков был он, но кто эти знакомцы и родные, память моя не могла схватить, пробудившись совершенно. Зато всякий раз, склоняя голову на подушку, я обнимал ее, как друга-чародея, который унесет меня к милым.
Отрадно плыть во сне туманной
Летой, Забыв часов бряцающую медь,
В видениях пожить вне жизни этой
И без кончины умереть!!39
Моралисты сулят покой несчастным за дверью гроба; зачем ходить так далеко? Сон есть лучший уравнитель в жизни. Когда вздумаешь, что царь и последний поденщик, богач и бедняк одинаково проводят треть суток, первые не пользуясь своими преимуществами, последние забывая свое горе, – то какое-то утешительное чувство проникает душу. Я еще допустил, что счастливец и несчастный проводят одинаково пору сна, – но обоим ли им стелет постель усталость и чистая совесть? Не сидит ли часто раскаяние у золотошвейного изголовья, не дарит ли воображение царскими снами бедняка?
Ты спросишь, откуда пробился ключ этих наслаждений моих, это перемещение сонных призраков в явную жизнь и действительных вещей в сонные мечтания? Мне кажется, этому виною было раннее верование в привидения, в духов, в домовых, во всех граждан могильной республики, во всех снежных сынков воображения мамушек, нянюшек, охотников-суеверов, столько же и раннее сомнение во всем этом. Нянька рассказывала мне страхи с таким простосердечием, с таким внутренним убеждением, родители и учители в свою очередь говорили про них с таким презрением и самоуверенностию, что я беспрестанно волновался между рассудком и предрассудком, между заманчивою прелестью чудесного и строгими доказательствами истины. Куда был перевес: на сторону ли впечатления или на сторону убеждения – угадать нетрудно. Правду сказать, человек всегда предпочитает то, чего он не может постичь, тому, чего постичь нет ему охоты. Эта борьба, однако же, не истребив совершенно моей наклонности к чудесному, отняла у него нелепую одежду, в которую облекло его народное суеверие. Разумеется, чем более мужал мой рассудок, тем приметнее влияние чудесного на меня уменьшалось: образы его бледнели, блекли, исчезали, сливались с пространством, как утренние туманы. Но веришь ли? – до сих пор бывают минуты, в которые готов я почти увлечься поверьями моего детства. И как я люблю переживать вновь годы этого детства! Весна моя расцветает в памяти чудными цветами, причудливыми цветами – со всем их благовонием, со всею свежестию красок; я наслаждаюсь тогда даже минувшими ужасами, и замечу странность: это осуществление минувшего случается со мной наиболее после сильных движений души или тела, после сильных потрясений. Кажется, что ослабнувшие струны организма способнее принимать лад нежных лет наших и от малейшего повева поминка звучат знакомую, любимую песню.
Однако ж рассказ старика дворецкого разбудил в душе моей не одни полу ясные, неопределенные воспоминания. Нет! он оживил происшествие, очень подобное им рассказанному, происшествие, близкое моему сердцу. Не сказка и не выдумка, слепленная на потеху приятелей, будет повесть моя, в ней от слова до слова – все истина.
Дед мой с матерней стороны был князь X-ий; я будто впросонках вижу его темную, суровую физиогномию, его высокий рост… его жестокий голос. Не знаю отчего, только я боялся его ребенком как нельзя более. Как ты хочешь, а мне кажется, природа одарила всех тех инстинктом, в которых не развила разума, и дитя, находясь в этой категории, почти всегда безошибочно угадывает в каждом встречном друга или недоброхота. Князь был, можно сказать, неистового нрава – горд своим родом и богатством в обществе, невыразимый деспот в семействе. Как наибольшая часть воспитанников старого века, он людей считал средствами для своих выгод, детей – куклами для забавы; сохрани Бог, чтоб они осмелились думать; не только поступать, иначе как по его воле, то есть по его прихоти. У него были два сына и дочь. Он успел подавить в первых всякое благородное чувство, всякую вспышку разума, и они зачерствели в своем невольном ничтожестве, в своем вечном ребячестве. Их отправил он на службу в столицу. Совсем другое сталось с дочерью. Угнетение, уничижение, под которыми держали ее, пробудили в ней гордую душу, которая без того никогда бы, может быть, не проснулась. Она почувствовала и уверилась, что правда и добро могли существовать и вне речей, вне поступков отца ее. Случай способствовал этому развитию.
Лиза потеряла мать еще в ту пору, когда не могла вполне оценить этой потери, именно потому самой великой. Отец не удостоивал заниматься ее воспитанием. Он думал, что совершил великое благодеяние, платя мадамам и навербовавши к ней кучу учителей – без выбору и без призору. Нежность его ограничивалась тем, что он утром и вечером допускал дочь к ручке своей да всякий месяц дарил ей на булавки.
В числе учителей Лизы приехал из Москвы недавно выпущенный из университета адъюнкт Баянов. Он был очень статный, умный, добрый юноша; дворянин небогатый, но стоящий богатства. Лизе было тогда пятнадцать лет, и он с жаром принялся за ее образование; уроки были наслаждением для обоих. Она радовалась познаниям, он – успехам своей ученицы. Ничего нет чище, возвышеннее, святее удовольствия, какое чувствуем мы, передавая, вверяя благородные чувства и светлые мысли другим. Тогда мы прилепляемся к ним любовью отеческою; и в самом деле: вложить в человека душу разумную, доблесть живую – не значит ли создать, родить его для добродетели, и не ценнее ли это родство родства телесного, не священнее ли самых уз крови?..
Однако ж скоро, хоть незаметно для неопытных, вмешалась в их дружество душевное любовь более нежная, более страстная, любовь сердца. Минуло четыре года… учение кончилось… и любовники тогда лишь узнали, что взаимность для них не только счастие жизни, но самая жизнь… когда судьба погрозилась разлучить их. В одну и ту же минуту они испытали весть разлуки и признание в любви, первый поцелуй восторга и первые горькие слезы печали. Они поклялись быть верными до гроба, это уж так водится искони: для молодых людей все кажется легко, для любовников – все возможно.
Они не знали, с кем имели дело.
Старику X-му наскучило нянчиться с дочерью. Она была невеста, и, что всего важней, невеста богатая: мать отказала ей одной все свое приданое, все движимое и недвижимое. Однако, желая сбыть с рук дочь, ему не хотелось расстаться с ее имением, и вот для чего удалял он от Лизы женихов, которые по уму или по связям своим могли бы потребовать у него и наличного и отчета за прежнее управление.
Сгадал, решил и выбрал в зятья какого-то князька – сидня, весьма ограниченного умом, ничтожного роднёю. Он дал слово, не спросясь, даже не предуведомив дочери. Через три дня надо было играть сговор, а она не знала о своей участи ни сном ни духом. Наконец он объявил ей повеление выйти замуж и готовиться к свадьбе самым беспрекословным образом. Он споткнулся на этом вовсе неожиданно: характер дочери открылся вдруг в полной силе! Подкрепленная взаимною любовью, она дерзнула почтительно, но твердо сказать отцу, что считает союз супружеский святынею, которая требует любви сердечной к мужу… а потому она не иначе отдаст руку свою, как вместе с сердцем; сердце же ее отдано Баянову, ее воспитателю; она прибавила, что никакие убеждения не принудят ее переменить данного обета – быть его женою или вечно остаться его невестою. «Вы дали мне жизнь, батюшка, – сказала она, – но Бог дал мне душу; располагайте первою, но позвольте мне сохранить для себя вторую; и кому лучше могу я посвятить ее, как не человеку, посвятившему лучшие годы своей жизни на мое образование с таким усердием, с таким горячим самоотвержением?»
Говорят, князь после этого объяснения несколько минут стоял неподвижен и безмолвен от изумления… гнев задушил в нем голос. Можно представить себе, что почувствовал человек, привычный к безусловному повиновению от всех, к нему близких, который сроду не слыхал слова «нет» и вдруг поражен был им так внезапно, так больно! Вся его гордость, все его выгоды и понятия, все замыслы его оборочены были вверх дном, – и кем же? Девочкою, дочерью!
Взрыв был ужасен, угрозы и брань полились на несчастную: как смела она иметь свой ум, взять свою волю! Суд короток – он запер ее в темную комнату на хлеб и на воду.
Учителя Баянова велел он выбросить из замка вместе с его вещами, не позволив показаться на глаза. Бешенство его выместилось на всех домашних; и без того все трепетали его голоса, его взгляда, а после этого случая половина слуг разбежалась от его жестокости, не знающей границ, незнакомой с пощадою. Он свирепствовал как зверь.
Время шло; но оно не переменило ни упорства отца, ни постоянства дочери. С своей стороны, влюбленный Баянов, несмотря ни на какие угрозы, презирая опасности, обманывая надзор, старался проникнуть до темницы своей любезной – и долго, долго напрасно. Мало-помалу, однако ж, ему удалось деньгами склонить на свою сторону одного из тюремщиков. Золотой дождь по капле пробивает даже камень. Ему доставили случай видеться с Лизой, и минуты, которые провели они вместе после долгой разлуки, несмотря на меч, висящий над головою, были самыми счастливыми в их жизни, потому что верность в такую мучительную годину испытания получает высшую цену, и каждый миг, вырванный из львиных челюстей опасности, тем сладостнее, чем короче, тем ближе к восторгу, чем ближе к гибели. Скоро почувствовала заключенница, что существо ее удвоилось. Какое святое чувство вложила в нас природа к обновлению! Какое сердце не трепетало радостью при мысли: «И я стану матерью!», при вести: «Ты отец!» В такие минуты забыты все страхи, все расчеты!!
Наши любовники были счастливы назло судьбе, и это самое придало им смелости, самой надежды. Тут уже дело шло не о них самих, но об имени, о счастии третьего, драгоценного для них залога. Они приготовились к побегу. Они согласились исполнить свое намерение, когда отец уедет на три дня в отъезжее поле.
Он уехал.
Переодетый в кучерское платье, проник Баянов в тюрьму Лизы ночью. Дневальный тюремщик был подговорен бежать вместе; лихая тройка ждала их за частоколом сада; оставалось только удачно выбраться из дому. Баянов застал свою невесту на коленях перед образом. Кончив молитву, она кинулась в объятия к милому, но долго не могла промолвить слова, заливаясь слезами. Я знаю это от старика, бывшего свидетелем. Он рассказывал, что смелость ее покинула, когда надобно было ступить за порог; что она умоляла Христом-Богом отложить все до завтра; говорила, сердце у нее будто стиснуто железною рукою, что предчувствует верную, неминучую гибель. Баянов, разумеется, утешал, ободрял, уговаривал ее; доказывал, что предчувствия не что иное, как робость, что, откладывая удобный побег, они накличут себе не только в каждом человеке, да в каждом часу неприятеля, а что всего важнее – священник ждет их в церкви.
Она уступила.
Через сад в повозки, и ударили по всем по трем.
Дело было в начале ноября. Рыхлая пороша чуть подернула павший лист дубравы. Я и забыл тебе сказать, что все это происходило в К… губернии, в усадьбе князя, называемой Шуран40; лежит она над Камою, при большой дороге в Оренбург; место преживописное; барский дом на холме; дедовский темный сад шумит угрюмо на берегу; вправо… да не о том дело. Глухая ночь лежала над Шураном, когда наши беглецы оставили его. Проселочная дорога к далекой, уединенной церкви пролегала дремучим лесом и местами совсем склонялась на крутой берег Камы. По Каме шел тогда лед и с печальным звуком ломался друг о друга. Две тройки мчались быстро, но едва слышно: колеса нарочно были обвиты кушаками. Припав к груди Баянова, для которого пожертвовала всем на свете, Лиза едва дышала. Час этот был для нее как час перед казнью преступника – он еще не мертвый, но уж и не живой; может ли он наслаждаться жизнию, когда смерть впустила в него когти свои? Такая отсрочка хуже пытки, такая бесчеловечная милость жесточе казни самой. Но едва ль не еще несноснее, когда неожиданное счастие разманит нас – и вдруг готово исчезнуть! Пусть непредвиденная беда поражает как пуля, беда, перед которою идет предчувствие, терзает, как яд жестокий. В таком точно положении были оба наши любовника. Они молчали, потому что ни один не мог найти слова утешительного; земля звучала под колесами, будто свод могильный; ветки сыпали на лицо иней, и корни заплетали им дорогу.
Все кругом было в смертной тишине; только порой спугнутый филин страшно гукал в чаще, хлопая тяжелыми крыльями, или трещал изломанный сук. Они благополучно добрались до деревенской церкви, верст за пятнадцать от Шурана. В ней приветно теплился огонек… Дверь растворилась, и женихи вошли и тусклую трапезу. Иконостас подымался до самого потолка, подпертый витыми столбиками, когда-то позолоченными; старинные лики святых, едва озаренные лампадою перед царскими дверьми, казалось, хмурились, помавали головами; хоругви колебались от сквозного ветра, который, дуя в рамы, возникал и стихал печальною песнию. Почтенный старичок священник встретил жениха и невесту у дверей благословением, и дьячок, засветя еще несколько свеч в высоких подсвечниках на деревянной ножке, запел хриплым голосом. Началась служба. Прелестна, однако ж бледна как снег намогильный, стояла перед налоем невеста… Венчальная свеча дрожала в руке ее, и когда Баянов ободрял ее нежным взглядом, она отвечала: «Это от холода»; этот холод был у ней в сердце… Она робко озиралась кругом и сторонилась теней, перебегающих по церкви от зыбкого пламени свеч, как будто они хватали ее. Вопреки всех страхов, обряд кончился счастливо. Кольца скрепили священною цепью сердца, давно уже сплавленные любовью, и поцелуй запечатлел союз их. Когда перед алтарем Бога милосердия и правды супруги с радостными слезами на глазах заключили друг друга в объятия, они забыли настоящее и будущее, – никакое горестное чувство не развлекало этого восторженного мгновения.
Оно было последним в их счастии.
Конский топот и грозные клики налетали со всех сторон; священник с коленопреклонением молился о спасении, Баянов готовился к защите – все было напрасно: выбитые двери церкви у пали, и толпа охотников княжих вслед за разъяренным своим господином ворвалась в средину. На беду, он охотился невдалеке и, получив известие о побеге дочери, стремглав ударился в погоню. Что медлить правдою? Супругов силою разлучили, связали, кинули в телеги порознь и понеслись назад в роковой Шуран.
С этой поры туча злодейства одела этот дом тайною. Никто не знал, что делается с молодыми. Никто не мог догадаться, куда девались они. Двое псарей, которые везли Баянова, уверяли, что он вырвался на полдороге и ушел в лес, за это они жестоко были наказаны. Священника угрозами и лестью заставили молчать о браке; притом же он совершен был не по всем правилам – недоставало свидетелей, и священник притаился, чтобы не быть в ответе; общая молва была распущена между дворнею, что отец захватил венчанье в самом начале. Как бы то ни было, ни один человек не осмеливался спросить об этом обстоятельстве угрюмого князя. И Лиза и Баянов канули как в воду… Соседи шептались между собою, как раки под крапивою, и, как раки, пятились перед страшным соседом. Его ядовитый взгляд убивал любопытство и участие.
С большим удивлением увидела дворня ровно через год, что к ним на двор катит весь уголовный суд из Казани. Все слуги дрожали осиновым листом, чтоб не попасться в свидетели по проказам барина: затаскают, заморят по тюрьмам, ни дай ни вынеси. В один миг слух о доносе разбежался по всему селению. Члены суда немедленно потребовали видеть дочь княжую, про которую отец отвечал, что держит ее взаперти по сумасшествию. Он повел их в тюрьму Лизы. Дверь замкнулась, и мертвая тишина воцарилась в целом доме… Все, не переводя дыхания и навострив уши, ждали, чем кончится. Иные шепотом уверяли, что князя возьмут под стражу и что для этого приехала крытая повозка. Желание избавиться от злого барина и страх у него остаться волновали всех. Наконец двери распахнулись настежь, и тогда некоторые из слуг, заглянув украдкой в тюрьму барышни, увидали ее брошенную на соломе, в рубище; на ней не было вида человеческого – так она похудела и почернела. Глаза впали, волосы были всклочены, она лежала, разметав руки, в обмороке.
«Теперь мы удостоверены, что она бешеного сумасшествия», – сказал председатель палаты.
«Никакого нет сомнения, – преважно прибавил городской лекарь, – она безумна – неизлечимо».
«Держите ее крепче, – подхватил весь суд хором, – вы ей природный опекун; на днях пришлем формальную бумагу на ввод во владение!»
Роскошный завтрак скрепил определение этих неумытных судей41, и юстиция отравилась в город навеселе. Вся дворня с ужасом услышала приказ. Так вот зачем приезжал суд, так вот чем кончилась эта уговорная гроза!! Когда за судьями тронулся обоз с подарками, слуги, пожимая плечами, тихонько говорили: «Скоро по этой дороге повезут на погост и добрую княжну нашу!»
Предсказание сбылось скоро – через полгода Лиза скончалась.
Люди пожимали плечами, окружные дворяне много толковали об этом случае. Все соглашались, что князь нарочно ославил дочь свою безумною, чтоб завладеть ее имением, что бесчеловечным обхождением с нею он в самом деле довел ее до исступления и наконец безвременно свел в могилу. Судьба Баянова не ускользнула от проницательных взоров. Ходили слухи, что он был привезен в Шуран и брошен в один из подвалов, где и был уморен с голоду мстительным князем. Приводили в доказательство рассказы некоторых слуг… Они клялись, что слышали стоны в подполье, и узнавали в них голос учителя, что потом он начал стихать, стихать и наконец замер в таком страшном вопле, что от одного рассказа вставали дыбом волосы. Говорили еще, будто видели в следующую ночь, что мелькал огонь в отдушине подвала, где сидел Баянов, слышали, как там брякали лопатки, как что-то закапывали, закладывали камнем. Со всем тем ужас, наведенный князем на соседей, был так глубоко укоренен, сила его в суде и связи в столице так обширны, что ни один человек не посмел пикнуть в обвинение.
Дело запало само собою.
Вскоре после смерти дочери в князе заметили чудесную перемену. Его злое, дерзкое лицо покрылось бледностью; походка стала робка и нерешительна, глаза подернулись дымною оболочкою. Иногда, среди белого дня, он останавливался на быстром ходу и, весь трепеща, отступал; иногда вскакивал с кресел, произнося невнятные слова. Этого мало: по сказкам всей дворни, стали твориться чудеса в доме. Что ни полночь, двери из бывшей тюрьмы княжны распахивались с визгом сами, и оттуда явственно раздавались мерные шаги, только никого видно не было. В ту же минуту подымался тяжелый стон из подвала так протяжно, так страшно и пронзительно, что он слышался во всех углах замка. Напрасно зарывали псе головы в подушки и завертывались в одеяла: он все слышался в ушах и звучал, как в пустом склепе могильном. В спальне у князя каждую ночь слышали чью-то походку, адский смех и потом скрежет зубов, проклятия и будто хрипение смерти. Никто не смел, однако ж, намекнуть о том, не только спросить князя, – он хранил мертвое молчание. И вдруг в одну ночь он с воплем выбежал из спальни своей, бледный, испуганный; в одной сорочке, он сам походил тогда на мертвеца.
– Запрягайте коней! Подавайте возок! – кричал он. – Чтобы сейчас, сей же миг стар и мал бежал из этого проклятого дома, вон отсюда и навсегда… Слышите ли, говорю я вам, выбирайтесь вон мигом!
Как ни удивлены были слуги и все домашние таким нежданным приказом, только шутить с князем было плохое дело: через час не осталось в целом доме ни человека, ни кошки. Все это кинулось, потащилось и поползло в зимнюю ночь, кто на чем попало, в другую усадьбу верст за тридцать. С тех пор дом этот стоит заколочен. Суеверие сторожит его лучше всяких караульных и собак. На закате солнца, не то чтобы в глухую ночь, ни один крестьянин не смеет мимо его вблизи проехать. Через полтора года князя нашли мертвым в постеле. Простолюдины толковали, что его заели нечистые, которым продал он душу, уверяли, что видели на шее следы зубов. Люди умные говорили, что правосудие Божие кликнуло его на расправу. Его похороны были праздником не для одних плакальщиц.
Усадьба Шуран, вместе с деревнею, досталась на долю моей матери. Несмотря на все выгоды и устройство хозяйственное, она не хотела туда переселяться. Только раза два в лето приезжала она с нами к управителю, жившему в одном из отдаленных флигелей, для надзора и поверки счетов на месте. Само собою разумеется, что дворня наша, и мамки, и нянюшки мои не упустили случая насказать мне с три короба страхов и преданий об этом таинственном доме. С каким, бывало, трепетом, с каким удовольствием осмеливались мы с братом приближаться по заросшему крапивою двору вечерком к заколдованным палатам! Главные двери были забиты досками; окна зацвели мертвою синевою; в разбитые стекла порхали птицы, и кровля во многих местах упала собственною тяжестию. Осторожно переступая, будто боясь попасть в силок или в очарованный круг, подходили мы к крыльцу; на нем, по спаям камней, росла уже трава. Брат мой был и постарее и посмелее меня и порой достигал до самой двери; но когда обращался назад, то кидался вниз по ступеням опрометью. Он признавался, что замок страшно глядел на него одним глазом своим, что в дверную скважину кто-то дышал на него морозом и петли скрежетали, как зубы. Издали бросали мы иногда камень на кровлю и с биением сердца слушали, как он, стуча и прыгая, катился по ней книзу, и когда, упав на землю, скакал еще далее, мы бросались от него, воображая, что он за нами гонится. И в самом деле, эта могильная тишь на дворе, опустелый дом, опальные ряды служб, обрушенные заборы – все внушало грусть даже детскому сердцу, и ветер, стонущий в разбитых окнах, шумящий между репейником, слышался нам говором духов, вестью с того света, он будто наносил на нас сырость и прохладу гробов.
Как-то однажды мы были смелее обыкновенного и, разбив камнем стекло в окне нижнего этажа, решились посмотреть внутрь комнат. Брат поднял меня на плечи, чтоб я мог достать до рамы. Не без ужаса просунул я свою голову в разбитое стекло; я боялся бы не более положить ее в пасть медведя. Опершись о пыльный косяк, взглянул я внутрь, и сначала все мне показалось темно, как ночью. Через несколько времени я пригляделся… а между тем брат ежеминутно расспрашивал меня, что я вижу. То была обеденная зала. Длинные столы стояли по стенам с полу оборванными полами; многие стулья лежали на полу, словно опрокинувшись от страха, другие, будто от слабости, стояли, прислонясь к стене. На полу лежали обломки посуды, видно разбитой впопыхах перевоза. Полинявшие, пыльные обои, в иных местах уже опавшие, колебались от ветра; из-под них выглядывала дождевою плесенью покрытая стена; инде штукатурка обвалилась и сквозили лучинные решетки, – вы бы сказали: это тлеющий труп богача, с которого падает одежда и кожа и местами уже обнажаются ребра, на которых паутина висела как волокна и жилы. Карнизы улеплены были гнездами ласточек; летучие мыши цеплялись по углам; живопись потолка сплылась в какие-то чудовищные арабески. Трудно себе вообразить, какое странное впечатление произвел на меня вид этой опальной комнаты; я будто сейчас гляжу на нее! Все, все в ней казалось мне чудным, сверхъестественным, странным. Этот мрак, в ней царствующий, эта полурастворенная в коридор дверь, за которою так таинственно сгущались тени, даже обшитая сукном веревка, на которой когда-то висела люстра, с огромным крючком своим казались мне орудием пытки. Мне казалось, на сером свете сумерек, сквозь мутные стекла, что все звери и птицы обоев шевелятся, трепещутся, что белая изразцовая печка притаилась в углу, как мертвец в саване, и вдруг в самом деле что-то живое, с блестящими глазами, с грохотом прокатилось по зале и прямо кинулось на меня, – я заревел, опрокинул брата, смял его, покатился с ним вместе через голову, и потом вскочили мы оба, и оба, крича изо всей мочи, ударились бежать врознь, забыв оборонительный и наступательный союз: не выдавать друг друга ни в каком случае. Чудовище, испугавшее нас, была кошка. Мы, однако ж, народ храбрый и, уверясь в том, не смели подойти к ней: кошка искони слывет сосудом оборотней, ведьм и тому подобной адской челяди второго разряда.
Улетели годы.
Давно уж покинул я родину. Учился в Москве, вступил в службу. Радостно спешил я домой показать матушке свои патенты, свои эполеты, при первом отпуске. Весь мой младенческий и отроческий быт ожил в душе, когда я увидел поприще, на котором он двигался. Правда, кукольный мир этот, не только просторный, но и огромный для ребенка, для меня, юноши, казался уж тесен, мал непонятно. Но он был моим, был связан, – не скажу с прекрасным, но с беззаботным возрастом, когда мы чувствуем, не ощущая сердца, думаем, не утомляя души, – с этим единственным возрастом настоящего без сожаления о вчера, без ожидания завтра, без воспоминаний, едва ли не всегда разведенных желчью раскаяния, без надежд, отравляемых ядом страха. Я сказал тебе о моей наклонности к чудесному. Признаюсь, что возраст не уничтожил ее; он только высучил ее в утонченную нить, а романы раскрасили ее своими цветами. Переменился вид, существо осталось то же. Вот почему таинственный Шуран манил меня к себе своими чудными преданиями, манил неодолимо. На третий же день я велел оседлать коня и поскакал туда. Это было в октябре месяце. Когда я приехал в Шуран, ночь, как прелестная арабка, в звездном покрывале гляделась уже в померкшем зеркале Камы. Я слез у крыльца уединенного домика, в котором жил управитель, только не нашел его у себя: он уехал в дальнюю деревню. Мне вовсе не весело было коротать вечер с старухою, его женою, и, поужинав налегке, я велел подать себе топор, зажег три восковые свечи вместо факела я, не сказав никому ни слова, отправился прямо к покинутому дому. Репейник заплетал мне дорогу; испуганные лягушки, которые уже столько лет невозбранно владели мокрым двором, квакая, прыгали из-под ног моих. Я подошел к обрушенному крыльцу, которого ступени были термометром детского нашего честолюбия, я увидел окно, в которое глядел, когда был испуган кошкою, – и все фантастические существа замахали около меня знакомыми крыльями, и прежнее чувство сладкого страха втеснилось в грудь, я опять стоял школьником перед старинным замком. Это было на минуту. Я оторвал топором доски дверей и вошел в обширную переднюю. Отворенные кругом стен ящики для сиденья слуг и опрокинутые вешалки доказывали еще торопливость, с которою выбирались жильцы из дома. Паук развесил свои победные знамена по стенам, медные задвижки дверей зацвели зеленью, сами двери едва держались на перержавленных петлях, и когда я тронул одни, они упали с треском на пол. Гул пошел по пустым комнатам, густое облако пыли взвилось, и я сквозь него вступил в залу. Летучие мыши, эти бабочки развалин, треща перепончатыми крыльями, слетелись на огонь и кругами реяли мимо глаз. Разрушение много выиграло с тех пор, как я в первый раз видел эту залу. Карнизы обвалились, и часть их лежала на столах, словно объедки от пиршества зубастого времени. Обои висели длинными лоскутьями. Занавесы окон под густым слоем пыли источены были молью. Дождевые потоки навели еще мрачнейшую краску на стены, и на них несколько портретов проглядывали сквозь копоть, будто сквозь туман забвения. Полон воспоминаний младенчества, полон думою о несчастной судьбе моей родственницы, которая жила, любила, умерла здесь, пробегал я ряд комнат, покинутый людьми, которые одни могут бороться со временем и оставили ему победу без боя. В каждом трепетании обоев мне слышался стон умирающей жертвы, одинокой посреди холодных стен и еще холоднейших стражей, в разлуке с милым супругом. И ни одно дружеское приветствие, никакое родственное утешение не радовали последней тоски ее!! Напротив, она видела подле себя Коршуновы очи, которые с жадною радостию ждали ее кончины, она знала, что мучения ее останутся никому не известны; что, испытав по сю сторону гроба злость, по ту сторону предана будет клевете; что она, измученная, очерненная, погребенная заживо, сойдет в землю не оплакана, не оправдана никем и ни перед кем, – ужасно! «Лиза! – вскричал я, – несчастная Лиза! Я защитник твоей чести!» Мой голос пробудил эхо пустых комнат, и стекла, дребезжа, дали унылый аккорд! В это время послышалось мне, будто кто-то ходит в соседней комнате… Шаги эти были тихи, легки, можно сказать, воздушны; меня облило холодом, волосы стали дыбом… Прислушиваюсь – ни звука. Мало-помалу я ободрился и поднял вверх светоч свой, чтобы осмотреться, – я стоял в длинном коридоре, в конце которого виделась белая резная дверь, убитая, как видно после, железными полосами. Сверху привинчены были тяжелые задвижки, но они не были задвинуты. Мне вспало на ум: не здесь ли вытерпела дочь строптивого князя ужасную пытку? Любопытство разгорелось. Я приблизился к этим дверям, тихо взялся за скобу и дернул ее к себе… Дверь растворилась.
Друг мой! ты знаешь, робок ли я под свистом картечей, ты знаешь, бледнел ли я перед пикой, устремленной мне в сердце, но ты не знаешь, как упало это сердце, когда взглянул я в тюрьму Лизы… Казалось, ледяная гора задавила меня, казалось, сам я в одно мгновение превращен был в кусок льда… Нет, это был не сон, не мечта, не обман очей, не игра приготовленного воображения, – я тысячу раз видел портрет Лизы, висевший в спальне у моей матери, он был врезан в моей памяти, – и вдруг наяву, без всяких сомнений наяву, передо мною!..
Я слушал Зарницкого с большим вниманием; когда он был разгорячен или одушевлен, то рассказывал увлекательно. Не слова, не речи, а голос этих речей, а чувство, волнующее этот голос, переливали участие в грудь каждого. В ту минуту, когда он произнес: «Передо мною…» – послышались тяжелые шаги по лестнице. Мы оба так настроены были к чему-то сверхъестественному, что вскочили невольно и обратили глаза на дверь с каким-то робким ожиданием. Когда глаза наши встретились, мы оба усмехнулись, будто признаваясь: какие мы дети! Та улыбка, однако ж, была мгновенна. Мочная рука, которая не удостоивала, казалось, отвернуть ручку дверную, сорвала весь замок, и к нам вошел высокого роста латник, завернутый в широкую, теплую шинель. Палаш его, волочась, бренчал, каска была изрублена и часть гребня висела над глазами. Он не поклонился нам, не молвил слова и прямо сел к огню – мы узнали в нем кирасирского майора, которому одолжены были победою. По закону военной учтивости и долгу службы, я, как старшему, отрапортовал ему о состоянии отряда и, наконец, от чистого сердца протянул ему руку с дружеским благодарением, с солдатским приветствием, говоря, что нам лестно будет иметь товарищем человека, которому обязаны блистательным успехом. Но латник встал, и приложил руку к козырьку машинально, и снова сел, будто ничего не видя и не слыша. Бледно было его лицо; глаза мутны, неподвижны. По трепетанию черных длинных его усов видно было порой судорожное движение губ… Брови сдвинуты угрюмо. Пробитая картечью и пулями его шинель залита была кровью, и каждый раз, когда он наклонялся, поправляя огонь, палаш его падал на пол, звуча, и цепки, связывающие кирас, брякали о железный нагрудник. Мы говорили между собой шепотом, изумленные странным появлением и еще больше странным обхождением латника. Кто он? что он? зачем он здесь? Мы напрасно заводили с ним речь, напрасно потчевали чаем: он склонением головы или движением руки прерывал все вопросы и предложения. Мы оставили его самому себе.
Опершись об руку, упертую в колено, он, казалось, глубже и глубже тонул в море минувшего, – он вздыхал тяжко, так тяжко, что у нас вчуже вздувалось сердце. Иногда слезы катились по его лицу. Он с какою-то завистью смотрел на пылкие уголья, которые меркли, угасали, распадались в пепел, будто он в них видел свое подобие. Потом вдруг, сложив руки на стальной груди своей, он опрокидывался назад и шептал невнятные слова… грозно скрежетал зубами, глаза его наливались кровью, ноздри вздувались, как у льва, – он был страшен.
Мы вздремали; казалось, вздремал и он; только по временам вздрагивал и стонал. Вдруг пробуждены мы были стуком его палаша, – он с ужасом смотрел на руку свою: на нее упало несколько капель растаявшей на шинели крови… Глаза его стояли, густые кудри бросали тень на белое как саван лицо, губы были открыты, – весь он был идеал ужасно-прекрасного!
– Зачем ты пробудила меня, кровь злодейская! – роптал он, – неужели мне один сон – могила, неужели ни прежде, ни после мести нет покоя!!
Он вскочил, схватил горящее полено вместо факела и под влиянием сомнамбулизма сделал несколько шагов вкруг комнаты.
– Здесь, так, здесь видел я ее впервые! – произнес он тронутым голосом и с горькою улыбкою, но в этой улыбке отражались все муки души. – Она сидела у этого окна; мрачны стали эти стены; они подернулись как гробовым сукном… а было время, они склонялись надо мной, как брачный полог, как цветная занавеса будущего. Здесь дал я, здесь услышал я первую клятву в верности… Клятву? Они пишутся на воде и утекают с нею!! Но мою клятву я бы готов был запечатать своею кровью, и только кровь могла смыть ее… Она смыта! – прибавил он злобно и потом тихо, озираясь, пошел далее – в другую, в третью комнату. Наконец мы вышли в залу, в которой была самая горячая схватка; стены были исстреляны русскими пулями, окна разломаны, несколько десятков обезображенных трупов валялись друг на друге по полу, залитому кровью, – картина была отвратительна, не только ужасна. Латник наш, достойный гость между мертвецами, с пылающим деревом в руке, в каске и в латах своих походил на привидение какого-нибудь рыцаря веков минувших, – исполинская тень его мелькала по стенам и кралась следом.
Мы стояли в тени, неподалеку.
Стены были увешаны портретами фамильными, – это общий обычай в Польше. Латник прямо кинулся к одному из них и рассматривал его с диким наслаждением. Это было в самом деле прелестное лицо какой-то девушки. Озаренная неверным светом, она мелькала сквозь мрак, будто неслась ангелом мира.
– И ты, сердце моего сердца! ты, которая одушевляла для меня жизнь и свет, и тебя не стало! – произнес латник, глубоко тронутый. – Земля взяла свое – черви насладились твоими прелестями… Черви? Нет, змея отравила тебя заживо, Фелиция. Свидетель Бог, ты одна могла удержать руку, готовую раздавить эту гадину, я отсрочил месть, но отказаться от нее не мог я, как от любви своей, – месть мне осталась единственною любовью после тебя, единственною отрадою; только жажда ее могла приковать меня к колесу пытки!! Не смотри так грозно на меня, Фелиция, – я дал себе страшную клятву уничтожить изверга, а ты ведаешь, изменял ли я клятвам в добром и злом… Она свершилась!! И ты сдержала обет свой, милая тень, ты обещала мне явиться в ночь передсмертную, вестница радости… Ты явилась мне, не убегай, не улетай от меня, скажи мне, буду ли я твоим супругом в царстве смерти? Любят ли там? Я не хочу рая, когда в нем не найду тебя!!
Он кинулся навстречу милому призраку в порыве горячки своей – и запнулся за убитого француза… Внезапный ужас поразил его. Он наклонился, поднес головню к посинелому лицу мертвеца – и черты его вспыхнули гневом…
– Ты и здесь заграждаешь мне дорогу на небо… Прочь, змея! Прочь, говорю я! – вскричал он. – Как ожил ты из-под моих ударов? Зачем пришел ты умереть сюда? Неужели и ад не принимает злодея?.. В этот раз по крайней мере ты не уйдешь от меня… в этот раз ты не избегнешь заслуженного ада, который вызвал на свет!
Пена била у него клубом, лицо горело кровью, – он выхватил палаш свой, наступил мертвецу на грудь, так что у него затрещали кости, и, подняв обеими руками клинок, вонзил его в давно оледенелое сердце и дважды поворотил в ране…
– Он еще живет, еще дышит! – повторял он, прислушиваясь, – еще остальная кровь, как червь, ползет в жилах его!..
Он снова взмахнул палашом, но исступление истощило все его силы – он рухнул на пол бесчувствен, бездыханен.
Кликнув гусаров, мы перенесли его в прежнюю комнату, сняли с него латы и положили на плащах. Приводя его разными средствами в чувство, мы успели возвратить ему дыхание, но не память. Только по временам пробегал по всем членам его трепет, только холодный пот проступал на теле и закрытые веки дрожали судорожно. Он тихо стенал, произнося невнятные слова, – мы оставили его успокоиться. Встреча с латником совершенно отбила у нас сон. Мы потихоньку рассуждали, до какой степени несчастная любовь делает неистовым человека, одаренного, или, лучше сказать, наказанного, пылкими страстями. Очевидно было, что он жених Фелиции и враг грабе Остроленского, что он преследовал и изрубил его.
– Однако ты, брат, не докончил своего рассказа, – напомнил я поручику.
– Он будет краток, – отвечал поручик со вздохом. – Слушай. Мы были прерваны на том месте, когда я отворил двери старинной темницы Лизы. Гляжу – в комнате этой горит свеча, под окном, забитым решеткою, стол; в углу простая кровать и на ней – вообрази мое удивление! – женщина в белом платье, – и кто же? Лиза! Я говорил тебе, что кровь замерзла в моих жилах, но это не выражает ужаса, который я тогда ощутил. Казалось, тысяча ледяных иголок пронзили меня с головы до ног, холодный пот застыл на сердце, и если я тогда не упал, то обязан этим одному оцепенению… Это был задаток разрушения в час смертный.
Но все, что имеет начало, должно иметь конец. Рассудок проговорил, сердце оттаяло, и я с недоумением и страхом протирал глаза, чтоб увериться, не греза ли это; нет! белое привидение недвижимо лежало передо мной, будто в глубокой тоске, в непробудимой задумчивости. Прелестное, но бледное лицо было полузакрыто светло-русыми локонами. Я долго смотрел на это явление, колеблем между истиной и заблуждением, ступил шаг – незнакомка подняла глаза, и тут уж я убедился, что столько жизни не могло сосредоточиться в мертвеце… Я прервал безмолвие, я сказал ей, кто и почему я здесь… Теперь угадай, кто была она и как туда попала?
– Не могу придумать, – отвечал я.
– И я не вдруг узнал это. Милая девушка умоляла меня никому не открывать о встрече с нею. Напрасная мольба! Я сам бы готов был схоронить от целого света такое сокровище. Нужно ли сказывать, что через полчаса, проведенного с нею, я уж был влюблен по уши? Чудесность, таинственность всего ее быта бросили искру в сердце, а ее невинность, ее светлый ум раздули пожар. Я выпросил у нее позволение увидеть ее еще раз и еще раз, но в замену дал слово делать это с большими предосторожностями. Через три дня я уже опять спрыгнул у крыльца управителя Шурана.
«Дома ли?»
«Дома-с, очень рад».
Управитель встретил меня двусмысленною улыбкою.
«Не прикажете ли подать топор и свеч, Григорий Иванович?» – сказал он мне.
«Зачем это?» – возразил я, смутившись.
«Для ночного путешествия в опальный дом, – отвечал он. – Григорий Иванович, я все знаю. Вас ждут с нетерпением; только позвольте, чтоб в этот раз я был проводником вашим».
Он пошел вперед, не ожидая ответа, а я так смущен был нежданным этим приветствием, что шел сзади его, как на своре42.
Когда приблизились мы к роковой двери, сердце у меня вспрыгалось, будто заяц под ружьем стрелка… Незнакомка встретила нас еще прелестнее, чем прежде… Я таял, на нее глядя, самолюбие мое лакомилось пылким румянцем красавицы.
«Григорий Иванович! – сказал управитель, – прошу любить и жаловать тетку вашу… Вы видите дочь Елисаветы Андреевны, Елисавету Павловну Баянову!» Я отступил от изумления три шага назад… Мысли и чувства так были превращены этим нежданным, непонятным объяснением, что я стоял долго, растворив рот, как будто бы я глотал чужие слова, вместо того чтоб произносить их самому.
Управитель продолжал: «Брак г<осподи>на Баянова с родственницей вашей княжной X-ой совершен был неразрывно. Его утаили, но уничтожить не могли. Девица, которую изволите видеть перед собою, родилась во время заключения Елисаветы Андреевны и названа была ее именем. Покойник князь имел свои причины скрыть новорожденную и поручил мне отдать ее на воспитание в какую-нибудь дальнюю деревню. Мне стало жаль малютки, я свез ее к брату своему, бедному помещику в Вятской губернии: он был бездетен и принял покинутую как небесный гостинец. Выкормил, воспитал ее, как видите. Никто не знал о том ни крошки: все дело шло самым тайным образом. Кого вязали свои дела, кого княжие деньги или угрозы. Умер и князь, да остались его наследники; заводить с ними тяжбу пугало и меня, несмотря на упреки совести: я и сам был в этом деле виноватый, хоть невольно. Месяц перед сим потерял я брата, а Елисавета Павловна – своего воспитателя… Неделю назад приехала она сюда. Я крепко плакал по добром брате своем и не утешился бы, если б не было со мной этого ангела. Между тем (между нами будь сказано) любезная Елисавета Павловна начиталась всякой всячины: то и дело просится посмотреть того места, где жила и скончалась ее матушка. Как отказать!! На беду эта комната ей до того полюбилась, что не вызовешь. Днем ходить сюда – пошли бы разные толки, а нам надо было молчать о ее роде до поры до времени. Вот она и стала плакать здесь по матери ночью. Не осердитесь, любезнейший Григорий Иванович, что, заступаясь за правду и за правую душу, я выхлопотал все законные свидетельства для иска наследства Елисаветы Павловны; может, придет и вам поплатиться, – да ей, главное – дорога материнская слава и свое доброе имя, которых иначе нельзя выправить, как перед зерцалом43. Что перед вами таиться? Елисавета Павловна нашла себе по сердцу суженого, и это всего больше заставило меня поспешить развязкою. Ваше неожиданное посещение крепко встревожило мою гостью. Я с своей стороны счел за лучшее сказать вам все откровенно. Я знаю вашу благородную душу!»
«И не ошиблись в ней! – вскричал я, обнимая почтенного простодушного старика. – И не ошиблись!..»
По праву родства я обнял и милую свою родственницу, – но чего бы я не дал, чтобы обнять ее, не слышав вестей, что она родня моя, что она невеста другого!!
Мои мечты, мои надежды рассыпались, но любовь осталась в сердце. Я избегал всех случаев видеть ее, но ее образ был всегда перед глазами… Тому уже прошло пять лет, друг мой, но я не могу вспомнить о моей Лизе без вздоха, – она была для меня настоящим призраком счастия!
Я сделал все, что мог, для ее счастия – уговорил матушку уступить ей свою часть имения, от князя X-го доставшегося, хлопотал по судам, чтобы признали ее истинною дочерью Баянова, и успел в этом. Денежный иск другое дело: он до сих пор тянется с сыновьями X-ми. Впрочем, Лиза вышла замуж за того, кого любила, который любил ее, который ее любит… Она пишет, что живет безбедно и счастливо!.. А я?..
Поручик закрыл лицо, но не слезы свои руками… Грудь его стояла надувшись, но он не вздыхал… он не мог вздохнуть!..
Сердце мое сжалось… горячие капли пробились сквозь ресницы. Мы оба молча склонили свои головы в плащи.
Так заснул я.
С вечера я отдал приказ быть готовыми к выступлению к четырем часам утра. Рокот трубы пробудил нас.
Трудно, несмотря ни на какую привычку, спросонков слышать без содрогания звуки трубные: они имеют в себе что-то ужасающее, что-то зловещее, что-то пронзающее сердце. Кажется, призыв их выговаривает слова: «На брань, на брань, на суд, на суд!» Первым нашим движением было кинуться к больному кирасиру, – он спал еще крепким сном; лицо его было посвежее, хоть все еще бледно. Наконец перекаты трубы проникли и до его души, – он встрепенулся, поднялся на руку и с каким-то недоумением озирался кругом, припоминая, что было, где и как он теперь. «Неужто он еще жив?» – было первым его вопросом.
– Успокойтесь, майор, – сказал я, – если вы спрашиваете про кого-нибудь из неприятелей, то они все легли на месте.
Он долго смотрел на меня, будто взвешивая слова мои, будто вглядываясь не только в мое лицо, но и в душу. Наконец он дружески протянул ко мне руку и крепко сжал ее.
– Я помню вас, я знаю вас, – сказал он, – коротко было мое знакомство с вами, дружество будет еще короче; зато одно и другое полно. Теперь я будто сквозь сон вспоминаю, что со мной случилось вчера. Господа! я чувствую, что странность моих поступков должна была изумить вас… Я бы желал в свою очередь в извинение себе молвить словцо-другое о том, что привело меня к этому безумию, да боюсь, чтоб не задержать похода.
Я отвечал, что мои разъезды не возвратились еще из окрестностей, и потому с час места будет досугу поговорить и послушать за стаканом чаю.
– Если так, господа, – возразил майор, – я вкоротке расскажу вам свою печальную повесть. Немногие часы даны мне на белом свете, я считаю поэтому долгом открыть добрым товарищам сердце; может быть, вы повстречаете родных моих и передадите им мою последнюю исповедь. Как ни тяжко вызывать мне прошлое из могилы сердца, но я вызову его, как тень Саула, чтобы услышать от ней неизбежное пророчество гибели44. Послушайте.
Здесь, в этом самом замке, стоял я с артиллерийскою ротою, которою командовал. Я любил дочь хозяина, я был женихом ее. Перед самой свадьбой больная мать моя захотела непременно видеть меня для благословения. Я поскакал и, застав добрую матушку на смертной постеле, не отходил от нее в течение трех недель. На столике, установленном лекарствами, писал я невесте много и часто, лаская ее, обманывая себя надеждою скорого выздоровления любимой, уважаемой матери, скорого свидания с нею. Бог судил иначе: матушка моя скончалась.
Бессонница, огорчение, тоска сломили меня: я схватил жестокую нервическую горячку. В бреду, в беспамятстве, наконец, в летаргическом расслаблении пробыл я почти два месяца. В беспамятстве, сказал я? Нет, то было лишь отсутствие разума, отсутствие внешних чувств; но память о разлуке, о потере свинцовой горой лежала на сердце. Немая, но тяжкая, неопределенная боль тяготела надо мной, подавляла вместе душу и тело, тлела, не вспыхивая и не уменьшаясь. Я не ощущал хода часов, но чувствовал долготу времени; оно тянулось, длилось бесконечно. Нить этого отчаянного положения прервалась вдруг, я очнулся. Все радостное и все горестное слетелось в душу с первым лучом света, проникшим в нее, – они кинулись на нее будто хищные птицы, давно голодные!! Первым моим желанием было узнать, есть ли письма от Фелиции. Все молчали; то было молчание смерти для всех надежд моих. Новый продолжительный обморок облил меня своим холодом, он поразил только что распускающуюся почку сил. Слабость моя была чрезвычайна, беспамятство часто, выздоровление медленно. Восемь месяцев протекли с тех пор, как я разлучился с Фелициею, и вот я стал на ноги. Боже мой, Боже мой! для чего ты отдал мне жизнь, не отдав счастья! Тогда узнал я то, чего не смел подозревать, чему бы никогда не поверил! Фелиция вышла замуж за одного из дальних своих родственников! С первого раза я считал ее мертвою, ибо жить и не писать ко мне были две мысли, которых не мог я связать вместе… Я уже свыкся с этою мыслию, как люди привыкают к яду… Она была горестна, но не обидна для меня… Можете судить, каково было мое бешенство, когда я узнал неверность Фелиции! Выброшенный взрывом гнева из круга обыкновенных страстей, я не знал никакой узды, никаких границ. Казалось, адская сила стремила меня, как ядро, на разрушение чужое и собственное. Огонь тек в моих жилах; сера кипела в груди. Я был глух на советы и увещания совести: я решился убить Фелицию! Что вы так страшно глядите на меня, господа? Постигаете ли вы чувство нетерпимости раздела в любви? Можете ли вы вообразить, можете ли понять, оправдать, по крайней мере извинить человека, который скорее убьет своего соперника, чем уступит ему любовницу, скорее пронзит сам ее сердце, чем позволит ему биться на груди другого? Если вы не имели о том мысли, если не слыхали тому примеров, то перед вами стоит тот, кто готов был произвесть это в действо, кто лелеял месть за любовь, как прежде самую любовь, – месть, это страшное наследство страстей необузданных. Воля, которую не умели переломить во мне с младенчества, разбила мое сердце, да я не ищу извинений. Бог, перед которого скоро предстану, рассудит, прав ли я, виноват ли я… Чему было должно свершиться, свершилось.
Каждый миг замедления был мне нестерпим; я спал и видел кровь. Я жаждал увидеть изменницу еще однажды и в последний раз; этот раз должен быть последним часом в ее жизни. Я просился и был переведен в кирасирский полк, стоявший невдалеке отсюда. Я сделал это потому, что рота моя во время моей болезни перешла в Россию. Полный кровавых замыслов, я полетел на роковое свидание.
Приближаясь к замку, я с зверскою радостью воображал себе ее изумление, ее смущение передо мною, я предугадывал ее извинения, ее стыд при моих укорах, я наслаждался заранее ее ужасом при блеске лезвия, – решимость моя была непреклонна.
Однако чем ближе сюда, тем мягче и мягче становился гнев мой. Душевная буря опала, кроткие воспоминания прошлого счастия овладели мною против воли. Глухая осень оборвала уже листья с дерев сада, зато каждое из них одето было для меня сладкою поминкою. Я без мысли, без цели перепрыгнул на коне через рогатку садовую и наудачу тихим шагом объезжал все дорожки, знакомые глазу и милые сердцу; все было мрачно, и печально, и пусто, как в груди моей; павший лист хрустел под ногами, и ветер звучал, как в струны, в замерзлые сучья; грустна была песня его, но она лилась как масло на сердце. Осенняя заря разливала свои розовые сумерки будто на прощанье; она хотела разъяснить улыбкою целый день угрюмое небо. И вдруг совсем неожиданно наехал я на сидящую под деревом Фелицию. Не умею, не смею выразить, что тогда сталось, когда я взглянул на нее!! Я ожидал ее найти в полном расцвете прелестей, с гордым самодовольствием в глазах, близ ласкающегося к ней мужа или в толпе поклонников… И где ж и как нашел я ее? Сердце мое облилось кровью: она была худа и одинока! Все, что могут страдания душевные и болезни телесные, написано было на ее бледном лице. Одна прелесть еще сияла на нем – прелесть невинности. Слезы покатились из глаз ее, – они растопили мое сердце. Все подозрения, все сомнения, вся уверенность моя рассыпались при первом ее взгляде, – я упал, рыдая, к ногам ее…
Это свидание не было последним. Я вымолил у Фелиции позволение видать ее в замке по пятницам, дни, в которые граф уезжал обыкновенно в гости. Живучи вблизи, я узнал все адские хитрости, которыми намостил он себе дорогу к супружеству. Перехватывание писем, ложные вести, коварство под личиною участия – все было там на мою беду. Этого мало. Ему нужна была Фелиция для золота; она стала лишняя, когда он получил его. Злодейская холодность, ядовитые упреки, презрение ко всему, что достойно уважения в женщине, в супруге; все огорчения, какие только злоба может выдумать и бесчувственная подлость исполнить, отравили ее жизнь, уничтожили здоровье. Она чахла, она разрушалась в глазах моих, – я видел, я чувствовал это и перенес это; меня подкрепляла надежда, жажда мести. Я поклялся прахом отца и тенью матери, поклялся всеми страшными и священными клятвами для человека отомстить злодею неумолимо. Но я не хотел смешивать с кровью последних минут Фелиции; я молчал о моем намерении. Звезда души моей гасла чиста и невинна!.. Так блещет луна перед закатом своим в зимнюю ночь, – мрак и холод окружали меня.
Когда в последний раз видел Фелицию, она предчувствовала свою кончину, и я не мог ее не предвидеть. Не знаю, с чем сравнить жестокую известность, которая близилась… Я был вне себя… В безумии умолял я ее, если не суждено нам еще однажды видеться здесь, чтобы хоть тень ее явилась перед тем днем, в который кончатся мои земные бури и страдания.
«Это будет рассветом моего будущего блаженства… – говорил я. – Дай мне на этой земле вкусить небесную радость!»
«О, если б это было в моей власти, – отвечала она, – я бы слетела, как луч, вестником соединения!»
«Кто любит, тот верит, – возражал я, – и почему Бог не исполнит невинного желания людей, рожденных друг для друга и только страдавших друг за друга!»
Она с улыбкою пожала мне руку. «Последняя молитва моя к Богу будет об этом, – сказала она, – но последняя просьба моя к тебе – не мсти за меня графу!» Она не могла кончить речи и лишилась чувств, и я должен был оставить ее в таком положении!.. Легче, во сто раз легче было бы мне расставаться с душою, чем тогда с любезною! Она умерла, и я не закрыл ей очи!.. И кто лишил меня этого горестного утешения, кто, если не Остроленский? Последний завет, последняя воля ее была прощение, – но мог ли я простить ему!!
Судьба противостала и злобным и мирным моим желаниям; вскоре после похорон Фелиции она оторвала меня даже от тех мест, где бы я мог выплакать душу, как цветок намогильный. Я был послан ремонтером на всю дивизию внутрь Малороссии и, воротясь через два года в полк, узнал, что грабе Остроленский, обвиненный уголовно за жестокость с крестьянами, бежал во Францию и вступил там в службу Наполеона.
Радостен был я, когда загорелась нынешняя война. Мысль кончить по крайней мере со славою жизнь без счастия утешала меня. Месть врагам, разорителям отечества, меня одушевляла, но и собственная, сердечная месть меня не покидала ни в походах, ни в сражениях. Приближаясь ныне к местам, столь для меня памятным, она заговорила в душе громче, нежели когда-нибудь. Я сыпал золото, рассылая жидов проведать, не здесь ли граф Остроленский. Вчерась один из кровопродавцев воротился с вестью, что граф точно здесь и возмущает околоток к отпору. Я выпросился у генерала примкнуть к вашему отряду и поскакал вслед за вами с одним ординарцем. Остальное вы знаете, кроме заключения!..
Тут латник остановился, глаза его снова засверкали гневом, и кровь пятнами вступила в лицо…
– Я увидел в схватке бегущего графа, – продолжал он, – следил, я достиг его далеко от замка. Конь его, застреленный мною, пал и придавил собою злодея. Палаш мой сверкнул над его головою. О! как сладки были для слуха моего мольбы врага о пощаде! Подлец! Он не умел и умереть благородно; он не выкупил ни одною минутою твердости черной своей жизни. Как унизительно выпрашивал он, будто милостыни, чтоб я дал ему время раскаяться! Нет, злодей! я не дам тебе раскаяться! Ты превратил в ад мое небо – ступай же сам в вечный ад! Я мог бы простить свою собственную, кровную обиду; но тысячи обид, нанесенных существу драгоценнейшему для меня всего на свете, с которым ты разлучил меня, этого не мог и не должен был я простить. Это было выше души моей, – я с ожесточением вонзил ему в грудь свой клинок.
В это время вошел вахмистр мой с рапортом и за приказаниями для похода.
– Спрашивай о том у господина майора, – сказал я, указывая на латника.
Он вскочил.
– У меня одно приказание для вашего отряда, господин ротмистр, – отвечал он, – одна просьба до вас самих – велите зажечь замок со всех сторон: хочу, чтоб и самая память Остроленского погибла под пеплом!
Я склонил голову в знак согласия; скоро зазвучала труба. Мы едва успели сесть на коней, как замок вспыхнул столбом. Латник долго ехал, оборотясь назад, будто любовался пожаром; но когда лес заслонил нас даже и от дымного облака, он впал в глубокую думу; мы не хотели докучать ему нескромным участием и ехали тихо, безмолвно.
Вдруг мой латник будто проснулся от сна.
– Господа! – произнес он, – прошу вас, как товарищей, отошлите этот кошелек в мой эскадрон. Пускай поминают меня мои добрые кирасиры! Отправьте также эти бумаги к брату моему (он назначил адрес), они будут ему весьма нужны… Наконец, простите меня сами – не осуждайте память мою; сегодня, непременно сегодня я буду убит! Тень Фелиции посетила меня в прошлую ночь!
Мы изумились, слыша, с каким уверением говорил человек воспитанный о предчувствиях, о явлениях по смерти.
Впрочем, мы очень осторожно старались разуверить его.
– Вы видели портрет Фелиции, майор, а сон мог продлить заблуждение. Кровь ваша была вчерась так взволнована, так воспалена! – сказал я.
Латник горько улыбнулся.
– Господа! – отвечал он, – может быть, я не могу также красно, как вы, толковать о лживости предчувствий, о невозможности сообщения живых с умершими… но я верил этому так жадно, так долго, эта вера была моею отрадою, какой-то голос в душе говорит мне, что я не обманут. Отечеству посвятил я жизнь мою, но умереть хочу для себя! За границею этого мира ожидает меня Фелиция!!
Более не молвил он ни слова.
Под вечер вышли мы на Виленскую дорогу и соединились с главным отрядом славного нашего Сеславина; к ночи налетели мы на Ошмяны, – там был сам Наполеон45.
Несмотря на превосходство французов в силах, мы ударили в них как гром. Сам начальник наш с ахтырцами46 врубился в средину города, мы ворвались туда со всех сторон; крик, тревога, пальба, сабли и штыки в работе, но темнота, подарившая нас победою, укрыла Наполеона от поисков наших. Если б мы знали место ночлега, Ошмяны бы были геркулесовскими столбами его поприща47.
Но, видно, судьба судила иначе: он ускакал.
Назавтра, на рассвете, я с поручиком Зарницким выступал из Ошмян в арьергарде нашего летучего отряда. На улицах лежали еще трупы убитых; многие домы дымились после пожара… живые прятались по углам. Мы тянулись через площадь, на которой французы держались упорнее прочих мест. Тела лежали на телах ободранные, обезображенные. Вдруг Зарницкий осадил коня, спрыгнул с него и припал к какому-то трупу…
– Боже мой! – сказал он. – Посмотри, Жорж, это наш латник!
В самом деле то был он, и обнажен весь; кирас его брошен был недалеко в грязи, но каска на голове и палаш в стиснутой руке остались. За оружием никто не гнался. На теле его видны были несколько ран пулями и штыками. Выражение лица его сохранило еще гордость и угрозу, но на нем не виделось ни следа страстей, обуревавших его молодость, оно было светло и спокойно.
– Нашел ли ты мир, которого не знал в жизни? – сказал я, качая головою.
– Дай Бог! – прибавил Зарницкий. – Чудный человек! ты задал мне чудную загадку. В самом ли деле тень Фелиции была вестницей твоей смерти, или вера в заблуждение заставила найти ее?
– Не пройдет, может статься, трех часов – и французская пуля разрешит кому-нибудь из нас эту тайну, – возразил я.
Задумавшись, стояли мы над телом убитого товарища… Эскадрон прошел… Звук трубы вызвал нас из забвения.
Мы вспрыгнули на коней и молча поскакали вперед.
Фрегат «Надежда»*
Посвящается
Екатерине Ивановне Бухариной1
В начале бе слово.2
О, как сердита я на тетушку Москву, что ты не со мной теперь, мой ангельчик Софья! Мне столько, столько надо рассказать тебе… а писать, право, нечего. Я так много прожила, столь многому навиделась в эту неделю!.. Я так пышно скучала, так рассеянно грустила, так неистово радовалась, что ты бы сочла меня за отаитянку на парижском бале3, И поверишь ли: я уж испытала, ma cherie[201], что удивление – прескучная вещь и что новость приторнее ананасов. Двор и свет так закружили меня, что я могу выслушать самую безвкусную нелепость не поморщась, увидать прелестнейшую картину без улыбки. Но петергофский праздник4, но сам Петергоф – о, это исключение, это жемчужина исключений!.. У меня еще до сих пор рябит в глазах и в уме, звенит в ушах от грома пушек, от кликов народа, от шума фонтанов и волн, рассыпающихся звуками о берега. Внимательно мы слушали, жадно, бывало, поглощали мы описание петергофских чудес с тобою; но когда я их увидела наяву, они поглотили меня, я забыла все, даже тебя, мой ангельчик! Я летала в небо вместе с водометом5, падала вниз пуховою пеною, расстилалась благоуханною тенью по аллеям, дышащим думою, играла солнечным лучом с яхонтовыми волнами взморья. Это был день, – но что за ночь его увенчала!.. Залюбоваться надо было, как постепенно загоралась иллюминация: казалось, огненный перст чертил пышные узоры на черном покрывале ночи. Они раскидывались цветами, катились колесом, вились змеей, свивались, росли, – и вот весь сад вспыхнул!.. Ты бы сказала: солнце упало на землю и, прокатясь, рассыпалось в искры… Пламенные вязи обняли деревья, перекинулись цветными сводами чрез дороги, охватили пруды звездистыми венками; фонтаны брызнули как волканы, горы растаяли золотом. Каналы и бассейны жадно упивались отблесками, перенимали узоры, двоили их и наконец потекли пожаром. Ропот народа, сливаясь с шумом падающих вод и тихо зыблемых дубрав, оживлял эту величавую картину своею дивною гармоникою… то был голос волшебника, то была песня сирены6. Часу в одиннадцатом ночи весь Олимп спустился на землю. Длинные колесницы понеслись по саду, и, право, блестящие дамы двора, которые унизывали их, подобно ниткам жемчужным, могли издали показаться мечтой поэта, – так блестящи и воздушны были они… не исключая и меня. На мне тогда было глазетовое платье7, которое, не знаю, право, почему, называется при дворе русским, испод белый атласный с золотом… Что за фасон, что за шитье, Софьюшка, – хоть на колени стать перед ним! Новый берет с райскою птичкою (мне подарил его вчера муж мой) очень шел ко мне, и если б я не верила зеркалам, то одобрительный около меня ропот мужчин мог бы убедить самого Фому неверующего8, что твоя кузина очень недурна. Но ты ждешь, верно, описания петергофского маскарада, m'amie?[202] Боже мой! да откуда я возьму памяти или порядка!.. В голове моей образы толкутся будто мошки… Генеральские звезды гонят с неба звезды неба, учтивые рыбы Марлийского пруда9 парадируют вместе с гвардейскими болтунами, которым не худо бы взять у первых несколько уроков скромности, и я не могу вспомнить камер-юнкера, чуть не плачущего над разбитым лорнетом, чтобы мне не представился Сампсон, раздирающий льва10. Статуи Аполлона Бельведерского и Актеона танцуют передо мной польский11 с графинею Зизи или княжною Биби… и я, право, боюсь, что начну рассказывать тебе про комплименты князя Этьеня, а заключу грибом, точащим воду[203].
Впрочем, все говорят, что маскарад был из самых блистательных, то есть давно не было истрачено такого множества румян и блесток, свечей и любезности. Твой дядюшка, le cher homme[204], навешал на себя столько украшений, что насмешники уверяли, будто он готовится к художественной выставке, а дородную москвитянку нашу, княгиню Z., за огромный шлейф ее сравняли с зловещею кометой, и совершенно даром: она так ловко носила хвост свой, как лисица. Ты помнишь, я думаю, высокого адъютанта, который смешил нас прошлую зиму своими наборными фразами, пахнущими юфтью Буаста?..12 Eh bien, Sophie[205], про него генеральша Т. сказала, будто он доказал ей, что и башмаки есть оружие наступательное!.. Да где мне пересказать тебе все остроты или все плоскости, которые сыпались в толпе, как мишура с платьев! где мне припомнить всех, с которыми прогуливалась я, рука с рукой, в этом маскараде! Около меня змеями вились золотые и серебряные аксельбанты, и не одна генеральская канитель, не один черный ус трепетали и крутились от удовольствия, когда я произносила: «Avec plasir, monsieur»[206] Ах, как мне надоели эти попугаи с белыми и черными хохлами на шляпах, милочка!.. Они, кажется, покупают свои фразы вместе с перчатками. Как наши старинные московские обеды начинались холодным, так у них неизбежно отправляется вперед вопрос: «Vous aimez la danse, madame?»[207] Нет, сударь! Я готова возненавидеть танцы из-за танцоров, которые, как деревянная кукушка в часах моей бабушки, вечно поют одно и то же и наводят тоску своим кукованьем. Беда с такими кавалерами, но с прославленными остроумцами – вдвое горе! Они жгутом крутят бедный мозг свой, чтобы выжать из него каплю розовой воды или уксуса.
– Вы привлекаете на себя все глаза и все лорнеты, – говорил мне один дипломат, покачиваясь так важно, как будто б от его равновесия зависело равновесие Европы. – И посмотрите, княгиня, как загораются, как блестят все взоры, встречаясь с вашими; c'est un veritable feu d'artifice[208].
– He совсем, – отвечала я ему, – je vois beaucoup d'artifice, mais ou est done le feu?[209]
Поверишь ли, ma cherie, что в этом потоке голов, в этом Млечном Пути глаз голубых, серых, черных ни одно лицо не улыбнулось мне, как бы я желала, ни один взор не горел ко мне участием, – я не нашла в них ничего оригинального, ничего стоящего смеха или мысли. «Как мало здесь кавалеров!» – говаривали мы в Москве белокаменной; «Как мало людей!» – говорю я здесь. Бесхарактерность провела по всем свой ледяной уровень. Напрасно будешь вглядываться в черты – не узнаешь ввек, какому народу, какому мнению принадлежат эти люди. Под улыбкой нет выражения, под словом не дороешься мысли, под орденами – сердца. Это какая-то картина, покрытая ослепительным лаком… ее дорого ценят по преданию, хотя никто не понял, что она изображает. Во весь сегодняшний вечер, в целый вечер, не удалось мне ни услышать, ни подслушать ни одной речи, которая бы врезалась в память. Говорили, говорили они, – да чего они не говорили, а что сказали? Только один, разговаривая со мной, сделал довольно удачное сравнение.
– Посмотрите вдаль и вкруг, – сказал он, – не правда ли, что этот бал похож на английский сад? Перья и цветы на дамах качаются, как прелестный цветник от поцелуя зефира. Там тянется польский, будто живая дорожка; там купы офицеров с зыбкими султанами стоят, как пальмы. Вот Уральский хребет в шитом златоносными песками мундире! Вот пещера с-отголоском, повторяющим сто раз слово «я». Далее: в этом горбуне вы видите мост, который никуда не ведет; везде золотые ключи, которые ничего не отпирают; тут погребальную урну, хранящую французский табак, и девушек, бродящих окрест с невинными мечтами овечек. Даже, – продолжал мой насмешник, лукаво взглядывая на ряды пожилых дам, – если позволено вздуть сравнение до гиперболы, мы можем найти здесь не одну живописную развалину, не один обломок Китайской стены13, не одну готическую башню, из которой предрассудки выглядывают, как совы.
– Bon Dieu[210], как вы злы! – возразила ему я. – Разве нельзя для сравнения найти предметов более игривых? Вы бы могли, например, поместить какой-нибудь победный памятник, какой-нибудь храм в этом саду, так же как в Царском Селе14.
– В таком случае, – сказал мой партнер, раскланиваясь, – я беру на себя роль ростральной колонны15; но храмом, и притом храмом любви, будете вы!
Я с улыбкой взглянула на приветника… Как жаль, что он немолод и некрасив; и потом этот долгий, тонкий нос – самая неудачная его острота…
Мы уж дома.
Любви? любви? – зачем эта мысль вплелась в мое сердце, закабаленное свету, как эта живая роза в хитросплетенные косы мои? Почему не могу выбросить ее за окно, как я бросаю эту розу? Отчего я вздыхаю каждый раз, когда о ней услышу, и чуть не плачу, когда о ней вздумаю! О добрая моя Софья! резвая, беззаботная подруга моего девичества! Если б ты знала, из какого тяжелого металла льются брачные венцы, если б ты поверила, что коробочка Пандоры есть необходимый свадебный подарок16, ты бы пожалела меня. Столько блеску, и так мало теплоты! Бегу навстречу к мужу моему, с горячностью ласкаюсь к нему… но он принимает меня, как учитель дитя… он только терпит мои ласки, но не ищет их, не отвечает на них. Я почти только и вижу его за столом… и тогда трюфели заманчивее для него всех очей в мире. Домой привозит он только усталость от службы и скуку от искательства, и когда любовь моя просит взаимности, он, зевая, говорит приветствия!.. Нужны ли мне уборы, экипажи – он сыплет деньгами. Вздумается ли мне быть там и там – он не скажет «нет», лишь бы я его не звала с собою; а его улыбка, его радушное слово дороже мне гостинца, и за один поцелуй я бы готова неделю просидеть дома. «Это почти жалоба», – скажешь ты, моя милая. Нет, душечка! это миг нетерпения, это пройдет; я только мимоходом хотела заметить, что грустно, очень грустно не иметь прихотей, которые бы не исполнялись, между тем как единственное справедливое желание безответно и безнадежно!.. Сердце мое вянет на холодной золотой звезде… вянет… и где любовь, где самая дружба, чтоб оживить его слезою участия?!.
Полночь. Темно и тихо кругом… только море, как любовник, грозит и ластится к камням Монплезира17, в котором живем мы; только вдали повременно мелькают на яхтах огоньки, как неясные мысли. Грусть клонит меня ко сну… До завтра, моя милая Софья.
Петергоф, 1 июля 1829 года.
Закладую свою слезу против блестки, да, слезу, десять, двадцать слез даже (а это для меня не безделица, как ты знаешь, милая кузина), – ты никак не угадаешь, где я была сегодня. На гулянье верхом, на танцевальном завтраке? – скажешь ты. О нет, это слишком обыкновенно. На смотру войск? Мимо. На фейерверке? Еще того менее. Я каталась, и знаешь ли где, и поверишь ли на чем?.. Не в пруде на пароме, не в реке на ялике, – вообрази себе… я каталась в открытом море на сорокашестипушечном фрегате! О, я уверена, что твое московское воображение, не видавшее нигде бури, кроме Чистых Прудов, бледнеет перед мыслию о неизмеримости, об ужасах моря. Сущие пустяки, моя милочка! Мода и нас, робких женщин, может производить в героини, а раз ступивши на палубу, скоро ты приглядишься к страху, что в океане будешь как в гостиной. Ну, право, море – премилое создание, и мне так полюбилось оно с первого визита нашего знакомства, что я готова бы совершить путешествие кругом света. Вообрази себе… но нет… лучше себе припомнить, что надо начать сначала… m'y voila[211].
Я надеюсь, ты слышала, как нынешний государь любит флот?.. Он воскресил его, он вдохнул в него русскую силу и дал ему чистые лавры под Наварином18. Государю угодно было угостить двор и посланников прогулкою по морю; и в самом деле, какое угощение от достойного внука Великого Петра могло быть царственнее, величественнее этого! Катера были готовы, утро – прелесть… Двор начал размещаться… Признаюсь, неохотно рассталась я с берегом; казалось, мне больно оторвать стопу от земли, и я с трепетанием сердца спрыгнула в катер. Но когда весла грянули, когда длинная вереница шлюпок, из которых каждая подобилась плавучей корзине с цветами, ринулась в море и впереди всех орлом полетел двадцативесельный катер, несущий в себе славу и надежду России; когда берега стали бегом уходить от нас, а далекий Кронштадт с дремучим лесом мачт поплыл к нам навстречу, – тогда безграничное море развилось за ним, синея и сверкая… страх мой перелился в тихое, новое для меня наслаждение, и мне стало так хорошо в ладье, будто в колыбели когда-то.
И вот миновали мы Кронштадт и приблизились к эскадре, готовой вступить под паруса. Матросы унизывали все снасти, все реи в узор и кричали «ура!» Едва государь с высочайшим семейством взошел на адмиральский корабль, весь флот поднял якоря, и катера наши приставали к ближним кораблям наудачу… Вид был восхитительный! Упавшие паруса образовали словно плавучую стену с огромными башнями. Мы долго спорили со своими подругами о выборе: одна хотела стопушечного корабля, толстого, как наш председатель палаты; другая, более умеренная, довольствовалась семидесятным, лишь бы на нем веял флаг контр-адмирала19; третья желала сесть на раззолоченную, разряженную, будто на бал, яхточ-ку. Не знаю почему, только мне всех более понравился стройный фрегат, идеал легкости, красоты и силы. Он так гордо бросал в облака свои стрелы; долгие флюгера его так остроумно и прихотливо сверкали в воздухе, он сам так важно колебался на волнении… пушки его с таким любопытством выглядывали на нас из окон, что во мне родилось непреодолимое желание видеть это милое чудовище у себя под ногою. Не знаю, красивее ли всех или настойчивее всех подруг моих на катере была я, только победа осталась за мною. Офицер гвардейского экипажа, который левою ногою управлял кормилом нашей двенадцативесельной республики, отдал честь моему вкусу и поворотил под корму моего любимца. На поясе резной его галереи золотыми буквами написано было: «Надежда». Это одно слово стоило предпочтения.
Висячая лестница устлана была флагами… Всходим… Вообрази себе! Нет, ты не можешь себе вообразить, что я там увидала! Не знаю, с чего начать, не знаю, можно ли кончить!.. То был новый мир, то была чудная поэма. Помост чистый, вылощенный, как стол; снасти, закрученные завитками, блоки, сверкающие как серьги, сетки, сплетенные фантастическими кружевами, медь горит как золото; чугун орудий как сизое вороново крыло! И потом – эта стройная суета кругом… это необозримое раздолье перед очами!.. По звуку серебряных свистков, казалось, великан наш размахнул широко руками, чтобы поймать ветер; грудь его надулась, и он, с каждым мигом ускоряя бег, ринулся наконец прямо, пожирая пространство. Голова моя закружилась каким-то обаятельным вихрем, и когда глаза мои прояснели опять, они встретились с очами капитана корабля, которого не разглядела я сначала, хотя он и приветствовал нас при встрече. Природа, как говорит Шекспир, могла бы указать на него пальцем и сказать: «Вот человек!»20 Высокий, стройный стан, благородная осанка и это не знаю что-то привлекательное в лице, нисколько не правильном и столько выразительном, отличали его от прочих. Но глаза его – что это были за глаза, моя Софья! – влажные, голубые как волна моря, они сверкали и хмурились подобно волне, готовой и лелеять и поглотить того, кто ей вверится. В приемах его не было модной вертляности21; в нем заметна была даже какая-то крутость, какая-то дикость, происходящая, быть может, не от замешательства; со всем тем это очень шло к нему. Он, краснея, говорил с нами; он опускал очи перед взорами дам, и сначала голос его дрожал как металлическая струна цитры. И вот наш дикарь оправился, поднял свои огнистые очи, стал рассказывать нам о всех эволюциях22, о назначении каждой вещи так мило, так занимательно, так шутливо, что мы, женщины, забыли свою обычную болтовню и разве-разве вплетали в гирлянду рассказа кой-какие вопросы. Я упала с облаков, ma cherie. Судя по слухам, я самого любезного из моряков считала немного половчее моржа, играющего на гитаре, которого показывали в кадке под качелями, а тут нечаянно встретила на досках палубы человека образованного, хотя и в шляпе без султана, даже без плюмажа, – человека, который бы украсил любой паркет столичных гостиных. Занимаясь нами, он не забывал, однако, своей обязанности, и одно слово, один взгляд его двигали громаду корабля – эту гениальную мысль, одетую в дуб и железо, окрыленную полотном.
Мы сошли вниз; какая изысканность в роскоши кают! какой тонкий вкус в украшениях! Строй орудий вооружал оба борта. Ядра низались кругом красивыми бусами. Копья, топоры и все абордажные оружия развешаны были, как галантерейные вещи. Посредине просторного дека23 (я замучу тебя морскими шарадами) разевал свою пасть огромный люк, то есть отверстие, сквозь которое далеко, глубоко внизу, во мраке, глаз с ужасом распознавал ряды бочек и лапу огромного запасного якоря – надежда всегда остается на дне. Мужу моему всего более понравилась чугунная кухня со всеми затеями гастрономии. Когда ему поднесли на пробу кусок говядины, назначенный для команды, он повторил фразу Лареньера: «Ainsi cuit on aurait mange son pere»[212]24.
Наконец капитан незаметно свел нас au fin fond de l'enfer[213], и сердце у нас сжалось; мы все ахнули от страха, когда он сказал нам, помахивая свечкою, что мы находимся теперь в пороховой камере, в сердце корабля. Мне уже показалось, что заряды, несмотря на уверение, что они заключены в ящиках, прыгают около меня, как шутихи25, что все горит около, что я дышу, что я задыхаюсь пламенем, – я быстро выпрыгнула на свежий воздух.
– И точно, вам всех более должно было опасаться взрыва, – шутя молвил капитан, – один взор таких глаз – и какое сердце не взлетит на воздух!
Я на него взглянула.
Между тем эволюции шли своей чередою. Флот катился в открытое море; берега тонули. По приказу адмирала, высказанному флагами, корабли то строились в две линии, то обращались в другую сторону, то прорезывали одну линию другою… точно шахматы титанов; и мы так близко миновали другие корабли, что могли меняться приветами со своими знакомыми. Наконец император поднял свой штандарт, и едва победоносный орел взмахнул крылами в золотом поле – вмиг салютные выстрелы загремели со всех судов26. Ах! какой это был прелестный ад! Сначала клубы дыма отдельно катились по волнам, но скоро все море превратилось в жерло волкана. Ветер не успевал разнести одну тучу, а уж другие напирали все выше и выше, все чернее и чернее. Не говорю о громе; я думала, что я на вечность оглохну, так что и страшной трубы не услышу. С кормы любовалась я на валы дыма и моря… Капитан фрегата стоял подле, задумчиво у стремя на меня очи; мы молчали, да и можно ли было говорить под говором тысячи чугунных кумушек; но мне было так весело, будто игривый сон носил меня на крылах в пространстве. Вдруг, в трех шагах от меня, раздался еще выстрел и вслед за ним крик: «Упал, упал человек, тонет!» Я обмерла. Один канонер, прибивая заряд, был оглушен27 нечаянным его взрывом и с подмостков[214], на которых стоял он, сброшен за борт… В один миг несчастный очутился за кормою… потеряв память, он только крутился в пенной борозде, вьющейся вслед руля. Ни одной шлюпки не было спущено, а сброшенный ему поплавок плыл в другую сторону… Он уже погружался, еще миг – и он бы исчез; но в этот миг капитан бросился с борта в море, – все ахнули, все прильнули к поручням; верхние пушки умолкли; и вот он вынырнул, схватил утопающего, плывет к кораблю, но корабль уходит… человеческая воля не может вдруг сдержать разбежавшуюся громаду. Ужас оледенил нас, когда увидели, что спаситель изнемогает под тяжестию: он стал кружиться на месте, окунулся, опять всплыл, опять ушел, и долго-долго не было видно его!.. Вот золотой эполет блеснул из седой пены, но это было на два мгновения… Я уж не могла ничего видеть, и когда раздирающий душу крик: «Утонул!» – раздался кругом меня, я потеряла чувства…
Как сладостно возвращаться к жизни, покуда одно телесное чувствует этот возврат, покуда какая-нибудь горестная мысль не пронзит ума… Так было и со мною. Вдруг воспоминание о погибели великодушного капитана сжало мне сердце будто стальною перчаткою, едва-едва я стала приходить в себя. Я с криком открыла глаза – и кто бы, думаешь ты, стоял за мною, орошая меня струями воды, текущей с утопленника как с зонтика. Ты угадала – это был он!..
Закрываю письмо, как я закрыла тогда глаза, чтобы хоть минутою долее насладиться таким сновидением… я была им так счастлива!.. О, дай мне еще раз улететь из светской жизни; дай мне, как пчеле, упиться росою этого цветущего воспоминания, я хочу забыться, хочу забыть, я забываю все остальное…
Петергоф, 2 июля 1829 года.
I
…E per questo, quand'io veggo che gli uomini cercano per una certa fatalita le sciagure con la lanterna, e che vegliano, sudano, piangono per fabbricarsele doloresissime, eterne – io mi sparpaglierei le cervella temendo che non mi cacciasse per capo una simile tentazione.
Две недели спустя после императорского смотра флоту в кают-компании фрегата «Надежды», часу в одиннадцатом ночи, за ужинным столом сидел один уже лекарь Стеллинский. Все прочие офицеры разошлись по своим каютам, но сын Эскулапа, по достохвальной привычке, остался для химического разложения вновь привезенного портвейна. Рассуждая и прихлебывая, потом прихлебывая и рассуждая, он дофилософствовался до премудрого сомнения: голова ли вертится на плечах или предметы около головы? Склоняясь более к последнему мнению, лекарь, казалось, поджидал, когда подойдет к нему одна из недопитых бутылок, танцующих перед ним оптический польский. Он, правда, порывался раза два отхлопнуть эту красавицу у свечи, тускло сиявшей между бутылками как разум между страстями, но глазомер изменял желанию, и длань героя блуждала в пространстве: окаянная шейка увертывалась из-под его пальцев не хуже школьника, играющего в жмурки. На беду, качка усиливалась с каждой минутою, и борьба силы самосохранения с силой, влекущею лекаря к бутылке, по закону механики, вероятно, кончилась бы тем, что его туловище отправилось бы по диагонали, проведенной от его носа под стол, но, к счастию, стол был привинчен к полу, и Стеллинский так вцепился в него руками, как будто хотел спастись на нем от потопления. В это время в кают-компанию вошел вахтенный лейтенант… его только что спустил товарищ поужинать. Скидывая измоченную дождем шинель, он уже смеялся на проделки Стеллинского.
– Эге, Флогистон Хининович30, – молвил он, – ты, кажется, бедствуешь!.. Смотри, брат, не подмочи своих анатомических препаратов.
– Не бойтесь, не испортятся, – отвечал лекарь, размахнув руками как балансер на веревке шестом, отыскивая центр своей тяжести, – я их сохраняю в спирте!
– Прекрасное средство, – сказал лейтенант, глотая рюмку водки, – отличное средство, и я прошу извинить меня, господин доктор, что употребляю его теперь без вашего рецепта.
– Стократ блаженны те, которые лечатся и умирают по рецептам… Неужели вы, Нил Павлович, считаете рецепты бесполезными?
– Напротив, я считаю их преполезными – для закуривания трубок, – отвечал лейтенант, буквально врезавшись в кусок ростбифа и столь же проворно выпуская речи, как глотая говядину.
К счастию, что портвейн служил тому и другому путем сообщения, так что слова и ростбиф расплывались, не зацепляя друг друга.
– Как, сударь, рецепты?., ре-ре-цепты? О, sana insania![216] Жечь векселя на получение здоровья!
– Скажите лучше, контрамарки на вход в кладбище. Впрочем, мне случалось не раз быть больным; не раз писал мне мой доктор и рецепты вдвое длиннее своего носа, хоть нос у него являлся накануне, а сам завтра. Я очень набожно брал их между большим и указательным перстами, держал на чистом воздухе в горизонтальном положении минут по пяти…
– И потом?.. – спросил лекарь, изумляясь этим средством симпатической фармакопеи.
– И потом – пускал на ветер. Желудку моему от того было не хуже, а кошельку вдвое лучше.
– Вы, конечно, любите Ганемановы выжидающие средства31, Нил Павлович… и, надеясь на природу, подвиньте, пожалуйста, бутылку.
– Но ты, кажется, не гомеопат, Стеллинский, не хочешь ждать, чтоб природа подала тебе бутылку и вместо капельных приемов тратишь столько вина зараз, что им бы, по методе Ганемана, можно было напоить допьяна всех рыб Финского залива на пятьдесят лет, не считая этого. Однако, чем черт не шутит, разве не попадают порою в цель с завязанными глазами! Итак, вам же поклон, любезный внук Эскулапа. Вместо того чтоб ловить ночью мух, пошарьте-ка в кивоте своего гения – не отыщете ль в нем какого-нибудь действительного средства сумасшествия?
– Разве вы хотите лечиться? – лукаво спросил лекарь, между тем как лицо его сморщилось в гримасу, которую в великий пост можно было бы счесть за усмешку.
– Ай да Флогистон Кислотворович! Славно, брат; право, хоть куда. Иной подумает, что ты изобрел этот ответ натощак. Но я все-таки ложусь на прежний румб32 и повторяю вопрос мой. Ты теперь в восторженном состоянии, в возвышенной температуре, так что зерном пороху, которое, сгорая, расширяется в тысячу раз против прежнего объема.
– …Sic est…[217] притом же масоны красное вино называют красным порохом… картуз в ду-ло!..33 Ну, теперь я заряжен. Итак, – продолжал, крякая и охорашиваясь, лекарь, – итак, вам угодно знать лекарство против сумасшествия?.. Гм! ге! Древние, между прочим и отец медицины…
– То есть мачеха человечества… – ввернул словцо лейтенант.
– Гиппо-по-крат34, думали, что частое употребление галлебора, то есть чемерицы35, или в просторечии чихотки, может помочь, то есть облегчить, или, лучше сказать, исцелить, повреждение церебральной системы… Да и почему же не так? Разве не знаем, или не видали, или не испытывали вы сами, что щепотки три гренадерского зеленчака36 могут протрезвить человека, ибо нос в этом случае служит вместо охранного клапана в паровых котлах, чрез который лишние пары улетают вон. А поелику и самое безумие есть не что иное, как сгущенная лимфа, или пары, или мокроты, именуемые вообще serum, которые, отделяясь от испорченной крови, наполняют клетчатую мозговую плеву (в это время лекарь любовался гранеными изображениями стакана, из которого он орошал цветы своего красноречия) …гм, ге!.. плеву и, постепенно действуя и противодействуя сперва на тунику, потом на перикраниум37, а наконец, и на белое существо мозга… А, это, верно, птица или пава?., почему Авиценна и Аверроэс, даже сам Парацельс…38 Пава, точно пава!., советуют диету и кровопускание! Другие же, как, например, Бургав39, действуют шпанскими мухами, вессикаториями и синапизмами40, третьи, чтоб сосредоточить ум, вероятно разбежавшийся по всему телу, бреют голову, льют холодную воду на темя и охлаждают его ледяным колпаком…
– Чтоб черт изломал грота-рей41 на голове проклятого выдумщика такой пытки! Мало содрать с живого кожу – так давай закапывать в лед, как бутылку вина на выморозки! Вся ваша медицина – уменье променивать кухонную латынь на чистое серебро, покуда матушка природа не унесет болезни или ваши лекарства – больного!
– Прошу извинить, Нил Павлович… медицина… за ваше здоровье… происходит от латинского слова… как бишь его… ну да к черту медицину!.. А безумие, как имел я честь доложить, делится на многие разряды. Во-первых, на головокружение, во-вторых, на ипохондрию, потом на манию, на френезию…42
– И на магнезию…
– Как на магнезию? Это что за известие? Магнезия не болезнь, а углекислая известь, а френезия, напротив…
– Есть вещь, о которой вы часто говорите, которую вы редко вылечиваете и которой никогда не понимаете… Не правда ли, наш возлюбленный доктор?
– Правда на дне стакана, Нил Павлович…
– То-то ей, бедняге, и достаются одни дрожжи.
– Пускай же она и вьется в них, как пескарь, – мы обратимся к нашему предмету.
– То есть к вашему предмету, доктор.
– Гм! ге! Вы верно не знаете, что многие врачи причисляют к безумию головную боль, цефальгию и даже сплин!43
– Не знаю, да и знать не хочу.
– Вещь прелюбопытная-с… Вообразите себе, что однажды (это было очень недавно) некто знаменитый русский медик, анатомируя тело одного матроса, нашел… то есть не нашел у него селезенки, сиречь spleen, которая и дала свое название болезни. Из этого заключили, что человек одарен в ней лишнею частию, без которой он легко бы мог жить. Правда, иные утверждают, будто в животной экономии селезенка необходима для отделения желчи, но лучшие анатомисты до сих пор находят ее пригодною только для гнезда сплина, считают украшением, помещенным для симметрии.
Медицинские лекции так еще свежо врезаны были в памяти лекаря, что он и пьяный мог говорить чепуху с равным успехом, как и натрезве; но лейтенант, который кончил уже свой ужин, остановил оратора, так сказать, на самом разлете.
– Устал я слушать твою микстуру, любезный доктор. Вам, ученым людям, все то кажется лишним, чему вы не отыщете назначения, и если б вы не носили очков и тавлинок44, то, чай, и нос осудили бы в отставку без мундира. Не о том дело, можно ли жить без селезенки, а о том, что худо служить без ума. Мне кажется, исчисляя виды сумасшествия, ты пропустил самый важный, и этот вид называется любовь, и больной, зараженный ею, – капитан наш.
– Капитан?.. Вы шутите, Нил Павлович… – произнес лекарь, протирая туманные глаза и опять хватаясь за стул, как будто чувствуя, что, полный винный парами, он может улететь вверх, будто аэростат.
– Нисколько не шучу, – отвечал лейтенант. – Я повторяю тебе, что это Илья Петрович Правин, достойный командир нашего фрегата, – Пра-вин, со всеми буквами…
– Гм! ге! Вот что… так он-то болен любовью?.. С вашего позволенья…
– Нет, вовсе без моего позволенья. Уж эта мне черноглазая княгиня! Она словно околдовала Илью Петровича. И то сказать, хороша собой как царская яхта, вертлява как люгер45 и, говорят, умна как бес… Ты, я думаю, помнишь ее, – ну, ту высокую даму в черном платье, с которою в красоте изо всех наших гостей могла поспорить только фрейлина Левич… Как находишь ты, доктор, которая лучше?
– Мадера лучше, – возразил доктор.
Погруженный в созерцание бутылок, он только и слышал два последних слова.
– Мадера гораздо лучше; ближе к цели.
– То есть ближе к постели. И дельно, брат; пора твоей посудине в док на зимовку. Однако я говорю не о винах, доктор, но о дамах!
– О дамах, или, попросту, о женщинах? Гм! Да разве это не все равно? Молодая женщина и молодца как раз состарит… а старое вино помолодит и старика, – где яд, там и противоядие; где боль, там и лекарство.
– Грот-марса-фалом46 клянусь! оба эти зла или оба эти блага вместе приведут хоть какой ум к одному знаменателю. Уж если б выбрать меньшее зло, я бы скорей посоветовал капитану трепать почаще бутылочную, чем женскую, шейку; и, по мне, пусть лучше зарится он на карточные очки, чем на очи красавицы. От вина поболит голова, от проигрыша заведется в кармане сквозной ветер, но от дам, кроме головы и кармана, зачахнет и сердце.
– Сердце! Сердце? А что оно такое, как не химическая горлянка47, в которой совершается процесс кровообращения и окрашивания крови посредством вдыхаемого кислорода!.. Читали ли вы Гарвея?..48 знаете ли вы трактат доктора Крейсига о болезнях сердца?49
– И все-таки, я думаю, в книге этого доброго немца так же трудно найти лекарство против болезни нашего капитана, как шутку в часослове50. Право, я бы очень желал, чтобы ты, наш любезный доктор, хоть крашеной водою и пластырями, магнетизированием и шарлатанством продержал его месяца два на фрегате… Разлука и диета – два смертельные врага любви. Авось бы он развлекся службою; авось бы наши споры возвратили ему прежнюю веселость; а то он сам не свой теперь. Бывало, его калачом не сманишь с фрегата; ему не спалось на земле, ему душно казалось в городе, – а теперь все бы ему жить на берегу, да кататься на колесах, да лощить бульвары. Подумаешь, право, что он поймал эту глупую страстишку, как жемчужину со дна моря, в день смотра, когда спрыгнул в воду спасать утопающего канонера. За него нечего было ахать: он плавает, как ньюфаундлендская собака[218], – зато сам он растаял, когда увидел, что черноглазая княгиня, от участия к нему, в обмороке…
– Да, да, да, да!.. Теперь-то я припоминаю все дело. Я застал тогда капитана на коленях перед нею; он был мокр, как тюлень, а суетился, будто муха над дорожными51. Подруга ее сама обеспамятела и, вместо того чтоб помогать, кричала только: «Воды, воды, кликните соль, принесите лекаря!..»
– Скажите пожалуйте, какая напраслина!.. Ты, кажется, тогда мог сам ходить!..
– У вас все шутки, Нил Павлович! Ну, вот как я вошел, подруга ее приказывала капитану распустить ее шнуровку!..
– Вот тебе и раз! – с ужасом вскричал лейтенант. – Распустить шнуровку! Пускай бы спросили у Ильи Петровича, куда проходит и где крепится последний гитов[219] на каждом судне христианского и варварийского флота – он рассказал бы это, как «Отче наш», от коуша[220] до бензеля[221], а скоро ль было ему доискаться, где крепится дамский булень!..[222] Зато уж и попалась в силок морская птичка!.. Видно, черт возьми, не всякое полушарие обойти безопасно и хорошенькая дамочка бурливее мыса Горна52. С тех пор наш капитан рыскает, будто сам лукавый стоит у него на руле. Говоришь ему об укладке трюма, а он толкует о гирляндах. Просишь переменить якорь, а он переменяет жилет. Глядит в зрительную трубку, и ему кажется, что голландский гальот53 прогуливается по берегу в желтом платье. Налетит шквал, трещат стеньги, а он хохочет. Товарищи смеются, а он вздыхает. Мы пьем, а он смотрит в стакан, словно гадает на кофейной гуще, как тетушка Пелагея Фарафонтьевна54.
– Это мания, чистая мания!.. Это столь же верно, как и то, что гиппопотам пускает себе кровь тростником, боясь апоплексии, а собаки лечат себя от бешенства водяным шильником…55 Это мания… ма-мания, говорю я вам…
– Зови как хочешь: от этого капитану не легче, нам не лучше. Да и, между нами будь сказано, к чему поведет такая глупая страсть? Она его не может любить: она замужем; а если и полюбит, тем хуже, – не должна. Если дело остановится на первом, – он исчахнет, но если, чего Боже сохрани, дойдет до второго, – он совсем потеряет себя: он ничего не умеет делать и чувствовать вполовину… Я ведь знаю его с гардемаринского галуна до штабского эполета; от лапты на дворе Морского корпуса до картеч наваринского дела. О, как бы дорого дал я! – вскричал от глубины сердца лейтенант, проглотив разом стакан вина, будто им хотел он залить свое горе, – я отдал бы все свои призовые деньги56, лишь бы увидать моего доброго друга, Илью, в прежнем духе… Это душа в обществе, это голова в деле: добр как ангел и смел как черт!.. Я предвижу, что он настроит кучу проказ; он вовсе забудет службу, совсем покинет море… и что тогда станется с нашим лихим фрегатом, со всеми офицерами, с командою, что его так любит? Пусть лучше молния разобьет грот-мачту, пусть лучше сорвется руль с петель, пусть лучше потеряем мы весь рангоут[223], нежели своего капитана! С ним все это трын-трава, а без него команда не вывернет бегом якоря, не то чтобы на славу убрать в шторм паруса и перещеголять чистотою и быстротою англичан, как мы делывали в прошлом году в Средиземном море. Per bacco e signor diavolo![224] Я бы готов на полгода отказаться от вина и елея57, лишь бы вылечить Илью… хоть, признаться сказать, я считаю это так же трудным, как проглотить собаку-блок после ужина!..58
Стеллинский в свою очередь говорил, не слушая лейтенанта, о медицине. Вино выказало страсти обоих – как обозначает оно в хрустале незаметные дотоле украшения.
– Должно начать леченье прохлаждающими средствами, – говорил он, зевая, – кремор-тартар… маг-мадера… потом пиявки, потом можно последовать совету славного римского врача Анахорета59, который резал руки и ноги, чтоб избавить от бородавок, и сделать ам-пу-та-цию да тереть против сердца чем-нибудь спир-ту-о-зным!..
Сын Эскулапа был поражен Морфеем в начале речи – участь, грозившая слушателям, если б они были тут. Голова его упала на грудь, руки повисли, и он начал материально доказывать, что, согласно с мнением нашего знаменитого корнеискателя60, русский глагол «спать» происходит от слова «сопеть».
Но прежде чем лейтенант кончил говорить, а лекарь начал храпеть, дверь каюты распахнулась с треском: в нее вбежал вахтенный мичман, бледен, испуган.
– Нил Павлыч, – сказал он, задыхаясь, нас дрейфует[225].
– Людей наверх, пошел все наверх! – крикнул лейтенант таким голосом, что он мог бы разбудить мертвых.
С этим словом он кинулся на шканцы без шапки и без шинели, – там уже заменявший его лейтенант хлопотал, как помочь горю. Окинув опытным взором море и небо, Нил Павлович увидел, что с погодою шутить нечего. Крутые, частые валы с яростью катились друг за другом, напирая на грудь фрегата, и он бился под ними как в лихорадке. Сила ветра не позволяла валам подыматься высоко, – он гнал их, рыл их, рвал их и со всего раската бил ими как тараном. Черно было небо, но, когда молнии бичевали мрак, видно было, как ниже, и ниже, и ниже катились тучи, будто готовясь задавить море. Каждый взрыв молнии разверзал на миг в небе и в хляби огненную пасть, и, казалось, пламенные змеи пробегали по пенистым гребням валов. Потом чернее прежнего зияла тьма, еще сильнее хлестал ураган в обнаженные мачты, крутя и вырывая верви, свистя между блоками.
– Пошел на брасы, на топенанты[226]; ходом, бегом! Надо обрасопить[227] реи вдоль судна. Задержал ли якорь? Есть[228]. Слава Богу! Г<осподин> шкипер! разнесен ли канат плехта?[229] Может, надо лечь фертоинг[230]. Сдвоить стопора на даглисте…61 очистить бухты![231] Послать топор к правой кран-балке62; если крикну: «Отдай!» – разом пертулин[232] пополам. Г<осподин> мичман! вы эполетами отвечаете, если рустов[233] отдадут рано… не забудьте участи «Фалька»[234]. Драй, драй, бакштаги в струну вытягивай!63 Ну, молодцы, шевелись, поплясывай! Не то я вас завтра в ворсу истреплю! Гей вы, на марсах! все ли исправно у вас? Ага! стеньги хрустят?64 Эка невидаль! Треснут – так на зубочистки годятся! Боцмана! осмотреть кранцы[235]: чтоб ни одно ядро не трону лось, – теперь некогда играть в кегли. Крепко ли задраены порты?[236] Г<осподин> штурман, много ли фут по лоту? Сто двадцать… лихо!.. Гуляй, душа! Далеко еще килю до рачьей зимовки!
Так или почти так покрикивал Нил Павлович, прибавляя к этому, как водится, сотни побранок, которые Николай Иванович Греч сравнил с пеною шампанского65. Он, казалось, попал в родную стихию: осматривал все своим глазом, успевал сам везде, и матросы, ободренные его хладнокровием, работали смело, охотно, но безмолвно, при тусклом свете фонарей. Порой, когда над головами их разражался перун66, подвижные купы их озарялись ярко и живописно – будто сейчас из-под мрачной кисти Сальватора67, и только мерный стук их бега, только пронзительный голос свистков мешался с завыванием бури и с тяжелым скрипом фрегата.
– Ай да ребята, спасибо! – сказал Нил Павлович, потирая от удовольствия руки. – За капитаном по чарке! Теперь дуй – не страшно, мы готовы встретить самый задорный шквал, откуда б он к нам ни пожаловал. Хорошо, что я не послушал вас, – продолжал он, обращаясь к подвахтенному лейтенанту, – и спустил заранее брам-стеньги[237]: их бы срезало, как спаржу. Я, правда, с вечера предвидел бурю: солнце на закате было красно, как лицо английского пивовара, и синие редкие тучки, будто шпионы, выглядывали из-за горизонта; признаюсь, однако, не ждал я никак такого шторма: все ветры и все черти спущены, кажется, теперь со своры…68 того и гляди, что сорвет с якоря и выкинет на финский берег по клюкву.
– Шлюпка идет! – раздалось с баку.
– Скажи лучше, тонет, – вскричал с беспокойством Нил Павлович. – Кому это вздумалось искать верной погибели? Опрашивай!
– Кто гребет?
– Матрос.
– С какого корабля?.. Есть ли офицер?
Шум бури и волнения мешал расслышать ответы…
– Кажется, отвечают: «Надежда», – закричали на баке[238].
– Ослы! – загремел Нил Павлович, который в это время вскочил на фор-ванты[239], чтобы лучше рассмотреть шлюпку. – Разве не видите вы двух фонарей на водорезе?[240] Это наш капитан. Изготовить концы, послать фалрепных[241] с фонарями к правой!
Долгая молния рассекла ночь и оказала гонимую бурею шлюпку, с изломанной мачтой, с изорванным парусом. Огромный вал нес ее на хребте прямо к борту, грозя разбить в щепы о пушки, – и вдруг он опал с ревом, и мрак поглотил все.
– Кидай концы! – кричал Нил Павлович, вися над пучиною. – Промах! Другой! Сорвался… Еще, еще!
Новая молния растворила небо, и на миг видно стало, как отчаянные гребцы цеплялись крючьями и скользили вдоль по борту фрегата.
– Лови, лови! – раздавалось сверху, и многие веревки летели вдруг; но вихорь подхватывал их, и они падали мимо.
– Боже мой! – вскричал Нил Павлович, сплеснув руками, – они погибли.
Но они не погибли; их не унесло в открытое море. Один багор удачно вцепился в руль-тали[242], и по штормтрапу с горем пополам взобрались наши пловцы, чуть не утопленники, на ют (корму). Пустую шлюпку мигом опрокинуло вверх дном, и через четверть часа на бакштове[243] остался лишь один обломок шлюпочного форштевня[244].
– Ты жив, ты спасен, друг мой, брат мой картечный! – говорил добрый Нил Павлович, задушая в объятиях капитана. – Как не грех тебе пускаться в такую бурю! Сорвись последний крюк – и ты бы отправился делать депутатский осмотр карасям.
Но вдруг он вспомнил долг подчиненности – отступил на два шага и преважно начал рапортовать о состоянии судна и команды. В этой сцене было много забавного и почтенного вместе. Глядя тогда на Нила Павловича, вы бы сказали: «Он прекрасный человек, он достойный солдат!» Вы бы поручились за него, что он не изменит ни одному благородному чувству, как не преступит ни одной причуды службы.
– Благодарю сердечно, благодарю всех господ за исправность, – говорил капитан окружившим его офицерам, – а вас, Нил Павлович, особенно. За вами я бы мог спать спокойно, если б вы могли повелевать так же удачно стихиями, как вахтой. Но я предвидел ужасную бурю и хотел разделить с вами опасность. Могу вам рассказать новости о погоде, потому что я был там, куда не достанут ночью ваши взоры. Шквал налетит сию минуту. Готов ли другой якорь?
– Готов.
– Тем лучше. На баке ало!69 – закричал капитан в рупор. – Из бухты вон!70 Отдай якорь!
Как ни силен был плеск волн и рев бури, но послышалось, когда бухнул в воду тяжкий якорь и с глухим громом покатился канат из клюза71.
– Шквал с ветра, шквал идет! – раздалось на баке.
Случалось ли вам испытывать сильный шквал на море?
Перед ним на минуту воцаряется какая-то грозная тишь, море кипит, волны мечутся, жмутся, толкутся, будто со страху; водяная метель с визгом летит над водою, – это раздробленные верхушки валов; и вот вдали, под мутным мраком, изорванным молниями, белой стеною катится вал… ближе, близко – ударил! Нет слов, нет звуков, чтоб выразить гуденье, и вой, и шорох, и свист урагана, встретившего препону; кажется, весь ад пирует и хохочет с какою-то сатанинскою злобою!.. Такой-то шквал налетел на фрегат «Надежду» и зарыл нос его в бурун, так что волна перекатилась по палубе до самой кормы.
Удар водяной массы и порыв ветра были так жестоки, что стопора[245] первого якоря лопнули, прежде чем канат второго вытянулся. Фрегат задрожал как лист и вдруг с невероятною быстротою кинулся по ветру. Второй канат, едва полу застопоренный, не мог сдержать корабля с разбегу, и оба вдруг пошли сучить в оба клюза.
Не каждому моряку во всю свою службу случалось видеть суматоху от высучки канатов. Это страшно и смешно вместе! Вообразите себе два каната чуть не в охват толщиною, которые с ревом и громом бегут с кубрика или из дека, где были уложены, вверх… Они вьются, как удавы, огромными кольцами, хлещут, как волны, взбрасывая на воздух все встречное – сундуки, койки, ядра, людей, и наконец, крутясь узлом через толстый брус битенга[246], зажигают его трением. Это пеньковый тифон72, от которого все летит вдребезги или бежит с воплем. Напрасно кидают в клюз койки и вымбовки[247], чтобы сдавило и заело канат, – он бежит вон неудержимо.
К счастью, на фрегате оба каната закреплены были огоном73 за шпор[248] грот-мачты. Удары от внезапной задержки с разбегу заставили вздрогнуть весь остов, и едва-едва уцелели стеньги. Якоря забрали, фрегат стал в тот миг, когда капитан, не надеясь на канаты, послал по марсам74, готовясь на обрыве вступить под паруса, чтобы жестокий норд-норд-ост не выкинул его на отмели и рифы негостеприимного берега Финляндии. Осмотрелись: люди были целы, изъян ничтожен. Волненье ходило горами, дождь лился потоком, и к довершению этой ужасно-прекрасной картины невдалеке показались смерчи, или тромбы. Они очень заметны были во мраке, вздымаясь, белые, из валов, как дух бурь, описанный Камоэнсом…75 Голова их касалась туч, ребра увивались беспрерывными молниями… Море с глухим гулом кипело и дымилось котлом около, – они вились, вытягивались и распадались с громом, осыпая валы фосфорическими огнями. Матросы с благоговейным ужасом глядели на это редкое для них явление.
– Не прикажете ли, капитан, попотчевать этих незваных гостей ядрами? – спросил Нил Павлович.
– Прикажите только изготовить два плутонга пушек на оба борта76 и стрелять тогда разве, когда какой-нибудь любопытный тифон вздумает пощупать нас за утлегарь77. Мне не хочется делать тревоги в Кронштадте. Пожалуй, там подумают, что мы перепугались, что наша «Надежда» гибнет, – так отвечал капитан Правин.
Миновалась опасность, но не буря. Ветер дул ровнее, но все еще жестоко, и фрегат, бросаемый волнением, то носом, то кормой ударялся в воду, разбрызгивая буруны в пену, но содрогаясь, но стеная и скрипя от каждого взмаха. Половину команды распустили по койкам; другая смирно жалась у сеток. Нил Павлович с рупором под мышкою ходил по шканцам78, заботливо взглядывая то на море, то на капитана, – а капитан, безмолвен, стоял, опершись о колесо штурвала. Свет лампы из нактоуза[249] падал прямо на его бледное, но выразительное лицо. Взоры его следили вереницы летящих туч и бразды молний, их рассекающих… Он не чувствовал ни ветра, ни дождя; он долго не слышал голоса друга, – душа его носилась далеко-далеко.
Наконец Нил Павлович дернул его за рукав.
– О чем замечтался ты, Илья? – спросил он с братским участием.
Правин будто проснулся.
– О чем? Как легко это спросить, зато как трудно отвечать на это! Вихорь мыслей крутился в голове, и целый водоворот мыкал мое сердце. Если б я и умел тебе высказать все это, я бы не досказал всего до седых волос. Впрочем, нет действия без причины, и если я не смогу рассказать, о чем мечтал, то не умолчу, отчего эти мечты меня обуяли. Загадка, для чего нас от всей эскадры оставили одних на кронштадтском рейде, объяснилась: наш фрегат назначен в Средиземное море; мы повезем важные бумаги союзным адмиралам и президенту Греции.
– И, верно, ядра да картечи для закуски туркам! Грот-марса-рея меня убей79, мне смерть хочется сцепиться на абордаж с каким-нибудь капитан-пашинским кораблем!
– Но я, милый Нил, я краснею за себя!.. Душа моя рвется надвое: одна половина хочет пустить корни в столице, между тем как другая жаждет раздолья и битвы. Итак, думал я, чем скорее, тем лучше… сегодня же, сейчас хотел бы я вырваться из оков своих… я с радостию ждал минуты, когда нас сорвет с якорей, чтобы распустить крылья и улететь из этого чада, растлевающего душу.
– Недолга песня скомандовать на марса-фалы!80 Не вступать под паруса в такую темную ночь, в такую бурю!..
– В бурю? – повторил рассеянно капитан, – в такую бурю! Что значит эта буря против бунтующей в моей груди?..
Нил Павлович долго и пристально глядел в лицо друга, – наконец крепко сжал ему руку и произнес:
– Бедный Илья!
«Бедный Правин!» – повторю и я.
Что бы ты сказал, что бы подумал ты, добрый друг мой, если бы увидел мои вчерашние сборы на вечер к княгине ***? Я, я, которому, так же как и тебе, до сих пор все платье шилось парусником, я затянулся в мундир, шитый самым лучшим, то есть самым дорогим, портным столицы, да и тот не угодил на меня. То, казалось мне, не выравнены пуговицы, то проглядывают кой-где преступные складки… там это, здесь не то… словом, я бы на вечер приехал на завтрашнее утро, если б бой часов не заставил меня поторопиться. Волосы мои натированы[250] были помадою, белье пробрызгано духами; галетух не галетух, перчатки не перчатки, – верчусь перед зеркалом, молодец хоть куда. Повторив несколько раз все эволюции салюта и ордер марша по гостиной и потом ордер баталии81: «Спуститься по ветру, чтобы прорезать линию неприятельских стульев, потом лечь в дрейф и начать перестрелку», – плащ на плечо, наемная карета у крыльца, качу.
Крепко забилось мое ретивое, когда Каменноостровский мост задрожал под колесами моей кареты. И вот дача князя! В окнах сияет день, сквозь цветы мелькают тени, народу тьма, – храбрость моя роняет брамсели82. Однако ж, снайтовя[251] сердце, перехожу аванзалу так осторожно, будто сквозь каменистый вход в порт Свеаборга83. Имя мое из уст официанта раздается словно боевая пушка, – во мне занялся дух, и на глаза упал туман, хоть подымай сигнал «Неясно вижу!» Но экватор был уже перейден – ворочаться поздно; вхожу, кланяюсь без прицела, краснею будто каленое ядро, верчусь направо и налево не лучше рыскливого корабля – одним словом, чувствую сам, что я так же ловок, как выброшенный на берег кит, и мешаюсь вдвое пуще. Мужские лорнеты, казалось, сожигали меня в пепел; дамские взгляды пронизывали наперекрест, будто Конгревовы ракеты84; даже ковры егозили под ногами, и проклятые зеркала, это оптическое эхо, передразнивали в двадцати видах мое замешательство. О! если б знала княгиня, как дорого стоило моему самолюбию быть на такой выставке, она бы пожалела, она бы наградила меня! Вещь, которая для всякого светского повесы была бы или незначаща, или приятна, во мне обращалась в истинное самоотвержение… Приехав в надежде понравиться княгине, я уже трепетал за то, что не понравлюсь… Стень ложного стыда удушала меня85. К счастью, эта сцена была непродолжительна. Толстяк хозяин поспешил ко мне на выручку, и сама хозяйка, привстав с дивана, так ободрительно меня поприветствовала, что душа моя распрямилась вдруг… Я гордо поднял голову, я окинул всех светлым оком: что значила для меня невзгода всех пустоцветов и пустозвонов гостиной, когда я был уже обласкан тою, чья единственно ласка была дорога мне! Гости поняли эту мысль, и ропот затих, и все улыбнулись мне будто по приказу. Общественное мнение всегда склоняется к тому, кто не дорожит им нисколько.
Меня усадили в полукруге между каким-то кавалером посольства, который глядел на весь мир с вышины своей накрахмаленной косынки, и незнакомым офицером, от которого еще благоухало браиловскою гюляб-су[252]. Первый надувал остроумием мыльные пузыри, другой заклинался гуриями86 не хуже любого ренегата, прочие гости занимались умножением нуля, то есть переливали из пустого в порожнее. Самый важный спор шел о лучшем средстве чистить зубы после обеда. После неизбежных переспросов я притаился в креслах и дал полный разгул глазам и мечтам своим. Ты, не добиваясь патента на пророчество, угадаешь, к какому полюсу влекся компас мой, – это была она – истинный полюс, охваченный полярным кругом светской холодной суеты. И что такое были все эти собеседники, как не льдины: блестящие, но безжизненные, носимые ветром моды вместо своей воли и порой зеленеющие чахлыми порослями, какие видел Парри в Баффиновом заливе87; и это-то называют они цветами общества!
Но возвратимся к ней, еще к ней, опять к ней! Я пил долгими глотками сладкий яд ее взоров, – мне было так хорошо! Она шутила – я отвечал тем же… Откуда что бралося! Недаром говорят, что любовь и сводит с ума и дает ум. Когда я говорил с нею, застенчивость покидала меня; зато едва другая дама обращала ко мне слово, я краснел, я бледнел, я вертелся на стуле, будто он набит был иголками, и бедная шляпа моя чуть не пищала в руках. Ты знаешь, что я могу лепетать по-французски не хуже дымчатого попугая; но знаешь и то, что, из упрямства ли или от народной гордости, не люблю менять родного языка на чужеземный. Вот, сударь, волей и неволей господа, удостоивавшие меня своим разговором, слыша твердо произнесенный отзыв: «Я не говорю по-французски», принуждены были изъясняться со мною по-русски, и признаюсь, я не раз жалел, что не взял с собою переводчика. Охотнее всех и, к удивлению моему, чище всех говорила по-русски княгиня, – это делает честь Москве, это приводило меня в восхищение. Рад ты или не рад, а меня берет искушенье послать к тебе кусочек нашего разговора, хоть я очень знаю, что разговор, как вафли, хорош только прямо с огня и в летучей пене шампанского.
Мы спорили. Княгиня верить не хотела постоянству чувствований моряков. Она называла нас кочевым народом, людьми, которые ищут двух весн в один год и гоняются за открытиями, чтобы оставить на них чугунную дощечку с надписью: «Тогда-то здесь был такой-то». Но разве быть значит жить! Или видеть значит чувствовать! Частые перемены мест не дают окрепнуть привязанностям до страсти, воспоминанию – до глубокого сожаления.
– Даже вы сами, – продолжала она, – вы – скиталец с ранних лет по далеким морям – признайтесь: надышавшись воздухом ароматных лесов Бразилии; набродившись по чудным коралловым островам Тихого океана или по исполинским дебрям Австралии; налюбовавшись плавучими ледяными горами Южного полюса или волканами, раскаляющими небо своим дыханием, скажите, какова показалась вам после того болотная, плоская, туманная родина?
– Прелестнее, чем прежде, княгиня! Вы меня считаете в ощущениях ветренее всякой дамы, которая, сбросив с себя украшение, назавтра забывает или, нашедши, презирает его. Чувства нельзя забыть, как моду, и прекрасный климат не замена отечеству. Эти туманы были моими пеленами, эти дожди вспоили меня, этот репейник был игрушкою моего детства. Я вырос, я дышал воздухом, в котором плавали частицы моих предков, я поглощал их в растениях. Русская земля во мне обратилась в тело и в кости. О! поверьте мне, отечество не местная привычка, не пустое слово, не отвлеченная мысль; оно живая часть нас самих; мы нераздельная мыслящая часть его, мы принадлежим ему нравственно и вещественно. И как хотите вы, чтобы в разлуке с ним мы не грустили, не тосковали? Нет, княгиня, нет! в русском сердце слишком много железа, чтобы не любить Севера!
– И в вашем тоже, капитан? – спросила княгиня.
– Я русский, княгиня: я «суровый славянин», как говорит Пушкин88.
– Тем на этот раз хуже: я ненавижу чугунные сердца, – на них невозможно сделать никакого впечатления!
– Почему же нет, княгиня! Разгорячите этот металл, и он будет очень мягок, и потом рука времени не сотрет того, что вы на нем изобразите.
– Но для изображения чего-нибудь надо ковать молотом, а это вовсе не дамское дело.
– Терпение, княгиня, дает уменье.
– Но всякий ли, капитан, может командовать терпеньем, как вы «Надеждою»? Да, кстати о «Надежде», – все ли в добром она здоровье?
– Напротив, княгиня, бури ее одолели с тех пор, как вы ее оставили.
– Надеюсь по крайней мере, – продолжала княгиня, все еще играя словами о имени моего фрегата, – надеюсь, она вас не покинула!
– Все равно почти: я очень далек от нее!
– Но, как верный рыцарь, не покидаете зато ее символа: на воротнике вашем таинственно блестят два якоря.
– Заметьте, княгиня, – примолвил я со вздохом, – они с оборванными канатами.
В это время офицер, сосед мой, наклонившись сзади меня к дипломату, сказал ему вполголоса:
– II se pique d'esprit, ce lion marin![253]
– Oui-da, – отвечал тот. – II s'en pique[254].
– Et cette fois il n'est pas si bete qu'il en a l'air[255], – примолвил первый, презрительно покачиваясь на стуле.
Я вспыхнул. Такое неслыханное забвение приличий обратило вверх дном во мне мозг и сердце; я бросил пожигающий взор на наглеца, я наклонился к нему и так же вполголоса произнес:
– Si bon vous semble, m(onsieu)r, nous fairons notre assaut d'esprit demain a 10 heures passees. Libre a vous de choisir telle langue qu'il vous plaira – celles de fer et de plomb у comprises. Vous me saurez gre, j'espere, de m'entendre vous dire en cinq langues europeennes, que vous etes un lacke.[256]
He можешь представить себе, как смутился мой обидчик: он покраснел краснее своих отворотов, он окинул глазами собрание, как будто искал в нем подпоры или обороны, – но все отворотились прочь, будто ничего не слыхали. Наглец и тут хотел отделаться хвастовством.
– Очень охотно! – отвечал он, играя цепочкою часов. – Только я предупреждаю вас: я бью на лету ласточку.
Я возразил ему, что не могу хвастаться таким же удальством, но, вероятно, не промахнусь по сидячей вороне.
Противнику моему пришлось плохо, но мне было едва ль не хуже его. Гнев пробегал меня дрожью; я кусал губы чуть не до крови, я бледнел как железо, раскаленное добела. Невнятные слова вырывались из моих уст, подобно клочьям паруса, изорванного бурей… Присутствие людей, в глазах которых я был унижен и еще не отомщен, меня душило… наконец я осмелился поднять глаза на княгиню… Говорю: осмелился, потому что я боялся встретить в них сожаление, горчайшее самой злой насмешки… И я встретил в них участие, сострастие даже. Взоры ее пролились на мою душу как масло, утишающее валы… в них, как в зеркале, отражались и гнев за мою обиду и страх за мою жизнь… они так лестно, так отрадно укоряли и умоляли меня!.. Я стих. Общество занялось прежним, будто не замечая нашего a parte[257]; разговор катился из рук в руки. Я чувствовал себя лишним, встал, раскланялся и вышел, но уже без замешательства, без оглядок: обиженная гордость придала мне самонадеяния.
– Мы надеемся видеть вас почаще, – молвил хозяин, прощаясь со мною.
Ступая за дверь, я обернулся… О друг мой, друг мой! я худо знаю женскую сигнальную книгу, но за взор, брошенный на меня княгинею, я бы готов был вынести тысячу обид и тысячу смертей!.. Завтра со своими пулями и страхами для меня исчезло… Всю ночь мне виделась только княгиня. Меня волновал только прощальный взгляд ее.
Петергоф, 17 июля 1829.
В Кронштадт.
Брось в огонь историю кораблекрушений, любезный Нил: мое сухопутное крушение куриознее всех их вместе, говорю я тебе. Воображаю, с каким изумлением протирал ты глаза, читая последнее письмо мое. Илья влюблен, Илья щеголь, Илья в гостиной, Илья накануне поединка!! По-твоему, все это для моряка столько же несбыточно, как прогулка Игорева флота на колесах89, – и между тем все это гораздо более историческое, чем романы Вальтер Скотта. Счастливец ты, Нилушка, что не знаешь, не ведаешь, куда забросить может сердце вал страсти. Я стыжусь других, браню себя – и все-таки влекусь от одной глупости к другой. Беднягу ум укачало на этом волнении, и он лежит да молчит и, во все глаза глядя, ни зги не видит.
Впрочем, что ни толкуй, а от прошлого не отлавируешься. Дело было сделано: поединку решено быть; недоставало только тебя в секунданты… Благодаря, однако ж, принятому поверью в Петербурге через край охотников в свидетели «суда Божия», как говорили в старину, – «удовлетворения дворянской чести», как говорят ныне, – с одинаковою основательностию. В десять часов утра мы съехались, раскланялись друг другу с возможною любезностию, и между тем как секунданты отошли в сторону торговаться о шагах и осечках, противник мой, видно по пословице: утро вечера мудренее, подошел ко мне ласковый, тише воды, ниже травы.
– Мне кажется, капитан, – сказал он мне, – нам бы не из-за чего ссориться.
– Без всякого сомненья, нам не из-за чего ссориться, но драться есть повод, и весьма достаточный: я обижен вами как человек, как русский и как офицер; пули решат наше дело, – отвечал я.
– Но как решат, капитан? Убитый будет всегда виноват, а убитым можете быть и вы.
– Что ж делать, м<илостивый> г<осударь>? Я ль виноват, что в вашем свете право заключено в удаче? Убьют так убьют! Меня повезут тихомолком на кладбище, а вы поедете в театр рассказывать в между действии о своем удальстве.
– Вы говорите об этом по преданию, капитан. Нынешний государь не терпит дуэлей; и если кто-нибудь из нас положит другого, ему отведут келью немного разве поболее той, в которую опустят покойника. Подумайте об этом, капитан!
– М<илостивый> г<осударь>! обидчик вы, а не я; ваше дело было подумать о следствиях прежде, чем так дерзко шутить насчет другого!
– Но я вовсе не полагал, что вы знаете по-французски: вы сами сказали, что не говорите на этом языке.
– Значит, вы, м<илостивый> г<осударь>, плохо знаете русский язык, когда слово «не говорю» принимается за «не понимаю»!
– О! что касается до русского языка – я предаю вам его целиком! Мне вовсе неохота ломать копье за мадам грамматику; а так как я вижу, что вы благоразумный и достойный человек, капитан, то за удовольствие сочту кончить все по-приятельски.
– Благодарю за приязнь, м<илостивый> г<осударь>; я не имею привычки дружиться под влиянием пуль или пробок! Мы будем стреляться!
– Если за этим только стоит дело, – мы будем стреляться; но как философы, как люди повыше предрассудков – так, чтобы и волки были сыты и бараны целы. Послушайтесь меня, – примолвил он тихо, отводя меня в сторону, – я знаю, что я не совсем прав; но разве и вы не виноваты?.. Вы можете принять, что я говорил о вас заочно, а заочно и про царей говорят!.. Я с своей стороны будто не слыхал чего-то резкого, вами в лицо мне сказанного. Сделаемтесь же как многие сделываются. Выстрелим друг в друга, но так, в сторону, мимо, понимаете? Об этом никто не будет знать: можно надуть даже самих секундантов. После выстрела я попрошу у вас извинения – и дело в шляпе, и шляпы на головах. После все станут кричать: вот истинно храбрые, благородные люди; один умел сознаться в своей ошибке, а другой остановиться впору. Конечно, я мог бы попросить извинения и раньше; но извиняться перед дулом пистолета – это как-то нейдет, не водится; пожалуй, иной злословник скажет, будто я струсил, – а я дорого ценю свою честь!.. Итак, по рукам, любезный капитан!
Не можешь себе вообразить, какое глубокое презрение почувствовал я, видя столь бесстыдное хвастовство, прикрывающее столь расчетливое унижение; и в ком же? В человеке, который по привычке, если не по духу, должен быть храбрым или по крайней мере для мундира, если не для лица, храбрым казаться! Не могу верить, говорил маркиз Граммон, чтобы Бог любил глупых90. Не хочу верить, говорю я, чтобы женщина могла любить, а мужчина уважать труса. Я так взглянул на него, что он потупил глаза и покраснел до ушей. Не сказав ни слова, указал я ему на секундантов: они приближались с готовыми пистолетами; мы сбросили плащи и стали на тридцать шагов друг от друга, каждому оставалось пройти по двенадцати до среднего барьера. Марш.
У меня секундантом был один гвардеец, премилый малый и прелихой рубака… В дуэлях классик и педант91, он проводил в Елисейские поля и в клинику не одного как друг и недруг. Он дал мне добрые советы, и я воспользовался ими как нельзя лучше. Я пошел быстрыми широкими шагами навстречу, не подняв даже пистолета; я стал на место, а противник мой был еще в полудороге. Все выгоды перешли тогда на мою сторону: я преспокойно целил в него, а он должен был стрелять на ходу. Он понял это и смутился: на лице его написано было, что дуло моего пистолета показалось ему шире кремлевской пушки, что оно готово проглотить его целиком. Со всем тем стрелок по ласточкам хотел предупредить меня, заторопился, спустил курок – пуля свистнула – и мимо. Надо было видеть тогда лицо моего героя. Оно вытянулось до пятой пуговицы.
– Прошу на барьер! – сказал я ему; он не слышал, он стоял как алебастровый истукан. Наконец секунданты подвели его к барьеру; и так силен предрассудок над духом, не только умом слабых людей, что он выискал в стыде замену храбрости и принудил себя улыбнуться в тот миг, когда бы со слезами готов был спрятаться в кротовую норку, придавленную его пятою. Секундант с дипломатическою точностию поставил его боком, с пистолетом, поднятым отвесно против глаза, для того, говорил он, чтобы по возможности закрыть рукою бок, а оружием голову, хоть прятаться от пули под ложу пистолета, по мне, одно, что от дождя под бороной. Это плохое утешение для человека, по котором целят на пяти шагах, и как ни вытягивался противник мой, чтоб наименее представить площади пуле, но если б он превратился даже в астрономический меридиан, все еще оставалось довольно места, чтобы отправить его верхом на пуле в безызвестную экспедицию. Я два раза подымал пистолет и два раза опускал его поправить кремень, наслаждаясь между тем страхом хвастуна; наконец мне стало жаль его, или, прямее сказать, он стал мне так презрителен, что я подумал: «Для таких ли душ изобретал порох Бартольд Шварц, а Лепаж тратил свое искусство?»92 – отворотился и выпалил на воздух. Противник мой чуть не запрыгал от радости и схватил бы меня за руку, если б я не спрятал ее в карман.
– Господа! – сказал он, обращаясь к секундантам, – теперь, выдержав выстрел (ему следовало сказать: «выслушав выстрел»), я долгом считаю просить у моего противника извинения… то есть прощения, – примолвил он, заметив, что мой секундант принялся снова заряжать пистолеты. – Я был, точно, виноват перед ним, – довольны ли вы этим? Что ж до меня касается, то отныне я стану говорить всем и каждому, что г. Правин самый храбрый и благородный офицер.
– Жалею, что не могу ответить вам тем же, – сказал я своему противнику. – Господа! благодарю вас… Прощайте!
– Лихо! – сказал мой секундант, влезая за мной в карету. Она помчалась в город.
С.-Петербург.
В Кронштадт.
Перевяжи узлом мой брейд-вымпел93, любезный друг, опусти его в полстеньги, вели петь за упокой моего рассудка, – приказал он долго жить! Его стоит выкинуть теперь за борт, как пустую бутылку. Да и какая бы голова устояла против электрической батареи княгини Веры? До сих пор мне казалось, что привязанность моя к ней – одна шалость; теперь я чувствую, что в ней судьба моей жизни, в ней сама жизнь моя. Сначала в воображении моем любовные узлы путались со снастями; еще фрегат наш заслонял порой милый образ своими лиселями[258] и бурное море оспоривало владычество у любви; теперь же все соединилось, слилось, исчезло в княгине; не могу ничем заняться, ничего вообразить, кроме ее: все мои мечты, все страсти мои скипелись в три магические буквы: она. Это весь мой мир, вся моя история. Но что я рассказываю, но кому говорю я! Может ли бесстрастный человек постичь меня, когда я сам себя не понимаю! Можешь ли ты, со своим медным секстаном94, со своими вычислениями бесконечно малых, охватить это новое, лишь сердцу доступное небо, определить быстроту и путь этой реющей по нем кометы! По крайней мере ты можешь пожалеть меня, своего друга, – меня, который не завидует ничему в обеих жизнях: ни венку гения на земле, ни крыльям серафимов в небе, ничему, кроме взаимности Веры. О! если б ты видел теперь мое сердце и если б ты был способен к поэзии, ты бы сравнил его с Мильтоновым Эмпиреем, оглашенным битвою ангелов с демонами!..95 Оно – да нет у меня слов выразить, что такое переполняет, волнует, взрывает его!! Может ли сказать какой-нибудь путешественник-денди, скрипя табакеркою, выточенною из лавы: «Я знаю, что такое лава!» Вот мое письмо – вот мое сердце. Не станем же переводить высокое на смешное, не станем точить игрушек из молнии. Но могу ли не говорить о ней, когда о ней одной могу я думать! Очень знаю, что мое болтанье для тебя несноснее штиля, скучнее расходной тетради офицерского стола, где все страницы испещрены рифмами: водки – селедки, шпеку свиного – уксусу ренссового и тому подобными, – но если ты не хочешь, чтобы друг твой задохнулся от сердечного угара, то читай волей и неволей, что я неволею пишу.
В самый день моего глупого поединка я поскакал к княгине, несмотря ни на какие приличия. Мне хотелось показать ей, что я жив, что я не трус, ибо мысль показаться трусом в глазах всякой женщины была бы для меня нестерпима, а в ее глазах вовсе убийственна. Колокольчик прозвенел.
– Княгиня в саду, княгиня изволит прогуливаться.
– С кем?
– Одна-с!
Бросаюсь туда опрометью; сердце бьет рынду[259]; замечаю ее на траверзе[260] и прямо прыгаю к ней наперерез, через цветник; встречаюсь, – и что ж? Останавливаюсь перед ней без слов, без дыхания… В глазах у меня кружилась огненная метель, а язык будто растаял. Бездельная опасность протекла между нами, как долгие лета разлуки, и уже сколькими чувствами надо было поделиться, сколько променять рассказов! Я был так рад и так смущен, что забыл скинуть шляпу. Хорош был я, нечего сказать; зато и она была не лучше. Румянец пропадал и выступал на белизне ее щек попеременно; она протянула навстречу ко мне руки, она готова была вскрикнуть от изумления, заплакать от радости – да, да, от радости! Это не была мечта самолюбия. Сладостна, неизъяснимо сладостна была для меня эта немая сцена; отрадно это лицо, горящее ко мне участием, – и все исчезло вмиг, подобно туману, который принимаешь иногда за берег: дунет ветер и спахнет обетованную землю!
Княгиня оправилась; никакого выражения, кроме обыкновенного участия, не осталось на ее лице. Боже мой, что за хамелеон светская женщина!
– Как я рада вас видеть здоровым и невредимым, капитан, – сказала она мне. – Скажите скорей, как вы кончили вашу ссору с NN! Где он? что с ним сталось?
– Я оставил его на месте, – был ответ мой: я был уколот ее участием к моему противнику.
– Бог мой! вы убили его! – вскричала княгиня.
– Успокойтесь, княгиня, он будет долголетен на земле. Я оставил его здоровее, чем прежде поединка.
– Но зато сами стали менее прежнего добры: вы испугали меня. Сколько раскаяния дали бы вы самому себе, сколько слез родным, если б его убили. Поверите ли, что я вчуже не спала целую ночь: мне все представлялись кровавые сцены поединка и страшные следствия его для вас.
– Ценою вашего сожаления, княгиня, готов бы я купить самое злейшее несчастие и, что еще более, не роптать на него. Но не только участие – ваше мнение ценю я так высоко, что поспешил сюда нарочно: рассказать, как было у нас дело. Я уже довольно знаю свет и уверился, что он злобно осуждает дерзающих вступить в заветный круг его, – я хочу предупредить толки злоречия. Пусть другие говорят обо мне что угодно, лишь бы вы, княгиня, лишь бы вы одни худо обо мне не думали.
Я рассказал ей дуэль нашу. Я кончил… Она молчала… В глазах ее, обращенных к небу, блистали две слезы, лицо горело умилением; какое-то нектарное пламя протекло, облило мое сердце… Я сам готов был плакать, бог знает отчего; я жаждал упасть к ногам ее, распасться в прах у милых ног; я не дерзал и думать целовать их; мне довольно было бы прильнуть устами к следу ее стопы, к краю ее платья, – и я не смел того! Я был уже слишком счастлив ее присутствием, слишком несчастлив моими желаниями, я был просто безумен, друг мой! Но за этот припадок сумасшествия я бы отдал всю мудрость веков и все собственное благоразумие! К нам приближались. Княгиня встала, закрыла на миг рукою глаза и потом, краснея, приподняла их.
– Вы не будете вперед играть так своею жизнию, – сказала она, – я требую этого, обещайте мне это.
– Вы заставите меня любить жизнь, – отвечал я, – вы… – я не сумел сказать ничего лучше; я не смел сказать ничего более. «То-то простак! – скажет какой-нибудь ловлас. – Потерять такую драгоценную для признания минуту».
Пусть так… минута эта была потеряна для любви, но не для сердца… Глаза наши встретились, – о, она меня любит, она любит меня!!
С.-Петербург.
II
В кругу молодых повес и полустарых петербургских степенников всех более понравился Правину бывший секундант его, ротмистр Границын. Как представитель нашего военного дворянства, он стоил изучения, потому что крайности рисовались на его нраве резкими чертами. Правин нашел в нем и более и менее, нежели ожидал. Богат, и в долгах по маковку, и за редкость с рублем в кармане. Умен, и вечно делал одни глупости. Вольнодумец, и трется в передних без всякой цели. Надо всем смеется, а не смеет ничем пренебречь; всех презирает, и все им помыкают. Храбрейший офицер, и не имеет довольно смелости, чтобы иному мерзавцу сказать «нет!» Благороден в душе, и, краснея, бывал употреблен на недостойные поручения, участвовал в постыдных шалостях; одним словом, человек без воли. Существо, которое в светской книге животных значится под именем «добрый малый» и «лихой малый» – название самого эластического достоинства, как резиновые корсеты: оно для неразборчивого нашего племени заключает в себе всякую всячину, начиная с людей истинно благородных и отличных до игрока, поддергивающего карты, и виртуоза, подслушивающего у дверей, – терпимость истинно христианская, достойная подражания. Пускай себе возятся французы да англичане со своим общим мнением: мы и без этого рогаля живем припеваючи.97
Со всем тем любопытно, если не приятно, бывало рассидеть с ним вечер или присоседиться к нему за обедом. Где не был, чего не видал он? Хотя по привычке он большую часть жизни промаячил с пустейшими людьми, но он мог ценить живой ум в других и случаем читывал дельные книги. К привязчивому, чтоб не сказать наблюдательному, духу от природы прижил он невольную опытность. Он недаром проел с приятелями свое именье, недаром отдал женщинам свою молодость. От обоих осталась у него пустота в кармане и душе, а на уме – едкий окисел свинцовой истины. Им-то посыпал он щедрою рукою все свои анекдоты о походных проказах, все россказни о столичных сплетнях. К чести Границына прибавить надобно, что он был самый откровенный болтун и самый бескорыстный злоязычник. За душой у него не схоронится, бывало, ни похвала врагу, ни насмешка приятелю, и часом он беспощадно смеялся над самим собою. Иной бы сказал: «Это апостол правды», другой бы назвал его кающимся грешником; третий произвел бы в Ювеналы98 – бичеватели пороков! Он не был ни то, ни другое, ни третье. Не хотел он сам исправляться, не думал исправлять ближних, зато не думал и вредить им. Он был твердо убежден, что там, где ценится лишь наружность добродетелей, не укор скрытые пороки; а потому злословие есть лишь гальваническое средство99 пробуждать смех в притуплённых сердцах. Этим исполнял он невольно наклонность нашего времени – разрушать все нелепое и все священное старины: предрассудки и рассуждения, поверья и веру. Век наш – истинный Диоген: надо всем издевается. Он катил бочку свою по распутиям всех стран, давя ею цветы и грибы без различия. «Не заслоняй солнца, не отнимай того, чего дать не можешь», – гордо говорит он македонскому Дон-Кихоту, и потом освистывает Платоново бессмертие100, и потом с циническим бесстыдством хвастает своею наготою. Люди ныне не потому презирают собратий, что себя высоко ценят, напротив, потому, что и к самим себе потеряли уважение. Мы достигли до точки замерзания в нравственности: не верим ни одной доблести, не дивимся никакому пороку.
Но, слава Богу, не все таковы. Есть еще избранные небом или сохраненные случаем смертные, которые уберегли или согрели на сердце своем девственные понятия о человечестве и свете. Издали жизнь им кажется заветным садом, и они с неизъяснимым любопытством читают на воротах Дантову надпись: «Per me si va nella citta dolente!»[262]101 – и думают: «Как жаль, что я не знаю по-итальянски: я бы разгадал эту заманчивую загадку».
Таков был Правин. Из корпуса он перешел на палубу102, и как прежде каменная стена граничила его ребяческий мир, теперь его миром стал безграничный океан. Он хорошо узнал нрав моря, но где мог узнать характер людей? Знакомо ему стало лицо неба: по малейшему его румянцу, по малейшей морщинке облачной предугадывал, предсказывал он все прихоти погоды, – но лицо женщины… о, это да каждой минуте приводило его в замешательство, ставило в тупик. Какое-то темное, но верное чутье говорило ему: «Не верь и половине того, что говорят и выказывают люди», но вот вопрос: которой половине не верить? Явившись в свет с твердым сомнением, с решительным намерением быть настороже от всех и от всего, таял он от первого, казалось, душой затепленного взора, готов был отдать последнюю пуговицу, не только денежку, за квакерское пожатие руки103. Зная страсти и обязанности только по слуху или из редких романов, им читанных, он загорелся любовью как от молнии, предался ей как дикарь, не связанный никакими отношениями. Океан взлелеял и сохранил его девственное сердце, как многоценную перлу, – и его-то, за милый взгляд, бросил он, подобно Клеопатре, в уксус страсти104. Оно должно было распуститься в нем все, все без остатка. Следя свою звезду-княгиню повсюду, он не мог уже снести уединения, которое прежде было ему так сладостно; уединение стало ему одиночеством, и он кинулся в рассеяние. Быть с нею или не быть с собой – вот мысль, которая овладела им, и он начал посещать гульбища, театры, гостиницы.
В один из таких дней он сошелся, в одном из лучших трактиров столицы, с ротмистром Границыным. «А, дружище!» Сели за обед рядом; слово за слово, бокал за бокалом – языки разгулялись, и сердца зашипели, словно шампанское. «За Балкан, за Саганлуг! за Варну, за Ахалцих!105 за счастье России, за славу царя!» Было тогда чем пить, было и за что пить.
– Ну, теперь череда за женщин, за прекрасных петербургских дам! – сказал Границын Правину. – Не знаю, право, почему, только искони, где слава, тут приплетаются и дамы; уже не за тем ли разве, что сама слава – женщина? Итак, pro teterrima causa omnis belli[263]106. Я страх люблю этот английский тост: «I like the women too, forgive my folly»[264], – как говорит Байрон107. Amour aux dames, honneur aux braves[265]. Черт меня возьми! Шампанское – славный самоучитель: оно свой язык вяжет, а чужим учит!.. Я, право, скоро стану язычником, как Иосиф Сенковский: Алла верды![266] Пей же скорее, amico diletto[267]: шампанское выдыхается так же скоро, как и добродетель женщины!
– Ты опять принялся за свою старую песню, неисцелимый грешник, – отвечал Правин, осушая бокал до капли. – Видно, брат, укололся шипами, а бранишь розы.
– Шипами! шипами строгости небось? Ха-ха-ха! да ты презабавный чудак, mon cher[268]: ты своим простодушием не испортил бы ни одной классической комедии, в которой все ваши братья моряки одного набора и одного разбора. Клянутся громом да молнией и пьют пунш вприкуску со здравым смыслом. Шипы у тафтяных роз! Ха-ха-ха! да этаких диковинок не показывал в Петербурге сам Пинетти108. Впрочем, не думай, пожалуйста, будто я хочу хвастать тебе победами, как пехотный подпоручик, и божиться по киевским святцам, что нет такой дамы, которая б устояла против огня сильных моих очков и гармонии серебряных шпор!! Удача, с одной стороны, прихоть, с другой – случай, и если мне подчас доставалось веером по пальцам, из этого следует только, что я не был счастлив, не то, что они были неприступны.
– Границын! помни, что унижение паче гордости!
– Испытай сам, увидишь. Стоит тебе раз попасть в оглашенные с какою-нибудь модницею, так расхватят по пуговкам. В этом, правда, чаще всего удается дуракам; но ведь у тебя, слава Богу, на лбу не написано: «Здесь живет разум!» Притом же моряк в обществе редкость и новинка. Иная красавица возьмет тебя из любопытства, чтоб увериться, не кусаешься ли ты. Другая – чтоб похвастать любезным земноводным, которого надобно держать на розовой ленточке, чтобы не юркнул в воду. Не теряй поры, Правин: я предсказываю тебе легкие победы!..
– Та беда, что я до легких побед не охотник.
– Бери вещи, как они плывут, а не как издали кажутся… Нам не перестроить на свой лад света; пристроимся же мы к его ладу. Да и правду сказать, для меня смешна эта рыцарская любовь, которая чахла, глазея на окошко своей Дульцинеи. Бог создал мир и человека в шесть дней, а мы станем любить вечно! Это что за известие! Любовь – весна сердца, но у весны много цветов… рви же розы и ландыши. Хорошо бордо в пол-обеда109, но теперь лучше эперне…110 Посмотри на эту пену; это светская любовь, mon cher, – она резва и сладостна, но она мгновенна, – пей ее на полету!
– Я не понимаю тебя, Границын. Ты потчеваешь меня светскими радостями, как будто бы они у тебя в погребу, как будто б мне стоит только ототкнуть пробку, чтоб они полились рекою.
– Славно, милый; право, славно! В тебе будет прок. Сперва у тебя не было и охоты, а теперь уж недостает только возможности. Вот тебе правило: смелость берет города… Я уверен, что тебе недолго носиться с пустым сердцем, как с сумою по миру… Столичные дамы такие добрые, такие чувствительные, а ты так свеж и занимателен что грех заставить вздыхать понапрасну.
– И ты говоришь о подобных связях так легко и равнодушно, будто о трюфелях…
– Да неужели ты думаешь, что они для модного света важнее, чем трюфели? Разуверься, mon ami![269] Наше воспитание обстригло у страстей ногти, и потому они мало опасны. Девушки у нас расчетливы на женихов; дамы осторожны с любовниками; ни те, ни другие не захотят себя компрометировать; но разогни у последних молитвенник – и ты увидишь науку любить в переплете под крестами. Да я их за то и не виню. Откровенно говоря, смех и горе, как у нас совершаются свадьбы! Мы торопимся жить, а жениться опаздываем: всякий хочет добиться до штабских или генеральских эполетов, чтобы дороже перепродать их по рядной записи. Невеста идет в придачу к приданому, а как сочтутся на деле – смотришь, у невесты недочет душ, у жениха даже тела. И вот наш его высокоблагородие или его превосходительство, которому уже в семнадцать лет незачем было ездить в Египет за разгадкою таинств природы, изволил жениться. Жена у него профессор туалетного богословия. Рукава пуф с новоизобретенным механизмом; носки башмаков тупее ума графа Сивича! Шаль продень сквозь кольцо, но вряд ли саму ее вденешь в ухо. Она скачет верхом и стреляет влет; она играет и поет, только песни ее не всегда под голос мужа. Хороша ли, нет ли она собой, но она молода, она желает нравиться и наслаждаться, она умеет спрягать глагол «я хочу» не хуже г-жи Линьёль111; а что находит она в благоверном своем супруге? Под сукном да ватою – завернутый фланелью барометр, наполненный сладкою ртутью. Находит усталого, чахлого человека, который по утрам кашляет, целый день зевает и каждый вечер скучает или докучает. День-деньской он на службе, а ночь в гостях: или играет до утренних петухов, или хочет победить питухов за бокалом; он весь век будто маятник между бутылкой бургонского и стклянкой с лекарством112. Хорошо еще, если он не отправляется тратить случайную искру веселости и здоровья с какой-нибудь актрисой. Таковы, брат, все мы. гуси; чего же тут ждать доброго! Жена поневоле станет бегать из дома: там пахнет пустотою! Кончается тем, что дом ее будет в ложе первого яруса, отечество – в английском магазине, а рай – на балу… Глядь… молодежь увивается около нее, словно хмель, и вот какой-нибудь краснощекий франтик приглянулся ей более других. Рассыпается он в объяснениях мелким бесом, – насчет ума наши дамы неприхотливы, и если запоздает почта из Парижа, принимают и вывороченные доморощенные нежности. Клянется он так, что ведьмы крестятся от ужаса, и нередко, проигравши и прогулявши всю ночь напролет, уверяет, что бледен с отчаяния от ее жестокости. Она, разумеется, ничему этому не верит, но с должным для чиновной дамы приличием, с ноги на ногу идет навстречу к обману, для того чтоб при случае броситься в кресло, закрыть платком глаза и сказать: «Вы, сударь, камень, вы, сударь, лед, вы злодей, вы меня обольстили!»113 Ну долго ли до беды! хоть беды в том я никакой не вижу. А Мефистофель тут как тут с своим носом. Он, скаля зубы, уже готовит его превосходительству рожки самой лучшей работы – точеные и позолоченные.
– Ты клевещешь, – вскричал Правин, – ты сочиняешь из головы злые пасквили на общество! Я недавно трусь между вами, однако же не заметил и тени, не только следа, того разврата в нравах, какой ты проповедуешь. Мне кажется, напротив, петербургские дамы чересчур щекотливы и недоступны.
– Нет, mon cher! – вскричал проказник Границын, поперхнувшись от смеха, – ты из рук вон! Уж не служил ли ты, полно, под командою первого адмирала, Ноя114, гардемарином? С твоею допотопною простотою не уйдешь ты у женщин далее гостиной: я тебе пророчу это. Верить щекотливости и недоступности здешних дам – так верить всякой эпитафии. Правда, потемкинский век миновал для любовников, но не для любви. Теперь дама не краснеет приехать на бал с мужем или поцеловать его в лоб при многих, а с кавалером сервенте своим115 говорит о разводах, о семипольном засеве и о Викторе Гюго. Но утешься, милый: Купидон возьмет свое. Она знает, что хромоногий бес не снимет кровли с ее будуара116, что замок ее спальни, чуть тронутый, наигрывает «Reveillez-vous, belle endormie»[270] и что нескромный взор не упадет на трюмо, перед которым она примеривает или поправляет пелеринку у своей marchande de modes[271]. Благодаря европейскому просвещению и столичному удобству у нас все репутации так же круглы и белы, как бильярдные шары, по какому бы сукну они ни катились.
Доброе, чистое сердце Правина сжалось, внимая этой холодной повести о пороках общества, украшенных столь блестящею личиною смиренства.
– В самом деле, – молвил он с горькою улыбкою, – я знал не более устрицы о нравах света в корабле своем! Я постигаю в женщине слабость; могу представить, что страсть может увлечь ее; но поместить в свою голову мысль об этом глубоком, расчетливом, бесстрастном разврате – это выше сил моих! Я видел в Турции одну баядерку: она вынула из-под подушки своей вески и медленно взвешивала предлагаемые ей червонцы, надбавляя цены, глядя в очи путника. Не так ли взвешивают твои дамы сердечную забаву, бросая в другую чашку возможность скрыть ее! Они берут оброк и с титула добродетели – уважением и с сущности порока – наслаждениями. О свет, свет! ты даже из самой невинности делаешь новый порок, заставляя порочных быть самозванцами и скрываться под краденым у тебя платьем!
– Ты напрасно горячишься, – возразил ротмистр. – Лицемерие есть невольная дань нравственности, а всякая дань – узда. Нередко знатные дамы обязаны сохранением своего имени без пятна мелочному расчету не запятнать своего платья, и я уверен, что китовые усы в старину сохранили более браков, чем в наше время разорвали их гусарские усы. Пускай же плетут пустые люди кружева из песку, называемые модою; пускай себе старушки в чепцах и фраках с важностию рассуждают о лучшем способе чихать за обедней и кланяться на выходах: без этих вздоров лучшее общество сгнило бы, как Пресненские пруды. Не бывать в лохани бури, так ему надобно мутовка. Впрочем, будем беспристрастны, mon cher. Слова нет, свет очень развратен, но совершенства, слава Богу, нет и в этом. Природа – великое дело. Она хоть и не смеет горланить в гостиной, как в трагедии, но в тиши кабинета обращает в свою веру многих. Бывает, что связь, начатая минутною прихотью, очищает огнем своим сердца и переливается в долгую, бескорыстную страсть, готовую на все жертвы, выкупающую все заблуждения, страсть, которая бы сделала честь любому рыцарю средних веков и любому человеку во всех веках. Я, не верующий ни в невинность мужчин, ни в верность жен, я сам…
Границын глубоко вздохнул и умолк в раздумье… перед его очами носились образы милые, но укорительные…
– Да, – молвил он печально про себя, – да, я ее не стоил!..
– Послушай, Границын, мне жаль тебя, – с чувством сказал Правин, – и я не могу понять, как, проповедуя против пороков не хуже Саллюстия117, ты пляшешь по дудке – не говорю уже как Саллюстий, но как Репетилов в «Горе от ума»!
– Таковы все мы, рожденные на границе двух веков, милый мой; восемнадцатый нас тянет за ноги к земле, а девятнадцатый – за уши кверху. Не разберешь, право, что мы такое? ни рыба ни мясо, ни Европа ни Азия. На прошлое мы недоумки, в настоящем недоросли, а в будущем недоверки, чуть ли не Spottgeburt aus Dreck und Feuer[272]118. Животным привычкам нашим любо валяться в грязи-матушке; но ум уж проснулся; ум просит поесть и хочет разгрызть орех современного просвещения, да жалуется, что у него болят зубы от свекольного сахару.
Правин был недоволен оборотом разговора. Макиавель и Купидон – заклятые враги друг друга119. Ему хотелось получше изведать море, называемое женщиною; а когда он думал о женщинах вообще, это значило, что он разумел в особенности княгиню Веру. И вот он искусно свел разговор на прежнее.
– Неужели, – сказал он Границыну, – развращение столичное так всеобще? Неужели не найти дамы, на чье доброе имя, как на этот хрустальный бокал, не всползти ни одному червяку злословия?
– Я не обер-полицеймейстер, милый друг; мне ведь не подают списков о числе рогатого племени в столице. Буало насчитал в Париже до двух Лукреций120, Пушкин в целой России не находит трех пар стройных ножек121, – я принимаю то и другое за клевету, и хотя суровые сердца должны быть реже, нежели маленькие следки, со всем тем я в самом Петербурге назову тебе более дюжины верных супруг.
– И, верно, в числе их поместишь жену Мирона Ильича Н. и княгиню Веру, жену князя ***?
Произнося, однако ж, последнее имя, Правин покраснел как маков цвет. Первая любовь не может равнодушно слышать любимого имени, не может без замешательства произнести его.
– Про первую ничего не скажу, и этого уж довольно к ее чести, а другая московская звездочка – гм! она так недавно блеснула на петербургском горизонте… она еще в медовых месяцах супружества, – где ей просветиться! где успеть злословию подстеречь ее, если б что и было?
Лицо Правина прояснело.
– Если б что и было! – молвил он. – Никогда и ничего не может быть.
– Ты не член ли страхового общества, Правин? – насмешливо возразил ротмистр. – Смотри, друг, обанкрутишься, если принимаешь на поруки такие ломкие вещи. Важное слово «нет», а «не может быть» еще важнее. Постой-ка, дай Бог памяти… княгиня Вера?., гм!! князь Петр!., он толст и прост, она красавица и мечтательница… скорее соединишь масло с шампанским!.. Ну, я раскину словно на картах… между ними улегся какой-то червонный валет – это дипломат-поэт, кудрявый архивариус Коллегии иностранных дел. Этот поэт ищет себе напрокат вдохновения и пожаловал, кажется, княгиню в музы. Слепой разве не заметит, как увивается он около нее, как оборачивается следом за нею, будто подсолнечник. Куда бы княгиня ни явилась, он как гриб из-под земли вырастает; ни дать ни взять, сказочный сивка-бурка, вещий каурка. На бале у австрийского посланника он напевал ей что-то на ухо в продолжение высокосного котильона122: вероятно, читал седьмую главу «Онегина»! Ну, пускай мне первый мой враг скажет: «Comment vous portez-vous?»[273] – в глаза, если между ними чего-нибудь не заводится. Я старый воробей: меня, брат, не озадачат никакие маски.
– Его имя? – заботливо спросил Правин.
– Ты знаешь его в лицо, не только по имени; да если и не знаешь, так заметишь с первого взгляда, когда найдешь их вместе. Один разве бесстрастный муж или страстный влюбленник может быть так слеп, чтоб ничего тут не видеть.
– Его имя? – с бешенством повторил капитан. Кровь его кипела.
– Иероним Ленович.
Как шпага, пронзило это имя сердце Правина, и на него низались уже в его памяти тысячи вероятий, тысячи сомнений. Да, точно, он сам видел их умильные взоры!.. Правин уже не слыхал более, что говорил товарищ. Сердце его дрожало, будто в лихорадке, кровь то стыла, то жгла его… невнятный ропот исчезал на губах. Он пожал Границыну руку, бросил на стол ассигнацию и, не ожидая сдачи, вышел, поскакал домой. Отрывчатые восклицания и мысли сталкивались.
– Так молода и так коварна! – говорил он. – И к чему было обманывать меня сладкими речами и взорами? зачем манить к себе?.. Или она хочет забавляться, дурачить меня? держать вблизи вместо отвода? Меня дурачить! Нет, нет, этому не бывать! Скорей я стану ужасен ей, чем для кого-нибудь смешон… И кто бы мог подумать, кто бы!.. Впрочем, быть может, все это вздор, зависть, пустые сплетни… да и что мне до этого?.. чем я привязан к ней, чем она мне обязана? А хотелось бы узнать, однако же, истину – так, из одного любопытства, – я бы посмеялся ей… я бы заставил ее плакать кровью!!. Но как добраться до открытия в городе, в котором редкий муж дерзнет поклясться, целуя жену свою вечером, что целует ее сегодня первый, где потому только все невинны, что в истинной невинности можно усомниться, а истинной вины нельзя доказать.
И сон не освежил Правина. Под изголовьем его шевелились ревнивые мечты, – и сколько насмешек наготовил он для первой встречи с княгинею Верою, для первой сшибки с ее угодником!
– Дай только мне увидеться с нею… – говорил он, скрежеща зубами.
И всему этому виной были слова Границына, слова, основанные на пене шампанского и на желчных догадках болтуна. Бегите, юноши, встреч, не только дружбы с подобными людьми! Они безжалостно обрывают почки добрых склонностей с души неопытной; они жгут и разрушают в прах доверие к людям, веру в чистое и прекрасное; боронят пепел своими правилами – и засевают его солью сомнения.
Август 1829 года, в Кронштадт.
Еду, еду к вам, завтра же еду, любезный Нил! Да и что мне делать в этом Петербурге, в этой столице «раскрашенных снегов»[274], как говорит Байрон123. Да и какой безумец выдумал влюбляться, да и какой лукавый дернул меня за полу полюбить светскую даму?.. Любить! любить! Как дико звучит это слово в свете! Отголоски, будто в пещере, повторяют много раз: «любить», – но кто отвечает вам? Камни… хуже, чем камни, – пустота! Содрогаюсь от негодования… И я мог думать, мог верить, что любовь может уютиться в сердце, слепленном руками света! Безумец! безумец! скорее найдешь сочувствие в раззолоченном яичке для детей, на котором снаружи написаны нежности, в середине насыпаны сладости, а все вместе – дерево, крахмал и сусальная позолота. Но что говорить о том, чего не воротишь! Не возвратится и любовь моя. Поздравь меня, Нилушка, я здоров; я сбросил с себя страсть к княгине Вере вместе с модными побрякушками. Теперь, чем скорее в море, тем лучше. Земля, кажется, горит подо мною, горит и сердце, – и лишь в туманах океанских погашу я его!
Поговорим о деле. Ты пишешь, что Адмиралтейство не дает довольно мастеровых и не отпускает хороших материалов, что во всем задержки и недопуски… Все это, все эти господа меня скоро взбесят: я буду жаловаться прямо начальнику штаба, или воображают они, что после грозы для них будет роскошнее сенокос?.. Пусть разубедятся в этом. Прошли уж те времена, когда корабельные мастера строили дома из мачтовых дерев и крыли их медною обшивкою… Теперь едва они спроворят себе на глаголь124.
Поставил ли ты козлы, чтобы переменить бизань?[275] Посадил ли в должный уклон бушприт?[276] Навесь десять, двадцать на него бочек с водою, если упрямится… я терпеть не могу бушпритов, которые задирают нос кверху, словно дежурный камер-юнкер. Для марсовых септоров[277] просил ты рисунка сеток. Долой их, сбрось совсем прочь и прежние. Эти узорчатые плетенки напоминают мне дамские кружева… на последнем бале княгиня была вся ими изувешена. Ты, пожалуй, скажешь, что, верно, я пришел туда, увидел, победил. Увидел и возненавидел ее, друг мой… Стоит рассказать тебе, как это было: может статься, для тебя это будет любопытно, а для меня как памятно! Чудом показалось тебе, что я ездил на бал; что же будет, когда я скажу, что ездил на бал незваный и в дом мне вовсе не знакомый; что я был там только из желания взглянуть на нее, и взглянуть неприятельски. Я уж писал к тебе о своих подозрениях: я жаждал или прояснить, или рассеять их, и долго напрасно. Не находил я ее дома, не встречал в городе. Наконец узнаю, что княгиня Вера отправилась на званый вечер за город, к графу Т. Как быть? Я там незнаком, туда не зван; нетерпение мое возросло до нестерпимости, ревность – до бешенства. Решаюсь хоть умереть, а взглянуть на нее. Сажусь в наемную карету и скачу на тринадцатую версту по Петергофской дороге. Приезжаю… вхожу… встречаю хозяина, – на дороге уже изобрел я предлог посещения: граф – страстный охотник до редких книг и обладает богатою библиотекою, – я прицепился к этому. «Простите, граф, флотскому чудаку неуместность его визита, но пусть необходимость извинит меня: я могу располагать только настоящею минутою и, проездом в Ораниенбаум, решился заехать к вам с просьбою. Вот в чем дело. Я пишу записки об истории мореплавания, а ваша библиотека знаменита в целой России; только у вас можно найти книги, редчайшие самых кладов, и между прочими, я знаю, что у вас есть в оригинале путешествие испанца Гвереры в Южном, океане125; а оно для моего предмета необходимо. От вас зависит крайне обязать меня, ссудив этой книгою для прочтения». Граф был доволен как нельзя более… цап меня под мышку и потащил в свою библиотеку. Скрепя сердце должен я был дивиться глупостям всех форматов, типографическим редкостям в ослиной и в телячьей коже, бесценным лишь потому, что их давным-давно никто не читает. Я чихал от пыли старины, я протирал себе глаза, я проклинал и книгопечатание и книгобесие, но хозяин этой кунсткамеры был неумолим и отпустил мою душу на покаяние не ранее как перещупав спинки всех своих диковинок. Наконец, вручив мне заветные сказки испанца, пригласил в танцевальную залу, – я только того и ждал. Закрыв шляпою сердце, точно как голубка, чтоб оно не выпорхнуло, пробирался я дальше и дальше. Прелестные личики мелькали мимо в бешеном вальсе, то оперенные, то расцвеченные, то осыпанные алмазами; но как в тысячах звезд назвал бы я звезду любимую, так издали и в толпе распознал я княгиню Веру… Никогда еще не казалась она мне так прелестна, так воздушна, так идеальна! Любовь проникла и осветила все ее существо: она горела в очах, дышала устами, пробивалась лучами сквозь все поры, – зачем измена может быть столь очаровательна!.. И вдруг я заметил, к кому обращены были ее очи, кто одушевлял ее такою необычною прелестию, – душа у меня превратилась в лед, а ум в уголь… ужасный миг!.. Итак, все, что мне говорено, все, что подозревал я, – правда! Итак, я потерял ее, не владев ею!.. Не замечая меня, она села рядом с вечным моим соперником; что-то говорила с ним вполголоса; оба они улыбались от удовольствия, и порой она задумчиво склоняла голову и глаза ее подергивались туманом мечты… О, как проклинал я тогда сладкозвучную музыку! Она мешала мне слышать разговор! она, казалось, раздирала мне слух и сердце. Кровь кипела в жилах растопленным металлом… Да избавит небо злейшего моего врага от мучений ревности, – какой еще ревности! которой я не имел права чувствовать и не смел показать; но мог ли я тогда владеть собою? Думаю, что лицо мое было страшно, потому что страшное совершалось в душе моей. В ту минуту, как они оба встали, чтобы вальсировать в свою очередь, когда она подала ему свою руку, я устремился, как тигр на добычу, я возник перед ней, как призрак-укоритель, – и я насладился ее смущением, я с улыбкою увидел, как погас ее взор, блиставший за миг яснее алмазов ее диадемы; видел, как поблек ее румянец, как замер льстивый голос на устах! О, сладка месть, сладка! Гомер недаром назвал ее страстью богов…126 Зачем же нельзя сказать того же о ревности? зачем же нету в ней, в этой адской страсти, ни одной отрадной капли, напоминающей небо!
Я отвратил мое медузино лицо от испуганной четы127 – и скрылся. Я мчался во весь опор… Катай, извозчик, удуши лошадей; пять, десять, двадцать рублей тебе на водку! Я летел; колеса жгли мостовую; я хотел закружить себя быстротой, упиться самозабвением, – напрасно! Чудные чувства бушевали в моей груди: то я давал полный разгул моему негодованию и смотрел на княгиню и ее Миловзора128 с ледяной вершины презрения. Стоит ли взора, не только вздоха, женщина, которую слепит мишура, пленяют пошлые каламбуры? Потом горячая, глубокая зависть проницала душу: я завидовал, и чему же! блистательной ничтожности светских любезников, их кукольной развязности, их птичьей болтовне с дамами, – мало этого: я завидовал приманчивому богатству глупца, связям мерзавца, даже искусству бездельника делать огромные долги, уменью игрока обыгрывать в карты, низости продавать себя дорого или учтиво грабить других – средствам, принятым у нас в число оптовой торговли душою, которые бы дали мне возможность часто быть с нею, дивить ее, блистать в обществе, в котором золото, какими бы путями ни было добыто оно, дает все права гражданства!.. Правда, такое унизительное желание пролетело сквозь меня вмиг, но пожалей меня, что оно могло пролететь даже мимо. О любовь, любовь! ты мать и мачеха душе человеческой! ты можешь ее возвысить до звезд и утопить в луже. Ты делаешь героев или злодеев из людей с могучею душою, честолюбцев или мерзавцев из людей слабых духом… Я ненавижу тебя, я проклинаю тебя, я срываю долой твои путы! и… о, слабость недостойная – я плачу над обломком своего ярма… Хорошо, если б я мог плакать, если б я мог еще рассуждать!
С.-Петербург.
III
Zwei liebende Herzen sind wie zwei Magnetuhren: was in der einen sich regt, mup auch die andere mit bewegen, denn es ist nur Eins, was in beiden wirkt – eine Kraft, die sie durchgeht.
Фрегат «Надежду» приказано было изготовить к осени для дальнего похода. Его ввели опять в гавань для перегрузки трюма, для перемены некоторых частей рангоута130 и стоячего такелажа. Командир судна, Правин, был уважаем, как офицер отличной храбрости и познаний, и ему дали средства украсить фрегат свой на щегольство, со всеми прихотями, доступными боевому судну: бронзу на винты каронад131, на решетки каютных люков, на кофель-нагели132, на поручни к трапам; дуб с резьбой и красное дерево по каютам. Терзаемый ядом ревности, Правин хотел деятельностью подавить тоску сердца и старою страстью заглушить новую. От зари до зари не сходил он с палубы, и ни одна безделка, ни малейшая подробность не ускользала от его внимания. Он все осматривал лично, все поправлял сам; своею привязчивостию он надоел даже Нилу Павловичу, а Нил Павлович сам был знаменит во флоте своею точностию.
– Слава Богу, – сказал однажды тот лекарю Стеллинскому, – наш Илья образумился: служба как рукою сняла с него дурь. Я недаром говорил, что распрысканная духами модница любовь убежит от смоляного духу как бес от ладану!
– Если она и убежала, так вовсе от другой причины, – возразил Стеллинский. – Капитана исцелили мои фумигации…133 Он вовсе не замечал в рассеянности, что я подмешиваю в его курительный табак лекарственные травы.
Но исцелился ли, полно, Правин?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Между тем работы кипели, вооружение росло не по дням, а по часам, и с ним вместе росло нетерпение Правина. «Скорей бы, скорей бы тянуться нам на рейд, и тотчас в море, и как можно вдаль от этого проклятого Петербурга! Вовеки нога моя не будет там!» – воскликнул он однажды, и через два часа Правин стоял уже над колесом бертовского парохода134, как будто считая каждый оборот его, шумно роющий воду. И вот г<осподин> капитан-лейтенант и кавалер Правин в столице. Да помилуйте, как ему и не быть в столице! На обсерватории у него поверяются хронометры; из Академии наук надобно ему получить ученые инструкции, из Адмиралтейства – новые карты, от начальника штаба – особенные приказания. Да и почему не остаться ему день-другой лишний? ведь не завтра поднимать якорь. У него же такой надежный помощник на фрегате!.. Мы чрезвычайно богаты на доводы, когда хотим потешить свою прихоть. Стоит только вздумать да загадать – за возможностью дело не станет.
Со все тем гордая решимость Правина: не искать, не видать княгини, была непоколебима. Мысли его, как улитковые линии, сходились всегда в одну точку, – и эта точка была она; зато сам он, будто ринутый средобежною силою, все далее и далее бродил от тех мест, где бы мог встретиться с нею. Правин был поэт в прозе, поэт в душе, сам того не зная; да и есть ли на белом свете человек, который бы ни однажды не был им? Вся разница в том, что один чаще, другой реже, один глубже, другой мимолетнее. Не одни величавые красоты природы поражали и пленяли Правина, нет, он горячо любил все произведения искусства, запечатленные поэзиею, в чем бы она ни проявлялась: в стихе, в смычке, в кирпиче, в бронзе – и там, где человек слил свои труды с природою, и в том, где перетворил ее по своему безотчетному идеалу. Любовь изострила в нем чувство изящного, и теперь чувство, выброшенное из русла, разливалось прямо из сердца на все предметы, одушевляло все его окружающее. Лоно вод дышало для него звуками грустными, но приятными; воздух веял словно дружеской рукою в лицо. Он находил новый, но знакомый смысл в книгах; схватывал сладостные переливы в стихах, которые незадолго казались ему беззвучными; занимательность сказалась ему в наличнике дома, в стреле колокольни, к столбе, в картине. Он иногда простаивал по четверти часа, любуясь какою-нибудь частью города, улицею, мостом, красивым домом. Он не замечал усмешек и толчков прохожих, благоговея перед монументом Петра Великого135; но всего более полюбил он бродить по великолепным комнатам дворца, известного под именем Эрмитажа… это было его наслаждение, его утешение. Там казалось ему, что он снова повторял свои путешествия, и образы мира на миг заслоняли от очей души образ ненавистный и милый. Он утихал, как дремучие болота Рюисдаля136, вдыхал свежесть ночей фан дер Неера137, летел с кораблем по желтому Немецкому морю фан Остада138. Портреты фан Дейка шевелились139, небо Рафаэля растворялось…140 Правин хотел удержать камни, летящие в св. Стефана Лесюерова141; врубался в ряды мидян с Пуссеном142; молился с блудным сыном Мурильо143. Прелестные личики улыбались ему, рыцари протягивали руки, сельский праздник манил к себе144. Шумная встреча штатгалтера тянулась мимо, и будто знакомые люди кивали из толпы головою, грозили перстом из окна145. Влево шумел черный лес Сальватора146, вправо плескалось бурное море Вернета147; люди, климаты, города, небеса, океаны во весь рост, во всю прелесть развивались, росли, смешивались, меркли. То был какой-то гармонический, но безмолвный танец образов, идей, веков; то был осязаемый микрокосм души человеческой, начиная с грязной вещественности Теньера до недосягаемой святыни Урбино148, – бесконечный как хаос, неясный как сны, уже готовые, но еще не виданные человеком.
Правин обжился, ознакомился с обитателями этого мира, в котором дремал он наяву. Но кроме бескорыстного наслаждения рассматривать зеркальные ширмы света, закрывавшие от него досадный настоящий свет, Эрмитаж привлекал его прямым отношением к его страсти. В комнатах, заключающих в себе музей Жозефины149, между прелестною Гебою и танцовщицею Кановы возвышается, его же резца, чета Амура и Душеньки150. Душенька эта была, ни дать ни взять, вылитая княгиня Вера. К ее-то подножию спешил Правин отдыхать от забот службы… Отдыхать? О, столько же отдыхает труженик на постели, усыпанной щебнем!! Нет, он спешил туда горевать наедине и высказывать подобию изменницы свои упреки, проклинать ее и восхищаться ею.
Вы, верно, видели эту прелестную купу, одно из лучших творений Кановы! Душенька, обнявшись с Амуром, любуется бабочкою, сидящею у нее на ладони. Высока так, как небо, чиста, как луч солнца, многоплодна, как самый климат Греции, была идея выразить сочетание души с телом, или юности с любовью, любовью Амура и Психеи. Но если группа Скопаса151 (поцелуй их) превосходна в отношении к искусству, в отношении полноты превосходнее группа Кановы. В той вы видите символ первобыта – страсть; в этой символ нашего времени – мысль. У современного нам художника идея жизни расцвела идеею бессмертия. Вглядитесь хорошенько в идеальные лица обоих любовников: под младенческую улыбку Душеньки вкралась уже неясная дума. Она еще усмехается рассказам своего милого, но уже мечтает о преображении, загадка эта уже томит ее. Напротив, ветреник Амур едва обращает внимание на бабочку – его глаза прильнули к Душеньке, будто бабочка к розе. Положение кисти левой руки, ласкающей плечо Душеньки, на котором она покоится, доказывает, что чувство для него сладостнее думы, а движение правой руки, кажется, молит уже: «Пусть она летит, эта бабочка!» Со всем тем мысль невольно бросила на лицо, на осанку обоих тень важности, в противоположность с отроческими их формами. Зато какая прелесть в повороте голов, какая нега в выражении лиц, какая легкость в постановке (pose), благородство в осанке! Пламенный резец Кановы размягчил в тело мрамор, но мысль дала жизнь этому телу, сделала его прозрачным и воздушным – одним словом, вдохнула в него душу.
Вереница других сравнений, других применений мелькала в воображении Правина. Как мало лет и как много происшествий, как много исторических лиц протекло у стоп этого мрамора! Перед ним, может быть, не однажды плакала развенчанная царица французов. На нее падал мимолетный как молния взор Наполеона, безумствующего о завоевании мира. На него смотрела толпа королей и полководцев – одни с рассеянностию пресыщения, другие с равнодушием невежества, многие с завистию: зачем это не мое! И где очутился этот мрамор из чертогов Тюельри? И потом, где те, которые любовались им так недавно и там и здесь? «Одних уж нет, другие странствуют далече!»152 – со вздохом думал Правин.
Поутру в какой-то праздник Правин, сам не зная как, очутился у стоп Душеньки. Он погрузился в глубокую думу, в живую грусть, любуясь милыми чертами.
«Когда я увидел тебя впервые, – думал он, – мне казалось, что ангел кликнул мою душу по имени, что ты из младости обручена мне сердцем! Безумец!., я смеялся над этою дикою мыслию – и, влюбленный, поверил ей, предался ей… и чему после этого верить, если не верить такому лицу? Так прелестна и так коварна! столь умна и столь легкомысленна! И зачем я встретил ее, зачем дозволила она себя полюбить! Внушить такую пылкую страсть, раздуть пожар и потом развеять пепел сердца по воздуху, не уронив даже слезы участия, не только взаимности; поманить надеждой и предаться другому!..»
Правин был один-одинехонек… Он тихо колебал головою, и слезы текли неслышно по его лицу.
– Вы плакали! – сказал кто-то подле него.
Голос этот бросил трепет во все его существо. Сладкозвучен и нежен был он. Глубокое участие отзывалось в нем. Правин обернулся: рядом с ним стояла княгиня Вера, в газовом золотошвейном платье, в полном блеске убора, и красоты, и молодости, во всем очаровании чувства… Она была лучезарна, божественна! Видно было, что она ускользнула с выхода подышать свободнее на просторе, взглянуть на мастерские произведения резца и кисти, быть может влекомая тайным предчувствием сердца, – а сердце наш вещун! – недаром сказано Дмитриевым153.
– Вы плакали? – повторила она; она была тронута.
Первое обаяние прелести миновало, вспышка негодования улетела с сердца Правина, но обиженное самолюбие – червь; оно не имеет ни ног, ни крыльев – оно осталось. Он отступил, поклонился княгине с холодною почтительностью и отвечал, краснея:
– Да, княгиня, я плакал, и горьки были слезы мои… Я думал, что я здесь один…
– Неужели для вас больно, капитан, что я в ваших глазах застала слезу?.. Чудные создания мужчины: не краснея могут хвастаться кровью друга и стыдятся слезы чувства!..
– По крайней мере я должен стыдиться этих слез, и, признаюсь, всех менее вас желал бы я иметь свидетелем такой слабости: слез моих не видал и не увидит свет, и будьте уверены, княгиня, что они не прибавят блесток ни на чье платье!
Правин никогда не говорил княгине о любви своей, но какая женщина не понимает пламенной речи взоров, румянца щек, волнения груди, трепетанья руки? Княгиня и в этот раз поняла весь укор Правина. В ее ответе видно было более чувства, чем гордости.
– Неужели вы думаете, капитан, что удел мой одна мишура и блестки, что я не знаю слез горя? Но вы бросили стрелу еще далее, еще глубже: вы почти сказали, что я могу радоваться чужому горю. Скажите, чем заслужила я такое несправедливое обвинение? и от кого же?..
Правин смешался. Он был пойман, как школьник, который выскочил вперед для объяснения с учителем и оробел от его грозного взгляда. В таком случае начинают обыкновенно уверять, что и не думали ничего намекать против, что никогда бы не осмелились и подумать обвинять!.. Правин наговорил кучу подобных пошлостей.
Княгиня грустно качала головою.
– Капитан, – сказала она, – откровенность флотских вошла в пословицу, – вы хотите опровергнуть ее. Я уже несколько дней замечаю, что вы на меня сердиты.
Правин будто проснулся от сна.
– Я докажу вам на деле откровенность мою! – сказал он горячо. – Знаете ли, княгиня, на кого походит эта Душенька!
Княгиня улыбнулась с самодовольным видом, подняла глаза на мрамор и, зарумянившись, сказала:
– Многие из подруг моих находят, будто во мне есть небольшое сходство с этою статуею, но, признаюсь, я мало верю комплиментам женщин.
– Поверьте же чувству мужчины, княгиня! Сердце не обманчивый знаток. Признаюсь вам, я уже не впервые у ног этой Душеньки. Было время, что я приходил сюда любоваться ею, высказывать ей то, чего не смел говорить ее подобию и не мог таить в себе. Теперь… о, теперь совсем иное дело: я пришел излить на нее свои укоры и уронить на бесчувственный мрамор слезу тоски невыразимой. Вы сами вызвали мою откровенность – услышьте же ее вполне. Да, княгиня! теперь не время притворствовать: я не хочу этого, если б мог – не могу, если б и хотел… Не отрицаетесь, не говорите «нет» – вы видели, вы знали, что я люблю вас; но вы не знали, как я любил вас; вы не поняли меня, не оценили этого сердца – сердца, переполненного к вам любовью!.. Видите ль эти царские сокровища? Видите ли вы Грановитую палату? В нее каждый век сносил свои драгоценности, свои короны, свои оружия и воспоминания, – не смейтесь же сравнению: мое сердце – это Грановитая палата! Его я бросил, его рассыпал бы к ногам вашим: мои чувства, мои мысли, моя страсть стоили бы жемчуга и золота!.. Черпая из этой сокровищницы, я мог бы стать всем, чем бы только захотели вы меня видеть – вы, властительница, царица души моей! всем, чем вы бы велели мне быть! Сказали бы мне: «Будь поэтом!» – и через год я склонил бы свою увенчанную голову перед тою, которой обязан вдохновением. Разве не поэзия высокая любовь моя! Разве нет пылу в моей душе? Я бы разбил ее в искры, и звуки, и мысли, – и свет ответил бы мне вздохами, и слезами, и рукоплесканиями! Пожелали ль бы вы увидеть меня героем – и что бы устояло против меня? И скоро я бы сжег ваше сердце лучами моей славы. Этого мало: я, жадный деятельности, я, честолюбец в душе, я, в котором внутренний голос говорит: «Ты можешь быть многим», я бросил бы саблю и перо, отказался бы от милых бурь океана, ото всех радостей и обольщений земли, даже от страсти к познаниям, и весь век мой бросил бы слитком золота в поток забвенья, для того только, чтобы любоваться вами, как миром, слушать, как райскую птичку, чтобы только быть близ вас часто, дышать вашим дыханием – угождать вам, боготворить вас… но вы, вы не захотели этого…
Говоря это, Правин схватил руку княгини, между тем как его пылающие речи и взгляды пронзали сердце ее.
– Полноте, перестаньте, умолкните, капитан! – вскричала она. – Я не хочу, я не должна вас слушать. Вспомните, кто я, вспомните, что я: на руке моей сжимаете вы кольцо, – оно видимое звено невидимой, но неразрывной цепи, меня окружающей. Судьба моя – навек принадлежит другому!
Правин горестно опустил ее руку.
– О, если б одна судьба стояла между нами, я бы менее роптал. Я бы завидовал, глубоко бы завидовал человеку, которому досталась рука ваша, но он сам позавидовал бы мне, если б вы отдали мне свою душу. Было время, что я верил в это сочетание, в это супружество душ… Напрасно! Поманив меня взаимностию, вы с насмешкою отвернулись от меня, отвергли мою безграничную любовь, оттолкнули мое сердце, – и не долг супружества был тому виною, нет: иное чувство, иная любовь! Да, княгиня, я сейчас думал: «Эта Душенька вылитая княгиня Вера; жаль только, что Амур непохож на Леновича». Будь еще это, и всякий бы сказал, что Канова снимал эту чету с вас обоих, когда вы сбирались вальсировать!
– Удержитесь, Правин, – с жаром прервала его княгиня. – Пустая ревность ослепляет вас: Ленович – близкий родственник моего мужа и давно жених моей двоюродной сестры, Софьи З., единственного друга моего девичества. Теперь, когда я говорю с вами, он уже в Москве, он уже у ног ее. Об ней-то, об ее-то судьбе говорили мы с ним, когда вы явились внезапно, неприглашенные, на бал к графу Т. Несчастный бал! несчастная Вера!., внушить столько страсти, и нисколько доверия… Нет, капитан! кто любит, тот верит, до легковерности верит; это я знаю по себе; нет, сударь, вы не стоите, чтобы я оправдывалась. Боже мой, Боже мой! думала ли я когда-нибудь, что из пустого подозрения, из ничтожной наружности я потеряю доброе мнение человека, которого всегда отличала, которого так много уважаю, так горячо люблю!..
Вера была увлечена досадою; досада есть лучшее средство заставить женщину высказать сердце. Но что для опытного любовника было бы делом расчета – тут было делом случая. Последние слова княгини вырвались из сердца не как признание, но как восклицание. Она забылась, – но мог ли счастливец забыть сказанное? мог ли не верить, что признанное было истинное чувство? Нет, никогда лицемерие не говорило таким голосом, не сверкало таким взором! Все сомнения исчезли, душа растаяла в Правине, он впал в какое-то исступление восторга: осыпал поцелуями руку Веры, прижимал ее к своему сердцу.
– Оно ваше, навеки ваше, божественная женщина! – восклицал он. – Кто даст мне сил вынести мое благополучие!.. Теперь я готов сжать руку злейшему врагу как другу, обнять целый мир как брата!
Княгиня ничему не внимала, ничего не видела; казалось, с роковою тайною вылетела из нее жизнь. Склонясь челом на пьедестал Душеньки, она была бледна, как та… Крупные слезы дрожали на опущенных ресницах, она вся трепетала как лист; Правин испугался…
– Что с вами, княгиня? – вскричал он.
– Удалитесь! – едва могла она произнести. – Теперь вы все знаете, будьте же великодушны – уйдите! В иной раз, в другой день мы увидимся… теперь я умру со стыда, если взгляну на вас. Когда вы дорожите хоть сколько-нибудь моим спокойствием – оставьте меня!
Полон блаженства и страха, Правин удалился.
Ввечеру князь Петр с озабоченным видом, но с салфеткою в руке вышел из столовой навстречу к доктору, который на цыпочках выходил из спальни княгини Веры.
– Ну что, любезный доктор, – спросил он, вытирая губы, – какова моя Верочка?
Доктор со значительною улыбкою, которую носил он неизменно на все обеды и похороны, отвечал, что слава Богу, что это неопасно, что это пройдет! Доктор этот, изволите видеть, мастер был золотить пилюли, и оттого кармашки его всегда подбиты были золотом. Не решали, впрочем, потому ли он знаменит, что искусен, или потому, что дорог.
– Прописали ли вы ей что-нибудь, доктор?
– О, за мной дело не станет, ваше сиятельство! Я настрочил рецепт длиннее майского дня, и если княгиня будет в точности принимать, что я предписал ей, то лихорадка убежит от первого взвода баночек.
– Каков у нее пульс, доктор?
– Немножко неровен, ваше сиятельство, – отвечал тот, натягивая с трудом нижнюю петлю фрака на пуговицу, – да это минует, когда уймется попеременный зноб и жар; надобно потеплее укрыть княгиню.
– Что за причина ее болезни, доктор! Сегодня поутру на выходе она была весела словно ласточка, и вдруг…
– Самая естественная причина, в<аше> с<иятельство>! Изволите видеть: наша зеленая зима, которую мы условились называть летом, очень непостоянна, а дамы одеваются чересчур легко… Мудрено ль, что сквозной ветер уносит их даже с белого света… Все у них зефиры, да дымки, да кисеи, да газы…
– Нельзя же в палатине ездить на выход! – заметил князь Петр с важностию.
– Нельзя же в газовом платье и не простудиться, ваше сиятельство. Притом везде сквозной ветер…
– Так вы думаете, что это от простуды, доктор?
– Без всякого сомнения, ваше сиятельство.
– Но она так тяжко вздыхает, доктор, будто у нее заложило грудь; она стала так капризна, что ни сообразить, ни вообразить нет способа… не хочет даже, чтобы я был при ней.
– Это все от простуды, ваше сиятельство.
Добряк доктор готов был клясться иготью Эскулапа154, что это от простуды.
IV
Utrudzirem usta daremnem uzyciem,
Teraz je z twemi ohcg stopic ustami,
I chce. rozmawiac tylko serca biciem,
I westchnieniami, i catowaniami,
I lak rozmawiac godziny, dni, lata
Do konca swiata i po koncu swiata.
Быстро и сладостно утекают дни счастия. Минувшие радости и будущие надежды сливаются воедино устами, и миг настоящего походит на приветное лобзанье друзей на пороге. Вчерась, сегодня, завтра не существует для любовников, – нет для них самого времени, оно превращено в какую-то волшебную грезу, в которой воздушная нить мечтаний вьется с нитью бытия нераздельно, в которой сердце каждое биение свое считает наслаждениями, – о нет! наслаждение не умеет считать, счет изобретен нуждою или тоскою.
Правин любил впервые, Правин любим стал впервые; а какая девственная любовь, какая истинная страсть не робка до простоты, не почтительна до обожания? Но скоро переживает любовник все возрасты страсти. Вечный младенец в своем лепете, в своих прихотях, взысканиях, ссорах, не по годам, а по часам растет он своими желаниями, мужает волею, берет силу взаимностию. Бедняк искатель, он спит и видит, как бы удостоиться приветливого словца, нежного взгляда, самой ничтожной ласки. «Я бы был счастлив тогда!» – говорит он и озирается, не подслушал ли кто его, и трепещет дерзости своего воображения. Но он скоро знакомится, дружится, роднится с нею, скоро она овладевает им – и он горд, похитив первый поцелуй, как Прометей, похитив огонь с неба. Раскипаясь счастием, словно бокал шампанского (я уверен, что счастье какой-нибудь газ и что химики на днях разложат его), он уходит через край, радость улетучивается из сердца, а природа не любит пустоты, вопреки Паскалю и водяному насосу156, – и вот новые желания проницают в ретивое, – закупорьте вы его хоть герметически. Они будто волосатики впиваются в персты157, разогревают кровь лучами взора, упояют легкие воздухом, веющим с милой, топят вас в звуках ее голоса, в благоухании ее кудрей! Ночью они распускаются кактусом; днем взбегают будто кресс-салат158. Проклевываются птичками… тормошат, щиплют, терзают бедное сердце – хоть из груди беги! Опять новые завоевания, опять новые причуды. Повадка балует шалуна; вчерашняя уступка для него завтрашнее право! По мне, сердце – настоящий вестминстерский кабинет: оно умеет и выканючить, и выторговать, и обыграть, и выбить159. «Если ты любишь меня!» – говорит любовник, нежно ласкаясь. «Только это, это одно – и я бог!» Но этот бог – языческий; амброзия для него пост160; он готов превратиться из орла в лебедя, из лебедя в бычка. С каждым днем он становится смелее, с каждым днем он обламывает по игле, обороняющей розу, – поглядишь, вянет сама роза под жарким дыханием страсти! Знаете ли, как называю я знаменателя всех страстей и всех более любви? Я называю его – любопытство! Узнали мы, испытали мы, повладели мы – и уже знание, опыт, власть нам скучны. Мы уж хотим постичь иное, изведать лучшего, завладеть большим. Еще, еще дальше и более – вот границы духа человеческого, а границы эти за звездами Млечного Пути, за тенью могилы.
Но не каждому дано пересекать пути многих страстей, подобно комете, пронзающей многие солнечные системы. Не каждому удается побыть любовником, поэтом, честолюбцем, корыстолюбцем и лечь в гроб с тою же побрякушкою, которая тешила его первое ребячество. Многие глубоко врезываются в колею, катятся вдоль которой-нибудь одной дороги – и нередко с рождения души до смерти тела. Так, Наполеону выпало распутие власти, на котором первая верста была батарея под Тулоном, а последняя – остров св. Елены161. Исполин-выкидыш революционного волкана, он отдал останки волканической скале, горе застывшей лавы. Какой величественный, многомысленный памятник, какой чудный рифм судьбы с вещественностию!.. Багряные облака, точно огневые думы, толпятся вокруг чела твоего, неприступный утес св. Елены… Экватор опирается на твои рамена; сизые волны океана, как столетия, с ропотом расшибаются о твои стопы, и сердце твое – гроб Наполеона, заклейменный таинственным иероглифом рока!!.
Простите отступление: я увлекся Наполеоном, и мудрено ль? При жизни – он тащил за своей колесницей по грязи народы. По смерти – его гений уносит наши помыслы в область громов, свою отчизну. Впрочем, пример Наполеона везде кстати; его имя приходится на всякую руку; оно как всезначащее число 666 в Апокалипсисе162. Как ненасытен был он (олицетворенное властолюбие) к завоеваниям, – почти так же ненасытны все любовники ласками. После первого письма – их перехода через Альпы163 – они уже вздыхают о лаврах Иены и Маренго…164 они забывают, что у самого Наполеона была Москва, где он чуть не сгорел, путь за Березину, где он чуть не замерз, и литовские грязи, в которых едва-едва не утонул. Горячая кровь не слишком покорна доктору философии и г(осподи)ну рассудку, и речь сердца начинается – обыкновенно – с чистейшего платонизма, а заключенье у ней: «Индеек малую толику!»165. К слову стало о платонизме: он очень похож на ледяную гору, с которой стоит раз пуститься – уж не удержишься; или, пожалуй, хоть на ковер, постланный в ноги детей, чтобы им не больно было падать. Да, милостивые государи и милостивейшие государыни, зовите меня как вам угодно, – я зло усмехаюсь, когда слышу молодую особу или молодого человека, рассуждающих о бескорыстной дружбе платонизма, прелестного и невинного как цветок, соединяющий в чашечке своей оба пола. Усмехаюсь точно так же, как слыша игрока, толкующего о своей чести, судью – о безмездии, дипломата – о правах человека. Опять грех сказать, будто платонизм всегда умышленный подыменник[280] эротизма; напротив, его скорей можно назвать граничной ямой, в которую падают неожиданно, чем западней, поставленной с намерением; и вот, почему желал бы я шепнуть иной даме: не верьте платонизму – или иному благонамеренному юноше; не доверяйте своему разуму! Платонизм – Калиостро, заговорит вас166; он вытащит у вас сердце, прежде чем вы успеете мигнуть, подложит вам под голову подушку из пуха софизмов, убаюкает гармонией сфер, и вы уснете будто с маковки167; зато проснетесь от жажды угара, с измятым чепчиком и, может быть, с лишним раскаянием. Притом – но неужто вы не заметили, что я шучу, что я хотел только попугать вас?.. Помилуйте, г<оспода>! мне ли, всегдашнему поклоннику этого милого каплуна в нравственном мире, поднять на него руку! Мне ли писать против него, когда я вслух, вполголоса всегда говорил в его пользу, писал ему похвалы стихами и прозою! Любопытные могут прочесть мою статью «Нечто о любви душ». Она напечатана в «Соревнователе просвещения и благотворения», не помню только в котором году, рядом с речью «О влиянии свирели и барабана на юриспруденцию»168.
«Но к делу, к делу», – говорят мне; а разве слово не дело? Юридически говоря, между ними великая разница; закон действует положительно, но мы сравниваем относительно. Конечно, человек редко говорит, что думает, еще реже исполняет, что говорит: потому-то нельзя обвинять, ни хвалить его, если он обещает или грозит, – но это относится к будущему; напротив, прошлое переходит в полное владение слова, оно существует только словом – слово может обличить или оправдать его. Я для того веду свою долгую присказку, чтобы доказать любезным читателям, что слова мои – факты, что намеки мои на госпожу Никто, Mistriss Nobody английских фарсов169, летели не в бровь, а прямо в глаз; одним почерком, что нрав всех любовников вообще – такой же как у Правина в особенности: так бывало с другими, так было и с ним.
Да-с, Правина любили нежно, даже страстно; но сам он любил беззаветно, бешено. Правин был зверек, которого не всегда обуздаешь дамскою подвязкой. В одну и ту же минуту он роптал то на холод, то на горячность Веры.
– Не считаете ль вы меня ртутью, княгиня, которая тогда постоянна и ковка, когда заморожена? – говорил он с укором. То умоляющим голосом восклицал: – О, не гляди так на меня, очаровательница! разве хочешь ты, чтоб я истаял как воск под тропическим солнцем!
Целуя браслет, он клялся, что не завидует раю, и через час он клялся, что он самый несчастный из смертных, – зачем? Ему полюбился пояс, заветный еще для его губ; после пояса следовало ожерелье, а там я не знаю, право, что. Близость разлуки извиняла его порывы и восторги, его гнев и самозабвение. Лестно, но страшно было быть так любимой. Жаркие битвы должна была выдержать Вера и с бурным нравом Правина и с собственным сердцем. Каждый отказ стоил ей слез непритворных. Она плакала, и пламя погасало в Правине от немногих слез милой, как, по народному поверью, гаснет молниею запаленный пожар от парного молока. Она противилась, как порох, смоченный небесною росою, противится искрам огнива: сотни ударов напрасны, но каждый удар сушит зерна пороха, и близок миг, когда он вспыхнет.
Как московская барышня, Вера половину своей юности прожила среди полей, другую – в столице. Но девушки в Москве имеют гораздо более свободы, чем в Петрополе, а где свобода, там и природа. Вот почему девушек находил я гораздо занимательнее в Москве, дам – в Петербурге. В первых найдете вы нередко милую простоту, в последних – остроумие; в первых – прелесть, во вторых – ловкость, которую дает лишь двор и вкус, впрочем, более дитя привычки, нежели чувства; одним словом, в Москве есть гармония, в Петербурге – тон. В Москве учатся многим иностранным языкам и много читают. В Петербурге нет времени ни для науки, ни для чтения, а владыка – язык французский. По-итальянски только поют, о Байроне говорят понаслышке и боятся языка Шиллера, чтобы не изломать своего. Притом же в Петербурге столько гвардейцев и дипломатов, столько чиновников всех цветов, столько парадов, гуляний, спектаклей, визитов, выходов, что будь день о сорока восьми часах – и тогда не стало бы времени на рассеяние. Кроме того, в Москве еще пахнет Русью; в ней хоть немного характеров, зато куча оригиналов, в ней есть свои поверья, свои причуды, свои обычаи – в ней есть старина. Зато уж в Петербурге хоть мало современного, но все новое, все с молотка – и ни русского мира, ни русского словца! На площадях толкутся маймисты170, на перекрестках стоят синьоры с продажными зонтиками, по набережным покачиваются англичане с руками в карманах и с годдемом в зубах171, у крылец шаркают французы, в нижних этажах шевелятся немцы. Русский калач там чужестранец; благословенная бородка пробирается по стене и рада, рада, если унесет в целости свои бока от будочника или от дышла какого-нибудь посланника, который скачет разыгрывать во весь дух дипломатическую ноту. Нет дома, где бы садились за стол, крестясь одинаково, где бы хвалили одно и то же кушанье, просили одним и тем же языком напиться. Про высший круг и говорить нечего: там от собачки до хозяина дома, от плиты тротуара до этрусской вазы – все нерусское, и в наречии и в приемах. Бары наши преважно рассуждают, каково Брюно играл Жокриса172, как была одета любовница графа Ротшильда на последнем рауте в Лондоне; получают телеграфические депеши о привозе свежих устриц, а спросите-ка вы их: чем живет Вологодская губерния? Они скажут: «Je ne saurais vous le dire au juste, m(onsieu)r[281]; у меня нет там поместьев».
Впрочем, нравственность одна в обеих столицах: посредственность и эгоизм! Никто не заботится о том, что подумают о нас добрые люди: у них лишь то на уме, что станет говорить княгиня Марья Алексевна173. Во всех личность, все частность, везде расчет. Ничего общего, ничего высокого. Княгиня Вера взросла на таком же миндальном молоке, но она была довольно счастлива, что нашла истинно добрых и умных подруг, и довольно умна сама, что их оценила. Чтение поэтов познакомило ее с прекрасным миром; она пристрастилась к нему, восхищалась им; но эта страсть дала ей другую опасность – опасность мечтательности. Не всех птиц можно стрелять сидячих: иных выгоднее на лету; Вера принадлежала к числу последних. Недоступная ничтожности вертопрахов, несгораемая от мышьего огня светских болтунов, закруженная вихрем света, в который только что явилась, – она была равнодушна, хотя ее не защищала любовь к человеку доброму, но пустому, но холодному, к которому тетушки и судьба приковали ее, как узника к колоде. Чтобы пленить ее, надо было сперва поразить внимание чем-нибудь необыкновенным, раздражить любопытство занимательностию, – а там недалека и любовь, потому что сердце ее жаждало любви, как сухая губка. Так и сталось. Встреча с человеком безыскусственным, пылким, новым, который так чудно выходил из рам всего, что делается и говорится в свете, победила ее потому именно, что с этой стороны она не ждала нападения, еще меньше падения. Она, однако ж, скоро почувствовала, что любит, и письма ее к подруге стали с той поры скромнее, хотя красноречивее… она говорила обо всем, кроме своего сердца, обо всех, кроме Правина. Да и могла ли замужняя женщина делать из девушки, из невесты поверенную тайн, которых бы сама она не желала иметь? Эта неделимость, это одиночество страсти еще более одолевали Веру. Быстро увлеченная в чужой след, она, однако ж, уступала, борясь мужественно; она чувствовала, что для спокойствия, если не для счастия, к светскому правилу: «sauvez les apparences»[282] – необходимо было прибавить: «sauver la conscience!»[283] И, надеясь на эту решимость, вместо того чтобы вытащить свой челн на берег, она смело простирала свой газовый парус против бурного дыхания страсти, – и вал, грозный вал рассыпался в прах о слабую грудь ее ладьи или, отбитый, с ропотом катился обратно.
Так прошел месяц, но месяц – век для призванной любви. Он век брожения. Думы, желания, требования роятся, кочуют, сменяют, истребляют друг друга. Корабль, будто плавучий ледник, сохранил сердце Правина девственным и в нем силы юности. Они бушевали неудержимо, особенно когда светская философия надевала на себя мундир Границына и пенила и кипятила их своими кислотами.
– Мне кажется, ты воспитан в брюхе кита, – говорил Границын, расстегивая крючки воротника своего. – Вместо того чтобы вторить своей княгине Вере в арии «Di tanti palpiti»[284], тебе бы надо уверить ее, что «Una voce росо fa»[285]174. Терпение – прекрасная добродетель в дромадере175, но сами дромадеры, mon cher, нужны в степях, а не на паркете. Правда, многие пояса затянуты гордиевым узлом176; зато режь их пополам, если не хочешь, чтоб другой разорвал их у тебя под носом. Право, стыдно будет, если эта белокаменная московочка проведет тебя. Вот тебе моя рука – она над твоею простотою смеется, а быть может, и сама досадует на твою застенчивость.
Эти насмешки, перемешанные с шампанским, лились прямо в сердце Правина: они то льстили, то подстрекали его страсть. «Нет, – думал он, – полно мне жеманиться. Сегодня или никогда!» И назавтра было то же, напослезавтра то же. Пламенные письма, неистовые сцены, упреки, угрозы, гнев, разлука – все было напрасно: Вера стояла непреклонно. Правин решился.
Любовь хитра на выдумки свиданий: Правин видался по нескольку раз в день с княгинею, и все устраивалось будто самым естественным и случайным образом. Однажды он приехал к ней на дачу в полдень.
– Что это значит, капитан, – спросила Вера, – вы в полном мундире?
Любовь есть страсть исключительная: ей нестерпима мысль о множестве или разделе. Вот почему так скоро переходят любовники от местоимения «вы» к местоимению «ты». Со всем тем первые приветствия встречи принадлежат свету; любовь берет свои привычки после.
– Княгиня, – сказал он, холодно поцеловав у ней руку, – я приехал к вам проститься – надолго, может, навсегда.
– Вы шутите, капитан, ты меня пугаешь, Elle, – зачем это? Разве не тысячу раз уверял ты меня, что воротишься на весну и возвратишь весну душе моей!
– Я сейчас от начальника штаба. Узнав, что фрегат мой готов, он был так добр, что позволил выбрать мне любое из двух поручений: идти ненадолго в Средиземное море, – там что делать? ведь мир с турками почти подписан, – или отправиться на четырехлетнее крейсерство к американским берегам, частью для открытий, частью для покровительства нашей ловле у Ситхи, у Алеутских островов и близ крепости Росс177. Я избираю последнее!
– Нет! ты этого не сделаешь, ты не сможешь этого сделать! И как решаешься ты, не посоветовавшись со мною? Разве я чужая твоему сердцу! – вскричала, вскочив, вспыльчивая княгиня. – Я бы могла еще помириться с мыслию, что неотразимый приказ службы забросил тебя от меня далеко и надолго; но чтобы ты по своей доброй воле бросил меня на четыре года – нет, этому не бывать, никогда не бывать!
– Никогда не говорите «никогда», княгиня! Это слово имеет вес только в устах судьбы. Вы сказали, что я по доброй воле отправлюсь отсюда, – и вы могли это сказать, вы, за чей взор отказался я от собственной воли, для кого жертвовал и обязанностями службы и обетами славы! Вы!.. Для кого ж иного мила мне жизнь? за кого ж красна была б мне смерть? за кого, если не за тебя отдал бы я душу свою, променял на любовь твою рай и за миг счастия – вечность!! Но вы, ваше сиятельство, не удостоили снизойти до взаимности; вы любили на мерку и раскланивались чувству, когда приходили на границу, делящую удовольствие от опасности; вы в то же время думали, как бы не смять своих газовых лент, когда сердце мое разрывалось, когда я умирал у ног ваших!
– Злой человек, неблагодарный человек! Я ли не ценила тебя, я ль не делила твоей любви! Но я не разделяю твоего безумия. Тебе отдала я чистоту души и покой совести, но чести моей не отдам – она принадлежит другому.
– Как вы искусны в теологии и геральдике178, ваше сиятельство! Вы до золотника знаете, что весит поцелуй на весах неба и какую тень бросает он на герб. Признаюсь вам, я не постигал никогда градусов любви по Реомюру179. Гордостью считал я любить безмерно, беззаветно, предаваться весь – так люблю я, так желал быть любим, так – или нисколько. Чувствую, что я теряю рассудок, а вы, вы не хотели бросить вздорного предрассудка!.. Помните ли, в одном письме я писал к вам: не читайте далее или исполните, что далее сказано… Зачем же вы преступили завет и отринули мольбу! Однако не думайте, княгиня, будто я ни во что ставлю ваши ласки, ваш ум, ваши достоинства! О, никто в мире не мог лучше, не мог выше оценить и ваши прелести и вашу снисходительность ко мне. Но любовь питается жертвами, доказывается пожертвованиями, все или ничего – ее девиз, а я измучен вашими полужестокостями, уничтожен вашими полумилостями. Ужели хотите вы, чтобы я забывал вас с другими, лишь бы – не забывался с вами! Признаюсь, это чудесная любовь!
– Боже великий! и я могла любить такого безжалостного человека!
– Любить?., бросимте этот разговор, княгиня. Я уступаю вам пальму нежности. Я беру на себя все вины, я неблагодарен, я жестокосерд, я нее, что вам угодно. Будьте счастливы, княгиня! Люди с вашим нравом созданы для светского счастия. Они очень довольны, если на сердце у них пробьются цветки, хоть эти цветки жалкие подснежники. Еще раз – будьте счастливы. Наслаждайтесь своею любовью «с дозволения правительства»; ожидайте с поклоном прилива нежности своего супруга, за которую обязаны вы будете бутылке бургонского или перигорскому пастету!
– Слезы, а не слова – ответ на такую обидную насмешку!
– Слезы – роса, княгиня. Взойдет солнце, укажет час ехать на прогулку – и они высохнут!
– Они высохнут раньше, но это будет от отчаяния!
– Отчаяние?., это что-то новое выражение в модном словаре! Нет ли какого перстня или браслета такого имени! Ведь есть же су пиры, и репантиры180, и сувениры у любого золотых дел мастера. Отчаяние!!
Недолго женскую любовь
Печалит хладная разлука;
Пройдет печаль, настанет скука…
Красавица полюбит вновь!181
С гордостию подняла княгиня свои заплаканные очи на Правина, и взор ее пронзил его укором.
– Кто так худо знал прошлое, тому напрасно браться за пророчества, – сказала она. – Любуйтесь своим жестокосердием, капитан; хвалитесь своим подвигом, смейтесь над бедным сердцем, которое вы разбили. Да, вы убиваете меня, как Авеля182, зачем я принесла одни чистые плоды на жертвенник любви!.. Будьте же сестроубийцею за то, что я любила вас как брата!
– Как брата, говорите вы? Но разве братские мученья не требуют братского раздела? Впрочем, я не пришел считаться с вами, княгиня, ни укорять вас, ни умолять вас – я ожидаю одного прощального поклона… ни полслова, ни полвзора более!
Изображают вечность змеей, грызущей свой хвост, – точно так же изобразил бы я гнев… он тоже поглощает сам себя; крайности слиты и в нем. Правин, чрезвычайный во всем, увлекся несправедливым негодованием: оно, подавленное, будто льдом, хладнокровием наружным, тем сильнее крушило сердце – и вдруг заметил он губительную силу слов своих над Верою. Она была бледна, как батист; слезы застыли на лице, но она уже не плакала, не рыдала. Левая рука ее сжата была на колене, между тем как правою упиралась она в грудь свою, будто желая выдавить оттуда удушающий ее вздох; в очах, в устах ее замирал укор небу.
О! злобен тот, кто заставляет свою милую проливать горькие слезы, кто влагает в ее уста ропот на провидение; но тот, кто с усмешкою удовлетворенной мести или равнодушия может их видеть или слышать, – тот чудовище. Правин упал к ногам Веры – плакал, плакал как дитя, и речи раскаяния пролились, смешанные с горючими слезами.
– Вера, прости меня, – говорил он, обнимая ее колена, целуя ее стопы. – Ангел невинности! я оскорбил тебя, я не понимаю, что говорю, не знаю, что делаю! Я безумец! Но не вини моего сердца ни за прежние обиды, ни за теперешние клеветы – у меня доброе сердце, и может ли быть злобно сердце, полное любовью, любовью к тебе!.. Зато у меня буйная кровь… у меня кровь – жидкий пламень: она бичует змеями мое воображение, она палит молниями ум!.. Я ль виноват в этом? я ли создал себя! За каждую каплю твоих слез я бы готов отдать последние песчинки моего бытия, последнюю перлу счастия. Да, нет мне отныне счастия! На одной ветке распустились сердца наши – вместе должны б они цвесть; но судьба разрывает, рознит нас! Пускай же океан протечет между нами, пускай бушует – он не зальет моей любви, лишь бы ты, ты, сокровище души моей, была невредима от этого пожара! Я еду, – не говори «нет», ангел мой, – не могу я, не должен я остаться. Это необходимо для твоего, для моего спасения, для сохранения моего рассудка и твоей чести… Прощай!.. О! как тяжело разлучаться! Легче, легче расстаться душе с телом, чем душе с душою. И я буду жить не с тобой, вдали от тебя, не имея вечером надежды увидеться поутру; осужден буду не любоваться твоими очами, не чувствовать на сердце твоего дыхания, не слышать речей твоих, не вкушать поцелуя! и быть одному – и в этом ужасном одиночестве знать, что ты принадлежишь иному!! Скажи: какая мука превысит это, кроме муки при глазах своих видеть тебя в чужих объятиях? Прости ж, прости! Мне суждено бежать тебя всегда и всегда любить безнадежно. Душа моей души! ты была единственною радостью моей жизни; ты останешься единственной моею горестью, всегдашнею мечтою, последнею мыслию при смерти! О, я любил тебя, Вера, много люблю, – взгляни на меня по-прежнему, милая, и прощай – я еду.
Столь быстрый переход от укоров к нежности, от гнева к грустному отчаянию изумил княгиню. Раздирающие душу жалобы любовника ее поколебали, его слезы победили ее. Взор княгини блеснул необычайною ясностию; прелестное лицо одушевилось зарею самоотвержения.
– Поезжай хоть на край света, Илья, – сказала она Правину голосом, который звучал сладостно, как весть прощения преступнику на плахе. – Поезжай, – молвила еще, целуя его голову, – но ты поедешь не один: я сама отправлюсь с тобою; с этого часа у нас одна доля, одна судьба. Тебе я жертвую всем, для тебя все перенесу! Лишь бы ты, одеваясь могильною тенью, сказал: «Вера меня любила!» Не спрашивай, как я сделаю, чтобы нам не разлучиться, – любовь научит меня. Требую одного и непременно: иди в Средиземное море, а не в Америку!
Это произошло 17 августа 1829 года, ровно в час за полдень. Так по крайней мере отмечено было красным карандашом в памятной книжке Правина.
V
L'homme s'epuise par deux actes instictivement accomplis qui tarissent les sources de son existence. Deux verbes expriment toutes les formes que prennent ces deux causes de la mort: vouloir et pouvoir.
Ровно через десять дней после числа, записанного красными буквами, отличной красоты фрегат снялся с якоря и с южного кронштадтского рейда пошел в открытое море. На корме его рисовалась группа из трех особ: одного стройного флотского штаб-офицера, подле него человека небольшого роста с генеральскими эполетами и прелестной дамы. Фрегат этот назывался «Надежда»; на корме его стояли: капитан Правин, князь Петр *** и его супруга.
Обещание княгини Веры сбылось; да как и не сбылось бы оно? Если женщина решительно захочет чего-нибудь, для нее нет невозможности. Князь Петр давно проговаривал, что ему хочется попутешествовать для поправления здоровья, – воля жены заставила его решиться, даже убедиться, что для него необходимы макароны в оригинале, устрицы прямо из Адриатического моря. Разумеется, к этому прибавил он несколько восклицаний о чистой радости дышать небом Авзонии184, прогуляться по Колизею185, бросить несколько русских гривенников лазаронам Неаполя186 и на закуску покататься по Бренте в гондоле187, дремля под напев Торкватовых октав!188 Князь Петр без надписи не отличил бы Караважа от Поль Поттера189 и не раз покупал чуть не суздальские мазилки за работу Луки Кранаха190; но князь Петр, как человек, который хотел слыть ровесником века, или, как выражаются у нас, a la hauteur du siecle[287], скрепя сердце заглядывал иногда в энциклопедию и довольно бегло, хотя очень невпопад, толковал о художествах и о пушках Пекгсана191, о паровой машине и примадонне Каменноостровского театра, о сморчках и политике. Вздумано – прошено. Князя Петра не думали удерживать. Напротив, ему дали еще несколько поручений и позволили ехать до Англии на фрегате «Надежда»; это случилось так невзначай и так кстати!! Князь Петр не знал, откуда у него взялась такая охота к морю! Конечно, сборы князя Петра продолжались бы, вероятно, до заморозков: то нет дичинного бульону, или толченых рябчиков, или сушеных сливок, то не нашли настоящих piccalilli[288], то не достали вечного Донкинсова супу в жестянках. Зато княгине недолго было уложить свое сердце, а имевши его в груди, влюбленная женщина смело может сказать: omnia mecum porto – все с собою ношу!
– Я готова, мой друг, – ласково сказала она своему раздумчивому супругу, – фрегат не будет ждать нас – завтра мы перебираемся на него непременно.
Такой лаконизм не очень понравился князю Петру, который начал уже догадываться, что как ни вкусна морская рыба, зато она все-таки далее от губ, нежели теленок на рынке; но услышав, как решительно объявила княгиня его повару и камердинеру, что если они не будут во всей готовности к пути сегодня, то завтра следа их не останется в ее доме, проглотил свое «но», – и вот он волею, а пуще того неволею – морской путешественник.
Покуда вывертывали якорь, покуда фрегат катился под ветер с парусами, трепещущими будто от нетерпения, сомнение: точно ли мы останемся на фрегате? – волновало грудь Веры. Взоры ее перелетали с берегов, словно кружащихся около, на мужа, который с сожалением ловил их глазами. Зато когда фрегат взял ход и стал салютовать крепости, это торжественное прощанье с Россиею убедило Веру, что уже возврат на берег невозможен, что она долго и близко будет с Правиным; очи ее засверкали; она взглянула на море, которое развивалось впереди все шире и шире, потом на своего милого – и взор ее сказал: «Перед нами море, море блаженства!» Ни одна печальная мысль, ни малейший страх не возникали между нею и Правиным: чувство счастия казалось ей беспредельным.
Но высоко билось сердце Правина, и не одним наслаждением: какой мужчина покинет родину, не оглянувшись на нее, не вздохнувши по ней, будучи даже подле любимой особы? Сомнительная дума: увижу ль то я тебя и как я тебя увижу? – щемит ретивое, и сквозь слезу тускнеет синева дали.
Грустно смотрел Правин на покинутый берег отечества и с каким-то беспокойным любопытством прислушивался к перекатам ответных выстрелов с Кроншлота192. С промежутками, одно за другим, гремели огромные орудия, грозно, таинственно, повелительно! Вы бы сказали: «То голос судьбы, которому вторило небо…» Правин внимал им, будто своему приговору, прочитанному на неведомом для него языке; но непостижимый смысл убегал от понятия человеческого. Наконец седьмой, последний выстрел сверкнул и грянул, как седьмая роковая пуля во «Фрейшице»193, и постепенно гром стих. Умолкли и далекие гулы во всех четырех сторонах горизонта. Тогда черные облака дыма, слетевшие из чугунных уст, возникать стали перед очами Правина. Казалось, роковые звуки превратились в иероглифы, подобные надписи, начертанной огненным перстом на стене пиршества для Валтасара!..194 Потом иероглифы сии развились чудными, вещими образами, будто переходя из мысли в существенность, будто олицетворяя, дополняя собою непонятное изречение. Дунул ветер и спахнул эту величественную строфу, этот дивный очерк судьбы!.. Еще миг, и там, где витал он, весело сияло вечное солнце, однообразно катились вечные волны… Тайная грусть влилась в сердце Правина… «Не звук ли, не чудные ли иероглифы, не перелетный ли образ дыма сами-то мы в вечности мира!» – подумал Правин; но он взглянул на Веру, и родина с своими воспоминаниями, море с своими волнами, небо со своим солнцем, будущее со своими страхами – все, все исчезло от Правина; он видел одну ее, существовал только для нее; он был весь наслаждение, весь любовь!..
На три вещи могу я смотреть по целым часам, не замечая их бега. Три вещи для меня ненаглядны: это очи милой, это Божие небо и синее море. Велико ли яблоко глаза? но в нем между тем раздольно трем мирам, то есть чувству, мысли и свету видимому. В глазе, как в яблоке познания добра и зла, таятся семена жизни и смерти. Сладостно созерцать в любимых очах игру света и теней, то есть чувства и мысли; замечать, как распускается и сжимается зрачок, на коем, как на гомеровском щите Ахиллеса195, рисуется вся природа; следить, угадывать, ловить искры страсти, проницать туман грусти и по складам читать в глубине души понятия, склонности, ненависти; наблюдать, как на милую особу действует мир и как бы она действовала на мир. Это разговор сердец взорами, это гальваническая сплавка душ196. Но любопытен и глаз каждого человека: чудный, хотя и неизданный, роман таится в нем; каждый взор его есть уже глава, то в роде «Жилблаза», то в роде «Дон-Кихота» или «Роб Роя»197. Как в двухчасном сне переживаем мы иногда целые годы, так в одной клубком свитой мысли, мысли, умирающей в полуродах, мысли, которой весь век четверть мига, заключается и желание добыть, и готовность на всякое зло, чтоб добыть, и раскаянье за то совести, и страх закона, страх общего мнения, и, наконец, торжество доброго начала, которое стирает эту черную точку даже с памяти. Или, напротив, мысль чистая как слеза сверкает во взоре: помочь несчастному, выручить из беды друга, отдать все, погибнуть за правду, – и вслед за тем сомненье: полно, правда ли это? полно, право ли это? потом отсрочка: еще завтра успеем; потом дать, пожертвовать менее, менее и, наконец, совет себялюбия: есть люди богаче и сильнее тебя… ты что за выскочка? За этим следует обыкновенно финал самой бездушной скупости:
Ты все пела? Это дело,
Так поди же попляши198.
И потом, какое быстрое сплетение намерений, выдумок, уловок, приключений; сколько злых замыслов, никогда не свершающихся; сколько слов, которые никогда не будут произнесены; сколько дивных мыслей, которые сольются с ничтожеством! И все это, как сказал я, заключенное в одном миге, в одном взоре, даже в одном сотрясении зрачка. О! кто хочет изучить китайскую грамоту души человеческой, кто желает видеть ее нагою, тот изучай их очи! Но знай тот, что он берется за ремесло могильщика, что на каждый день он будет зарывать в прах по лестной мечте, по доброму мнению о людях, что он схоронит, как родных своих, участие к ним и, наконец, собственное сердце… разобьет свой заступ о череп и уйдет в лес с базара – кладбища, которое в просторечии называют свет! Уйдет туда умереть один, отдать труп свой зверям, и птицам, и ветрам, лишь бы не потешить своею кончиною любезных братьев-человеков!!
Но неужели таково все человечество, все люди? Сохрани Бог задумать, не только поверить! Поколение наше – бурная, мутная волна, но и в этой волне есть легкая пена, есть чистые капли, есть перлы, вымытые со дна морей. Сколько высоких душ знал я, сколько знаю доселе! Они мирят человека с человечеством, как мирит природа человечество с его судьбою. Поверьте, если не все добро делают, то все добро признают, – а это не безделица.
Люблю я глядеться и в безбрежное небо. Когда пристально и долго смотришь в него, то заметны становятся струйки эфира, прелестно играющие по синеве… это истинная гармоника для очей. Раздольно там, привольно там ширяться орлу, реять вечно вешней ласточке, жужжать незаметной мушке, порхать однодневной бабочке! Там странствуют тучи, чреватые перунами, там гуляют облака, играющие отливом радуги. Там живут звезды; оттуда живит нас солнце.
Мирные светила! вы не знаете бурь и смут наших!.. Солнце не бледнеет от злодейств земных; звезды не краснеют кровью, реками текущею по земле. Нет! они совершают пути свои беззаботно и неизменно. Солнце встает так же пышно наутро, хоть, может быть, целое поколение, целый народ исчез с лица земли после его заката, и во мраке по-прежнему распускаются ночные цветы неба – звезды по-прежнему сверкают над огнем любви и, мнится, текут в океане благости! Да, созерцая свод неба, мне кажется, грудь моя расширяется, растет, обнимает пространство. Солнцы, будто отраженные телескопом на зеркале души, согревают кровь мою; мириады комет и планет движутся во мне; в сердце кипит жизнь беспредельности, в уме совершается вечность! Не умею высказать этого необъятного чувства, но оно просыпается во мне каждый раз, когда я топлюсь в небе… оно залог бессмертия, оно искра Бога! О, я не доискиваюсь тогда, лучше ли называть его Иегова, или Dios[289], или Алла?199 Не спрашиваю с немецкими философами: он ли «das immerwahrende Nichts»[290] или «das immerwahrende Alles»?[291]200 – но я его чувствую везде, во всем, и тут – в самом себе. О, тогда весь шар земной кажется мне не больше и не дороже медного гроша. Но жизнь, подобно удаву, наводит на меня свои обаяющие глаза, и я, как жаворонок, падаю в пасть ее с неба!!
И ты, море, бурный друг моей юности! как горячо любил я тебя в старину, как постоянно люблю доныне! Отрок, я играл с твоими всплесками; юноша, я восхищался твоими зеркальными тишинами и грозными бурями с вышины мачты. Праздники были мне те дни, те недели, которые мог я проводить на палубе, вырвавшись из душной столицы, сбросив свинцовые цепи педантизма. Помню, как, бывало, вахтенный лейтенант, шутя, отдавал мне рупор для поворота и с каким неизъяснимо-сладким удовольствием командовал я: «Право на борт!» и «Кливер-шкот отдай!» Как важно посматривал на вымпел, чтобы вовремя крикнуть: «Грот-марса-булень отдай!»201 С этим магическим словом все реи, с рокотом блоков, переметывались на другую сторону, и корабль, подобно коню, который дрожит от ярости, но покоряется воле всадника, довершал оборот по слову тринадцатилетнего мальчика. Я высоко подымал брови, я гордо смотрел на небо, у которого уловил я ветер, на море, которое пробегал бесстрашно, на фрегат, которым повелевал по прихоти, коим мог повелевать даже по ошибке!.. Я уже постигал это; я чувствовал силу свою.
Море, море! тебе хотел я вверить жизнь мою, посвятить способности. Я бы привольно дышал твоими ураганами; валы твои побратались бы с моим духом. Твои ветры носили бы меня из края в край, тобою разделяемые и тобою же связанные. Статься может, моя бы молодость проспала, как чайка, на твоих бурунах; статься может, отшельник света в плавучей келье, не знал бы я душевных гроз в заботе от гроз океана… но судьба судила иначе…
Ты не моя, прекрасная стихия, но все еще я люблю тебя, как разлученного со мною брата, как потерянную для себя любовницу! Сколько раз, мучим бессонницею в теплой постели, завидовал я ночам, проведенным на шлюпке, под ливнем осенним, под бурей и страхом, на драницу от смерти202. Сколько раз, в противоположность тому, сожалел я, в грязи биваков, о зыбкой койке на кубрике, в которой засыпал, внимая журчанию скользящей вдоль борта воды над самым ухом и повременному оклику вахтенного лейтенанта на рулевых: «Держи вест-зюйд-вест!» – «Есть так». – «Полшлага еще!» – «Есть». – «Держи так!» – «Есть так».
И теперь с холодным сердцем не могу я глядеть на зыбкую степь твою, по коей рыщут дружины волн, внимать твоему реву и ропоту; ты говоришь мне родным языком, ты веешь мне стариною. Люблю я мечтать, склонясь над тобою, и переживать то, чего давно нет; люблю вскачь пускать коня моего вдоль песчаного берега, разбрызгивая твою пену, и любоваться, как волны смывают мгновенный след мой!
Это мое былое и будущее.
Так любовался Правин черными очами Веры, так гляделась она в голубые глаза Правина, глаза, которые чудной игрой природы осенены были черными ресницами, черными бровями и кудрями. Рука с рукой любовались они пенною колеей, врезанной кормою, колеей, беспрестанно новой и беспрестанно исчезающей. Волны, как друзья, то улыбались им, то хмурились на них и, мерно поражая фрегат, звучали как стихи Пушкина; при солнце рассыпались радужными снопами, при луне – растопленным серебром; в темную ночь сверкали фосфорною пеною: корабль плыл в море света. И бездонное небо, то со своим ночным пологом, вышитым звездами, то с голубым шатром дня, у коего маковкой было солнце, то в бурной ризе из туч, так величаво и таинственно восставало над любящимися, что они безмолвно терялись в созерцании и в разгадывании. Очи, небо и море! море, очи и небо! Какого века было б достаточно, чтоб насытиться вами, наглядеться вами!! Но любовь дает душе тысячи граней: в них, в одно мгновение, отражается множество предметов, и все различно, все ярко, все блистательно. Так малейшая красота природы, пустая шутка офицеров за чайным столиком, смешная сказка матросов, усевшихся с трубками над лоханью воды у камбуза[292] под баком, страница книги, прочитанной вместе, давали нашим любовникам неистощимый родник споров и разговоров, порождали тысячи новых мыслей.
Правду сказать, им для этого было довольно досуга. Правин уступил гостям все свои каюты, за исключением самой маленькой в стороне. Беспечный супруг скоро привык к корабельной жизни; да и о чем было ему горевать? Повар с ним был отличный, живности вдоволь, следовательно, любимое его изящное художество, то есть Plastik des Fliessenden (зодчество жидкостей), по выражению немецких мыслителей203, шло как нельзя лучше. Потолковав с художником поварни, он целое утро играл в кают-компании с мичманами в шахматы; за обедом подливал Стеллинскому бордо; после обеда отдыхал, а там опять та же история. Между тем как князь Петр живмя жил в кают-компании, между тем как иной шалун, лукаво улыбаясь, замечал, что самая слабая его игра – шах ферязи204, капитану Правину припала необыкновенная охота к письменным делам: он беспрестанно сидел за астрономическими выкладками, у коих итоги были едва ль не взоры княгини, и за журналом своих путешествий вкруг обеих гемисфер205.
Взгляните на карту: какое раздолье между Тигром и Евфратом приписано было земному раю для первой четы наших праотцев; мы не такие баловни, мы попривыкли к тесноте… Эдем наш уместиться может на одной полосе земли206, в четырех стенах кабинета, в скромной каюте, где вам придется жить втроем с любовью и с тридцатишестифунтовою пушкою. Если не верите, спросите у Правина и княгини Веры. К счастью ж Правина и княгини Веры, хотя к большой досаде всех его товарищей, бури и противные ветры замедляли их плавание, задерживали в портах, куда необходимо было зайти для освежения припасов и наливки водою. Так все относительно в этом свете. Вожделенна молния, когда указывает она потерянную дорогу. Ужасна заря, открывающая осужденному эшафот. для путника первая блистает, как свеча пиршества; для преступника вторая как лезвие топора. То, что рождало зевоту и побранки на устах моряков, внушало любовникам сладкие речи и еще сладчайшие поцелуи.
– Не бойся, милочка! – говорил Правин Вере, когда она страстно прижималась к его груди, внимая ударам разъяренных валов в состав фрегата.
– Мне ли бояться их, – возражала она, – когда я знаю, что каждая волна приносит мне лишнюю минуту счастья. Пускай дрожит от них дуб: мое сердце трепещет не от робости.
Оба любовника не выходили из забытья любовной горячки, забытья, оживленного наслаждениями и пламенными мечтами. Правда, минутная ревность злобно терзала сердце Правина, когда князь Петр приближался к Вере со своими насущными ласками, но тогда ее умоляющий взор, но после ее беззаветная преданность награждали его терпение, – и он успокаивался. Чистое сердце – точно волшебная прялка: она выпрядает золото поэзии из самой грубой пеньки вещественности; любовь Правина и Веры была истинна: то была страсть, какой давно не видит и не верит свет. Они блаженствовали.
Я сказал, что противные ветры замедляли путешествие фрегата «Надежды»… без сомненья, любовь в том выигрывала; но едва ль не теряла в том служба, и очень много. Правин утопил в своей привязанности все другие заботы. Любоваться Верой, когда вместе, думать о ней, когда врозь, стало его любимым занятием. То задумчив, то рассеян, он мало обращал уже внимания на порядок управления парусами, на внутреннее устройство фрегата и команды. Только в бурях, только в опасностях пробуждался он от дремоты, схватывал трубу и грозным словом своим укрощал злобу стихий. Но с бурею утихал он сам и снова падал в досадное равнодушие ко всему, кроме предмета своей страсти.
Нил Павлович сперва лишь качал головою; потом стал пожимать плечами, а наконец без шуток начал журить Правина за его небрежение к службе.
– Я предсказывал тебе, – говорил он не раз, – что, кто начнет кривить против долга честного человека, против связей общества, тот, конечно, не минует забвения обязанностей службы. Полно ребячиться, Илья: твоя связь не доведет тебя до добра; ты можешь в эту игру проиграть здоровье и доброе имя, – кто знает, может быть самую жизнь; а что всего хуже, ты погубишь с собою и княгиню… это прелестное создание, которое стоит лучшего света и чистейшей судьбы. Грешно человеку с душою вербовать ее в дружину падших ангелов.
Правин сперва оправдывался – ссылался на пример других, на силу своей страсти. Потом он отыгрывался шутками; наконец, стал молчать и сердиться. Советы друга ему наскучили, выговоры его досаждали ему. Не желание блага, а тщеславие своего превосходства находил он в прямизне Какорина. Его строгость называл он бесчувственностью, его неуклончивость – гордостью. Такова бывает участь всех тех, которые не поблажают нашим слабостям, которые дают лекарство, не обмазав медом края стакана. Мы терпеть не можем людей, которые угадывают наши тайные помыслы и дают им клички по шерсти; для нас обидно, когда собственная совесть заговорит чужими устами. Кстати ли послушаться кого-нибудь! Да что я за ребенок? Да я разве не знаю, что делаю? У каждого свой ум-царь в голове! Я не люблю плясать по чужой дудке… Самолюбие засыплет подобными пословицами, уколи его хоть булавкою. Холодность и принуждение разрознили старых друзей. Правин забыл, что с Нилом Павловичем делил он и детские забавы и опасности мужества; что его попечениям обязан был если не жизнию, то здоровьем, ибо, жестоко раненный под Наварином, за что произвели его после в капитан-лейтенанты, он целый месяц не мог двинуться, а Нил Павлович во все время его выздоровления не спал ночей, предупреждая все его желания и нужды, снося его причуды.
О! любовь – чужеядное растение… Оно скоро разрастается по сердцу и скоро выживает вон все другие чувства!
Между тем, несмотря на бури, несмотря на ветры, несмотря на умышленные замедления ходу от капитана, давно остались назади дебристые острова и гранитные скалы Финляндии, рыцарский Ревель, коего шпицы и башни вонзаются в небо, словно копья великанов, и другой страж, противоставший ему с берега Швеции, – Свеаборг, опоясанный тремя ярусами батарей. Побывав в Копенгагене, пролетев Зунд, оставив Гельсинор за собою, фрегат миновал грозные утесы Дернеуса, крайнего мыса печальной Норвегии, и вошел в Немецкое море. Наконец Норд-форландский маяк, как звезда Венеры, блеснул ночью над зыбями… «Англия!» – радостно закричал матрос с форсалинга[293]; но этот блеск, этот звук зловеще поразили чувство обоих любовников… они сказали им близкую разлуку!
Князя Петра уговорили выйти на берег в Плимуте. Фрегату способнее было там освежиться, чтобы оттоль прямо спуститься в океан. А князю из Плимута до Лондона предстояло любопытное путешествие, избавлявшее его от лишних хлопот нарочно ездить посмотреть Англию и возвращаться обратно. Итак, фрегат несся по Ламаншскому каналу, ловя, так сказать, лишь пену видов Англии и Франции. Кале и Дувр мелькнули как сон; скрылся и Спитгид, подобный вдали дикобразу от множества мачт, и Вайт – изумрудный перстень Англии. Берега Пертшира бежали, и наконец завиднелся Эддистонский маяк207, истинный геркулесов столб, вонзенный рукою человека в подводную скалу. Величавый памятник воли – не той тиранской воли, которая воздвигла бесполезные пирамиды в бесплодных песках Египта, но воли благотворной, хранительной, которая зажигает для пловцов новые звезды, чтобы они, подобно оку провидения, неусыпно стерегли и блюли от гибели тысячи кораблей. Вправо открылся Плимут, славный своим портом, который защищен недавно великанским волнорезом (breakwater) от бурь океана. Англичане велики в полезном.
Но чудесность этого волнореза, но богатство города, но прелесть окрестностей и новость предметов не утешали любовников, которым каждый дом, каждый шаг на земле напоминал: вам должно расстаться! И наконец час разлуки пробил. И, наконец должно было сказать «прощайте» – слово – задаток терзаний разлуки; слово, которое, как железный гвоздь, вытягивается в бесконечную проволоку, в струну, из которой каждый повев ветра извлекать будет звуки печали. Должно было проститься, и проститься не так, как любовникам, как супругам, на груди друг друга, растворяя горесть слезами, иссушая слезы лобзаниями, – нет! должно было проститься поклоном, при опасном свидетеле, задавить слезу улыбкою, задушить вздохи приветами, желать счастья, нося ад в груди своей. И этот ад всегда удел тех, которые закладывают душу свою за чужое счастье, которые украдкою рвут плоды Эдема. Настоящий владетель снимает с них счастье, как праздничный кафтан с своего раба, и он не смеет молвить слова. Он прячет в сердце и поминку о том, будто краденую вещь; он краснеет благороднейшего чувства, как низкого поступка. Правин не помнил, как он вышел из комнат князя Петра. Он очнулся уже на фрегате, при клике боцмана: «Якорь встал!», которому отвечало громкое «ура» шпилевых[294]. В руке его замерла карточка, всунутая в его руку княгиней Верой при расставанье. Но прежде чем прочесть ее – он прильнул к ней устами.
VI
Тихо катился фрегат «Надежда» вдоль берегов Девоншира. Колокольни Плимута и лес мачт его гавани врастали в воды. Живописные местечки, цветущие деревни являлись и убегали, точно в стекле косморамы…209 Даль задергивала предметы своею синевою. Свежестью осеннею дышала земля; мирно было все в небе и на море; но вдали серые облака заволакивали кругом горизонт, широкая зыбь грозно катилась в пролив, и западные склоны ее волн, встающие все круче и круче, предсказывали крепкий ветер с океана.
Вечерело. Нил Павлович, ворча что-то про себя, с заботливым видом поглядывал на туманное небо и на тусклое море, – он стоял на вахте.
– Не прикажете ли, капитан, убрать наши чепчики, то есть брамсели, разумею я, а вслед за ними и брамстеньги? – спросил он Правина.
– Прикажите, – отвечал тот равнодушно. – Хотя я не вижу в этом большой нужды; посмотрите-ка: паруса наши чуть не левентих[296].
– Конечно так, – возразил Нил Павлович, немного уколотый таким замечанием. – Теперь пузо[297] наших парусов как передник десятилетней девочки; зато взгляните, как надуло свое море! Этакая прожора! этакой Фальстаф210 земного шара! Оно готово скушать и нас без перцу и лимонного соку! Прислушайтесь, как стало оно ворчать и разевать пасть свою!.. Нет, погоди ты, морская собака; мы еще не довольно грешны, чтобы познакомиться с твоею утробою, не исповедавшись на Афонской горе211. Не придержать ли, капитан, круче к ветру, чтобы до ночи удалиться от берегов?
– Нет, Нил Павлович, мы спустимся в океан не ранее как обогнувши мыс Лизард, чтобы, забравшись выше, далеко миновать бурливую Бискайскую бухту. До той поры держаться надо параллельно берегу.
– Чтоб не прижало нас волнением к бурунам… Каменный утес – плохой сосед деревянному боку.
– Кажется, Нил Павлович не перешел еще меридиана жизни, за которым и самую робость величают осторожностию.
– Одной осторожностию больше – одним раскаянием менее, капитан!
– Риск – дело благородное, Нил Павлович! Не с вами ли ходили мы на гнилом решете между ледяных гор Южного океана, – и боялись ли тогда идти все вперед да вперед? Бывало, сменившись с вахты, чуть заснешь – смотришь, выбросило из койки, а сквозь пазы хоть звезды считай. Что такое? Стукнулись о льдину… течь заливает трюм, качка тронула из гнезда мачту! Да тонем, что ли? «Нет еще», – отвечают сверху. И мы засыпали опять богатырским сном.
– Это правда, капитан: мы засыпали, но это было оттого, что вы не были командиром судна, а я первым лейтенантом, как теперь. На нас не лежал ответ даже за свои души, нам с полгоря было тогда тонуть, не раскрыв даже одеяла, боясь простуды. Теперь иное дело: от нас Бог и государь требуют сохранения корабля и людей.
Капитан не слыхал окончания этой речи: он уже в глубокой думе стоял на подветренной сетке, устремив свои очи на волны.
Какое странное действие производят они на воображение тронутого человека. Игра их отражается в нем будто в зеркале. Самые мечты его колышутся, возникают, опадают в нем вещественно и, не образуясь ни во что определенное, сливаются с морем, не оставив по себе следа. Так было и с Правиным. Любовь его была глубока как море, кипуча как море, сердце его было на время оглушено разлукою, и оно очнулось лишь тут; оно пробудилось, как младенец, подкинутый безжалостною матерью к чужим воротам зимою, – и первый звук, из него вырвавшийся, был болезненный крик отчаяния. Нерассветающий мрак, убийственный холод – вот что отныне будет его тюрьмою и пыткою. Люди не сохранят для него в гостинец ни одной радости. Уединение не даст ни одной светлой мысли. Опустошает, как Тимур-ленг, душу разлука212, душу человека, одаренного мыслию и чувством! Он отчуждил ее, он перелил ее в бытие милой, он сплавил свои мысли с ее мыслями, свои чувства с ее чувствами. Как чудные близнецы, сердца их срослись в одно целое, – и вдруг это целое разорвано, разбито, разброшено судьбою. Такой человек теряет вдруг все, потому что он все отдал; он не верит надежде, потому что забрал слишком много у прошлого, потому что он в часах истратил годы счастия. Лишь одно воспоминание вползает в развалины, как змея. О воспоминание! ты льешься тогда горючими слезами из очей, каплешь кровью из сердца. Разлука встает между любящимися, будто ледяная стена, и на ней, словно в волшебном фонаре, изображается в тысяче видах все былое. Вторится каждая прелесть, каждое слово неги и нежности! Чародей, она воскрешает ласки, уносившие нас до восторга, утоплявшие нас в небесном самозабвении, зажигает вновь взоры и поцелуи, и когда на устах разгорается жажда лобзаний, когда кровь пышет, когда сердце рвется слиться с другим в пламени взаимности, – рука, и уста, и сердце встречают лед, и мечта тонет в мерзлой реке, подобно голубку, опаленному пожаром. Тогда, о, тогда невольно рождается вера в злое начало, в самовластие Аримана213, в силу ангела тьмы! Кажется, чувствуешь тогда его мертвящее дыхание, видишь во тьме его злобные очи, внемлешь его адский смех за собою.
Мрачней, все мрачней становилось море, и с ним заодно чернели думы Правина. Грудь его вздымалась тяжело, будто свинцовые валы обливали ее своею тяжестию, будто лежала на ней колоссальная рука судьбы. Он смотрел на полет чаек: они одна по одной отставали от фрегата и с жалобным криком исчезали в туманном небе.
«С вами, – думал он, – улетают мои последние радости, и когда Англия, эта раковина, хранящая жемчужину моей души, исчезнет из глаз моих, не все ли равно, что я схороню ее в океане… Когда случай сведет нас? где могу я встретить ее? А между тем я, бедный скиталец, останусь над бездною один-одинок!»
Как обыкновенно звучат эти слова! Раскройте словарь, и вы с трудом их отыщете на странице. Как грамматическое орудие, они ничем не отличны от своих собратий; но как выражение мысли, как символ чувства, как след дела – я никогда не могу прочесть или услышать их, чтоб сердце мое не сжалось. Один Бог может быть одинок без скуки, ибо в лоне его движется все. Только Бог может быть один без сожаления, потому что нет ему равного.
Предвещания, предчувствия теснились в сердце Правина: сильные страсти нас делают суеверными. Но к ним прививалась и ревность, которой не мог отрицать ничей разум.
«Она будет в Лондоне и в Париже, – думал он, – и кто порука, что в вихре рассеянности она не забудет меня! Притом устоит ли она против обольщения, вооруженного всеми прелестями дарований, ума, славы, красоты, моды? устоит ли против собственного тщеславия? И я, неопытный, ни разу не дерзнул ей напомнить о верности, связать ее клятвою! О, как бы я желал еще хоть час побыть с нею, услышать ее обет верной, вечной любви, умолить хоть из жалости не изменять мне и, если суждено нам судьбою не видаться более, проститься с ней не равнодушным знакомцем, как это было в Плимуте, но страстным любовником, наедине, слить наши слезы и пламенным поцелуем запечатлеть пламенную любовь!»
Он вынул из кармана последние слова княгини, написанные карандашом на обороте карточки адреса лучшего трактира в местечке… (мы назовем его Ляйт-Боруг), куда сбиралась ехать сегодня же княгиня отдохнуть вдалеке от шуму и пыли, покуда сошьют ей в Плимуте английский костюм. Ей так расхвалили здоровое местоположение и живописные окрестности этого Ляйт-Боруга… ей так необходимо поправить свою слабую грудь после морского путешествия. Князь приедет за нею дня через три, и вместе отправятся в Лондон; и теперь княгиня должна быть уже там, и его фрегат против самого Ляйт-Боруга, и до берега не более двух миль! Все это пришло вдруг на память Правина. Он несколько раз поворачивал карточку, и каждое слово ее казалось ему чертами света, – они загорались подобно электрическому фейерверку от прикосновения проводника. Недоконченная речь: «Ангел мой, я твоя…» – принимала тысячу разных смыслов, и все они сходились к одному: свиданье или смерть! Для чего ж иного она хотела ехать в Ляйт-Боруг? Для чего иного написала свое таинственное посланье на карточке адреса?..
«Свиданье или смерть!» – молвил себе Правин.
– Нил Павлович! – сказал он, быстро обернувшись к лейтенанту, – прикажите спустить с боканцев мою десятку214: я еду на берег!
– На берег? вы, капитан, едете на берег? – с изумлением спросил Нил Павлович. – Этого быть не может.
Правин важно посмотрел на лейтенанта.
– Желал бы я знать, почему не может этого быть? – с ирониею возразил он.
– Потому что не должно, капитан!
– Нил Павлович будет, конечно, так добр, что растолкует, почему это?
– Я думаю, вы лучше всех знаете, капитан, что, глядя на вечер, опасно пускаться в прибой для шлюпки; еще опаснее ложиться в дрейф для фрегата, когда буря на носу. Притом это напрасно замедлит путь.
– Оставьте мне знать, что напрасно и что надобно. Я так хочу – и оно так будет. Прикажите сейчас спустить шлюпку!
Нил Павлович поздно заметил, что он ошибся в расчете, обращаясь к Правину как к начальнику и между тем противореча как другу, вместо того чтобы обратиться к другу и уговорить капитана.
– Ты сердишься, Илья? – сказал он, подошедши к нему ближе, – и, право, напрасно. Посмотри на небо и на море: они хмурятся на нас, будто судья на уголовного преступника. Не покидай же фрегата в такую пору: не клади на себя упрека, что ты уехал от опасности!
– Я бегу от опасности? Послушай, Нил… на свете не было другого, кроме тебя, кто бы осмелился мне сказать это; и нет никого, кто бы сказал это дважды. Я довольно жил и служил, чтобы меня не подозревали в трусости!
– Илья, Илья! прочь от меня укор в подобном сомнении. Не отвага, а благоразумие тебе изменяет. Не в трусости, а в безрассудстве станут обвинять тебя, если ты поедешь… Ну, чего Боже сохрани, если без тебя что случится!..
– Кажется, Нил Павлович боится ответственности, когда останется старшим.
– Не ответственности, но вреда судну и людям боюсь я. Неплохой я моряк, Илья Петрович, ты знаешь это; зато я сам знаю, что ты моряк лучше меня. Лежать в дрейфе, дожидаясь тебя в бурную ночь вблизи камней, – право, не находка. Друг, Илья! отложи свое намерение, – взяв его за руку, с чувством продолжал Нил Павлович, – волнение развело огромное – видишь, как сильно поддало!
В самом деле, вал расшибся о скулу фрегата и через сетку окропил брызгами обоих друзей. Фрегат вздрогнул, но сердце капитана осталось спокойно, – ему ничто не казалось зловещим. Любовь ослепляет самый опыт и дает какую-то темную веру, что природа может иногда изменять свои законы для любовников. Правин отряхнул брызги и тихо отвел руку Нила Павловича.
– Пустые страхи! – произнес он. – Еду, хочу ехать!..
– Твоя воля мне закон, но воля, а не прихоть. Не сердись, что я круто говорю тебе правду, я не придворный. Будь муж, Илья! Ты уж и то много потерял во мнении товарищей через свою предосудительную связь; ну да прошлое прошло, Бог с ним! Распростились – баста! Нет, так давай еще амуриться. Сам посуди: стоит ли рисковать царским фрегатом и жизнью этих добрых людей, даже собственною славою, для масленых губок какой-нибудь беспутной княгини? Капитан вспыхнул.
– Прошу вас, г<осподин> лейтенант, быть не очень тароватым на осужденье особ, которых вы хорошо не знаете. Вместо того чтобы разбирать поведение вашего капитана, лучше бы вам исполнять его приказания.
– А! – молвил тогда обиженный в свою очередь Нил Павлович, отступая и возвысив голос. – Вам угодно говорить мне как начальник подчиненному? Так позвольте мне, в лице вахтенного лейтенанта, заметить вам, капитан, что вам неприлично отлучаться со вверенного вам фрегата перед бурею, зная, что этим вы подвергнете его неминуемой опасности.
Нил Павлович брызнул маслом на огонь.
– Вы, сударь, не судья мне! Прикажите, сударь, спустить шлюпку, говорю я вам! – вскричал Правин в запальчивости. – Не заставьте меня самого приказывать. Знайте, что если вы меня выведете из терпения, я могу забыть и прежнюю дружбу и долгую службу нашу вместе.
– Мне кажется, капитан, вы уже забываете ее, оставляя свой пост. Я гласно протестую против вашего отъезда и прошу записать мое мнение в журнал.
– Г<осподи>н штурман! – гневно воскликнул капитан, – запишите в журнал слова г<осподи>на лейтенанта Какорина и прибавьте к этому, что он арестован мною за ослушание. Отдайте, милостивый государь, ваш рупор лейтенанту Стрелкину и не выходите из вашей каюты. Шлюпку!
– Пусть нас судит Бог и государь! – горестно сказал Нил Павлович, уходя. – Но вспомните мои слова, капитан… вы дорогою ценой купите горькое раскаяние!
Капитан корабля, беспрестанно находясь на службе и вблизи своих офицеров, поневоле облекается недоступностию, чтобы подчиненность не исчезла от частого товарищества, и это наконец обращается в привычку властвовать. Правин, как и всякий другой, скоро привык к безусловному повиновению, а тут Нил Павлович, не умея взяться за дело, раздражил вдруг и страсть и гордость Правина будто нарочно. Затронутый за живое, он счел обязанностью сделать наперекор своему другу.
Отдав все нужные приказания молодому лейтенанту, Правин спрыгнул в катер. Десять лихих гребцов ударили в весла и скоро, выбравшись на ветер, поставили паруса. Катер покатился с волны на волну, между тем как седая пена забрасывала мгновенный след его, будто ревнуя, что утлая ладья презирает ярость могучей влаги.
VII
И в думе нет, что наслажденье – прах,
Что случая крыло его уносит,
Что каждый маятника взмах
Цветы минутой жизни косит.
А Б.215
Свечи догорали в комнате княгини Веры, в гостинице Ляйт-Боруга. Было три часа за полночь, и счастливец Правин вырвался из объятий своей страстной и прекрасной любовницы.
– Возможно ли! – сказал он, – уже близко утро, целая ночь испарилась, как поцелуй!
С диким восклицанием поднялась с дивана княгиня, глаза ее впились в Правина…
– О, не говори мне об утре, не напоминай о разлуке: я не пущу тебя… ты сам не покинешь меня… не правда ли? – продолжала она с ребяческою нежностью, привлекая его на свою грудь. – Мой Илья не будет так жесток – он не предаст меня отчаянию, я не отдам тебя морю!.. Слышишь, как сечет ливень в окна, как завывает буря!..
Правин в половине поцелуя оторвал уста от коралловых уст княгини и заботливо прислушивался к шуму сражающихся стихий. Мысль о шторме, о бедствии, в котором мог быть его фрегат, прожгла его мозг. Страшно было видеть его побледневшее лицо подле томного лица княгини, подернутого прозрачным румянцем неги… Вера была тогда прелестна, как страстное желание поэта, в котором более неба, чем земли; Правин со своими мутными очами походил на раскаяние, пробужденное страхом.
– Спасите! – вскричал он наконец безумно, – фрегат мой тонет… Слышите ль выстрел, еще выстрел, еще?..
Буря будто притихла с усталости… какой-то гул замирал вдали, под скалой зверем ревело море… но кругом все было тихо, до того тихо, что слышно было падение капель с кровли и бой испуганного сердца княгини.
– Нет, мой бесценный, ты ошибся – то были удары грома. Может ли быть несчастлив кто-нибудь в то время, когда мы так счастливы!
Правин с какою-то неистовою негою упал в объятия Веры.
– Ты моя! Вера моя! Что ж мне нужды до всего остального, – пускай гибнут люди, пускай весь свет разлетится вдребезги! Я подыму тебя над обломками, и последний вздох мой разрешится поцелуем!.. О, как пылки, как жгучи твои уста в эту минуту, очаровательница!.. Знаешь ли, – примолвил он тише, сверкая и вращая очами как опьянелый, – ты должна любить меня, уважать меня, поклоняться мне более чем когда-нибудь… Знаешь ли, что я богаче теперь Ротшильда, самовластнее английского короля, что я облечен в гибельную силу, как судьба? Да, я могу сорить головами людей по своей прихоти и за каждый твой поцелуй платить сотнею жизней – не жизнию врагов, о нет! Это может всякий разбойник. Это слишком обыкновенно… Нет, говорю тебе, я бросаю на ветер жизнь моих любимых товарищей, моих друзей и братьев, а за них во всякое другое время готов бы я источить кровь по капле, изрезать сердце в лоскутки!
Трепеща, внимала княгиня этим несвязным речам, не вполне понимая их.
– Ты меня ужасаешь, милый! – говорила она. – Илья! ты уморишь меня со страха!
– Умереть? кто говорит умереть – вздор! Теперь-то и надо нам жить, потому что одна любовь стоит назваться жизнию; ты сама прелестна как жизнь, Вера! – произнес он, обтекая ее взорами, пожирая лобзаниями. – Ты божественна как смерть, потому что заставляешь забывать все, потому что заключаешь в себе рай и ад. Помнишь ли обет мой отдать тебе и за тебя душу! Вот она! вот она вся… Я не продавал ее по мелочи за ничтожные радости, не променивал ее на золото. Девственну и чисту сохранил я ее до сих пор – и теперь бросаю ее к ногам твоим, как разорванный вексель. Дорого, о, невообразимо дорого ты мне стоишь, милая! но я не раскаиваюсь, я заплачен выше цены.
С каким-то судорожным восторгом он притиснул к своей груди княгиню; та робко отвечала на его ласки, Со своими воздушными формами она казалась с неба похищенною пери на коленях сурового дива216; и наконец, уступая оба неодолимому очарованию страсти, они слились устами, будто выпивая друг из друга жизнь и душу.
Часы могли бить, петух петь, не возбуждая любовников из упоительного забытья; но они пробудились не сами. Страшный, как труба, пронзающая могилы и рассевающая льстивые грезы грешников, раздался над ними голос… Сердца их вздрогнули – перед ними стоял князь Петр!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Она вырвала пистолет из руки Правина и почти без чувств прильнула к его плечу. Он бережно опустил ее на кресла и, потупив очи, но подняв брови, обратился к обиженному супругу.
– Час и место, князь! Я знаю важность моей вины, знаю требования чести…
Физиономия и осанка князя, весьма обыкновенные, одушевились в то время каким-то необычайным благородством. Ничто так не возвышает языка и движений человека, как негодование.
– Требования чести, м<илостивый> г<осударь>? – отвечал он гордо, – и вы говорите мне о чести в спальне моей жены? Вы, которого я принял к себе в дом как друга, которому доверился как брату, и вы обольстили мою жену – эту женщину, хотел я сказать, – запятнали доброе имя, пустили позор на два семейства, отняли у меня дом и лучшую отраду мою – любовь супруги, вы, сударь, одним словом, похитили честь мою и думаете загладить все это пистолетным выстрелом, прибавя убийство к разврату? Послушайте, г-н Правин: я сам служил моему государю в поле, и служил с честью. Я не трус, м<илостивый> г<осударь>, но я не буду с вами стреляться; не буду потому, что нахожу вас недостойным этого. Не буду потому, что не хочу вовсе бесславить ни себя, ни жены моей. Пусть это происшествие умрет между нами, но между мной и ею с этих пор не будет менее ста верст. Чужая любовница не назовется с этих пор моею женою. Мы разъезжаемся, и навек! Она богата – стало быть, найдет и утешенье и утешителей. Это мое неизменное слово, это святая клятва моя. Для света можно сказать, будто мы поссорились за пелеринку, за модное кольцо – за что угодно. Вот все, что я имею сказать вам, только вам, сударь! Эта неблагодарная женщина не услышит от меня ни одного упрека; она не стоит не только сожаления – даже презрения. Я добр, я был слишком добр, но я не из тех добряков, которые терпят рога добровольно. С вами я надеюсь встречаться как можно реже, с нею – никогда! Я еду в Лондон; я оставляю вас наедине с этою бессовестною женщиною и с вашею совестью и уверен, что вы не будете долго ссориться все трое!
Обиженный супруг закрыл глаза руками, но крупные слезы прокрадывались из-под них… Он медленно отворотился… Он вышел.
Княгиня рыдала без слез, на коленях, склоня голову на подушку дивана. Правин стоял в каком-то онемении, сложа на груди руки; он не мог ничего сказать на отпор князю, потому что внутренний голос обвинял его громче обвинителя; он не мог промолвить никакого утешения княгине, оттого что не имел его сам. Эгоизм страсти предстал перед него тогда во всей наготе, в своем зверином безобразии! «Ты, ты, – вопияла в нем совесть, – разбил этот драгоценный сосуд, бросил в огонь эту мирру217, для того чтоб одну минуту насладиться благоуханием. Ты знал, что в ней заключен был талисман счастия, завет неумолимой судьбы, слава и жизнь твоей милой, знал – и дерзко изломал печать, как ребенок ломает свою игрушку, чтоб заглянуть внутрь ее. Взгляни же теперь на душу Веры, тобою разрушенную, полюбуйся на сердце ее, которое ты вырвал и бросил в добычу раскаянию, на ум, который с этих пор будет гнездом черных мыслей, укорительных видений, – и для чего, для кого все это?.. Не лицемерь, не прячься за отговорки: все это было для себя, для собственной забавы; ты не боролся с своею страстью, не бежал от искушения, не принес себя в жертву, – нет, ты, как языческий жрец, зарезал жертву во имя истукана любви – и сам пожрал ее. В какой свет, в какое общество сбросил ты княгиню? Отныне в каждом поклоне будет она видеть обиду, в каждой улыбке – насмешку, в родном поцелуе – лобзанье Иудино218; везде будут казаться ей качание головою, и перемигивание, и лукавый шепот; самый невинный разговор будет колоть ее шипами, самую дружескую откровенность вообразит она вызнаваньем, вся жизнь ее будет горечь сомненья, и подавленные вздохи, и слезы, снедаемые сердцем!..»
Да, ужасное похмелье дает нам упоение страстями! Изможденные телом и духом, мы пробуждаемся перед судом для того, чтоб услышать приговор неумытных жюри219, которые из глубины души произносят страшное «guilty» – «виновен»!
Правин отвел очи от княгини. Уже светало, и взоры его сквозь чистое окно упали на беспредельное море. Оно было мрачно и пусто, подобно его душе. Огромные валы, словно стада китов, рыскали и плескались в пространстве, и вдруг между ними мелькнул корабль, – только образы его во мраке и тумане были так неясны, что суеверный моряк сказал бы: «Это корабль-привидение, осужденный вечно скитаться по океанам с проклятыми своими пловцами». С тяжким биением сердца, не переводя духу, следил его Правин, но корабль, одетый сумраком, исчезал, и снова обозначался, и снова сливался, как облако с облаками. Буря уменьшилась, но черные тучи ходили еще по небосклону взад и вперед, как победители, которые считают трупы убитых.
Наконец заря облила воздушною кровью и тучи и волны с востока; туманы и сомнения Правина рассеялись. Замеченное им судно было точно фрегат «Надежда», но в самом бедственном положении, без стеньг, с изломанной фок-мачтой220 и бушпритом, с искривленными реями. Два или три стакселя[298] поднятые вполовину, казались последними усилиями борьбы с судьбою, влекущей его на скалы. О, велик бы был тот сердцеведец, кто физиологически разложил бы тогдашнее восклицание Правина: «И это!», кто разложил бы нам едкость отравы, проникнувшей его сердце, или степень мук от угрызения совести! Лесажев бес снимал кровли, но если б он снял череп с головы Правина и заглянул в ум его, он бы содрогнулся от ужаса и адский даже язык прильнул бы к гортани.
Стиснув рукою чело, как будто от страха, чтобы голову его не расторг вихорь мыслей, с кровавыми пятнами по лицу, с очами, кои, подобно маятнику, ходили от фрегата к княгине, от моря к любовнице, Правин был живой образ казни между двух жертв, между двух преступлений: против нравственности и службы.
Наконец долг победил страсть. Правин горячо поцеловал в лоб княгиню и произнес:
– Вера, прости меня – и прощай!! Нам должно расстаться: фрегат бедствует!
Львицей, у которой уносят последнего детенка, вскочила Вера.
– Бедствует, фрегат твой бедствует!.. И ты, злобный человек, можешь говорить мне об этом, будто я на розах, будто сама я не бедствую! Ты жалеешь дерево, жалеешь чугун и безжалостен к сердцу, тебе отданному, тобой разбитому; бросаешь меня на съедение отчаянию. Для тебя я забыла все, отдала все, – и ты все это забываешь! Нет! Ты мой, мой навечно: я купила тебя, я выменяла тебя на мое счастие здесь, на рай мой там! Не правда ли, ангел мой! ты мой? Ты не покинешь меня в таком положении: кроме тебя, у меня нет покровителя. За час перед этим я имела имя, отечество, семью, друзей, – ты оборвал с меня все это, как эти цветы; как эти цветы, растоптал ты их пятою. И я не жалею о них, покуда ты со мной. Твое сердце мне будет родина, твои объятия – родные, твои речи – подруги мои; ты будешь свет мой, мир мой… О, не покидай же меня, не убивай меня!!
И она нежно обвивала Правина своими прозрачными руками; и она обольстительно шептала ему несвязные речи. Но мужчина может забыться – не забыть беды, его окружающие, и в то время, когда женщина множит любовь своими пожертвованиями, своим несчастием, когда она в целом мире не думает ни о чем, кроме любви, мужчина самою жестокостию бед возбуждается из душевного расслабления – он уже ищет, как бы поправить дело.
– Душа моя, душа моей души, прошлое невозвратно, но подумай о будущем!.. Его еще можно заставить служить нам. Я съезжу на фрегат, чтоб пособить повреждениям и не допустить до крушения. Ты теперь свободна – ты можешь ехать куда хочешь, – спеши в Италию! Там я встречу тебя в каком-нибудь приморском городе, в одном или в каждом из портов Средиземного моря. Позволь же мне отлучиться: это необходимо для спасения обломков моей чести, для спасения, может быть, пятисот моих товарищей. Честное слово тебе даю, что завтра вечером я буду в твоих объятиях… Посмотри, буря утихает!..
Долго и пристально смотрела княгиня в глаза Правина.
– Ты меня не обманываешь, – с тяжким вздохом сказала она, – но разве не может обмануть нас судьба!.. О, не езди, мой милый… мне что-то говорит, что мы не свидимся более… по крайней мере не говори мне «прощай!» – мне ненавистно это слово. В твои руки, Илья, отдаю я свое сердце, – промолвила она, залившись слезами, – в руки Бога поручаю твое.
Она упала на колени перед окном, будто умоляя свирепое море пощадить ее друга; потом очи ее слились с небом – она молилась, горячо молилась; и кто бы не сказал, видя это прелестное лицо, дышащее чистою верою, орошенное слезами умиления, что ангел молит небеса о спасении грешника. Она обратилась к Правину с улыбкой грусти, с простертыми устами, чтобы встретить его прощальное лобзанье, проводила его взорами и упала без чувств на холодный пол гостиницы.
– Ребята! – крикнул капитан своим гребцам, лежащим подле вытащенной на берег шлюпки, – мне непременно должно быть на фрегате, – если умирать, так умирать вместе с товарищами! Едем!
– Рады стараться! – закричали в один голос удалые гребцы. Они привыкли каждое желание капитана считать святым каждое слово правдивым и разом сдернули десятку на воду.
Но не так легко было выбраться из бухты. Шумные буруны ходили стенами и отбрасывали назад катер. Четыре раза, разгребая в упор, силились гребцы переметнуться за спорный вал – и четыре раза, черпая носом воду, уступали ярости удара. Утроив силы, улучив способный миг, удалось наконец им выбраться в море, но море еще кипело и бушевало, раскачанное ночною бурею. Валы сливались в огромную зыбь: вставали и падали неправильными рядами и, взбрасывая катер как щепку, грозили залить или поглотить его. Ветер бил на берег, и потому пришлось идти на гребле. Волнение выбивало из уключин весла, два человека беспрестанно отливали воду: в катер поддавало со всех сторон.
На руле заслуженный урядник, который свыкся с бурями и опасностями как с лишнею чаркою водки, для которого, по собственному его выражению, море было масленица, а девятый вал – милее девятого блина. Он прехладнокровно глядел то на свой нос, то на нос катера, наблюдая, чтобы он не рыскал. Казалось, все, что совершалось кругом его, было ему совершенно чуждо. Всегдашний спутник поездок капитанских, он уже ознакомился с его нравом и знал, когда можно было молвить ему словцо-другое.
– Смею спросить, Илья Петрович, – сказал он капитану вполголоса, – сны иногда бывают, то есть, от Бога?
– Случается, – отвечал рассеянно Правин.
– Я чай, что от Бога, ваше высокоблагородие! Да и как залезть лукавому в христианскую голову, когда на ночь перекрестишь лоб. Я вчерась, то есть, кажись, положил крест даже на изголовье; с крестом, изволите видеть, ваше высокоблагородие, мягко спать и на камне, а все-таки привиделся мне чудный сон… Грянь, други, грянь – проводи дальше весла!.. И такой сон, то есть, что ума-разума не приложу разгадать его… Ну, девятый прокатился! Виделось мне, будто у нас на «Надежде» смотр не смотр, праздник не праздник, только народу кишмя кишит: генералов, адмиралов, штабства – видимо-невидимо. И все словно наяву пьют и закусывают; только все молчат; такая тишь, что муху бы услышал. И вот, то есть, будто кто-то крикнул: «Смирно!» Команда наша выстроилась на шканцах, глядим, гости потянулись мимо нас, а сами заглядывают в глаза. И шли будто, шли – конца не видать. Вдруг, то есть, откуда ни возьмись, и ваше высокоблагородие – в полном мундире, только через плечо вместо ленты красный флаг: не ведь гюйс221, не ведь какой сигнальный. А идете будто вы под ручку с какой-то барынею – лицо открыто, а лица не видать!.. Ну, други, ну, навались! что зазевались на зайчиков! И вот остановились будто вы, Илья Петрович, как теперь гляжу, передо мною. «Выйди вперед, Гребнев! – сказали мне и положили руку на мое плечо, да и молвите барыне: – Я его беру с собою, он довольно послужил, надо успокоить его старые кости!» То есть, видно, в отставку выйдете да и меня, старика, в дворецкие возьмете, – буду я себе в ту пору посвистывать в ключ вместо этого свистка. Ну да не о том речь, в<аше> в<ысокоблагороди>е! Глядь будто я на себя, да так и сгорел – на мне вместо куртки белая рубашка! Просыпаюсь, а сердце будто вырваться хочет, – насилу открестился. Что бы это значило, в<аше> в<ысокоблагородие>?
Правин невольно впал в глубокую думу. Смутная мысль о смерти пала на душу впервые, и в этот раз она ничего не имела в себе отрадного. Умереть, утонуть, не помирившись с совестью добрыми делами, не выкупив у прошлого проступков своих блестящими поступками!.. Он вспомнил, что тонкая дощечка отделяла его от влажной могилы, – и содрогнулся он и обозрелся кругом: море крутилось страшно; фрегат был близок, но зыбь валяла его с боку на бок так сильно, что медная обшивка обнажалась до киля, сверкая будто броня великана; потом вал снова закрывал корпус, так что чуть виднелись снизу марсы. Полкабельтова, не больше, оставалось до борта222, но борт был опаснее всякой скалы: прибой расшибался, воя, о ребра его и широкими всплесками грозил каждый миг залить и опрокинуть катер.
– Молись, Гребнев, Николаю Угоднику, – сказал капитан, ударив урядника по плечу, – молись: матросские молитвы до неба доходны. Если мы счастливо пристанем к борту, ты будешь нянчить внуков моих.
– Крюк! – закричал урядник; с борта кричали: «Лови, лови!» Роковая минута настала. Глаз капитана не обманулся в степени опасности: сон Гребнева упал в руку…
VIII
К ночи того же дня ветер совершенно стих, море опало. Оно едва-едва будто дышало от усталости и что-то шептало, засыпая. Обломанный фрегат «Надежду» прибуксировали ближе к берегу, и он лежал уже на якоре. Работы на нем кипели; скрип блоков, треканье и удары мушкелей223 раздавались повсюду. Ставили запасный рей вместо потерянной мачты, переменяли стеньги, такелаж224; починивали изломанные сетки. Помпы хрипели, будто больной; палубы изображали прекрасный отрывок хаоса. Везде царствовала суета, но в ней не было души: матросы работали без песен, без сказок; тихо перемолвливались и печально качали головою; видно было, что свершилось какое-то важное несчастие.
– Что, нет надежды? – спросил один мичман лекаря Стеллинского, который вылезал из-под сукна, коим отделялся лазарет от палубы.
– Никакой, – отвечал тот, – лекарства ему так же бесполезны теперь, как трубка табаку. Пусть подшкипер снимает с него мерку на саван.
– Жаль! Гребнев был лихой урядник. Ну а из вчерашних, ушибленных сорвавшимся реем?
– Двое будут живы; остальные ж трое отправятся сквозь порт туда же, куда слетели семеро сверху.
– Худо, очень худо! Десять жертв с фрегата и шесть с капитанского катера – это не безделица! У меня душа замерла, когда со всего размаху ударился катер в борт, – только щепки брызнули! Одного гребца в моих глазах размозжило о руслени225; другого прищемило днищем и расплющило как пуговицу. Ну да это все не беда, лишь бы жив остался наш капитан; вы давно проведывали его, Стеллинский?
– С полчаса назад; он потерял много крови, – проклятый гвоздь с изломанной доски шлюпки глубоко вонзился ему между ребрами; я насилу мог остановить кровотечение. Однако теперь горячка стихла, и он вообще больше болен духом, чем телом: affection mentals[299]. Он, видите, нервозного сложения: на него крепко подействовало повреждение фрегата и гибель людей. Если бы нам, медикам, случалось приходить в отчаяние от ошибок, так пришлось бы задавиться турникетом226 после первого дежурства в клинике.
– Слава Богу, доктор, что добрые люди не вдруг привыкают к чужой гибели, притом кроме худой славы перед своими и англичанами немудрено, что капитан наш поплатится за свою прогулку эполетами.
– Неужели ж его отдадут под суд за мачту?..
– Да, Стеллинский! Не дай Бог попасться под военный суд: это хуже вашего консилиума, – и между тем это вероятно. Государь, правда, лично знает Правина и после наваринского дела сам назначил его командиром фрегата; начальство уважает его, но сами вы знаете, что служба ни шутить, ни лицеприятничать не любит.
– Да, да! это будет невозвратная потеря для флота!
– Впрочем, делайте вы свое дело, а мы, офицеры, обработаем свое. Разве нельзя три четверти вины пустить на ветер? С бурями, так же как с вашими болезнями, все шито да крыто.
– Дай Бог, дай Бог!
Лекарь вошел в капитанскую каюту.
Кто бы узнал в этом бледном, изможденном страданиями теле вчерашнего Правина, цветущего здоровьем, кипящего надеждою? Расшибленная голова его была обвязана полотенцем, лицо мерцало могильною белизною, зрачки не двигались в глазах, охваченных синим кругом, – они лишь расширялись и сжимались повременно. Подперши левою рукою голову, правой держал он за руку Нила Павловича, который сидел у него на кровати и с ним разговаривал. У обоих остатки слез дрожали на щеках.
– Нилушка! не оправдывай меня; отлив крови – прилив рассудка: я вижу теперь, что во всем виноват сам, – один я буду и в ответе. Не арестуй я тебя, мы не потеряли бы ни одного лисель-спирта. Не вини Стрелкина: он молодой офицер, он новичок-лейтенант, и если спустился под шквалом на фордевинд, не убравшись даже с ундерзейлями227, – это оттого, что он никогда не бывал в подобных обстоятельствах…
– Впрочем, – сказал ласково Нил Павлович, – все зависит от того, в каком виде представим дело начальству.
– Неужели ты думаешь, друг мой, что я стану лгать в извинение? Ни в чем, никогда! Завтра же рапортую о несчастном случае императору и Адмиралтейству – и все, как было, все без утайки. Ты простил меня, – может статься, накажет слегка и начальство; но могу ли я простить самому себе – успокоить совесть за смерть людей!
– Грот-марса-рей сорвался случайно. Второпях, в потемках один урядник отдал топенант вместо грот-стенг-стаксель-фала228, и люди полетели долой. Это могло случится и при тебе.
– Я уверен, что ни при мне, ни при тебе не было бы суматохи, не было бы и торопливости… А гребцы мои, а?.. – Правин вздернул одеяло на лицо и несколько минут безмолвствовал. Только содрогание одеяла доказывало, что он под властью ужасного чувства. Наконец он открылся. – Нил, тебе известно все, – сказал он, – были проступки и в прежней жизни моей, но я бы отдал смерти половину дней, назначенных мне жить, и посвятил бы остальную на благодарность Богу, если б можно было вычеркнуть из бытия последние двадцать четыре часа…
– И я, преступник, – вскричал он, помолчав с минуту и потом подымаясь на ложе, – я, который играл царскою доверенностию, который обольстил, погубил любимую женщину, обидел друга, запятнал русский флот, утопил шестнадцать человек, для насыщения своей прихоти, – и я-то думаю жить! Нет! Я не переживу ни своей чести, ни своей души; я не хочу, я не должен существовать. Море взлелеяло меня, море дало мне свои бурные страсти – пускай же море и поглотит их: только в бездне его найду я покой! Если суждены мне муки за гробом, то пусть мучусь вне тела, без сердца, одной душою!.. Это уж выигрыш!.. Смерть, ты улыбнешься мне, как Вера… Приди, приди!
Он страшно восклицал, он жадно простирал руки к какому-то незримому предмету, он был в исступлении.
– Горячка снова им овладела, – сказал на ухо Нилу Павловичу лекарь, – надо употребить утишающие средства, и завтра же будет mens sana in cor pore sano[300].
Он заботливо уложил больного.
Нил Павлович вышел наверх отдохнуть от сильных впечатлений. Солнце садилось. Били вечернюю зорю; оба флага скатились тихо, тихо долой; ночь ниспадала прозрачна и мирна, но все было мутно в возмущенной душе доброго моряка. Участь друга свинцом налегла на сердце.
«Дорогою ценой платите вы, баловни природы, за свой ум, за свои тонкие чувства! – подумал он. – Высоки ваши наслаждения, зато как остры, как разнообразны ваши страдания!! У вас сердце – телескоп, увеличивающий все до гигантского размера. О, кто бы, глядя на Правина, не пожелал быть глупцом, всегда довольным собою, или бесчувственным камнем, ничего не терпящим от других!»
В полночь Нил Павлович потихоньку вошел в каюту капитана… На столе подле постели лежало недоконченное письмо; казалось, Правин недавно писал – чернила еще блестели на пере, на бумаге не засохли две капли крови, упавшей, вероятно, с оцарапанного лица. Сам он спокойно лежал, закрывшись весь одеялом. Рука друга подняла покров, заботливый взор его упал на лицо больного: он, казалось, спал глубоким сном. Румянец играл на щеках, но выражение бровей было болезненно; страдание смыкало уста.
«Он и во сне страждет», – сказал про себя Нил Павлович и на цыпочках вышел вон.
– Слава Богу, капитану лучше, – сказал он матросам, которые с участием толпились у дверей каюты… и они рассеялись, и по палубам пролетела шепотом отрадная весть: капитану лучше.
Ему в самом деле было лучше.
IX
С минуты разлуки княгиня не отходила от окна. Солнце село, солнце взошло, солнце перекатилось за полдень – она все сидела с тоскою в сердце, с зрительною трубою в руке, она все глядела на фрегат, в коем, не для игры слов, заключалась вся ее надежда. Она видела, как на нем исправлялось, очищалось, приходило в порядок все. Долгое наблюдение сквозь телескоп производит не только в глазу, но и в воображении какое-то странное чувство. Отдаленность с своею немою, но живою игрой людей и предметов, кажется, будто принадлежит иному свету. Смотришь на них как в тени, хочешь угадать их речи, их думы, их заботы по движениям, – внимаешь очами, и любопытство растет до горячего участия.
Часу в пятом вечера княгиня заметила необыкновенное, но стройное движение на фрегате. Матросы унизали борт корабля; что-то красное мелькнуло с борта в воду, и вслед за тем сверкнул огонь из пушки, из другой, из третьей… Гул раздался долго после!.. Потом флаг, который до сих пор спущен был до половины и перевязан узлом, упал – и в тот же миг поднялся до места распущенный… И потом звук исчез в пространстве, дым улетел к небу и все приняло прежний вид.
Это непостижимое для Веры явление мелькнуло в стекле трубки будто в неясном, худо запомненном сне. Княгиня протерла стекло, но все задернулось туманом в очах ее, и с них брызнули слезы. «Это от усталости!» – молвила она и в думе опустила голову на руку. Невольная дрожь пробежала по ее телу. «Какой холодный ветер!» – подумала она и закуталась шалью… Наконец неизъяснимая тоска сжала ей грудь… Она с горестию сказала: «Видно, он не придет и сегодня!» Но в голосе ее слышалась обманутая, хотя еще не разрушенная, надежда – какая-то слепая доверчивость ребенка к палачу. О, эти простые слова привели бы в трепет каждого, кто угадывал истину. Сегодня? Но вечереет ли день замогильный? рассветает ли ночь мертвецов?
И княгиня погрузилась в долгое тяжелое забытье; забытье без чувств и мыслей; забытье, в котором, как в Мертвом море, нет ни зыби, ни прилива, ни отлива, не витают рыбы, не перелетают через птицы… все иссушено, все задушено!! Словом, забытье, которое потому только не могло назваться смертью, что оно хранило муку.
Место и время исчезли для княгини. Било одиннадцать часов ночи, когда звук мужских шагов в коридоре гостиницы пробудил ее из гробовой дремоты. Первая мысль, первый крик ее были: «Это он!», и она стремглав бросилась к дверям. Тусклый ночник едва мерцал в радужном кружке, будто глаз какого-то злого духа, но Вера ясно расслышала его походку, она узнала шотландский плащ Правина, – если не слухом и не взором, то сердцем угадала она желанного гостя, – она прыгнула к нему навстречу и с радостным «ах!» упала на грудь пришельца.
Тесно смежны в сердце женщины восторг и отчаяние, смех и слезы, смежны, как две стороны червонца. Лезвие мысли их не делит; сомнение не простирает своей плены между229. Княгиня в восхищении сжимала в своих объятиях пришельца.
– Княгиня! – произнес незнакомый голос, – вы ошиблись. Я не Правин, я только посол его!
Нил Павлович подал письмо княгине.
Княгиня отпрянула от него, как будто коснулась змия.
– А Правин? Он не хотел приехать? – вскричала она с укором. – Он обманул меня… Да кому теперь можно верить, когда и самое сердце мое меня обмануло. Скажите ж скорее, жив ли, здоров ли мой Илья? Где он? Когда он приедет сюда?
Нил Павлович безмолвствовал.
Глаза Веры засверкали, как острия кинжалов.
– Я понимаю вас, г<осподин> лейтенант, – гневно произнесла она, – вы отговорили, вы не пустили его: вы всегда были против нашей любви. Ваше имя не раз отрывало Правина от моей груди… Он мрачно озирался, слыша вашу походку. Вы, это вы отняли его у меня… Но куда вы девали вашего друга, куда схоронили вы моего Илью? Отвечайте же, сударь! – вскричала она, безумно схватив его за грудь.
– Несчастная женщина! вам самим повторяю я вопрос ваш – что вы сделали с Правиным? Куда, куда вы схоронили его?
– Он умер? – спросила княгиня, леденея от ужаса.
– Пусть отвечают бездны моря! Бедный друг мой изошел кровью… но прежде крови он пролил по вас горькие слезы, – он в письме завещал мне утешить вас; но могу ли дать то, чего не имею сам, – я не Бог. Он один может утолить слезами горесть и совесть, – примолвил тише Нил Павлович, в котором потеря друга превозмогла все прочие чувства. – Прощайте, княгиня, дай вам Боже забвения – это единственное счастие несчастных!
Он исчез.
С трепетом открыла Вера письмо, начертанное почти во мраке смерти хладеющею рукою полумертвеца… Мы не прочтем его… Язык жизни не выразит тайн могильных – тайн, которые уносит умирающий в прах; тайн, которые истлевают сердце, как чума своим прикосновением.
Плач и жалобы – дары неба! вами откупается несчастный от половины страданий, от пытки, его терзающей. Но горе тому, для чьей тоски нет слезинки в очах, нет в устах рыдания, нет в сердце вздоха. Горе тому, в чьей душе потонут все думы, все, кроме одной вечной, неумолимой думы об одиночестве – думы о судьбе своей… думы, которая шепчет: «Ты, как ястреб Прометея, будешь век терзать свое сердце!»230
Это ужасно!
Заключение
Кронштадт… августа. Вчера пришел на здешний рейд из Средиземного моря фрегат «Надежда», под командою флота капитан-лейтенанта Какорина. Красота корабля, отличный порядок, на нем господствующий, здоровый и бодрый вид людей обратили на себя внимание начальства и всех посетителей фрегата.
31 августа 1832 года в Петербурге было открытие Александрийского театра. В семь часов вечера зала была уже полна. Партер, половина которого сходила к ложам амфитеатром, алел, как заря, красными мундирами, отворотами, лентами; блистал, как еще не потухший запад звездами. Пять поясов лож пестрелись женскими уборами; иной бы сказал: «То живые цветочные вязи, окропленные росою алмазов», – так ярки, так блестящи были они; и между них веяли и склонялись перья над прелестными личиками, словно крылья херувимов. Тысячи свеч горели букетами по раззолоченным стенам и поручням лож; сливались в ослепительный метеор люстры. Гордо и легко смыкался потолок своими радужными облаками. Боги Олимпа с завистью смотрели на роскошь земную с высоты живописного неба. Богини, краснея от досады, чуть не прятались друг за друга, видя, что красота русских дам пересияла их. Старый грешник Юпитер, заметив, что он одет не по вкусу времени, сердито косился на свою бороду: казалось, хотел сбрить ее и для последнего превращения облечься в гусарский доломан231. Три грации морщились на петербургских красавиц, будто хлебнули амброзии, которая скислась; девять сестриц Парнаса232, которые весьма поустарели со времен Гомера, ревниво смотрели на своих женихов, рассыпающихся жемчугом перед светскими вдохновительницами. Даже сова Минервы завистливо таращила глаза233 на ученые воротники. Только посланница любви Ирида234 весело расправляла свои голубиные крылышки да пролаз Меркурий лукаво заглядывал в ложи235, будто дожидаясь письмеца.
Вулкан же, гладя по головке сына своей жены с самодовольным видом немецкого барона, считал мужей, рисующихся по стенам для тени картины, и напевал песенку:236
Нашего полку прибыло, прибыло!
Между тем передний занавес, бледный как туман германской поэзии, таинственно колебался между зрителями и сценою, будто занавес судьбы, скрывающий от нас даль грядущего. И все было прелесть, свет и очарование! Самый воздух был упоен благовониями и дышал негою вздохов. Он оживлялся от малейшего трепетания райских птичек, отдыхающих на головах красавиц, от волнения газа на грудях, от сладостного ропота их уст, от пылких взоров, летающих, крестящихся, словно падучие звезды, от звуков, возникающих порою из оркестра, – звуков неясных, смешанных, чудных, как мысли поэта впросонках… одним словом, вся зала Александрийского театра и все, что в ней было, походило тогда на какой-то великолепный, волшебный сон юноши под жарким небом юга. Сердце плавало в обаятельной розовой атмосфере и в блестящем рассеянии забывало все, что творится за стенами… О, поверьте мне: светская жизнь имеет свою поэзию – зато как дорога и как редка она!
Царской фамилии еще не было, – все жужжало и колебалось в роскошном ожидании, в томлении нетерпеливости. В это время в третьем ряду кресел два человека учтиво пробирались на свои места, платясь извинениями за каждый переход через чужие ноги и поклонами за то, что протирались мимо чужих грудей. Наконец они, положив шляпы на кресла свои, вздохнули и обозрелись свободно. Один был молодой человек, в вицмундире Иностранной коллегии, очень приятной наружности и окружности – система округления в лицах. Сложив накрест руки, он равнодушно оперся спиною о спинку кресел второго ряда и, едва отвечая на дальние кивания своих знакомцев, беззаботно взглядывал на ложи сквозь очки (очки есть необходимое условие дипломата, хотя не решено до сих пор, носят ли они их для того, чтоб лучше видеть глазами, или для того, чтоб меньше видели их глаза). Другой был юноша во всем цвете этого слова: жив, румян, весел, разговорчив; он был так доволен своими красными отворотами, так счастлив блеском, его окружающим, будто майская бабочка в ясный день. Он простодушно глазел на все и на всех и смеялся от чистого сердца эпиграммам своего модного соседа; смеялся с откровенностию истинно армейскою. В самом деле, несмотря на четвероугольный лорнет, который он довольно ловко наводил направо и налево, легко угадать было можно, что он недавно переведен из армии. Любопытным расспросам его не было конца. Кто это в мальтийском мундире?237 Кто эта дама в оранжевой шали? Дипломат едва успевал ввернуть при каждом имени острое словцо.
И вот, когда перебрали они всех посланников и вельмож, всех красавиц и знатных дам, с шумом распахнулась дверь в одной ложе, и в нее вошли дамы блистательной красоты и наряда отличного вкуса. Будто не замечая ропота и взоров одобрения, кипящих вкруг и под ногами их, они сбросили свои шали и, поправляя газовые рукава, обратились к вошедшему за ними кавалеру с замечанием, что коридоры театра необыкновенно тесны. Кавалер этот был генерал пожилых лет, кубической фигуры, со звездами на обеих грудях и с улыбками на обеих щеках. Он отвечал что-то, склонясь между их без чинов.
– Ах, Жозеф!238 – с жаром сказал дипломату наш юноша, – скажи скорей, кто эта прелестная особа по правую руку в малиновом токе?239 Глаза ее сыплют алмазные искры, губки раскрылись улыбкою, будто жемчужная раковина от солнечного луча… около нее как сияние, – она богиня радости!.. Имя, имя ее?
– Как, mon cher, ты разгорелся! – отвечал дипломат. – Изволь, однако, я потешу тебя: ее имя Софья Ленович – моя жена.
Жалко было видеть бедного юношу: он смутился! он не знал, из какого кармана выискать отговорок. Ленович с самодовольным видом забавлялся его смущением и шутливо продолжал:
– Да-с, это моя жена; но ты, дружок, не будешь ее поэтом. Нет, нет, стара шутка. Полгода еще милости просим жаловать ко мне когда угодно: полгода ты будешь безопасен, – но потом, милый, сердись не сердись, а я тебе за твой восторг едва ли не прочту:
Эта шутка была сказана так по-дружески, что мой юноша ободрился. Желая сгладить прежние похвалы, он стал горячо хвалить другую даму, подругу жены Леновича.
– Но соседка твоей Софьи, Жозеф, прелестна как сама задумчивость, – посмотри: каждый взор ее черных глаз блестит грустью, будто слеза; каждое дыхание вырывается вздохом; и как нежно ластятся черные кудри к ее томному лицу, с какою таинственностию обвивает дымка ее воздушные формы.
– Не на варшавском ли приступе, mon cher, набрался ты этого романтического дыму?241 Изруби же его поскорее в стихи; поставь внизу прапорщицкую звездочку, отошли в «Молву»242 и будь уверен, что, если ты спрыснешь свою новинку полдюжиной шампанского, приятели прокричат тебя поэтом.
– Ты можешь шутить как хочешь, но верь, что черты этой красавицы так врезались в мою память, что я завтра же нарисую ее портрет – и всякий, кто лишь раз видел ее, увидев его, скажет: «Это она!» Но кто ж она?
– Заметил ли ты генерала, сидящего за моею Софьею? Это мой дальний родственник, князь Петр ***, а черноглазая дама – его жена.
– Княгиня Вера! – вскричал гвардеец с такою шумною радостию, что на него оборотились многие лорнеты. – Княгиня Вера, которая целый год увлекала все сердца и все мысли Петербурга. Вера, любимая мечта моего брата! Воротясь в двадцать девятом году отсюда, он прожужжал мне про нее уши… И наконец-то удалося мне увидеть это прекрасное создание!
– Прекрасное недолговечно на земле243, – сказал со вздохом Ленович. – Эта черноглазая дама – вторая жена князя Петра, а Вера, ангел доброты и прелести, Вера, которой обязан я своим счастием, умерла в Англии. Когда-нибудь я расскажу тебе ее печальную историю!
На глазах у Леновича, сколько ни дипломат был он, навернулись слезы… Гвардеец молчал в грустном раздумье. Но загремела музыка, занавес взвился – и судьба Веры была забыта.
Забыта? О, я готов пожать руку у того или поцеловать у той, кто назовет эту летопись сердца скучною сказкою, кто будет зевать при ее чтении, кто забудет прочтенную половину и бросит в огонь недочитанную. Забвение ждет всех, забвение безвредно. Но, может быть, какой-нибудь бездушный ловелас244 выдавит сладкую отраву из любви Правина и Веры, перескажет неопытности лишь то, что льстит его намерениям. Может быть, он прочтет эту тетрадь в уединенном кабинете прекрасной даме, которой доселе он говорил: «Люблю вас» – только взорами. И румянец страсти загорится на щеках его, и голос его задрожит будто волнением души, и послушная слеза сверкнет на ресницах… Он подстережет вздох грусти, слезу сожаления – сожаления, предтечи любви, – и упадет к ногам своей тронутой любовницы.
– О, будьте для меня Верою за то, что я обожаю вас, как Правин!.. – восклицает он.
– Вы забыли участь их?.. – возразит она.
– У всякого своя участь… Нас ждет доля блаженства, непрерывного, неисчерпаемого блаженства! Но если б меня ждала судьба еще горше Правиной, я приемлю ее за миг счастия, – о, если б вы знали, как я люблю вас!
И его слушают, ему почти верят!
При этой мысли я готов изломать перо свое!
Но существует ли в мире хоть одна вещь, не говоря о слове, о мысли, о чувствах, в которой бы зло не было смешано с добром? Пчела высасывает мед из белладонны245, а человек вываривает из нее яд. Вино оживляет тело трезвого и убивает даже душу пьяницы. Тацит, учитель добродетели, был виной изобретения нойяд[302] в ужасы революции246. Бросим же смешную идею исправлять словами людей! Это забота провидения. Мы призваны сказать: «Так было», – пусть время извлечет из этого злое и доброе. Приморский житель ужасается вечером, видя гибель корабля, а наутро собирает останки кораблекрушения, строит из них утлую ладью, сколачивает ее костями братии – и припеваючи пускается в бурное море.
Письма*
1. Ф. В. Булгарину*
Дербент. 10 июля 1830 г.
Милостивый государь Фаддей Венедиктович,
Наверное полагая, что Вы уже получили повесть «Испытание»1, посланную от 15 мая, препровождаю при сем рассказ, под заглавием «Вечер на Кавказских водах», который прошу позволения у Николая Ивановича Греча посвятить ему2. Тут же прилагаю описание дербентского праздника в честь Шах-Гусейна3 и два анекдота. Если не умру от колеры морбус[303], которая плотно до нас добирается, то в непродолжительном времени доставлю повесть «Аммалат-бек»; она познакомит Вас с прикаспийскою стороною Кавказа4. Потом кончу несколько небольших пьес для «Северной пчелы». Писал бы более, если б более имел досуга, и занимательнее, если бы здоровье мое было получше и я оживлялся бы добрым расположением духа, а то климат и обстоятельства сушат равно мозг и чернила.
В прошлом году матушка5 однажды писала ко мне, что Вы желали иметь меня сотрудником; не быв уверен тогда я в возможности исполнить обещание, я не смел взяться за дело. Теперь, кажется, я могу отвечать за себя и потому с своей стороны возобновляю предложение, если оно для вас не лишнее. Вот мои условия.
Я обязан присылать не менее двадцати и не более двадцати пяти печатных листов оригинальных пьес прозою. Превышающее число листов Вы отнесете к следующему году или, если угодно Вам будет, заплатите особо по 80 рубл. за лист.
Вы вольны в течение года располагать по воле присланными пьесами: печатать их в периодических изданиях или особо, уступить другому и прочее. Но по прошествии года я могу перепечатать оные или продать вновь.
Мерою листа принимается формат и шрифт «Сына отечества» текущего года. Другие шрифты судятся по сравнению.
Если Вам угодно будет поручить мне перевесть какую-нибудь главу или отрывок с немецкого, французского, английского и польского языков, то Вы пришлите книгу с отметкою статей, которая вместе с переводом возвратится в самом скором времени.
Вы будете платить за это не менее 1500 рубл. в год. Уплата производится по третям, считая со дня получения первой повести.
Наконец, не требую, но прошу присылки обоих журналов, Вами вообще с Н. И. Гречем издаваемых6.
В обоих случаях: если предложение сие может быть Вами принято или по каким-либо причинам не может, в целости или в частях, покорнейше прошу уведомить о том мою матушку, и чем скорее, тем лучше. К ней же отошлете Вы и присланные статьи.
Не дивитесь, что с такою немецкою подробностию пишу об этом: где касается до денег, там должно быть точным, чтобы никто не имел повода жаловаться. Впрочем, желая, чтобы Вы обрадовали нас какою-нибудь литературной) новинкою, желая Вам всех земных благ вместе с семейством, имею честь быть с искреннею привязанностию и уважением Вашим, милостивый государь, покорным слугою
Александр Марлинский.
P. S. Если вздумаете послать ко мне что-нибудь, вот адрес: А. А. Б<естужев>у в Грузинский линейный № 10-го батальон, чрез Кизляр, в Дербент.
Г. Дербент.
1830 г.
10 июля.
2. Н. А. и М. А. Бестужевым*
Дербент. 20 авг<уста> 1830 г.
Милые братья Николай и Михаил,
Давно-давно не писал я к вам, но думал о вас тем не реже. Сначала дорога, потом поход и сражение, потом опять поход, карантины и болезни мешали мне. Отсюда же не хотелось печалить вас вестями нерадостными. Теперь, когда уже самое несчастие обратилось в привычку и в виду мало надежд к перемене, надобно представить краткий перечень моего существования со времени письма из Иркутска, чтобы наполнить пропуск в моем романе1.
Дорога моя была живописное путешествие2. Вся сибирская природа тогда оживала наравне с моими надеждами. Дикий, пустынный берег Лены, по которому скакал я верхом (за разливом реки и более для скорости), на каждом повороте представлял новые прелестные виды. Я должен был ехать по гребню горы и весьма часто по краю отвесного берега, и самая опасность прибавляла наслаждения. Нередко также приходилось спускаться на затопленный берег и ехать по пояс в воде, не зная, что за шаг обрыв или яма встретит тебя, и потом объезжать в самой реке скалу, заступившую дорогу. Переправа через широкие реки могла бы одна потребовать тома: иногда вброд по гребню камней водопада, ревущего под ногами, иногда в берестяном челне, плавя сзади коней, готовых его опрокинуть, иногда на срубленной сосне, иногда вплавь, неожиданно сорвавшись или с размытого мостика, или обманутый бродом. Случалось не раз, что мы принуждены бывали класть жерди с сучка до сучка потопленных дерев и по ним переправляться через болотистую речку, перенося на плечах чемоданы и балансируя над пучиной. Случалось, взъезжая к верховью поперечных рек для прииска броду, прорубать себе дорогу в чаще, в которой от века не была стопа человеческая. Здесь человек оставлен собственным своим силам, и победа его над природой тем заметнее. Наконец, по многих случаях опасных, встречаясь раза два с медведями носом к носу, я прибыл в Иркутск, 29 июня, и 4 июля, вместе с Толстым3, в покойном экипаже, отправились в дорогу снова. Города и области мелькали за нами как во сне, и через шестнадцать дней мы въехали в Россию, оставя за собой Уральский хребет и богатые, прелестные его городки и деревни. Мы скакали, нигде не ночуя, нигде не останавливаясь, до самого Симбирска. Там пересели в телегу и ровно через месяц увидели снежные верхи Кавказа, отправясь с Алтайских гор. Не могу выразить, что я почувствовал, увидя во Владикавказе впервые после пасмурной погоды гряды льдов, озаренных лучом утра! Я не мог налюбоваться ими, не мог наглядеться на них. Военное ущелие по берегу Терека, нередко высочайшей красоты, и переправа через Крестовую гору – прелесть. Я при этом был промочен до костей, потом заморожен и через десять минут весь в поту от жара. Казбек и Дарьял и еще кой-какие места стоят кисти Сальватора4. Богатство растений, разнообразие дерев, плющ и дикий виноград, падающий фестонами, и множество ключей, летящих с утесов, обворожают слух и взор. Но там, за камнем, в высоте, ты видишь припавшего чеченца, который высматривает отставших. Пред нами захватили они в плен доктора – но один из казаков залез в дупло упавшего дуба и, с ружьем в руке, отсиделся: черкесы не могли пробить дерево пулями. Они ранили подле Хозрев-Мирзы одного нукера5 – и конвой, с нами бывший, из тринадцати егерей и четырех казаков, был изрублен на другой день в куски близ Ардона6. Впрочем, к чести человечества и имени русских, когда вы получите это письмо, кавказские разбойники будут уже лишены всех средств делать набеги – и навсегда. Из Тифлиса в восемь дней, миновав Гимры, Каре, Саганлукский хребет, совершенно похожий на сибирские горы по сосновому лесу и образованию, мы, выкупавшись в горячих ключах Феодосиополя (Гассан-кале.), прибыли в Арзерум, где я нашел Павла и раненого Петра7. Представясь к главнокомандующему, я был назначен в храбрый 41-й Егерский полк. Лихорадка держала меня на постеле – но, будучи с братьями и друзьями после столь долгой разлуки, я считал себя совершенно счастливым. Еще больной, я выпросился участвовать в походе, и 15 сентября часть нашего полка двинулась с отрядом к Байбурту. Не буду описывать ни перестрелки накануне 27 сентября, где мы сначала прикрывали орудия, а потом, рассыпавшись по горе, завязали потешный огонь с кавалеристами по крутой стремнине; на рассвете мы вдруг переменили дорогу и пошли в обход верст двенадцать, чтобы отрезать неприятеля от дороги в Трапезонт. Прочее вы знаете. Завладев высотами, мы кинулись в город, ворвались туда через засеки, прошли его насквозь, преследуя бегущих, и, наконец, верст пять далее, вступили в дело с лазами8, сбили их с горы, – и пошла рукопашная. Я был ужасно утомлен усилиями карабкаться по каменистой крутой горе, пересеченной оврагами, в полной амуниции и в шинели – но вся добыча, которую я себе позволил, состояла в кисти винограда и в турецком молитвеннике. Хозяин заплатил за это жизнию. Возвращаясь по полю, усеянному мертвыми телами, разумеется обнаженными, и видя иных еще дышащими, с запекшеюся кровью на устах и лице, видя всюду грабеж, насилие, пожар – словом, все ужасы, сопровождающие приступ и битву, я удивлялся, не чувствуя в себе содрогания, – казалось, как будто я вырос в этом, как будто это должно было так быть: как скоро привыкает человек к этим картинам. Сознание, что ты не в состоянии помочь, ни отвратить, делает тебя почти равнодушным. Ввечеру зрелище было ужасно-великолепно. Город пылал, и кровавое зарево отражалось на куполе утесов, на высоких тополях и в гремучих струях Чароха. Невнятный гул раздавался в средине города, отданного на разграбление; песни и выстрелы из взятых ружей раздавались в стане. Солдаты, сгибаясь под ношами, тащили всякую всячину – меняли, продавали – золоченые рамы, пестрые шкафы трещали в кострах бивачных, на которых жарили, варили, пекли с маслом и медом – радость и веселье одушевляли всех. Я сел на коня и поехал посмотреть Байбурт; он походил на печь: огонь и дым стлался поверху – по улицам бродили толпы солдат, доискивая остатков, ломая все, что ломается, разбивая об угол даже глиняные горшки. Дома, большею частью с навешенным этажом, рухали вдруг всею массою. Несколько армянских семейств глядели на пожар издали, и плакали тихо. Там рыдала турчанка-старуха над телом сына… Там – но я опускаю завесу. Это необходимое следствие войны.
Я бродил потом по развалинам царства Армянского; я видел печальную страну завоеванной Персии, я топтал подножие Арарата, был в Сардарабаде, в Эривани9, тогда еще зачумленной, видел удары наших бомб и ядер на мечетях ее, видел горестную дорогу, по которой шел к Эчмядзину Красовский10, где легло столько русских, не побежденных, но утомленных. Вообще весь тот край наводит тоску на сердце – голые обожженные волканические горы, безжизненные степи или ущелия, по коим вьется пыль и шумит бурьян. Вот все. Деревни под землей; жители оборваны.
Болезнь моя в Тифлисе и внезапный отъезд, или, лучше сказать, высылка из оного, вам уже верно, милые братья, известны, и я не люблю останавливаться на чертах, не приносящих чести человечеству. Теперь я живу в губительном климате: лихорадка здесь – условие бытия – и недавно холера прошла, как ангел истребленья, по этому краю. Я живу на склоне Кавказа – и не вижу его… деревья миндальные, гранатовые, персиковые – разных плодов – осеняют ближние холмы – но есть их – значит наверное быть больным – и это не выгода, а казнь Тантала11. Вдали пустое море, кругом безрадостная степь, вблизи грязные стены и неприязненные лица татар, вот мои товарищи. Пуще всего мне горька разлука с Петром: он теперь в отряде близ Темир-Хан-Шуры12, и климат там довольно здоров. В досужное от службы время (т. е. между часами) я занимаюсь словесностью, как одуряющим средством от скуки, – и если вы в «С<ыне> о<течества>» будете читать что-нибудь с подписью «Марлинский», это мое. Калачи, говорят, зависят от воды – не осудите, что моя вода не очень вкусна. Впрочем, теперь я здоров и терплю только от нестерпимого жара. Как вы, мои любезные отчужденники? веселы ли? здоровы ли? Я бы готов душой ехать к вам, если б позволили, и не раз горюю даже об Якутске. Что я выиграл переменою? Но полно об этом. Судьба неисповедима, и я ей поручаю вас, милые сердцу. Единственная мольба моя – кончить жизнь вместе, где бы то ни было. Обнимаю вас, друзья и братья, – будьте здоровы и счастливы.
Неизменно любящий вас брат
Александр Бестужев.
3. П. М., Е. Л., О. А. и М. А. Бестужевым*
Дербент. 12 сентября 1830 г.
Я не получил Вашего письма, любезнейшая матушка, о котором упоминает сестрица Елена в письме к Петру от 20 июня, но так как вести Ваши не могут миновать Дербента, то я получаю адресованные к брату Петру и потом со своими пересылаю к нему. Вы, конечно, удивитесь, что письма, посланные вместе, разбегаются, – я ничему уже не дивлюсь в здешнем краю: он чудесен в полном смысле слова. Кто бы мог поверить, например, чтобы восемь месяцев в Тифлисе лежала посылка против всех почтовых правил, что ее двадцать раз требовали через начальство и что г<осподин> почтмейстер вздумал ее отослать в Анапу. для чего? Это известно, конечно, не мне; это таинства замка Удольфского1. Брат Павел, как я и угадывал, виноват много своею небрежностью: если бы поискал ее попристальнее, то давно бы она была здесь. Он извещает об ошибке с Петровой посылкою, но о моих деньгах ни слова, – вероятно, они пошли тою же дорогою. 7 августа и 21-го или около я писал к вам, получили ли сии письма? Первое отослано было через адрес Е. П. Торсон2, к которой препроводил я несколько прозаич<еских> и стих<отворных> пьес для доставления в улей3. Для меня странно, что издатели не пишут о согласии насчет сотрудничества: такая неизвестность мешает занятию. Когда есть уверенность, что труд твой не напрасен, – это придает охоты и услаждает самую работу, а без этого ручательства нет подстрекания. Слава мало действует на человека, пишущего под вымышленным именем. Со всем тем я делаю свои повести если не всегда с любовью, то всегда со тщанием. При хороших обстоятельствах мои вдохновения были бы сильнее, ярче, но слог не был бы ни хуже, ни лучше настоящего. Я был чрезвычайно строгим критиком и не дозволю себе спускать рукавов. Я написал уже на двадцать печатных листов для улья, следств<енно>, остается пять для комплекта, и тогда я примусь писать роман; сюжеты мало-помалу начинают расплываться, и я очень чувствую, что стоит только в основу моих повестей заткать пестрых ниток по примеру романтиков, говорить в тысяче словах, что можно выразить в десяти, и из них легко сделать романы. Очень хвалят «Милославского»4, мне обещали его на прочтение… Слог Загоскина всегда был русский, – следс<твенно>, он в этом отношении выше Булгарина, самое изложение нравится здесь всем более, чем в «Димитрии»5, и этому верю… «Димитрий» был славен в новизне, – на безрыбье и рак рыба, – но он спадет с цены, когда романтическая наша фаланга умножится. Не знаю, читали ли Вы напечатанную в 30-м и след<ующих> номерах мою повесть6; если да, прошу Вас, любезнейшая матушка, сказать свое мнение: это первая попытка после потерянного рая7. Теперь почти оканчиваю довольно большую повесть «Наезды», где выведены поляки…8
Холера, как я уже извещал Вас, у нас прекратилась недели с три, унесши 1600 жертв; между прочими офицерами умер мой ротный капитан и сам комендант крепости. В отряде она была слабее, а теперь нет, и потому – слух о чуме оказался несправедливым…
Здоровье мое в одной поре: я не болен, но силы не возвращаются. Не скрою, что я грущу, но могу уверить Вас своими занятиями, что печаль не потемняет моего рассудка, не покоряет воли. Я уже излечился от болезни политического славолюбия, я отказался от сладкой надежды быть полезным отечеству службою… но я имею познания положительные, опытность, пережженную в огне страстей и происшествий, имею здравый смысл, чувства, воображение и, что лучше всего, жажду познаний, – следс<твенно>, мне позволительно желать средств быть полезным соотечественникам как писатель, и это желание безнадежно; до меня доходят только искры просвещения и только минуты досуга. Ваша философия основана на надежде, моя выше ее: она велит мне быть в самой безнадежности как бы в полном счастии; я чувствую в сердце своем, что я человек, которого сама природа, не краснея, могла бы назвать этим именем, но с этим вместе я признаюсь, что все слабости людские имели или имеют надо мною власть.
Обнимаю сестру Елену Александровну, обнимаю Ольгу и Марию и потом всех трех вместе; чувства мои неизменны; это закаленная сталь, на которой ничего не напишешь и ничего не сотрешь; я молю Бога сохранить вас в здравии и в покое, любезнейшая матушка и милые сестры.
Ваш покорный сын и любящий вас брат
Александр Бестужев.
4. П. М., Е. А., О. Л. и М. А. Бестужевым,*
Дербент. 24 декабря 1830.
В последний раз, любезнейшая матушка, рука моя пишет: «1830 год», скоро он соединится с вечностью… втрое черными крестами будет отмечен он в летописях страданий наших; дай Боже, чтобы он остался без пары навсегда. Поздравляю Вас с рождеством Спасителя!.. Было время, что я ребенком ждал этого праздника нетерпеливо, весело встречал его юношей и беззаботно, если не всегда радостно, проводил в лета мужества; теперь иное: все, что утешало нас в старину, воскрешает только грустное воспоминание и сравнение с настоящим. Где бы отыскать этот баснословный ключ мертвой воды, чтобы выпить из него самозабвения? Мимотекущий ручей жизни бежит от уст и все еще журчит минувшим. Немногое, впрочем, манит меня в том, что испытал я, но многое могло бы теперь быть сладостным, теперь, когда я богат опытом и узнал цену жизни…смею думать, что никогда бы ранее я не мог быть столь счастливым, как мог бы стать отныне, если б я мог располагать собою. Покоя, одного покоя жаждет душа моя; тишину мыслей и общества нелицемерных друзей, книг желал бы я найти где-нибудь в укромном уголку! Прочие житейские желания мои очень ограничены, и, конечно, перо могло бы мне их доставить. Вот мольбы мои перед судьбою, вот голос вопиющего в пустыне. Да будет! Придет время, когда Павел и Петр предстанут сперва на нелицеприятный суд потомства и потом на суд судов… я был виновен пред людьми, но уже омыт пред Богом; я не боюсь предстать пред него, не боюсь кончить жалкое существование, которое величают жизнию, – в небе есть сострадательный отец, которого искал и не нашел я на земле. Несчастие дает какое-то величие душе, и язык невольно приемлет на себя выражение оного, – выражение не всегда понятное, по крайней мере для счастливцев.
Каждый раз принимаясь писать к Вам, почтенная матушка, я начинаю хладнокровно, но, увлеченный обычною искренностью, изливаю сердце в том состоянии, в каком оно находится: шучу, когда весел, кручинюсь, когда огорчен, пишу желчью, когда раздосадован; Вы видите меня во всей наготе; я молчу с теми, кому не желаю открываться, но если говорю, то говорю правду и ни перед какими властями мира не изменял и не изменю своего характера; несчастие могло сделать меня ворчливым, но не предупрежденным против чего-нибудь доброго; разница в том, что сперва я говорил откровенно свое мнение, теперь сказал бы только тогда, как меня спросят. Сперва я терял много слов, теперь я храню более мыслей. Несчастие до некоторой степени полезно, знакомя человека покороче с людьми, с событиями и с причинами, но все это до некоторой точки, – не всякий дух в состоянии выдержать повторения ударов, и он разрушается, вместо того чтоб сковаться, притом же здоровье, этот невозвратный гость небес, улетает видимо.
Здоровы ли Вы, любезная, добрая матушка? Знаю, очень знаю, какое значение имеют уверения Ваши об этом предмете: неусыпаемый червь точит сердце, у которого оборваны отрасли; быть одной при закате лет – тяжко, горестно… слышать одни жалобы, одни сожаления близ себя, и никого, кто бы внял им, кто бы отер слезы рукою благодетельною… Если б можно было ценою жизни моей купить возврат кого-нибудь из братьев в лоно семейства для утешения Вашей старости, я бы не задумался, и, право, жертва была бы далека от долга сыновнего. Я вовсе не ласкаю себя такою надеждою для себя и потому брата Петра желал бы знать с Вами в деревне; для его изувеченного здоровья и растерзанного духа это было бы необходимость, для Вас – большая отрада. В длинные зимние вечера он бы стал рассказывать Вам о пятилетних своих скитаниях, о боевой жизни, о своих испытаниях; я утешаю себя мыслию, что государь император снизойдет на моления неутешной матери. Великодушие есть спутник могущества. Прощение есть добродетель христианина и долг царей. С такими надеждами я молю Всевышнего, чтобы он сохранил Вас в крепости сил, да вкусите это свидание вполне.
Лобзая руку Вашу, остаюсь покорным и горячо любящим сыном.
Александр Бестужев.
Целую вас стократно, chere Helene, и прошу передать это любезным сестрам Марии и Ольге; да проститесь вы с креповым минувшим годом радостны и да встретите новый с новыми и основательнейшими надеждами. Храните здоровье свое, сколько можно, этот залог вверен вам, прочее в лоне судьбы, и бороться с ней было бы безрассудно. От вас получил письмо в начале декабря и уже отвечал 11-го. Если у вас целы мои послания, напишите, в какие и какие числа они были к вам посланы, а с будущего года вы заведите №, сделав прежде тетрадку, в которой вносить будете, когда пущены и вкратце о чем. Я, слава Богу, здоров по возможности; теперь у нас пошли морозцы, и спать в нетопленой сакле свежо, но усталость стелет ложе, и я мало стражду бессонницей. Скажите, пожалуйста, что думает изд<атель>? С 1 ноября пошла другая треть от 1 июля, а они не высылают остальных. У меня готова давно большая им повесть, но нельзя послать: не берут за холерою1. Если вы при получении сего не послали еще мне вещей, о коих просил я, то к числу их прибавьте хорошую головную щетку, купите где-нибудь в магазине, и чтоб часта не была. Тоже гребень и подгалстучник не очень широкий с плоскими проволоками внутри, здесь этих вещей не знают даже по виду. Не забудьте о «Геце Берлихингене» Гете2, да если можно достать роман Клингера «Faust»3. Мне бы очень хотелось купить татарский лексикон и грамм<атику>. Об этом надо спросить Сенковского4, а то со всем желанием выучиться по-татарски с здешними глупцами невозможно. Я хоть и болтаю наудалую, но этого мало. Брат Петр поручил обнять вас и поцеловать ручку матушки, что я повторяя желаю милым всякого счастия.
Ваш добрый брат
Александр.
5. Н. А.и М. А. Бестужевым*
Дербент. 27 декабря 1830 г.
Милые, добрые братья Николай и Михаил, здравия вам и радости!
Когда эти строки будут у вас перед глазами, вы уже встретите новый год – по времени, едва ли новый по судьбе… Так думаю, хотя не того желаю! Отказался уже я верить надежде, ибо каждый месяц, пролетая, набрасывает лишнюю гирю в чашку весов наших – весов земного испытания. Бедствие наше не похоже на котомку Эзопа, которая облегчалась при каждом обеде и ужине1; для меня утешно по крайней мере сказать, как и чувствовать, что мы не падаем духом под своею ношей: «Mon ame est de granite, – говорил Наполеон, – la fondre тёте n'y mordra pas»[304]2. Это стоит подражания.
Говорят, что вас переводят, а может быть и перевели уже, на какой-то Петровский завод3. Поздравлять с такою обновкой значило бы приветствовать мертвеца в новой могиле… Я уверен, что вам просторнее теперь, чем в Чите, но лучше ли? Я не Панглос и потому верю в лучшее только для всего человечества, очень редко для людей и почти никогда собственно для нас: номера нашей лотереи вне всех расчетов вероятностей4.
Не думаете ль вы, любезные братья, что я всегда кукую. Право, нет – не могу при мысли о страданиях родных моих запретить себе печали – но вы очень хорошо знаете, что я от природы весьма веселого характера и самых миролюбивых привычек. Если бы от меня зависело все в свете, то люди плясали бы с утра до вечера. Гнев, досада, негодование на миг пролетают сквозь сердце, как молния сквозь трубу, – и без следа… я более всего не понимаю мщения… Гомер говорит, что оно страсть богов, богов языческих разумеется5. Мне кажется, в наших понятиях ее можно отправить в преисподнюю, в удел мильтоновских обитателей Пандемониума6.
Как бы то ни было, но в воображении я еще живу, хотя по сущности бытие мое бог знает что такое: смертью назвать грешно, а жизнию совестно. Трудно себе вообразить нравственную бесплодность этой стороны, и едва ли поверить можно, как малы здесь удобства жизни; русский, для которого водка не есть элемент, как вода для рыбы, есть здешний Робинзон на необитаемом острову – ни с деньгами, ни с желанием узнать что-нибудь он ничего не купит, не выменяет ни одной человеческой, не только европейской идеи. Здесь нет зимы, и все мерзнут; здесь природа родит лимоны, а за рубль не найдешь капустного листка; море за полверсты, и я не пробовал еще рыбы: все прочее в такой же пропорции – люди и четвероногие, растения и стены. К счастию, что вследствие своей философии я вижу во всем более недвижимости, предрассудка, чем склонности ко злу, и потому я беру вещи с забавной их стороны.
Мне бы хотелось написать роман, но вовсе нет средств. для этого нужны топографические карты, летописи, и то, и другое, и третье – здесь нет ничего, даже досуга. Я вздыхаю о том только, чтобы жить в уголку света и там посвятить ум учению, а произведения ума – словесности… вздыхаю, и ветер уносит звуки. Не скажу вам, милые братья, будьте терпеливы – мне должно учиться у вас этой добродетели – но будьте здоровы и веселы. Петр стоит с отрядом в с<елении> Казанищах, в горах – скучает и грустит и вместе со мною обнимает вас.
Неизменно любящий вас брат и друг
Александр.
6. Н. А. Полевому*
Дербент. Генв<аря> 29. 1831 г.
Надобно любить людей и людей изведать, как я, почтеннейший Николай Алексеевич, чтобы понять отрадное чувство редкой встречи с душой благородною, с такой, какая видна в письме Вашем. В доказательство, как ценю я мнением достойного человека… отступим в минувшее, чтобы пояснить причину охлаждения, которое Вы могли заметить во мне при начале 1825 года1. В чистой памяти мне хочется плавать белым как лебедь, по крайней мере в отношении к святому чувству приязни – одной приязни, для которой нет у меня упрека. Знакомство наше было коротко, но полно: никогда не забуду вечера, проведенного вместе на Невском проспекте; я был тогда в воскипении несчастной любви2, Вы в струе доверия – мы сердцем понимали друг друга! Я не из числа людей, пленяемых одною искренностию, на которую столь расточительны юноши; нет, надо было, чтобы другие достоинства увлекли чашку весов моих вверх, и она увлеклась Вами недаром. Еще меньше могло на меня действовать забвение от заочности, от ветрености; но я был доступен со стороны доверчивости.Ф–в (Вы угадаете имя)3, насказав мне о Вас с три короба худого, поколебал новую дружбу. Я был Дон-Кихот бескорыстия, правдивости, и навет о лицемерии лег холодною тенью между нами. Это самое отразилось и в суждении «Пол<ярной> звезды» – сознаюсь в человечестве. Впрочем, если б я стал пересчитывать свои литературные промахи, – долга была бы моя исповедь. Я не оправдываюсь, извиняюсь только тем, что я ошибался простодушно. Многое говорил я смело, но там, где еще сомневался, старина подсказывала на ухо похвалы вместо заслуженных насмешек; душа роптала, но языком новым, и я не всегда понимал ее: уста, еще влажные французским молоком, лепетали заученные песни4. Я довольно жил после того, чтоб увидеть чужие и свои недостатки, убедиться в собственных несправедливостях; вычеркните же из числа их сомнение о Вашей нравственности. Если б и не рассудил я после, что Ф. был пристрастный судья в своем деле, если б и не узнал я, что рассказы его были вздорны, то последнее творение Ваше доказало бы мне истину. Безнравственник может написать прекрасную статью об электричестве, о хозяйстве, но поэма, но высокий роман, но история не знают личин – я верю, что автор есть книга, и наоборот. Она не всегда мерило его способностей, но едва ль не всегда образчик его нрава: одно выражение обличает самого опытного притворщика.
Так, в пошлом нашем времени, немногие поймут Вас, еще менее оценят – но что эти немногие суть – в этом я Вам порукою: в глуши ощущения самороднее, независимее от наитий журнальных – и эти ощущения говорят в пользу Вашу. Насчет пустынничества не знаю, поздравлять ли или пожалеть Вас: общество без людей – пески Пальмиры: они засыпают душу бесплодием; но как не пожалеть, что нет людей, с которыми бы лестно было встретиться и полезно жить!! Я думал лучше о настоящей Москве – но, видно, она все еще как нащокинский шут с разрумяненными щеками на дряхлом лице5, шут, который в одно и то же время поет «Уж не будут орды Крыма»6 и «Halte-la, halte-la!»…[305]
Вы жалуетесь на бесхарактерность нашей настоящей словесности; но может ли быть иначе, когда Булгарин знаменщик прозы, а Пушкин ut-re-mi-fa[306] поэзии? Второй из них человек с гением, первый с дарованьем, и если между ними есть линия сравнения, так это шаткость обоих; оба они будто заблудились из 18 века, несмотря на то что вдохновение увлекает П<ушкина> в новый мир, а сметливость заставляет Б<улгарина> толковать об усовершаемости и прочем условном нового учения, но первый не постиг его умом, второй не проникнулся его чувством. Что такое поэма Пушкина? Прелестные китайские тени. Что такое романы Булгарина? Остроумный подбор на заданные рифмы; Вы видите, как он все за волосы тащит к одному припеву, и забавно, как влагает он речи, изобретенные в позднейшие годы, в уста монаха и боярина, стрельца и мужика без различия. Из книгопродавческого объявления о Далай-ламе, бесконечном «Выжигине», вижу, что он торопится плыть по ветру. Наполеон, обманутый рассказами своих агентов, идет на Россию – какая нелепая мысль! Если б Россия была в пять раз сильнее, чем она была, Наполеон пошел бы на нее тем охотнее, он не терпел совместничества, и чем труднее успех, тем лестнее была для него победа. Если б он верил, что Россию можно завоевать своими светлыми очами, он не двинул бы на нее всей Европы. Я уверен, что Б<улгарин> не пожалеет ладану русскому дворянству7, хотя оно, право, не так было бескорыстно и великодушно, и я многих видел вздыхающих в 12-м году о своих жертвах. Что до меня, я считаю нашествие Наполеона на Россию одним из благодетельных зол, посылаемых провидением. Гром бородинский пробудил спящего великана Севера.
О литературных сплетнях прошу извещать меня очень и очень: homo sum, humani nihil a me alienum puto[307]. Когда-то и я жил в печатном свете; теперь вовсе чужд ему: я, как проснувшийся Рип ван Винкль Ирвинга, вижу ту же вывеску на трактире, но уже новых гостей за кружкою8. Разгадайте мне одну загадку: отчего, при такой сильной жажде к чтению, такая засуха на дельные вещи? Журналов, журналов сметы нет; а раскусить – свищ. Кинулись в писательство романов как в издание альманахов, советуясь больше с барышом, чем с дарованием; но долго ли подержится этот снежный валтеризм?9 Теперь слово о себе. Надобно Вам сказать, что великодушие государя извлекло меня, в конце 1827 года, из башни, воздвигнутой на одной из скал Балтики10, и накануне 1828 г. я прибыл в место Вам знакомое – в Якутск11, в место, назначенное для моего жительства. Там я отдохнул душой, ожил новою жизнью. Все краткое лето провел я на воздухе, рыща на коне по полю, скитаясь с ружьем по горам. Бывало, по целым часам лежал я над каким-нибудь озером, в сладком забытьи, вкушая свежий воздух, – отрада, неизвестная для других. Я ничего не делал там, так я был занят свободою; только выучился хорошенько по-немецки, изучал Шекспира и стал было разбирать Данта в подлиннике, но с силами загорелось опять желание боевой жизни; я просился в ряды – мой голос был услышан. В два месяца я от полюса перенесся к Арзруму и видел все прелести войны в байбуртском сражении12; потом топтал развалины царства Армянского, проехал завоеванную часть Персии и, наконец, очутился здесь сторожем Железных ворот, за которые напрасно рвется мое сердце13. Бог один знает, что перенес я в эти пять лет, – строгое испытание ждало меня и здесь, но крыло провидения веяло надо мною – и я не упал духом: казалось, он закалился в туче страданий. Я совлекся многих заблуждений, развил и нашел много новых идей, укрепился опытом, и вера в провидение, зиждущее из частных бед общее благо человечества, и любовь к этому слепому человечеству греют, одушевляют меня посреди зимы моей участи. Даже воображение, мой паж-чародей, порою приподнимает цепь судьбы, как хвост знатной дамы, и я не слышу тогда ее тяжести. Что будет вперед, не знаю, но умею жить и без надежды. Всего более досаден недостаток книг; кочевая жизнь лишает возможности запастись ими, а неуверенность в завтра отнимает охоту писать. Да, признаюсь, и самому совестно рассказывать побасенки в наш век, когда чувствуешь, что не совсем бездарен на дальнейшее; но что сделаешь без книг? – они необходимы и для освежения ума, и для справок памяти. О, как бы жаждал я укромного уголка подле Вас: я бы предался совершенно учению, в котором чувствую необходимость. Сюда же долетают только блестки, падающие с платья новой литературы. Посылаю, что случилось готовое: не осудите. Тетрадку и стихи под литерою а прошу не ставить в счет. Пожалуйста, не думайте, чтоб я считал посылаемые безделки за что-нибудь достойное; я чужд мелочного самолюбия, и если решаюсь печатать их, так это потому, что смеялся сам, писав их, и, может быть, рассмешу читателей, а смех, право, находка14. За предложение насчет комиссий словесных благодарю братски: постарайтесь же купить в счет «Историю рим<скую>» Нибура15 и еще какой-нибудь дельный увраж16 по своему выбору. Скоро надеюсь прислать что-нибудь получше, хоть и в журнальном роде. Неохотно расстаюсь с проводником умственного электричества, с пером: так многое имел бы сказать, но отложим до другого раза. Берегите здоровье для пользы общей, для которой Вы его разрушаете, и будьте счастливы, сколько можно им быть в нашем веке и в нашем мире. Этого желает душевно уважающий Вас
Александр Бестужев.
<Р. S.> Здесь в Дербенте с месяц уже каждую ночь видима комета, с коническим хвостом, обращенным к западу; ход ее от востока на юг; свет тусклый.
16 генваря, в 12-м часу ночи, было здесь землетрясение, но без ударов и продолжалось не более трех минут, при сильном ветре. Следующий за тем день был необыкновенно тепел и тих.
29 генваря 1831 г.
7. А. М. Андрееву*
Г. Дербент. 9 апреля 1831 г.
Прежде всего благодарю Вас за доставление «Поездки в Германию», почтеннейший Ардалион Михайлович: она заставила меня смеяться и плакать – две вещи очень редкие для моего изношенного сердца1. В толпе лиц, автором описанных, я встретил и знакомцев; вообще простота, равно как истина описаний и чувств, пленительна. Это не мой род, но я тем не менее чувствую его красоты. Из приложенной записки знакомой руки я впервые получил дельное наставление насчет сочинений моих: мне необходимо руководство, во-первых, потому, что я не имею, благодаря Бога, слепой самонадеянности, во-вторых, потому, что в течение с лишком пяти лет не живу на свете, не только в свете. И вот почему мне хотелось бы, чтоб г<оспо>да издатели сказали мне: «Нам нужны вот какие статьи, – публика любит то и то». Мне даже совестно, что Вы взяли с Николая Ивановича дорого за «Наезды»2: как журналисту, ему можно бы уступить и дешевле, а как учителю моему, это было бы и должно. Он, так сказать, выносил меня под мышкой из яйца; первый ободрил меня и первый оценил. Ему обязан я грамматическим знанием языка, и если реже прежнего ошибаюсь в ятях, тому виной опять он же. Нравственным образом одолжен я им неоплатно за прежнюю приязнь и добрые советы; он прибавляет теперь к этому капиталу еще более, великодушно вызываясь на все хлопоты по изданию романа (если я напишу его) и отворяя двери в свой журнал для скитающихся статей моих. Засвидетельствуйте ему полную за то благодарность, – я должник его по сердцу и по перу. Охотно пополню недостаток до десяти листов при первом досуге. Продолжение «Вечера на Кавк<азских> водах» еще не писал; но теперь же примусь3. Насчет блесток замечание Ваше весьма справедливое, но это в моей природе: кто знает мой обыкновенный разговор, тот вспомнит, что я невольно говорю фигурами, сравнениями, и мои выходки Николай Иванович недаром назвал б<естужевски>ми каплями4. Впрочем, иное дело повесть, иное роман. Мне кажется, краткость первой, не давая места развернуться описаниям, завязке и страстям, должна вцепляться в память остротами. Если Вы улыбаетесь, читая ее, я доволен, если смеетесь – вдвое. В романе можно быть без курбетов и прыжков: в нем занимательность последовательная из характеров, из положений5; дай Бог, чтобы мой сивка-бурка не зашалился и там. Это, однако ж, еще будущее.
Уполномочиваю Вас охотно на получение денег по сотрудничеству, ибо матушка моя недолго живет в Петербурге. Я получил за полгода 1830-го и полгода 1831 г. 800 р. ассигнациями. Но, может быть, сестра моя получила что-нибудь после, и потому Вы возьмете на себя сей труд с 1 июня, узнав, сколько уплачено и сколько осталось до 1 июля (начало моего чернильного года) уплатить. Снова прося засвидетельствовать уважение и признательность мою Николаю Ивановичу, равно как всему его семейству, с искренним почтением имею честь быть
Вам покорный
Александр Бестужев.
8. Н. А. Полевому*
Дербент. 23 апреля 1831 года.
Христос воскресе!
В праздник обновления природы мыслию обнимаю Вас, почитаемый Николай Алексеевич, обнимаю и братца Вашего: поцелуй этот не целование Иуды1. На второй день я вместо красного яичка получил от Вас книги и письмо; благодарен за первые, за другое – вчетверо: теперь светлая неделя будет настоящий праздник для моего ума и сердца. Поговорим о последнем.
Знал я, что грустно Вам будет открытие злословия в ближних, в близких, но мы уже не дети, и я принял за правило говорить людям, которых уважаю, правду без завета: полынь горька, но крепительна, и лишняя цифра, отнятая у приятного заблуждения, множит сумму положительных познаний. Не в других, в самих себе должны мы искать точку опоры, если хотим сохранить свою независимость в мнениях, в поступках, и скорее остаться одному в пустыне, чем плясать около золотого тельца с толпою. Вы делаете, что я говорю.
Человечество есть великая мысль, принадлежащая собственно нашему веку, – она утешительна. Быть убеждену, что если один народ коснеет в варварстве, если другой отброшен в невежество, зато десять других идут вперед по пути просвещения и что масса благоденствия растет с каждым днем, льет бальзам в растерзанную душу частного человека, утешает гражданина, обиженного обществом. Но все это лишь в отношении к будущему, которое не должно и не может уничтожать настоящих обязанностей человека. И вот почему я был горячим ненавистником немецкого космополитизма, убивающего всякое благородное чувство отечественности, народности. «Lassen sie es gehen und untergehen»[308] – прелестное правило: оно во сто раз хуже турецкого фатализма! «Провидение знает, когда и как лучше сделать хорошее или истребить дурное, – говорят они, – следственно, все когда-нибудь и без нас будет лучше или не улучшится, несмотря на нас». Это совершенный pendant к Омарову изречению при сожжении библиотеки Александрийской2. Мы видели, до какого унижения довело это бесстрастие Германию во время Наполеона!!3
Но я знал людей и прежде – я не разлюбил человечества и теперь – отношения мои к ним были не шапочные – я был обязан рассекать сердца многих, как насекомое, для исследования – видел его ничтожность, и оттого мало ошибался, что мало от людей ожидал. Я убедился, что нельзя полагаться на правила, но можно вычислить страсти их, обращать на пользу общую не добродетели, а слабости. Одна беда: я слишком верил силе разума, убеждению очевидности в той и другой стороне, и решение задачи не оправдало данных. Это изменило образ моего воззрения на пороки и доблести, на злобу и доброту… Мне кажется и верится, что все благое, изящное, великодушное есть ум, есть просвещение. Все злое, порочное, мстительное – глупость в разных видах, близорукое умничанье и самый плохой расчет. Я готов математически доказать свое мнение, практика давно меня оправдала.
Вы говорите, что положение мое поэтическое, – не сказать ли вам стих Дмитриева «Для проходящих»?4 Вся жизнь моя была исполнена если не положений, то впечатлений сильных, странных, – остальные шесть лет особенно; однако ж пользоваться ими надо после: в бурю нельзя писать картины, и вихорь несчастия возмущает душу, слепит на время ум. Дайте всему этому отстояться, и тогда – тогда!! а в ожидании зари читайте каракульки, писанные в проблески. Безнадежность сдвигает около меня горизонт, и, отлученный от всех приманок известности, от всех подстреканий разбитого конька-дарования, я нередко впадаю в какую-то беспокойную дремоту. Лень писать, лень говорить, даже думать. Дремота эта тем несноснее для меня, что она неразлучна с упреком за бездействие. Чувствую, что я получил душу для работы, ей свойственной, что она Богом отдана мне на воспитание, что ей необходимо движение вперед для здравия, для счастия внутреннего. Но с этим соединяется желание освежить душу дружескою беседою, черпать, чтоб не истощиться, и желание напрасное, жажда неутолимая. Скажу ли? сердце мое просит любви… последние годы, в которые я мог бы ожидать ее взаимно, вянут! Зачем, зачем шипы переживают цветок! зачем не гаснет огонь, когда он не может светить другим!
Очень благодарю за предложение присылать книги на прочтение, но принять его невозможно. Я сегодня здесь, завтра бог весть где и, завися от каждого, не властен даже иметь с собою что-нибудь. Та же причина заставляет меня со вздохом сердечным отказаться от жемчужин слова и ума. Я и без того бросил много книг в Якутске, много в Тифлисе. В первом жил я с бывшим графом Чернышовым5, и от него пользовался всеми классиками в оригиналах… Теперь со мной несколько томов Гете, Шиллера, Байрона, отрывки из литературы английской, Мур и несколько книг натуральной истории. Французскими пользуюсь от Ив<ана> Петровича6, между коими много дельных, но вовсе нет исторических. Если найдете Байрона в одном волюме, приценитесь: издание это ноское и полное. Немецких книг жду из Питера. Хочу учиться по-арабски и уже порядочно понимаю по-татарски. Впоследствии буду просить об итальянцах, коих бросил за неимением и книг, и лексиконов; надо примолвить: и досуга. Вперед прошу Вас, любезнейший Николай Алексеевич, присылать, что особенно дельно… от соусов по необходимости должен удержаться. «Годунов», однако ж, не в числе их, и потому пришлите…7 Впрочем, зная Ваши занятия, не рассержусь, если Вы забудете мои комиссии, только, ради Бога, не забывайте искренно любящего и уважающего Вас
Александра Бестужева.
9. Н. А. Полевому*
Дербент. 28 мая 1831 г.
Жду не дождусь возвещенного Вами письма, почтенный Николай Алексеевич. Получил табак, получил книги, получил сафьян – а то, чего желаю всего более, медлит. Вас не виню, но досадую на почту тем не менее: она у нас, упаси Бог, какая причудница; и то сказать: Кавказ теперь в таком волнении, как не бывало лет двадцать. Даже самая мирная дорога между Кизляром и Дербентом запала: неделю назад разграбили почту и убили одного казака, следств<енно>, письма наши, которые ходили прямо, теперь станут колесить через Тифлис, то есть пропутешествуют, может быть, лишний месяц, – немного отрады.
Мы получили 5-й номер «Телеграфа» и старый за ноябрь; скажите, пожалуйста: кто таков Вельтман? Спрашиваю, разумеется, не о человеке, не об авторе, а просто об особе его?., с первыми двумя качествами я уже знаком, могу сказать, дружен, – хочется знать быт его. По замашке угадываю в нем военного; дар его уже никому не загадка. Это развязное, легкое перо, эта шутливость истинно русская и вместе европейская, эта глубина мысли в вещах дельных, как две силы центральные, то влекут вас к думе, то выбрасывают из угрюмости: он мне очень нравится. Прошу включить «Странника» в число гостинцев1. Еще вопрос: кто пишет юмористические статьи «Живописца»?2 В нем различаю двух: одного, который взял за образец аллегорию «Спектатора», род, немножко поизношенный3. Другая кисть оригинальнее, бойче, новее. Г-н Ушаков, по мнению моему, лучший писатель, нежели критик. В разборе его «Самозванца», впрочем, есть много мыслей вовсе ложных, особенно насчет мнений русского народа. Ничто так не вредит наблюдениям, как заготовленное наперед понятие о вещах и людях: это сито для сортировки жемчужин пропускает только известной величины и круглоты перлы. Я читал из «Киргиз-кайсака» только две главы: очень, очень милы; нельзя ли и его послать попотеть в Дербент?4 У нас уже начались славные жары, миллионы роз клонят уже свои головки, и зеленый мундир весны линяет, как сукно русского крашенья. Хвалынь наша5 н<емно>жко оживилась судами, которые построены по модели корабля Язонова6 и ходят едва ли не с такими же способами: удивительное постоянство! В газетах, правда, два года назад возвестили, что здесь будет прогуливаться пароход; но, так как это уже напечатано, никто об нем не заботится, и необходимого этого парохода слыхом не слыхать. Грозится какое-то общество устроить по Каспийскому побережью свои фактории для торга с Персией – пора бы давно за ум взяться – все это, однако ж, через пень колодой валится. Мудрено ли, что здесь дороги русские изделия, когда каждая арба платит, на расстоянии 275 верст от Кизляра до Дербента, 20 р. серебром пошлины, берут в городах за ввоз и вывоз, берут и частные владельцы за провоз (transit) через их земли; Дагестан еще в XIX веке не ушел от библейского устройства мытарей: я готов головой ручаться, что государь об этом не знает; это слишком резко, чтобы могло быть терпимо под европейским правлением.
Про себя не смею, по крайней мере, краснею говорить: какая-то летаргия умственная как жернов лежит на мне, и я почти ничего не писал. Хочется мне написать что-нибудь подельнее для посвящения Вам. В начале года я думал, что буду иметь более досуга, сильнее стремление к труду; вышло наоборот: ни того ни другого. Во всяком случае я сдержу свое слово и не уклонюсь от Вашего; не сегодня завтра, а все-таки своих рекрут выставлю; я надеюсь, что Вы примете, если попадутся беспалые и без зубов. Здоровье мое плоховато: порой я чувствую себя и гляжу молодцом, но это ненадолго; некупленные хворости кабалят меня понемногу; особенно весна и осень для меня трудны бывают; видно, и разрушение, так же как развитие человека, имеет свои цветы и плоды ежегодные. Скажите, как идет Ваше здоровье? Спрашиваю об этом как человек, искренно Вас любящий, и как эгоист, желающий от Вас щечиться7 долго и часто питательным чтением. Не знаю, как Вы, Николай Алексеевич, а я в недуге никуда не гожусь для письма; воображение мое тогда запирает на запор двери, как московская дама от холеры. Может статься, с летами и я свыкнусь с такими гостями, как Гофман, но до сих пор он для меня хуже злого татарина8. Кстати о татарах: со всем моим желанием выучиться языкам восточным, вижу, что не здесь гнездо их и не у меня средства. Вообразите себе, что арабский словарь в Петербурге стоит 350 р., адербиджано-татарского не нашли нигде, а невежество ученых татар насчет и своего, и фарсийского9, и арабского – невообразимо: никакой идеи о грамматике, просто никакой идеи ни о чем; я не могу понять, как столько веков не расширили этих пустых мозгов! Болтая по-татарски, я нашел, однако ж, кучу слов их, запавших в наш язык так глубоко, что никто не сомневается об их некрещеном происхождении. Но полно на этот раз. Поклон и благодарность братцу Вашему. Будьте счастливы.
Много уважающий Вас
Александр Бестужев.
10. П. М. Бестужевой*
Дербент. Июня 1831 года.
Любопытна теперь западная сторона нашего отечества, любезнейшая матушка, но в малом размере не менее занимателен и Кавказ, восточный бок русского великана. С тех пор как русские владеют сим краем, не было таких обстоятельств, не знаю, чему бы приписать эту необузданность горцев. Люди опытные говорят, что ласка, которую стали оказывать им после Ермолова, всему худу причиной; глядя на следствия, почти надо согласиться с таким мнением; для азиатца нет другой узды, кроме мести. Доброту он считает слабостию, да едва ли мы не были с ними и вправду слабы. Вот самые свежие происшествия нашего Дагестана.
Лжепророк Кази-мулла, человек весьма неглупый и весьма решительный, успел возмутить койсубулинцев1. Вначале он был слаб, и наш отряд, стоящий в Казанищах, спокойно глядел, что делается у него в десяти верстах. Этого мало, едва Кази стал посильнее, майор Ивченко2 всемудро отретировался назад; это было сигналом восстания окружных деревень: его преследовали друзья и недруги. Г<енерал>-м<айо>р Таубе явился с линии очень грозно; хвалился много, не сосредоточив двух отрядов, кинулся в дрянную деревню на приступ, был отбит с важным уроном и вдруг ушел в Россию3. Это невообразимо ободрило горцев: толпы приходили за толпами к Кази-мулле; отряд наш должен был попятиться до Тарков. Г-н Коханов принял команду4. В это время Кази сделал демонстрацию на Параул, деревню еще верную нам, чтоб сжечь ее, и генерал двинулся ей на помощь… Кази с главными силами вошел с тыла в Тарки, и жители встретили его с хлебом и солью, с радостными приветами. В ту же минуту они первые пошли на приступ крепости Бурной, в которой оставалась одна рота куринцев и неполный линейный батальон. Надо сказать, что Бурная висит над Тарками, что в ней ключи воды и потому фонтан обнесен особым укреплением, что он, равно как пороховой магазин, в полверсте ниже крепости; тысячи кинулись на это укрепление с ломами, с лопатами, другие окружили крепость и начали взбираться на стены; фонтан и пороховой магазин впали в руки неприятелей.
Лезгины толпами ворвались в пороховой погреб… Артиллерийский офицер, видя сверху, что там дело кончено, последовал вдохновению и бросил гранату в дверь магазина; взрыв был ужасен, триста врагов взлетели на воздух, двое лучших вождей Кази-муллы были пронизаны ядрами; это навело на них такой страх, что два дни они не сделали выстрела. Положение гарнизона Бурной от того не было лучше. Отразив первый приступ, они без воды должны были ждать других. Трое посланцев с вестью к генералу были убиты; жажда томила их, а переговоров с врагами не хотели и не должны были вести. Три приступа еще изнурили их еще более. Наконец одному татарину удалось пробраться к генералу, и тот со всею поспешностию пришел на помощь: два часа позже, все было бы напрасно5. Жаркое дело завязалось в Тарках с вечера; с восходом солнца кавалерия горская ударила на наши колонны и устлала трупами своими бегство от пушек; вслед за этим мы рассыпали стрелков, чтоб выживать из домов неприятеля, между тем как крепость громила их сверху; надо было взять завалы, и полковник Дистерло, начальник Петра, бесстрашно кинулся туда впереди своих гренадеров, держа еще в руке отнятое у врагов знамя; он пал мертвым, но смерть его была отомщена жестоко: 1200 татар усеяли улицы, облитые кровью6. Тарки были преданы, как должно, грабежу: камень не остался на камне. Мы потеряли, однако ж, до ста убитых и раненых; да ранены еще майор, капитан и несколько офицеров; Петра Бог спас и в этом деле. Говорят бывшие в турецкую войну, что, кроме Ахалциха, не видали они столь упорного дела; горцы бились отчаянно. Между тем один, бек Навруз именем, старинный разбойник, между прочим поручик наш, бежал из Дербента из-под суда, собрал шайки и начал рубить рассеянных по окрестности солдат, грабить проезжих. Два раза покушался он отбить табуны при полковых хуторах (кордонах по-здешнему), но только сжег сено. Вчерась же, пользуясь оплошностью коменданта, который снял татарские пикеты для их праздника в честь Гусейна, напал на косцов, изрубил 35 человек в куски, угнал полковой и офицерский табун и до 200 <голов> рогатого скота7. Кроме этого, видя слабость войск, все окрестные деревни явно или тайно высылают шайки, и теперь дошло до того, что за стену Дербента нельзя показать носу без опасности. Если не накажут этих мерзавцев по-тарковски, я не знаю, что будет вперед. Право, стыдно называться русским, – до того улыбаются татары, глядя на здешние распоряжения. Это все так близко к русскому сердцу, что невольно я наполнил им письмо. Не осудите. Подробностей о Петре не знаю; только две строчки получил от него, – сообщения нет: все прибережье в возмущении; здесь тревога пустая по два раза на день.
Я благодаря Бога здоров, но не духом; мне не позволяют даже и на поле быть полезным отечеству. Сестриц всех обнимаю от души. Посылок и денег еще не получал после апрельских. За «Пчелою» за 1831 год, стало быть, остается 200, ибо 200 отнесть надо за стихи. Благодарю Вас за все попечение и, желая счастия в тиши сельской, прошу родительского благословения.
Горячо любящий Вас сын
Александр Бестужев.
P. S. Писав к братьям, не забудьте нашего душевного им поклона. Лучше ли, хуже ли их нынешняя участь? Как Вы слышали?
11. Н. А. Полевому*
Дербент. 9 июня 1831.
Вероятно, Вы ждете моих, а я не получаю Ваших писем, почтенный Николай Алексеевич. Бог судья нашей почте. Не знаю, что бы сталось и со всем Закавказским краем, если бы эриванский герой еще года два здесь остался1. Кто приедет сюда управлять Грузией, будет ему хлопот вдоволь, и в военном, и в гражданском отношениях. Дошло до того, что деревнюшки, которые уже 30 лет в грязи ползали, теперь возмутились и нападают врасплох на рассеянных солдат. Кази-мулла, побитый нашими в Тарках, поднял Чечню и теперь держит в осаде Грозную и Внезапную2. Кажется, миновало то время, когда с одною ротой кавказские русаки творили чудеса. Горцы, как ни глупы, но их не побьешь, как турок. Много бы, много мог я сказать Вам о подвигах наших в Персии и в Турции, но ограничусь только замечанием, что Пушкина напрасно упрекают за бесчувствие к славе русских3. «Самое жаркое дело, какое я видел в 1829 году, – сказал он, – происходило между русскими казаками и егерями, которые подрались за брошенные пушки!»4. Откуда же взять вдохновения? Грустно, любезный Николай Алексеевич, когда и в военном мире найдешь разочарование, когда в баловнях славы увидишь глину горшечную и слепую фортуну, без умысла производящую следствия изумительные! Здесь-то оправдалась пословица, что не родись умен, родись счастлив… Трудную, многотрудную взяли Вы на себя обязанность писать современную историю. Для того, кто видел, как сочиняются реляции, не пойдет в руки ни одно описание сражений: про другое нечего и говорить; надо петь только «За горами, за долами!!»5.
Вот уже два месяца не получает здесь никто «Телеграфа», и это заставляет нас беспокоиться насчет Вашего здоровья, даже более чем здоровья. Дай Бог, чтобы опасения добрых людей и добрых знакомцев Ваших остались одними опасениями. Я бы молился за Вас, если б был Вашим врагом, – польза общая впереди всего; можете поверить, что желание знать Вас здоровым и счастливым тем искреннее, чем более Вас люблю. Я получил «Годунова»6, получил «Петра Ивановича»7: поглотил первого – и не сыт; грызу второго – и не варится в желудке. На днях ожидаю «Рославлева»8 – поглядим, каковы московские рысаки! Сам я поражен спячкою душевною… Несколько раз спрашивал себя, не следствие ли она сознания в собственном ничтожестве?.. Весы колеблются: ум говорит почти «да», но в душе что-то шевелится похожее на veto. Этот горький укор в лени не может происходить от одного самолюбия:
Блажен, кто светлою надеждой обладаем
Безвредно всплыть над океаном тьмы:
Чего не знаем мы – употребляем,
И невозможно то, что знаем мы!
Признаюсь, я с нетерпением ждал совета Вашего для какого-нибудь основательного труда. Во мне главный порок – нерешительность выбора; хочется и того, манит и другое, да и вообще я мало изобретателен; лучше могу схватить и развить чужое начало, чем свое. Теперь пишу для Вас повесть «Аммалат-бек»; кончил четыре главы, но мало досуга. Какова выльется, не знаю; рамы, впрочем, довольно свежие, из горного дерева. В «С<ыне> о<течест>ва» по временам печатаются мои стихотворные грехи10, но от опечаток, и в прозе и в виршах, житья нет. В одной пьесе, напр<имер>, в 22-м №-ре, вместо: «В небе свит туманов хор»11 – поставлено: «В небе свист, туманов хор». Ник<олай> Ив<анович>, кажется, верует, что в поэзии не должно быть смыслу, и потому, какую бы чепуху ни наврал корректор, он не заглянет в рукопись. Какими шагами идет ваша «История» в письме и в печати?12 Вы нас разлакомили – душа еще просит. Перебирая старые «Телеграфы», я нашел многие очень европейские критики В. У. и потому каюсь, что я, судя по некоторым из новых его же, сказал, что он лучший автор, чем критик13. Si je Га dit, je m'en dedis[309]. Говоря о журналах: «С.-Петербургский Меркурий» знаете ли кем издавался в сущности? Отцом моим, и на счет покойного императора. Вот что подало к тому повод. Отец мой составил «Опыт военного воспитания» и поднес его (тогда великому князю) Александру. Александр не знал, как примет государь-отец, и просил, чтобы сочинение это раздробить в повременное издание. Так и сделано. Отец мой был дружен, даже жил вместе с Пановым, и они объявили издание под именем Панова14, ибо в те времена пишущий офицер (отец мой был майор главной артиллерии) показался бы едва ль не чудовищем. Я очень помню, что у нас весь чердак завален был бракованными рукописями, между коими особенно отличался плодовитостью Александр Ефимович15: я не один картон слепил из его сказок. За «Исповедь» Фон-Визина отца моего вызывали на дуэль16; переписка о том была бы очень занимательна теперь, но я, как вандал, все переклеил, хотя и все перечитал: ребячество не хуже Омара17. Впоследствии государь обратил в пенсион деньги, выдаваемые на издание, который отец мой и получал до смерти. Отец мой был редкой нравственности, доброты безграничной и веселого нрава. Все лучшие художники и сочинители тогдашнего времени были его приятелями: я ребенком с благоговением терся между ними18. Но об этом до другого случая. Теперь я рад, что Вам, современнику моему, дружески могу сказать: будьте счастливы.
Вам сердцем преданный
Александр Бестужев,
12. Н. А. Полевому*
Дербент. 1831 года, сентября 26 дня.
Пишу к вам на лету, почтенный Николай Алексеевич; сбираюсь на горцев и ожидаю для разрешения на поход генерал-адъютанта Панкратьева, управляющего ныне Закавказьем. Он пришел сюда, на Самбур, и занемог крепко со всем штабом и домом своим от мала до велика – доказательство благорастворенного здешнего климата. Не браните меня, что долго не слал окончания «Аммалата» (при сем прилагаемого), – Кази-мулла держал нас восемь дней в осаде1, и дело тогда было не до перьев. Почти каждый день под стенами города у нас были гомеровские стычки с неприятелями, при коих и Ваш покорнейший не упускал случая порыскать2. Горцы готовились штурмовать город, настроили огромных лестниц, навязали фашин и бежали, заслышав приближение генерала Коханова с отрядом. Досуга и потом было мало, да, кроме того, почта не ходит сюда от Кубы уже семь недель, ибо казацкие посты сняты, и я отправляю это письмо с нарочным в Кубу, откуда уже оно примет ход по мытарствам обычною стезею. Боюсь, что мой дагестанец слишком дороден для «Телеграфа»?3 В таком случае отдаю на Вашу волю и попечение: печатать ли его у себя, или особо, или отослать к Гречу, перед которым, за хлопотами службы, я виноват за этот год – послал одну безделку. Не знаю, как покажется он Вам?.. Сдается мне, что характер Аммалата выдержан с первой главы, где он застреливает коня, не хотевшего прыгать, до последних, в которых он совершает злодейское убийство друга. Правда, что рамы не позволили мне развернуть его, но что ж делать? Мало-помалу я чувствую, что мне надобно писать роман, ибо предметы мои разрастаются не путем и, подрезывая ветки у них, я безображу целое. Предаю в Вашу руку все запятые и мелочные ошибки: право, некогда ни переписать хорошенько, ни просмотреть и того, что написано. Военная служба составлена из сетки мелочей, в которой много бесполезных дыр досуга, но еще более обязанностей, связывающих вас на каждом часу. «Дела не делай, а от дела не бегай» – вот ее девиз. Чтоб не выбочить с дороги поручений: скажу Вам откровенно, что я в это время обезденежил. Если можете, пришлите, сколько будете в состоянии, адресуя на мое имя, ибо Иван Петрович идет в поход4 и бог весть когда воротится в Дербент. Адрес делайте следующий: Александру Александровичу Бестужеву, в Грузинский линейный № 10 батальон, в Дербент. для верности требуйте, чтобы при сем посылалась расписка, долженствующая возвратиться к Вам от получителя. Эти предосторожности необходимы в здешнем краю, ибо я в течение полутора года имею уже на здешнюю почту на 1100 рублей претензию за растраченные и украденные разными почтмейстерами деньги. Между прочими покойник дербентский расхитил на двадцать две тысячи… нас уверяют, что мы будем удовлетворены… я только пожимаю плечами.
Что сказать Вам о состоянии здешнего края? Паскевич, отдав свою доверенность людям, которые всего менее ее заслуживали, довел Кавказ до высшей степени расстройства. Прошлый 1830 год был гибелен для русских не одною холерою. Побоище под Закаталами не имело примера в летописях военных и придало дерзости лезгинам как нельзя более. Поход графа за Кубань, без цели, как и без пользы, кончился важным для нас уроном, когда мы не видали кабардинцев в глаза. Разбои по линии и по военной дороге возросли. Наконец, мятеж всего Дагестана довершил картину. Кази-мулла осаждал и едва не взял Бурную и дерзнул явиться под Дербент, не видавший неприятеля под стенами двадцать семь лет. К счастию, что государь вверил управление сего края генералу Панкратьеву, человеку, соединяющему в себе все познания гражданской службы с решимостию и взором военным. Надеемся, что он поправит дела. Теперь думаем идти в горы: неприятель наблюдает отряд в пятнадцати верстах от Дербента, укрепляясь главными силами в местах, всего менее приступных, и, кажется, много крови прольется на землю, прежде чем снег ее покроет. Дожди льют ливмя.
Недавно я читал «Телескоп»5, в нем есть дельные статьи, но этот грязный дух партий, в нем первенствующий, несносен. Он, кажется, хочет строиться из ваших развалин?.. Невысоко же ему подняться. Я думаю, публика не поддастся на слово г-на Надеждина. Журналов и газет не читал уже девять недель и потому о текущей словесности ничего не знаю.
Я замучил Вас поручениями, наскучил Вам письмами и все-таки уверен, что Вы не досадуете ни на то, ни на другое. Примите уверение в искреннем моем к Вам уважении как к человеку и как <к> автору. Давайте скорее 4-ю часть «Истории»6 и не забывайте человека, который перестал уже быть и баснею.
Преданный Вам
Александр Бестужев.
13. Н. А. и К. А. Полевым*
Г. Дербент. 1831 г., декабря 16 дня.
Вы живы, для меня живы, добрый, почтенный мой Николай Алексеевич… Слава Богу! Нет, как Вы хотите, не погружайте меня вперед в подобное беспокойство. Не надо мне частых писем, но раз в месяц, по крайней мере, необходимо. Три строчки, два слова, но чтоб я знал, что Вы, как Вы.
Сколько давно уснувших дум и чувств очнулось во мне на письмо Ваше от 25 сентября!1 Сколько черных и светлых часов встали передо мною, отряхнув с крыльев могильную пыль… Они ожили, будто от живой воды, от немногих слез, пролитых на Ваши строки. Труженик, труженик, утешься! Не ты один носишь неутолимую жажду в груди своей… огонь Прометея светит и жжет вместе, или, лучше сказать, пожигает быстрее, чем озаряет. Один только неповитый глупец может быть доволен сам собою…2 Утешься, если отрадно знать, что и другие страдают наравне с нами. «На людях и смерть красна», – говорят русские; но на людях не значит с людьми. Я бы презрел самолюбца, который бы пожелал, чтобы с ним умирали товарищи для компании. Счастье, счастье! Будь я манихей3, я бы сказал, что какой-нибудь Эблис4 подбросил эту таинственную каракулю под ноги зеваке-человечеству вместо камня преткновения. Целый век осуждены мы цедить это вечно существующее Ничто сквозь Данаидину бочку5, сквозь душу нашу, и чем больше труда, тем менее утоления. Где-то в Писании сказано: «Бездна призывает бездну»6; я скажу: «Бездна пожирает бездну», и может ли она у питаться, уснуть от пресыщения?.. Вы говорите: счастье должно быть отдыхом… Мысль новая, может статься, справедливая, то есть прекрасная, но я не вверяюсь ей, даже не приступаюсь к ней. Звук этот не пробуждает во мне никакой мысли. В лета юности я был слишком ветрен и не отдавал себе отчета в цели моих желаний. Далее был я обреченец… который не перелетал надеждою кратких дней вперед… а теперь, теперь иное дело. Я отрубил канат, который держал ковчег мой хоть одною якор-ною лапой за землю обетованную… Я выбросил в море весь груз надежд, уморил с голоду желанья счастья и теперь ношусь без цели по безбрежнему пространству, полному стадами животных, между коих едва заметна семья человека, семья созданий разумных.
Со всем тем, любезный Николай Алексеевич, в очерке Вашем себя вгляделся я в собственные черты мои: разница (и верьте, что это не игра) едва ли в мою пользу. Как завидна мне в Вас ничем не отклонимая воля образовать себя и трудолюбие неутомимое. Вы говорите, что это спасение от бездны души (так толкую то, что называете пустотою), что в труд прячетесь Вы от самого себя. Неужели не видите в этом перста провидения, которое разными подстреканиями, разными бичами заставляет людей творить или разрушать на пользу общую? Будете ли роптать на него, что за работу египетскую едите Вы чеснок, омоченный слезами, оглянитесь: за Вами лежит Меридово озеро7, спасающее, плодотворящее целую страну, – и Вы, Вы тоже копали его!! Труд есть первый завет между небом и землею; польза есть первый долг, воздаваемый Богу, через руки человеческие, и счастлив тот, кто выплатил его более, прямее: стало быть, Вы счастливее меня, которого гнетет какая-то свинцовая лень. Вместо гармонии нахожу я в себе ветер пустынный, шепчущий в развалинах. Под крестом моим, тяжким крестом (и более нравственно, чем вещественно), падал я хоть на час, но не однажды. Дух мой окреп; но это больше окаменение, чем твердость. Две только драгоценности вынес я из потопа: это гордость души и умиление перед всем, что прекрасно. Чуден стал внутренний мир мой: прочтите «The Darkness» Байрона, и Вы схватите что-то похожее на него; это океан, «задавленный тяжелой мглой, недвижный, мрачный и немой», над которым мелькают какие-то неясные образы8. Зима судьбы погрузила меня в спячку… о, ежели б эта зима сохранила в свежести чувства мои для красных дней!! Напрасная мольба… холод сохраняет только мертвецов в своем лоне, он убийца жизни. Слышу упрек совести: «Ты погребаешь талант свой» – и на миг хватаюсь за перо. Вот почему не написал я доселе ничего полного, развитого до последней складки. Мои повести – разорванные звенья электрической цепи, вязавшей ум мой с сердцем; но я сам не разберу концов, не сцеплю обрывков. Впрочем, с неохотой принимаясь за дело, я с любовью веду его. Только в чтении, только в сочинении оживаю… Правда, я живу тогда не своею жизнию: плавкое мое воображение принимает все виды. Оборотень, оно влезает в кожу, оно, как рукавицу, надевает понятия лиц, созданных мною или другими; я смеюсь и плачу над листком… но это миг… я скоро простываю: слова мне кажутся так узки, перо так медленно, и потом читатели так далеки, путь к их сердцам нравственно и физически так неверен… и потом, когда вздумаю, что эта игра или страдание души все-таки поденщина для улучшения своего быта, кисну, холодею, тяну, вяжу узлы как-нибудь. Нет, нет: для полного разлива, для вольного разгула дарования надо простор; нет, я не доволен своими созданиями. Это дети, иногда забавные, иногда милые, порой даже умненькие, но дети, но карлы, а я живу в стороне исполинских гор, в мире исполинов, мечтаний… Ради Бога, не поминайте мне про мои сказки!
Вы говорите о моем перерождении, о разнице меня прежнего со мною настоящим: я думаю, это более видимое, чем точное… Ветхий Адам проносился на мне, правда, до дыр, но еще с плеч не падает9. Ветреность моя была домино для светского карнавала, в котором вертелся я для биржевых сделок. Свет забавлял меня очень редко, но не пленял никогда. В кругу своих я был собою, но вполне разоблаченную душу видел только один, и этот один уже в лоне Бога10. Ребенком бываю порой и до сих пор… и как бы желал быть им чаще, быть им долее… с игрушками веет мне невинность ребячества… Кратки, кратки эти минуты. Ах, я слишком хорошо знаю людей, чтобы долго обманываться. «Отдай мой рай, отдай мой ад, Отдай мне молодость назад!» – восклицаю я с Гете11. Как редки во мне ныне светлые восторги любви и святого негодования, которые могли хоть на минуту возвышать меня до геройства, до увлекающего красноречия! Бесстрастная судьба словно облила мою душу своим холодом, своею ночью, не украшенною ни звездочкой познания: для чего преданы люди на съедение злобе и силе? Я стал почти равнодушен к страданиям человечества, которому не могу помочь словом. Сперва я был ребенок, страж запертого льва, теперь часовой у гроба… я цвел прежде по крайней мере как цветок теплицы – ныне цвету как стоячая вода… Куда ж перетянет сравнение?.. Так или сяк, но скажу вам откровенно, что в былое время словесность считал я побочною своею дорогою; мне казалось и кажется, что я рожден лучше чувствовать, нежели говорить, и более действовать, чем думать. Я изувеченный гренадер, который неловко берется за берды12.
Теперь очередь за людьми; вы жалуетесь на их злость, на их беспричинные преследования… да когда же звери любили человека?.. Впрочем, мое мнение, что напрасно жалуются на злобу людей: надобно бы обвинять их глупость; слишком много чести называть этих копеечных Геростратов злодеями: они просто дураки. Они или ослы с тигровыми лапами, или хищные орлы с поросячьим рыльцем, и вот почему я никогда не принимал близко к сердцу ни обманов, ни коварства их. «Больше разницы между человеком и человеком, – сказал Монтань, – чем между человеком и скотом»13: может ли же крайнее существо обидеть меня, будь оно хоть с рогом, хоть с зубом, хоть с жалом? Ей-богу, нет! Оно может уязвить, измучить, истерзать меня, но огорчить разве на минуту. Вспомните, любезный Н<иколай> А<лексеевич>, что свет есть огромный желтый дом, в котором и лекаря, по несчастью, если не безумные, то едва ли не глупее прочих. Последуйте мне, и Вы увидите, как целебно подействует на Вас это убеждение. Это не гордость, не презрение; сохрани Бог, это сожаление, участие к злому мальчишке-человечеству, ибо с мыслью о ребячестве связано желание делать ему добро, даже долг делать его, несмотря на отплату злом: дети всегда бранятся и плачут, когда их моют. Но все ли таковы люди?.. Один лукавый мог бы отвечать: все. Несчастны Вы, что судьбой брошены в такой огромный круг мерзавцев. Я был счастливее Вас, живучи в свете; я знал многих, у которых самый большой порок был лишь то, что они считали себя героями. Я счастливее Вас и в этом преддверии ада, в котором маюсь, ибо знаю людей, для коих падение стало вознесением14. О, какие высокие души, какое ангельское терпение, какая чистота мыслей и поступков!.. Самая злая наемная клевета не могла в шесть лет искушения найти ни в одном пятнушка, и в какое бы болото ни бывали они брошены, приказное презрение превращалось в невольное уважение. Безупречное поведение творит около них очарованную атмосферу, в которую не смеет вползти никакая гадина. Сколько познаний, дарований погребено вживе… Вы помирились бы с человечеством, если бы познакомились с моим братом Николаем… такие души искупают тысячи наветов на человека.
Но я говорю: знаю, а это не значит живу с ними. Я разлучен даже с меньшим братом Петром, который в полном смысле слова мученик. Сто верст между нами, и мы врознь: так близко и так неизмеримо далеко. Незаслуженные обиды от мерзавцев врезали в его сердце глубокую мизантропию, в ум – глубокую меланхолию. Подобно Вам, он горячо принимал все, принимая двуногих животных за людей… Его положение печалит меня всего более. Он изранен, изувечен, и никакого покоя, никаких средств к улучшению его жизни, ни одного дружеского лица около… это ужасно! Данте поместил бы кр<епость> Бурную в своей «Divina Comedia», и эта глава была бы сильнейшая.
Я недавно возвратился из похода в горы. Был не раз в делах и скажу Вам, что горцы достойные дети Кавказа… Это не персияне, не турки. Сами бесы не могли бы драться отважнее, стрелять цельнее. Нам дороги стали так называемые победы. В последнем деле мы имели несчастье потерять товарища по несчастью, знаменитого храбростью полковника Миклашевского15: это был настоящий Аякс16, и пал героем. И таких-то товарищей теряем мы с каждым годом, оплакивая каждый день. Число несчастливцев стесняется видимо… передние падают, а мы всегда впереди… скоро дойдет <нрзб> и до меня. По таблице вероятностей даже прежние удачи суть уже залоги к будущему проигрышу. А климат, климат? Между прочими он недавно поглотил отличного свитского офицера Искритского… это жертва Выжигина17.
Благодарю за присылку книг; «Notre Dame» совершенно в моем вкусе18. Я, впрочем, прочел только 1-ю ее часть. Странник чересчур колобродит19. Насчет моих отношений с Гречем скажу: я плачу старый долг. Греч первый ободрил и оценил меня; когда целый комитет цензуры решил, что я не умею написать строчки по-русски, он первый предложил мне и в несчастии быть его сотрудником. В нем много барства, но много и благородства20. Что я сказал, если повесть велика для «Телеграфа», то отошлите в «С<ын> о<течества>», – я не разумел тут, что она негодна для Вас… Журнал имеет свои рамы, в которые и воля журналиста не может втеснить книги. Деньги посылаются ко мне от многих прямо, и доселе, кроме воровства на почте, никаких препон не было. Впрочем, я не считаю Вас должником, ибо Вы не печатали ничего моего, кроме «Гаданья»21. Я очень совещусь обременением покупками. Кстати о печати: если Вы хотите чаще иметь от меня повести, тискайте их скорее… Увидя в печати свое, я подстрекаюсь писать вновь: ах, думаю, ведь у Полевого ничего моего не осталось, и давай чертить… Да, да, еще: я просил от Вас зерна для чего-нибудь дельного… пошевелите своею житницей историческою. Если что-нибудь изберу, то займу у вас необходимых подробностей, а без того придется писать a la madame Genlis «historique»[310]22.
Душою обнимаю Вас, дорогой мой Николай Алексеевич; почта уже подтягивает подпруги… нехотя надобно расстаться. Некогда перечесть письма… Это настоящий персидский ситец; хочется обо всем сказать, и оттого ничего не доскажешь, не выскажешь. Притом если Вы забыли, о чем сами писали по порядку, прощай смысл: средний лоскут нашего купона потерян. Об одном прошу Вас: не предавайтесь поглощающей мысли бесконечности и совершенства в отношении к себе, ибо человек не может вместить в себе разума всего человечества, еще менее вынести на себе судьбу, предназначенную всему человечеству. Покоряйтесь призванию, но не переходите его границ в лихорадочном порыве души. Жалеть позволено нам, что мы не гении, но отчаиваться от этого – есть роптать на Бога, которого должны благодарить Вы, что Он дал Вам средство, дал Вам отраду быть полезным, отраду, которой лишены тысячи людей, которые тлеют, как отверженные богами жертвы. Не говорю Вам о людях: около Вас, и вдали Вас, и в собственном сердце снуется узел примирения их с Вами, по крайней мере Вас с ними. Скажите с Байроном: за злобу, за преследование воздам я местью и клятвами, и эта клятва будет забвение23.
Но меня, столь много полюбившего Вас, Вы не забудете; я уверен в этом. Поцелуйте руку у супруги Вашей за меня: это благодарность за то, что она услаждает бытие Ваше. Поцелуйте еще сто раз, чтоб она сохранила Вас если не для Вас, то для себя, для
Александра Бестужева.
Вы так добры, Ксенофонт Алексеевич, что извините меня и без эпиграфа «милостивый государь» за перекрещение Вас, по незнанию, в Петры. Снимая, однако же, имя, я оставляю при Вас ключи, конечно, не от рая, по крайней мере от замка, замыкающего дружество мое с братцем Вашим. Я уверен, что эти ключи не будут похожи на камергерские, которые ничего не отпирают. Напрасно совеститесь Вы старинных критик своих – ни природа, ни ум не делают скачков: это было, стало – должно было быть, и единственным раскаянием человека в делах неумышленных должно, как мне кажется, быть улучшение, исправление себя. Это пахнет магистральным наставлением; но опыт и несчастье если не дали мне права давать советы, то извиняют по крайней мере мою говорливость. Притом же, ради самого графа Хвостова24, как выдумать средство найти что-нибудь в наших произведениях словесности? Это кокос без молока: поневоле станешь грызть скорлупу. Моих критик тоже не выкинешь из этого десятка – многих критик. Были иные, в которых пробивался и разум; но это был разум в академических пеленках. С тех пор много уплыло воды, много наплыло и дрязгу… Полно об этом.
Обстоятельства военные в Дагестане, в этом «land of mountains and floods»[311]25, весьма плохи для русских… Полков мало, и те слабы. Климат и меткие пули врагов просквозили ряды их. Кази-мулла, воспламенив фанатизмом вечную ненависть горцев к русским, действует отлично, и с своими летучими отрядами ходит у нас не только под носом, но по самому носу. Меры кротости, или, лучше сказать, manie de pallier[312], сделали то, что мы окружены и прошпикованы врагами – под именем мирных, лазутчиками – под видом союзников. Сообщения прерваны, кони мрут с голоду, солдатам ничего не продают, и Кази-мулла, ободренный разграблением Кизляра, откуда увез он добычи на четыре миллиона и 200 пленных, грозит всем городам новою осадой… Говорят, к нему присоединяются и аварцы, самое воинственное племя, сердечники Кавказа, а край обнажен. Дело под Агач-кале стоило нам 400 человек, павших под стеной деревянной башни на скале, в которой сидело не более 200 чел. Русские оказали чудеса храбрости – и даром. Тут легло восемь офицеров самых отличных, в том числе три штабов и с ними начальник отряда Миклашевский26. Дело под Чиркеем, за Сулаком, кончилось удачнее, ибо мы взяли назад пушку, отбитую у Эммануэля, но потеряли 80 человек. Чудо что за местоположение в том месте, а картина канонады была очаровательна. Там вызвался я ночью осмотреть мост, разрушенный нарочно… десятки завалов опоясывали скалу противоположного берега, и всякий, кто выставлял нос только, был поражаем; но темнота мешала целиться; я подполз к обрыву, внизу бушевал Сулак, десять сажен внизу, за двенадцать шагов, белелись ворота предместья; я слышал, как говорили неприятели, как заваливали камнями вход, и вдруг залаяла собака, и меня попотчевали свинцовым градом. Но я после отомстил им, ибо мне поручили выстроить крыло батареи прямо против того места; целое утро мы громили их; в три часа они покорились27. Братец Ваш просит меня, чтобы я берег свою жизнь: это довольно трудная вещь для солдата. Природа не обделила меня животною дерзостью, которую величают храбростью; но я уже не запальчив, как бывало. Слава не заслоняет мне опасностей своими лазоревыми крылышками, и надежда не золотит порохового дыма. Я кидаюсь вперед, но это более по долгу, чем по вдохновению. Труды и усталость и непогоду сношу терпеливо: никто не слыхал, чтобы я роптал на что-нибудь: потеряв голову, по бороде не плачут.
За аккуратность посылок я много, много благодарен, но не вовсе за счеты. О прежних посылках ни слова; о книгах и альманахах тоже. Сделайте одолжение, упомяните о том. Покуда есть у меня перо, не дарите меня; иначе я ни о чем не буду просить Вас: это каприз, но он мне родной. Не сердитесь на мой крутой слог: я считаю Вас в числе друзей, а с друзьями приветы и околичности нетерпимы. По прилагаемому кружку постарайтесь, любезный К<сенофонт> А<лексеевич>, выслать мне поскорее стекло к часам. На сей раз только.
Брат Вас так любит, Ксенофонт Алексеевич, – подкрепляйте же Вы его своею заботливостью, освежайте дух его своей беседой… Я бы горячо желал разделить с Вами этот священный долг, как делю с Вами к нему уважение и с ним привязанность к Вам. Будьте счастливы.
Ваш Александр Б<естужев>.
<Р. S.> При сем возвращаю шесть книг.
14. Н. А. Полевому*
Дербент. 1832, февраля 4.
Пишу к Вам, любезный и почтенный Николай Алексеевич, с мусульманином Аграимом, добрым дербентским жителем, коего прошу Вас усердно приласкать, помочь ему в прииске товаров советом и выбором и, словом, совершить долг гостеприимства по-русски. Он расскажет Вам, что я теперь, благодаря прекраснейшему семейству майора Шнитникова1, провожу время у них как с умными и добрыми родными; но это только теперь и, вероятно, ненадолго. Не можете себе вообразить, каких преследований был я целью от или через Паскевича, этого глупейшего и счастливейшего из военных дураков2, надо бы прибавить – и злейшего. Насчет товарищей несчастья существуют приказы, в которых велено нас презирать и употреблять даже без смены во все тяжкие. К счастью, на земле более трусов, чем подлецов, и более подлецов, чем злодеев, а оттого мало-помалу судьба наша облегчается, но это на миг. Имя наше употребляют теперь как головню: личные ссоры старших обрываются на нас; донос, что с нами обходятся не довольно жестоко, бывает началом новых гонений, и мы терпим за чужие беды. Так, кажется, будет скоро со мною. Есть здесь полк<овник> Гофман, который весь век пил, играл в карты и охотник до коленкору, – все это заслужило ему имя доброго человека, ибо на Кавказе только эти качества уважают. К этому же он только что получил полк, за службу в андармах. Поссорясь с комендантом за какое-то выражение по бумагам, – он уже хвалился, что донесет на него, зачем он принимает меня. Итак, если Вы услышите что-нибудь, что со мною стряслось, – не дивитесь. Это уже не в первый раз; думаю, и не в последний3. Паскевич сыграл со мною штуку получше этой, заставя больного, с постели, зимой, без теплой одежды, без копейки денег, ехать верхом сюда из Тифлиса. Это было – не говорю жестоко, но бесчеловечно. И за что же?.. О, это было совершенное время de lettres de cachet[313]. Г. Стрекалову сказали4, что я удачно волочусь за одной дамой, которой он очень неудачно строил куры, – и вот зерно преследований. Тяжело мне было здесь сначала, и нравственно еще более, чем физически. Паск<евич> грыз меня особенно своими секретными; казалось, он хотел выместить памяти Грибоедова за то, что тот взял с него слово мне благодетельствовать, даже выпросить меня из Сибири у государя. Я видел на сей счет сделанную покойником записку… благороднейшая душа!! Свет не стоил тебя… по крайней мере я стоил его дружбы и горжусь этим. С Иваном Петровичем5 знакомы и связаны мы издавна… но мы не друзья, как Вы полагаете, ибо от этого имени я требую более, чем он может дать. Живу один. Ленюсь… частью виноваты в том и сердечные проказы. Каюсь – и все-таки ленюсь. Но что Вы, Вы, мой добрый, сердцем любимый Н<иколай> А<лексееви>ч!.. Как жаль, что я не знал об отъезде Аграима ранее, я бы написал Вам кучу любопытного… но теперь едва успеваю, ночью, на постеле, кончить эти несвязные строки. Пишите по крайней мере Вы с ним. Пишите и по почте; я уж после отрадного большого письма давно не имею от Вас вести. Обнимите за меня Ксенофонта. Боже мой, какая досада, – я еще не начал и должен кончить – светает, а со светом Аграим едет в свет из кромешной тьмы, где влачится
Ваш
Александр.
15. П. М. Бестужевой*
Дербент. 1832 года, февраля 9 дня.
Любезнейшая матушка,
Получа от 20 декабря письмо Ваше, вижу, что Вы не получили некоторых моих, – это невообразимо досадно: обстоятельства в то время были здесь весьма любопытны – я жил деятельною жизнью воина – дрался с дерзкою отважностию и на стенах, и под стенами города – и, слава Богу, остался цел и невредим. Но повторять подробности осады, право, скучно; когда-нибудь опишу это на досуге, – теперь я не в стихе дидактическом.
Беспокойство Ваше, что строки Ваши не нашли бы нас, было напрасно. Почта (безденежная, разумеется) ходила и в отряд хоть поздно, но довольно верно, а если б перевели меня куда-нибудь, я бы оставил на почте указание, куда доставлять мне письма, почему и вперед не печальтесь о сем. Посылки чаю и еще на 50 р. получены, сердечно благодарю за них. Но от Греча денег не получал за новый год. Сюда прислан был новый почтмейстер для поверки растрат умершего (замотавшего кучу денег), и оказалось, что этот поверщик размотал вновь довольное количество. В том числе, кажется, попались 500 р., на имя Ивана Петровича от г-на Андреева посланные. Но как я не имею от Андреева о сем уведомления, то не считаю себя в долгу у «Пчелы».
Все это, правду сказать, весьма порасстроило мои финансы, да как быть! Между тем я получил 350 р. за часы, которые впоследствии оказались полученными в Петербурге Е. П. Торсон (хорош порядок почты – сами не знают, что делают), я объявил о сем, прося зачесть за другие утраты. Петрушиных за посылку 120 р. еще не платят. Говорят, они в Кизляре, но я у них добуду волей и неволей. Известите в 120 ли или в 200 руб. была она оценена? Я, слава Богу, здоров, живу своим хозяйством и время провожу менее скучно, ибо нашел гостеприимный дом, где меня любят и ласкают; достойное прелюбезное семейство1. Начав писать о деле, прошу Вас поблагодарить г-на Андреева и Николая Ивановича Греча за предложение издать мои повести; я не могу и не желаю найти лучшего издателя. Пусть приступает к делу с Богом: под названием «Повести Александра Марлинского». В первой части (часть в пятнадцать или двадцать листов) поместить «Испытание», «Замок Эйзен», «Вечер на корабле» (помещенный в «Волшебном фонаре»)2, «Листок из дневника гвардейского офицера» (из «Приб<авлений> к „С<ыну> о<течест>ва“»)3, где описывается сон, будто я попал к разбойникам (она напечатана с буквами «А. Б.»), назвать ее «Ночь в лесу». Я думаю, это составит нужное число листов, если нет – прибавить «Часы и зеркало». Во 2-й части поместить «Наезды», «Красное покрывало», «Рассказ офицера, бывшего в плену у горцев» (из «Тифлис<ских> ведом<остей>»; об поправках я пришлю листок)4, «Страшное гаданье». Или, выкинув «Рассказ», – «Лейтенанта Белозора». В 3-й части будет «Вечер на К<авказски>х водах» целиком, ибо окончание я снова принялся писать и пришлю для «С<ына> о<течест>ва»5. Каждую часть я думаю пустить по пять рубл. и врознь, так что выпустить одну, кончив по ней счеты, потом издать другую и, по мере накопления новых, далее и далее. Титул можно дать и другой, напр<имер>: «Сочинения А. Марл<инского>», – это лучше, ибо тогда можно будет мешать и не повести6. Прошу снестись с ним об этом поскорее и, уполномочив его, известить меня о сделке, – деньги мне нужны. Скажите ему, между прочим, чтобы за последнюю треть удержал мне уплату. Если я не выставлю должное число листов, пусть за оное вычитает из нее по 60 р. за лист. Я не хочу даром брать денег. Еще тысячный раз спрашиваю, получил ли он повесть «Латник»? Выручку за первые экземпляры – на уплату издержек издания; прочие, кушами в 500 р., пересылать мне. Об остальном дам знать.
Прилагаю письмо брата Петра и, прося не забыть от меня петровских братьев, целую ручку Вашу, добрая, почтенная, любезнейшая родительница, и с пожеланием Вам счастья есть горячо любящий Вас сын
Александр Бестужев.
16. Н. А. Полевому*
Дербент. 1832 г., февраля 24 дня.
Не знаю, чем-то полно мое сердце, и я принимаюсь за перо, так давно забытое, чтобы писать к Вам, любезный Николай Алексеевич, – авось мне станет полегче. Неизмеримо давно не получал я от Вас ни словечка. Читаю, что Вы меня хвалите часто в печати…1 но я бы во сто раз был довольнее, если бы Вы бранили меня на письме, – только бы писали ко мне. В этом обширном мире, в котором жил я, в котором живу еще мыслию, развилась пустыня для меня: старых друзей нет… новых не наживают в мои лета и в моих бедах! Многие ценят слишком высоко мои сказки, никто – меня самого, никто – моей печальной истории! Смею думать, однако, что Вы составляете исключение из этого ледяного правила света, и потому люблю с Вами говорить о себе… Не знаю, эгоизм ли это, порожденный шумным одиночеством, или похвальное желание быть известным хоть одному в мире человеку, но человеку. Обнажая себя со всеми своими пороками, мне кажется, я прибавляю страничку к книге познания сердца человеческого, столь многогранного, столь всевидного. Я не имею и пустой застенчивости скрывать добрые мои качества, – это значило бы нарекать на человечество, давать дурной пример для неопытных, извинение для порочных. Не хвалюсь своими слабостями, но, краснея их, не скрываю их, потому что надеюсь искупить их тем, что во мне есть хорошего.
Итак, я скажу Вам, что с девятнадцатилетнего возраста любовь была маятником всех моих занятий. Она подстрекала, она и удерживала меня на пути познаний, на поприще успехов. Сколько времени бросил я на корм своему ненасытному сердцу!! Более пылкий, чем постоянный, и, может быть, более сладострастный, чем нежный, я губил годы в волокитстве, почти всегда счастливом, но редко дававшем мне счастие. Моя безумная, бешеная страсть палила женщин, как солому, и нередко так же быстро прогорала… я стыдился моих идолов. На беду мою из всех тех, которые владели моими мыслями, не было ни одной, которая бы могла оценить мои дарования и потребовать от меня цельного, создать, или, так сказать, вылепить, из меня что-нибудь гениальное. Многие достойны были изучения в отношении к любви, иные достойны уважения за беззаветную привязанность, но где жажда славы какой-нибудь римлянки, самоотвержение какой-нибудь спартанки! Любила ли хоть одна из них мой ум более моей особы, мою славу более своего наслаждения? Нет, нет… мысли их не летали далее настоящего, мир их, поприще их ограничивалось торжествами щепетильными в мишурном кругу своего общества. Мало есть людей, которые бы так любили женщин, так близко узнали их и так мало в них нашли. «Give them a sugar-plump and a looking-glass and they would be perfectly glad»[314], – сказал Байрон2. Я не совсем с этим согласен, но убежден опытом, что в их душе недостает несколько октав, равно для понятия, как для чувства. Любовь прикладывает печать идеала красоте, но красота – позолота, и мы часто уверяемся со вздохом, даже прежде чем слиняет она, что взяли медь за золото… и хорошо еще, если медь, а не свинец. Со всем тем грех сказать, что время любви моей было погублено. Не спрашивайте меня, многому ли я выучился, много ли написал, но сколько жил я тогда? И в удушливом газе света, и в мраке темницы, и в сибирском холоде, и под жарким небом Закавказья она дарила меня минутами, похищенными у неба. Только вино любви могло упоять меня до забытья, до самозабвения. Правда, надо было иметь такое щедрое воображение, как мое, чтобы одевать в воображаемые совершенства действительные пустяки, но я всегда любил себя обманывать, когда обман дает истинное наслаждение. «Le monde de chimeres est le seul qui est digne d'etre habite»[315], – писал Руссо3. Верю.
Все это огромное предисловие пришито к пробелу… Но Вы прочтете этот пробел. Вы поймете, почему я так ленив теперь. Не браните меня: молодость моя улетает, и я хочу вырвать у нее последние цветы… дайте мне хоть еще раз поиграть жизнию… а там? Пусть будет, что будет. Нового года «Телеграфа» еще не получил: жду с нетерпением. Помнится, я писал к Вам, что Надеждин прислал мне журнал свой, прося повестей за какие угодно мне условия4. Не люблю новых связей и по природе, а с таким журналистом, как издатель близорукого «Телескопа», и подавно. Отыгрался комплиментами и условными обетами. Все более уперся на дружбу с Вами и Гречем, давно заключенную. Не погневайтесь, что немножко похвастал. Что сказать о себе? Я все еще, как Навуходоносор, осужден пастись с быками и есть травку-муравку, включая в то и словесность нашу5. Вышел новый роман «Марина». Кто, скажите пожалуйста, поддоброхотил его публике… не великий ли знакомец?6 Я, однако ж, виноват против него. В одном из писем к Вам сказал, что он нашел змей и лягушек в генваре месяце… по справкам оказалось, что он чародействовал в марте и резал не свинью, а кошку. Во всяком случае я вызываю самых искусных колдуний найти змей и жаб в марте под Москвой! Я чай, и в Милютиных лавках не найдешь7. Еще вопрос: что такое «Рудый Панько» и что за повести его?8 Об них так расхлопали журналы, что не знаешь, чему верить. Жаль Вельтмана: он, кажись, принял два сгиба в изложении и в вымысле и все играет на один и тот же лад – много мыслей, но они насыпаны, а не связаны, и потом преувеличение не имеет границ; Искендар таков и должен быть, но Мстислав странен в его хитоне9.
Я думаю, Вы виделись уже с дербентским жителем Аграимом, несколько обрусевшим татарином10. Пожалуйста, послужите ему советом и знакомством своим. Между прочим, он имеет поручение купить для здешнего коменданта, майора Шнитникова, добрейшего и благороднейшего человека, новую коляску, ценой от 1500 до 2000 рублей. Руководите его в сем деле, это приму я себе в большое одолжение. Коляску нужно с дорожными ящиками. Комендант хотел было позволить Аграиму в ней возвратиться, но я думаю лучше послать водою в Астрахань. Это будет сохраннее. Если найдете и Вы так же, то, прошу, уладьте это повернее. У меня только одна надежда на Вас. Братца Вашего, Ксенофонта Алексеевича, от души обнимаю, но, признаюсь, целуя, немножко укусил бы за то, что он ни о себе, ни о Вас не дает вести. О, беззаботные!.. На второй неделе буду говеть – и тогда помолюсь, чтобы Всевышний сохранил Ваше здоровье и с ним вместе память в Вас о многолюбящем Вас
Александре Бестужеве.
17. К. А. Полевому*
Дербент. 15 марта 1832 года.
Крайне дивлюсь, любезный и почтенный Ксенофонт Алексеевич, кому вздумалось сочинить в Москве, будто я убит! Вестовщики рано меня отпели; назло им я живу себе до сих пор, и какое-то уверение таится в груди, что я буду жив еще сколько-нибудь времени. Так по крайней мере сдается мне всякий раз, как иду в дело. Очень верю, что Вам была не радость подобная весть1, ибо верю, что семейство Полевых меня любит: из чего бы Вы стали меня обольщать! Благодаря Бога я в таком теперь кругу, что могу безошибочно вверяться немногим лицам, ко мне обращенным. Насчет русских солдат Вы не совсем верное имеете мнение, хотя оно и близко к правде. Солдат наш очень неохотно идет в огонь; но хорошо стоит в нем, и, как вы думаете, отчего? Он не умеет уйти и лезет на верную смерть оттого, что не смеет ослушаться. Впрочем, русский солдат доступен всем высоким чувствам, если б умели их возбуждать заранее… Пример и красное слово увлекают их, и чудная вещь: имя полка, имя роты, известной искони храбростью, как будто перерождает трусов в бесстрашных. Впрочем, я знал многих солдат, которые так же радостно идут в дело, как в кружало2. Дениса Давыдова судите <Вы> по его словам; но, между нами будь сказано, он более выписал, чем вырубил себе славу храбреца. В 1812 году быть партизаном значило быть наименее в опасности, нападая ночью на усталых или врасплох. Притом французы без пушек и вне строя нестрашные ратники. Это не черкес и не дали-баш, который не задумается вступить в борьбу с пятерыми врагами. Между прочим, я был дружен с Николаем Бедрягою, который служил с Денисом в 1812 году. Он говорит, что они могли бы в тысячу раз быть полезнее, если бы Бахус не мешал Марсу. В 1826 году, хоть он и пронесся в горах около Арарата с шайкою грузин, но там не было сборищ куртинцев, и потому они не имели даже ни одной стычки. Я не отнимаю, впрочем, ни славы, ни пользы у Давыдова: он очень хорошо постиг свое ремесло; однако я бы желал видеть и сравнить его с здешними наездниками. Я думаю, что он показался бы школьником в сравнении с ними. В мире все относительно. Я очень люблю его, но он принадлежит истории, а история есть нагая истина…3
Но я заболтался и забыл благодарить за все Ваши хлопоты. Стекло, на беду, слишком плоско и придавливает стрелки. Надо будет снова ждать три месяца. Вестей и сплетней жду от Вас (по литературе, разумеется). Дома теперь отдыхаю один, ибо сожитель мой уехал, слава Богу! Предобрый, но пренесносный человек, тем более что влюблен; а я не знаю в свете скучнее людей, как влюбленные. Здоровье мое недурно; ленью подобен я богам гомеровским. Вот все, что на этот раз попало под расколотое перо желающего Вам всего лучшего
Александра Бестужева.
18. Н. А. Полевому*
Дербент. 1 сентября 1832 г.
Долго-долго читал я, почтенный Николай Алексеевич, Ваше последнее письмо и, признаюсь, до сих пор не мог постичь ни его, ни Вас. Положение Вашей души так для меня ново, что я напрасно ищу опоры в минувшей моей опытности, для того чтобы с нее измерить глубину, или, лучше сказать, пучину, Вас поглощающую. Конечно, по нескольким словам, брошенным на ветер почты, нельзя угадать истинной вины Вашей душевной горячки, в которой летаргия и усиленная деятельность не только смежны, но перемешаны; со всем тем, если бы она хоть сколько-нибудь походила на то, что я наблюдал в других или испытал на себе, я бы провидел истину сквозь туман, и вне Вас, и в Вас самих лежащий. Теперь не то. Я смотрю на Вас с двойным сожалением друга и врача, который не только не может помочь Вам, но не в силах и постичь болезни Вашей, – первое для Вашей пользы, второе для пользы общей. Чувствую по себе, что каждый умный и благородный человек может негодовать, видя торжество глупости, но чтобы это негодование падало до отчаяния! – это значит сомневаться в мудрости провиденья, зиждущего тихо, но неразрушимо, и, кажется, я не заметил на характере Вашем этой складки нетерпеливости. Но что же грызет в Вас счастливого супруга и отца, гражданина деятельного и уважаемого, автора и человека, знающего себе цену?.. Не хочет ли пробиться душа Ваша сквозь скорлупу настоящего быта в ту сторону, куда зовет ее природа, – и эта беспричинная тоска (занимаю на час это слово у Шишкова)1 есть тоска юноши перед порой любви – к чему и к кому, он еще не знает, не знает даже имени своей болезни, а она уже пилит и душит его, и сердце льется через край, прежде чем он вздумает, полно ли оно!.. Может быть, и в Вас бушует прилив какой-нибудь поздней способности, нового назначения к чему-нибудь доселе неиспытанному… может быть, это творческая лихорадка, которая порой знобит душу чуть не в смерть и потом оденет ее новою свежестью, подобно дереву, после зимы пробуждающемуся в листьях и отдыхающему в плодах… может быть, одним словом, этот хаос – предтеча творения чего-нибудь истинного, высокого, поэтического. Пусть только луч гения пронзит этот мрак, враждующие, равносильные доселе пылинки оживут любовью и гармониею, стекутся к одной сильнейшей, слепятся стройно, улягутся блестящими кристаллами, возникнут горами, разольются морем, и живая сила испишет чело нового мира своими исполинскими гиероглифами, как чело нашего мира избраждено ущельями. Так я думаю и ожидаю – дай Бог, чтобы мои пророчества исполнились.
Но как бы то ни было, если Ваше пламя пожигает нас, оно греет других; оно не гибнет в пустыне, подобно волканам Сибири; но мои искры: они тлеют едва, глубоко под холодеющею золой, и ни одна страсть не раздувает их. Не могши говорить полно, высказывают душу до дна, я не хочу бормотать полусловами. Я бы жаждал плавать, летать – подайте мне море, дайте небо для размаха: я лучше бы утонул, лучше бы расшибся, чем невредимо сидеть, скорчившись в садке или в клетке. Не думайте, впрочем, что это самосознание большого дарования – нимало: это лишь потребность раздолья – и в океане есть ряпушка, и в поднебесье ласточки! Было время, что я грыз мои цепи… Но теперь я не воюю ни с ними, ни с камнями и с какою-то хорьковою дремотой смотрю кругом себя… и, как белый медведь в теплой комнате, бессмысленно качаю головой. Не хочу даже перелистывать своей души, не только заглядывать под мрачную занавеску будущего. А настоящее, которое приличнее было бы назвать мнимым, мое настоящее – привал в грязи: мелкие страстишки меня опутывают, потому что я лежу, – мелкие сплетни меня язвят, потому что я в путах; зависим теперь от человека, чужого всякому благородному чувству или здравому понятию… Это невеселая перспектива для мыслящего существа. Пускай бы меня, как Прометея, терзали орлы и коршуны…2 но сносить ляганье осла!!.. Это отдается в сердце. Впрочем, если подобным людям удалось лишить разума одного брата, какой-нибудь Васильев3 не сорвет моей звезды с моего неба.
За книги много благодарю; всех более понравилась мне Thierri – это Франклин в истории: так же добросовестен, прост и убедителен; у него идеи в фактах4. Saint-Beuve немного широковещателен, любит кружиться на месте и оправдывать своих героев; впрочем, много в нем сочного5. Виктор Гюго истинный поэт, но, признаюсь, я люблю лучше его прозу; может статься, это от приторной беззвучности французского языка. У него более всех современников глубоких мыслей: «II fait penser, il fait battre le cceur»[316], – а это не безделица в наш век. Jules Janin владеет огромным талантом, но его роман не роман, а драматическая диссертация; у него по сцене ходят не люди, а мысли; он не берет труда занавешивать свои машины; возьмите, например, сцену в дилижансе и повторение ее при возврате пойманной королевской фамилии – это до того невозможно, не только неестественно, что весь эффект бьет в голову, нисколько не в сердце. Лица у него сзываются, а не сходятся, и потом, что за странная идея влюбить всех действователей революции в Антуанетту! И правду сказать, изо всех ее любовников – сумасшедший умнее прочих. Я не думаю даже, чтобы Жанен истинно изобразил Мирабо. Он забыл (вероятно, умышленно), что Мирабо продал себя, а не предал роялизму. Жанен создал себе идеалы вперед и прекрасно разработал их, но это идеалы, а не портреты. «J'ai fait une histoire a ma guise, peut-etre a mon usage»[317], – говорит он, – и вот секрет его творения6. Вообще страсть нашего века – надувать характеры и чувства, потому что мы так пригляделись к чудесам, что поражать нас можно только перунами, пугать только чудовищами, упоять лишь крепкою водкой. Ныне тронуть сердце – значит его разорвать. Одним словом, прочитав «Notre Dame», мне долго снились и Квазимодо, и Фролло, и цыганка, и Париж того времени…
Ксенофонта Алексеевича благодарю за внимание к болезни брата; жаль, что Le Roy приехал поздно7: брат мой уже на пути домой; притом он не захотел лечиться, ибо считал себя здравее всякого, а я и подавно терпеть не могу знакомиться с эскулапом. За покупку вещей – сердечная благодарность супруге Ксенофонта Алексеевича, – очень милы. Не нашли мы только двух пар кожаных башмаков в ящике, – верно, обложились. Цветные хороши, но черные в подъеме узки. Попросите братца купить мне для записывания мыслей, которые приходят и проходят так быстро, – tablettes[318] – это маленький сафьяновый чехол с летучими листками и карандашиком. Забавно, что я занимаю Вас такими пустяками; досадно, что такие пустяки нередко необходимы.
Наши в Чечне жгут деревни. Кази-мулла, как старик, везде и нигде. Казбек уронил на дорогу целый том своих снеговых летописей, на Грузинскую дорогу, и почта ждет, покуда им сделают разбор. До будущего письма прощайте, любимый и уважаемый Николай Алексеевич! Будьте счастливы, сколько можно. К братцу напишу особо.
Ваш Александр Бестужев.
19. Н. А. и М. А. Бестужевым*
15 генв<аря> 1833 г. Дербент.
В Петровский.
Давно, очень давно не писал я к вам, милые братья страдальцы; но разверните первое письмо мое отсюда, и вы узнаете столько же, сколько и теперь: я все там же, все то же, все тот же, что и прежде. Судьба моя, как центр водоворота, неподвижна, несмотря на окрестное треволнение. Что ж делать! Я по крайней мере засыпаю с чистою совестию спокойно, потому что я сделал все, что было в малых средствах моих, желая подвинуть ее, – не сделал ничего, чтобы ее замедлить. Здоровье мое, за исключением повременного недуга от солитера, довольно хорошо. Воздержность есть лучший щит против жаркого климата. Впрочем, зима у нас такая, что хоть бы в Петербурге: русские чиновники ездят на санях; татары зевают на это с удивлением и говорят, что для русских рук черт дает выдумки. Признаюсь, народец эти азиатцы! Ни одна мысль не войдет в их голову, как гвоздь в камень. Выбросьте из них несколько поэтов, остальное все такая скучная проза, что Сигов и Орлов перед ними Байроны1. Правда, в воинственной, в кочевой жизни их много поэзии, но она в деле, не в чувствах, не в мыслях. Я не смешиваю, впрочем, горцев с плоскими жителями плоскостей. Горцы уже своею зимой придвинуты к европеизму; они всегда были и будут умнее и воинственнее жильцов долин. Но все-таки они не более как умные ребятишки. Они отказываются от выгод просвещения и удобств, потому что в них они видят цепи, потому что просвещение и разбой не могут быть смешаны вместе; а разбой и свобода для него одно; разбой есть его стихия, средство существования. В сердце Кавказа есть, однако ж, племена, которые никогда не сходились с русскими, хотя живут недалеко от границ. Как любопытно бы видеть этих китайцев горских! Есть народы совершенно мирные, которые доселе не покорены соседями своими; это еще любопытнее, еще поучительнее. Вообще Кавказ вовсе неизвестен: его запачкали чернилами, выкрасили как будку; но попыток узнать его не было до сих пор, или люди, на то назначенные, не имели средств, познаний, отваги, случая. Особенно мы худо знаем Чечню. Нынешний корпусный командир б<арон> Розен2 проник очень глубоко в нее – но это было зубцами. Чеченцы горько плакали: «Ни деды, ни прадеды не видали русского оружия вблизи, – говорили они, – а теперь и жены наши от них бегали; приходит конец света!». Взятие Гимр, точно неприступной твердыни, обсекло крылья орлам кавказским. Кази-мулла пал геройски. Со временем он будет чудным предметом поэзии: бескорыстен, красноречив, неутомим, он не бывал убит никакими неудачами и являлся вдруг в новой толпе, когда и где его менее всего ожидали.
Брат Павел гостил у меня. Какой умный, благородный юноша из него вышел. Все офицеры, видавшие его в делах, говорят, что он необыкновенной храбрости, и храбрости хладнокровной. Начальство знает его как отличного артиллериста. Он искрестил Кавказ во всех направлениях, дрался везде и всегда в самых опасных местах. Дни, которые провел я с ним, освежили меня надолго, и как часто говорили мы с ним о вас, наши милые. Теперь он должен быть в Тифлисе. Я принялся за перо и написал полуморскую повесть «Фрегат „Надежда“»; вторая половина ее должна вам понравиться, ибо я чувствую, что моей чернильницей было сердце. Мало-помалу я сам начинаю признавать свое призвание, я чувствую, что в голове моей совершается мир. Может статься, я не буду в состоянии его выразить; но тот, кто напишет на могиле моей: «Он был недосказанный поэт» – не солжет.
Но ты, Николай, для чего ты потерян для нашей словесности, и ты… Но зачем роптать на судьбу! Государь отсек своею благостью еще пять лет вашей казни – он наше будущее, а будущее всегда лучше настоящего3.
Горячо обнимаю вас, друзья мои; круг ваш становится тесней и тесней, зато теснее вяжется наша братская дружба.
Ваш искренно любящий вас брат
Александр Бестужев.
20. Я. И. Гречу*
Г. Дерб<ент>. 1833. 9 марта.
Милостивый государь Николай Иванович,
Я с большим удовольствием получил письмо Ваше от 28 февр<аля> и очень жалею, что оно подоспело немного поздно, ибо я уже насчет сотрудничества сделал свои распоряжения. Я отказался от него, но не подумайте, будто из расчетов денежных, нет, это из расчетов досуга, который хочется мне употребить на что-нибудь подельнее летучих журнальных статей. Коротко и прямо: я задумал роман, и если Бог даст ума, а служба время, в этот год полип нашей словесности нарастет еще одним рогом1.
Я не думал винить Вас в разрушении замыслов Смирдина, но, признаюсь, немного подосадовал, что Вы так поздно об этом уведомили. Понадеясь на будущее, я жил с отстегнутыми карманами; Вы знаете поэтов – деньгам у них не вод; я же к этому солдат и, не надеясь, буду ли иметь завтра, не собираю манны впрок. К этому же отказался я от предложений московских – и сел на мель долгов. Но это все дело наживное, а старый друг лучше новых двух, и потому, хоть я и посердился, – протягиваю вновь руку2.
За издание Вам очень благодарен. Оресту моему тоже3: я и не знал, что он не забыл меня; это утешительно. Впрочем, ошибочки есть – и разрядка не везде ровна. Не постигаю, отчего не поместили многих повестей, которые, конечно, занимательнее «Исыха»4. И потом, умолчание даже имени Марлинского; и потом, Ваш молчок о выходе книги – все это для меня санскритская грамота.
Сестры не правлю; но не извинить ее нельзя, ибо источник ее действий – привязанность к братьям, что она доказала не словами, а жертвами всякого рода. Да, кажется, господа, вы и затронули ее гордость. Ну, об этом кончим. Сделано, кончено.
За «Сына отечества» очень благодарю Вас, ибо получал его довольно исправно; зато «Северную пчелу» никогда не читал вовремя, ибо, несмотря на просьбы мои, вы все адресовали ее в Кизляр, откуда лишь при оказии доходит она в Дербент; и в этот год то же самое.
«Фрегат „Надежда“» давно выслана вся – в 3-х частях. Это если не лучшая, то одна из лучших моих повестей. Если угодно – возьмите ее, – об условиях я писал. Вперед, если угодно, я порой буду присылать статьи – но не иначе как за 100 р. лист. Уведомьте, согласны ли Вы. Это дело коммерческое.
За прошлое полугодие, не желая брать незаслуженного, я просил уплатить 500 рубл. Ар. М. Андреева, а 260 получите с сестры.
Я нездоров. Судьба гонит меня неутомимо, клевета и злоба людей преследуют, – вот мои новости.
Впрочем, ничто не изгонит из моей памяти, из моей благодарности людей, которые не забывают несчастливца. Привет Фаддею – а всему семейству Вашему, доброму, умному, почтенному семейству, тысячу желаний счастья.
Сердцем Ваш
Александр Бестужев.
<Р. S.> А. Корнилович в графском полку: хвала и честь государю!5 За Шекспира чох, чох саголь[319]6. Он будет со мной неразлучен.
21. К. А. Полевому*
9 марта 1833 г. Г. Дербент.
Насилу-то Вы отозвались, любезнейший Ксенофонт Алексеевич… очень рад; а то Вы, считая меня мертвым, мертвы были для меня. Прошу вперед не верить много слухам и до тех пор не прерывать переписки, покуда я сам не явлюсь к Вам тенью известить, что я отправился ad patres[320]. И в самом деле, что за беда, что вы пришлете письмо, когда меня не станет! Добрые приятели положат его на мою могилу, и оно будет лучшим памятником для меня, лучшим утешением моей скитальческой тени. Сочно письмо Ваше, в нем так много нового, так много сладкого, но прочь отрава лести, хоть невольной, но тем не менее вредной!! Как могли Вы, вместе с Пушкиным, клеветать так на Европу, на живых прозаиков, поставя меня чуть не выше их!1 Сохрани меня Бог, чтоб я когда-нибудь это подумал и этому поверил… Я с жаром читаю Гюго (не говорю с завистью), с жаром удивления и бессильного соревнования… И сколько еще других имен между им и мною, между мной и славою, между славой и природой!.. О, сколько высоких, блестящих ступеней остается мне, чтоб только выйти из посредственности, не говорю достигнуть совершенства… Надобно лететь, парить, чтобы сблизиться с этим солнцем, а у меня восковые крылья, а у меня сердце на чугунной цепи, а у меня руки прибиты гвоздями судьбы неумолимой, неутолимой. О, если б Вы знали, как жестоко гонит меня злоба людская – Вы бы не похвалы сыпали на меня, а со мной пролили бы слезы… мне бы было легче. Не даром, но долей похож я на Байрона. Чего не клеветали на него? в чем его не подозревали? То и со мною. Самые несчастия мои для иных кажутся преступлениями. Чисто мое сердце, но голова моя очернена опалой и клеветою!! Да будет!.. «Претерпевый до конца, той спасен будет», – сказал Спаситель2.
Я просил Вас о Шекспире – не присылайте его; я уже получил прекрасное издание в одном томе3.
Недели через две получите отрывок из романа4. Я, признаться, думаю, что его не поймут и потому не оценят; но неужели я должен ходить на четвереньках, чтоб овцы могли видеть мое лицо. Если два-три человека скажут: «Это не худо», я заплачен. Пускай себе Фаддей пишет для людей-ровесников – надобно подумать, что у нас под боком Европа, а под носом потомство. Да, чувствую я много, но это чувство больше сожигает меня, чем пламенеет сквозь… Вы правду сказали: надо торопиться. Ненадолго дан мне дар слова… я не жилец на земле; но что же делать, когда, кажется, все согласилось, чтоб мешать излиянию невысказанных истин моих! Поцелуйте руку у супруги Вашей за Вашего
Александра.
Получил 300 рублей. Очень благодарен.
Иван Петрович благодарит за помин5 и свидетельствует свое уважение.
22. Н. А. Полевому*
9 марта. Дербент.
Николай Алексеевич,
Вы с братом для меня созвездие Кастора и Поллукса1: у меня отходит сердце, когда вздумаю о вас двоих, и всякий раз при этом возникает в груди моей желание жить подле вас, в тиши, в глуши… сделаться именно homme lettre[321] – два часа в день с вами, остальное с собой, с книгами, с природой. Признаюсь, такая жизнь есть один из воздушных замков моих, и сколько он ни мало блестящ – увы! почти нисколько не исполним… Не только башен Кремля, столь горячо любимых мною, – не видать мне и снегов родины, снегов, за горсть коих отдал бы я весь виноград Кавказа, все розы Адербиджана – у них одни шипы для изгнанника…
Я очень грустен теперь, очень; я плачу над пером, а я редко плачу! Впрочем, я рад этому: слезы точат и источают тоску, а у меня она жерновом лежала на сердце. Последний раз я плакал с месяц назад, читая рассказ Черного Доктора… Когда он пал на колени и молился2, я вспомнил, что сам я молился точно так же и, читая вслух в одном доме, зарыдал и упал на книгу, – я не мог преодолеть воспоминание: оно встало передо мной со всею жизнию и со всею смертию!
Повесть Ваша «Блаженство безумия» – прелесть3. Я бился об заклад, что она Ваша, и выиграл. Жар сердца расплавил слог Ваш, не всегда столь развязный, как теперь. Жду с нетерпением конца.
Давно ли, часто ли Вы с Пушкиным? Мне он очень любопытен; я не сержусь на него именно потому, что его люблю. Скажите, что нету судьбы: я сломя голову скакал по утесам Кавказа, встретя его повозку: мне сказали, что он у Бориса Чиляева, моего старого однокашника4; спешу, приезжаю – где он? Сейчас лишь уехал, и, как нарочно, ему дали провожатого по новой околесной дороге, так что он со мной и не встретился5. Я рвал на себе волосы с досады, – сколько вещей я бы ему высказал, сколько узнал бы от него, и случай развел нас, на долгие, может быть на бесконечные, годы.
Скажите ему от меня: ты надежда Руси – не измени ей, не измени своему веку; не топи в луже таланта своего; не спи на лаврах: у лавров для гения есть свои шипы – шипы вдохновительные, подстрекающие; лавры лишь для одной посредственности мягки как маки.
Не знаю почему, треть моих повестей не напечатана: два «Вечера на биваках», «Изменник», «Роман и Ольга», «Рассказ пленного офицера», «Дагест<анские> письма» и кой-что еще. Не купят ли в Москве их для печати (но в одном формате с пятью первыми); потолкуйте с книгопродавцами. Туда я бы пришил конец «Водам» и «Фрегат „Надежду“». C'est en passant[322].
Будьте счастливы.
Ваш
Александр Бестужев.
23. Н. А. Полевому*
Дербент. 1833 года, мая 18 дня.
Не беспечность, еще менее гнев виной, любезный друг Николай Алексеевич, что я реже пишу к Вам. Я боюсь возмутить душу Вашу, помешать Вашим занятиям. Какое мне дело, что Вы не пишете часто, если и в редких письмах я узнаю Вас и нахожу тем же? Между душой и душой путь – слово; но когда они летают друг к другу в гости, не все ль равно, часты или редки станции? Оставим эти расчеты ползунам и людям, которые везут жизнь на долгих. Я смею думать, судьба оставила в наших крыльях столько еще перьев, что хоть душою можем мы пролетаться, когда и как вздумаем. Терпеть я не могу шапочных переписок, хоть очень нередко, по необходимости, должен бываю писать и к друзьям, будучи, что называется, не в духе. За неволю пишутся пустяки, их выводит перо, гусиное, давно вырванное из крыла перо, – голова или сердце в нетчиках1.
Напрасно Вы отпеваете себя как домашнего человека или просто как человека; хоть побожитесь – не поверю и в доказательство приведу Ваши же письма. В трупе живут лишь черви, на кладбище мелькают лишь блудящие огоньки, – цветы и огонь – признак здравия и жизни. Я не постигаю Вашего расщепления бытия, грешный человек, или, признательнее сказать, ему не верю. Может ли умереть Николай, когда Полевой жив за сотню? может ли жизнь быть переплетена со смертью? Или то или другое должно уступить – зараза или цельба должна овладеть спорным существом непременно; а благодаря Бога не видать, чтобы Вы чахли умом, и сами говорите, что крепки телом. Вы называете это отсутствие желаний для себя болезнию, чарою, не знаю, чем еще, а я вижу в этом средство провидения заставить Вас быть полезным для других. Из иного судьба выжимает поэзию, так что она брызжет из пор бедняги с кровью и слезами; других она купает в вине и в масле, и творения их текут как фимиам, как токайское2, с розового ложа. Для того нужна узда, для другого шпора. Меня, чтобы пробудить из глубокого сна, стоит только назвать по имени; другой просыпается лишь при звуке золота. Козлов стал стихотворцем, когда перестал быть человеком (я разумею телесно)3; другого, напротив, малейшая боль выбивает из петель. Конечно, для нашего брата очень невыгодно, что судьба мнет нас, будто волынку для извлечения звуков; но помиримся с ней за доброе намерение и примем в уплату убеждение совести, что наши страдания полезны человечеству, и то, что Вам кажется писанным от боли, для забытья, становится наслаждением для других, лекарством душевным для многих. Впрочем, всему есть мера, а Вы чересчур предались идее отлучения, разъединения человека дельного от человека мирского, Вы дали ей оседлать себя да еще и глаза завязать. Это вредно и для здоровья, и для сочинения. Память надобно питать новинками, чтобы она не истощалась; а отчуждаясь от света, в коем живем, мы мало-помалу становимся чужды и для него. Вы скажете: «Я живу в старине», но глядеть на нее надобно сквозь современный ум, говорить о ней языком, понятным ровесникам нашим. Возможем ли оживить мертвых, если сами будем мертвы для живых? Да, уединение необходимо для выражения того, что в нас, но кипение жизни, но пыл страстей, но трение отношений необходимы, чтобы наполнить нас. Хороши краски кабинета, но краски природы лучше. Моя палитра – синь моря, радуга неба, льдины гор, мрак тучи. Колдун – воспоминание; но живая природа – Бог. Она свежит, она вдыхает, она сама расстилается слогом. Но неужели природа только в волнах, в горах, в зелени? Ужели человек не часть ее? Потереться порой между румянами и шумихой, подслушать лепет и говор толпы, рассмотреть в микроскоп какую-нибудь страсть-букашку хоть не так приятно, как вид заходящего солнца или песня дубравы, но едва ли не более поучительно. Как Вы ни вертитесь, человек создан для общества: платите же ему дань мелкою монетою; но как бы ни мелка была она, общество Вам сдаст за это. Гулять так же нужно в лесу, как и в залах. Охотиться можно в обществе столь же удачно, как в поле. Сохрани вас Бог жить в болоте; но чтобы написать болото, как Рюисдаль4, надобно вглядеться в него. Жалки мне были всегда люди, но более забавны, чем жалки, и, признаюсь, мне бы страх хотелось иногда на миг промелькнуть сквозь все круги общества. Вообразите себе мое положение: я не могу жить ни с стариной, ни с новизной русскою, я должен угадывать все-навсе! Мудрено ли ошибиться! Впрочем, один другому не пропись – я создан так, Вы иначе. И напрасно жалуетесь на то: Вы наполняете бездну, чтобы не утонуть в ней, а я с горя кидаюсь в нее очертя голову. Бездействие мое доказывает мне, что я не призван ни на что важное. За гением след кипучей деятельности.
Вы правы, что для Руси невозможны еще гении: она не выдержит их; вот Вам вместе и разгадка моего успеха. Сознаюсь, что я считаю себя выше Загоскина и Булгарина; но и эта высь по плечу ребенку. Чувствую, что я недостоин достоинства человека со всеми моими слабостями, но знаю себе цену и, как писатель, знаю и свет, который ценит меня. Сегодня в моде Подолинский5, завтра Марлинский, послезавтра какой-нибудь Небылинский, и вот почему меня мало радует ходячесть моя. Не вините крепко меня за Бальзака: я человек, который иногда может заслушаться сказкой, плениться игрушкой, точно так же как сказать или сделать дурачество. Вот почему и Бальзак увлек меня своей «Шагреневою кожей». Там есть сильные вещи, есть мысли, если не чувства глубокие. Выдумка стара, но форма ее у Бальзака яркая, чудная, и потом он мастер выражаться6. Зато в повестях его я, признаюсь, нашел только один силуэт ростовщика, резким перстом наброшенный7. В Нодье я сроду ничего не находил и не постигаю дешевизны похвал фр<анцузской> публики: она со всяким краснописцем носится будто с писаною торбой8. Перед Гюго я ниц… это уже не дар, а гений во весь рост. Да, Гюго на плечах своих выносит в гору всю фр<анцузскую> словесность и топчет в грязь все остальное и всех нас, писак. Но Гюго виден только в «Notre Dame» (говоря о романах). Его «Han ceislande» – смелая, но неудачная попытка ввести бойню в будуары. «Бюг Жаргаль» – золотая посредственность9. И заметьте, что Гюго любит повторять свои лица и свои основные идеи везде. Ган, Оби, Квазимодо – уроды в нравственном и физическом родах… потом саможертвование в «Бюге», в «Гериаии», в «Марион Delorme»…10 Это правда, что он как по лестнице идет выше и выше по этим характерам; но Шекспир, человек более гениальный, этого не делал, а нам, менее даровитым, на это нельзя и покуситься. Надобна адская роскошь Байрона в приправах, чтобы разнообразить вырванное из человека сердце, которым кормит он читателя. «Кромвель» холоден и растянут: из него можно вырезывать куски как из арбуза, но целиком – нет11. «Мариона» прелестна: это «Гец» для времени Ришелье12. Полагаю, что «Борджия» достойна своей славы, и жажду прочесть ее13. Кстати, «Последний день осужденного» – ужасная прелесть!..14 Это вдохнуто темницей, писано слезами, печатано гильотиной. Пускай жмутся крашеные губы и табачные носы, читая эту книгу… пускай подсмеиваются над нею кромешные журналисты – им больно даже и слышать об этом – каково же выносить это!.. О, Дантов ад – гостиная перед ужасом судилищ и темниц, и как хладнокровно населяем мы те и другие! как счастлива Россия, что у ней нет причин к подобной книге.
«Клятву» перечитываю для последнего тома, только что полученного; кончив, скажу свое мнение, – не приговор, ибо человеку не по чину произносить приговоры. До тех пор скажу лишь, что я в ней находил Русь, что я здоровался с земляками и не раз пробивала меня слеза15.
Вы пишете, что плакали, описывая Куликово побоище. Я берегу как святыню кольцо, выкопанное из земли, утучненной сею битвою. Оно везде со мной; мне подарил его С. Нечаев16. О своем романе17 ни слова: враждебные обстоятельства мешают мне жить, не только писать.
Не дивитесь, что я знаю морскую технику18, – я моряк в молодости и с младенчества. Море было моя страсть; корабль – пристрастие, и хотя я не служил во флоте, но, конечно, не поддамся лихому моряку, даже в мелочах кораблестроения. Было время, что я жаждал флотской службы и со всем тем предпочел коня кораблю: с первого скорее соскочишь. Воспитание мое было очень поэтическое. Отец хотел сделать из меня художника и артиллериста. Я вырос между алебастровыми богами и героями, а потом между химическими аппаратами и моделями Горного корпуса. Лето скитался я по Балтике с старшим братом. Судьба сделала из меня кавалериста и – не знаю, призвание ли, – сочинителя. Но это требует рам пошире: где-нибудь я опишу мое ребячество и мою бурную юность. Но где довольно черной краски, чтоб описать настоящее? Тот, который ни одной строчкой своей не красил порока, который сердцем служил всегда добродетели, подозреваем, благодаря личностям, бог весть в чем. Но об этом после. Лист кончен, но мое vale[323] стоит в начале разговора. Будьте счастливы и дома, и в свете, и в трудах своих, до скорого свидания мечтой.
Ваш, весь Ваш
Александр Бестужев.
24. Н. А. и М. А. Бестужевым*
Декабря 21. 1833. Дербент.
В Петровский завод.
Просят отослать поскорее.
Дорогие, любимые братья Николай и Михаил!
Сестра Елена Александровна приложила к своему письму письмо из Петровского от к<нягини> Трубецкой1, писанное 23 июня. Давно уже минул этот месяц, но послание свежо для меня: оно, казалось, повеяло мне стариною, не изменившеюся в холоде Сибири до сих пор. Да, я узнаю в брате Николе, в тебе, мой идеал светской доброты, все того же брата критика, который никак не хочет баловать родного и, гладя ребенка по голове, говорит: «Учись, Саша, смотри вверх, Саша!». О, как бы я хотел броситься к тебе на шею и сказать: брани мои повести сколько душе угодно, но посмотри на меня; неужели ты не видишь во мне того же сердца, лучшего еще сердца, потому что оно крестилось в слезах, сердца, которое, право, лучше всего того, что я писал и напишу. Впрочем, книга есть человек, творение есть отражение творца, – так я думаю и верю и вот почему скажу несколько слов в свое оправдание.
Ты говоришь, что я подражаю часто, но кому? Это будет так же трудно сказать тебе, как мне угадать. Правда, в рассказе иногда я подражал и тому и другому, точно так же как подражаешь иногда голосу и походке любимого человека, с которым живешь; но голос не есть слово, походка не есть поведение. Я схватывал почерк, никогда слог. Доказательство тому, что слог мой самобытен и нов, – это неуменье подделаться под него народцев, которые так охочи писать и так неспособны писать. Пусть найдут еще в моих повестях хоть одно укрывающееся лицо из-за границы, пусть! Неужели мой Саарвайерзен2 выкраден откуда-нибудь? Если да, так это с портретов Ван Дейка3, не более. Все авторы, словно стакнувшись, задрями-ли рисовать голландцев флегмою; я, напротив, выставил его горячим, но расчетливым сыном огня и болота: это летучая рыбка. Главное, любезный мой Никола, ты упускаешь из вида целое, прилепляясь к частностям.
Неужели, например, в ботанической лекции, как называешь ты разговор Белозора, не угадал мысли: как любовь все предметы переплавляет в свое существо и в самой сухой соломинке находит себе сладкую пищу4. Иные главы, по-видимому, вставлены у меня вовсе сверх комплекту, как, например, разговор Кокорина с лекарем5; но кто знает: не желал ли я возбудить внимание читателей нетерпением? Это тоже тайна искусства. Кроме того, мои повести могут быть историей моих мыслей, ибо я положил себе за правило не удерживать руки; и вот, если разберете мою медицину, то найдете, может быть, более дельных насмешек над модными мнениями медиков, чем ожидали. Так и во многом другом. Что же касается до блесток, ими вышит мой ум, стряхнуть их – значило бы перестать носить свой костюм, быть не собою; таков я в обществе и всегда, таков и на бумаге: ужели ты меня не знаешь? Я не притворяюсь, не ищу острот, – это живой я.
У Бальзака много хорошего, но учиться у него я не буду. Разбери глубже, и ты увидишь, что он более блестящ, чем ясен6. Кроме того, что он пересаливает олицетворение кстати и некстати, и часто одно и то же в разных соусах; кроме того, что он торопится за золотыми яблоками Аталанты7, он слишком разъединяет страсти своих лиц: эта исключительность не в природе. Так, лучшее из его лиц, госпожа Жюль, и ухом не ведет, что за нее давят, режут и отравляют людей… Естественно ли это? Ужели совесть ее чиста или спокойна от любви к мужу или оттого, что она убивает не своими руками! Будь уверен, что я не выставил бы такого лица на поклонение, не надел бы на него бесполого, хоть и бархатного, кафтана Колибрадоса!8 Странно, что у вас так возвышают Бальзака, а молчат про В. Гюго, гения неподдельного, могучего. Его «Notre Dame», его «Marion Delorme», «Le Roi s'amuse» и «Боргиа» – такие произведения, которых страница стоит всех Бальзаков вместе, оттого что у него под каждым словом скрыта плодовитая мысль9. Правду сказать, с полгоря и писать им на раздолье и в таком кипятке событий, а для меня куда ни кинь, так клин: то того нет, то другого нельзя, ни источников, ни досуга, а воображение под утюгом. Поневоле клюешь тыкву: виноград зелен.
Теперь я нездоров и потому только доживаю в Дербенте несколько дней, ибо переведен во 2-й Гр<узинский> л<инейный> баталион в Ахалцих. От воли своей давно я отказался; желать мне в Грузии нечего, а кладбища есть и здесь столь же покойные, как инде; со всем тем я еду. Огорчительно для меня, что вы не получали моих писем: с приезда я писал их, по крайней мере, двадцать; до вас дошли десятые проценты, – жаль; это отбивает охоту писать; это потеря не только для братского сердца, но для самой словесности.
Поблагодарите от меня княгиню Тр<убецку>ю за то, что она одна для родных наших служит проводником вестей хоть о здоровье вашем; она ангел-хранитель наш и многих, она отрадное явление на черном поле человечества. Доброго, милого Мишеля прижимаю мыслию к сердцу; что он, что вы оба делаете? Я думаю, стали язычниками, полиглотами? Дай Бог вам терпения и здоровья: в них одно возможное счастье несчастных.
Ваш многолюбящий брат
Александр Бестужев.
P. S. В голове у меня давно уже лежит роман; при досуге перепишу его. Прочтете – посудите; теперь о нем ни слова10.
25. К. А. Полевому*
Дербент. № 1. 4 генваря 1834 г.[324]
Любезный и достойный друг Ксенофонт Алексеевич,
Поверите ли, что я минут десять смеялся от души замечанию Вашему о черном галстуке1: смешно мне было, что я так отстал от модного света и сделал подобную ошибку, еще смешней, что это дало повод к переписке; благословляю Вас обеими руками не только на такие, но и на всякие поправки… был бы мой смысл в речи, а за мелочами я не гонюсь. Иногда даже могу ошибиться памятью, нередко опискою, и потому, по дружбе, Ваш долг не пускать меня на улицу нечесаного. В предыдущем письме немногие Ваши спорные слова зацепили меня крючками, и, может быть, я буду отвечать на них печатно, как дополнение к первой статье. Не худо, если Вы в немногих словах изложите Ваши противоречия. Вопрос о романтизме далеко не решен в самой Франции, хотя Гюго и вздумалось сказать, что «жалкие слова: романтизм и классицизм – упали в забвение наравне с глюккизмом и пиччинизмом»2. В зерне пороху заключалась уже вся система паровых и воздушных машин, ибо дым его есть и пар и газ вместе; но сколько веков протекло, покуда не угадали в природе силы расширяемости, стреляя каждый день из ружей? Едва ли не то же и с романтизмом было; но изобретение (не создание, заметьте) его полагаю я в эре христианства3. Арабы и скандинавы дали только грань ему; первообраз возник именно крестом. Я только об имени романтизма разумел, говоря о случайности, – не об идее, не о сущности, ибо не менее других убежден в различии классицизма от романтизма. Я думаю только, что последний – ровесник уму человеческому, хотя он и редко проявлялся в древности: идея может быть и вовсе не проявляясь, ибо иное дело бытие, иное действие4. Впрочем, дождавшись положительных возражений, я поговорю об этом пошире.
Сейчас получил с почты письмо Ваше от 13 декабря: очень рад, что статья моя нравится вам обоим5; я, признаюсь, не ждал этого, ибо, во-первых, торопился, а во-вторых, журнальные сапожки жмут мне ноги. Знаю, впрочем, что Вы мне льстите, сами того не замечая, а голос света, который расхваливает Загоскина и не покупает Вельтмана, правду сказать, для меня мыльный пузырь. Кстати о Вельтмане: подробности у него необычайно хороши, поэзия истинно в русском духе, но я уже сказал: повторения одного и того же рогоносия мне не нравятся. Конечно, оно могло быть во все времена, но к чему поднимать одеяло столько раз с ложа стариков наших? Я не нахожу ничего забавного в этом фатализме подсунутых жен и глупых детей. И потом, он стреляет все не ядром, а картечью, у эпизодов его мало между собою связи. Правда, все они живчики, все оригинальны, все истинны – это уже не маскарад, но еще базар Смирны. Против старины он сделал ошибку, опрокинув на нее всю Грановитую палату: ни у самого великого князя не было тогда и в сотую долю сокровищ против матери Ивы Олельковича, а «Кащей» хоть сказка, но цель ее – знакомство со стариною, знакомство начистоту. И чем бы проиграла повесть, если бы все пышное передать Лазарю?6 Вы видите, что друзей сужу я строже, чем других, – про себя и говорить нечего: хоть сейчас подмахну приговор голову рубить своим чадам, не хуже Брута. Правду сказать, есть маленькая разница между своей кровью и своими чернилами!
Скажите, что за лицо Брамбеус, от которого вся фамилия «Сев<ерной> пчелы» в домашнем своем журнале катается с восторга. То, что читал я, так старо и подснежно! Разве не размахался ли он в книге своей? Пожалуйста, пришлите. Неужели Сенковский попал в гении, в равно байроновцы и равно гетевцы (как говорит Фита)?7 Ей-ей, мы живем в век чудес. Не верите? Спросите Ф. Б.8, В-ра Б-ш-а9, жаль только, что я им обоим не верю сам. Первый очень мил, когда примется за государственное хозяйство: видно, что остзейский картофель уродился у него в голове сам-сот. Он теперь хозяйничает с Гречем на русском Парнасе, как на своей пивоварне, и мурлычет на лежанке, словно заслуженный кот Мурр10. Отрывок Загоскина «Аскольдовой могилы» – ниже презрения11. Перемывать французское тряпье в Днепре, отбивать у других честь разных нелепостей, искажать святую старину, для того чтоб она уложилась в золотую табакерку, скажите, достойно ли это века и писателя! И это-то наш… первый романист! Где ж вкус на Руси, где общее мнение?.. Вы говорите, что я пощадил их чересчур (романистов то есть), – это правда крещеная, но я сделал это потому, что сам пишу; скажут, пожалуй, будто я мощу себе дорогу по чужим хребтам, что я завистлив.
Насчет Филантропа я не переменял мыслей ни на миг и видел его точно таким же сперва, как теперь. Еще в 1820 году имел я с ним резкие схватки и потому не дивлюсь никаким прижимкам, это в порядке вещей12. Вас я не виню нисколько, и покуда у меня есть рубль в кармане, я не забочусь ни о чем. Кстати замечу, что уже не в первый раз получаю Ваши письма взрезанные, без церемоний: почта здесь очень откровенна.
Болезнь Николая Алексеевича огорчает меня. И почему Вы не удержите его от излишества трудов? От страстей же нет лекарства. Не всякая природа так сильна, как моя, и может выдерживать плавку золота, подобно капелле13. Впрочем, можно сжечь и алмаз, не только железо, а судьба знает химию.
Как водится, поздравляю с Новым годом, хоть я не знаю, для чего и мне и вам деление времени? По крайней мере, мне, безнадежному скитальцу. Желаю русской публике более справедливости и уверен, что это сбудется и полезные труды братца Вашего оценятся и веком, и веками.
Я нездоров. Мороз у нас сильный, и вообразите, что у меня мерзнут руки на письме, – так холодна моя хата, хоть дров жгу без милости, – а Вы еще требуете от меня цветов поэзии!!..
Будьте счастливы; поцелуйте руку у супруги Вашей, благословите за меня Вашу малютку и крепко, крепко обнимите брата.
Александр Бестужев.
26. Я. И. Костенецкому*
1834. 2 апреля. Дербент.
Сердце пополам рвется, покидая добрых товарищей несчастия, – и тем злее, что знаешь, в каких они когтях. Терпите, благородный, добрый мой друг Яков Иванович1, – что же делать! Авось мы когда-нибудь всплывем на свежую воду: Бог велик, царь милостив. Антонович теперь у меня2 и просит извинения, что не пишет Вам ничего откровенно: не такие ныне годы, чтобы душу открывать, как табакерку. Ваше письмо из Кизляра наделало проказ: вслед Вам послан был адъютант Клейнмихеля Пушкин, который нашел, что Вы были скромны и правы, но господа провожатые виновны в упущении по службе, и эта нескромность Ваша стоить будет многим чинов и мест3. Вот что значит писать письма!! Не вините же после сего Вашего приятеля. Пишу Вам это в науку для переду, а не для того, чтобы Вы горевали о неумышленной вине своей. Вы молоды, жизнь перед Вами, а не за плечами, как у меня!! Я завтра выезжаю. Скучно… Будьте скромны. Пишите только по верному случаю, и то о своих нуждах, не более. Мы должны беречь друг друга и отказывать в этом единственном, невинном услаждении. Душу мою Вы знаете, но кто будет судить душу, кроме друзей? а вздорная строка навяжет кучу подозрений. Не имейте никаких при себе писем. Обнимаю Вас, как брата, дай Бог свидеться скорее и в счастливых пеленках.
Ваш
Александр Б<естужев>.
27. К. А. Полевому*
3 мая 1834. Тифлис.
Предпоследнее письмо Ваше получил я в дороге, и оно очень меня порадовало, – точно я друга встретил в пустыне; но последнее, с вестью о кончине «Телеграфа»1, весьма огорчило меня, еще более как русского, нежели как Вашего друга, почтенный Ксенофонт Алексеевич! Впрочем, хотя этот удар будет вреден кошельку Вашему, едва ли не будет он полезен расстроенному здоровью Николая Алексеевича. Я всегда предпочитаю саблю – пиле. Мелкие неудовольствия труднее переносить, чем сильное огорчение. Кончено – и с Богом принимайтесь за Ваши мирные занятия, и старайтесь торговлею заправить изъян от литературной войны. Не стану подбирать в несносные утешения измочаленных пословиц или старопечатных фраз; утешение Ваше в собственном сознании.
Я выехал из Дербента 3 апреля, при расцветающей природе; но из Кубы, поворотив в горы, опять въехал в зиму, кой-где с начатками весны. Дорога была трудна, но так прелестна, что я помнить ее буду как самую сладостную прогулку об руку с природою. Это ни в сказке сказать ни пером написать. Да и как написать, в самом деле, чувство, ибо тогда я весь был чувство, ум и душа, душа и тело. Эти горы в девственном покрывале зимы, эти реки, вздутые тающими снегами, эти бури весны, эти дожди, рассыпающиеся зеленью и цветами, и свежесть гор, и дыхание лугов, и небосклон, обрамленный радугою хребтов и облаков! О, какая кисть подобна персту Божию! Там, только там можно забыть, что в нас подле сердца есть желчь, что около нас горе. Над головой кружились орлы и коршуны, но в голове ни одна хищная мысль не смела шевельнуть крылом: вся жизнь прошлая и будущая сливалась в какую-то сладостную дрему; мир совершался в груди моей без отношений к человеку, без отношений к самому себе, я не шарил в небе, как метафизик, не рылся в земле, как рудокоп, я был рад, что далек от людей, от их истории, спящей во прахе, от их страстишек, достойных праха… Я жил, не чувствуя жизни. Говор ручьев и листьев наводил на меня мечты без мыслей, усталость дарила сон без грез. Но кратки промежутки жизненной лихорадки! Сердце мое сжалось, приближаясь к Тифлису, и оно не обмануло меня. Я нашел брата Павла в постели долгой болезни, худого, измученного. Он получил отставку и едет на воды; дай Бог, чтобы они стали для него живой водой, чтоб он на дне их нашел утраченную молодость и здоровье!! Отправив его, пущусь сам в Ахалцих, – и что меня ждет там? Добро ли, худо ли? Да будет: судьба моя в воле Бога и царя. Вы сомневаетесь, как я приму Ваше мнение насчет цены, назначенной Смирдиным, или, лучше сказать, Смирдину? Как Вам не грех! Не есть ли друг наша совесть, не есть ли совесть лучший друг? Пускай каждое письмо Ваше будет монологом правды, и будьте уверены, что он будет выслушан, как будто бы я сам говорил самому себе. Жизнь слишком коротка, чтоб ее тратить на комплименты даже с незнакомыми, а в дружбе пропуск искренности есть нарушение ее sine qua non[325].
Тифлисский воздух душен не только физически: у меня, здесь живучи, жернов на мозгу и на сердце. С виду прелестный город, шумен, разновиден, разнороден, но торговля в Азии значит обман, а Тифлис населен торговцами.
Писавши ко мне, ограничьтесь, пожалуйте[326], одною словесностью: в нашем положении иногда отвечать приходится не только за то, что сам пишешь, но что и к нам пишут, и хотя ни я, ни Вы ни словом, ни делом, ни помышлением не оскорбляли общественной нравственности, но самую невинную шутку могут перетолковать злые умы в худую сторону. Благодаря Бога этого еще не случалось со мной ни разу и, вероятно, не случится никогда; однако ж лучше толковать о «Мазепе» Булгарина и «Тассе» Кукольника2, чем о цензуре. Я ничего не мог писать в это время: в Кавказских горах, после дня пути, думаешь только, как бы просушиться да заснуть, а не растирать тушь и чинить перья.
Прощайте до следующей почты; право, нет времени. Надавали мне поручений на покупки, – надо исполнить. Вам кланяется Вышеславцев3; он только что заходил; я в первый раз видел его сегодня.
Брата Николая Алексеевича обнимите за меня и долго и крепко, чтоб он за три тысячи верст почувствовал биение дружнего сердца.
Счастия!
Ваш
Александр Бестужев.
<Р. S.> С сего времени пишите в Ахалцих, в 1-й Груз<инский> лин<ейный> баталион.
28. К. А. Полевому*
1834, мая 31 дня. Ахалцих.
Не помню хорошенько, какого вздору написал я к Вам, любезный друг Ксенофонт Алексеевич, из Тифлиса. И немудрено. Весть о падении «Телеграфа» перетасовала все мои понятия. Но что сказано, – сказано; что сделано, – сделано; предадим минувшее минувшему, сам себя не вытащишь из болота даже за волосы.
22 мая покинул я за собой Тифлис, пустой для меня, ибо я проводил, за три дни, брата на воды. Это будет чудный город со временем, это один след победной стопы Европы в Азии, только один! Другие города Закавказья нисколько не глядят Русью; да и в Тифлисе одни стены европейские, все прочее неотмываемая Азия. Со всем тем, я люблю тифлисские вечера и ночи: это ни с чем не сравнимо! И как пленительно! По кровлям, как тени, пляшут армянки черноокие под звуки бубнов; везде веют белые чадры и розовые кушаки, везде говор и песни, и порой несется удалая толпа всадников по улицам, обрызгивая искрами облака летящей вслед их пыли. В синеве плавает златорогий месяц и осыпает жемчугом вершины окрестных гор, наводит чернеть на башни, над ними возникающие, а между тем Кура плещет, крутится и буйно катит мутные волны свои мимо скал берегов под смелую арку моста. Да, я по целым часам стаивал на этом мосту, любуясь, как утекает вода, прислушиваясь, как засыпает шумный город, убаюканный песнию реки, под ароматическим дыханием, наносимым из садов или слиянным с быстриною! О, прелестен Восток, прелестен май Востока! Дики, но увлекательны беседы азиатцев в садах их; зато всяк ли может оценить это? Едва ли двое из тысячи. Не сбросив с себя европейства у ворот карантина, не закружив мысли обаянием природы, не понимая языка песен, Вы будете мертвец среди кипения жизни. Я не был им. Плавкая природа моя на время переливается во все формы, принимает цвет окружающих ее предметов; забывает мысль и думу на груди природы, как забывает иногда тело и мир на газовых крыльях думы. Люди, впрочем, гадки в Тифлисе, более чем где-либо в Азии: там все торгует собою и другими.
Наконец брат уехал, и я за ним снялся и полетел как гусь против течения реки; проехал сквозь Гори и въехал в ущелие Борджомское, которое должен был огибать по гребню, висящему над бушующею Курою, которая залила, размыла, сорвала нижнюю дорогу и опрокинула мосты. Если бы для меня было еще что-нибудь ужасное на свете, я бы сказал, что эта дорога почти страшна; но зато как она прелестна – что за дикие, грозные виды, что за разнообразие видов! Вероятно, Вы будете читать ущелие Борджомское в двух копиях, ибо я встретился там с описателем Гори, который обещает быть недурным писателем1. Главное, что меня занимало там, – это геология. Борджом есть редкий урок ее, и я приехал в Ахалцих с полными карманами обломков базальтов и наплывных пудингов.
Климат здесь русский; окрестности наги, но горы красят все. Крепость – куча развалин. Скука, я думаю, не съест меня здесь, я буду отражать ее пером; но самому почти нечего есть: мясо крепче башен и готовить его не умеют вовсе. Есть добрые люди между кучами сплетников; но начальники мои благородные люди, и с этой стороны я покоен. Что дальше даст Бог – не знаю; окрестность задернута туманом.
Вы просили не урежать письмами; но в пути мог ли я исполнить это? Подумайте и не вините меня. Самому отрада отвесть душу словом искренности, да не всегда то можно, чего хочется.
Обнимите крепко брата Николая. Теперь занят устройством своей норки, – ни кола ни стола, а в Азии это не безделица; кончив, напишу и к нему послание. Будьте счастливы дома, если нет счастия в свете.
Ваш душой
Александр Бестужев.
1834 года, мая 31 дня. Ахалцих.
<Р. S.> Я служу в 1-м Груз<инском> лин<ейном> батальоне.
29. И. П. Жукову*
Ахалцих. 1834. 6 июня.
Я слышал, любезный Иван Петрович1, от Ф. А. Ш<нитнико>ва2, что при отсылке последнего письма ты получил печальную весть о кончине твоей матушки? Жаль, но этого должно было ждать, ибо она пережила, сколько дозволено человечеству. Мир праху мертвых, счастие живым! Дай Бог, чтоб из праху ее расцвел для тебя цветок домашнего спокойствия и довольства.
3 апреля я выехал из Дербента, но не без сожаления, хотя в нем я перенес самые жестокие удары судьбы и утраты сердцу. Четыре дни жил в Кубе, а потом трудною горною дорогою отправился прямо в Шамаху, а оттуда на Шеку, к Царским Колодцам, где и встретил святую. В Тифлисе я нашел Павла в жестоком ревматизме, завязанного как мумию, кричащего от боли: это меня огорчило весьма, я никак не ожидал этого. Так он страдал пять месяцев, но возврат тепла поднял его на ноги, и он начал с костылем бродить со мной по Тифлису. Выпущенный с повышением чина в отставку, он наконец собрался с силами и с средствами и 18 апр<еля> уехал на воды, где возьмет полный курс. Я с горестию смотрел на пыльный след его брички: он едет в Россию, но больной; я остаюсь здесь здоровый, но в несчастии! и приведет ли нам Бог свидеться когда-нибудь? Я сделал для него все, что мог, но лишь небо возвратить может утраченное здоровье. И вот я, совершив самое приятное, самое живописное путешествие, в лучшую пору года – приехал в конце мая в Ахалцих. Виды здесь недурны; климат почти русский. Я сижу в уютной комнатке, читаю много, иногда пишу. «Вадимов» в застое3. На станке почти ничего; не знаю, что выльется вперед.
Супруге твоей прошу за меня поцеловать ручку за ее внимательность ко мне. Кошелек, связанный ею для меня, прелесть и прямо по климату с золотою шерстью своей: умею ценить подарки, которые идут от души.
Ты что-то часто жалуешься на угар печек и мороз надворья! На севере для тебя юг кажется благословенным; видно, пословица: там только хорошо, где нас нет, – справедлива! Что до меня, я и мечтать забыл о возврате. Моя перспектива – кабардинская пуля да яма в чужой земле, – вот и все; и право: без счастия, где ни жить, где ни умереть – все равно.
Будь здоров и счастлив.
Преданный тебе
Александр Бестужев.
<Р. S.> «Телеграф» запрещен и медленно выдавался от цензуры. Жаль. Это разорит Полевых.
Кашперову поклон4 и всем, кто меня знал и еще знает.
30. К. А. Полевому*
1834. 2 августа. Ахалцих.
Когда Вы перестанете церемониться со мной, добрый мой друг Ксено-фонт Алексеевич? Неужели Вы думаете, что я ценю «Морехода Никитина» во что-нибудь?1 Сохрани Господь! Мне надобно было что-нибудь написать для «Б<иблиоте>ки», и я написал во вкусе этой «Б<иблиотеки>». И по крайней мере четверть отрезала цензура, составленная из метельных рыцарей самого издания. Вычеркнули даже о взятии Колы англичанами – исторический факт, который хотят погрести в забвении, как будто для русских это может составить пятно2. Верите ли, рука не подымается писать для такого товарищества; но что делать? я запряжен в свое слово и мямлю, мямлю, прости Господи, без складу по складам. Впрочем, послал им недавно четыре кавказских очерка3, которыми Вы (если их не исковеркают в столице) будете довольнее, потому что в них просвечивает душа.
Когда положите деньги в ломбард, сколько Бог даст выручить, то возьмите билет на имя неизвестного и отдайте его брату Павлу, который осенью с горячих вод у Вас будет. Он Вам даст доверие получать проценты и пересылать ему. Или сделайтесь как лучше: я Вам даю полномочие насчет пера и кошелька. Верно, я сам лучше бы не сумел для себя работать, как Вы вчуже для меня хлопочете. Простите выражение: вчуже, – оно-то чужое сердцу и уму моим.
Пошлите экземпляр Гречу, Фаддею, Ястребцову4, Вельтману; три экземп<ляра> сестрам, и в России никому более. Кто меня забыл, тех и я не обязан помнить. В Тифлис: барону Григорию Владимировичу Розену5, генералу Владимиру Дмитриевичу Вальховскому6 (первому в сафьяновом переплете, для уровня с первыми7); ко мне один или много два; Шнитникову – один8, – и только. Для доброго моего командира, прямо на его имя (майору Василию Григорьевичу Зеничу, ахалцихскому коменданту), поскорее пришлите «Басни» Крылова и «Сочинения» Державина (последних изданий). Это тип русского боевого штаб-офицера, с прекрасным сердцем и со всеми привычками палатки9. Служил век, изуродован, и ни копейки за душой. Можете представить, что мы не ссоримся. При посылке Зеничу книг, вложите туда же турецкую грамматику Сенковского. Посмотрим, что это? Денег мне до ноября не посылайте. Оставьте около 1000 расходных, не более; все прочее впрок. Брату Павлу нужно будет рублей 300 при проезде, но если понадобится более, то более. Для кого же я и собираю, как не для братьев? Хочется обеспечить сибирских, когда они выйдут из пансиона на поселение. Ставьте на мой счет все, что посылаете ко мне и к Ш<нитниковы>м. Я наперед одобряю все Ваши распоряжения и благодарил бы, если б между нами нужны были не чувства, а слова.
Я ждал разрешения на бой, который будет кровав и на каждом шагу, в Абхазии10, – еще нет ответа, но, вероятно, будет вожделенного содержания.
Желаю полного успеха в разгадке борьбы Наполеона с Русью, она именно стала границею между личностью и общественностию. «Со мной кончился ряд людей, которые могли занимать всю сцену, – где-то сказал сам N<apoleon>. – Теперь будут владычествовать массы»11. Я не люблю Наполеона. Он слишком думал о роли своей и слишком мало о долге. Сын прошлого века, он не мог понять нового и упал в жалкую толпу подражателей; но в Россию влекла его необходимость, а не ослепление. Условие быть для него было завоевывать, он мог плавать только по крови и не утонул, а погряз в ней. Впрочем, пускай кто хочет верит ему, будто из жалости он не надел красную шапку, – молодцу хотелось непременно остаться деспотом. Когда-нибудь поговорю об этом пообширнее; теперь спешу. У меня есть кой-какие заметки об этой ужасной и утешительной драме – о войне за правоту.
Брата Николая обнимаю дружески и надеюсь, что, пережив свой нравственный климактерический год, он выйдет как фарфор из обжига – звонок, и крепок, и красив. Поцелуйте за меня ручку Вашей супруги, а своих малюток по три раза в чело. Дай Бог Вам всем здоровья, а счастье найдете в себе. Я здоров и силен, без увеличений, как атлет, да и надо, правду сказать, иметь медвежьи ребра, чтоб идти с голыми кулаками на судьбу. Изучаю геологию окрестностей и что-нибудь напишу о том. Valete[327].
Ваш
Александр Бестужев.
<Р. S.> для верности прилагаю пять р. асс<игнациями>. Пришлите мне на них сургучу и почтовой бумаги.
31. К. А. Полевому*
Ивановка, в Черномории,
штаб-квартира Тенгинского пехотного полка.
8 нояб<ря>. 1835.
И вот я цел и жив опять воротился на русскую сторону Кубани; на русскую только по географии, но не по духу народа, не по видам земли, ни по чему в свете. Печальная сторона, плоская сторона, любезный Ксено-фонт Алексеевич, наше Черноморье! И в ней-то осужден я скитаться, как Овидий между крымцами1. Да, грустно было Чайльд Гарольду покидать Англию2, не оставляя в ней ничего, о чем бы стоило поплакать; но каково ступить на край земли, в которой должно жить без всякого радостного чувства, хотя невообразимые труды и трудности закубанской экспедиции могли бы вдохнуть страсть к самой дрянной лачужке с трубою, – до того мы были промочены проливнями, длившимися три недели без устали. И между тем я бы также равнодушно остался у бивачного дыма, как теперь сижу под кровлей хаты. Там по крайней мере есть разнообразие опасностей, забот, самых неудовольствий, между тем как здесь одна перспектива скуки, вечной и неизменной, непроходимый океан грязи, не просыхающий даже летом, и, что хуже всего, никаких средств к жизни – не говорю душою, но самым телом.
Сенковский писал ко мне и признавался, что он переделывать должен все статьи, к нему присылаемые: до того они дурны и бесхарактерны в оригинале. Я отвечал ему, что с этим можно дать ход журналу – никогда словесности, и что никто не скажет ему за то спасибо, потому что это портит вкус публики единообразием и характер сочинителей, отступающихся за деньги от своей индивидуальности, от своего самолюбия; что это обращает словесность в фабрику3. Впрочем, он, кажется, и не заботится о ней, а употребляет ее лишь средством для поддержания журнала.
Давно уже не имел от вас известия, добрый друг мой, – здоровы ли? счастливы ли? что делаете, что пишете Вы?
Про меня не спрашивайте: я положительно не имел времени выспаться, не только что-нибудь прочесть, и до того разучился писать, что двух строк связать не могу. Имею охоту кое-чем заняться, но сколько пройдет времени, покуда у меня в грязной хате настелют пол, покуда разживусь я столом и стулом.
Вы, горожане, постигнуть не можете, каким неудобствам подвержен военный кавказец. Как дорого ему обходится малейшая безделка, и сколько здоровья уносит у него недостаток всех удобств. От дыма я потерял почти глаза, не говорю уже о беспрестанной мокроте, о зное и холоде. Все это сносишь твердо, но все это отзывается в костях, в желудке, в голове, может быть, в самом мозгу: это письмецо может служить последнему доказательством.
Уведомьте, сделайте одолжение, об остальных экземплярах издания, и если можете уже реализировать итог, то, положив его в сохранную казну, отошлите билет сестре моей Елене Александровне4, а мне счет кредиту и дебету. Да если будут лишки, рублей 500 пришлите ко мне. Я скоро буду на мели. Обнимите брата Николая Алексеевича и будьте счастливы сами… До другого дни – у меня падает перо от усталости.
А. Бестужев.
32. Н. А. и М. А. Бестужевым*
1835 года, декабря 1.
Умер старый год, дорогие, милые братья Николай и Михаил: не будем, как египтяне, судить его после смерти! Да и что до меня собственно, мне нечего жаловаться на покойника: он подарил мне по себе поминки – несколько живых картин, несколько сильных ощущений; чего ж более? Мой тройной путь через Кавказ – сперва на границы Аджарии, потом на Кубань, потом на берег Черного моря, и ежедневная война с горцами породили воспоминаний надолго. Но сперва отвечу на полемическое письмо ваше, писанное княгиней Трубецкою по диктовке вашей. Небольшой я охотник до литературных оправданий1 и на досуге, еще менее теперь, в действительности боевой жизни; однако ж, так как мои недостатки, по мнению вашему, могут отразиться на всей русской словесности, то, хотя и нехотя, надо черкнуть свое мнение в спорных пунктах, достойных внимания; прочее можете счесть за согласие, ибо я не думал себя производить в папы: homo sum![328] Обвиняете меня в займе у французов некоторых выражений, например: que sais-je? – что я знаю? (И оно, мимоходом, занято не у Жанена, а у Монтаня). Да не у одних французов, я занимаю у всех европейцев обороты, формы речи, поговорки, присловия. Да, я хочу обновить, разнообразить русский язык и для того беру мое золото обеими руками из горы и из грязи, отовсюду, где встречу, где поймаю его. Что за ложная мысль еще гнездится во многих, будто есть на свете галлицизмы, германизмы, чертизмы? Не было и нет их! Слово и ум есть братское достояние всех людей2, и что говорит человек, должно быть понятно человеку, предполагая, разумеется, их обоих не безумцами. Будьте уверены, что еще при наших глазах грамматики всех языков подружатся между собою, а реторики будут сестрами. Ходьба взад и вперед сотрет и непременно сгладит мелочные грани, нарезанные идиотизмами и произведенные педантами в правила. Чудные люди! Мы видим, что изменяются нравы, права, обычаи, народы, – и хотим навечно ограничить улетученную мысль – слово! – упрочить, увековечить его, пригвоздить к памятнику, и, бросая его в народ, как грош, хотим, чтоб этот грош был неприкосновенным! Однажды и навсегда – я с умыслом, а не по ошибке гну язык на разные лады, беру готовое, если есть, у иностранцев, вымышляю, если нет; изменяю падежи для оттенков действия или изощрения слова. Я хочу и нахожу русский язык на все готовым и все выражающим. Если это моя вина, то и моя заслуга. Я убежден, что никто до меня не давал столько многоличности русским фразам, – и лучшее доказательство, что они усвоиваются, есть их употребление даже в разговоре.
Характеры мои – дело частное, но если иные вымышлены неудачно, другие скопированы с природы точно, и уверить меня, что они неестественны, также трудно, как афинянина, который жал под мышкой поросенка, а ему все-таки говорили, что один фокусник кричит поросенком гораздо натуральнее! Говорите, что я не понял нрава моряков? Но чем это докажете? Моряки люди, и люди, с которыми я жил; почему же не мог я их изучить, как всякого другого? Тем более – в русском флоте, где моряк есть более земное, чем водяное, животное. для нас не годится тип английских моряков и французских контрабандистов: у нас моряк – амфибия. Насчет романтизма в разборе «Клятвы при гробе господнем» скажу, что в ней не читали вы лучшего, и потому нельзя вам судить о целом и связи3. Что в некоторых местах сталкиваюсь я с Тьерри4 и другими, виновата история, что для всех одно и то же описала. Я не выдумывал фактов, как Вольтер или Щербатов5. Но напрасно поместили вы в число моих ut-re-mi-fa – Sismondi[329]: я не читал его до сих пор6, да и еще кого-то, там упомянутого. Точно так же как «Саламандру»7, с которой вы находите сходство «Фрегата „Надежды“»: достал нарочно после вашего письма. На этот счет мое лучшее оправдание – время изданий иностранных и моих повестей и вычет из этого – невозможность скоро получить в таком захолустье, как Кавказ, порядочных книг. Часто, очень часто встречаю я в хороших авторах свои мысли, свои выражения, но почему ж непременно я украл их? Ирвингу подражал я в форме, не в сущности8; но и сам Ирвинг занял олицетворение вещей у Попа9, Поп у Ботлера10, Шекспир у Езопа. То, что врождено народу, есть только припоминок, а не изобретение, повторение, а не подражание. Я начну с пословицы: горшок котлу попрекает, а оба черны – и выведу целый полк доказательств, что олицетворение в смешном виде велось искони и слилось с русскою природой; за что ж одни англичане будут владеть им? В любом авторе я найду сто мест, взятых целиком у других; другой может найти столько же; а это не мешает им быть оригинальными, потому что они иначе смотрели на вещи. Все читают одинаково: «И остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим»11, но спроси каждого, что он под этим разумеет? и не найдешь двух толков похожих. Так и в словесности. Но полно о словесности. Выражая у нас мечтательную жизнь, ее нельзя судить действительностью: это бы значило наказывать человека за его проступки во сне.
Славная школа войны наш Кавказ. И надобно сказать, что закубанцы строгие блюстители нашего боевого порядка. Я видел много горцев в бою, но, признаться, лучше шапсугов не видал12; они постигли в высшей степени правило: вредить как можно более, подвергаясь менее вреду. Не выходя из стрелковой цепи в течение почти каждого дня всего нынешнего похода, я имел случай удостовериться в их искусстве пользоваться малейшею оплошностию и местностию. Дворяне их отчаянно храбры; но одна беда: никак не действуют заодно. Был я с ними не раз в рукопашной схватке; много, много пало подле меня храбрых: меня Бог миловал. Узнал я цену надежного оружия, узнал, что не худая вещь и телесная сила. Построив крепость в 40 верстах от Кубани в земле шапсугов, мы пошли в ущелие 10 октября. Через четыре дня сообщение с Черным морем было открыто. Мы дрались за каждую пядь земли в этом ущелий, завоевывая дорогу кирками и штыками. Перешли потом через огромный хребет со всеми тяжестями по чудно разработанной дороге, отдохнули в Геленджике, где я был на море, на судах, купался в фосфорных, зеленых волнах, парился лавровыми вениками, ел летучих рыб, камбалу, тримсов <?>, мутелей, и потом, околесив кругом, проложив под облаками другую дорогу, мы возвратились к Кубани. Каких трудов и сколько крови стоило нам это! Зато слава летела пред нами и за нами. Государь объявил отряду свое благоволение и дал награду. Но для этого мало листа и часу, – а мне пора. В Дагестане войска тоже увенчаны победой: разбили аварцев. Там со многими другими умер от климата Корнилович13. Как не благодарить мне Бога и государя, что избавлен я от жаров! Я чувствую себя здесь (кроме глаз) гораздо свежее; думаю подраться не раз зимою. Кланяйтесь, мои милые братья, Ивану Дмитриевичу, Александру Ивановичу14 и всем, всем своим товарищам. Поль дома. C'est tout dire quant a son bonheur[330]. Горячо объемлю вас.
Александр.
P. S. He воображайте, пожалуйста, будто я могу сердиться за критику. Говорю и пишу я всегда с жаром, но это кончается точкой. Литература такая ничтожная частица моего существования, что не стоит капли желчи.
Бог благословил мои слабые труды, милые братья, так что, когда государь благоволит вас уволить на поселение, вы из процентов мне принадлежащей суммы будете получать ежегодно по 1000 рублей, то есть по 500 каждому. Для кого же я работаю, как не для братьев?! Это моя единственная отрада. Счастлив бы я был, если б удалось устроить счастие Поля: бедный брат, он увял за нас!
В отряде со мной был Кривцов15. Под ним убита лошадь картечью, ибо у горцев есть артиллерия.
33. А. X. Бенкендорфу*
13 июля 1836 г.
Сиятельнейший граф!
Первое слово, как всегдашнее чувство мое, обращая мысль к государю императору, – есть благодарность! Я сердцем помню, я высоко ценю каждую милость его, тем более что каждая сходила на мою некогда преступную голову прямо, без мольбы с моей стороны, без чужого предстательства.
Среди военных бурь и государственных трудов, преобразующихся в мир и счастие России, великий удостаивал вспомнить обо мне, забытом всеми, и я был призван с приполюсных тундр под знамена чести. Пред лицом Бога и света смею сказать, сиятельнейший граф, что раскаяние давно переродило мое существо и убедило душу, что во все время, истекшее с 1826 года, я не был виновен пред государем императором ни одним поступком, ни одним словом или мыслию; что я служил ему, как должно храброму солдату; много терпел, много страдал… но что значило все это по сравнению с минувшим!., и со всем тем лестно и неожиданно я был взыскан монаршею милостью: в мае месяце за отличие в сражениях я произведен в офицеры… для таких благодеяний, для таких минут счастия и признательности, сиятельнейший граф, в благородной душе есть чувства и нет слов!..
Но я убежден, что его и<императорск>ое в<еличест>во, назначая меня при производстве в 5-й Черноморский баталион в крепость Гагры, не предполагал, сколь смертоносен этот берег Черного моря, погребенный между раскаленных солнцем скал, лишенный круглый год свежей пищи и воды, даже воздуха.
Немногие возвращались оттуда к жизни, никто без тяжких недугов, так что для меня, чье здоровье разрушалось постепенно горестями и военными трудами, климатом Закавказья и Черноморья и, наконец, до основания истреблено мучительною геленджикскою лихорадкою, которою стражду, чертя сии строки, – для меня, полуживого, Гагры будут неизбежным гробом. Умоляю Вас, сиятельнейший граф, повергнуть к стопам для всех милосердного монарха всеподданнейшую просьбу мою – спасти меня от верной погибели каким-либо переводом. Не смерти боюсь я – кто скажет, что я не презирал ее в битвах, или у су мнится, что и впредь я готов сжечь мою жизнь за царя, как горсть пороха? – но я страшусь бесславных, долгих страданий, которых одни зачатки отравили уже мое существование. Увольнение к статским делам от военной службы, на которую стечение болезней сделало меня неспособным, было бы для меня высшим благодеянием. Я хочу служить, хочу доказать тем мою признательность и потому прошу средства по силам, убежденный, что служба царская равна везде, если освящена преданностью к престолу и усердием к общей пользе.
Кроме того, сиятельнейший граф, открывая душу свою перед государем, как пред отцом, не утаю, что я жажду покоя, дабы развить в уме зерно словесности, запавшее с неба и до сих пор подавленное обстоятельствами. Чувствуя, что дни мои сочтены, мне бы хотелось произвесть что-нибудь достойное России, века Николая, вниманию коего должен я лучшими моими цветами; хотелось бы примириться тем с отечеством!..1
Никогда не дерзнул бы я беспокоить государя императора подобною просьбою, если б здоровье, раз пораженное тлетворным дыханием Гагр, было возвратимо, если б оставалось хоть одно сомнение, что не растают мои нравственные способности в медленном огне отчаяния и телесных страданий. Знаю, сиятельнейший граф, всю важность испрашиваемой мною милости, знаю, что это вне обычного течения дел, но знаю и неисчерпаемость милосердия государева. Разве не были все милости, коих я доселе удостоился, благодетельными исключениями, произвольным даром великодушия, не скованного формами?
Счастливым почитаю себя, сиятельнейший граф, что моя просьба падет к престолу из руки Вашей, из руки ангела-хранителя всех несчастных. Было время, когда я принес государю императору свою повинную голову, теперь я приношу ему более – душу свою. Одна и единственная мольба перед отцом-монархом есть: увенчать свои благодеяния дарованием затишья этой бедами и раскаянием измученной душе.
С ложа болезни дерзаю уверить Ваше сиятельство в моей безграничной преданности и душевном высокопочитании, с коими за счастие считаю быть, сиятельнейший граф, Вашим покорнейшим слугою.
Александр Бестужев,
Черноморского линейного № 5 баталиона прапорщик.
13 июля 1836 г.
34. П. А. Бестужеву*
1836 год, ноября 15.
Ольгинский тет-де-пон1.
Мы кончили экспедицию, любезный Поль, и, заслышав чуму, держим двухнедельный карантин на Кубани. Скучна была война, но это испытание еще несноснее. Холод, снег, слякоть, а мы в летнем платье и в летучих палатках да, к довершению благополучия, почти без дров. Раз пяток в течение последних двух месяцев были в горячих схватках, а жив; не знаю, но сомневаюсь, чтоб остался здоров. Мне пишут, будто я переведен по инвалидам в 10-й Черноморский батальон, в Кутаис. Это мало отрады. Мингрельские лихорадки2 свирепствуют там, а жаркий климат вообще для меня гибелен. Если это сделано, снисходя на письмо мое, писанное к графу Бенкендорфу3, милость для меня важна, как знак благоволения, но в сущности нисколько не улучшает моей судьбы. Боже мой, Боже мой! Когда я кончу это нищенское кочеванье по чужбине, вдали от всех средств к занятиям?! Об одном молю я, чтоб мне дали уголок, где бы я мог поставить свой посох и, служа в статской службе государю, служил бы русской словесности пером. Видно, не хотят этого. Да будет! Не могу ли, гоняемый из конца в конец, не проводя двух месяцев на одном месте, без квартиры, без писем, без книг, без газет, то изнуряясь военными трудами, то полумертвый от болезней, не вздохнуть тяжело и не позавидовать тем, которые уже кончили земное скитальничество? И кому бы было хуже, если б мне было немного лучше? Неужели тяжело бросить человеку крупицу счастия? Лета уходят; через два года мне сорок, а где за Кавказом могу я жениться, чтоб кончить дни в семействе, чтобы хоть ненадолго насладиться жизнью! Дорого яичко в Христов день, говорит пословица, а моя Пасха проходит без разговенья… и долго ли мне быть Танталом?4
Наш батальон (тенгинцев, к которому я прикомандирован) будет стоять в Тамани, и потому ты письмо и прочее шли в Керчь. Что со мною будет за генварь, и во сне не могу придумать. От доктора Мейера5 ты получишь 300 руб. асс<игнациями>, которые он мне должен, и тогда пришлешь мне то, что на приписке означено.
Служи верой и правдой, люби меня и будь счастлив.
Твой брат и друг
Александр.
<Р. S.> Кулаковскому мой привет6. Гречу кланяйся и скажи, что если он хочет, чтоб я получал его журнал, то высылал бы в Керчь, а то я сотый нумер через год вижу; вздумали же посылать в Ставрополь!
35. П. А. Бестужеву*
Tiflis. 23 fevr<ier> 1837.
J'etais profondement affecte de la fin tragique de Poushkine, cher Paul; bien que cette nouvelle m'etait communiquee par une femme charmante. Tout malheur imprevu ne penetre pas d'abord jusqu'au fond du coeur, mais on dirait, qu'il attaque seulement mon epiderme; mais quelques heures apres dans le silence de la nuit et de solitude le venin filtre dedans et s'y dilate. Je n'avais pas clos la paupiere durant la nuit, et a l'aube du jour j'etais deja sur le chemin escarpe, qui conduit au couvent de St-David, que vous savez. Arrive la, j'appelle un священник et fais dire le service funebre sur la tombe de Griboyedoff, tombe d'un poete foulee par des pieds profanes, sans une pierre, sans inscription dessus. J'ai pleure alors, comme je pleure maintenant, a chaudes larmes, pleure sur un ami et un camarade d'armes, sur moi-meme: et quand le pretre chanta: «За убиенных боляр Александра и Александра» – j'ai sanglote au point de me suffoquer – elle m'a parut cette phrase non seulement un souvenir, mais une prediction… Oui, je sens, moi, que ma mort aussi sera violente, et extraordinaire, et peu eloignee – j'ai trop du sang chaud, du sang qui bout dans mes veines pour qu'il soit glace par l'age. Ma seule priere est de ne pas succomber sur le lit de souffrance, ni dans un combat singulier. Soit le reste comme il plaira a la Providence. Quel sort pourtant pese sur tous les poetes de nos jours! En voila trois de peris et de quelle mort tous les trois!1 Le triput de condoleance paye par la populace au grand talent mourant est tout a fait touchant. La munificence imperiale epanchee si genereusement sur la famille du defunt doit faire rougir nos malveillans d'outre-mer. Mais Poushkine n'en est pas moins mort pour cela, et cette perte est ineffagable. Vous accusez d'ailleurs trop Dantes – la morale ou plutot l'immoralite generate l'absout – d'apres moi: son crime ou son malheur, c'est d'avoir tue Poushkine – et c'est plus qu'assez pour en faire un outrage irremissible a mes yeux. Qu'il se tienne done pour averti (Dieu m'est temoin, que je ne plaisante pas) que lui ou moi ne reviendra pas de notre premiere rencontre. Quand j'ai lu votre lettre a Mamouk Arbelianoff2, il eclata en imprecations. «Je tuerais ce Dantes, si jamais je le vois!» – dit-il. J'ai remarque, qu'il у a en Russie assez des Russes pour venger le sang cheri. Gare done a lui.
Je reste encore quelque temps a Tiflis. Le temps est superbe, la ville magnifique; mais je suis triste. Puissiez-vous etre mieux ou vous etes.
Point d'argent de la part de Smirdine et je me trouve a sec. C'est faux qu'il m'en ait envoye au commencement de l'annee – il blague.
Votre Alexandre.
<P. S.> 18 февр<аля> у барона Роз<ена>3 был блестящий бал на его серебряную свадьбу. Он был умилительно приветлив, и все шло как нельзя лучше.
Перевод:
Тифлис. 23 февр<аля> 1837.
Я был глубоко потрясен трагической гибелью Пушкина, дорогой Павел, хотя эта новость была сообщена мне очаровательной женщиной. Неожиданное горе не проникает сперва в глубину сердца, говорят, что оно воздействует на его поверхность; но несколько часов спустя в тишине ночи и одиночества яд просачивается внутрь и распространяется. Я не сомкнул глаз в течение ночи, а на рассвете я был уже на крутой дороге, которая ведет к монастырю святого Давида, известному тебе. Прибыв туда, я позвал священника и велел ему отслужить панихиду на могиле Грибоедова, могиле поэта, попираемой невежественными ногами, без надгробного камня, без надписи! Я плакал тогда, как я плачу теперь, горячими слезами, плакал о друге и о товарище по оружию, плакал о себе самом; и когда священник запел: «За убиенных боляр Александра и Александра», рыдания сдавили мне грудь – эта фраза показалась мне не только воспоминанием, но и предзнаменованием… Да, я чувствую, что моя смерть также будет насильственной и необычайной, что она уже недалеко, – во мне слишком много горячей крови, крови, которая кипит в моих жилах, слишком много, чтобы ее оледенила старость. Я молю только об одном, чтобы не погибнуть простертым на ложе страданий или в поединке, – а в остальном да свершится воля провидения! Какой жребий, однако, выпал на долю всех поэтов наших дней!.. Вот уже трое погибло, и какой смертью все трое! Дань сочувствия, приносимая толпой умирающему великому поэту, действительно трогательна! Высочайшая милость, столь щедро оказанная семье покойного, должна заставить покраснеть наших недоброжелателей за границей. Но Пушкина этим не воскресишь, и эта утрата невозместима. Ты, впрочем, слишком обвиняешь Дантеса, – нравственность, или, скорее, общая безнравственность, с моей точки зрения, дает ему отпущение грехов: его преступление или его несчастье в том, что он убил Пушкина, – и этого более чем достаточно, чтобы считать, что он нанес нам непростительное, на мой взгляд, оскорбление. Пусть он знает (свидетель Бог, что я не шучу), что при первой же нашей встрече один из нас не вернется живым. Когда я прочел твое письмо Мамуку Арбелианову, он разразился проклятиями. «Я убью этого Дантеса, если только когда-нибудь его увижу!» – сказал он. Я заметил, что в России достаточно русских, чтобы отомстить за дорогую кровь. Пусть он остерегается!
Я еще немного пробуду в Тифлисе. Погода великолепная, город замечательный, но я печален, печален. Да будет тебе лучше, чем мне, там, где ты сейчас находишься.
Денег от Смирдина нет, и я сижу без гроша. Это ложь, что он послал их мне в начале года, – он шутит.
Твой Александр.
Духовное завещание Бестужева*
1837 года, июня 7.
Против мыса Адлера, на фрегате «Анна».
Если меня убьют1, прошу все здесь найденное имеющееся платье отдать денщику моему Алексею Шарапову. Бумаги же и прочие вещи небольшого объема отослать брату моему Павлу в Петербург. Денег в моем портфеле около 450 р.; до 500 осталось с вещами в Кутаисе у подпоручика Кириллова. Прочие вещи в квартире Потоцкого2 в Тифлисе. Прошу благословления у матери, целую родных, всем добрым людям привет русского.
Александр Бестужев.
Приложения
Ф. З. Канунова. А. А. Бестужев-Марлинский и его Кавказские повести
А. А. Бестужев, виднейший критик и теоретик романтизма, был одним из первых создателей русской романтической прозы. Повести Бестужева 1820-1830-х гг. – яркое явление в русской литературе. Одновременное изучение этих повестей и повестей других романтиков 1830-х гг, а также произведений А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя дает очень многое для осмысления общих путей развития русской художественной прозы.
Несмотря на то что среди исследователей Бестужева были такие крупные ученые, как Н. А. Котляревский, И. И. Замотин, М. И. Семевский, а в советское время – М. П. Алексеев, М. К. Азадовский, Н. Л. Степанов, Н. И. Мордовченко, В. Г. Базанов, несмотря на то что в литературоведческих трудах последнего времени уделено достаточно пристальное внимание общественному и художественному значению прозы писателя-декабриста, его эстетике и поэтике, повести Бестужева и особенно повести 1830-х гг. принесшие ему в свое время славу «Пушкина прозы», изучены недостаточно, а секрет его колоссального успеха, о котором говорили И. С. Тургенев и А. С. Пушкин, В. Г. Белинский и В. В. Стасов, до сих пор еще не раскрыт.
В настоящее время существуют необходимые предпосылки для углубленного изучения творчества Бестужева и научного издания его произведений.
Некоторые биографические сведения
Бестужев, активный участник восстания 14 декабря 1825 г., друг и соратник К. Ф. Рылеева, принадлежал к знатной, но обедневшей дворянской семье, из которой вышли декабристы Александр, Николай, Михаил и Павел Бестужевы. Все они были осуждены на пожизненное изгнание – в Сибирь и на Кавказ, в действующую армию. Пятый брат, Петр, пострадал только за то, что принадлежал к этой семье. Пережитые им потрясения и солдатчина привели к серьезному психическому заболеванию. «Нас было пять братьев, и все пятеро погибли в водовороте 14 декабря», – писал М. А. Бестужев.
Родился Бестужев 23 октября 1797 г. в Петербурге. Отец его, Александр Федосеевич, был широко образованным, прогрессивно мыслящим человеком. Вместе с И. П. Пниным он издавал «Санкт-Петербургский журнал», пропагандировал идеи гражданского равенства и просвещения.
Семья Бестужевых свято хранила традиции патриотизма, дворянской чести, глубокого интереса к русской и европейской художественной культуре.
В 1806 г. А. Бестужев был помещен в Горный кадетский корпус, а через шесть лет оставил его; мечтал поступить в гардемарины. Однако мечта о службе во флоте не осуществилась.
Служба в лейб-гвардии Драгунском полку способствовала его знакомству с настроениями передового русского дворянства.
Формирование мировоззрения Бестужева происходит в период 1812–1825 гг. Огромное патриотическое, национальное, общественное значение важнейших событий русской истории – Отечественной войны 1812 г. и последовавшего за ней революционного движения 1825 г. – Бестужев понимал настолько глубоко, что его общественные характеристики эпохи стали ярчайшими документами времени. Об этом убедительно говорит, в частности, его письмо Николаю I из Петропавловской крепости, антикрепостническое и резко оппозиционное по отношению к самодержавию. Приходится только поражаться гражданскому мужеству осужденного декабриста, который из Петропавловской крепости писал императору о бедственном положении народа, о деспотизме крепостников, о необходимости серьезных преобразований. «Негры на плантациях, – пишет Бестужев, – счастливее многих помещичьих крестьян. Продавать в розницу семьи, похитить невинность, развратить жен крестьянских – считается ни во что и делается явно. Не говорю уже о барщине и оброках, но есть изверги, которые раздают борзых щенков для выкормления грудью крестьянок!!».
Как и другие декабристы, Бестужев был убежденным сторонником буржуазно-демократических преобразований. В том же письме к Николаю I он говорит об экономическом и политическом превосходстве тех стран, которые активно вступили на путь капиталистического развития. В этом смысле, по мнению Бестужева, велика была революционизирующая роль заграничных походов: «Войска от генералов до солдат, пришедши назад, только и толковали, как хорошо в чужих землях. Сравнение со своим естественно произвело вопрос, почему же не так у нас?». Укреплению общественной позиции Бестужева способствовали дружба с К. Ф. Рылеевым и А. С. Грибоедовым, широкий круг чтения писателя, его преимущественный интерес к истории и политике. Он увлекался английским буржуазно-либеральным философом И. Бентамом, читал А. Смита, Вольтера, Б. Констана.
Французскую революцию Бестужев считал событием огромной важности, определившим собою целый период исторического развития.
Сблизившись с Рылеевым в 1822 г., Бестужев во второй половине 1823 г. был принят в Северное общество. С 1823 г. Бестужев вместе с Рылеевым издает литературный альманах «Полярная звезда», объединявший передовые литературные силы своего времени. Каждый из трех выпусков альманаха (на 1823, 1824 и 1825 гг.) открывался обзорной статьей Бестужева, отличавшейся (так же как и художественные произведения, опубликованные в «Полярной звезде») отчетливо выраженным идейно-эстетическим направлением.
С 1824 г. Бестужев становится активным членом Северного общества и принимает непосредственное участие в подготовке декабристского восстания.
После разгрома декабристов Бестужев, не дожидаясь ареста, в ночь на 15 декабря сам явился на гауптвахту Зимнего дворца. Он был осужден по первому разряду к смертной казни отсечением головы, в связи с тем что «умышлял на цареубийство и истребление императорской фамилии <…> участвовал в умысле бунта привлечением товарищей и сочинением возмутительных стихов и песен, лично действовал в мятеже и возбуждал к оному нижних чинов». Затем приговор был заменен лишением дворянского звания и чинов и каторжными работами сроком на 20 лет, а после них поселением. В дальнейшем срок каторги был сокращен до 15 лет.
После годичного заключения в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях и в финской крепости «Форт Слава» Бестужев был сослан на поселение в Якутск, а затем в результате настоятельных хлопот (в частности, Грибоедова) 13 апреля 1829 г. последовало повеление Николая I: «Александра Бестужева определить рядовым в действующие полки Кавказского корпуса, с тем чтобы и за отличие не представлять к повышению, но доносить только, какое именно отличие им сделано».
В августе 1829 г. Бестужева перевели в 41-й Егерский полк рядовым, а в начале 1830 г. он назначается в Дербентский горный батальон, в котором служил около четырех лет. Это был период напряженных литературных занятий, несмотря на тягостные условия походной жизни и духовное изгнанничество.
С 1834 г. Бестужева переводят из гарнизона в действующую армию с непрерывными опасными походами, бесконечными переменами мест. Это самый мрачный период в жизни Бестужева, отмеченный нестерпимой душевной болью, одиночеством, глубокой тоской от утраты близких людей.
23 февраля 1837 г. Бестужев на могиле Грибоедова служит панихиду по Пушкину и Грибоедову. «Я плакал тогда, как я плачу теперь, горячими слезами, плакал о друге и о товарище по оружию, плакал о себе самом… – писал Бестужев в письме к брату от 23 февраля 1837 г. – Да, я чувствую, что моя смерть тоже будет насильственной и необычайной…» (см.: наст. изд. с. 544). Эти предчувствия скоро оправдались. 7 июля 1837 г. Бестужев погиб в военной перепалке у мыса Адлер.
Бестужев – критик и теоретик романтизма
Большая заслуга Бестужева заключается именно в том, что он более полно, чем многие другие критики декабристского лагеря, теоретически сформулировал основные принципы гражданского романтизма. Эстетика романтизма у Бестужева претерпела определенную эволюцию. В преддекабристский период на первый план Бестужевым выдвигались общественно-политическое значение литературы («под политической печатью словесность кружится в обществе»), проблема ее национальной самобытности, вопрос о героическом характере в литературе.
До 1825 г. главным, отправным положением эстетики Бестужева (как и других поэтов-декабристов) являлось прославление активной, созидательной общественной деятельности людей как важнейшего начала в жизни и в искусстве. Это повлекло за собою уже приблизительно с 1824 г. заметно усилившийся интерес к философии искусства, в частности к гносеологической стороне художественного творчества.
8 это время на страницах журналов «Соревнователь просвещения и благотворения», «Сын отечества» появляются такие статьи Бестужева, как «Определение поэзии» (1824), «О духе поэзии XIX века» (1825), остро осуждается эмпирическая критика во «Взгляде на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов» (1825).
Осуждение эмпиризма и стремление к философскому осмыслению искусства – явление неслучайное, оно диктовалось потребностями самой русской действительности, необходимостью для передовых русских людей 1820-1830-х гг. осмыслить общие законы общественного и культурного развития в поворотный период русской жизни.
Об этом говорил, например, один из талантливых русских критиков 1820-х гг. Д. В. Веневитинов, близко стоявший к декабристам: «…науки и искусства еще не близки к своему падению, когда умы находятся в сильном брожении, стремятся к цели определенной и действуют по врожденному побуждению к действию».
Усиление интереса к философии искусства у Бестужева особенно наглядно проявилось в незавершенной статье «О романтизме», которая относится уже к якутскому периоду. В письме из Якутска к матери и сестре Е. А. Бестужевой от 9 марта 1829 г. Бестужев рассказывал: «Я недавно написал рассуждение о романтизме, которое думаю предпослать книге» (речь идет о замысле нового альманаха, издание которого Бестужев предполагал осуществить через какого-нибудь влиятельного издателя). Усиленно занимаясь литературой, зачитываясь Шиллером, Гете, Байроном, Пушкиным, Бестужев много размышлял о новой романтической поэзии. 10 декабря 1828 г. он писал матери и сестрам: «…сижу безвыходно дома и с утра до позднего вечера читаю Шиллера и Гете <…> читаю медленно, чувствую глубоко; и фантастические создания двух великих поэтов составляют теперь весь быт мой, они мои друзья и знакомые, они мой род и племя, мое ремесло, мое богатство!». В письме от 25 мая 1828 г. Е. А. Бестужевой Бестужев просит как можно скорее прислать ему сочинения Шекспира, Шиллера, Байрона и Мура, одновременно он пристально (насколько позволяли условия) следит за развитием новой русской литературы – читает Пушкина, одобрительно отзывается о «Московском телеграфе».
В статье «О романтизме» поставлены такие важнейшие философские вопросы, как отношение бытия и мышления, возможности и действительности, а также ряд других проблем гносеологического характера. Бестужев признает существование объективного, независимого от воли человека мира. И процесс человеческого познания, с точки зрения Бестужева, является в известной мере результатом воздействия этого объективного мира на человека. Вместе с тем, признавая наличие объективного мира, Бестужев также признает существование Бога, провидения. Определенный круг мышления носит сверхличный характер, лежит вне опыта и берет начало в лоне божественного. Дуализм писателя накладывает своеобразный отпечаток на его философию искусства. «…к познанию истины, – говорит Бестужев, – есть два средства. Первое, весьма ограниченное, – опыт, другое, беспредельное, – воображение». Не отрицая значения опыта, романтик Бестужев утверждает приоритет воображения в процессе художественного познания мира и человека. Оно обеспечивает более полное постижение истины в ее бесконечности: «Опыт постигает вещи, каковые они суть или каковые быть должны, воображение творит их в себе, каковы они быть могут, и потому условия первого – необходимость, границы его – мир – но условия второго – возможность, и оно беспредельно, как сама вселенная».
Проблема воображения, способного творить вещи, «каковы они быть могут», занимала Бестужева с самого начала его литературной деятельности. Постановка ее при этом всегда отличалась у него активной, гражданственной направленностью. С нею связаны коренные вопросы эстетики романтизма Бестужева. Важно подчеркнуть, что познание теснейшим образом соотнесено у него с действием. «…воображение, недовольное сущностью, алчет вымыслов», – говорит Бестужев во «Взгляде на русскую словесность в течение 1823 года», а в своем третьем обозрении пишет: «Жизнь необходимо требует движения, а развивающийся ум – дела…» (11, 122).
Если опыт имеет дело с необходимостью, то воображение – с возможностью. Воображение пронизано духом стремления. Основная функция воображения – достижение совершенства, художественное конструирование идеала. Бестужев говорит о поэзии: «Покорная общему закону естества – движению, она, как необозримый поток, катится вдаль между берегами того, что есть и чего быть не может; создает свой условный мир, свое образцовое человечество…».
Таким образом, проблема идеала, творимого воображением, – важнейшая определяющая в эстетике Бестужева. И это типичное, родовое свойство романтической эстетики 1820-1830-х гг. Идеал в романтическом произведении выступает с возможной полнотой и становится одновременно и целью, и непосредственным предметом художественного воплощения.
Проблема идеала в эстетике Бестужева теснейшим образом связана с проблемой метода. Выступив с самого начала своей литературной деятельности поборником романтического направления в литературе, Бестужев постепенно углубляет свой взгляд на романтизм. Уже в первом литературном обзоре (1823) Бестужев говорит о наличии «новой школы нашей поэзии» (11, 146), считая ее зачинателями В. А. Жуковского и К. Н. Батюшкова. Характеризуя их творчество, он делает акцент на двух моментах: несомненные достоинства языка и слога («Оба они постигли тайну величественного, гармонического языка русского…» – 11, 146) и идеальность поэзии («Кто не увлекался мечтательною поэзией Жуковского, чарующего столь сладостными звуками? <…> Намагниченное железо клонится к безвестному полюсу, – его воображение к таинственному идеалу чего-то прекрасного, но неосязаемого…» – 11, 146). Однако Бестужев говорит об «отвлеченности» идеалов Жуковского и, давая предпочтительно высокую оценку его переводам, указывает на «германский колорит, сходящий иногда в мистику», и «наклонность к чудесному» (11, 147) как на недостаток творений знаменитого поэта. Наиболее последовательным выразителем идей новой романтической литературы является, по мнению Бестужева, Пушкин: «Новый Прометей, он похитил небесный огонь <…>. Мысли Пушкина остры, смелы, огнисты; язык светел и правилен» (11, 147).
В «Ответе на критику „Полярной звезды“…» Бестужев уточняет свое представление о романтизме. Прежде всего он берет под защиту молодую литературу и молодых литераторов: «Я предвидел, что старожилы на меня возопиют за неслыханную дерзость <…> что многие восстанут, зачем я поместил молодых литераторов, о которых они в адрес-календаре не нашли ни слова…».
В решении проблемы метода и идеала к Бестужеву и Рылееву близок и Д. В. Веневитинов. Опубликованные им в «Сыне отечества» статьи выражали горячее желание «вступиться за честь нашего века». Характерную особенность романтической поэзии Веневитинов усматривал в силе стремления. Типичным представителем, образцом поэта-романтика и для него является Байрон, который «в пламенной душе своей сосредоточил стремление целого века». Устами своего Платона Веневитинов превосходно выразил эстетическое кредо романтиков: «Жить – не что иное, как творить будущее – наш идеал». Об этом же постоянно говорил В. Ф. Одоевский. «Современная поэзия, – писал он, – начало которой положил Байрон, – это поэзия, повествующая об идеальном мире».
После 1825 г. взгляды Бестужева на романтизм претерпели значительную эволюцию. Годы ссылки были для него временем глубоких раздумий, непрестанной работы ума, большого литературного труда. И самое главное – это были годы постижения действительности, внимательного изучения народа и определенного сближения с ним. Сам Бестужев в письмах к братьям Полевым придавал большое значение всем этим факторам, неоднократно утверждал, что он во многом изменился.
Кавказские письма Бестужева заслуживают пристального изучения исследователей. Активная волевая натура, борец по темпераменту, талантливый журналист и пытливый политик, Бестужев оказался изолированным от кипучей литературной жизни 1830-х гг. Письма его в этих условиях приобретают исключительное значение, являясь прекрасным комментарием к его творчеству.
Не менее важна итоговая статья Бестужева «О романе Н. Полевого „Клятва при гробе господнем“» (1833), в которой могут быть отмечены новые черты в трактовке романтизма.
Самое главное, что отличает эту статью и что в высшей мере характерно для русских романтиков последекабристской поры, – это пронизывающий ее пафос истории, утверждение идеи исторического развития искусства. Увлечение историей и философией, начавшееся до 1825 г. (в какой-то мере сразу после Отечественной войны 1812 г.), после декабрьских событий получило, как известно, особенное распространение. Русские романтики 1830-х гг. обогатились идеей развития, и это отчетливо проявляется в статье Бестужева «О романе Н. Полевого „Клятва при гробе господнем“». Романтизм, по мнению Бестужева, мог появиться именно в «век исторический по превосходству»: «Мы обвенчались с нею (историей. – Ф. К.) волей и неволей, и нет развода. История – половина наша во всей тяжести этого лова. Вот ключ двойственного направления современной словесности: романтическо-исторического» (11, 163–164).
Подобно Белинскому, Бестужев считает, что романтизм заключен в природе человека (11, 163), что он «ровесник души человеческой» (11, 164–165). Для Бестужева романтизм обязательно предполагает такое достоинство поэта, как сила мысли, сила выраженных в произведении чувств. Идея или мысль, с точки зрения Бестужева, по-разному относятся к форме произведения, не всегда могут обрести необходимые «пределы выражения». Бестужев рассматривает «три случая»: «или выражение превзойдет мысль <…> или мысль найдет равносильное себе выражение <…> или, наконец, мысль огромностию своею превысит объем выражения, в которое теснится…». Именно с этим случаем, когда «идея или мысль превышает <…> свое выражение», Бестужев связывает романтизм.
Сравнивая романтическую, или новую, поэзию с поэзией древней, Бестужев, Рылеев, Кюхельбекер, Веневитинов выделили в ней преобладание мысли и чувства над описательностью. Об этом, как уже указывалось, неоднократно говорил Бестужев. В переводной (с английского языка) заметке «Определение поэзии» он отмечал: «Самое справедливое и понятное определение, какое только, по мнению моему, можно дать поэзии: „Она есть наречие страстей или воспламененного воображения, заключенное, обыкновенно, в известных размерах“. <…> первая цель поэта есть нравиться, трогать, а следовательно, он говорит воображению и страстям». В переводной (с французского языка) статье «О духе поэзии XIX века» он писал: «Испытывать страсти, или, по крайней мере, предчувствовать их, есть необходимое условие для поэта». И здесь же: «…поэзия не вся в картинах. Больше всего она живет страстями и сильными движениями; она должна говорить сердцу; иначе блистающая одежда ее останется хладною и бездушною». В итоговой его статье эти мысли конкретизируются.
Историческое развитие искусства заключалось прежде всего в формировании его человеческой сущности, его духовного начала, возникновением которого оно обязано христианству, «…по духу и сущности, – пишет Бестужев, – есть только две литературы: это литература до христианства и литература со времен христианства. Я назвал бы первую литературой судьбы, вторую – литературой воли. <…> во второй царствует душа, побеждают мысли» (11, 165). Христианская вера, воплощенная в истинных правилах Евангелия, пришла к людям посредством Слова, суть которого в возвышении человека («Язычник унизил божество до себя, христианин вознес человека до Бога»). Евангелие, по убеждению Бестужева, явилось «высокой романтической поэмой», «первообразом новой словесности, первым рассадником идеализма». Что же касается литературы, существовавшей до христианства, то она, по Бестужеву, отличалась тем, что человек в ней не играл самостоятельной роли, был полностью подвластен судьбе. Говоря о трагедиях Эсхила, Софокла и Эврипида, Бестужев писал, что они всегда выводят «на сцену царствования злосчастия, как будто человек не имел в себе довольно величия» (11, 174).
«Не так понимали природу, – пишет Бестужев, – Шекспир, Шиллер, Виктор Гюго»; все они знаменовали собою новую эпоху в развитии искусства. Вместо царей, богов и полубогов в их творчестве действовали люди. «И <…> менее ль занимателен их падший ангел-человек, их человек-мещанин, родня богов Атридов?» – спрашивает Бестужев (11, 174).
Романтический историзм Бестужева неразрывен с идеей национальной самобытности литературы. Так же как Н. А. Полевой, Бестужев исходит из того, что каждый народ живет «сообразно законам своей истории». Вот почему совершенно нелепыми являются теории классиков с их ориентацией на вечные образцы.
Не менее резко, чем В. Гюго в своем знаменитом предисловии к «Кромвелю», Бестужев критикует теорию трех единств, которая, по его мнению, противоречит главному пафосу нового времени, пафосу развития духовного начала в искусстве. Резкое осуждение подражательного характера классицизма велось Бестужевым с двух точек зрения. Во-первых, критику-декабристу, отстаивавшему национальную самобытность литературы, была чужда аристократическая сущность нормативной эстетики.
С другой стороны, Бестужев говорит об изменяемости представлений о прекрасном, об эволюции эстетического идеала. В этом отношении он развивает мысли Рылеева, Веневитинова, Вяземского. В своей итоговой статье Бестужев констатирует факт победы романтизма как вполне закономерное, обусловленное временем явление: «Романтизм победил, идеализм победил, и где ж было воевать пудре с порохом? <…> Мы не приняли романтизма, но он взял нас с боя, завоевал нас, как татары…» (11, 200). Романтизм, по убеждению Бестужева, – современное искусство, значительно приблизившееся к жизни, отразившее потребности века.
Весьма характерно, что тенденция сближения искусства с жизнью, его объективизация также связана в сознании автора статьи «О романе Н. Полевого „Клятва при гробе господнем“» с христианством. Ведь именно христианская вера, по убеждению Бестужева (и здесь он будет принципиально близок В. К. Кюхельбекеру, М. С. Лунину, В. Ф. Раевскому, Г. С. Батенькову и другим ссыльным декабристам), «овладела землею и соединила землею с небом». В вере Бестужев увидел тот синтез реального и идеального, которого не могла достичь немецкая идеалистическая философия.
Таким образом, четко выраженная в последней статье Бестужева идея развития в ее романтической интерпретации и религиозной окраске, усилившаяся тенденция к объективности были тем новым, что появилось в эстетике 1830-х гг. и отразилось на характере его последекабристского творчества.
Важнейшей проблемой гражданского романтизма явилась проблема героического характера, вытекающая из самих основ его эстетики. С глубокой скорбью говорит Бестужев о «безлюдье героических характеров», – характеров, призванных «разбудить душу». Примером писателя, создавшего с необыкновенным мастерством героические характеры, является Байрон. 17 июня 1824 г. Бестужев пишет П. А. Вяземскому: «Мы потеряли брата, князь, в Бейроне, человечество – своего бойца, литература – своего Гомера мыслей». Одновременно сам Байрон для Бестужева – олицетворение героического характера. Бестужева покоряет в этом великом литературном бойце единство жизни и поэзии.
С точки зрения Бестужева, героем произведения не может быть рядовой человек, каких много, а только человек особенный, исключительный, вырвавшийся из «леденящих цепей» среды, противопоставивший ей свой свободный выбор. Этим романтики отличались от сентименталистов, идеализировавших отдельного, частного, обычного человека.
Онегин не удовлетворяет Бестужева своей обыденностью, прозаичностью. Теоретику романтизма не нравится в Онегине именно то, что составляло реалистическую силу этого образа. «Я <…> вижу человека, – пишет Бестужев Пушкину 9 марта 1825 г., – которых тысячи встречаю наяву…». Бестужев улавливает в «Евгении Онегине» и «идеальное» начало, проявившееся прежде всего в лирическом образе поэта: «Вся <…> мечтательная часть прелестна, но в этой части я не вижу уже Онегина, а только себя» (П, 13, 149; курсив наш. – Ф. К.). Однако этого, как убежден Бестужев, мало для романтика. Носителем авторского идеала, основным его выразителем должен быть обязательно главный герой произведения, идентичный по своим мыслям и чувствам автору.
Для Пушкина идеал – конечная цель искусства, он не привносится в произведение, являясь следствием общей концепции автора. для Бестужева идеал – не только цель, но и предмет поэзии, он может и должен привноситься в художественное произведение, как критерий высшей истины. Идеалы романтиков, говоря словами Белинского, идеалы, «творимые фантазией». Главное для них – создание образа яркого, впечатляющего, будоражащего. Это героический характер; как правило, характер борца, новатора, обновителя жизни, резко вступающего в борьбу со старым, признанным порядком вещей.
Спор Пушкина и Бестужева неоднократно рассматривался в литературоведении как наглядная иллюстрация различного решения проблемы героя (и идеала) реалистом и романтиком. Историческая правота Пушкина, его умение глядеть вперед хорошо известны, не вызывает сомнений и ограниченность Бестужева, чья эстетика не отличалась глубиной и масштабностью, свойственными эстетике пушкинской. Но при всем этом Бестужев и революционно-романтическая эстетика дали нечто такое, что было принципиально важным не только для их времени, но и для дальнейшего развития русской литературы. Речь здесь идет о ядре романтической эстетики – теории идеального и тесно связанной с нею идее суверенной личности.
Пушкин чувствовал значительность Бестужева. Он горячо спорил с ним, но с полным пониманием силы противника и уважением к его мнению. Не случайно Бестужеву (так же как и Вяземскому) Пушкин пишет о самых серьезных, принципиальных для него литературных вопросах. Он поверяет ему свои мысли о наиболее дорогих ему произведениях.
Одному из первых Пушкин сообщил Бестужеву о своей «истинно романтической» трагедии «Борис Годунов», с ним он подробно и много говорит об «Евгении Онегине», в письме к нему дается развернутая характеристика «Горя от ума» Грибоедова. Пушкин признается, что ни с кем ему не было так интересно спорить, как с Бестужевым и Вяземским. Несмотря на существенные расхождения в понимании природы художественного метода, Пушкин возлагает большие надежды на Бестужева-прозаика, настойчиво предлагает ему писать роман и считает, что Бестужев будет «первым в этом роде».
Вслед за Карамзиным Бестужев явился одним из первых пропагандистов русской художественной прозы и прежде всего повести. По мере эволюции его мировоззрения, роста декабристских убеждений тяга к прозе становится все более и более настойчивой. Еще до выхода в свет «Полярной звезды» Бестужев в журналах «Сын отечества», «Соревнователь просвещения и благотворения» печатает свои повести и выступает поборником прозы.
«Полярная звезда» видела свою важнейшую задачу в отстаивании оригинальной романтической художественной прозы, поднимая тем самым авторитет русской повести. Альманах декабристов в этом отношении выгодно отличался от многих других журналов и альманахов своего времени («Мнемозина», «Северные цветы»). Бестужев призывает к созданию русской оригинальной прозы именно в тот момент, когда популярность карамзинской повести прошла, когда эпигоны Н. М. Карамзина измельчили его лучшие достижения. Нужно было восстановить значение повести. В своих теоретических выступлениях он использует некоторые мысли Карамзина; как писатель, автор романтических повестей, он опирается порою на достижения Карамзина, но в ряде принципиальных вопросов спорит с автором прославленной сентиментальной прозы.
В начале 1820-х гг. писатель-декабрист, предлагая читателю бросить взор на «степь русской прозы», отмечает «безлюдье сей стороны» (11, 153), с досадой констатирует факт предельной бедности русской прозы. Для Бестужева состояние прозы, ее развитие – показатель общей культуры словесности. Во «Взгляде на старую и новую словесность в России» он указывал, что не случайно «у нас такое множество стихотворцев (не говорю поэтов) и почти вовсе нет прозаиков…» (11, 153).
Проблема слога – важнейшая проблема прозы, по мнению Бестужева. Писать стихами, считает он, легче, чем прозой. «Слог прозы требует не только знания грамматики языка, но и грамматики разума, разнообразия в падении, в округлении периодов и не терпит повторений» (11, 153). Заметим, между прочим, что именно разнообразие в складе и звучности оборотов языка у Карамзина одобрял Бестужев. «Погрешности противу языка», которые столь резко осудил Карамзин, и для Бестужева – главное зло. «Обладая неразработанными сокровищами слова, мы, подобно первобытным американцам, меняем золото оного на блестящие заморские безделки» (11, 153–154). Мысли, высказанные Бестужевым о бедности русского повествовательного языка, подхватят и другие критики романтического лагеря. Так, О. М. Сомов в «Обзоре российской словесности за 1828 год» писал: «У нас нет еще слова повествовательного для романов и повестей, нет разговорного слога для драматических сочинений в прозе, нет даже слога письменного». Проблема языка художественной прозы неоднократно поднималась на страницах русских журналов 1820-1830-х гг. Так, «Московский телеграф», очень близкий Бестужеву 1830-х гг., писал: «Роман самородный и повесть требуют большой зрелости в литературе. Кроме воображения для них необходим еще язык, повинующийся всем переливам души, всем волнениям сердца и всем утонченностям в общежитии старых и новых народов».
Продолжая традиции Карамзина, Бестужев пропагандирует поэтическую прозу, но в это понятие вкладывает смысл, тесно связанный с самой сутью декабристской эстетики. «Поэтический» для Бестужева – это возвышенный, героический, «колеблющий душу», вдохновляющий ее на подвиг. На страницах «Сына отечества», «Соревнователя просвещения и благотворения», «Полярной звезды» теоретически и практически ставился вопрос о поэтической, вдохновляющей прозе. Не противопоставление стихов и прозы, а, напротив, стремление подчеркнуть их диалектическую связь составляет пафос статьи «Определение поэзии»: «…стихотворство и проза в некоторых случаях сливаются одно с другою, подобно свету и тени. Едва ли возможно определить точные границы, где красноречие кончится, а поэзия берет начало». Проза, так же как и поэзия, должна говорить языком «воспламененного воображения»: «…оно цветит и одушевляет все, до чего ни коснется, оно дает сущность понятиям самым отвлеченным, чувствованиям самым тонким». «Роман в наше время есть произведение поэтическое», – говорилось в обзоре «Московского телеграфа», который открывался отзывом о «Русских повестях и рассказах» (ч. 1–5) Бестужева?.
С легкой руки литераторов-декабристов вторая половина 1820-х – 1830-е гг. – период признания русской художественной прозы как высокого поэтического рода.
О прозаическом романе как поэтическом жанре убедительно говорит на страницах «Московского вестника» В. П. Титов. Автор рецензии на альманах А. А. Дельвига «Северные цветы на 1826 год» выражает глубокое сожаление о том, что в этом превосходном альманахе произведения ошибочно разделены на «прозу» и «поэзию». «Поэзия, – говорит он, – может быть и в стихах, и в прозе, и потому, основываясь на форме, следует делить сочинения на прозу и стихи, а не на прозу и поэзию».
Являясь страстным поборником поэтической прозы «Московский телеграф» начиная с части 3 за 1825 г. печатает повести и отрывки из романов в отделе «Изящная словесность» (ранее они печатались в отделе «Смесь»).
«Московский вестник» тоже объявил, что в первом отделе журнала будут печататься произведения «изящной словесности» «с сочинениями в стихах и прозе всех жанров». «Литературная газета» печатала повести даже на первом месте. Все это убедительно свидетельствовало о значительной победе художественной прозы в русской литературе.
Таким образом, русские романтики 1820-1830-х гг. подняли авторитет русской повести, значение которой начал утверждать еще Карамзин.
В полемике Бестужева с Пушкиным по проблемам художественной прозы закладывались основы реалистической повести и романа, блестящие образцы которых дает творчество Пушкина и Гоголя 1830-х гг. Однако завоеванные Пушкиным и Гоголем новые рубежи в истории русской прозы будут достигнуты ими благодаря значительному вкладу в общее литературное развитие сентименталистов и романтиков.
Ранние повести Бестужева
Бестужев был не только страстным пропагандистом художественной прозы, но и талантливым создателем русской романтической повести. Настоящая слава, «чрезвычайный успех» придут к Бестужеву-повествователю в 1830-е годы. Однако и в первый период своего творчества, до 1825 г., он создал повести, которые ознаменовали собою новую страницу в истории этого жанра и были примечательным явлением в русской литературе. Чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно просмотреть журналы и альманахи 1820-х гг. и сравнить изредка появлявшиеся в них русские повести с произведениями Бестужева. Белинский, вовсе не склонный преувеличивать литературные заслуги Бестужева, назвал его «первым нашим повествователем <…> творцом, или, лучше сказать, зачинщиком русской повести». Это он говорил в 1835 г., стремясь осмыслить становление и развитие жанра повести в русской литературе XIX в.
Впоследствии, в своих критических работах 1840-х гг., он многократно возвращался к характеристике Бестужева. Говоря о слабости последнего, проявившейся, по мнению критика, во «множестве натяжек», излишней риторичности, отсутствии «истины жизни» и т. д., Белинский постоянно подчеркивал историко-литературное значение повестей Бестужева, которые «…доставили много пользы русской литературе, были для нее большим шагом вперед». В чем именно состояла заслуга Бестужева?
Белинский – теоретик гоголевской школы, занятый прежде всего ниспровержением «риторического направления», по-своему пытался ответить на этот вопрос. «В повестях г. Марлинского, – писал он, – была новейшая европейская манера и характер; везде был виден ум, образованность, встречались отдельные прекрасные мысли, поражавшие и своею новостию и своею истиною; прибавьте к этому его слог, оригинальный и блестящий в самых натяжках, в самой фразеологии, – и вы не будете более удивляться его чрезвычайному успеху».
Бестужев понимал, что перед русскими писателями стояла задача создать новую повесть, соответствующую потребностям нового времени. Он, как указывалось выше, призывал сделать бедную русскую прозу гражданственно острой, человечески значимой, обладающей таким свойством, как «грамматика мысли». Слова Пушкина об отсутствии у нас «метафизического языка», о том, что проза «требует мысли и мысли», перекликались с требованиями декабристов и обретали глубоко актуальный смысл.
Романтическая повесть означала собою новый шаг в развитии жанра повести, поскольку романтизм как метод принес с собою новое, более глубокое и сложное, более прогрессивное в конечном счете понимание человека.
В трактовке личности, как вообще в эволюции эстетических взглядов Бестужева, было два периода. Первый – до 1825 г., когда писатель во многом еще разделял позицию просветительского рационализма. И второй – 1830-е гг., когда произошел определенный отход от просветительского понимания человека и значительно – под влиянием прогрессивной исторической и философско-эстетической европейской мысли – возросла общественно-философская емкость его произведений. Однако уже в первый период своего творчества Бестужев, как указывалось выше, в решение проблемы характера вносит много существенно нового по сравнению с предшествующей ему литературой.
Вместе с тем новаторство Бестужева – автора романтических повестей, нельзя свести только к новой трактовке проблемы личности, как бы интересна эта трактовка ни была. Личность героя, какое бы значительное место она ни занимала, никогда не заслоняет собою в сознании Бестужева-писателя всего мира. Повести его почти всегда насыщены большим «внешним», независимым от идеального героя материалом. Эта «объективная» сторона творчества Бестужева – типическая черта русского романтизма 1820-х, особенно 1830-х гг., вытекающая из самой его сущности.
Бестужев с неподдельным «трепетным интересом» относился к фактам самой действительности, насыщая ими свои произведения. Чаще всего рисуемый им «внешний мир» мало связан с характером идеальных героев, изображение которых отличается глубокой субъективностью, но само настойчивое обращение писателя к «внешнему миру», интерес к местному колориту, национальным обычаям, фольклору делает повесть Бестужева новым и очень интересным явлением в русской литературе. Здесь проявились не только оригинальная манера Бестужева-писателя, но и общие закономерности развития всей европейской романтической литературы.
Глубоко прав Г. Д. Гачев, говоря, что, «как это ни парадоксально, в иррационализме романтиков <…> выразилось доверие к логике самой жизни, а не субъективные о ней представления, выступил пафос объективности».
Здесь можно было бы, пожалуй, лишь уточнить: доверие к логике самой жизни, а не только субъективные о ней представления. Пафос объективности наиболее полно проявится в романтической прозе, в частности в романтической повести Бестужева. С наибольшей силой это скажется в творчестве писателя 1830-х гг., но и до 1825 г. эта особенность его романтизма заявила о себе и отразилась в самом жанре создаваемых им произведений.
Началом писательской деятельности Бестужева считают его путевые очерки «Поездка в Ревель» (1821), в которых намечены почти все главные темы его будущих повестей. Наиболее тесно примыкают к путевым очеркам, порою прямо вырастая из них, «ливонские повести» («Замок Венден» (1823), «Замок Нейгаузен» (1824), «Ревельский турнир» (1825), «Замок Эйзен» (1825)). Посвященные истории средневековой Прибалтики, «ливонские повести», так же как и «Поездка в Ревель», уже обнаруживают характерные черты беллетристики писателя.
Интерес декабристов к истории – явление общеизвестное, вполне обусловленное эпохой, наступившей после Великой французской революции и наполеоновских войн. Вместе с тем нужно отметить, что до 1825 г. декабристам был свойствен, главным образом, просветительский интерес к истории. От последней они ожидали не только «выяснения истины, но также патриотического и революционного одушевления, а иногда даже непосредственного руководства своими действиями». Просветительское отношение к истории как к «школе морали и политики» (Г. Мабли) было в высшей мере характерно для Бестужева до 1825 г.
С большим интересом занимается Бестужев, как и другие декабристы, историей средневековой Прибалтики, которая в сознании писателя тесно связана с героическими, вдохновляющими страницами русской истории. Еще в период своей работы над «Поездкой в Ревель» Бестужев тщательно изучил разнообразные источники по истории Прибалтики. Так, широко использовал он изданную в 1578 г. «Хронику Ливонии» Б. Руссова в трех частях, которая является незаменимым источником для освещения внутренней жизни и классовых отношений в Ливонии.
Говоря о важности для писателя исторических сюжетов, Бестужев подчеркивает в отношении к последним два момента – познавательный (способность писателя рисовать яркие картины «того века, того народа») и идеальный (замечательное умение художника с помощью поэтического воображения создавать свой идеал прекрасного). Если Карамзин утверждал принципиальное отличие в подходе к историческому материалу у писателя и у историка и часто в своих повестях сводил историческую достоверность произведения на нет, то Бестужев не противопоставляет познавательную и идеальную функции искусства. В его исторических повестях, начиная с «Поездки в Ревель», значительное внимание уделяется проблеме исторической достоверности, при этом изображение исторических событий, фактов освещено декабристским взглядом на вещи.
В «ливонских повестях» Бестужева нашли отражение подлинные исторические события и факты. В какой-то мере об этом можно судить уже по первой повести «ливонского цикла» «Замок Венден». Если нельзя говорить об историзме этого произведения, то во всяком случае здесь есть стремление автора опереться на реальные исторические документы. Более того, факты, заимствованные из хроники, становятся сюжетной основой повести (еще в большей мере это характерно для «Ревельского турнира»).
В «Замке Нейгаузен» Бестужев изображает преступное тайное Аренсбургское судилище («пугалище средних веков» – 3, 137) – институт, который принесли с собой в Ливонию немецкие рыцари. Это судилище в изображении Бестужева – скопище разбойников, «влекомых корыстью или мщением». И здесь писатель старался придерживаться исторических хроник (см. примечание к «Замку Нейгаузен», взятое из летописи, – 3, 137). Правда, это стремление к документальной исторической точности пока что носит у Бестужева преимущественно идеологический характер. Органически ввести исторические факты в художественную ткань произведения писатель не смог.
В «Ревельском турнире» мы видим более отчетливое, чем прежде, стремление проникнуть в дух эпохи, показать ее острые социальные противоречия. Положив в основу сюжета повести конкретные исторические факты, писатель делает их основой общественного конфликта произведения. Интересна глава VI повести, в которой дается достаточно трезвый и объективный анализ исторических событий. Четким и лаконичным историческим характеристикам, объясняющим суть происходящего, Бестужев учится у В. Скотта. Однако о серьезном влиянии В. Скотта на Бестужева этого периода говорить еще преждевременно. Отсутствие историзма в подходе к характеру изображаемых героев принципиально отличало художественную систему Бестужева от эстетики исторического романа В. Скотта. Вместе с тем в своем стремлении к «действительной жизни», к исторической достоверности, в самой попытке учиться у В. Скотта мастерству создания исторического колорита, детального воспроизведения обстановки, быта, народных обычаев Бестужев делает существенный шаг вперед по сравнению с сентиментальной исторической повестью и «Славенскими вечерами» В. Т. Нарежного.
Если рассматривать «ливонские повести» в хронологическом порядке, то нельзя не заметить нарастания критического отношения к рыцарям (от «Замка Венден» и «Замка Нейгаузен» к «Ревельскому турниру» и «Замку Эйзен»). В последних повестях носителями авторского идеала являются уже не благородные рыцари, а представители других сословий, враждующих с феодалами-рыцарями. В этом отношении особенно интересна последняя повесть «ливонского цикла» – «Замок Эйзен», где повествование ведется от имени сельского пастора, которому и принадлежит нравственно-эстетическая оценка происходящего.
Трезвый просветительский взгляд Бестужева на сущность средневекового феодализма проявился на многих страницах его «ливонских повестей», где писатель нарисовал яркие картины грабежа, разбоя, зверской эксплуатации народа феодалами-рыцарями. Сам феодальный замок воспринимался Бестужевым как цитадель грабежа и беззакония.
Вместе с тем бестужевская оценка феодальной эпохи своеобразно соединяла новейшие романтические представления о феодализме с идеями Просвещения, которое вынесло ему суровый приговор.
Исходя из гносеологических основ своей эстетики, согласно которым поэтическое «бесконечное» воображение обеспечивало более глубокую истину, чем ограниченный опыт, Бестужев придавал огромное значение романтическому, идеальному началу истории. Не пренебрегая историческим опытом («не обижая истории, не удаляясь от вероятия»), Бестужев на первый план выдвигает именно романтическое воображение, благодаря которому писатель «даже может досказать то, что умолчала история, угадать, что она могла сказать, и заманчиво передать то, что она говорила».
В «ливонских повестях» проявилась определенная идеализация, героизация сильного характера, как это диктовалось эстетикой гражданского романтизма. Декабристское представление о героизме и самоотверженности получило в «ливонских повестях» наиболее полное выражение в образах «благородных рыцарей», справедливых, великодушных, ненавидящих тиранство, пекущихся об интересах своих вассалов, мужественно и доблестно служащих своему долгу. Уже в «Замке Венден» мы встречаемся с таким идеализированным рыцарем – Вигбертом фон Сарратом. Таков же рыцарь Нордек из «Замка Нейгаузен». Он, по мнению новгородца Всеслава, «великодушный победитель», «рыцарь словом и делом» – смелый, отважный, горячий, страстно влюбленный в Эмму, добрый и благородный. Это человек сильного характера, высоких страстей.
Своеобразие просветительского взгляда на историю проявилось в рационалистической заданности изображаемых Бестужевым характеров. Герои в «ливонских повестях» резко делятся на злодеев и добродетельных. Так, рыцарь Ромуальд фон Мей («Замок Нейгаузен») выглядит вполне законченным негодяем; это образ, окрашенный лишь в черные краски. Автор и не называет его иначе, как «изверг природы», «великий злодей». Ему резко противостоят положительные образы – «отважный и благородный» Буртнек, «ангел справедливого мщения» Всеслав и другие. Дань рационализму проявилась и в преобладании благополучных мелодраматических концовок, и в самой манере характеристики персонажей. Повествование, часто представляющее собой сцепление силлогизмов, ведет все время рассуждающий автор. У раннего Бестужева очевиден «перевес, который приобретает в художественной системе декабристов идея над образным отражением реальной жизни». Нормативность романтизма раннего Бестужева в свою очередь усугубляла субъективное отношение к истории.
Однако было бы совершенно неверно утверждать, как это имеет место в нашем литературоведении, что историко-национальная окраска романтизма Бестужева, стремление писателя к историзму и некоторые достижения в этой области совершенно не повлияли на характер героев его исторических повестей. На самом деле интерес Бестужева к национальному и историческому колориту, приверженность к фактам объективной действительности, о которой говорилось выше, и, наконец, осмысление исторического прошлого с позиций последовательного декабризма бесспорно расширяют связь героев Бестужева с объективным миром, выводят их за пределы узких, интимных переживаний.
В своих исторических повестях Карамзин не связывал личное, интимное и общественное, историческое в жизни героев. Первая историческая повесть Карамзина – «Наталья, боярская дочь» – это повесть о любви. История здесь подана лишь как эстетический фон для трогательной любовной коллизии. В последней исторической повести Карамзина – «Марфа Посадница», где на первый план выдвинуты политические и общественные проблемы, не оставалось места для любви. Связать сферу личную (любовную) и общественную (историческую) Карамзин, таким образом, не мог и не хотел, поскольку это противоречило эстетике сентиментализма.
Иное дело Бестужев. Наиболее органично показана связь личного и общественного в чувствах героев в «Ревельском турнире» и особенно в новгородской повести «Роман и Ольга» (1823). Любовь Романа к Ольге – высокое героическое чувство, укреплявшее его мужество и отвагу. То же можно сказать и об Ольге. Она полюбила в Романе не просто «хорошего и пригожего» молодого человека. Это у Карамзина «Наталья, боярская дочь» увидела и «в один миг» полюбила молодого человека «в голубом кафтане с золотыми пуговицами». Любовь Ольги неотделима от чувства гордости и восторга перед мужеством и доблестью Романа. Интимные чувства героев отодвигаются историко-патриотическими событиями на второй план, подчиняются этим событиям и переплетаются с ними. Даже счастливое разрешение напряженной любовной драмы – свадьба героев в конце повести – совпадает с замечательной победой новгородцев: «Весь город праздновал на свадьбе Романовой с тем большим весельем, что победы доставили новгородцам выгодный мир с Василием на всей их воле и старине» (7, 197).
Вместе с тем нужно отметить и очевидное отступление Бестужева от завоеваний психологической прозы Карамзина. Рационалистическая за-данность характеров и сама «риторическая» стилевая манера обедняли собственно психологическое содержание образов, созданных писателем-декабристом. Здесь Бестужев был ближе к Рылееву («Думы»), чем к Карамзину, которого в большей степени занимали «подробности чувств».
В «Полярной звезде на 1811 год» рядом с «Романом и Ольгой» опубликована дума Рылеева «Рогнеда». Сюжет ее подсказан Карамзиным в его статье «О случаях и характерах Российской истории, которые могут быть предметом художеств». Но акцент переносится Рылеевым с чисто психологической задачи, которую поставил Карамзин, на раскрытие патриотических и героических черт Рогнеды. У Карамзина она оскорбленная женщина, которая не может простить мужу (Владимиру) измены и решается убить его. Владимир, потрясенный отчаянием Рогнеды, преображается. У Рылеева Рогнеда – патриотка, подобная своему отцу Рогвольду. Она хочет отомстить Владимиру за то, что он «губитель отчизны». С образом Владимира связана у Рылеева естественно отсутствовавшая у Карамзина тираноборческая тема. Сравнение «Рогнеды» Рылеева с карамзинским сюжетом говорит еще и о другом. У Карамзина на первом плане психологическая задача, душевное движение, «превращение» Владимира. Четкая рационалистическая заданность характера у поэта-декабриста исключала психологические нюансы.
Рационализм ранних повестей Бестужева проявился прежде всего в трактовке конфликта, который, по справедливому утверждению Ю. В. Манна, является жанровообразующей доминантой произведения художественной прозы. В первых повестях писателя-декабриста конфликт носит чисто идеологический характер. Героям повестей «Замок Эйзен», «Роман и Ольга», «Замок Нейгаузен» не свойствен какой-нибудь внутренний разлад с собою и окружающими, «не говоря уже о процессе романтического отчуждения в целом». Характеры в этих повестях, как правило, статичны, даются оформившимися, со всеми своими отличительными чертами. Обилие ярких красок и внешней динамики не меняет сути дела. С этой точки зрения особое место в художественной системе раннего Бестужева занимает повесть «Изменник» (1825).
У ее героя Владимира Ситцкого сложная жизненная история. Сын доблестного российского патриота Михаила Ситцкого, могилу которого стерегла «добрая память», Владимир с раннего детства породнился с военными подвигами. Это сильный, волевой характер, исполненный необузданных романтических страстей. В глубине души Владимир нежно любит свою родину. Вернувшись домой после долгого отсутствия, он преисполнен благоговейных чувств: «„О родина, святая родина! Какое на свете сердце не встрепенется при виде твоем; какая ледяная душа не растает от веянья твоего воздуха?“ – так думал Владимир Ситцкий, с грустною радостию озирая с коня нивы и пажити и рощи переяславские…» (8, 85). Драматизм повести в том прежде всего и заключается, что человек, наделенный высоким чувством родины, незаурядный и сильный, становится предателем и братоубийцей, от которого отворачиваются все.
Задаче раскрытия сложного образа Владимира Ситцкого подчинена и композиция повести, характеризующаяся хронологическими смещениями, отступлениями, недомолвками, стремительными контрастными переходами. Этим повесть напоминает романтическую поэму. Так, начинается повесть с благоговейного восторга героя перед родиной. Здесь уже есть намек на сложную жизненную дорогу Владимира, по которой он немало прошел, прежде чем оказаться у врачующих берегов родного озера. Контрастирует с первой третья неистово-романтическая глава, которая свидетельствует о крайнем напряжении духовных сил Владимира, решившего заключить союз с самим дьяволом. Жанровым центром повести, ее «нервным узлом» является монолог-исповедь героя, в котором отражены «все главные вехи романтического отчуждения». Владимир Ситцкий – первый демонический герой Бестужева, родственный героям Лермонтова и Байрона. Но авторская позиция в «Изменнике» еще достаточно однозначна, в чем проявились явные следы рационализма.
Несколько необычны для жанровой палитры творчества раннего Бестужева рассказы «Вечер на бивуаке» и «Второй вечер на бивуаке» (оба – 1823) с явно выраженными в них чертами новеллистической структуры, которой предстоит сыграть значительную роль в зрелом творчестве Бестужева.
Творчество Бестужева 1830-х гг
Светские романтические повести
Свое второе признание писатель Бестужев получил с начала 1830-х гг., в период ссылки и изгнания. Его кавказские письма исполнены глубокого драматизма, в них достаточно полно раскрывается трагедия передовых русских людей в страшную эпоху реакции. В силу специфических особенностей своего положения Бестужев ощущает этот трагизм с исключительной остротой. «Бог один знает, что перенес я в эти пять лет… – говорит он в письме Н. А. Полевому от 29 января 1831 г., – но крыло провидения веяло надо мною – и я не упал духом: казалось, он закалился в туче страданий. Я совлекся многих заблуждений, развил и нашел много новых идей, укрепился опытом…» (наст. изд., с. 495), а в письме к нему же от 12 февраля 1831 г. добавляет: «Мы мыслим и говорим языком перелома. <…> Мы летучие рыбки: хотим лететь к солнцу и падаем опять в океан. Со всем тем наше призвание – жить этой двойственной жизнью…». Об этой двойственности писал и А. И. Герцен, говоря, что людям его поколения нужно было высоко держать голову, имея цепи на руках и ногах.
Несмотря на то что Бестужев принадлежал к другому поколению, чем А. И. Герцен, П. Я. Чаадаев или М. Ю. Лермонтов, в их положении было много общего. Отсюда удивительное совпадение в их настроениях, мыслях и даже выражениях. Называя себя «изувеченным гренадером», птицей с надломленными крыльями, моряком, попавшим в крушение, Бестужев был близок к Лермонтову, когда писал: «Как обломок кораблекрушения, выброшен был я бурею на пустынный берег природы…» (см.: наст. изд., с. 182). И еще: «Я отрубил канат, который держал ковчег мой хоть одною якорной лапой за землю обетованную… Я выбросил в море весь груз надежд, уморил с голоду желанья счастья…» (письмо Н. А. и К. А. Полевым от 16 декабря 1831 г. – наст. изд., с. 506, 508; курсив наш. – Ф. К.). Ему буквально вторил Лермонтов:
В душе моей, как в океане,
Надежд разбитых груз лежит.
Глубокая тоска по родине и большому общественно полезному делу («О, если бы судьба дала мне хоть один не отравленный людскою злобою год, чтоб я мог попробовать крылья свои, не спутанные в цепи!» – письмо к К. А. Полевому от 5 апреля 1833 г.), отчаяние и безнадежность терзают Бестужева. Вместе с тем 1830-е гг. в его жизни и творчестве – период напряженных поисков истины и мужественной борьбы за высокие гуманистические идеалы.
Даже самый беглый взгляд на повести Бестужева 1830-х гг. говорит о значительной перемене, произошедшей с писателем. Его повести окрашиваются в трагические тона, они драматичны, несмотря на замысловатую, подчас вычурную форму и даже внешне беззаботную манеру повествования. В произведениях Бестужева 1830-х гг. говорится, как правило, о трагических судьбах, разбитых сердцах, о гибели сильных, мужественных, красивых людей, совершающих порою роковые ошибки.
Так, нелепо прервана жизнь замечательной русской девушки-патриотки Варвары Васильчиковой («Наезды», 1831); трагически гибнет мужественная и «прекрасная незнакомка» из повести «Красное покрывало» (1831); повесть «Латник» (1832) – это целый ряд печальных историй о разбитых мечтах хороших, достойных счастья людей; трагичны судьбы капитана Правина и княгини Веры («Фрегат „Надежда“», 1833). С глубокой скорбью на челе погибает Коралли («Следствие вечера на Кавказских водах»), страшна гибель Аммалат-бека, трагична судьба Мулла-Нура – героев одноименных кавказских повестей. Истинным драматизмом проникнута лирическая повесть «Он был убит» (1835–1836).
Драматическая острота повестей Бестужева усиливается часто используемым автором фантастическим элементом, особым «кладбищенским» колоритом («Вечер на Кавказских водах в 1824 году» (1830), «Страшное гаданье» (1831), «Красное покрывало» (1831)).
Правда, среди повестей Бестужева 1830-х гг. есть и такие, в которых рассказывается о благополучных судьбах («Испытание» (1830), «Лейтенант Белозор» (1831), «Мореход Никитин» (1834)). Но эти произведения, обращенные, как правило, к прошлому, не определяют основного пафоса творчества Бестужева 1830-х гг., хотя и представляют собою значительный интерес для исследователя.
Говоря о поэтах, близких ему в 1830-е гг., Бестужев чаще всего называет Байрона и Гюго. Особенно дороги Бестужеву произведения швейцарского, наиболее драматического периода жизни великого английского поэта. О своем внутреннем мире Бестужев пишет 16 декабря 1831 г. Н. А. и К. А. Полевым: «…прочтите „The Darkness“ Байрона, и Вы схватите что-то похожее на него…» (наст. изд., с. 507). «The Darkness» – одно из самых безотрадных произведений Байрона, говорящих о трагической судьбе человечества в его настоящем и грядущем. Близок Бестужеву и «Манфред» – центральное произведение швейцарского периода. Здесь русского писателя-декабриста волновала идея борьбы человека с судьбой, борьбы героической и мужественной, хотя и обреченной. Одновременно «Манфред» не мог не привлечь Бестужева своей переоценкой просветительской философии.
Разочарование Байрона в просветительстве было глубже и универсальнее, чем у русского писателя-декабриста, который в определенной мере сохранил просветительские позиции до конца жизни.
Но и Бестужев, переживший крушение многих надежд, утверждает нечто весьма близкое байроновскому герою в письме к Н. А. Полевому от 23 апреля 1831 г.: «…я слишком верил силе разума <…> и решение задачи не оправдало данных. Это изменило образ моего воззрения на пороки и доблести, на злобу и доброту…» (наст. изд., с. 498; курсив наш. – Ф. К.). Бестужев с восторгом говорит о таких произведениях Н. А. Полевого, как «Блаженство безумия» и «Художник», главный пафос которых выражен в приведенных Полевым известных словах Шекспира:
Есть многое в природе, друг Горацио,
Что не снилось вашим мудрецам!.
Эти же слова Бестужев вкладывает в уста одного из наиболее «загадочных» героев типичной для его творчества 1830-х гг. повести «Вечер на Кавказских водах в 1824 году». Не рационалистически ясным, как это было в большинстве повестей 1820-х гг., а клубком неразрешимых противоречий представляется Бестужеву сознание человека.
Отказываясь от веры в просветительское всесилие разума, романтики апеллируют к психологии человека, к субъективному восприятию, рассматривающему весь мир относительно себя. «Наука поэта не книги, не люди, но собственная душа его, – говорит один из интереснейших романтиков 1830-х гг. В. Ф. Одоевский, – книги и люди могут лишь ему представить предметы для сравнения с тем, что находится в нем самом…». «Две только драгоценности вынес я из потопа, – пишет Бестужев Н. А. и К. А. Полевым 16 декабря 1831 г., – это гордость души и умиление перед всем, что прекрасно. Чуден стал внутренний мир мой…» (наст. изд., с. 507). «Не в других, в самих себе должны мы искать точку опоры…» – говорит он в письме из Дербента Н. А. Полевому от 23 апреля 1831 г. (наст. изд., с. 497).
Проблема личности становится альфой и омегой эстетики романтизма 1830-х гг.; такого колоссального значения ни для декабристов, ни для идеалистов-романтиков, сформировавшихся в 1820-е гг., она не имела.
В 1830-е гг. под влиянием пережитой декабристской катастрофы и новых жизненных обстоятельств Бестужев вносит в трактовку проблемы личности некоторые существенные коррективы.
Как и многие его современники, писатель-декабрист стремится от абстрактно-философского понимания личности перейти к ее исторически детерминированному осмыслению.
Протестуя против дегероизации личности, Бестужев настаивает на сложности человеческой натуры. По-новому ставится проблема личности и народа, осуждается индивидуализм и произвол. Прославляя деятельное волевое начало в человеке, Бестужев в 1830-е гг. связывает его с высшей духовной деятельностью личности. Отсюда обязательный для произведений последекабристского периода интеллектуальный герой.
Вместе с тем нужно напомнить, что хотя герой, созданный романтиками, в большей мере соотнесен с окружающим его миром, чем герой сентиментальной литературы, на нем также лежит печать субъективизма. Тщательно выписанный Бестужевым внешний мир, черты местного колорита, окружение героя конкретным национально-этнографическим историческим материалом не определяют собою характера героя, который создается исключительно воображением художника, т. е. субъективно.
Взгляд на человека как на продукт истории принесут с собою реалисты, которые и смогут последовательно решить проблему индивидуальной психологии, лишь декларируемую романтиками.
Субъективизм характеров, созданных романтиками, отрыв героев от конкретной исторической и социальной почвы накладывал на них печать однообразия, повторяемости одних и тех же «определяющих» черт. Это характерно не только для героев Бестужева, но и Байрона и Лермонтова. Романтический герой соотнесен с целым миром, но отнюдь не обусловлен конкретной социально-исторической средой.
Проблема характера, решаемая Бестужевым с романтико-идеалистических позиций, имела прямой выход в жизнь, была связана с глубокими раздумьями передовых русских людей 1830-х гг. над вопросом о том, как человеку вести себя и как ему действовать в условиях страшной николаевской реакции.
Одной из важнейших историко-философских проблем, тесно связанной с этическими вопросами, перед трудностями решения которой были поставлены русские люди 1830-х гг., явилась проблема соотношения исторической причинности и свободы действия отдельного индивида. Это один из центральных вопросов философии на протяжении многих веков. Ж.-Ж. Руссо в противоположность механическому материализму XVIII в., абсолютизировавшему детерминизм личности, именно в свободе естественного, нравственного чувства видел стимул общественной деятельности личности. В дальнейшем в немецкой классической философии эта проблема потеряет свою политическую остроту, но зато постепенно обретет более последовательное теоретическое решение. И. Кант с позиций свойственного ему дуализма утверждал, что «между областью понятий природы, как областью чувственного, и областью понятия свободы, как областью сверхчувственного, открывается необозримая пропасть…». Тем не менее Кант связывает внутреннюю свободу со сверхличным миром, признавая ее высшей духовной деятельностью человека и даже абсолютизируя ее значение. Объективный идеалист Ф. Шеллинг считал духовную, интеллектуальную деятельность человека преобразующей силой, в принципе свободной от всякой причинной связи, а также от власти времени. В философии Шеллинга русским романтикам 1830-х гг. была дорога не только идея развития, но и мысль о субъекте, чья деятельность должна была решительно противопоставить себя феодальному немецкому обществу. Сам Шеллинг, вспоминая революционизирующее влияние немецкой классической философии, писал: «Прекрасное было время, когда возникла эта философия <…> благодаря Канту и благодаря Фихте человеческий дух был раскован, считал себя вправе всему существующему противополагать свою действительную свободу и спрашивать не о том, что есть, но что возможно».
Учение немецкой классической философии о высшей духовной деятельности человека как основе проявления его свободной воли в условиях политического террора и подавляющего личность нравственного гнета превращалось в активное средство освободительной борьбы. Поставив перед человеком огромные общественные задачи, русские романтики 1830-х гг. должны были глубоко проникнуть в сущность философской проблемы личности. Вопросы о смысле и назначении человека, о мере его ответственности за все происходящее, об истинных и ложных убеждениях – эти и многие другие вопросы, связанные с проблемой личности, становятся центральными для философских кружков Станкевича и Герцена, для Чаадаева и Лермонтова. Этими же вопросами жил и Бестужев 1830-х гг., насыщая ими свое творчество последекабристской поры. В эстетическом фрагменте Бестужева «О романтизме» ощутимо воздействие немецкой идеалистической философии.
Многие положения эстетики Бестужева, в частности его определение романтизма как «стремления бесконечного духа человеческого выразиться в конечных формах» (11, 164), несут на себе следы влияния Шеллинга. О своем согласии с последним он пишет, например, в письме к К. А. Полевому от 28 июля 1832 г.: «Уж если верить гипотезам, то Велланский, последователь Шеллинга, всех правдоподобнее, хотя закутан в шубу едва понятных эпитетов. Давно пора бы бросить материализм сил природы, но привычка не хуже зелена вина, так и тянет к матушке-грязи». Самое главное, что импонировало писателю в немецкой идеалистической философии, так же как Н. В. Станкевичу, П. Я. Чаадаеву и другим русским людям 1830-х гг., это мысль о свободной духовной деятельности человека, противостоящего антагонистическому обществу. Бестужев прославляет деятельное, волевое начало в человеке. Он пытается определить внутреннюю связь между его мыслью, волей и деятельностью. Идея, мысль представляет ценность в глазах Бестужева не сама по себе, а как основание для жизненного действия. Так же как впоследствии Лермонтов, Бестужев отрицает отвлеченную мысль, которая не переходит в действие: «Что такое воля, как не мысль, преходящая в дело? Потому-то существо, одаренное мыслию, стремится чувствовать, познавать и действовать». И в другом месте: «Теперь обратимся к обнаруженной воле, т. е. действию…». Именно отношением к действию определяется значение воли для Бестужева. В основе волюнтаризма Бестужева – оптимистическая вера в силы человека, в способность его к совершенствованию.
Деятельность человека, с точки зрения Бестужева (так же как у Станкевича), пронизана пониманием того, что «личное благо каждого основано на непременном благе общем…», стремлением к добру, «ибо для чего иного, как не для достижения собственного или общего блага, покидает человек покой бездействия?». Активность человека и должна быть направлена к достижению общего блага.
Вот почему сосредоточение на нравственно-психологических вопросах, к чему призывает Бестужев в духе требований времени, вовсе не означало собою ухода от общественных проблем. Сфера нравственной философии в 1830-х гг., как указывалось, была важнейшей для решения насущных общественных вопросов. Только в этом смысле нужно понимать цитировавшееся выше утверждение Бестужева: «Не в других, в самих себе должны мы искать точку опоры…». Уход в себя для Бестужева связан с проблемой самопознания, ставшей серьезнейшей общественной проблемой времени, когда именно деятельностью свободной воли человеческой определялись главные надежды на изменение жизни, на переделку мира.
Необходимо отметить, что мысль Бестужева о суверенности личности в 1830-х гг. все теснее связывалась в его сознании с нравственно-философскими основами христианства. Говоря о Библии, мир которой «ожил под кистью Рафаэля, под пером Мильтона, отразился во всем и везде» (11, 186), метафорически ярко излагая наиболее драматические эпизоды Евангелия, где высоко опоэтизированы «изгнанные правды ради» (здесь безусловно угадывается аналогия с осужденными декабристами), Бестужев подчеркивает, что истинное понимание свободы и добра прежде всего опирается на веру.
Бестужев, как указывалось выше, пересматривал наивные просветительские представления о жизни и человеке, взгляд на человека у писателя-декабриста в 1830-е гг. значительно усложнился. Однако при всем этом Бестужев никогда, даже в самых трудных обстоятельствах, не отказывался от глубокой веры в человека. Просветительство органично входило в романтическую эстетику Бестужева.
Через все его письма из Сибири и с Кавказа проходит красной нитью вера в человека. 23 апреля 1831 г. он пишет Н. А. Полевому: «…я не разлюбил человечества и теперь…». И несколько ниже: «Мне кажется и верится, что все благое, изящное, великодушное есть ум, есть просвещение» (наст. изд., с. 497, 498). В ответ на письмо-исповедь Н. А. Полевого от 25 сентября 1831 г., в котором издатель «Телеграфа» выразил крайне скептическое отношение к людям, Бестужев пишет 16 декабря 1831 г. Н. А. и К. А. Полевым: «Я счастливее Вас и в этом преддверии ада, в котором маюсь, ибо знаю людей, для коих падение стало вознесением. О, какие высокие души, какое ангельское терпение, какая чистота мыслей и поступков! <…> Вы помирились бы с человечеством, если бы познакомились с моим братом Николаем… такие души искупают тысячи наветов на человека» (наст. изд., с. 508).
Таким образом, в фокусе общественных и эстетических воззрений Бестужева находилась проблема человека, его нравственных возможностей, духовной силы. Свою веру в человека, как показывают его письма, Бестужев черпал из самой действительности. Современная ему Россия, Россия 1820-1830-х гг., давала немало примеров нравственной силы, высоты духа человека, сопротивляющегося враждебным обстоятельствам и способствующего, следовательно, развитию общественного прогресса. Таким человеком был и сам Бестужев. Это очень хорошо выразил в письме к матери сраженный вестью о гибели писателя-декабриста его брат Николай: «…поставленный судьбою в положение самое трудное для сил человека, и моральных и физических, он силою ума и твердостию поведения одержал совершенную победу над удручавшими его моральными обстоятельствами: под чужим именем сделал себе имя <…> в изгнании сделался любимцем публики…». Бестужев и Чаадаев, Герцен и Белинский, Лермонтов и Станкевич – все это яркие примеры той высшей духовной деятельности личности, огромное значение которой не переставали утверждать романтики. Исходя из важнейшей для него теоретической посылки о свободной воле человека как об основе его активного отношения к жизни, Бестужев резко осуждал (так же как Станкевич, Чаадаев, Лермонтов) фатализм, индифферентизм, равнодушие. В повестях Бестужева последекабристской поры остро ставится проблема поведения человека, его отношений с другими людьми, вопрос об убеждениях.
Как видим, представления Бестужева о человеке, во многом отразившиеся в статье «О романтизме» и письмах конца 1820-1830-х гг., формировались в русле передовой общественной и философской мысли. Сближение с действительностью и народом, изучение трудов буржуазных историков, определенное влияние немецкой философии – все это способствовало воплощению в его творчестве 1830-х гг. демократического общественно-эстетического идеала. Вместе с тем выработанная Бестужевым в течение 1830-х гг. концепция личности не отличалась диалектическим единством и последовательностью мысли. С одной стороны, преодолевая рационализм мышления XVIII в. и обращаясь с глубоким интересом к изучению истории, Бестужев утверждает связь человека с народом, национальной жизнью, отстаивает идею закономерности и единства исторического процесса. С другой стороны, для писателя характерно идеалистическое понимание исторического развития как преимущественно нравственного, как развития абстрактного «духа народа». С одной стороны, он резко осуждает фаталистические теории и утверждает активность человека, с другой – разделяет идеалистическое представление о высшей духовной деятельности человека как выражении сверхличных сил, постулируемых за пределами действительности.
Как будет показано ниже, эта внутренняя противоречивость концепции личности у Бестужева во многом определила и характер жанра его повестей 1830-х гг.
Повести Бестужева 1830-х гг. представляют собою несравненно более сложный мир, нравственный, философский, эстетический, чем ранние его произведения. Центральной в этих повестях («Испытание», «Вечер на Кавказских водах в 1824 году», «Страшное гаданье», «Латник», «Фрегат „Надежда“», «Он был убит») является проблема личности.
Одно из наиболее характерных произведений Бестужева этого времени – большая повесть 1833 г. «Фрегат „Надежда“». Герой повести капитан Правин – отважный моряк, сросшийся с бурями и ветрами, человек, наделенный огромной волей и кипучими страстями. Это ярко выраженный тип бестужевского положительного героя, на каждом поступке которого лежит печать незаурядности: «Природа, как говорит Шекспир, могла бы указать на него пальцем и сказать: „Вот человек!“» (наст. изд., с. 411).
В повести Бестужева содержатся глубокие раздумья о судьбе русского дворянства последекабристской поры. «Век наш, – пишет с горечью автор, – истинный Диоген: надо всем издевается. <…> и потом освистывает Платоново бессмертие, и потом с циническим бесстыдством хвастает своею наготою» (наст. изд., с. 433). Предвосхищая публикацию чаадаевского «Философического письма» и некоторые мотивы лермонтовской «Думы», Бестужев с горечью говорит о «падении нравственном» его современников, о потере ими высокого идеала: «Мы достигли до точки замерзания в нравственности: не верим ни одной доблести, не дивимся никакому пороку» (там же) (ср. «Новый год» В. Ф. Одоевского).
Вскормленный идеологией декабризма, Бестужев протестует против дегероизации личности. Он убежден, что среди современного ему поколения есть настоящие люди, «высокие души», чья деятельность служит общественному прогрессу, обновлению жизни. Своим апатичным современникам Бестужев противопоставляет Правина как волевого, деятельного человека с беззаветной верой в добро. Таких, как Правин, говорит автор, немного, но они есть, и в этом залог возрождения: «Есть еще избранные небом или сохраненные случаем смертные, которые уберегли или согрели на сердце своем девственные понятия о человечестве и свете. <…> Таков был Правин» (наст. изд., с. 433). Правин резко противопоставлен окружающему его обществу. Очень много для характеристики идеального героя Бестужева дает его глубокое чувство любви к Вере.
Конфликт повести – в столкновении свободной человеческой морали и светской, условной, рабской, в результате которого в трагической борьбе за свое счастье герои гибнут. Но это только внешняя сторона. Романтический, идеальный герой Бестужева поставлен в такие сложные условия, в каких никогда не был раньше. Причиной гибели героя послужили его собственные, ставшие для него роковыми ошибки. В них – трагическая вина Правина. Необузданная воля и свободолюбие героя Бестужева очень часто оборачиваются произволом, крайним индивидуализмом, идут в ущерб долгу, службе, окружающим его людям. Для Романа Ясенского («Роман и Ольга») чувство к Ольге и великая любовь к родине слились воедино. Ни один раз, ни единым поступком или помышлением он не изменяет своему гражданскому долгу; любовь его, романтически возвышенная, вместе с тем разумна. Иначе у Правина. Он, мужественный человек, пламенный патриот, «утопил в своей привязанности все другие заботы» (наст. изд., с. 463). Он, капитан, бросает корабль в опаснейший для него и экипажа момент, становится причиной гибели замечательных людей, погибает сам и обрекает на нравственные и физические страдания любимую женщину. Любовь Правина к Вере – страшная, неодолимая, почти иррациональная сила.
Автор и поэтизирует ее, и осуждает, как эгоистическое, гибельное чувство: «Ты моя! Вера моя! Что ж мне нужды до всего остального, – пускай гибнут люди, пускай весь свет разлетится вдребезги! Я подыму тебя над обломками…» (наст. изд., с. 470). И хотя такое настроение у героя кратковременно, оно гибельно.
Судьей Правина выступает «достойный солдат и прекрасный человек» Нил Павлович Какорин. Подобно Максиму Максимычу из «Героя нашего времени», он не в силах разобраться в сложной борьбе страстей, происходящей в душе Правина, но, основываясь на житейском опыте, тщетно стремится вразумить своего друга. «Я предсказывал тебе, – говорил он не раз, – что, кто начнет кривить против долга честного человека, против связей общества, тот, конечно, не минует забвения обязанностей службы» (наст. изд., с. 463; курсив наш. – Ф. К.). Но страшнее всего для Правина суд собственной совести. «И я, преступник, – вскричал он <…>, – я, который <…> погубил любимую женщину, обидел друга, запятнал русский флот, утопил шестнадцать человек, для насыщения своей прихоти, – и я-то думаю жить! Нет! Я не переживу ни своей чести, ни своей души; я не хочу, я не должен существовать» (наст. изд., с. 477).
С образом Правина в повести связан очень важный, как указывалось, для русской жизни и русской литературы 1830-х гг. вопрос о свободе и необходимости, т. е. о границах личной свободы.
Ужасный поступок Правина получает в повести не односложную отрицательную оценку, а обретает глубоко противоречивый смысл. Зло в Правине, несмотря на свою гибельность, было вместе с тем проявлением его бунтарства против «естественного порядка», своеобразным выходом его деятельной, кипучей энергии, актом высокой душевной устремленности, в котором обнаружил себя сверхличный потенциал героя-избранника.
Глубокий внутренний конфликт повести «Фрегат „Надежда“» определяется не традиционным противопоставлением добродетели и злодейства, а борьбой добра и зла в душе самого героя. Пытаясь объяснить противоречивость сознания и поступков Правина, автор ставит вопрос, оказавшийся для его творчества 1830-х гг. важнейшим: «Но существует ли в мире хоть одна вещь, не говоря о слове, о мысли, о чувствах, в которой бы зло не было смешано с добром!» (наст. изд., с. 483; курсив наш. – Ф. К.). Эта мысль, многократно варьируемая Бестужевым, настойчиво повторяется Лермонтовым и его героями. «Что такое величайшее добро и зло? – спрашивает Лермонтов в „Вадиме“. – Два конца незримой цепи, которые сходятся, удаляясь друг от друга» (Л, 4, 36–37), а в стихотворении «1831-го июня 11 дня» пишет: «Лишь в человеке встретиться могло священное с порочным. Все его Мученья происходят оттого».
В этом направлении развивается и художественное мышление Бестужева. Не достигнув лермонтовской диалектической глубины в раскрытии чувств своих героев, Бестужев тем не менее стремится представить их в сложной борьбе добра и зла.
Заметна также связь Бестужева и Лермонтова в постановке и решении проблемы характера в таких его повестях, как «Вечер на Кавказских водах в 1824 году» и «Следствие вечера на Кавказских водах». В центре их – проблема человека. Один из героев повести «Вечер на Кавказских водах» – «молодой человек XIX столетия», представитель современного автору дворянского поколения, магистр Дерптского университета, «доктор трансцендентальной философии», противоречивый и сложный характер, напоминающий лермонтовского «странного человека». Полковник, человек положительный и трезвый, говорит о нем: «Недаром один шутник назвал его египетскою мумиею, набальзамированною романтизмом и испещренною иероглифами странностей…» (наст. изд., с. 136). Даже с внешней стороны эти странности у героев Марлинского и Лермонтова похожи:
Марлинский
Прекрасный малый, а пречудак племянник мой. Порою бегает по целым часам нараспашку или, как угорь, вьется по утренней росе; но когда ему вообразится, что он болен, чего не накутает на себя для прогулки в самый полдень!
(наст. изд., с. 136)
Лермонтов
Славный был малый, смею вас уверить; только немножко странен. Ведь, например, в дождик, в холод целый день на охоте. <…> А то другой раз сидит у себя в комнате, ветер пахнет, уверяет, что простудился.
(Л, 4, 189)
В исповеди героя «Следствия вечера на Кавказских водах», во многом напоминающей исповедь лермонтовского демонического героя, – попытка писателя раскрыть сложное становление его характера: «Из одной крайности бросился я в другую. Сперва считал людей лучше, нежели они могли быть, потом стал думать о них хуже, чем они есть. Я был их игрушкой, а потом сам начал играть ими. <…> Я нес навстречу красоте сердце, готовое любить бескорыстно, пламенно, готовое жертвовать всем на свете любви, и что же было мне ответом? Тщеславие, прихоти, измены! Боготворив женщин, я стал презирать их, я обратил в жертву моих идолов» (наст. изд., с. 175).
Решение Бестужевым 1830-х гг. проблемы характера явно происходило в процессе сложного отталкивания от просветительских воззрений. Он отказывается от прямой дидактичности, нравоучительности, свойственных его раннему творчеству. «Бросим же смешную идею исправлять словами людей: это забота провидения» (7, 146–147). Этот вывод автора означал нечто совершенно новое во взглядах писателя-декабриста, веровавшего ранее во всесилие слова, считавшего, что миром правит мнение. В «Страшном гаданье», еще одной, более ранней, повести Бестужева 1830-х гг., мы также находим характерную для всего его творчества (и для «Фрегата „Надежда“») апологию волевого, активного начала в человеке. Очень близкий автору герой повести, гвардейский офицер, осуждает пассивное отношение к жизни, созерцательную мечтательность.
Отличие «Страшного гаданья» от «Фрегата „Надежда“» в том, что если там Правин совершает роковые ошибки, то здесь автор, прибегая к фантастике, предостерегает от них героя. Во сне герой «Страшного гаданья» проделывает многое из того, что Правин совершает наяву.
Этот символический сон заставляет его отказаться от такого личного счастья, для которого забываются долг, чувство ответственности перед окружающими людьми, законы нравственности.
Сон героя – не только оправдание сильных страстей, как указывалось в исследованиях о Бестужеве, но и дискредитация субъективистского произвола в решении вопросов нравственности: «Это гаданье открыло мне глаза, ослепленные страстью; обманутый муж, обольщенная супруга, разорванное, опозоренное супружество <…> вот следствия безумной любви моей!!» (наст. изд., с. 372). Особенностью «Страшного гаданья» по сравнению с «Фрегатом „Надежда“» является то, что в своем отрицании субъективизма и индивидуализма автор черпает основные аргументы в фольклоре, народном предании, народной морали.
Новое представление о человеке, драматизация конфликтов, носящих не просто общественный, но и космический, универсальный характер, определили своеобразие жанра повестей Бестужева 1830-х гг. Рассмотренные выше повести представляют собою сложное соотношение объективного и субъективного, соответствующее противоречивой концепции личности у писателя.
Поставив в центр своего внимания проблему личности, Бестужев ищет такой жанровой структуры, которая бы в наибольшей мере могла воплотить ее решение. Поисками новой повествовательной манеры писатель озабочен уже в первом дербентском произведении «Испытание», которое по характеру своего построения во многом напоминает ранние «быстрые» повести. Здесь много недомолвок, загадочных сюжетных поворотов. Насколько позволяет судить рукопись произведения, эта загадочность сюжета вполне сознательно усиливалась писателем.
Многие из повестей 1830-х гг. отличаются от ранних произведений Бестужева сложной проблематикой и новым интеллектуальным героем, решающим большие философские и нравственные проблемы смерти и бессмертия, свободы и необходимости, характера деятельности человека и т. д. Интеллектуальная окраска свойственна уже «Испытанию». Внимательно относясь к характеристике своих героев, рассказчик обязательно останавливается на их воспитании, характеризует культурную среду, их взрастившую. Подчеркивается большая роль русской и мировой истории, философии, указывается круг чтения героев, которые размышляют о сущности человека (1, 8), о веке и его «причудах» (1, 48, а также: наст. изд., с. 433), о смысле и характере общественной деятельности (1, 50). Еще в большей мере интеллектуальный характер героев подчеркивается в более поздних светских повестях Марлинского – «Вечер на Кавказских водах в 1824 году», «Следствие вечера на Кавказских водах», «Латник», «Фрегат „Надежда“», «Он был убит» и др.
Поскольку герои произведений 1830-х гг. придерживаются различных мнений о важнейших философских, этических, общественных проблемах, постольку большую роль в повестях Бестужева играет спор. Герои «Фрегата „Надежда“» спорят о разуме и силе «животных привычек» (наст. изд., с. 437–438), герои «Свидания» (отрывка из романа «Вадимов») – о свободе воли и предопределении (наст. изд., с. 343). Постепенно преодолевая рационализм мышления, Бестужев стремится показать трудное рождение истины в споре, в борьбе противоположных мнений. Это в определенной мере разлагает монологическое единство его прозы, диалогизирует ее.
Целый ряд повестей Бестужева 1830-х гг. представляет собою цикл новелл, нанизанных на общий сюжетный стержень. Исследователи русской прозы неоднократно указывали на тенденцию к циклизации в литературе 1830-х гг. и связывали это с поисками путей к роману. В этом плане рассматривались такие повести Бестужева, как «Вечер на Кавказских водах в 1824 году», «Латник». Однако построение ряда повестей Бестужева 1830-х гг. как цикла новелл имело и другой смысл, отвечало стремлению писателя более полно, со всеми pro и contra поставить проблему философской сущности человека в его сложном отношении к реальному миру и провидению.
«Вечер на Кавказских водах в 1824 году», «Следствие вечера на Кавказских водах» строятся как очень продуманное сцепление таинственных новелл (с «тайнами объяснимыми и необъяснимыми»). Их по очереди рассказывают разные люди – драгунский капитан, артиллерист, гусар и другие. Уже в этом наличии многих рассказчиков со своими характерными особенностями, в соединении различных происшествий, не только дополняющих друг друга, но и поданных по контрасту, очевидно стремление писателя самой манерой повествования и сюжетосложения способствовать преодолению как мистико-идеалистических воззрений, так и рационалистической прямолинейности в раскрытии темы. Этому неизменно служило и то, что отдельные новеллы как бы прослоены диалогом-спором всех собравшихся, комментирующим услышанное. С этой же целью Бестужев широко использует фантастику. Он стремится с помощью сложного сплава фантастики, юмора, лирики преодолеть прямолинейный, однозначный взгляд на человека, с одной стороны, и дать целостное представление о жизни – с другой. Последнее достигалось также и посредством особой роли авторского слова у Бестужева.
Различные (очень не похожие друг на друга) рассказы-новеллы, обрамленные авторской речью, несут различный смысл, создавая как многообразие точек зрения на мир, так и некое художественное единство, выражающее мироотношение автора. Важной особенностью структуры романтической повести Бестужева 1830-х гг. является ее необычайно широкий ассоциативный фон: открытые прямые ассоциации, возникающие у героев, рассказчика-повествователя, скрытые и явные цитаты, реминисценции и т. д. Повести отличаются и удивительно широким историко-культурным контекстом: образы, связанные с античностью, средневековьем, Библией, европейским классицизмом и романтизмом, восточной культурой, русской историей и культурой. Широкий ассоциативный фон нес в себе потенциал романизации, позволял ощутить уже в 1830-е гг. движение писателя к роману как к жанру.
Мысль о написании романа не оставляла Бестужева на протяжении многих лет кавказской жизни. Возможно, что она возникла у него под влиянием Пушкина, который еще в своих письмах в 1825 г. настойчиво советовал Бестужеву обратиться к роману: «…да возьмись за роман – кто тебя держит. Вообрази: у нас ты будешь первый во всех значениях этого слова…» (24 марта 1825 г.); «…да полно тебе писать быстрые повести с романтическими переходами <…>. Роман требует болтовни; высказывай все начисто» (конец мая – начало июня 1825,г.); «Жду твоей новой повести, да возьмись-ка за целый роман – и пиши его со всею свободою разговора или письма…» (30 ноября 1825 г.) (П, 13, 156, 180, 245). Может быть, эти настойчивые уговоры Пушкина запали в душу Бестужева, но главное здесь в другом: Пушкин разглядел в природе писательского дарования Бестужева черты, свойственные романисту (свобода повествовательной манеры, дающей простор для широких ассоциаций, поэтическая изобретательность, яркий и свободный диалог, мастерство в передаче народных речений). Весьма возможно предположить, что непосредственным толчком к началу работы над романом явилось письмо от 19 января 1833 г., в котором К. А. Полевой сообщает Бестужеву следующее мнение о нем Пушкина (в связи с выходом первых пяти книжек «Русских повестей и рассказов»): «Соглашаюсь с Пушкиным, который сказал, что из живых писателей Бестужев теперь один романист в Европе. Пушкин повторил то, что говорил я самому себе много раз…».
Бестужеву, которому все теснее становилось в рамках повести, нужно было проделать свой путь к роману, приобрести собственный художественный опыт.
Первое упоминание о работе над романом «Вадимов» находим в письме от 2 февраля 1833 г. к К. А. Полевому: «С 1 февраля принялся за роман: канва в голове натянута: надобно изузорить ее получше. Когда кончу часть, пришлю на суд Ваш, а в ожидании доставлю, вероятно, отрывки для „Телеграфа“. Ждите, но не кляните». 9 марта Бестужев уверенно сообщает К. А. Полевому: «Недели через две получите отрывок из романа» (наст. изд., с. 522). В тот же день он пишет Н. И. Гречу: «…я задумал роман, и если Бог даст ума, а служба время, в этот год полип нашей словесности нарастет еще одним рогом» (наст. изд., с. 521), т. е. Бестужев полагал написать роман достаточно быстро, в течение одного года. Однако крайне неблагоприятные обстоятельства, преследовавшие писателя в 1833 г., выбили его из колеи, и дело с романом застопорилось. Уже 5 апреля 1833 г. он с тревогой говорит об этом К. А. Полевому: «…едва я пытнулся было на дельную вещь (роман), судьба одела меня грозовою тучей. Я не имею ясности духа вылить на бумагу, что кипит в душе, но это пройдет…». О том же он пишет 18 мая 1833 г. Н. А. Полевому: «О своем романе ни слова: враждебные обстоятельства мешают мне жить, не только писать» (наст. изд., с. 526). По собственному признанию в письме к К. А. Полевому от 5 апреля 1833 г., в романе «Вадимов» Бестужев хотел изобразить поэта, «гибнущего от чумы <…> который сознает свой дар и видит смерть, готовую поглотить его невысказанные поэмы, его исполинские грезы…». В центре романа, следовательно, образ поэта, близкого автору, его исповедь, страстная и откровенная: «Пусть не поймут меня, но я буду смел в этих безумствах». Однако Бестужев не мыслил себе романа без большого объективного материала. Об этом он пишет брату Павлу 20 мая 1833 г.: «Я начал писать роман, думаю, что удастся. для него необходим мне хоть небольшой, но подробный план Ахалциха и реляции о взятии. <…> Если были анекдоты, пришли все, что знаешь, с именами личностей».
Закончив в этом же году свою обобщающую литературно-критическую статью «О романе Н. Полевого „Клятва при гробе господнем“», в которой, как уже говорилось, он сформулировал обновленную концепцию романтизма, осмысленного на широком фоне мирового художественного развития, Бестужев стремился создать емкое, многоплановое и широкое полотно, пронизанное пафосом общечеловеческого. Поэтому, соглашаясь с мнением Г. В. Прохорова о близости лирической повести «Он был убит» к замыслу романа «Вадимов», нужно вместе с тем подчеркнуть, что сохранившиеся четыре отрывка романа («Осада», «Выстрел», «Журнал Вадимова» и «Свидание») свидетельствуют о достаточно осознанном жанровом мышлении писателя. Проявилось это прежде всего в многоплановости произведения. Если в типичной для 1830-х гг. повести «Фрегат „Надежда“» одна сюжетная линия – любовь Правина и княгини Веры, то четыре дошедшие до нас отрывка из «Вадимова» – эскизы различных сюжетных линий, структурно связанных между собою фигурой центрального героя и раскрывающих различные аспекты русской истории и современности.
Своеобразной экспозицией романа «Вадимов» является «Осада», центральное место в которой занимает герой Отечественной войны 1812 г., вольнолюбец и патриот – полковник Винградов. Встреча двух эпох и двух поколений – Винградова и Вадимова – важный момент в «Осаде». Эта тема находит свое развитие в «Выстреле», где историко-патриотическая проблема обретает сугубо эстетическую направленность. В определенной мере «Выстрел» – эстетический манифест писателя, где рассуждение о литографии, изображавшей «какую-то битву русских с турками в 1829 г.», дается на широком историко-культурном фоне, в перспективе развития мирового искусства. Античность, Вольтер, Лессинг, Шекспир, Данте, Байрон, Гете, мировая живопись, яркие эпизоды мировой и русской истории – все это входит в художественную ткань произведения, широчайший ассоциативный фон которого задуман как важнейший структурный компонент романа.
Третий и четвертый отрывки посвящены романтическому герою Бестужева, его страстям, исполинским грезам, деятельной натуре и трагической судьбе. В «Свидании» – философия любви, представленной в широком гносеологическом. плане. В «Журнале Вадимова» – философия искусства как важнейшая часть жизненной позиции героя, находящегося в экстремальных обстоятельствах: смертельная болезнь в «зачумленной» местности. Заметна определенная, может быть неосознанная, связь «Журнала Вадимова» с пушкинским «Пиром во время чумы».
В знаменитых болдинских произведениях Пушкина, о которых Бестужев знал по весьма сомнительным журнальным откликам, остро поставлена волновавшая писателя-изгнанника проблема свободы и необходимости. Особенно важно в этом отношении многосложное полисемантическое произведение «Пир во время чумы». Пушкин рисует предельно напряженную нравственно-психологическую ситуацию, в которой в прямом единоборстве столкнулись добро и зло, жизнь и смерть, гармония и хаос. Чрезвычайно важный для передовых русских людей 1830-х гг. вопрос о поведении человека в экстремальной ситуации – в основе пушкинского «Пира…». В гимне Вальсингама – центральной части произведения – не просто вызов смерти, но прославление отваги, той подлинно свободной человечности, которая, по убеждению поэта, бессмертна. Нравственное чувство людей, оказавшихся в зачумленной местности, духовное состояние человека перед лицом страшного катаклизма – главная линия «Пира во время чумы». В момент смертельной опасности человек с большой буквы обретает власть над обстоятельствами, получая от этого сознания подлинное наслаждение. Это и объясняет «упоение в бою», о котором говорит герой. Бестужев, находясь в смертельных сражениях на Кавказе, признается в том, что он испытывает в опасности «пропасть наслаждений» и намеревается написать о подлинном мужестве свободного человека, который презирает опасность во всех видах. Та же мысль выражена и в знаменитом гимне Вальсингама.
Бестужев в отрывках из романа «Вадимов» по-своему решает тему, поставленную Пушкиным: поведение героя в крайних обстоятельствах, проблема подлинной духовности человека, способного в труднейшей жизненной ситуации на свободный выбор. Отрывку «Журнал Вадимова» предпослана следующая ремарка: «Ахалцих. Чума. Вадимов заражен». Теперь взгляд поэта приобретает наибольшую остроту, а мысль – необыкновенную силу и широту обобщения. Ощущая упоение на краю бездны, Вадимов торопится сказать то, что не успел раньше, в своей поэме-завещании «Человечество», где в духе романтического историзма весь смысл человеческой истории видит в нравственном пробуждении человека, его свободной воли. Об этом же речь идет и в отрывке «Свидание»: «Но кто кует судьбу, как не мы сами!.. Наш ум, наши страсти, наша воля – вот созвездие путеводное, вот властители, планета нашего счастья!.. Не поклонюсь я этому слепому истукану <…> который изобрели злодеи, чтобы выдавать свои замыслы орудиями рока, и которому верят слабодушные, для того что в них нет решительности действовать самим». И далее поэт акцентирует внимание на аморальной природе фатализма: «Верить фатализму – значит не признавать ни греха, ни добродетели, значит сознаваться, что мы бездушные игрушки какой-то неведомой нам силы, что мы <…> перекати-поле, носимое по прихоти ветров! Это не моя вера…» (наст. изд., с. 343).
Основной завет русского романтизма следующему за ним реализму – нравственная суверенность человека, его личностная активность, благодаря которой он способен встать над обстоятельствами, существенно влиять на них. Именно в 1830-е гг. Пушкин, поднявшийся в своем художественном мышлении на новый уровень, оказывается, может быть, в наибольшей мере близок нравственно-философскому кодексу декабризма.
Следует отметить, что и понимание и поэтическое воплощение идеи нравственной свободы личности у Бестужева было, конечно, иным, чем у Пушкина. Бестужеву казалось, что эта идея вдохновляла Пушкина в его романтических поэмах и была особенно ярко высказана в его программном «Разговоре книгопродавца с поэтом», где поэт «кипит благородными порывами человека, чувствующего себя человеком» (11, 128–129). Иное, более глубокое и диалектичное, утверждение идеи суверенности человеческой личности в «Евгении Онегине» и «Борисе Годунове» уже было непонятно Бестужеву. Тем симптоматичнее точки соприкосновения между поэтами в 1830-х гг.
Трудно представить себе, как шла бы дальнейшая работа писателя над романом, но и сохранившиеся отрывки чрезвычайно интересны прежде всего тем, что в них формируется центральная для писателя философия личности, связывающая Бестужева с Пушкиным, Лермонтовым и Гоголем, а через них с магистральной линией русской литературы 1830-1840-х гг. Не случайно именно на незавершенный роман Бестужева как на литературный документ эпохи ссылаются многие исследователи русской литературы этого периода.
Эволюция романтизма Бестужева
Кавказские повести
Среди произведений Бестужева 1830-х гг. большое место занимают кавказские повести. Со времени выхода в свет «Аммалат-бека» (1832) имя писателя тесно связывается с Кавказом. В «Библиотеке для чтения» в течение ряда лет печатаются его «Кавказские очерки» (1834 – т. 6, 1835 – т. 12, 1836 – т. 15, 17), в том числе и незавершенное последнее кавказское произведение – повесть «Мулла-Hyp». Из тридцати произведений, написанных им после 1825 г., почти половина посвящена Кавказу. Здесь и наиболее пространные по широкому охвату этнографического, бытового материала романтические повести, и любимые Бестужевым путевые очерки, и лирические повести-монологи и т. д. Вслед за Пушкиным Бестужев выступает как певец Кавказа и его исследователь[331]
Одной из важнейших проблем, поставленных писателем в его произведениях 1830-х гг., является проблема национального характера. Она волновала Бестужева и раньше, в 1820-е гг., в период создания им «ливонских повестей» и повестей на материале русской истории. Но сейчас в самой постановке и решении этой проблемы появилась новая острота. Романтизм Бестужева в 1830-е гг. обогащается новыми чертами. Это, как мы видели, характерно и для так называемых светских повестей писателя, и для его кавказских произведений.
С первых же дней своего пребывания на Кавказе Бестужев, несмотря на невыносимо тяжелые условия жизни рядового солдата, внимательнейшим образом изучает быт народов Кавказа, их национально-историческое своеобразие, язык, поэзию, этнографию.
В свое время, в начале 1820-х гг., Кавказ дал благодарнейший материал для Пушкина, перед которым тоже стояла проблема национального характера. Теперь перед решением этой проблемы оказался романтик Бестужев. Не принимая пушкинского реалистического пути в искусстве, он в то же время вносит в трактовку личности нечто существенно новое по сравнению с романтизмом 1820-х гг.
Принимаясь за кавказскую тематику, Бестужев сознательно опирался на Пушкина и по-своему продолжил дело художественного познания Кавказа, начатое поэтом. В рассказе «Часы и зеркало» (1831) Бестужев пишет: «Пушкин приподнял только угол завесы этой величественной картины (Кавказа. – Ф. К.) <…> но господа другие поэты сделали из этого великана – в ледяном венце и в ризе бурь – какой-то миндальный пирог, по которому текут лимонадные ручьи!» (4, 152–153).
Бестужев призывает русских историков и литераторов, этнографов и философов приняться за глубокое изучение Кавказа: «Мы жалуемся, что нет у нас порядочных сведений о народах Кавказа… да кто же в том виноват, если не мы сами? Тридцать лет владеем всеми выходами из ущелий; тридцать лет опоясываем угорья стальною цепью штыков, и до сих пор офицеры наши вместо полезных или по крайней мере занимательных известий вывозили с Кавказа одни шашки, наговицы да пояски под чернью. <…> и между тем никакой край мира не может быть столь нов для философа, для историка, для романтика» (6, 167; курсив наш. – Ф. К.). С громадным интересом изучает он языки и наречия, стремится сблизиться с кавказцами, понять образ их мышления. Как свидетельствуют современники, автор «Аммалат-бека» был очень знающим кавказоведом. «Бестужев, – пишет в своих воспоминаниях Я. И. Костенецкий, – знал очень хорошо персидский и татарский языки, на которых говорил совершенно свободно; поэтому он был знаком почти со всем народонаселением Дербента <…>. С более образованными жителями он находился в самых дружеских отношениях, которые часто его посещали и всегда находили особое удовольствие в беседе с ним». Чем более основательно погружается Бестужев в новый для себя мир, тем все яснее осознает значительность и неизученность кавказского материала. В «Письме к доктору Эрдману» (1831) мы читаем: «Что сказать Вам о племенах Кавказа? О них так много вздоров говорили путешественники и так мало знают их соседи – русские» (3, 151).
Писать о Кавказе для Бестужева – это значит собрать «в один сноп рассеянные лучи познаний о народах, с коими теперь боремся» (6, 173).
Одно из интересных произведений Бестужева о Кавказе – «Рассказ офицера, бывшего в плену у горцев» (1831), состоящий из двух частей. Первая, написанная от лица издателя, является своего рода программой для каждого, кто пожелал бы взяться за кавказскую тему: «Писать о Кавказе дельно – надо знать грамоте не по палочкам…». Чтобы узнать горцев «на досуге и в обычном быту, нет иного средства, как изучить в совершенстве какое-нибудь горское наречие и проникнуть внутрь Кавказа под видом горца…» (6, 171). Герой «Рассказа» так примерно и поступает. Он изучает язык, быт и нравы народа, его этнографию. В результате – перед нами блестящий этнографический очерк, написанный с характерными для Бестужева живостью и остроумием. Здесь и бытовые анекдоты, в которых описывается жизнь горцев «на досуге», «дома», и рассказы об их удивительной боевой храбрости, ловкости в набегах, и чудесные приключения, случаи из военной жизни, и эпизоды, показывающие отношение горцев к религии, фольклору, а за всем этим – стремление сказать нечто новое о характере народа в целом: «Вопреки мнению многих, будто бы у народов полудиких нет иного подстрекания к войне и разбою, кроме добычи, слава для горца есть необходимость жизни. Быть известным храбрецом в селении, в долине, в целых горах, т. е. в его мире, есть высшая награда его трудов, его желаний. Желая стать сам предметом повестей у очагов, он набожно слушает рассказ о героях прежних веков или о молодечестве, о хитростях, об удачах наездников, недавних и современных. Слава простирает около богатыря очарованный круг безнаказанности; удальство – горская аристократия: мудрено ли, что каждый стремится завладеть ее выгодами? Их песни, их басни, их рассказы исполнены боевыми хитростями…» (6, 196–197).
Кавказские повести Бестужева, и в том числе «Рассказ офицера, бывшего в плену у горцев», интересны тем, что их автор-рассказчик лицо более сложное и многогранное, чем в ранних произведениях. Это писатель-исследователь, которого интересует все, начиная от мелких деталей быта горцев и кончая философскими проблемами истории народа. Так, рассказывая о жизни горцев, автор то и дело стремится к историко-философскому осмыслению материала, который излагает. Авторские раздумья занимают значительное место в повестях Бестужева. «Вообще мы, европейцы, всегда с ложной точки смотрим на племена полудикие, – пишет он, – То мы их обвиняем в жестокости, в вероломстве, в хищениях, в невежестве. Бог весть в чем! То, кидаясь в другую крайность, восхищаемся их простотой, гостеприимством – и не перечтешь какими добродетелями. То и другое напрасно. <…> Но судить их по себе <…> – великая ошибка». И далее – явно выраженное стремление Бестужева исторически подойти к кавказским народностям с точки зрения их места в общей истории развития человечества: «Мы давно отжили патриархальный век, и век кочеванья, и век разбоев… Мы обогатились опытностию целого человечества более или менее; напротив, они, гнездясь в горах недоступных, остались неподвижными на эпохе разбойничества, указанного им сначала необходимостию, потом привычкою…» (6, 188–189).
Однако автор-рассказчик не только ученый. Сквозь эту, казалось бы, нейтральную оболочку историка, этнографа, философа проступают конкретные автобиографические черты. Именно с автобиографической линией «Кавказских очерков» связан основной пафос этих произведений. Сам писатель, не уставая повторял, что «…книга и сочинитель – одно и то же лицо, только в разных переплетах» (10, 24). «Может быть, он (автор. – Ф. К.) вам наговорит с три короба чепухи о том, что было до него и при нем: умейте же из его слов извлечь признание, исповедь, завет того века, того народа» (курсив наш. – Ф. К.). И здесь же: «Ловите же его в такие проблески искренности: и с ним вместе вы поймаете целый невод его современников с ракушками и растениями его родины, его поры» (10, 24). Это интереснейшее признание Бестужева, благодаря которому как бы раскрывается главный шифр его произведений, а вместе с тем тот второй и важнейший личный план повествования, которым определялась уже не кавказская, а русская декабристская, или, вернее сказать, последекабристская, проблематика его творчества.
Свободолюбивая романтическая символика образа Кавказского пленника имела уже со времени пушкинских романтических поэм достаточно определенный общественно-эстетический смысл. Высоко оценив (как и другие декабристы) южные поэмы Пушкина, «напитанные свободолюбием», Бестужев в своем произведении, относящемся к началу 1830-х гг., казалось бы, сознательно идет от Пушкина, одновременно и сближаясь с ним, и отталкиваясь от него. Еще в повести «Часы и зеркало» Бестужев, как мы видели, заявил, что единственным его предшественником в кавказской теме, с которым нельзя не считаться, является Пушкин. Многое в южных поэмах, и в частности в «Кавказском пленнике», импонировало Бестужеву – и свободолюбие героя, и трактовка темы русско-кавказских отношений («Смирись, Кавказ: идет Ермолов»). При сравнении романтической поэмы Пушкина начала 1820-х гг. и романтической повести Бестужева 1830-х гг. бросается в глаза определенное сходство.
Герой повести Бестужева – русский офицер, попавший в плен к горцам. Он ловок, смел и отважен. Так же как герой «Кавказского пленника», он внушал горцам уважение к себе. Оба они тяготятся пленом, мечтают о родине, о свободе. Имеются точки соприкосновения и в сюжете произведения. Так, сходны те эпизоды обоих произведений, где рассказывается о встрече пленного русского с толпою любопытных горцев, о тяжелом пробуждении пленника в неволе, о его реакции на величественный кавказский пейзаж и т. д. Приведем некоторые из сходных мест (курсив наш. – Ф. К.).
Пушкин
И вдруг пред ними на коне Черкес.
Он быстро на аркане
Младого пленника влачил.
«Вот русский!» – хищник возопил.
Аул на крик его сбежался
Ожесточенною толпой.
<…>
Кругом обводит слабый взор…
И видит: неприступных гор
Над ним воздвигнулась громада
<…>
Воспомнил юноша свой плен
<…>
Затмилась перед ним природа.
Бестужев
Мы были встречены множеством любопытных с кликами и расспросами. Грозно смотрели на меня горцы из-под шапок <…> лица их сверкали дикою радостию.
(6,180)
Я только видел кругом себя цепь гор, истинную цепь, разлучающую меня со светом, с родиной, с свободой… У невольника нет очей на красоты природы.
Поутру мое пробуждение было ужасно… Мысль, что я невольник <…> как острие, проникла сердце…
(6,179,184)
Оба героя с большим интересом относятся к иноплеменному народу, внимательно наблюдают быт и нравы его. Проблема национальной культуры и национального характера, как уже отмечалось, была очень важной для Пушкина, подобным интересом он наделяет и своего героя:
Но европейца все вниманье
Народ сей чудный привлекал.
Меж горцев пленник наблюдал
Их веру, нравы, воспитанье,
Любил их жизни простоту,
Гостеприимство, жажду брани
<…>
Смотрел по целым он часам…
(П, 4, 99)
Повесть Бестужева широко развивает мысли, заключенные в этих стихах. Герой «Рассказа офицера, бывшего в плену у горцев» «по целым часам сиживал <…> у дымной сакли, любуясь новыми для меня картинами» (6, 195; курсив наш. – Ф. К.), он подробнейшим образом изучает быт и нравы горцев и гораздо подробнее и детальнее, чем Пушкин, рассказывает в них. Намеченное пунктиром у Пушкина получает дальнейшее развитие в описаниях Бестужева. Вот, например, как тот и другой говорят о «домашней» жизни черкесов, об их гостеприимстве:
Пушкин
Когда же с мирною семьей
Черкес в отеческом жилище
Сидит ненастною порой,
И тлеют угли в пепелище;
И, спрянув с верного коня,
В горах пустынных запоздалый,
К нему войдет пришлец усталый
И робко сядет у огня, –
Тогда хозяин благосклонный
С приветом, ласково, встает
И гостю в чаше благовонной
Чихирь отрадный подает.
(П,4,101–102)
Бестужев
Хозяин был богач между своими <…>. С утра до вечера низались к нему и от него гости, т. е. бедняки, охотники поесть… и всякого встречал привет у порога; за словом «садись» следовал вопрос: чем ты голоден? Это их выражение. Кто говорил «хлебом», тому давали чурека, кто просил мяса, тому баранины; людям попочетнее подносили и бузы.
(6, 186)
Приведенные сопоставления (во всех без исключения случаях) говорят не только об определенном сходстве произведений Бестужева и Пушкина, но и о серьезном различии между ними. Самый характер героев и их плена у Пушкина и Бестужева различный. Если смотреть с новых жизненных позиций людей 1830-х гг., ощущавших себя в страшном плену, то узничество, скорбь бестужевского героя безусловно оцениваются как совершенно безысходные.
Главная беда пушкинского пленника в разочарованности, байронизме, «преждевременной старости души» («хладный и немой», «страстями чувства истребя», «охладев к мечтам и лире», – говорится о нем). Герой Бестужева, напротив, полон жизни, деятелен, так же как герои лермонтовских кавказских поэм, «бешено гоняется за жизнью», но объективные обстоятельства вынуждают его на бездействие, на муки отчаяния. В словах бестужевского героя о том, что цепь Кавказских гор явилась для него «истинною цепью», разлучившей его «со светом, с родиной, с свободой», скрывалась глубокая скорбь осужденного декабриста, «пленного рыцаря». Каждое слово о неволе у героя «Рассказа…» обретало трагедийное звучание: «Мысль, что я невольник <…> как острие, проникла сердце…». Ему совершенно чужда та достаточно спокойная созерцательность, равнодушие к своему положению, которые отличают Кавказского пленника Пушкина.
Иной, чем в поэме Пушкина, смысл обретает и тема родины, звучащая трагическим аккордом во всем творчестве Бестужева 1830-х гг. Чтобы подчеркнуть этот мучительный для писателя-изгнанника мотив тоски по родине, автор «Рассказа…» вводит встречу пленного офицера с русским беглым солдатом, который осужден судьбой на вечное изгнанничество: «…я спросил его, давно ли он в горах?
– Десять лет, – сказал русский.
Я вздрогнул…» (6, 181; курсив наш. – Ф. К.). И далее разговор с солдатом приобретает новую остроту, окрашиваясь дополнительным автобиографическим смыслом:
«– И ты, живучи так близко к границе, не нашел случая избавиться от плена? – был вопрос мой.
– Я и не искал его… я беглый солдат. <…>
Беглец закрыл лицо руками… но слезы капали между пальцев. Наконец он поднял голову.
– Слезами не купить прошлого <…> Тяжко на чужбине, а в родину запала мне дорога. <…> Не побоялся бы я пройти сквозь строй, если б мог после того положить свои кости на родном кладбище! да не бывать этому…» (6, 182).
Романтический герой Бестужева преодолевает иллюзии, свойственные пушкинскому романтическому герою. Если первая часть «Рассказа офицера, бывшего в плену у горцев» (1831) – «Койсубулинцы» напоминает, как указывалось выше, пушкинского «Кавказского пленника», то вторая – «Богучемоны» имеет нечто общее с «Цыганами».
Герой ее попадает к дикому кавказскому племени, влюбляется в дочь гостеприимного богучемона Гайдара красавицу Шалиби, но далек от мысли идеализировать этот мир, где люди живут в полутьме, едят, подобно зверям, сырое мясо, верны законам кровавой мести: «Три дня провели мы между этими детьми природы, не знающими никакого начальства и поэтому никакого властолюбия; чуждыми почти всех страстей, всех пороков общества, не знающими зато никаких его выгод; между людьми, так сказать, не покинувшими еще животного состояния: это была олицетворенная утопия Жан-Жака, только грязная, ненарумяненная, нагая» (6, 215; курсив наш. – Ф. К.).
Бестужев отвергает наивный, облегченный руссоизм. Пафос его рассказов о Кавказе – пафос борьбы, просвещения, общественного прогресса. С особенной силой это проявится в наиболее ярких романтических повестях о Кавказе – «Аммалат-бек» и «Мулла-Нур».
Кавказские произведения Бестужева отличаются необычной жанровой пестротой: здесь и лирические очерки-монологи, главное в которых субъективное философско-лирическое начало («Прощание с Каспием» (1834), «Путь до города Кубы» (1836)), здесь и строго объективные этнографические очерки и рассказы, рисующие яркие картины национальной жизни, нравы и обычаи народа («Шах Гусейн» (1830)) или ориентированные на передачу конкретного «случая из жизни» («Подвиг Овечкина и Щербины за Кавказом» (1825–1834)).
В повестях Бестужева «Аммалат-бек» и «Мулла-Hyp» в сложном художественном вымысле писателя объединяются эти две линии – субъективная и объективная. Обе они, органически входя в художественную структуру сюжета, композиции, служат наиболее полной характеристике героя.
Центральное произведение о Кавказе, повесть «Аммалат-бек» (1832), относится к числу произведений Бестужева, привлекших к себе наибольшее внимание исследователей. Это объясняется яркостью и оригинальностью образов горцев, насыщенностью произведения новым очень интересным для русского читателя 1820-1830-х гг. кавказским материалом, напряженным драматизмом повествования, постановкой острых вопросов современности.
Тем не менее повесть оставалась недостаточно изученной. Это объяснялось неисследованностью интересных архивных материалов, хранящихся в Рукописном отделе Российской Национальной библиотеки, где находятся не только беловой автограф, но и значительные отрывки черновой рукописи «Аммалат-бека». Анализ этих материалов позволяет сделать ряд наблюдений о том, в каком направлении шла творческая работа писателя, и представить себе принципы работы Бестужева над теми реально-историческими источниками повести, которые указывались исследователями.
Проблема характера, поставленная в национально-историческом плане и являющаяся частью проблемы личности, важнейшая в повести. В отличие от ранних романтических повестей, в которых историко-культурный антураж играл декоративную роль, сейчас Бестужеву принципиально важен исторический и национальный колорит. Писатель стремится понять, как формируется характер человека в связи с историей, с особенностями национальной культуры.
Этот важнейший для творчества Бестужева 1830-х гг. вопрос был поставлен не только в результате определенного сближения с действительностью, но и пристального внимания к новейшим открытиям исторической науки и художественной литературы. Взгляды Бестужева формировались под влиянием прогрессивных идей новейших европейских и русских историков. «Письма об истории Франции» и «История завоевания Англии норманнами» О. Тьерри, с одной стороны, и западноевропейский (английский и французский) роман – с другой, оказали значительное воздействие на художественное творчество Бестужева 1830-х гг. Установив тесные контакты с братьями Полевыми, Бестужев систематически получал почти всю лучшую литературу своего времени. Его снабжают не только наиболее интересными журналами 1830-х гг. (Бестужев внимательно изучает «Московский телеграф», читает «Телескоп», «Атеней», «Библиотеку для чтения» и другие журналы). С неподдельным интересом следит он за весьма популярными в России 1820-1830-х гг. трудами А.-Г.-П. Баранта, Ф. Гизо и особенно О. Тьерри. Труды Тьерри и других историков эпохи Реставрации, в которых предпринимается попытка наиболее полного и объективного для своего времени изучения истории народа, в которых используются широкие и разнообразные исторические источники и особенное значение приобретают понятия «национальных и исторических особенностей народа», «своеобразия эпохи», оказали большое влияние на Бестужева-писателя, явились для него своеобразной школой романтического историзма. Тьерри был историком-художником, обладавшим прекрасным повествовательным слогом, впервые введшим в научный оборот широкие летописные, фольклорные источники, яркие этнографические материалы.
История народа для Тьерри – это не только история победителей и завоевателей, но и в огромной мере история побежденных, оказавших значительное влияние на общую культуру многих стран. Создавая свою «Историю завоевания Англии норманнами», Тьерри с большим интересом и вниманием исследовал англосаксонскую расу, ее многочисленные племена, их быт и нравы, «…я полагал, – писал Тьерри, – сделать нечто действительно полезное для науки построением <…> истории валлийцев, ирландцев чистой породы, бриттов и норманнов материка, а в особенности многочисленного народонаселения, обитавшего и обитающего доселе в южной Галлии между Лаурой, Роной и двумя морями».
В «Истории завоевания Англии норманнами» Тьерри использовано множество народных англосакских, норвежских, датских песен. Это и народная песня англосаксов о брунанбургской победе, и великолепная «Смертная песнь» Рагнара Лодброга, одного из «морских королей», исполненная «живым военным и религиозным фанатизмом, которым в IX веке так ужасали датские и норманнские викинги».
Видя в изучении колорита местных культур важнейшее средство познания и изображения прошлого, Тьерри с восторгом говорил о гениальном В. Скотте, которого он считал своим союзником.
Многое в «Истории…» Тьерри было близко Бестужеву. В своих произведениях на кавказскую тему он выдвигает на первый план исследование различных племен, их быта, нравов, наречий, фольклора. Так же как Тьерри, Бестужев, изображая русско-кавказскую войну, в большей степени интересуется историей побежденных, чем победителей.
В представлении романтика нравы народа неотделимы от его характера и страстей. Эта черта, важнейшая для западноевропейского исторического романа эпохи романтизма, была усвоена и русскими романтиками, среди которых первое место по праву принадлежит Бестужеву.
В статье «О романе Н. Полевого „Клятва при гробе господнем“» Бестужев очень высоко ценит В. Скотта прежде всего за его умение обрисовать нравы, поверья людей самой отдаленной эпохи. «Гений Валтер-Скотта, – пишет Бестужев, – угадал домашний быт и вседневный ум рыцарских времен…» (11, 200). Герои В. Скотта – «живые люди с их мелкими страстишками, с их поверьями, с их обычаями, с любимыми их приговорками» (11, 201). И далее: «…Валтер Скотт не романтик по предмету, но он романтик по изложению, по форме, по стерновскому духу анализа всех движений души, всех поступков воли» (11, 201). Признавая главным условием для писателя-романтика изображение характера (анализ движений души, всех волевых действий героя), Бестужев считает, что оно возможно лишь в сочетании с показом эпохи, нравов, местного колорита.
Можно с уверенностью сказать, что в 1830-е гг. Бестужев несравненно сознательнее воспринимает опыт В. Скотта. Речь теперь идет уже не о внешнем заимствовании, а о пристальном интересе к самой сути его художественной системы. В «Письме к доктору Эрдману» писатель высказал весьма любопытную мысль о том, что горцы ожидают «своею Валтер-Скотта» (3, 151; курсив наш. – Ф. К.). Несмотря на то что в повести «Аммалат-бек» нет внешних мотивов, ситуаций, непосредственно восходящих к произведениям шотландского романиста, как это было, к примеру, в «Ревельском турнире», кавказские повести Бестужева значительно ближе его «ливонских повестей» к эстетике исторического романа В. Скотта. Во-первых, это сказалось в стремлении осмыслить Кавказ в общей исторической перспективе развития человечества. Во-вторых, писатель стремится положить в основу произведения значительное историческое событие и рассмотреть его по возможности во всей сложности. Таким событием в «Аммалат-беке» является русско-кавказская война, противоречия которой сказываются на судьбах героев – Аммалат-бека и Селтанеты, Верховского и его невесты, Султан-Ахмет-хана и Сафира-Али. Автор стремится зайти к народу со стороны его «домашней» жизни.
Все приобретенные Бестужевым знания о Кавказе, разнообразные сведения по истории, фольклору, хорошее знание языков и местных наречий подчинены одной цели – понять и художественно осмыслить характер, быт и нравы нового для него восточного человека. «…горцы достойные дети Кавказа, – говорит он в письме Н. А. и К. А. Полевым от 16 декабря 1831 г. – Это не персияне, не турки. Сами бесы не могли бы драться отважнее, стрелять цельнее» (наст. изд., с. 509). Таков герой повести Бестужева – племянник тарковского шамхала Аммалат-бек. Появляется в повести он во время народного праздника как участник и блестящий победитель скачек и стрельбы.
Главная эстетическая задача писателя – показать характер кавказца в сложных столкновениях, в драматических коллизиях. Вместе с тем в повести поставлены некоторые общие вопросы, связанные с проблемой личности и имеющие большое значение для русского писателя последекабристской поры, вопросы, связанные с общественным, историческим, национальным детерминизмом личности (проблемы свободы и необходимости, разума и чувства и др.).
Аммалат еще юноша, его характер, на который наложил неизгладимый отпечаток Восток, находится в процессе становления. Им владеют самые противоречивые чувства – жестокость и великодушие, замкнутость и восторженность. Достаточно вспомнить два эпизода с конем. В первом случае рассвирепевший Аммалат убивает старого, честно и долго служившего ему коня только за то, что он утратил ловкость и не сумел перескочить барьер. Сколько ни просил Сафир-Али, молочный брат Аммалата, не мучить бегуна, Аммалат не внимал ничему и «так сильно ударил его рукоятью сабли в голову, что конь грянулся наземь без дыхания.
– Так вот награда за верную службу, – сказал Сафир-Али, с сожалением глядя на издохшего бегуна.
– Вот награда за ослушанье, – возразил Аммалат, сверкая очами» (наст. изд., с. 8).
Но в другом случае тот же Аммалат оплакивает гибель коня, не выдержавшего тяжелого горного перехода: «Молодой человек, казалось, был нечувствителен к боли: слезы его катились о павшем бегуне… <…>
– Ты уж не будешь носить меня как пух по ветру <…>. С тобой добыл я славу наездника; зачем же мне переживать и ее и тебя?!
Он склонил лицо в колена и долго, долго безмолвствовал…» (с. 18).
Две равновеликие силы борются за Аммалата. Верховский, русский полковник ермоловской закалки, просветитель, верующий в добро и людей, хочет воспитать Аммалата, сделать из этого незаурядного по силе, природному уму юноши настоящего человека. Второй силой является Султан-Ах-мет-хан, кровный враг русских, который стремится сделать Аммалата своим союзником в борьбе с «неверными». У каждого из претендентов на душу Аммалата есть свое, сильное оружие. Верховский спас Аммалата от верной смерти. Он умолил Ермолова простить Аммалата, которому за двойную измену русским грозила неминуемая гибель. Верховский полюбил Аммалата, отнесся к нему, как к брату, воспитывал и учил его. Но каких бы значительных успехов в воспитании и просвещении Аммалата ни достиг Верховский, у его идейного врага Султан-Ахмет-хана было свое несомненное преимущество. Он был отцом Селтанеты, которую молодой горец полюбил со всей страстью азиата.
Основная часть повести – это главы, в которых с разных сторон показано воспитание Аммалата, борьба за него, страстное стремление русского просветителя вырвать его из-под власти слепых, стихийных сил. Просветитель-гуманист Верховский борется за то, чтобы из Аммалата сделать не только верноподданного России, но и настоящего человека, в котором гармонически сочетались бы красота внешняя, физическая и внутренняя, духовная красота.
Проблема характера была центральной и в других повестях Бестужева 1830-х гг. («Вечер на Кавказских водах в 1824 году», «Страшное гаданье», «Фрегат „Надежда“» и др.). Романтические герои этих повестей, исполненные необузданных страстей, стоящие перед решением сложных философских проблем личности, похожи на героев повести, в которой эти проблемы решаются на кавказском материале.
Правда, Аммалат несет в себе специфические национальные черты. Эта сторона характера героя очень интересует автора. Много о ней рассуждает Верховский. «Трудно вообразить, еще труднее понять европейцу вспыльчивость необузданных или, лучше сказать, разнузданных страстей азиатца…» (наст. изд., с. 45); «Природа на зубок подарила ему все, чтоб быть человеком в нравственном и физическом смысле, но предрассудки народные и небрежность воспитания сделали все, чтоб изурочить, изувечить эти дары природы» (там же). Или: «Аммалат мой скрытен и недоверчив. Я не виню его. Я знаю, как трудно переломить привычки…» (наст. изд., с. 54). И далее следует пространный исторический очерк о том, как варварский деспотизм Персии, власть собственности самым пагубным образом отразились на характере человека, исказили его лучшие задатки (там же).
Но можно ли изменить веками сложившиеся привычки, ставшие «второй натурой», можно ли исправить человека, сознательно руководя его воспитанием? Это был очень важный вопрос, поставленный просветителями и Руссо, он горячо дебатировался (применительно к новым условиям) в социально-утопической французской литературе (К.-А. Сен-Симон, Ш. Фурье) и был чрезвычайно важным в условиях русской действительности 1830-х гг., в период напряженных поисков выхода из тупика, попыток переустройства жизни.
В одном из первых писем Верховский говорит своей невесте: «…я <…> начал перевоспитывать душу Аммалата. Выказываю, доказываю ему, что есть дурного в их обычаях, что хорошего в наших; толкую истины всеместные и всевечные. Читаю с ним, приохочиваю к письму и с радостию вижу, что он пристрастился к чтению и к сочинению» (наст. изд., с. 45; курсив наш. – Ф. К.). Вопрос о воспитании Аммалата настолько важен для писателя, что освещается в повести со всех сторон. Вводится дневник Аммалата – исповедь героя, помогающая увидеть его духовное развитие. «Так этот-то новый мир называется мыслию! Прекрасный мир! – записывает Аммалат. – Ты долго был для меня мутен и слитен, как Млечный Путь, который, говорят, составлен из тысячи тысяч сверкающих звезд! Мне кажется, я всхожу на гору познания из мрака и тумана… каждый шаг открывает мне зрение шире и далее… <…> Верховский не только манит меня к познанию, но дает и средства присвоить их. С ним, как с матерью молодая ласточка, пытаю новые крылья… <…> Придет пора, и я облечу поднебесье!..» (наст. изд., с. 46).
Забота Верховского приносит много пользы герою Бестужева. Аммалат учится владеть собою. В ответ на мольбы горячо любимой Селтанеты предать русских и остаться в горах он говорит о своих обязанностях, о долге. Перед нами явное стремление писателя усложнить психологию героя, осознавшего чувство благодарности и долга, подчеркнуть его духовный рост.
Если для Селтанеты «долг», «обязанность», «благодарность» – «золотошвейные слова» (наст. изд., с. 63), то Аммалат начинает уже понимать их сокровенный смысл: «Священный союз связывает меня с русскими, и, покуда хан не примирится с ними, явный брак с тобою мне невозможен… и не от русских, но от хана…» (наст. изд., с. 64).
Не менее горячо и убежденно спорит Аммалат с Султан-Ахмет-ханом:
– «Хан! ты знаешь, что не русская храбрость, а русское великодушие победило меня: не раб я, а товарищ их.
– Тем во сто раз хуже и постыднее для тебя! Наследник шамхалов ищет серебряного темляка, хвалится тем, что он застольник полковника!
– Умерь слова свои, Султан-Ахмет! Верховскому обязан я более чем жизнию, – союз дружбы связал нас! <…>
– <…> Ты не мулла, я не факир: я имею свои понятия о долге <…> честного человека.
– <…> В последний раз позволь спросить тебя: хочешь ли послушать советов друга, которого меняешь ты на гяура; хочешь ли остаться с нами навсегда?
– Жизнь бы свою отдал я за счастье, которое предлагаешь ты мне так щедро, – но я дал обет воротиться и сдержу его.
– Это решительно?
– Непременно» (наст. изд., с. 66–67; курсив наш. – Ф. А.).
По сравнению с черновым вариантом этот диалог значительно увеличен и заострен. Здесь Аммалат решительнее, смелее, убежденнее, его аргументация богаче и убедительнее, тема борьбы чувства чести и долга углублена и драматизирована.
Одновременно из спора Аммалата с Султан-Ахмет-ханом становится очевидным нравственное превосходство Аммалата перед своим оппонентом, превосходство, достигнутое, главным образом, просвещением. Не случайно в его лексике появляются слова, чуждые Султан-Ахмет-хану (с его инстинктивной жаждой мести и слепой ненавистью к русским): «союз дружбы», «долг честного человека», «обязанность», «благодарность». Однако драматическая коллизия повести заключается прежде всего в том, что неуправляемая натура человека в экстремальных обстоятельствах берет верх над всеми этими качествами, вновь обретенными Аммалатом при помощи его друга и воспитателя Верховского.
Благоприобретенная мудрость Аммалата оказалась непрочной. Стоило только Султан-Ахмет-хану пустить в ход коварные интриги и оклеветать Верховского, как от нее не осталось и следа: «Все, что доселе таилось в нем утешительного, благородного, высокого, – вспыхнуло вдруг и превратилось в пепел. <…> дикий зверь, которого держал в усыплении Аммалат, – сорвался с цепи…» (наст. изд., с. 72). Горячие просветительские надежды Верховского отступили перед темными необузданными силами человеческой природы, определенные стороны натуры оказались недоступными воздействию извне. В этом смысле и «Аммалат-бек», и другие повести 1830-х гг. – «Вечер на Кавказских водах в 1824 году», «Страшное гаданье», «Фрегат „Надежда“», несут в себе отрицание просветительской веры в исконно добрую природу человека, а вместе с тем и возможности рационального решения жизненных проблем.
Аммалат, как и герой «Фрегата „Надежда“», предвосхищает сложного демонического героя Лермонтова с его жаждой добра, с одной стороны, и обреченностью миру зла – с другой[332]. Вместе с тем в «Аммалат-беке» не отвергалась окончательно вера в просветительство как метод переделки мира и людей, а лишь усложнялось отношение к нему.
Идя от коренного положения романтической эстетики о характере как выражении сложной борьбы страстей, Бестужев неуклонно драматизирует и усложняет образ Аммалата. Герой Бестужева отнюдь не заурядный убийца, а трагическая фигура, жертва. Чтобы понять это, достаточно сравнить повесть «Аммалат-бек» с той реальной историей, которая положена в основу повести и была широко известна во времена Бестужева не только в Дербенте, но и в Петербурге.
Согласно преданию, Аммалатом от начала и до конца двигали честолюбие и необузданная корысть. На них была основана его «дружба» с Верховским, они же явились побудительной причиной его преступления. В повести же мы видим нечто совершенно иное. Личная корысть как важнейший мотив поведения героя здесь отсутствует. Властолюбие и политические мотивы оттеснены на задний план сильной, необузданной страстью азиата к Селтанете, дочери Султан-Ахмет-хана, кровного врага всех русских, а значит и Верховского. Этим герой Бестужева значительно облагорожен и поставлен в сложное драматическое положение.
Сделав идейным центром повести проблему характера, Бестужев вводит большой материал, связанный с воспитанием Аммалата, его духовным ростом, трагическим разладом в нем между чувством и долгом. Отсылая Н. А. Полевому первые пять глав «Аммалат-бека», Бестужев в конце рукописи, немного отступя, прибавил: «За сим последует по крайней мере пять глав еще. Завязка, можно сказать, только отсюда начинается». Бестужев, таким образом, не представляет себе завязку без рассказа о начале дружбы Аммалата и Верховского, образовании и воспитании азиата и – одновременно – о возникновении раздвоенности его характера.
По преданию, Аммалат убивает Верховского за то, что тот не оправдал его корыстных расчетов, после чего бежит в Аварию, где становится ханом и женится на дочери шамхала. В повести сам факт убийства драматизирован, а судьба убийцы весьма трагична. Аммалат испытывает тяжкие душевные муки: перед кровавой развязкой он проводит «бурную мучительную ночь», полную терзаний и сомнений: «…Зачем бросил ты, Султан-Ахмет-хан, молнию в грудь мою? Братская дружба – и братопредательство, братоубийство..<…> Я не могу спать, не могу думать о другом <…>. Душа моя подобна теперь голой скале, на которую слетаются одни хищные птицы и злые духи…» (наст. изд., с. 79). И свершив злодейство, Аммалат не находит себе никакого покоя: «Трудно было узнать, невозможно передать того, что крутилось вихрем в груди его» (наст. изд., с. 84); «Ни ум, ни сердце его не оправдывали кровавого поступка… и образ падающего с коня Верховского неотступно возникал даже перед закрытыми очами» (наст. изд., с. 85). О страшной внутренней борьбе Аммалата, о терзаниях больной совести его красноречиво говорит последняя глава – сцена гибели героя, описание его предсмертных мук, его внешнего облика. Вот портрет умирающего Аммалата: «Змеиный след тоски, проторенный на щеках слезами, глубокие морщины лба, нарезанные не летами, но страстьми, и кровавые царапины обезображивали его прекрасное лицо, и на нем выражалось что-то мучительнее боли, что-то страшнее кончины» (наст. изд., с. 91). И предсмертный бред Аммалата также полон страшных дум, горячего раскаяния: «Кровь, – сказал он, разглядывая свою руку, – все кровь! Зачем на меня надели его кровавую рубашку?.. <…> Судорожное движение прервало бред его; невыразимо страшный стон вырвался из груди страдальца, и он впал в томительное забытье, в котором одна душа живет еще, чтобы страдать» (там же).
Эта сцена тем более интересна для исследователя, что среди бумаг Бестужева сохранился ее черновой вариант, сопоставление которого с окончательным текстом дает возможность судить о направлении мысли автора в процессе его работы над образом центрального героя (курсив, которым выделены дополнения и изменения, внесенные в окончательный текст, наш. – Ф. К.).
Черновой вариант
Змеиный след тоски, проторенный на щеках слезами, и глубокие морщины лба, прорезанные не годами, обезображивали его прекрасное лицо.
Что такое, зачем я запрятал в могилу другого, – шепчешь ты… <…> Судорожное движение прервало его… невыразимо страшный стон вырвался из груди страдальца, и он впал в забытье.
Он упал, и ледяная рука смерти задушила в груди его последний вздох, сохранила на челе печать последней тоски. Страшно было видеть закатившиеся очи…
– Он, верно, был злодей! – сказал лекарь Верховского…
(РНБ, ф. 69, № 2, л. 3–3 об.)
Окончательный текст
Змеиный след тоски, проторенный на щеках слезами, глубокие морщины лба, нарезанные не летами, но страстьми, и кровавые царапины обезображивали его прекрасное лицо, и на нем выражалось что-то мучительнее боли, что-то страшнее кончины.
Что такое! что? зачем я спрятал в могилу другого? – шепчешь ты… <…> Судорожное движение прервало бред его; невыразимо страшный стон вырвался из груди страдальца, и он впал в томительное забытье, в котором одна душа живет еще, чтобы страдать.
Еще несколько трепетаний, несколько хрипений – и ледяная рука смерти задушила в груди раненого последний вздох, сохранила на челе печать последней тоски, собирающей медленность целых лет раскаяния в один быстрый миг, в который душа, отрываясь от тела, чувствует равно муки жизни и ничтожества, чувствует вдруг все угрызения минувшего и все страхи будущего. Страшно было видеть обезображенное лицо этого мертвеца.
– Он, верно, был большой грешник! – тихо сказал Верховский стоявшему подле него генеральскому переводчику…
(наст. изд., с. 91–92)
Во всех приведенных примерах очевидно стремление писателя показать острую борьбу в сознании героя. Как видим, Аммалат все более и более удаляется от своего кавказского прототипа, приобретая черты европейского романтического характера. Бестужев в «Примечании» к «Аммалат-беку» косвенно указывал на скрытую тенденцию драматизации произведения. Он как бы извинялся перед читателем за трагический колорит своей повести: «В утешение тех, которые будут жаловаться, что автор переморил всех героев повести, он почтеннейше извещает, что Селтанета находится теперь в цветущем здоровье и живет после погрома Тарков русскими войсками у матери своей в Аварии» (наст. изд., с. 93). Однако сообщенные писателем факты находились в противоречии с его художественным замыслом. Не случайна поэтому его просьба напечатать «Примечание» не сразу после повести, «а номером позже, чтобы не разрушать занимательности романтической».
Значительно отступив от фактической стороны предания, хотя и не пренебрегая им, Бестужев строит свою художественную систему, направленную на достижение, как ему казалось, высшей нравственной правды.
Глубокой драматизации образа главного героя служила введенная писателем любовная интрига, которая вообще необходима в произведении и как средство построения увлекательного сюжета, и как средство романтической идеализации героя, и как типично романтическая основа для постановки важнейших нравственно-философских вопросов времени. Так же как и в других повестях Бестужева 1830-х гг., любовь изображена противоречивой, сложной и неразумной. Это не только «самое высокое, самое благородное чувство, которое сближает человека с небом», но и страшная дисгармоничная сила, толкающая героя на преступление и обрекающая его на нравственную гибель. «Ты не знаешь, – говорит Аммалат Селтанете, моля ее о побеге, – до какой степени может увлечь обманутая страсть… я могу забыть и гостеприимство и родство… разорвать все связи человеческие, попрать ногами святыню, смешать кровь мою с драгоценною мне кровью… заставить злодеев содрогаться от ужаса при моем имени и ангелов плакать от моих дел… Селтанета! спаси меня от чужих проклятий, от своего презрения… спаси меня от самого меня!..» (наст. изд., с. 65; курсив наш. – Ф. К.).
Предательство Аммалата безоговорочно осуждается не только автором. От Аммалата отворачиваются даже самые близкие люди: его молочный брат Сафир-Али, с которым Аммалат был «связан дружеством от младенчества» («Пускай одно раскаяние преследует тебя как тень, – отныне я не товарищ твой!» – наст. изд., с. 84), отец и мать его невесты («Удались из моего дома, изменник! <…> Ступай – и ведай, что дверь моя не отворяется для братоубийцы!» – наст. изд., с. 88) и даже сама Селтанета, ради которой он пошел на тяжкое преступление:
«– Селтанета! для тебя совершил я то, за что тебя теряю… Судьба хочет этого – да будет! Одно скажи мне: неужели и ты разлюбила меня, ужели и ты ненавидишь?
Знакомый милый голос проник ее сердце. Селтанета подняла свои ресницы, блистающие слезами, свои глаза, полные тоскою… но, увидев страшное, кровью забрызганное лицо Аммалата, закрыла опять их рукою. Она указала перстом на труп отца, на голову Верховского и твердо сказала:
– Прощай, Аммалат; я жалею тебя, но не могу быть твоею.
Сказав слова сии, она пала без чувств на тело отца» (там же).
Это было осуждение героя-индивидуалиста, которому противопоставлялась добрая воля окружающих его людей (вспомним лермонтовского «Беглеца», где носителями авторского нравственного идеала оказались те, кто проклял труса; ср. соотношение героев – предателя и тех, кто осудил его, у Бестужева).
Таким образом, проблема личности, столь волновавшая Бестужева в 1830-е гг., получает в «Аммалат-беке» глубоко драматическое истолкование. Как уже говорилось, этим «Аммалат-бек» тесно связан с такими программными произведениями Бестужева, как «Страшное гаданье», «Латник», «Фрегат „Надежда“», «Мулла-Hyp», одновременно предвосхищая глубоко драматическую трактовку личности у Лермонтова.
Повесть «Аммалат-бек» представляет собою очень интересное явление с точки зрения жанрово-стилистической. Первые четыре главы (вплоть до встречи Аммалата с Селтанетой) – своего рода экспозиция образа Аммалата. Здесь дано подробное описание быта, нравов, одежды, привычек кавказцев. Это была сознательная установка писателя-декабриста на изображение национального колорита.
Возросший демократизм Бестужева проявился и пристальном внимании к народам Кавказа. Автор-повествователь порою становится «строгим» историком, ни на минуту, казалось бы, не теряющим исторической нити повествования. Таковы рассуждения о русско-кавказской войне в Дагестане (наст. изд., с. 31–32), об исторических корнях «варварского деспотизма Персии» (наст. изд., с. 54) и др. В повести мы встречаем целые этнографические исследования. Так, каждая из четырех первых глав представляет собой блестящий краеведческий очерк, причем легко заметить определенную последовательность в изложении национально-исторического материала. Если первая глава носит еще характер внешнего описания, то уже во второй главе отмечается стремление проникнуть в психологию народа, его религиозные понятия и суеверия, охарактеризовать различие племен Кавказа и т. д. Даже третья глава, с которой начинается любовная тема, имеет свой историко-этнографический аспект: «Прелестная эта девушка была шестнадцатилетняя дочь Султан-Ахмет-хана. У всех горцев вообще незамужние пользуются большою свободою обращения с мужчинами, несмотря на закон Магомета» (наст. изд., с. 22; курсив наш. – Ф. К.).
Акцент на историко-национальной стороне повествования, столь характерный для первых глав повести, был сознательной установкой Бестужева-романтика. Так, в «Примечании» к повести Бестужев писал, например, что автор отступил от фактической основы предания и заставил Аммалата «сделать впадение с чеченцами за Терек, чтобы вставить картину горского набега» (наст. изд., с. 92; курсив наш. – Ф. К.), В письме к братьям Полевым от 16 декабря 1831 г., сообщая о своем желании писать роман на тему русской истории, Бестужев говорит, что ему придется многое изучить, а в некоторых случаях занять у Полевого (речь шла, очевидно, об «Истории русского народа») «необходимых подробностей», а без того, говорит он, придется писать «a la madame Genlis „historique“» (наст. изд., с 509). Писатель недвусмысленно подчеркивал принципиальное отличие своей эстетической программы от той, которая лежала в основе сентиментальной повести (русской и европейской) начала века.
Вместе с описанием быта и нравов в повести отчетливо проступает тема народа как национального объединения прежде всего. К пониманию классовой дифференциации народа Бестужев не пришел. Романтический герой Бестужева (и в этом его особенность) не противопоставлен народу, массе; на протяжении большей части повести он слит с нею. Это сближало его с героями кавказских поэм Лермонтова. Аммалат-бек дается рядом с другими горцами – Сафиром-Али, Султан-Ахмет-ханом, Джембулатом и прочими. Выделяясь своей яркостью, он вместе с тем не противостоит горцам, а лишь наиболее отчетливо выражает некоторые черты национального характера. Отсюда повышенный интерес Бестужева к групповым описаниям (картинам), что обусловливалось преобладающим интересом писателя к народу в целом. Отсюда большая насыщенность повести фольклором.
В повесть включены горские песни – старинная песня, которая, по утверждению автора, является точным переводом с оригинала, и смертные песни, как уже говорилось, очень высоко оцененные Белинским.
Введение в текст этих песен отвечало общему замыслу писателя – нарисовать яркую картину народных обычаев и нравов, создать запоминающийся национальный колорит, дать представление о национальном характере народа (понимаемом в романтическом аспекте).
Детерминированность личности – труднейшая, даже неразрешимая задача для романтика, которая тем не менее была поставлена Бестужевым вполне сознательно. Как объяснить думы, чувства, поступки Аммалата своеобразием национально-исторической культуры, «местным колоритом»? В повести заметно стремление автора решить эту проблему. Именно поэтому он подчеркивает в поступках героя привычки и обычаи восточного человека, горца. В беловом автографе повести мы встречаем очень характерные в этом отношении правки. Бестужев переделывает, например, рассказ о встрече Аммалата с Сафиром-Али, посланным на разведку к Султан-Ахмет-хану. Вначале он выглядел так: «С восклицаниями: „Алейкюм-селам“ – оба они спрыгнули с коней и сжали друг друга в объятиях.
– Итак, ты был там, ты видел ее, говорил с нею, – вскричал Аммалат, задыхаясь от торопливости. – Живы ли, здоровы ли, любят ли меня по-прежнему?». В окончательном варианте после слов «вскричал Аммалат» было поставлено: «снимая с себя кафтан и задыхаясь от торопливости. – По лицу вижу, что ты привез добрые вести, и вот тебе моя новая чуха за это. Живы ли, здоровы ли, любят ли меня по-прежнему?» (наст. изд., с. 51; курсив наш. – Ф. К.). К внесенному вновь мотиву с кафтаном Бестужев дает следующее объяснение: «У татар непременное обыкновение отдавать вестнику чего-нибудь приятного свою верхнюю, с плеча, одежду» (там же). Правка, как мы видим, произведена с целью отметить «национальный момент» в психологии героя. Такое же назначение имеет правка в сцене, в которой Аммалат-бек узнает о болезни Селтанеты: в черновом варианте отсутствовали слова: «О, да падут на голову мою все ее болезни, да лягу я в гроб, если этим искупится ее здоровье!», которые в авторском примечании определяются как «самое нежное выражение татарских песен и самый обязательный привет женщине» (наст. изд., с. 59).
Очень часто Бестужев стремится подчеркнуть национальный склад характера героя в речи от автора. Это наиболее распространенный в «Аммалат-беке» способ характеристики: «Надо быть татарином, который считает за грех и обиду сказать слово чужой женщине, который ничего женского не видит, кроме покрывала и бровей, чтобы вообразить, как глубоко возмущен был пылкий бек взором и словом прелестной девушки, столь близко и столь нежно на него брошенным» (наст. изд., с. 23; курсив наш. – Ф. К.) – или: «Не в азиатском нраве, еще менее в азиатском обычае, прощаться с женщинами, отправляясь даже надолго, навсегда… <…> Аммалат-бек со вздохом, однако ж, взглянул в окна Селтанеты – и тихими шагами прошел к мечети» (наст. изд., с. 25; курсив наш. – Ф. К.). Даже речь героя, полная экспрессии, патетики, контрастов, передается чаще всего в изложении автора. «Любовный язык у них, – пишет Бестужев, – очень фигурен: не жалеют ни звезд, ни цветов, ни огня в сердце… рай и ад на языке…» (6, 188). Это, конечно, относится и к языку Аммалата: «Для тебя я готов умереть, звезда моя утренняя, за тебя положу свою душу, не только жизнь, милая!» (наст. изд., с. 29). Но чаще всего эта цветистость переходит к автору, стремящемуся определить состояние Аммалата: «Если бы небо обняло Аммалата необъятными своими крыльями, прижав к сердцу мира – солнцу, – и тогда бы восторг его был не сильнее, как в эту божественную минуту. Он излился в нестройных словах и восклицаниях благодарности» (наст. изд., с. 65).
О страсти Аммалата, о его «огнедышащем красноречии» говорит Верховский в письмах к своей невесте: «Какие звезды сыплют тогда его очи, какой зарницею играют щеки, как он прекрасен бывает тогда!» (наст. изд., с. 76).
Преобладание субъективно-экспрессивного метода характеристики, стремление к предельной эмоциональной напряженности, к патетике контрастов – все эти характерные черты романтического слога Бестужева прекрасно проявились в работе над текстом повести. Если в черновом варианте часто представлялась лишь канва общего настроения героя, то в окончательном тексте полновластно вступал в свои права излюбленный Бестужевым декламационно-патетический слог – появлялись бесконечные дополнительные узоры из цветистых сравнений, красочных метафор, динамических глагольных фраз. Писателю мало было рассказать об отчаянии Аммалата, о его рыданиях у порога больной Селтанеты, о его заклинаниях и мольбах – необходимо было добавить от себя слова, которые как бы служили эмоциональным заключительным аккордом: «Трогательна и страшна была тоска пылкого азиатца» (наст. изд., с. 61).
Однако сравнение редакций повести говорит не только об усилении эмоционального накала повествования. Писатель тщательно работает над лексикой, устраняет словесные штампы, отбирает слова, добиваясь при этом определенной силы психологического воздействия. Так, фраза: «Аммалат все еще стоял, как истукан, на дороге…» – была заменена более выразительной: «Уже давно и пыль легла на след хана, но Аммалат все еще стоял неподвижен на том же холме, чернея в зареве заката» (наст. изд., с. 67; курсив наш. – Ф. К.). Это изменение сделало бы честь большому писателю. Не случайно внутренняя психологическая интонация приведенных слов напоминает известное место из «Героя нашего времени»: «Давно уже не слышно было ни звука колокольчика, ни стука колес по кремнистой дороге, – а бедный старик стоял на том же месте в глубокой задумчивости» (Л, 4, 223).
Аналогичный характер носит правка и ряда других мест той же восьмой главы повести. Например, при характеристике отчаяния Аммалата у порога больной Селтанеты вместо словесных штампов в черновом варианте: «Он рыдал, он ломал руки свои, то умолял небо спасти Селтанету, то роптал на несправедливость неба…» – появилась более сдержанная и выразительная редакция: «Прильнув к ее порогу, он рыдал неутешно, то умоляя небо спасти Селтанету, то обвиняя, укоряя его…» (наст. изд., с. 61; курсив наш. – Ф. К.). Подобных примеров в творческой лаборатории писателя немало, и они свидетельствуют о том, что, не отказываясь от цветистой, метафорической речи, от декламационной патетики, Бестужев настойчиво работал над словом, добиваясь подчас большей психологической точности.
Говоря в своих очерках и письмах о необходимости изучать Кавказ, «взглянуть в эту колыбель человечества, в эту чащу, из коей пролилась красота на все племена Европы и Азии, в этот ледник, в котором сохранилась разбойническая эпоха древнего мира во всей ее свежести» (6, 168), Бестужев ставит в пример исторические романы В. Скотта, которые дали более для познания Шотландии, ее народа, нежели чисто исторические исследования. Бестужев решительно отвергает педантически-сухое научное исследование, в котором пропадает человек: «Дайте же нам менее порядка, но более живости; менее учености, но более занимательности… облеките все в драматические формы» (6, 173). «Драматическая форма» изложения – главное, что очень высоко ценил писатель в В. Скотте и что он пытался реализовать в своих повестях. Драматизм любого произведения представляет собою художественное выражение конфликтов, лежащих в его основе. В «Аммалат-беке» это общественно-исторический (русско-кавказские отношения и столкновение двух типов культур) и нравственно-философский (борьба чувства и долга в герое, проблема свободы и необходимости, столкновение просветительских убеждений со сложной и противоречивой натурой человека) конфликты.
Драматизированная романтическая повесть была во многом отлична от повести сентиментальной, в которой отсутствовали острые конфликты и наблюдалась предельная сосредоточенность действия, суживающая изобразительные возможности произведения. Романтическая повесть отличалась глубоко продуманным драматическим единством, которое меняло самый стиль изложения, определяло своеобразие композиции, трансформировало природу и функцию диалога.
Драматизм «Аммалат-бека» (так же как «Фрегата „Надежда“») – в интерпретации романтического конфликта как духовного процесса, чему служил новый тип диалога, разрушающего догматические, рационалистические представления о человеке. В повестях 1830-х гг. отчетлива тенденция эволюции диалога от иллюстративно-повествовательного к драматическому, т. е. органически связанному с центральной коллизией повести. Кропотливая работа автора над важнейшими (узловыми) диалогами между Аммалатом и Селтанетой, Аммалатом и Султан-Ахмет-ханом имела явной своей целью процесс драматизации диалога, усиления его динамической функции в структуре произведения.
Стремление связать диалог с центральной нравственно-философской коллизией повести видно из следующих примеров работы Бестужева над текстом (курсив наш. – Ф. К.):
Черновой вариант
До сих пор твоя воля была твоим единственным долгом. До сих пор ты знаешь только цвести, подобно розе, порхать, подобно бабочке, – для меня, мужчины, судьба сковала цепь неразрывную, она тащит меня против воли к Дербенту.
– Долг! обязанность! благодарность! <…> Сколько золотошвейных слов изобрел ты…
(РНБ, ф. 69, № 2, л. 6 об.-7)
Окончательный текст
До сих пор ты знала только цвести, подобно розе, порхать, подобно бабочке; до сих пор твоя воля была единственною твоею обязанностию. Но я мужчина, я друг, судьба сковала на меня цепь неразрешимую, цепь благодарности за добро… она влечет меня к Дербенту.
– Долг, долг, – произнесла Селтанета, печально качая головою, – какое золотошвейное слово изобрел ты.
(наст. изд. с. 63)
Таким образом, перед нами явная тенденция к формированию диалогического конфликта, направленная против схематизма в изображении человека.
«Аммалат-бек» – одно из наиболее объективных произведений Бестужева, наполненное большим «внешним» материалом.
Спрятав автора за находящимися в сложных взаимоотношениях вымышленными героями, писатель часто окрашивал их мысли и поступки в субъективные, автобиографические тона, напоминая своим произведением о себе, о глубоком драматизме положения опального декабриста-солдата и тем самым придавая вопросам, обсуждавшимся в повести, острый, современный и к тому же личный характер.
Решительно выдвигая на первый план проблему личности, Бестужев ищет новый способ взаимодействия субъективного и объективного.
Однако поставленная писателем проблема национального характера так и не получила сколько-нибудь полного разрешения в повести «Аммалат-бек».
Это была непосильная для писателя-романтика задача. Необходимо указать на бросающуюся в глаза неоднородность, художественную невыдержанность характера центрального героя в первой и второй частях повести.
В первой части, где Аммалат – лихой горец, участник скачки и джигитовок – изображен на ярком национальном фоне, он как бы слит с окружением и несет на себе определенные черты самобытной национальности. Но начиная с пятой главы, там, где главной заботой автора становится раскрытие духовного мира героя, где Аммалат-бек размышляет о смысле жизни, о чувстве и долге, мучается раздвоенностью, кипит страстью, все резко меняется. Герой становится выразителем не только национальных и исторических, но и общечеловеческих, общефилософских идей и стремлений автора. И горец, племянник тарковского шамхала, Аммалат-бек превращается в двойника других романтических героев Бестужева – отважного моряка Правина, благородного кубинского кочага Мулла-Нура. Тщательно выписанный местный колорит, с одной стороны, и мир страстей героя, кипящих, как «огнедышащая лава», – с другой, – два различных начала повести, мало соприкасающиеся между собою. Это относится именно к характеру главного романтического героя, потому что в образах рядовых горцев Бестужеву в несравненно большей мере удается выразить черты индивидуальной психологии (Сафир-Али, Султан-Ахмет-хан, Шемардан).
Местный колорит (среда) и центральный герой Бестужева разобщены, и в силу этого Бестужев, как и вообще романтики, не смог решить проблему индивидуальной психологии, декларируемую им. Отсюда бросающиеся в глаза повторяемость, однообразие характеров, психологии романтических героев.
Говоря об этой особенности романтической трактовки характера, мы должны вместе с тем отметить следующее. Нежелание романтика Бестужева объяснить характер средой не результат неумения писателя, его субъективной художественной слабости, а прежде всего следствие принципиальной позиции романтика, убежденного, что некоторые стороны человеческой души иррациональны, не подвластны влиянию извне. Это одна из важнейших сторон его романтической концепции личности, нашедшая выражение во многих центральных произведениях Бестужева 1830-х гг. и достаточно отчетливо прозвучавшая в повести «Аммалат-бек» в связи с проблемой воспитания героя. Об этом, кстати, говорит и сам герой Бестужева в своем дневнике: «Что мне пользы в познании сил природы, когда я не могу переменить души своей… повелевать своему сердцу!» (наст. изд., с. 47).
Человек, с точки зрения Бестужева, находится во власти двух стихий. С одной стороны, на него оказывает определенное воздействие национальная среда, быт, нравы. С другой – в момент наивысшего напряжения духовных сил герой вступает в резкое противоречие со средой, и осуществляется предначертанное судьбой. Здесь сказалась идеалистическая (дуалистическая) позиция Бестужева, наложившая отпечаток на его романтическую эстетику и определившая в значительной мере художественную структуру повести.
Последняя повесть Бестужева «Мулла-Нур» (1836) близка к «Аммалат-беку» не только общностью темы, не только сходством героев, не только обилием этнографического и фольклорного материала, но в основном трактовкой проблемы личности и типологией жанра. Повесть отличает тот же жанровый синкретизм – синтез лирического, драматического и эпического начал. Создавалась она писателем в 1835–1836 гг. и в силу крайне неблагоприятных условий жизни не была закончена.
Так же как повесть «Аммалат-бек», «Мулла-Нур» создан на реально-исторической и фольклорной основе. Герой повести – прославленный на Кавказе разбойник. Сам Бестужев в очерке «Путь до города Кубы» писал о том, что ему «прожужжали уши про Мулла-Нура» (10, 35), и, опираясь на «мнение народное», говорил о бескорыстии и благородстве прославленного разбойника: «Удивительно до непонятности, что татарин и к тому ж разбойник в силах победить искушение при виде золота и дорогих товаров: довольствоваться малым, когда может взять все! Это уже относится более к природному бескорыстию, чем к дальновидному расчету» (10, 35–36). Здесь же подчеркнуты и такие черты Мулла-Нура, как справедливость, сочувствие бедным («Во время голода он брал рахтар зерном со всех вьюков с пшеницей, перевозимых из Ширвани, не потерпевшей от засухи, и раздавал ее по горным деревням самым бедным людям» (10, 36), чем снискал признательность и всеобщее уважение.
В очерке «Путь до города Кубы» мы видим беглый эскиз будущей повести «Мулла-Hyp», в которой вполне «реальные черты» героя не только получат свое дальнейшее развитие, но и обрастут поэтическим вымыслом. Чтобы написать повесть о кубинском кочаге, писателю хотелось самому воочию увидеть знаменитого разбойника. Преодолев настойчивое сопротивление коменданта, Бестужев отправляется по опаснейшей дороге к Тенгинскому ущелью, которое было своего рода резиденцией Мулла-Нура. Очевидно, замысел повести уже созрел в сознании писателя – нужен был дополнительный материал и личные впечатления. Интересен приведенный в очерке «Путь до города Кубы» разговор автора с комендантом, позволяющий в определенной мере понять творческие установки Бестужева:
«– <…> кому будет польза, смею спросить, если вы познакомитесь с этими пропастями? кому?
– Поэзии, – отвечал я.
– <…> Ну, с Богом! Я не мешаю. Только, право, сделали бы вы гораздо благоразумнее, если бы ездили на горы в подражание вашим товарищам-сочинителям – верхом на пере.
Зато и горы моих товарищей-сочинителей походят на чердаки, полковник, а мне хочется прочесть их в оригинале. Много благодарен» (10, 39–40; курсив наш. – Ф. К.).
Написанная в самый последний период жизни писателя повесть «Мулла-Нур» представляет собою высшее достижение Бестужева в художественном познании Кавказа и горцев, в понимании сути русско-кавказских отношений, в раскрытии быта, нравов, этнографии изображаемого народа. Еще в «Рассказе офицера, бывшего в плену у горцев» автор писал о неумении европейцев, бросающихся из одной крайности в другую, составить себе верное представление о «племенах полудиких». В повести «Мулла-Нур» писатель стремится к преодолению крайних точек зрения на кавказские племена (огульные обвинения и неумеренное восхищение).
Наряду с усилением реально-критического изображения Дербента, писатель по-прежнему романтизирует Кавказ, его смелых и мужественных героев, поэтизирует природу, любовь – все, что составляет душу романтического произведения. В отличие от ряда предшествующих кавказских повестей здесь сильные страсти и высокая романтика Кавказа естественно вписываются в восточный колорит произведения, отсутствуют ходульность, риторичность, экзальтированность. Повесть «Мулла-Нур» относится к числу наиболее зрелых повестей Бестужева. Она написана словно в ответ на просьбу очень взыскательного к творчеству своего брата Н. А. Бестужева, восхищавшегося его предыдущими «Кавказскими очерками». Последний 15 декабря 1835 г. писал Бестужеву: «Теплота чувствований, верность мыслей, красота слога – все, все тут есть!». И далее: «…давай нам восточного, нового, свежего, давай нам более кавказских очерков».
На последнюю повесть Бестужева в литературоведении существуют две точки зрения, которые вместе с тем являются двумя различными точками зрения на ее центрального героя. Дореволюционные исследователи, Н. А. Котляревский и И. И. Замотин, видели в Мулла-Hype татарского Карла Моора, «рыцаря правды и чести». Указывая на внутреннюю противоречивость героя Бестужева, Котляревский пишет: «Когда Мулла-Нур является орудием правосудия, когда он защитник угнетенных и гроза сильных, он исторический разбойник, которого любили и уважали на Кавказе; когда он философ, исповедник мировой скорби, грустный отшельник, он не кто иной, как сам Александр Александрович в минуту дурного настроения духа».
Взгляд на Мулла-Нура как на «татарского Карла Моора», которому свойственны вместе с тем определенные реально-исторические черты, высказывали и некоторые современные исследователи Бестужева – В. Васильев, Н. Л. Степанов и др. «Мулла-Нур, – писал Н. Л. Степанов, – русский вариант романтического благородного разбойника, шиллеровского Карла Моора, Ринальдо Ринальдини – Вульпиуса и Жана Сбогара – Нодье».
Вторая группа исследователей творчества Бестужева, во главе с А. В. Поповым, по-иному трактует образ Мулла-Нура, резко возражая Н. А. Котляревскому, Н. Л. Степанову и всем тем, кто подчеркивал в герое Бестужева романтическую основу. А. В. Попов видит в нем «реальную историческую личность, правдиво изображенную Бестужевым». «Мулла-Нур является носителем боевых традиций известных в свое время в горах Кавказа бунтарей-одиночек, боровшихся часто с целыми обществами и причинявших немало беспокойств правящим классам, мстителей за народные обиды. Об этих героях до сих пор поется много песен по горным аулам Дагестана и Азербайджана», – пишет исследователь.
Обе существующие точки зрения представляются спорными, не раскрывающими до конца сущности романтического героя.
Во-первых, признавая связь произведения с реально-историческими источниками, мы не имеем права игнорировать поэтический вымысел писателя-романтика. И, во-вторых, признавая связь романтического героя Бестужева с предшествующей романтической традицией, нельзя забывать новых качеств романтизма писателя, порожденных 1830-ми гг.
В повести «Мулла-Hyp» две сюжетные линии. Одна, основная, связанная с любовью Искендер-бека, прекрасного, нравственного, мужественного юноши, к очаровательной «с черными как смоль косами» Кичкене. На пути этой любви много препятствий, связанных с сословными и религиозными предрассудками. В решительный момент борьбы за личное счастье Искендер-беку помогает знаменитый разбойник Мулла-Hyp. Обязанный Искендер-беку жизнью, Мулла-Hyp выручает его из беды и ускоряет счастливую развязку любовной истории.
Появление отважного Мулла-Нура, «грозы Дагестана», в шестой главе повести значительно усиливает ее общественное звучание, заостряет социальные конфликты в ней. Справедливый человек, отдающий нищему кровью купленный хлеб, Мулла-Hyp наказывает богачей, разоблачает лживого и корыстного муллу Садека, воинствующего проповедника мусульманства.
Вторая сюжетная линия повести, так и не получившая окончательного завершения, связана с историей Мулла-Нура, с его жизненной философией, раздвоенностью и внутренней борьбой в нем. Вся эта линия, важнейшая, как мы увидим, в произведении, вымышлена автором, ее мотивы не связаны с прототипом героя Бестужева, не восходят к тем «реальным» источникам, на которые обычно ссылаются исследователи.
Так, например, И. Н. Березин, совершивший в 1842–1843 гг. путешествие по Дагестану и Закавказью, пишет о благородстве, справедливости, отваге и находчивости знаменитого разбойника и в этом смысле справедливо считает, что «автор „Русских повестей и рассказов“ нисколько не украсил характер Муллы-Нура и в Дербенде действительно до сих пор утверждают, что этот храбрец среди бела дня приезжал к бывшему городничему и благодетелю Дербенда Мухаррем-беку, взял у него взаймы денег – и был таков!». Как видим, все эти черты характеризуют героя Бестужева лишь с одной стороны и совсем не имеют отношения к его внутреннему миру. К такому же выводу мы приходим после сравнения повести Бестужева с произведением В. И. Даля «Рассказ лезгинца Асана о похождениях своих», герой которого, тоже «благородный разбойник», «из лезгин, из города Кубы», рассказывает о встречах с Мулла-Нуром, ограничиваясь, однако, общей его характеристикой; личные впечатления лезгинца Асана о Мулла-Hype очень скупы. Очерк Даля, как явствует уже из его заглавия, написан «со слов рассказчика», носит сугубо фактографический характер. Стремление к строгой объективности, полное отсутствие романтико-идеализирующего начала резко отличает Даля-повествователя, Даля-этнографа от Бестужева, у которого «реальное» дается в самой неразрывной связи с «идеальным» и чаще всего во имя последнего. Естественно, что Даль, точно следуя за фактами, не увидел противоречивого внутреннего мира Мулла-Нура, не оценил его сложной философии и драматизма его положения. Все эти черты характеризуют уже не знаменитого кубинского кочага, а романтического героя Бестужева, образ которого заключает в себе значительный (для писателя 1830-х гг.) нравственно-философский смысл.
Философия Мулла-Нура впервые достаточно отчетливо проявилась в. его задушевном ночном разговоре с Искендер-беком на фоне величественного горного пейзажа. Чуткий к красоте, жадный до воли, Искендер-бек готов был позавидовать свободной и отважной жизни разбойника. «Но грустно качал головою Мулла-Hyp, слушая неопытного юношу.
– У всякого есть своя звезда, – возразил он, – не завидуй мне, не ходи по моему следу; опасно жить с людьми, но и без них скучно. <…> Было время, я ненавидел людей; было время, я презирал их; теперь устала душа от того и другого. На один год станет забавы для гордого внушать своим именем страх и недоверчивость <…>. Потом наступает злая охота унижать людей <…> топча под ноги все, чем дорожат они более души… Жалкая потеха! Она забавляет на миг, а дает желчи на месяц, потому что как ни дурен человек, а все-таки он брат нам» (наст. изд., с. 240). Это осуждение отщепенства, индивидуализма, презрения к людям – черты, органичные для романтизма Бестужева 1830-х гг. Проблема личности в ее отношении к обществу, вопрос о характере героя-борца – все это было чрезвычайно важным для Бестужева в 1830-е гг., так же как это важно было для Лермонтова и других выдающихся писателей этого времени.
В поисках настоящих борцов за обновление мира писатель должен был прежде всего пересмотреть позицию героя-индивидуалиста, показать бесперспективность, даже гибельность и в то же время неизбежную закономерность, оправданность индивидуалистического бунта (своеобразная вариация лермонтовского «Демона»). Индивидуалистический бунт героев-романтиков – вынужденное, порожденное эпохой явление, результат глубокой внутренней неудовлетворенности окружающим. В бунте Мулла-Нура много благородства и добра, отсюда героика и поэтизация этого образа. Однако Бестужев середины 1830-х гг. приходит к ясному сознанию недостаточности и ущербности убеждений своего героя.
Большое значение в повести имеет авторская позиция, отнюдь не совпадающая с позицией героя и во многом ей противостоящая. Чтобы подчеркнуть этот очень важный для себя момент, Бестужев в «Заключении» вводит встречу героя и автора. «Заключение» появляется в повести несколько неожиданно – после того как основной сюжет произведения уже исчерпан; оно носит внефабульный характер и служит углублению главной идеи произведения.
Основной вопрос «Заключения» – выяснение причин трагедии Мулла-Нура, который стремился стать героем-борцом и не стал им (в этом убежден и автор, и сам герой). «Исповедь» Мулла-Нура была принципиально важна для писателя-романтика и психолога, пережившего в 1830-е гг. сложную духовную эволюцию: «С каждым мгновением любопытство мое узнать этого человека покороче возрастало. Изучить дикий ум, сбросивший с себя все условные путы общества, вглядеться в игру страстей, отданных собственной воле, – да это находка, которая не всякому дается…» (наст. изд., с. 284; курсив наш. – Ф. К.).
Однако «Исповедь» Мулла-Нура не была закончена. В бумагах Бестужева сохранилось лишь начало ее. Одно осталось бесспорным – глубокая трагическая неудовлетворенность Мулла-Нура своим жребием. Об этом говорит пристально наблюдавший за героем автор:
«– Да, это ружье дороже крови, за него пролитой! Многим оно стоило жизни; мне более чем жизни – счастья, более нежели счастья – родины!
Я с участием глядел на Мулла-Нура. Тяжкая тоска отзывалась в последних словах его, тоска, глухо ревущая из сердца, как лев, замкнутый в пещере, обрушенной скалою. Бурные чувства вздымали грудь его, зажигали взор, струились по лицу» (наст. изд., с. 286).
И несмотря на то что автор поднимается до осмысления слабости Мулла-Нура, он не может вместе с тем не сочувствовать герою. Его тоска по родине, по большому делу, по обыкновенному человеческому счастью выражала весьма типические для 1830-х гг. настроения.
Вопрос о герое решается в кавказских повестях Марлинского на самом различном материале, автор подходит к нему с разных сторон. И в «Аммалат-беке», и в «Мулла-Hype» перед нами не один герой, а несколько, по крайней мере два: в «Аммалат-беке» – Верховский и Аммалат, в «Мулла-Нуре» – главный герой и замечательный юноша Искендер-бек, романтически-яркий и одновременно тесно связанный с землею и людьми, живущий своими обыкновенными радостями и горестями. Искендер-беку, его борьбе за счастье с милой Кичкене посвящается основная часть повести; его история как бы вырастает из народного предания, она дается на фоне народных обычаев и легенд. И если вначале Искендер-бек не был чужд эгоистических черт, то на вершине Шахдага, куда он был послан дербентцами, он почувствовал значительность «народного доверия». «Несчастия беднякам от засухи обступили, стеснили в нем сердце» (наст. изд., с. 246). Миссию, возложенную на него народом, он выполняет с честью.
Настоящий человек для Бестужева тот, кто может добиться многого, это человек, связанный с народом и облеченный его доверием. В связи с труднейшим восхождением Искендер-бека на вершину Шахдага автор говорит о том, что человеку с сильной волей и чистой совестью подвластно все: «Так многое считают неприступным, недостижным; но когда необходимость или крепкая воля увлекает нас, мы находим, что невозможное есть только трудное, только опасное. Хочу – половина могу» (наст. изд., с.245).
Романтик Бестужев по-прежнему воспевает человеческую волю к действию, но сейчас он значительно трезвее смотрит на то, что должно быть опорой человека в его сильном волевом порыве.
По-иному осмысляется Бестужевым традиционная романтическая антитеза «небо и земля». Поднявшись на вершину громадного Шахдага, Искендер-бек почувствовал жгучую тоску по земле: «Слишком чист, нестерпимо чист для человека воздух неба; ослепительно ярок луч солнца. Сыну земли необходимы испаренья земли для дыхания. <…> Так и бек Искендер изнемог на вершине Шахдага: грудь его расторгалась от редины воздуха, очи залиты были волнами света. Но если небо замкнуто было для взоров его лучезарным замком солнца, земля раскрывалась внизу тем прекраснее» (наст. изд., с. 245–246; курсив наш. – Ф. К.). И далее писатель не жалеет красок, чтобы нарисовать переливающийся дивными узорами и кое-где затканный золотою ниткою вод величественный пейзаж земли с ее «обаятельным лепетом жизни» (там же; курсив наш. – Ф. К.). Особенность этого извечного романтического противоречия между землей и небом для романтика 1830-х гг. Бестужева в том, что в нем явно уравновешиваются оба этих начала.
«Мулла-Hyp», как правильно указывает А. В. Попов, – лебединая песнь писателя-декабриста, его художественное завещание, но не потому, что в этом произведении изображен «типический образ кубинского кочага», а потому, главным образом, что весь художественный строй произведения, его основной эстетический пафос служат развенчанию индивидуализма, романтического отщепенства, а земля и люди утверждаются как неиссякаемый источник прекрасного, постичь который до конца так и не сумел романтик Бестужев.
Одновременно последняя повесть Бестужева в большей мере, чем какое-нибудь другое его произведение, свидетельствует о противоречивости эстетических позиций художника. «Стихийный реализм» повести приходит в столкновение с бестужевской романтической концепцией личности. Сколь ни значителен образ связанного с землей и людьми Искендер-бека, центральным героем произведения является не он, а романтик-индивидуалист Мулла-Hyp. Искендер-бек излишне приземлен, он лишен того духовного, интеллектуального начала, которое является отличительной особенностью идеального героя Бестужева. Центральное место отведено Мулла-Нуру и в сюжете произведения. Благодаря его участию завязываются главные сюжетные узлы повести, его действия предопределяют собою успех Искендер-бека, обеспечивают счастливую развязку; более, чем кто-нибудь другой, он выступает носителем социальной справедливости, с ним, наконец, связаны важнейшие интеллектуальные, философские идеи автора. «Заключение» лишний раз подчеркивает значительность центрального героя, важность встречи его с автором. Вместе с тем по своей художественной окраске и стилю повествование в «Заключении» существенно отличается от повествования в основной части повести. Напряженный лирический монолог автора, романтическая патетика, предельная метафоризация речи в «Заключении» резко контрастируют с тоном собственно повести, насыщенной фольклорными, этнографическими и историческими мотивами, бытовым просторечием, лукавым восточным юмором. Поэтому образ автора в «Заключении», образ высокого поэта-романтика значительно отличается от образа рассказчика в повести «Мулла-Нур».
Идеальные побуждения автора и его центрального героя имеют своим источником уже не внешний мир и национальную среду, а таинственную, не подвластную контролю извне глубину субъективного духа, обращенного к сверхличному. Эта противоречивость эстетической позиции автора, обусловленная внутренне противоречивой концепцией личности у Бестужева, определяет художественную структуру его повести.
Последняя повесть Бестужева насыщена местным колоритом, ярким этнографическим и фольклорным материалом даже в большей мере, чем «Аммалат-бек». Однако использованием этого материала, характером местного колорита «Мулла-Нур» существенно отличается от «Аммалат-бека». Местный колорит здесь в большей мере, чем в «Аммалат-беке», слит с характером героя. Характер выступает, так же как и в западноевропейском историческом романе эпохи романтизма, в тесной связи с бытом, нравами, общим национальным колоритом. Занимающий значительное место в повести Искендер-бек не похож на традиционного романтического героя Бестужева. «Прекрасный, нравственный юноша», он и в решающие моменты своей жизни (в отличие от Аммалат-бека) не противопоставлен национальной среде, а слит с нею. Автор полемизирует с теми русскими писателями, которые берутся описывать кавказцев, не зная их обычаев и нравов: «…дербентские красавицы, – с саркастической улыбкой говорит автор, – пляшут перед мужчинами и ездят по ночам за город с нукерами только в русской словесности: в действительности – никогда» (наст. изд., с. 205).
Именно в наиболее ответственные моменты его жизни – встреча с Кичкене, поединок с Мулла-Нуром, пребывание на вершине Шахдага – особенно подчеркивается народность героя. Герой Бестужева как бы весь вырастает из легенды, из народного предания.
Образ Искендер-бека – романтический образ. Чаще всего, говоря о нем, писатель прибегает к общим романтическим формулам, к тем штампам романтического языка, без которых уже не представляешь себе Бестужева. Таков, например, портрет героя: «Я поднял голову: передо мной стоял тезка мой Искендер-бек в одном архалуке, с засученными рукавами, опершись на винтовку; он был живописен, он был гневно-прекрасен тогда» (наст. изд., с. 202; курсив наш. – Ф. К.). Но эта выспренность идет от автора. Сам же Искендер-бек менее экзальтирован.
Столь полная слитность с народным, национальным колоритом говорит о новых, симптоматических чертах в эволюции романтизма Бестужева, роднящих писателя с Н. В. Гоголем («Вечера на хуторе близ Диканьки»). В наибольшей мере слиты с национальным колоритом комические и сатирические образы. Таковы не знающий умолку балагур Гаджи-Юсуф, храбрость которого «на кончике языка», хитрый и спесивый корыстолюбец Фетхали и алчный служитель ислама, лживый и трусливый мулла Садек. Каждый из этих образов выписан сочно и выпукло.
Большое место в повести занимает диалог. Тенденцию к расширению диалога как средства «объективной» характеристики и драматизации повествования мы наблюдали уже в «Аммалат-беке». В «Мулла-Hype» тенденция эта получила дальнейшее развитие. Здесь диалог играет значительную роль и в композиционном отношении. Характерно в этом смысле уже самое начало повести, ее завязка:
«Грустно раздается намаз, будто поминка по ясном дне, отлетевшем в вечность.
– Жарко, душно в Дербенте! Взойди-ка на кровлю, Касим; посмотри, как падает за горы солнышко: не краснеет ли запад, не сбираются ли тучи на небе?
– Нет, ами (дядя)! Запад голубее глаз моей сестрицы. Солнце упало ярко, словно „золотой цвет“ на ее груди. Ни один взор его не гаснет в тумане» (наст. изд., с. 185).
Этот диалог дяди и племянника повторяется трижды и создает тот неповторимый восточный колорит, которым проникнута вся повесть. Если бы о палящем зное в Дербенте, о трепетном ожидании дождя автор сказал бы от себя, это произвело бы значительно меньшее впечатление. В троекратном вопросе-ответе вместе с нарастающим чувством тревоги горца перед лицом неотвратимого стихийного бедствия мы ощущаем, почти слышим мелодию поэтического рефрена, настраивающего всю повесть на восточный лирический тон. Этому служат и яркие «восточные» сравнения, передающие наивную и целомудренно-возвышенную психологию подростка-горца. Итак, в самом начале повести диалог эпичен в своей сущности, он органически связан с описываемыми событиями, уточняя их, являясь важнейшим средством композиции.
Кульминационная сцена – поединок Искендер-бека и Мулла-Нура – тоже представляет собой диалог (наст. изд., с. 236–237). В этом диалоге-поединке, в схватке противников шаг за шагом раскрывается нравственное превосходство Искендера, человека, слитого с народом и народным обычаем, над романтическим отщепенцем, живущим по своей прихоти.
И в концовке повести большую роль играет диалог. Это диалог автора и Мулла-Нура, чрезвычайно, как уже указывалось, значительный в идейно-художественном смысле. Диалог драматизирован, он напоминает острые диалоги-споры в «Аммалат-беке».
Монолог в последней повести Бестужева встречается реже и, главное, существенно меняется его форма. В рассказе-исповеди Мулла-Нура совершенно нет романтической выспренности и экзальтации, здесь – живая и простая разговорная речь: «Я едва разбирал еще акафот Нуна, когда русские взяли Кубу вскоре за Дербентом, а хан наш <…> ускакал в Иран. <…> Отец мой, видите ли, хотел – пусть я стану муллою и на этой надежде, как на мягком изголовье, заснул сном смерти. <…> Дядя, у которого я жил, попрекал меня каждым куском, брошенным как милостыня факиру, как подачка собаке». Монолог этот эпичен в своей основе. Чтобы убедиться, насколько язык героя-романтика эволюционирует в последней повести Бестужева, вспомним исповедь Аммалата: «…Рука моя дрожит, сердце рыщет в груди… Если бы я писал кровью моею, она бы сожгла бумагу» и т. д. (наст. изд., с. 48; курсив наш. – Ф. К.).
Возросшее стремление к эпизации очевидно и в пространственной организации произведения, причем этой дели вновь служит восточный колорит. Местный колорит «Мулла-Нура» значительно усиливается за счет образно-выразительных средств повести, для которой характерно изобилие тропов в восточном стиле, особый поэтический синтаксис, яркая афористичность: «Грустно раздается намаз, будто поминка по ясном дне, отлетевшем в вечность» (наст. изд., с. 185); «Просветлело небо, как взор девственницы, и вот закипел восточный край моря, подобно заздравному кубку; солнце брызнуло лучами на горы» (наст. изд., с. 241).
Национально-фольклорная окраска повествования «Мулла-Нура» проявляется и в пейзаже. Многие мастерски написанные пейзажи повести как бы сливаются с народными обрядовыми сценами. Вспомним, например, какие великолепные картины природы созерцает Искендер-бек на вершине Шахдага и какие значительные ассоциации порождают они в сознании героя. Не менее интересен эпизод завершения обряда, когда снежная вода, принесенная героем с вершины горы, была торжественно вылита в море: «И, говорят, прыснуло море о камни, когда благословенная вода пролилась в его лоно. Прыснуло и зашумело глухо. И черные тучи покатились с гор Табасаранских <…>. Грянул далекий гром, горное эхо проснулось из мертвого сна, окрестность загудела под вихрем. Листья весело отряхали с себя пыль; мусульманки со смехом выказывали свои личики на совесть ветра, срывающего долой их покрывала; все руки, все очи поднялись навстречу дождя, столь искренно молимого, столь давно ожидаемого, – и дождь проливной зашумел, напояя обильными струями исчахнувшую землю, освежая раскаленный зноем воздух» (наст. изд., с. 248). Многие пейзажи в «Мулла-Нуре» напоминают пейзажи гоголевских «Вечеров на хуторе близ Диканьки»: «…молодой месяц всплыл золотою рыбкою над голубым океаном неба и плескал бледным светом своим в лицо заснувшей красавицы Земли, полуодетой сотканием теней и туманов. О, какая тихая, прелестная ночь растекалась тогда по Дагестану!» (наст. изд., с. 239). Вспомним, например, всем известное описание украинской ночи: «С середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался, разодвинулся еще необъятнее. Земля вся в серебряном свете… Божественная ночь, очаровательная ночь!».
Характерная особенность повествования, служащая его демократизации, – явная установка автора на читателя (слушателя). Писатель рассказывает свою повесть, постоянно обращаясь к слушателю: «Когда вы поедете через Дербент…» (наст. изд., с. 191); «Я расскажу вам, господа, за что и почему между ими стало нелюбие: только, чур, никому ни слова» (наст. изд., с. 199); «Теперь вы знаете отношения Мир-Гаджи-Фетхали к Искендер-беку…» (наст. изд., с. 213). Отсюда риторические вопросы и восклицания автора, очень часто завязывающие разговор. Таково, например, начало восьмой главы: «Что за юность без любви, что за любовь без юности?» (наст. изд., с. 249).
Широко используется в повествовании игровое начало. Вообще свобода повествовательного слова достигла в последнем произведении Бестужева своего предела. Вспомним, например, пространное рассуждение о носе: «Куда, подумаешь, прекрасная вещица – нос! Да и преполезная какая! А ведь никто до сих пор не вздумал поднести ему ни похвальной оды, ни стихов поздравительных, ни даже какой-нибудь журнальной статейки хоть бы инвалидною прозою!» (наст. изд., с. 216). Здесь писатель отдает дань той обширной литературе о носе («носиане»), которая появилась в 1820-1830-х гг. Сам он носу Гаджи-Юсуфа, под тенью которого «могли бы спать три человека», посвящает почти целую главу.
Но автор не только юморист и беззаботный рассказчик, он и поэт-романтик со всеми характерными чертами лирического, автобиографического героя Бестужева. Именно поэтому он преклоняется перед красотой природы: «Тучи плескались, как волны, по небу – грозили залить ледяной остров Шахдага. Только одно его темя блистало еще снегами, пылало огнем солнца, как душа поэта, как жерло волкана» (наст. изд., с. 279). Здесь, как и во многих других случаях, пейзаж является своего рода экспозицией авторской лирической исповеди. «Люблю встретить бурю лицом к лицу; любуюсь ее гневом <…> и радостно крещусь, приветствуя первый гром. Привольно, весело мне, свежо на сердце. С наслаждением глотаю капли дождя – эти ягоды полей воздушных. Полной грудью вдыхаю вихрь… О, в буре есть что-то родственное человеку! Дремлет чайка в затишье, но чуть взыграло море – она встрепенется, раскинет крылья на высь, с радостным криком взрежет ветер, смело поцелуется с бурунами. Таков и дух мой! С самого младенчества я любил грозы» (там же). Это образ поэта-романтика, стремящегося к тому же к афористичности повествования («Чтобы дать жизнь – надобно отдать жизнь» – наст. изд., с. 281).
Но в повести присутствует и иная тенденция. В конце ее, где рассказывается о встрече автобиографического героя Бестужева с Мулла-Нуром, автор стремится утвердиться на иных позициях, ищет иной, чем у романтического отщепенца-индивидуалиста, ориентации в жизни, еще далеко не ясной ему. Вот почему бурные порывы лирического героя Бестужева, остановившегося перед решением больших жизненных проблем, так же романтически неопределенны и абстрактны, как и философия Мулла-Нура. Вот почему самый стиль авторских лирических монологов в «Заключении», как указывалось выше, резко отличается от спокойной повествовательной манеры основной части повести, контрастирует с ней. Чаще всего писателю-романтику не удается органически слить эпическое течение повести с тем субъективно-лирическим началом, которое несут в себе автор и центральный герой.
Многогранность образа автора роднит Бестужева с Гоголем. Вспомним, например, «Тараса Бульбу», где автор – трезвый историк и вдохновенный лирик, юморист и эпик одновременно. Еще больше эта особенность образа автора ощутима в «Петербургских повестях» и «Мертвых душах», где «анатомический» анализ социальной действительности и высокая лирическая романтика слиты воедино.
Говоря об определенном сходстве Гоголя и Бестужева, нельзя не отметить и существенного различия. Синтетичность гоголевского стиля – выражение глубокой народности и острой конфликтности его творчества, результат блестящего художественного анализа действительности. В основе комического одушевления Гоголя всегда лежит глубокий социальный смысл. Комизм, юмор Бестужева иные по своему качеству. Сравним, например, чисто развлекательное значение, которое имеет сюжет о носе Гаджи-Юсуфа, а также «философское обобщение» на эту тему у Бестужева и роль, которую играет этот мотив в социально-обличительной повести Гоголя с ее тонкой, многозначительной концовкой.
Что же касается лирики Бестужева, то по форме она очень часто близка к «высоким лирическим дифирамбам» Гоголя. И здесь можно говорить об определенном стилевом родстве. Близка Гоголю, как уже отмечалось, яркая народность творчества Бестужева, характер его фантастики и высокий авторский пафос. Однако лирическое начало у Гоголя несравненно органичнее слито с эпическим и драматическим, чем у Бестужева.
Таким образом, последняя повесть Бестужева «Мулла-Нур» – высшее достижение писателя в его стремлении создать национальный характер и национально-историческую повесть. Позиция индивидуализма и романтического отщепенства здесь отвергается, а земля и люди утверждаются как важнейшая опора человека в его борьбе за обновление мира, как подлинный источник прекрасного.
В «Мулла-Hype» не только второстепенные, массовые образы, но и один из центральных героев, Искендер-бек, показан в неразрывной связи с национальной средой, задуман как национальный характер. Путь его духовного развития – это путь сближения с народом, его верованиями и чаяниями. Местный колорит, фольклор являются средством психологизации образов многих героев последней повести Бестужева. Здесь удачнее, чем прежде, решается проблема индивидуальной психологии (Искендер-бек, Гаджи-Юсуф). В своем повествовании писатель стремится слить эпическое, лирическое и драматическое. Более широко в последней повести использованы комические средства характеристики. Однако в жанровом отношении и последняя повесть противоречива. Историзм и национальный колорит не овладели идеальным героем, поступки которого обусловлены в конечном счете не внешним миром, а непостижимой силой «таинственного» внутреннего духа. Более того, в момент наибольшего духовного напряжения идеальный герой Бестужева вообще теряет видимую связь с внешним миром и становится орудием сверхличных сил. Здесь очевидны стремление писателя отказаться от примитивной рационалистической трактовки человека, фатального детерминизма, с одной стороны, и идеализм в трактовке онтологических проблем, с другой. Это накладывает отпечаток на структуру романтической повести Бестужева, в которой сложным образом соотносятся субъективное и объективное. В повести «Мулла-Нур» эта противоречивость ощутима наиболее рельефно: в наличии двух противостоящих друг другу героев и двух различных концовок, в стилевой разобщенности произведения. Соответственно оказалась невозможной та синтетичность стиля, которая характеризовала реалистическое искусство, и в частности реалистическую повесть Гоголя.
Повести Бестужева 1830-х гг. с их пафосом объективности, с их переоценкой рационализма, с их острой общественной проблематикой представляют собою заметный шаг вперед в художественном развитии писателя. Проза Бестужева 1830-х гг. – интересное явление в истории русской повести вообще. Здесь проявились не только характерные черты романтического миропонимания, романтического жанра, но и с отчетливой убедительностью были предуказаны дальнейшие пути русской литературы к реализму. Органически связанные с романтической западноевропейской прозой (В. Скотт, В. Гюго) повести Бестужева 1830-х гг. во многом предвосхищали творчество Лермонтова и Гоголя. Первого привлекала в Бестужеве проблема личности, в высшей степени диалектическое художественное решение которой сумел найти автор «Героя нашего времени».
Страстная тяга к действительности, стремление к синтезу эпического, драматического и лирического начал повествования, блестящее мастерство рассказа, поэтизация народных обычаев, фольклора и даже противоречивая концепция личности – все это будет поднято на новую эстетическую высоту у Гоголя, с творчеством которого связан новый этап в истории русской повести.
Что же касается такой сокровенной идеи романтической эстетики и романтического жанра, как идея нравственной суверенности личности, свободы выбора как высшего проявления духовности человека в решающие моменты жизни, то она станет непреходящей (хотя и эволюционирующей) идеей романтизма, прямым восприемником которой будет реализм.
В реалистическом искусстве и реалистической эстетике глубинная идея свободной человечности, неисчерпаемости человека общественно-историческими обстоятельствами явится важнейшей уже в момент формирования реалистического метода в творчестве Пушкина. В дальнейшем – в творчестве Толстого и Достоевского – это приведет к эстетическому «взрыву» теории среды и последовательной победе идеи общечеловеческого в художественном творчестве.
Комментарии
Кавказское творчество Бестужева отмечено особенно драматичной издательской судьбой. Если ранние произведения (до 1825 г.) печатались под непосредственным наблюдением и при взыскательной корректуре автора, активного участника русской литературной и журнальной жизни 1820-х гг., то его многочисленные произведения кавказского периода издавались наскоро, небрежно, полулегально и иногда даже анонимно. Ссыльный писатель-декабрист, переведенный после настойчивых хлопот из Якутска в действующую армию на Кавказ, был полностью оторван от литературной жизни столиц и не мог, естественно, повлиять на ход издания своих произведений. В целом ряде писем с Кавказа (к братьям Полевым, к родным, к Н. И. Гречу) Бестужев мог только констатировать факты уродливых опечаток, нередко абсолютно искажающих смысл текста.
Вместе с тем видные журналы 1830-х гг. («Московский телеграф», «Библиотека для чтения», «Сын отечества» и др.) охотно печатали повести, рассказы и очерки Бестужева. Одно за другим выходили в свет «Испытание» (1830), «Вечер на Кавказских водах в 1824 году» (1830), «Страшное гаданье» (1831), «Аммалат-бек» (1832), «Латник» (1832), «Письма из Дагестана» (1832), «Фрегат „Надежда“» (1833), «Он был убит» (1835–1836), «Мулла-Нур» (1836).
С Кавказом связаны второе рождение писателя, его литературная слава и широкое признание. Это в первую очередь относится к собственно кавказским повестям, занимающим центральное место в творчестве Бестужева 1830-х гг. и наиболее полно отражающим особенности эволюции его романтизма. Имя Бестужева тесно связывается с Кавказом со времени выхода в свет «Аммалат-бека». Кавказу посвящено более половины всего им написанного в 1830-е гг.
В кавказских повестях (как и вообще в творчестве кавказского периода – «Фрегат „Надежда“», «Латник», «Страшное гаданье» и др.) с наибольшей полнотой выразилась философская, нравственно-эстетическая, идейная сущность романтического метода писателя, определилась жанровая типология-его прозы.
Небывалый успех произведений 1830-х гг. побудил писателя ходатайствовать (конечно, неофициально) об издании собрания своих сочинений. Так, в 1832 г. вышли первые пять книжек его «Русских повестей и рассказов» (Русские повести и рассказы. СПб., 1832. Ч. 1–5), без имени автора и даже без псевдонима. «Обещали наверное издать под собственным именем, уверяли, что это уже позволено, и потом молчок…» – писал он 28 февраля 1833 г. К. А. Полевому (РВ. 1861.№ 4. С. 433). Бестужев был весьма огорчен этим, так как сам замысел собрания сочинений, в которое входили бы и прежние повести – эпохи «Полярной звезды», и нынешние его произведения, был рассчитан на то, чтобы его узнали современники. Это было принципиально важным для Бестужева, отстаивающего право своей личности на самоопределение. Не имея надежды на восстановление своего настоящего имени, писатель настойчиво стремился сам напомнить о себе, о страстных поисках выхода из тупика, о пережитой трагедии, об изменении своих воззрений: «…мои повести, – говорил он, – могут быть историей моих мыслей, ибо я положил себе за правило не удерживать руки…» (наст. изд., с. 528).
На основании его рассказов и повестей без труда можно было реконструировать личность автора (см.: Алексеев М. П. Этюды о Марлинском. Иркутск, 1928. С. 3–31). М. И. Семевский писал: «Кто не читал, кто не восторгался, кто не зачитывался в то время блестящими рассказами, повестями, романами Марлинского? <…> его биография, жизнь интересовала массу читателей и читательниц; не зная нередко подлинной фамилии Марлинского, читательницы слагали о нем разные баснословные рассказы; его собственная личность возводилась в какой-то идеал героя…» (ОЗ.1860. № 5. С. 122). Прежде всего «узнали» Бестужева его друзья и единомышленники. Прочитав «Испытание» (СО и СА. 1830. № 29–32), Кюхельбекер с радостью открытия замечает: «Автора я, кажется, угадал и сердечно радуюсь, если угадал. Благослови Бог того, кто любезному отечеству нашему сохранил человека с талантом! Sapienti sat (Для мудрого достаточно – лат.)» (Кюхельбекер. С. 295). И далее это «узнавание» простиралось на все произведения, написанные Бестужевым, за которыми Кюхельбекер следит с напряженным вниманием («Вечер на Кавказских водах в 1824 году», «Страшное гаданье», «Латник», «Аммалат-бек», «фрегат „Надежда“», «Наезды»). По справедливому мнению Б. М. Эйхенбаума, без учета оценки Кюхельбекера нельзя понять места и роли Бестужева в русской литературе 1830-х гг. (см.: Эйхенбаум Б. О прозе; О поэзии / Сб. статей. Л., 1986. С. 289). Это справедливо потому, что Кюхельбекер выражал мнение человека, пережившего декабристскую трагедию и почувствовавшего в авторе «Аммалат-бека» «новое дыхание», «новую жизнь дорогих для него идей».
С этой точки зрения весьма интересно отношение к Бестужеву Пушкина 1830-х гг., которое почти не учитывается нашей наукой. В письме от 19 января 1833 г. (т. е. после «недавно полученных из Петербурга» пяти книг «Русских повестей и рассказов» – экземпляр их сохранился в личной библиотеке Пушкина) К. А. Полевой сообщает одновременно поразившие и обрадовавшие Бестужева слова: «Соглашаюсь с Пушкиным, который сказал, что из живых писателей Бестужев теперь один романист в Европе. Пушкин повторил то, что говорил я самому себе много раз. В самом деле, что выставит нам Европа, чтобы перевесить ваши пять томов…» (ИРЛИ, ф. 265, оп. 2, № 2077, л. 216).
Не настаивая на точном смысле переданных слов Пушкина (см. примеч. 1 к письму 21), который мог руководствоваться простым стремлением поддержать ссыльного Бестужева, следует отметить, что сам факт положительной оценки творчества Бестужева 1830-х гг. весьма значителен. В последекабристском романтизме Бестужева Пушкин мог увидеть близкие себе черты (проблема «Пушкин и Бестужев» требует специального исследования).
Подобными же восторженными оценками творчества Бестужева пестрят многие издания 1830-х гг. Прекрасный отзыв о «Русских повестях и рассказах» был дан в «Московском телеграфе» за 1833 г. (№ 2. С. 328–336). В высшей степени одобрительно писал о «Русских повестях и рассказах» Бестужева рецензент «Северной пчелы»: «Необыкновенный, блистательный талант»; «В описаниях картин моря, в изображении моряков <…> автор становится счастливым опасным соперником Купера и Евгения Сю»; «…автор „Аммалат-бека“ первый представил нам Кавказ в его настоящем виде…» (СП. 1833. 20 февр. № 39). С похвалой отозвалась о них «Библиотека для чтения» в статье Н. И. Греча: «Решительно можно сказать, что сей писатель стал на первой степени наших прозаиков» (БдЧ. 1834. № 1.С. 167).
Весьма показательным подтверждением популярности Бестужева является характеристика его в тогдашнем учебнике истории литературы Вас. Плаксина. Перечислив «лучшие повести, в том числе „Вечера на хуторе близ Диканьки“ и „Повести Белкина“», автор учебника писал: «Но далеко всех их превзошел сочинитель повестей „Испытание“, „Лейтенант Белозор“, „Аммалат-бек“, „Наезды“, „Страшное гаданье“, „Латник“ и пр.» (Краткий курс словесности, приспособленный к прозаическим сочинениям. СПб., 1832. С. 145–146). Н. А. Полевой утверждал, что Бестужев «был корифеем новейшей повести нашей» (СО и СА. 1840. № 1. С. 435). Резко критически отнесся к Бестужеву в 1840 г. в отзыве о его Полном собрании сочинений Белинский (Белинский, 4, 38–53), однако в «Литературных мечтаниях» (1834) он еще видел в авторе «Русских повестей и рассказов» одного «из самых примечательнейших наших литераторов» (Белинский, 1,83).
Литературный успех Бестужева убедил и автора, и его издателей в необходимости продолжить выпуск «Русских повестей и рассказов», хотя это по-прежнему наталкивалось на сопротивление цензуры, которая нещадно резала его произведения. Н. А. Полевой писал в феврале 1834 г. сестре писателя, Елене Александровне: «Мне приятно известить вас при сем случае, что 6-я часть „Повестей и рассказов“ уже печатается под моим надзором. Две следующие части (7-ю и 8-ю) я был принужден послать для цензурования в Петербург, ибо не мог сладить со здешними цензорами. Надеюсь скоро получить обе обратно, и тогда в непродолжительном времени будут изданы части 6-я, 7-я и 8-я» (ИРЛИ, ф. 604, № 5885, л. 117). Действительно, в 1834 г. вышли части 6–8, а затем в 1838–1839 гг. (уже после смерти автора) печатается Полное собрание сочинений Бестужева (ч. 1-12).
Впрочем, текстологический уровень всех этих публикаций оставался низким. Как правило, это были перепечатки журнальных вариантов с цензурными купюрами, опечатками и искажениями. Н. А. Полевой, рецензируя части 7-10 издания 1838–1839 гг., обратил внимание на многочисленные искажения в текстах и настойчиво предлагал «приложить хоть варианты, сверивши тексты с рукописями Марлинского» (СО и СА. 1839. № 7. С. 65).
К сожалению, такими же были и более поздние дореволюционные издания Бестужева, вплоть до двухтомника 1906 г. (Марлинский А. {Бестужев А. А.) Полн. собр. соч.: В 2 т. / Изд. А. А. Каспари. СПб., (1906]) и однотомника 1914 г. (Марлинский А. А. Собр. соч.: Повести, рассказы и романы. Изд. Акционерного о-ва издательского дела «Копейка». Пгр., 1914).
Первое советское издание, в котором была предпринята попытка текстологического исследования произведений Бестужева – однотомник Г. В. Прохорова (Марлинский А. {Бестужев А. А.) Избранные повести / Ред. и примеч. Г. В. Прохорова; Вступ. статья Н. Л. Степанова. Л., 1937), выпущенный к столетию со дня гибели писателя-декабриста. Серьезный исследователь творчества Бестужева, которому принадлежит ряд ценных публикаций его писем, Г. В. Прохоров проверил тексты по сохранившимся беловым автографам, устранив значительное количество опечаток. Однако в однотомник 1937 г. вошло лишь восемь повестей и рассказов (из них только четыре кавказских). В последующем двухтомном издании (Бестужев-Марлинский А. А. Соч.: В 2 т. / Сост. П. А. Сидоров; Вступ. статья и подгот. текстов Н. Н. Маслина; Примеч. Л. В. Домановского и Н. Н. Маслина. М., 1958) не были продолжены издательские принципы Г. В. Прохорова, более того, не были использованы результаты его текстологического труда. Двухтомник 1958 г., значительно расширивший корпус текстов, интересный своими комментариями к произведениям Бестужева, в текстологическом отношении был простой перепечаткой дореволюционного издания с огромным количеством ошибок (см.: Герцель Я. О текстологических недостатках нового издания сочинений Бестужева-Марлинского // Рус. лит. 1961. № 1.С. 134–138). Заметно отличается от него сборник произведений Бестужева «Повести и рассказы» (М., 1976), подготовленный А. Л. Осповатом, в котором выверены по беловому автографу тексты «Испытания» и «Аммалат-бека». Этому же составителю принадлежит заслуга выпуска массовым тиражом сборника: Бестужев (Марлинский) А. А. Ночь на корабле: Повести и рассказы. М., 1988, в который вошел целый ряд произведений, не переиздававшихся после 1917 г. Такие произведения кавказской поры, как «Испытание», «Наезды», «Аммалат-бек», «Часы и зеркало», «Месть», напечатаны по беловым автографам писателя.
Последнее издание: Бестужев-Марлинский А. А. Соч.: В 2 т. / Сост., подгот. текста, вступ. статья и коммент. В. И. Кулешова. М., 1981 – в ряде случаев исправляет ошибки двухтомника 1958 г. Однако по своим размерам оно не смогло вместить важнейших произведений писателя («Мулла-Hyp», отрывки из романа «Вадимов» и ряд других повестей 1830-х гг.).
В настоящее время назрела насущная потребность научного издания произведений Бестужева и прежде всего наиболее признанной их части – кавказских повестей.
Названием «Кавказские повести» объединены в данной книге не только произведения, написанные непосредственно на кавказском материале, но и произведения, занимающие особенно значительное место в творческой биографии писателя кавказского периода. Основной корпус книги составляют произведения о Кавказе, обозначившие собой новый этап эволюции его романтизма. В «Дополнения» вошли близкие им и по своему нравственно-философскому содержанию, и по структурно-художественным принципам (см. об этом выше) «Страшное гаданье», «Латник», «Фрегат „Надежда“». Произведения эти представляют собой три характерных для творчества Бестужева типа: светская романтическая повесть («Фрегат „Надежда“»), народно-фольклорный рассказ («Страшное гаданье») и новеллистическая повесть, ориентированная на опыт европейского романтизма («Латник»). В «Дополнениях» также помещены избранные письма Бестужева, имеющие большой историко-литературный интерес и закрепляющие в сознании читателя сам факт творческой эволюции писателя.
Композиция основного раздела издания опирается не на хронологический, а на проблемный принцип, а также на принцип связи произведений по характеру творческой истории. Начинается раздел с «Аммалат-бека» – повести, которая (наряду с «Мулла-Нуром») определила лицо Бестужева 1830-х гг. и высоко установила планку его популярности у читателей. Завершают раздел отрывки из незаконченного романа «Вадимов». Одна из лучших исповедально-лирических повестей Бестужева «Он был убит» занимает среди произведений раздела предпоследнее место, хотя она хронологически следует за отрывками и генетически связана с романом.
«Аммалат-бек», «Страшное гаданье», «Мулла-Hyp» (частично), «Он был убит» (частично), подавляющее большинство писем печатаются по рукописи.
При публикации текстов в необходимых случаях нами допускается отступление от наиболее устаревших норм правописания; пунктуация подлинника корректируется исходя из смысла печатаемого текста.
К кавказским географическим названиям не приводятся современные параллели; названия эти не унифицируются в тех случаях, когда написание их колеблется у самого автора (нередко в пределах даже одного произведения); последнее касается и варьирующихся, как правило, форм одних и тех же чаще всего тюркских слов. Различие употребляемого Бестужевым и современного написания оговаривается лишь тогда, когда к географическим названиям дается какой-либо комментарий.
Впервые осуществленное достаточно полное комментирование повестей и писем Бестужева имеет существенное значение не только для разъяснения содержательного смысла его сочинений, но и для раскрытия их широкого культурологического контекста – важнейшей типологической особенности его прозы.
Аммалат-бек (Кавказская быль)*
Впервые опубликовано: МТ. 1832. № 1–4, с подписью: «Александр Марлинский» и пометой: «1831, Дагестан». Печатается по беловому автографу: РНБ, ф. 69, № 7, л. 1-88об. Сохранился и черновой автограф повести: РНБ, ф. 69, № 2, л. 1–8 об., 32–33 об. Сравнение белового и чернового автографов говорит о стремлении автора как можно шире привлечь кавказский фольклор, сделать достовернее характер героя, уточнить нравственно-философскую концепцию произведения.
Начал работать над повестью Бестужев весной 1830 г. В письме к Ф. В. Булгарину от 10 июля 1830 г. он пишет, что «в непродолжительном времени» доставит повесть «Аммалат-бек», которая познакомит его «с прикаспийскою стороною Кавказа» (наст. изд., с. 484). Однако работа над повестью затянулась. Через год, 9 июня 1831 г., посылая II. А. Полевому первые пять глав своей повести, Бестужев отмечает новизну и оригинальность материала: «…рамы, впрочем, довольно свежие, из горного дерева» (наст. изд., с. 503). 13 августа 1831 г. Бестужев отсылает Н. А. Полевому пять глав произведения, указывая на его реальные источники: «Это истинное происшествие, и я от себя прибавил только подробности; дело кончится тем, что Аммалат убьет своего благодетеля…» (РВ. 1861. № 3. С. 305). Здесь же он обещает все остальное «непременно» прислать «через две недели», что и было сделано 26 сентября 1831 г. (см.: наст. изд., с. 504). Реальные источники повести «Аммалат-бек» всесторонне изучены М. П. Алексеевым (см.: Алексеев М. II. Этюды о Марлинском. Иркутск, 1928. С. 32–44).
История Аммалата стала известна и во время его кавказского путешествия Александру Дюма; она настолько заинтересовала его, что он собирался написать об этом «целую книгу» (см.: Кавказ: Путешествие Александра Дюма / Пер. с фр. Тифлис, 1861. Вып. 1. С. 236–238).
После того как рукопись была уже отослана Н. А. Полевому, Бестужев отправил ему свое примечание к «Аммалат-беку», оговорив, что оно должно быть напечатано отдельно, «номером после», «чтобы не разрушить занимательности романической». Редактор «Московского телеграфа» так и поступил. В собраниях сочинений, вышедших при жизни автора, это примечание не печаталось. В настоящем издании примечание, выполняющее по сути дела функцию эпилога, заключает повесть.
Белинский считал «Аммалат-бека» и «Страшное гаданье» «лучшими повестями» Бестужева (Белинский, 10, 362). Об этом же писал в своем «Дневнике» Кюхельбекер (см.: Кюхельбекер. С. 183).
О влиянии «Аммалат-бека» на читателей и авторов см., например, у Н. Макарова (Макаров Н. Мои семидесятилетние воспоминания и с тем вместе моя полная предсмертная исповедь. СПб., 1881. Ч. 1, кн. 2. С. 108) и у Л. Н. Толстого в «Казаках»: «Все мечты о будущем (Оленина. – Ф. К.) соединялись с образами Аммалат-беков, черкешенок, гор, обрывов, страшных потоков и опасностей» (Толстой Л. II. Собр. соч.: В 22 т. М., 1979. Т. 3. С. 1 59).
(1) Посвящается. Николаю Алексеевичу Полевому. – И. А. Полевой (1796–1846) – писатель, критик, редактор «Московского телеграфа» (1825–1834). Вместе с братом Ксенофонтом Алексеевичем сыграл благотворную роль в судьбе Бестужева. Братья Полевые частично вели его литературно-издательские дела, систематически снабжали его новейшей литературой, вводили в курс литературных событий, поддерживали морально и материально. Н. А. Полевой – теоретик романтизма, историк, автор романтических повестей и романов, был близок Бестужеву, о чем тот неоднократно говорил в своих письмах (см.: РВ. 1861. № 3. С. 303, 326, 327 и др.; № 4. С. 436, 440–450, 451). В письме от 28 мая 1831 г. Бестужев признавался Н. А. Полевому: «Хочется мне написать что-нибудь подельнее для посвящения вам» (BE. 1861. № 3. С. 300). Таким произведением и явился «Аммалат-бек», одно из наиболее значительных созданий писателя 1830-х гг. В этом посвящении проявилась благодарность глубокопочитаемому литератору-современнику и вместе с тем сказалось признание значимости своего труда. Ср. также примеч. 1 к письму 6 на с. 680–681 наст. изд.
(2) Была джума. – К примечанию автора к этому слову следует добавить, что по мусульманскому календарю джума – день схождения: все мусульмане должны собираться в мечети для совместного участия в полуденной молитве и слушания специальной проповеди (хутба).
(3) …татарская молодежь… – Бестужев (подобно М. Ю. Лермонтову в «Герое нашего времени») употребляет слово «татары» как общее наименование тюркоязычных мусульман Северного Кавказа и Дагестана.
(4) …стянутых короткими архалуками (тюника) … – Полукафтаны такого рода у татар – одежда, общая для мужчин и женщин.
(5) А потому Н. М. Карамзин очень ошибся ~ Конечно, сидеть на корточках было невесело для галицкого князя, но не так унизительно, как думает историк. – Возможно, Бестужев имеет в виду рассказ Н. М. Карамзина о поездке в 1250 г. в Орду князя Галицкого и Волынского Даниила Романовича (1201–1264), приведенный со ссылкой на Галицко-Волынскую летопись. В летописи: «О злее зла честь татарская! Даиилови, бывшю князю велику, ныне седить на колену, и холопом называют его, и дани хотят…»; у Н. М. Карамзина: «Горестный князь пил кумыс, преклоняя колена и славя величие хана» (Карамзины. М. История государства Российского: В 3 кн., 12 т. 5-е изд. СПб., 1842. Кн. 1, т. IV. Стб. 25; Примечания к IV тому. Стб. 19, примеч. 45).
(6) …и между них высокие раины…– Раина – вид пирамидального тополя.
(7) Он был одет в черную персидскую чуху… – Чуха или чоха – верхняя мужская одежда со стоячим воротником и широкими откидывающимися рукавами, распространенная у кавказских народов.
(8) …из букетовой термаламы. – Имеется в виду пестрая восточная ткань из шелка или полушелка.
(9) …расшитого шелками чепрака… – Чепрак – суконная, ковровая или иная подстилка под седло поверх потника.
(10) …с расписанными потебнями… – Потебни – кожаные лопасти по бокам седла.
(11) …черного хорасанского булата под золотою насечкою. – Хорасан – северо-восточная провинция Ирана; славилась производством оружия, ковров и шалей.
(12) Первые шамхалы ~ просто как частным имением. – Титул шамхала существовал в Дагестане с конца XII в. до 1867 г. С XVII в. власть шамхала приобрела наследственный характер и принадлежала только кумыкским правителям. В 1867 г. Тарковское шамхальство вошло в Темир-Хан-Шуринский округ Дагестанской области.
(13) То была рота Куринского пехотного полка… – Бестужев в качестве рядового Куринского пехотного полка принял участие в походе в Дагестан отряда генерал-адъютанта Н. П. Панкратьева (см. примеч. 23 на с. 630 наст, изд.).
(14) …подвинул на голове аракчин (ермолку) … – Ермолка – легкая шапочка без околыша.
(15) … «дали буг, не позволям». – Это польское выражение в переносном смысле обозначает: далее упорствовать невозможно.
(16) …когда не узнал Султан-Ахмет-хана Аварского… – Речь идет о умершем в 1823 г. владетеле Аварии, который числился генералом русской службы, но вместе со своим братом Гассан-ханом, убитым в 1819 г., вел изменническую политику, неоднократно выступая против русских на Кавказе.
(17) Там был уцмий Каракайдахский… – Уцмий – глава феодального образования (Каракайтагское уцмийство), возникшего в конце XII в. В первой половине XVII в. ненадолго перешло в подданство России, окончательно вошло в ее состав после русско-иранской войны 1804–1813 гг.
(18) Ферман (или фирман) – письменное повеление, приказ.
(19) Диван (суд) (ср. с. 14: …насылаемых в горы стамбульским диваном…) – совещательное собрание сановников при турецком султане.
(20) Падишах – титул турецких султанов.
(21) …сардарь ласкал меня… – См. пояснение Бестужева к этому слову (наст, изд., с. 111). В данном случае имеется в виду главнокомандующий на Кавказе А. П. Ермолов (см. ниже, примеч. 52).
(22) И вдруг захотели, чтобы я впустил в Аварию войска ~ самые скалы рухнули бы на голову сына отцепродавца. – В первом издании (МТ. 1832. № 1) данный отрывок отсутствует; по-видимому, это купюра цензурного характера.
(23) Я был лично, кровно обижен письмом одного вашего генерала… – В 1818 г. А. П. Ермолов потребовал от аварского хана окончательно определить свою позицию в отношении России (или ее подданный, или ее враг).
(24) …в Чечню… – Чечня – «обширная страна, расположенная в неопределенных границах, которые приблизительно совпадают: на севере с Тереком и Качкалыковским горным кряжем, отделяющим ее от Кумыкской степи; на востоке – с рекою Акташем, за которою начинается уже собственно Дагестан; на юге – с Андийским и главным Кавказским хребтами и на западе – с верхним течением Терека и Малой Кабардою, представляющей собой по населению уже получеченский, полукабардинский край» (Потто В. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях. 2-е изд. СПб., 1887. Т. II, вып. 1. С. 61). Население этой северокавказской земли в XVI в. приняло мусульманство.
(25) …чтобы поднять ее на линию… – Е. Хамар-Дабанов разъясняет это выражение так: «…„Кавказская линия“, по-военно-техническому – „Кавказская кордонная линия“, есть протяжение от Черного моря до Каспийского, тянущееся сначала вверх по правому берегу Кубани, потом недлинною сухою границей и, наконец, по левым берегам рек Малки и Терека. По этой линии проложена большая почтовая дорога, почти круглый год безопасная. На противолежащих же берегах русскому нельзя и носа показать без прикрытия, не подвергаясь опасности быть схвачену в плен или убиту…» (Хамар-Дабанов Е. Проделки на Кавказе. СПб., 1844. Ч. 1.С. 79–80).
(26) – Я вижу двух вершников… – Вершник – верховой, всадник (устар., простореч.).
(27) … я два раза ходил в Мекку… – Мекка – главный священный город и место паломничества мусульман; находится на западе Саудовской Аравии, административный центр провинции Хиджаз. Здесь родился, жил и начал свою проповедь основатель ислама Мухаммед.
(28) …никогда не прощался без чурека… – Чурек – на Кавказе пресный хлеб особой выпечки в форме большой лепешки.
(29) …убив узденя хозяина, у которого жил… – Уздень – конвойный при знатном беке, прислужник князя, феодала. Ср. пояснение Бестужева к этому слову (наст, изд., с. 262).
(30) Мы не привыкли на своре ходить в гости… – Свора – ремень, шнур, на котором водят собак. Здесь: ходить по принуждению.
(31) …усы были опалены вспышками полки… – Полка – часть затвора кремневого ружья для насыпания на нее пороха.
(32) …принуждены были паши путники ехать то вправо, то влево реями… – Идти реями – морское выражение, означающее: поворачивать то на тот, то на другой галс; здесь употреблено в смысле: ехать, уклоняясь то в одну сторону, то в другую.
(33) …в наследии моем пируют гяуры… – Гяур – презрительное название всех немусульман у лиц, исповедующих ислам.
(34) …стал спускаться с обнаженного черепа. – Череп – здесь, по-видимому, в значении: твердая, жесткая, гладкая поверхность.
(35) …и чилдара. – Чилдар – разновидность платанового дерева.
(36) …разразясь, как перун, ударом! – Имеется в виду удар молнии (от имени Перуна, древнеславянского бога грома и молнии).
(37) …едва перешагнул за решетчатый порог гарама… – См. пояснение Бестужева (наст, изд., с. 12).
(38) …ибо и сами аварцы племя лезгинского. – Лезгины – обобщенное название ряда дагестанских народов Кавказа. Ср.: наст, изд., с. 94, 95..
(39) …пьют бузу… – Буза – кисловато-сладкий мучнистый хмельной напиток.
(40) …как омировские герои, кидаются в пыл битвы ~ убитого собрата… – Омировские герои – т. е. герои Гомера. Омир – византийская форма имени древнегреческого народного поэта, воспринятая русской средневековой традицией и перешедшая в XVIII в. в «высокий стиль». Прибегая к сравнению горцев с героями Гомера, Бестужев, возможно, имеет в виду типичный боевой эпизод «Илиады» – стычку над трупами павших (каждая сторона стремилась захватить доспехи противников и их тела, которые затем возвращались за выкуп). Ср., например, песнь XVII, где описывается «тяжкая брань» окрест Патрокла, сраженного Гектором. Данайцы упорно и яростно бились за то, чтобы вынести его тело из боя.
(41) …известный наездник Малой Кабарды… – Кабардинцы славились на Кавказе военной выучкой.
(42) …едет по забережью… – Забережье – все пространство берега с учетом линии прилива и отлива.
(43) Побережные аулы сии мирны только по имени… – Л. Н. Толстой, находившийся на Кавказе в 1850-е гг., также застал «мирные, но еще беспокойные аулы» («Казаки», гл. IV).
(44) Левый берег Терека унизан богатыми станицами линейских казаков… – Речь идет о казаках, поселенных на Кавказской линии (по верхнему и среднему течению Кубани и Тереку). См. выше, примеч. 25.
(45) На Кас-бек слетелись тучи ~ Средь лесистой крутизны! – Сравнение белового и чернового автографов песни показывает направление работы автора над батальной сценой, которой он придает максимум движения, внутренней динамики. Стремлением подчеркнуть ошеломляющую быстроту схватки объясняется замена глагола (горит – кипит). Чтобы придать картине боя законченность, Бестужев ищет вариант обобщающей строки, подводящей итог описанию безвыходного положения горцев, и она появляется в окончательном тексте: «Нет спасенья ниоткуда!!».
Написание «Кас-бек», по-видимому, обыгрывает этимологическое значение составляющих слово корней. Введение его именно в текст народной песни связано, скорее всего, с желанием автора создать запоминающийся национальный колорит. Ср. также ниже в «Смертных песнях» сходное написание: «Каф-каз» (с. 37). По мусульманской легенде Каф – гора на краю света. для обозначения Кавказа употреблял это название Дж. Байрон («Верблюдов длинный вьется караван До самой Каф-горы из дальних стран» – «Дон-Жуан», песнь VI, строфа 86).
(46) …настоящие берсеркеры… – Берсеркеры – мифические скандинавские воины, обладавшие сверхчеловеческой силой и сражавшиеся с неукротимой яростью.
(47) …ни одно ружье не было вынуто из нагалища за спиною… – Нагалище – ружейный чехол.
(48) Будто из-под земли выросли небольшие карей… – Каре (устаревшие склоняемые формы: карей, карея) – построение пехоты в форме четырехугольника, бока (фасы) которого обращены лицом в поле для отражения атак неприятеля одновременно с четырех сторон; существовало до второй половины XIX в.
(49) …сквозь пахви… – Пахвы (пахви) – ремень, идущий от седла; в него продевается хвост лошади, чтобы седло не съехало ей на шею.
(50) Смертные песни ~ Алла-га, Алла-гу! – При сличении чернового и белового автографов песен прежде всего бросается в глаза появившееся в окончательном тексте деление на хор, первый и второй полухор. Песня стала многоголосной, ее диапазон расширился и усложнилось изображение чувств поющих. Заметно также неуклонное стремление автора к усилению национальной трактовки темы. Этому служит текст с подчеркнуто национальной окраской, представляющий собой хоровое обрамление «Смертных песен»:
Слава нам, смерть врагу,
Алла-га, Алла-гу!
Цевница – свирель; Израил (Азраил) – в мусульманской мифологии ангел смерти. Когда наступает срок кончины человека, с дерева у трона Аллаха слетает лист с именем обреченного, после чего Израил в течение сорока дней должен разлучить душу и тело человека.
(51) …полковника Верховского… – Верховский – реальное лицо, полковник ермоловской закалки, пользовавшийся большой симпатией у подчиненных. О нем упоминает в своем отзыве об «Аммалат-беке» В. К. Кюхельбекер, который 2 мая 1834 г. записал в своем дневнике: «Читаю повесть Марлинского „Аммалат-бек“. Она для меня вдвойне занимательна: раз, потому, что чуть ли не лучшее сочинение Марлинского (разумеется, из читанных мною), а во-вторых, потому, что Аммалата и Верьховского я лично знавал. <…> Верьховский был также человек истинно отличный; мы с ним ладили» (Кюхельбекер. С. 308).
(52) Алексей Петрович вышел к нам… – А. П. Ермолов (1772–1861). С 1815 г. назначен главнокомандующим на Кавказ. Смелость, мужество, независимость суждений, высокое понятие о чести создали популярность Ермолову в кругу декабристов, которые в случае победы хотели привлечь его к управлению государством. Это дошло до правительства, и в 1827 г. Ермолов был удален от дел и жил на покое в Москве; к нему в Москву заезжал Пушкин, направляясь на Кавказский фронт. Бестужев с глубоким уважением относился к Ермолову, которому в 1825 г. послал экземпляр «Полярной звезды» (см. ответное письмо Ермолова от 7 июня 1825 г. – PC. 1888. № 12. С 593) и которого он в высшей степени положительно обрисовал в «Аммалат-беке» (при печатании «Аммалат-бека» в «Московском телеграфе» почти все, относящееся к Ермолову, было выпущено и потом восстановлено в первом издании «Русских повестей и рассказов» – см.: Прохоров. № 45. Л. 61).
(53) Беги, чеченец, – блещет меч ~ За манием героя! – Стихи эти, по-видимому, принадлежат самому Бестужеву.
(54) …аманаты с разных гор… – Аманаты – заложники, взятые главным образом из знатных кавказских фамилий.
(55) Капитан Бекович… – Федор Александрович Бекович-Черкасский – кабардинец родом, стал впоследствии генералом русской армий. С начала 1830 г. некоторое время управлял Джаро-Белоканской областью, в июле 1831 г. командовал левым флангом Кавказской линии. После взятия Чир-Юрта 18 октября 1831 г. А. А. Вельяминов доносил барону Р. Ф. Розену о нем как об «отличнейшем помощнике» (Кавказский сборник. Тифлис, 1890. Т. 14. С 108). О Бековиче упоминает А. И. Полежаев в поэме «Эрпели» (1832) и Пушкин в «Путешествии в Арзрум» (1835). Ср. о нем в «Письмах из Дагестана» у Бестужева как об участнике сражения за крепость Внезапную в 1831 г. (наст, изд., с. 98).
(56) …подобен Улиссу в «Одиссее» ~ которого никто не мог натянуть… – Верная жена Одиссея, Пенелопа, предложила своим многочисленным «женихам» померяться силою и выстрелить из лука Одиссея. Никто из них не смог даже натянуть этот огромный лук (см. песнь XXI (ст. 116–184) «Одиссеи»).
(57) …голова буйвола вонзилась рогами в землю. – Н. В. Берг рассказывает в своих воспоминаниях: «Как-то раз, когда мы были одни, мне вздумалось спросить у Алексея Петровича, правда ли то, что рассказал о нем Бестужев-Марлинский в повести „Аммалат-бек“, будто он ссекал быку голову кинжалом? „Нет, неправда, – отвечал Ермолов, – я никогда и не пробовал этого делать; даже, сказать откровенно, едва ли бы мне это удалось. Тут нужна особая сноровка и навык; без навыка никакое богатырство не поможет. А силен я был, это точно; ужас, как был силен“» (РА. 1872. Т. 1. Стб. 989).
(58) … мы знакомы с ним с Кульмского поля… – Речь идет о сражении союзных войск с французской армией под командованием Ж.-Д. Вандама близ немецкого города Кульм 29–30 августа 1813 г. Французы были окружены и капитулировали.
(59) …перестал верить Лафатеру… – Иоган Каспар Лафатер (1741–1801) – швейцарский писатель, поэт сентиментально-религиозного направления, автор философского сочинения «Физиогномические фрагменты для поощрения человеческих знаний и любви» (1775–1778), в котором утверждалось, что по строению лица и черепа человека можно определить его характер.
(60) …сделали все, чтоб изурочить, изувечить эти дары природы. – Изурочить – исказить, испортить.
(61) …до города пышного, какого я не видал… – Возможно, реминисценция из стихотворения Пушкина «Город пышный, город бедный…» (напечатано в «Северных цветах» на 1829 г.).
(62) Откуда собрались европейцы фарсийского пустословия… – Здесь: восточное пустословие (от названия языка фарси – персидского языка, принадлежащего к юго-западной ветви иранской группы индоевропейской семьи языков).
(63) По улицам Дербента кое-где лежал ледяной череп… – Череп – здесь в значении: наледь, наморозь, возникающая, когда оттепель с дождем сменяется морозом или наоборот.
(64) …кое-где вправо и влево гряды марены… – Марена – травянистое растение, из корней которого добывается яркая стойкая краска. «.. первое место занимает сеяние и собирание марены <…> здешняя почва считается очень способной для произрастания марены» (Березин И. Путешествие по Дагестану и Закавказью. 2-е изд. Казань, 18 50. Ч. 1. С. 69).
(65) …скоро послышали крик гаяльщиков… – Гаяльщики (от слова «гай» – крик, гам, шум) – участвующие в облаве на зверя загонщики (иначе: кричане).
(66) …во время войны с фиренгами… – Имеется в виду война 1812 г. с французами.
(67) Варварский деспотизм Персии, столь долго владевший Адербиджаном… – Начиная с XV в. земли Азербайджана находились под ирано-турецким владычеством. Приморский Дагестан был присоединен к России в результате Персидского похода Петра I (1722–1723), но в 1735 г. был вновь отдан Персии. В начале XIX в. мирным путем и в результате войн к России отошли Кубинское, Ширваиское, Шекинское, Гянджинское, Карабахское, Бакинское и Талышское ханства, а также Южный и Приморский Дагестан (Дербентское ханство, Тарковское шамхальство, Каракайтагское уцмийство). Эти завоевания были закреплены договором 1813 г. По окончании русско-персидской войны 1826–1828 гг. по Туркманчайскому договору, в заключении которого принимал активное участие А. С. Грибоедов, к России были присоединены Нахичеванское и Эриванское ханства и ряд других земель. Во времена Бестужева под названием «Азербайджан» понималась территория перечисленных ханств; ее общего территориально-административного наименования не существовало.
(68) …подозрение в подысках… – Подыск – от «подыскиваться», т. е. стараться навредить, подкапываться.
(69) …видна уже стена ~ часто громивших ее границы. – Сооружение Дербентской стены приписывалось Александру Македонскому, завоевавшему Персию в IV в. до н. э. (описание ее Бестужевым (подпись: «А. М.») см.: СП. 1832. 15 сент. № 214; 17 сент. № 216; 19 сент. № 217). См. также ниже, примеч. 71.
(70) Дербентская летопись (Дербент-наме) … – Средневековая хроника «Тарихи Дербенд-наме» – собрание сказаний о древнем Дербенте. Рукопись ее была поднесена в подарок Петру I. За перевод ее взялся Димитрий Кантемир – находившийся в свите Петра I писатель и историк, управлявший походной канцелярией, но смерть помешала ему осуществить задуманное. См. также пояснение Бестужева (наст, изд., с. 227).
(71) Царь Нуширван… – По сохранившимся древнейшим источникам, царь из иранской династии Сасанидов, правившей в III–VII вв. на Ближнем и Среднем Востоке, Хосров I Ануширван (531–579). Имя его стало нарицательным для обозначения образа справедливого царя. Окончательно достроил Дербентскую стену.
(72) …имея крайними железными воротами Дербент… – О происхождении названия «Дербент» см. пояснение Бестужева (наст, изд., с. 251).
(73) Плиний описывает Дарьял очень подробно. – Имеется в виду Плиний Старший (Гай Плиний Секунд) (23 или 24–79) – римский писатель, ученый, государственный деятель. Автор энциклопедического сочинения «Естественная история» (в 37 кн.), в котором среди прочего был описан и Дарьял. Его исторические труды до нас не дошли.
(74) Прокоп… – Речь идет о Прокопии Кесарийском (между 490 и 507-после 562), византийском историке; участнике походов против персов, вандалов, остготов; авторе сочинений «Войны» (в 8 кн.; 553), «О постройках» (553–555), посвященных эпохе Юстиниана I.
(75) Меридово озеро – озеро в Древнем Египте, соединенное с Нилом специальным каналом; разливы реки регулировались с помощью шлюзов. В древности считалось одним из чудес света.
(76) Я бродил по следам великого Петра… – Имеется в виду Персидский поход Петра I (1722–1723) в прикаспийские владения Ирана, который был предпринят, чтобы воспрепятствовать турецкой агрессии в Закавказье и расширить торговые связи России с Востоком. 23 августа 1722 г. был занят Дербент. Петр I, вернувшись осенью в Астрахань, поручил руководство войсками и флотилией генерал-майору М. А. Матюшкину. В декабре 1722 г. был взят Решт, в июле 1723 г. – Баку. 12 сентября 1723 г. был заключен Петербургский договор, по которому к России был присоединен ряд прикаспийских районов Дагестана и Азербайджана. Местные жители с радостью принимали русских, стремясь освободиться от персидского ига. Петр писал в письме к Сенату: «Сии люди нелицемерно любовно приняли и так нам рады, как бы своих из засады выручили». В 1732 г. по Рештскому договору и в 1735 г. по Гянджинскому трактату завоеванные области были возвращены Ирану, в укреплении союза с которым Россия была заинтересована в связи с обострившимися русско-турецкими отношениями.
(77) …вольных табасаранцев. – Подробнее об этом кавказском племени Бестужев пишет в «Письмах из Дагестана» (наст. изд. с. 94).
(78) Киса – мошна, карман. Ср. пояснение Бестужева к этому слову (наст, изд., с. 198).
(79) …за Швецова дали выкупу десять тысяч рублевиков… – Майор Грузинского гренадерского полка Швецов был взят в плен в феврале 1816 г. по дороге из Дербента в Кизляр. Закованный в тяжелые цепи, он был брошен в глубокую яму, где томился более года. За него требовали огромный выкуп (250 тыс. рублей). Сумма эта, благодаря усилиям Ермолова, была снижена до 8155 рублей. Впоследствии Швецов был командиром Куринского полка. Умер в 1822 г.
(80) Верно, кубачинская насечка на ножнах? – См. пояснение Бестужева, касающееся селения Кубачи (Кубечи, Кубичи) (наст, изд., с. 207).
(81) …на этой стороне имя мастера; на, хоть сам читай: Али-уста Казанищский! – Селение Казанищи славилось искусными изделиями из серебра, меди и железа с насечками и густой сетью тончайшего рисунка.
(82) Этот харам-зада… – Ср. пояснение Бестужева к этому слову (наст, изд., с. 74, 215).
(83) Аллах берекет!.. – Это выражение означает «слава Богу».
(84) Любовь, как Мидас, претворяет все, до чего ни коснется, в золото ~ ничего вещественного для пищи. – Мидасу, фригийскому царю, Дионисом было даровано свойство все, к чему он прикасался, обращать в золото. Очень скоро, поняв, что ему грозит голодная смерть, так как пища превращалась в золотые слитки, Мидас умолил Диониса снять с него чары.
(85) …эти гольцы берегут мою волю…. – Голец – вершина голой каменной горы; горный ледник.
(86) …Сафир-Али <…> потягивал донское… – Донское игристое – вино, выделываемое в Области Войска Донского.
(87) …ни даже под именем Саади и Гафиза. – Саади (псевд., наст, имя – Муслихаддин Абу Мухаммед Абдаллах ибн Мушрифаддин) (между 1203 и 1210–1292) – персидский писатель и мыслитель-гуманист, автор дидактической поэмы «Бустан» (1257), сборника притч и коротких новелл «Гулистан» (1258) и ряда других произведений лирико-дидактического характера. Поэтическое наследие Саади оказало большое влияние на развитие таджикской литературы вследствие тесных этнических и культурных взаимосвязей, существовавших между таджиками и персами.
Хафиз (Гафиз) (псевд., наст. имя – Шамседдин Мохаммед) (ок. 1325–1389 или 1390) – персидский поэт, являющийся также классиком таджикской литературы. Прославился как «хафиз» – человек, знающий Коран наизусть. Большую часть его поэтического наследия составляют газели – двустишные строфы восточного стихосложения с постоянной рифмой на конце каждого двустишия. «Диван» Хафиза, собранный после его смерти, распространялся в огромном количестве списков в Иране и за его пределами.
(88) …ступил ногою в кляпцы… – Кляпцы – капкан, ловушка. Все выражение, по-видимому, употреблено здесь в значении: «подвергнуться риску».
(89) – Аллах бисмаллах!.. – Мусульманская формула, означающая: «Во имя Аллаха милосердного, милостивого!».
(90) …лег жертвою, как сын Ибрагима (Авраама) … – Речь идет о библейской легенде об Аврааме, родоначальнике еврейского народа, отце Исаака, готовом, по требованию Бога, принести ему в жертву сына.
(91) – Тому вина зависть ~ Каин передал ее в вечное и потомственное владение всем людям. – Согласно ветхозаветному преданию, Каин и Авель – сыновья Адама и Евы. Однажды они принесли Богу жертвы, но жертва Каина была отвергнута. Каин, завидуя брату, убил его.
(92) …подобно войску фараона… – По библейскому преданию, войска фараона, бросившегося в погоню за выведенными Моисеем из Египта израильтянами, погибли в волнах Чермного (Красного) моря, которые, повинуясь воле Моисея, сомкнулись после того, как израильтяне достигли противоположного берега (Исход, гл. XIV, ст. 21–30).
(93) …правоверная совесть тебя мучила, как стень. – Стень – тень. Смысл выражения: преследовала, как тень.
(94) …он решился ехать ~ целиком… – Т. е. без дороги.
(95) …Ермолов громил Дербент, бывши еще артиллерийским поручиком. – Ермолов принимал активное участие в походе гр. В. А. Зубова (см. примеч. 28 на с. 631 наст, изд.). В мае 1796 г. он отличился при взятии Дербента, за что был награжден орденом св. Владимира 4-й степени.
(96) Бомбарды – суда, на которых помещались мортиры или орудия большого калибра для метания бомб.
(97) …должно было строить обратные реданты… – Редан (редант, редут) – полевое укрепление, окруженное рвом и валом и выступающее в сторону противника в виде острого угла.
(98) …русские открыли брешь-батарею. – Бреш-батарея (брешь-батарея) – батарея, устанавливаемая на самом близком расстоянии от атакуемого объекта.
(99) …только звучный голос муэдзинов раздавался далеко… – Муэдзин – служитель мечети, призывающий с ее башни мусульман на молитву в установленные часы.
(100) …неожиданное нападение черкесов, смявших паши ее деты… – Ведеты – конные караулы или цепи часовых, выставляемые обеими воюющими сторонами как можно ближе к против нику.
(101) …сказал фейерверкеру молодой артиллерийский офицер… – Фейерверкср – артиллерийский унтер-офицер.
(102) …наводил сквозь диоптр орудие… – Диоптр – приспособление для паводки боевых орудий.
(103) …лигатура на главной артерии лою1ула от прилива… – Лигатура – шелковая нить, употребляемая для перевязывания кровеносных сосудов при операциях.
Письма из Дагестана*
Впервые опубликовано: СП. 1832. 2 янв. № 1; 11 янв. № 7; 23–25, 27, 28, 30 июня. № 142–148; 25–30 июля, 1–4 авг. № 169–178, с подписью: «А. М.». Печатается по первому прижизненному изданию: (Бестужев-Марлинский А. А.) Русские повести и рассказы. М. 1834. Ч. 6. С. 157–270, 294–307 («Отрывок письма из отряда, действующего в Дагестане» в оглавлении обозначен как «Еще два письма из Дагестана»).
В 1831 г. Бестужев дважды участвовал в сражениях: в августе при осаде Дербента Кази-муллой и в октябре, когда был предпринят поход отряда под командованием генерал-адъютанта Н. П. Панкратьева. Кроме рассказа об этих военных операциях он в «Отрывке письма из отряда, действующего в Дагестане» дал от первого лица описание еще двух боевых эпизодов – сражения 30 мая 1831 г. у города Тарки и взятия и сожжения мятежного селения Казанищи 22 августа 1831 г. Однако в этих последних боевых действиях он, по-видимому, личного участия не принимал, что подтверждается его собственными свидетельствами. Так, описывая в письме к матери от июня 1831 г. тарковское сражение, он сожалеет о том, что ему «не позволяют даже и на поле быть полезным отечеству» (наст. изд., с. 502), а в цикле, посвященном дербентской осаде, сообщает о себе сведения, которые исключают возможность его пребывания в отряде генерала Коханова, штурмовавшем Казанищи и двигавшемся на помощь Дербенту: «22 августа было дело в Казанищах. Вы его знаете из моих писем. В промежутках отряд жег деревни; впоследствии он стал лагерем близ селения Губ день <…>. В это время я был в Дербенте» (наст. изд.,с. 99; курсив наш. – Ф. К.); «22 числа (августа. – Ф. К.) еще раз ходили на вылазку с татарами с кубинской стороны (из осажденного Дербента. – Ф. К.)» (наст. изд., с. 103) (ср. письмо к Н. А. Полевому от 26 сентября 1831 г.: «Кази-мулла держал нас восемь дней в осаде <…>. Почти каждый день под стенами города у нас были гомеровские стычки с неприятелями, при коих и Ваш покорнейший не упускал случая порыскать. Горцы готовились штурмовать город <…> и бежали, заслышав приближение генерала Коханова с отрядом» – наст. изд., с. 504). Все это заставляет предположить, что в основе «Отрывка…» – свидетельства очевидцев и участников этих событий, одним из которых был брат Бестужева – Петр. При этом достоверность рассказа, яркое мастерство батальных сцен, безусловно определенное военным опытом автора, в не меньшей степени характерны для «Отрывка…», чем для других бестужевских описаний событий Кавказской войны.
Почти во всех военных очерках Бестужева как бы два плана – внешний, официальный, рассчитанный на цензуру, и внутренний – план искреннего сочувствия горцам, осуждения царских чиновников-карателей, объективной оценки происходящего. Бестужев неоднократно подчеркивал наличие этих двух планов. В письме к брату от 27 апреля 1832 г. он признается: «Принялся писать официальности – это не для славы, а для пользы» (ОЗ. 1860. № 6. С. 154). Такой официальностью является, например, славословие в честь «достойнейшего из царей», здравица в честь Николая I. Рассказывая о сражении под Чиркеем, писатель, казалось, с восторгом говорит, что «в один день совершено покорение одного из неприступнейших селений Кавказа, которое оградил он в лоне своем и крутью гор и быстрым потоком! Люди, не признававшие от века никаких властей, склонились пред оружием русского царя. Что ж может противостать его воле, уму его вождей, отваге его воинов, когда здесь самую природу победили силы человека!» (наст. изд., с. 121).
Вместе с тем и в письмах, и в произведениях Бестужева всегда присутствуют уважение к горцам («Я дышал эту осень своею атмосферой, дымом пороха, туманом гор. Я топтал снега Кавказа, я дрался с сынами его – достойные враги… Как искусно умеют они сражаться, как геройски решаются умирать» – письмо к братьям 24 декабря 1831 г.: РВ. 1870. № 6. С. 510), искреннее сочувствие страданиям, которые несли им завоеватели («…мы жгли их села, истребляли их хлеба, сено и пометали золу за собою» – письмо от 8 ноября 1835 г. П. А. Бестужеву: 03. 1860. № 7. С 51), понимание их ответной враждебности («Зачем вы сражаетесь с нами! – сказал я. – Добрые люди должны быть друзьями! – Зачем же вы идете к нам, если вы добрые?» – наст. изд., с. 120).
Дагестанские военные очерки появились в печати в порядке, который определила хронология их создания и хронология событий, в них отраженных. Первыми в январе 1832 г. были напечатаны в «Северной пчеле» два фрагмента, имевшие общий заголовок: «Отрывок письма из отряда, действующего в Северном Дагестане» и датированные 30 мая и 25 августа 1831 г. Затем (также в «Северной пчеле») в июне 1832 г. увидел свет цикл из двух частей (с датой: «1 сентября 1831 г.»), а в июле появилась корреспонденция «Поход в Дагестан генерал-адъютанта Панкратьева в 1831 году» (с датами: «15 октября 1831 г.», «25 октября 1831 г.», «28 октября 1831 г.», «6 декабря 1831 г.»). В сентябрьском очерке есть две отсылки к тексту «Отрывка…»: «Я уже описал вам тарковское сражение» и «Вы его (дело в Казанищах. – Ф. К.) знаете из моих писем» (наст. изд., с. 98, 99).
В прижизненном издании, однако, последовательность публикации очерков иная: «Отрывок…» ее завершает, а открывается она циклом из двух частей, за которым следует «Поход в Дагестан генерал-адъютанта Панкратьева в 1831 году» (см.: Бестужев-Марлинский А. А. Русские повести и рассказы. Ч. 6. С. 157–196, 196–270, 294–307). Цикл содержит небольшое вступление (зачин) – обращение к друзьям, которым автор пытается дать краткое представление о театре дагестанской войны, т. е. о географическом пространстве, в котором будут развиваться события, о населяющих его народах и т. д. Настоящее издание повторяет композицию «Писем из Дагестана», принятую в прижизненном издании.
(1) Да что я вам за Саллюстиус, что за Жомини! – Гай Крисп Саллюстий (86 – ок. 35 до и. э.) – римский историк и политический деятель. Наиболее известные его произведения, дошедшие до нас, – «О заговоре Катилины» (ок. 43 или 41 до н. э.) и «Югуртинская война» (ок. 41 или 39–36 до н. э.). Сохранился лишь в отрывках последний его труд – «История» в пяти книгах (36–35 до н. э.); охватывает 78–66 до н. э. Генрих Жомини (1779–1869) – автор ряда книг по военному искусству. Швейцарец по национальности, состоял на службе у Наполеона, с 1813 г. – у Александра I. Принял участие в русско-турецкой войне 1828–1829 гг.
(2) …заселен лезгинскими племенами ~ (оттав – гора) (ср. с. 95: …лезгины, около Кахетии живущие) – См. примеч. 38 на с. 623.
(3) …и в смутное время 1826 и 1827 годов, когда войска Аббас-Мирзы проникли до самой – Аббас-Мирза (1789–1833) – персидский наследный принц, наместник Тавриза и Азербайджана. Возглавлял персидскую армию во время войны с Россией в 1804–1813 и 1826–1828 гг. Самбуры и все Засамурье поднялось с ними заодно.
(4) Персияне следуют секте шаги… – Шаги (шагиды, шииты) – направление в исламе, признающее исключительное право Али иби Аби Талиба (убит в (661), четвертого халифа, двоюродного брата и зятя Мухаммеда, и его потомков на духовное и светское руководство в мусульманском мире (имамат). Большую, чем в суннизме (см. ниже), роль играет у шиитов культ «святых мучеников». Ср. пояснения Бестужева к этому слову (наст, изд., с. 16, 234).
(5) …а все горцы сунниты… – Суннизм – направление в исламе, считающееся ортодоксальным. Сунна (от арабского – образ действий, поведение) – мусульманское священное предание, изложенное в рассказах о поступках и изречениях Мухаммеда. Эти рассказы, переданные от имени сподвижников Мухаммеда и его учеников, поясняют и дополняют Коран (сложились в VII–IX вв.). При решении вопроса об имаме-халифе сунниты опираются на согласие всей общины. Ср. пояснения Бестужева к этому слову (наст, изд., с. 16, 234).
(6) Постройка крепости Закатал ~ многих трудов и крови. – Строительство крепости Новые Закаталы началось 1 марта 1830 г.
(7) Появление дерзкого проповедника Кази-муллы… – Гази-Магомед (Кази-Мугаммед, Кази-мулла) (1785–1832) – первый имам (высшее духовное лицо, глава феодально-теократического государства) Чечни и Дагестана (с декабря 1828 г.). Выдвинув идею объединения народов Северо-Восточного Кавказа, призвал к газавату – священной войне против неверных (русских). В феврале 1830 г. пытался захватить Хунзах. В1831 г. взял Тарки, Кизляр, осадил крепости Бурную и Внезапную, а затем Дербент. В результате экспедиций под руководством Р. Р. Розена, назначенного в сентябре 1831 г. главнокомандующим на Кавказе, был оттеснен в горный Дагестан, укрылся в ауле Гимри (Гимры), при штурме которого и погиб. Видя в деятельности Кази-муллы прежде всего пример мусульманского изуверства и нетерпимости, Бестужев, однако, подчеркивал в письме к Н. А. и М. А. Бестужевым от 1 5 января 1833 г. и его незаурядные личные качества (см.: наст, изд., с. 520).
(8) …родом койсубулинец, из селения Унеукуль. – Койсубулинцы – горцы, проживавшие в долине реки Сулак и ее притоков. Этому племени посвящена вторая часть «Рассказа офицера, бывшего в плену у горцев». Аул Унцукуль (Унсукуль) был известен на Кавказе деревянными изделиями с серебряной насечкой и инкрустацией костью и перламутром.
(9) …прямо против Эрпилей. – Эрпели (Эрпили) – большое селение неподалеку от г. Махачкалы. Именем этого селения названа поэма А. И. Полежаева, в которой описана боевая операция, относящаяся к маю-июню 1830 г. и происходившая в этом районе.
(10) …в шамхальские деревни… – Т. е. находившиеся под властью шамхала (см. примеч. 12 на с. 622 наст, изд.).
(11) …под командою генерал-лейтенанта князя Эристова… – Князь Эристов – начальник 21-й пехотной дивизии. В феврале 1830 г. руководил боевой операцией в Джаро-Белоканском округе. 27 мая 1830 г. был назначен командующим войсками в Дагестане, а в июле того же года был отозван в Петербург.
(12) …генерал-лейтенанта барона Розена 2-го. – Барон Роман (Роберт) Федорович Розен (1782–1848) – генерал-лейтенант, участник Отечественной войны 1812 г. и русско-турецкой войны 1828–1829 гг. После отъезда князя Эристова был назначен на должность начальника 21-й пехотной дивизии, а с 5 июля по 23 ноября 1831 г. был командующим войсками в Грузии и на Кавказе.
(13) Только жители Темир-Хан-Шуры… – Темир-Хан-Шура (Шура) – ныне г. Буйнакск.
(14) …война с поляками… – Имеется в виду польское восстание 1830–1831 гг.
(15) …генерал-майор Таубе… – Максим Максимович Таубе (1782–1849), барон – генерал русской армии, служивший на Кавказе с 1825 по 1831 г. С 1829 г. командир 1-й бригады 14-й пехотной дивизии. По донесению генерал-лейтенанта Панкратьева, он привел дела в Дагестане «в худшее положение, чем они были дотоле» (Кавказский сборник. Тифлис, 1889. Т. 13. С. 209). Такого же мнения о нем был и Бестужев.
(16) …возвратился без успеха на линию. – См. примеч. 25 на с. 623 наст. изд.
(17) Отряд генерала Коханова… – Семен Васильевич Коханов (Каханов) (1785–1857) – генерал-майор; с середины 1831 г. был начальником войск в Дагестане. См. о нем также: наст, изд., с. 501.
(18) …подобно адскому водомету… – Водомет – фонтан (устарелое, поэтическое).
(19) …повели атаку со всех фасов… – Фас – обращенная к противнику сторона укрепления.
(20) …лезгины вяжут фашины… – Фашина – связка хвороста, прутьев, используемая солдатами для подкладывания под насыпи батарей, для заваливания рвов и пр.
(21) …генерал Бекович… – См. о нем примеч. 55 на с. 625 наст. изд.
(22) …как «пух от уст Эола». – Строка из «Евгения Онегина» (гл. I, строфа XX). Эол – в греческой мифологии бог ветров.
(23) …генерал-адъютанта Панкратьева, главноуправляющего Закавказским краем… – Никита Петрович Панкратьев (1788–1836) – начальник штаба Отдельного Кавказского корпуса. Ввиду отъезда своего в Польшу 28 апреля 1831 г. Паскевич назначил его командовать войсками в Закавказье и Дагестане. Отношение Бестужева к Панкратьеву было неизменно положительным. Говоря о гибельной политике Паскевича на Кавказе, Бестужев вместе с тем отмечал (в письме к Н. А. Полевому от 26 сентября 1831 г.): «К счастию, что государь вверил управление сего края генералу Панкратьеву, человеку, соединяющему в себе все познания гражданской службы с решимостию и взором военным. Надеемся, что он поправит дела» (наст, изд., с. 505).
(24) …по отбытии графа Паскевича-Эриванского в столицу… – Иван Федорович Паскевич (1782–1856) – главнокомандующий на Кавказе во время русско-иранской и русско-турецкой войн (1827–1829), генерал-фельдмаршал, с 1828 г. граф Эриванский, с 1831 г. светлейший князь Варшавский, с марта 1832 г. наместник Царства Польского. В письме к братьям Полевым от июня 1837 г. Бестужев дает резко отрицательную характеристику Паскевичу, противопоставляя его А. П. Ермолову: «За неволею теперь вспоминают Ермолова: при нем бы этого не сделалось. Паскевич нахватал многого, хотел в один день и в один час с 10 пунктов войти в горы и вдруг покорить их. <…> Он только разбудил их. Потерял сам кучу людей и ушел восвояси» (ИРЛИ, ф. 265, оп. 1, № 222). В письме к Н. А. Полевому от 26 сентября 1831 г. он высказывается еще более определенно: «Паскевич <…> довел Кавказ до высшей степени расстройства» (наст, изд., с. 505). Ср. примеч. 1 к письму 11 на с. 684 наст. изд.
(25) …храброму полковнику Миклашевскому… – Александр Михайлович Миклашевский (ум. 1831) был в 1826 г. переведен на Кавказ как причастный к делу декабристов. Назначенный командиром 42-го Егерского полка, блистательно действовал под Карсом 23 июня 1828 г. В октябре 1831 г. возглавил успешную операцию по захвату селения Дювек. О подвиге и смерти Миклашевского 30 ноября 1831 г. под Чумкескентом см.: Кавказский сборник. Т. 13. С. 145. Бестужев в письме к братьям Полевым от 16 декабря 1831 г. писал о знаменитом храбростью полковнике Миклашевском (см.: наст, изд., с. 509).
(26) …покорил новый магал… – Магал соответствовал русской волости (объединял несколько селений, по историческим, этнографическим или топографическим причинам имевших общие интересы).
(27) …закутан в татарскую чуху… – См. примеч. 7 на с. 622 наст. изд.
(28) …русский сардарь Кызыль-аях… – Т. е. Золотая нога (ср. пояснение Бестужева – наст. изд., с. 99). Речь идет о Валериане Александровиче Зубове (1771–1804), генерал-поручике, который возглавил в 1796 г. 35-тысячное русское войско, направленное в прикаспийские владения Ирана. 10 мая штурмом был взят Дербент, 15 июня без боя заняты Баку и Куба. В декабре 1796 г. войска были отозваны в связи с воцарением Павла I и изменением внешней политики России.
(29) …Омарова отродья… – Омар I (Омар иби аль-Хаттаб) (ок. 591 или 581–644) – арабский халиф (с 634); один из сподвижников Мухаммеда. При нем арабские войска завоевали значительные территории в Азии и Африке. Ввел мусульманское летосчисление по хиджре.
(30) …увенчаны наскоро грудною обороною из досок, из корзин с землею, из хвороста. – Грудная оборона – возвышение бруствера различными (перечисленными в том числе) способами для более надежной защиты от неприятельских пуль. Ср. примеч. 3 на с. 654 наст. изд.
(31) …как перья великанского шишака… – Шишак – металлический шлем с гребнем или с хвостом.
(32) …вея белыми значками. – Значок – малое знамя.
(33) …и в бока разведены были крылья (epaulements). – Эполеман – наращение оборонительного вала с наружной стороны, имеющее один бок (фланг) и один фас.
(34) …повис поперек, как орден Златого Руна. – Учрежденный герцогом Бургундским Филиппом Добрым (1429) рыцарский орден с изображением висящей на дереве шкуры золоторунного барана.
(35) Фейерверкер! – См. примеч. 101 на с. 627 наст. изд.
(36) …подвинтил по диоптру подушку. – Диоптр – приспособление для наводки боевых орудий; подушка – передняя поперечная связь станин у пушки.
(37) …вместе с буцефалом своим… – Буцефал – конь (в ироническом, шутливом употреблении); по имени легендарного дикого коня, обузданного Александром Македонским.
(38) …вывезли два единорога… – Единорог – старинное артиллерийское орудие.
(39) Намаз – мусульманская молитва, совершаемая, согласно ритуалу, два раза в день в определенное время.
(40) …с двух новых барбетов… – Барбет – земляная насыпь под орудие.
(41) …на гробе сорока мучеников. – См. пояснение Бестужева на этот счет (наст, изд., с. 80).
(42) …гомеровские троянцы … – В «Илиаде» Гомера «сонм илионских старейшин», собравшись на Скейской возвышенной башне, наблюдает бой Париса и Менелая (песнь III), Приам оттуда же видит Ахиллеса, мчащегося сразить Гектора (песнь XXI), а Андромаха – труп своего мужа (песнь XXII).
(43) …устраивали траверзы… – Траверс (траверз) – укрепление в виде поперечной земляной насыпи.
(44) …на истребление гяуров… – См. примеч. 33 на с. 623 наст. изд.
(45) Ярлык – в монгольско-татарских ханствах письменный указ, грамота хана.
(46) …потерянные чуреки по дороге ~ Я заскакал далеко в гору целиком. – См. примеч. 28 на с. 623 и примеч. 94 на с. 627 наст. изд.
(47) Не слишком, видно, надеясь на гурий ~ в раю правоверных… – Гурии – согласно мусульманской мифологии, вечно юные девы, услаждающие праведников в раю.
(48) …под предлогом шариата, то есть толкования Корана… – Шариат – свод религиозных и бытовых правил у мусульман, основанных на Коране.
(49) Муж боя и совета прибыл в Дербент 30 сентября. – Выражение «муж совета» восходит к «Илиаде», где так именовались троянские старцы, члены совета во главе с Приамом (см., например, песни III и X).
(50) Ласковые сношения с Нуцал-ханом Аварским и его матерью Паху-Бехи обеспечили фланг наш. – Ханша Аварии Паху-бике, сохранявшая и далее верность России, погибла в августе 1834 г. от руки Гамзат-бека (см. ниже, примеч. 91) вместе со своим семейством.
(51) …полковник князь Дадиан… (ср. с. 109: …полковник князь Дадьян…). – Речь идет о полковнике, флигель-адъютанте, командире Эриванского карабинерного полка князе Дадиани, который возглавлял отряд, в октябре 1831 г. захвативший селения Кучни (Хушни) и Гюммеди (Химеди) вТабасарани.
(52) …завалы были отбиты… – В описании осады Дербента, помещенном в т. 13 «Кавказского сборника», есть такое сообщение об одной из операций осажденных: «Быстро поднявшись на крутизну, под прикрытием сильного артиллерийского огня, охотники приблизились к завалам, ограждавшим две занятые неприятелем башни, и ринулись вперед по следам рядового линейного № 10 баталиона Александра Бестужева (Марлинского), который, несмотря на обильный свинцовый дождь, первый вскочил в завалы» (с. 313).
(53) …и сам ужасный шах Надир… – Надир-шах Афшар (1688–1747) – шах Ирана с 1736 г. из племени афшар; его завоевательные войны привели к созданию обширной империи (Армения, Азербайджан, Грузия, Дагестан, Афганистан, Белуджистан, Хивинское и Бухарское ханства).
(54) …Ермолову которого слава ярче Искендеровой… – Искандер (Искендер) – Александр Македонский (356–323 до и. э.).
(55) …с легкою перепалкою прошли дифилею… – Дефиле (дефилея, дифилея) – ущелье, тесный, узкий проход, обычно используемый для задержания противника.
(56) …над головой облака словно грецкая губка… – Грецкая губка – животно-растение, мягкий и рыхлый остов которого впитывает влагу.
(57) …в грязь, в эту пятую стихию, открытую Наполеоном в Литве. – В 1806 г. возникла так называемая 4-я коалиция государств, противостоявших наполеоновской Франции. Основными участниками ее были Россия и Пруссия. Ареной столкновения Наполеона с русской армией, оказавшей французам отчаянное сопротивление, стала Польша. По поводу этой кампании, которая началась глубокой осенью 1806 г., Наполеон заметил: «Для Польши Господь создал пятую стихию – грязь». Военные операции были приостановлены до более благоприятного времени.
(58) Манерка – походная металлическая фляжка.
(59) Фурман – извозчик на крытой повозке.
(60) Канонер (канонир) – рядовой-артиллерист второго разряда, пушкарь.
(61) После перуна кары… – См. примеч. 36 на с. 623 наст. изд.
(62) …льшейные <…> казаки… – См. примеч. 44 на с. 624 наст. изд.
(63) …всех чертовских нот из «Фрейшица». – «Фрейшютц» («Фрейшиц», «Вольный стрелок») (1820) – опера немецкого композитора К.-М. Вебера (1786–1826), впервые поставленная в 1821 г.
(64) …волонтерного, командуемого гв<ардии> капитаном Юферовым… – Речь идет о лейб-гвардии Гренадерского полка штабс-капитане Юферове, адъютанте генерала Панкратьева.
(65) …это будет что-то вроде… между Теньером и Измайловым. – Излюбленной темой фламандского живописца Давида Тенирса Младшего (1610–1690) являлась простонародная жизнь предметами ее быта, деревенские праздники, свадьбы, пирушки. Александр Ефимович Измайлов (1779–1831) – русский баснописец, прозванный современной критикой в шутку российским Теньером за склонность к изображению в баснях быта городских низов.
(66) Вагенбург остался под с<елением> Кяфир-Кумыком… – Вагенбург – военный обоз.
(67) …остальные мостницы были сорваны, и чиркейцы ~ начали рубить переклады. – Мостница – настилочная доска; переклады – перекинутые через реку, ручей доски, брусья.
(68) …настоящий мост эль-Сырат ~ висящий над бездною Myгаммедова ада. – В поздних вариантах исламского предания появляется толкование часто встречающегося в Коране выражения «прямая дорога» (ас-сират ал-мустаким) как протянутого над адом моста шириной с лезвие меча, по которому будут проходить люди в день Страшного суда. См. также пояснение Бестужева на с. 225 наст. изд.
(69) Полковник Гофман… – См.: наст, изд., с. 512, а также ниже, примеч.75.
(70) Шанцы – окопы, небольшие укрепления.
(71) Я не пан Твардовский и не продал бы души за бочку вина, ни за бочонок золота… – Пан Твардовский – герой польской народной легенды, чернокнижник, продавший душу дьяволу. После смерти остался висеть в воздухе между небом и землей, как преступивший назначенные человеку границы. Своеобразный польский вариант легенды о Фаусте, многократно обрабатывавшийся польскими поэтами.
(72) …с инженер-штабс-капитаном Горбачевским… – Николай Иванович Горбачевский (ум. 1839) – брат декабриста И. И. Горбачевского, офицер инженерных частей Кавказского отдельного корпуса.
(73) …с саперным поручиком Вильде… – Егор Егорович Вильде (ум. 1847) – саперный офицер, в 1827–1847 гг. служил на Кавказе.
(74) …в связях мерлонов… – Мерлон – простенок бруствера, часть насыпи или стены между амбразурами.
(75) Мне поручили выстроить левую половину укрепления… – О своем участии в сложнейшей операции взятия Чиркея Бестужев пишет матери и сестре Елене: «Я перекрестился и пошел <…> с ужасом увидел, как близок я к смерти» (ИРЛИ, ф. 604, № 5573, л. 91–93). В архиве Бестужевых Г. В. Прохоровым обнаружен рапорт полковника Гофмана на имя бригадного командира следующего содержания:
«№ 1275. Ноября 22 дня 1831 года.
РАПОРТ БРИГАДНОМУ КОМАНДИРУ
С воли командующего войсками за Кавказом господина генерал-адъютанта и кавалера Панкратьева и по предложению вашего превосходительства № 970 прикомандированный на время экспедиции в Северном Дагестане к вверенному мне полку Грузинского линейного № 10 баталиона рядовой Александр Бестужев во всех делах сей экспедиции был в стрелках, охотно жертвовал собою и подавал пример товарищам отличной храбрости: при занятии неприятельских завалов при с. Эрпели с первыми ворвался оный, а при селении Черкей первым открыл невозможность перейти на ту сторону реки по случаю разобрания неприятелем моста до основания; с охотниками оставался в передовой цепи, к заложению мостовой батареи способствовал и своеручно работал.
До сведения вашего превосходительства долгом поставляю довести о рядовом Бестужеве как отличном солдате.
Полковник Гофман»
(ИРЛИ, ф. 604, № 5573; л. 47) Рапорт опубликован в статье: Левкович Я. Судьба Марлинского // Звезда. 1975. № 12. С. 161.
(76) …ядро у дарилось в каменный череп… – См. примеч. 34 на с. 623 наст. изд.
(77) …луч солнца, сверкнувший на теме Кавказа… – Темя горы – вершина.
(78) … бомбардир, которому нужно стало окунуть в ведро банник. – Банник – шест с утолщением на одном конце и со щеткою на другом для чистки орудийных стволов.
(79) Эта граната была Сампсон в миниатюре между горскими филистимлянами. – Самсон – библейский богатырь, обладавший сверхъестественной силой, тайна которой заключалась в семи прядях волос. По преданию, филистимлянка Далила выведала эту тайну и, усыпив Самсона ласками, остригла у спящего волосы и выдала его соотечественникам. Самсона ослепили, заковали в цепи и заточили в темницу. Однажды филистимляне собрались в храм на праздник, куда привели и Самсона. Над ним стали насмехаться, и Самсон пришел в ярость. Волосы его отросли, и он, почувствовав прежнюю силу, повалил столбы, на которых покоился свод храма. Под развалинами погибли его враги и он сам.
(80) …прислал для переговоров майора Аббас-Кули-Баки-Ханова. – Имеется в виду Абас-Кули-ага Бакиханов (1794–1847) – азербайджанский историк и литератор; сторонник сближения Азербайджана с Россией. С 1819 г. – переводчик при губернаторе в Тифлисе. В 1826–1829 гг. участвовал в войнах России с Ираном и Турцией. Был хорошо знаком с Бестужевым, а также с Грибоедовым, Кюхельбекером, Пушкиным.
(81) …именитый между них человек, Джеммал. – Джеммал (Джамал) – чиркейский старшина.
(82) …генерала от кавалерии Эммануэля. – Георгий Арсеньевич Эммануэль (1775–1837) – генерал от кавалерии, с 1826 г. командовавший войсками на Кавказской линии. В 1831 г. вынужден был выйти в отставку в связи с тяжелым ранением.
(83) …в замке и мы… – Замок – тыл взвода.
(84) …празднуя тезоименитство великого нашего монарха! – Имеется в виду день именин Николая I (6 декабря).
(85) …сын последнего уцмия… – См. примеч. 17 нас. 622 наст. изд.
(86) …генерала Вельяминова… – Алексей Александрович Вельяминов (1785–1838) – генерал русской армии, начальник штаба Кавказского корпуса.
(87) Давно – кажется, с байбуртского сражения… – Переведенный на Кавказ летом 1829 г., Бестужев стремился немедленно принять участие в боевых операциях заканчивавшейся русско-турецкой войны. 27 сентября 1829 г. он сражался при Байбурте. Это было вторичное и окончательное взятие Байбурта; впервые он был взят 7 июля 1829 г., но затем оставлен нашими войсками. Сражение описано Бестужевым в письме к Н. А. и М. А. Бестужевым от 20 августа 1830 г. (наст, изд., с. 487).
(88) …на крутом гольце. – См. примеч. 85 на с. 627 наст. изд.
(89) Я исчезал в созерцании – Адам падал с плеч моих… я был так далек от земли… – Символика обновления, пробуждения человека, отрешения его от телесных пут, заключенная в данном тексте, опирается, по-видимому, на существующие в христианском богословии представления о ветхом (библейском) Адаме – родоначальнике людей, который впал в первородный грех и обрек человека на смерть, и о новом, втором Адаме (Иисусе Христе – прямом его потомке), спасителе рода человеческого, который даст людям жизнь вечную, очистит их от греха: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (Первое послание к коринфянам апостола Павла, гл. 15, ст. 22). Возможно также влияние образности Данте (ср. в песни IX «Чистилища»: «Когда, с Адамом в существе своем, я на траву склонился, засыпая…»).
(90) Тогда я мог сказать, как Фауст: «Возвышенный дух! ты дал мне, дал мне все, о чем молил я. ~ в глубокое ее лоно, как в сердце друга». – Имеется в виду начало монолога Фауста, открывающего сцену «Лесная пещера» в первой части трагедии И.-В. Гете (1749–1832) «Фауст» (1773–1831).
(91) …в Иргены, где присоединился к нему Гамзат-бек Аварский… – Гамзат-бек (1789–1834), второй имам Дагестана, с 1832 г. преемник Гази-Магомеда. В августе 1834 г. предпринял поход против аварских ханов и уничтожил всю их семью (см. выше, примеч. 50). Вскоре и сам он погиб в Хунзахе по закону кровной мести.
(92) Худо ли был проколот картуз… – Картуз – шерстяной мешок с зарядом пороха для пушки, мортиры.
(93) …но там сторожил их отважный Улу-бей. – Улу-бей – князь эрпелинский.
(94) … Крепость Бурная, возвышающаяся на отвесном утесе над Тарками… – Была заложена в 1821 г. Ермоловым. Сюда был выслан из Тифлиса Петр Бестужев. Об осаде крепости см. в письме Бестужева к матери от июня 1831 г. (см.: наст, изд., с. 501).
(95) …подполковник фон Диетерло 2-й… – Был назначен генералом Кохановым командиром Куринского пехотного полка в конце апреля 1831 г. (вместо майора Ивченко) (см.: Кавказский сборник. Т. 13. С. 277; Вейденбаум Е. Декабристы на Кавказе // PC. 1903. № 6. С 481–502).
Вечер на кавказских водах в 1824 году*
Впервые опубликовано: СО и СА. 1830. № 37–41, с подписью: «А. М.» и пометой: «Дагестан, 1830 (продолжение обещано)». Продолжение, однако, так и не было завершено (см.: наст. изд., с. 639–640). Печатается по тексту первой публикации.
Интересен отзыв Кюхельбекера о «Вечере на Кавказских водах в 1824 году», который «уступает в зрелости и оригинальности его повести „Испытание“, по все же доказывает прекрасное дарование автора. <…> Из рассказанных тут повестей последняя мне кажется самою разительною» (Кюхельбекер. С. 297).
(1) Посвящается Николаю Ивановичу Гречу. – Н. И. Греч (1787–1867) – русский журналист, писатель, филолог. Во «Взгляде на старую и новую словесность в России» Бестужев положительно оцепил литературно-критическую и журнальную деятельность Греча, издававшего журнал «Сын отечества» (1812–1839), который был близок декабристам. «Греч, – писал Бестужев, – соединяет в себе остроту и тонкость разума с отличным знанием языка. На пламени его критической лампы не один литературный трутень опалил свои крылья. Русское слово обязано ему новыми грамматическими началами…» (Марлинский, 11,154; уточнение в текст внесено по изданию: Литературно-критические работы декабристов / Вступ. статья, подгот. текста и примеч. Л. Г. Фризмана. М., 1978. С. 52). Первые свои произведения из Дербента Бестужев «по старой памяти» посылает И. И. Гречу и объясняет это в письме к Н. А. Полевому от 16 декабря 1831 г. следующим образом: «Насчет моих отношений с Гречем скажу: я плачу старый долг. Греч первый ободрил и оценил меня; когда целый комитет цензуры решил, что я не умею написать строчки по-русски, он первый предложил мне и в несчастий быть его сотрудником» (см.: наст, изд., с. 5(/9). Впоследствии отношения с Гречем станут сложнее и противоречивее.
(2) Зачем от нас могил ужасный клад Видения и страхи сторожат? – Эпиграф принадлежит Бестужеву (см.: Бестужев-Марлинский А. Поли. собр. стихотворений / Вступ. статья и примеч. Н. И. Мордовченко; Общ. ред. М. А. Брискмана. Л., 1961. С. 287 (Б-ка поэта; Большая сер. 2-е изд.)).
(3) Там горести, там страсти яд немеет ~ И дышит грудь бессмертною свободой! – Источник цитаты не установлен.
(4) …новую станицу линейских казаков… – См. примеч. 44 на с. 624 наст. изд.
(5) …молодой человек в венгерке… – Венгерка – верхняя одежда военных чинов, напоминающая форму венгерских гусар.
(6) …значительно поглядывая на капитана Нижегородского драгунского полка… – Упомянутый полк – один из старейших русских полков. Сформированный в 1707 г., в конце XVIII в. был направлен на Кубань; в описываемое в повести время нес службу по охране Кавказской линии.
(7) …сотрудник «Дамского журнала»… – «Дамский журнал» издавался в 1823–1833 гг. П. И. Шаликовым (1767–1852). В своих критических статьях он ожесточенно нападал на П. А. Полевого, Е. А. Баратынского и др. Во «Взгляде на русскую словесность в течение 1823 года» Бестужев с иронией говорит о журналисте, пленявшем читателей «чужою любезностью, невинными критиками, довольно нелюбопытными письмами и милыми стишками» (Марлинский, 11,115–116).
(8) …возразил артиллерийский ремонтер обвинителю. – Ремонтер – офицер, отправленный из полка для закупки лошадей.
(9) – Настоящий vinaigre de quatre voleurs! – наддал еще драгунский капитан… – «Vinaigre de quatre voleurs» – особый уксус, который носили на себе как средство от заразы.
(10) …не только Шампольон-младший! – Жан Франсуа Шампольон (1790–1832) – французский ученый, основатель египтологии, разработал основные принципы расшифровки древнеегипетского иероглифического письма. Изучением греческих источников египетской истории занимался его старший брат Жак Жозеф Шампольон (1778–1867).
(11) …весьма походила на сосуд, в который царь Соломон запечатал множество духов. – Известно талмудическое сказание о том, как царь Соломон заключил несколько бесов в медные бочки, залил их оловом, запечатал печатью и бросил в море (см.: Дурново Н. Н. Легенда о заключенном бесе в византийской и старинной русской литературе // Древности. Труды Славянской комиссии имп. Московского археологического общества. М., 1907. Т. IV, вып. 1. С. 54, 57, 58,77–78,139–150).
(12) – Военный или рябчик был друг его? – Рябчик – уничижительное прозвище штатского.
(13) … но одни солитеры его перстней… – Солитер – крупный бриллиант.
(14) …спустил их со смычка в чужую угонку. – Смычок – пара ошейников, связанных цепочкой; на смычке (по две вместе) держат гончих собак. Угонка – охотничье выражение, означающее настижение зверя собаками, которые заставляют его свернуть в сторону.
(15) – Кадожи? – отвечал сфинкс ~ для дел и успехов вольных каменщиков. – Масонство (франкмасонство; от фр. francmacon – вольный каменщик) – религиозно-этическое движение, возникшее в начале XVIII в. в Англии и распространившееся во многих странах, в том числе и в России. Масоны стремились создать тайную всемирную организацию с целью мирного объединения человечества в религиозном братском союзе. Декабристы использовали масонские организации в целях конспирации. В 1822 г. они были запрещены правительством. Кадош (кадож) – последняя, тридцатая ступень масонской лестницы степеней согласно «Старому принятому шотландскому обряду»; ее полное название – «Рыцарь белого и черного Орла, Великий избранник, Кадош». «Под наименованием „Кадош“ масоны разумели „едино избранных сверхчеловеков, очистившихся от скверны предрассудков“. Эта степень <…> готовила посвящаемых в мстители за попранные права человечества…» (Масонство в его прошлом и настоящем. СПб., 1915. Т. 2. С. 103).
(16) …то есть фармазон… – Фармазон – искаженное название члена масонской ложи (франкмасон); употреблялось в бранном смысле со значением «вольнодумец».
(17) …от Макарья… – Речь идет о знаменитой ежегодной русской ярмарке, которая первоначально происходила у стен Макарьевского монастыря под Нижним Новгородом, а потом была перенесена в самый город, но сохранила свое название. Время ее проведения – июль-август.
(18) Ради самого Пифагора… – Пифагор Самосский (ок. 570-ок. 500 до н. э.) – древнегреческий мыслитель, религиозный и политический деятель; известен также своими достижениями в области математических наук.
(19) …в руки тамплиеров… – Тамплиеры (храмовники) – католический духовно-рыцарский орден, основанный около 118 или 119 г. французскими рыцарями с целью защиты паломников и завоеваний крестоносцев. Был крупнейшим феодальным владетелем на Ближнем Востоке и в Европе. Упразднен в 1312 г.
(20) …до самого Подкумка… – Подкумок – правый приток р. Кумы; на берегах Подкумка стоят Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Георгиевск.
(21) …есть вещи, о которых, по словам Шекспира, и во сне не грезила ваша философия. – Имеются в виду слова Гамлета из одноименной трагедии В. Шекспира (1564–1616) (1601; акт 1, сц. 5).
(22) Гей, малый! донского – полынкового. – См. примеч. 86 на с. 627 наст. изд.
(23) …струями эперне. – Эперне – одно из шампанских вин, производимое в одноименном городе на северо-востоке Франции (департамент Марна).
(24) …вывеску, на которой Бахус… – Имеется в виду Дионис – бог растительности, покровитель виноградарства и виноделия, один из популярнейших богов древней Греции; носил прозвище Вакх (Бакх); в Риме почитался под именем Бахуса.
(25) Каждое слово ~ ходило вернее билета на Амстердамский банк… – Речь идет о крупнейшем европейском банке (основан в 1609 г.).
(26) …русские гардемарины посылались на британский флот… – Гардемарин – унтер-офицерский чин, в который производились воспитанники Морского кадетского корпуса.
(27) …с английскою корвентой… – Корвента – вероятно, корвет (в устаревшей форме: корветта), т. е. трехмачтовое военное судно с пушками на палубе.
(28) …бесконечные тосты в three times и three times three, то есть с троекратным «ура»… – Более точный перевод этих английских выражений: «с троекратным „ура“ и трижды троекратным „ура“».
(29) Один только граф М – р нашел в палаче лицо утешительное для человечества, как в представителе божеского правосудия на земле. – Имеется в виду Жозеф де Местр (1753–1821) – французский публицист, политический деятель и религиозный философ, создавший яркий портрет палача в книге «Вечера в Санкт-Петербурге». Палач предопределен и необходим, по де Местру, так как «зло существует на земле постоянно и его соответственно необходимо сдерживать наказанием»; следовательно, «меч правосудия не вкладывается в ножны – он всегда должен грозить или поражать» (Maistre J. de. Les soirees de Saint-Petersbourg, ou Entretiens sur le gouvernement temporel de la providence, suivies d'un Traite sur les Sacrifices. Paris, 1929. Vol. 1. P. 30–31).
(30) …коварной логике Торквемады, где высокие причины смешаны с унизительными орудиями. – Томас Торквемада (ок. 1420–1498) – глава испанской инквизиции, с 1483 г. великий инквизитор Кастилии и Арагонии, с 1486 г. – также Валенсии и Каталонии. Разработал организационную структуру органов инквизиции и процедуру инквизиционного суда. Ввел в массовую практику аутодафе. Инициатор преследования мусульман и евреев (добился изгнания последних из Испании в 1492 г.). Рассуждение о «коварной логике» Торквемады подразумевает, может быть, то, что желание увеличить доходы королевской и папской казны путем конфискации имущества осужденных было столь же существенным мотивом деятельности инквизиции, сколь и религиозный фанатизм.
(31) …внезапный тифон… – Тифон – смерч.
(32) …громче тридцатишестифунтовых каронад. – Каронады – предназначавшиеся для флота чугунные пушки, стрелявшие крупными ядрами, но на малое расстояние; впервые изготовлены в 1774 г. на литейном заводе в Карроне (Шотландия).
(33) …на глаголе… – Речь идет о виселице, которая обычно ставится в виде буквы «г».
(34) …при начале войны конфедератов. – 3 мая 1791 г. польский сейм под нажимом шляхетско-буржуазного блока принял конституцию, по которой Польша превращалась в централизованную монархию. Недовольные этим магнаты создали в мае 1792 г. Тарговицкую конфедерацию и подняли мятеж. Король Станислав Понятовский, присягнувший конституции, перешел на сторону конфедератов. Мятежников поддержали Россия и Пруссия, которые 13 января 1793 г. подписали соглашение о втором разделе Польши.
(35) …об ужасной варшавской заутрене. – Варшава была освобождена в результате восстания горожан, вспыхнувшего в ночь с 17 на 18 апреля. Занимавший город восьмитысячный русский отряд потерял более половины своего состава и покинул Варшаву.
(36) …в майонтках своих… – Майонтек – владение, поместье.
(37) …за здоровье Станислава, которого мы поддерживали на троне. – Станислав Август Понятовский (1732–1798) – последний польский король (1764–1795). Избранный при поддержке Екатерины II и Фридриха II, в политике ориентировался на Россию.
(38) …начиная от командующего корпусом генерала Иге льет рома… – Осип Андреевич Игельстром (ум. 1817) – генерал от инфантерии; участник первой русско-турецкой и русско-шведской войн; командующий русскими войсками в Польше с конца 1793 г. Едва спасшийся от смерти во время варшавского восстания, оставил службу.
(39) …раздавался глухой вопль посполитого рушенья… – Так называлось всеобщее шляхетское ополчение.
(40) …ив два года прошло до четверных складов; но по верхам <…> читал он плоховато. – Склад – слог; имеется в виду чтение четырехсложных слов; такое чтение противопоставлялось беглому чтению, без предварительного складывания слогов, т. е. по верхам, или по толкам.
(41) …походила на завитую в семик березку. – Семик – народный праздник, связанный с культом весенней земледельческой обрядности и справляемый в седьмой четверг после пасхальной недели.
(42) …потомком Сухаревой башни… – Сухарева башня – трехъярусное здание в готическом стиле, построенное Петром I в Москве в 1692 г. в честь Сухаревского стрелецкого полка, единственного оставшегося верным царю во время бунта 1689 г. Разобрана в 1935 г.
(43) …на ретираде… – Ретирада – отступление.
(44) Таким центавром прибыл он ко фронту… – Центавры (или кентавры) – в греческой мифологии лесные демоны, полулюди-полукони.
(45) …повольно возвращался в главную квартиру… – Повольно – не спеша.
(46) Он был у него квартермистр… – Квартермейстер (квартермистр) – офицер, располагающий войска на квартиры и занимающийся также вопросами продовольствия.
(47) …наратовища… – Ратовище – древко.
(48) …привязывают флюгарки к вилам… – Флюгер (флюгарка) – флажок с изображением какой-нибудь эмблемы.
(49) …горды, как трехбунчужные паши… – Знаком сана и власти пашей в Турции был бунчук – конский хвост на украшенном древке.
(50) …вероятно, эконом фольварка… – Фольварк – усадьба, хутор, ферма.
(51) …весьма похожий на тощую фараонову корову ~ не став оттого сытее… – Имеется в виду библейский эпизод истории Иосифа, растолковавшего фараону его сон, в котором семь тощих коров съели семь тучных (Бытие, гл. XLI, ст. 17–21).
(52) …шутиху в зубы этой челяди? – Шутиха – фейерверочная ракета, оставляющая зигзагообразный огненный след.
(53) …заревел, как Фаларидов бык… – Имеется в виду медный бык агригентского тирана Фаларида (2-я половина VI в. до н. э.), отличавшегося изощренной жестокостью: в быке он медленно жарил ненавистных ему людей. Стоны казнимых напоминали мычание быка. По преданию, быка отлил мастер Перилл. Когда он потребовал у тирана достойной награды за свое изобретение, тот приказал бросить его в быка. Фаларид был убит в Агригенте во время всеобщего восстания после его шестнадцатилетнего правления.
(54) Их век был веком ~ а десятую отдал ему в бенефис ~ торжественное шествие из кружала ~ этому не должно быть иначе. Кружало – в старину в России питейный дом, кабак. – Десятая заповедь гласит: «Не желай <…> ничего, что у ближнего твоего» (Исход, гл. XX, ст. 17).
(55) На Руси кантуй как в земле неприятельской… – Кантовать – кутить, пировать, гулять.
(56) …вверх копылками… – Копыл – брусок, вставленный в полозья, опора кузова саней.
(57) …гнилые ворота лежали у верей в крапиве… – Вереи – столбы, на которые навешиваются ворота.
(58) …измеряя его глазами, как страсбургскую колокольню. – Речь идет о башне (142 м; ок. 1439) собора в исторической столице Эльзаса Страсбурге, строившегося в XI–XVI вв. и от разившего в своем облике все стадии средневекового зодчества. Башня, как и весь западный фасад собора, – шедевр поздней готики.
(59) …другие в расшитых кафтанах и кунтушах… – Кунтуш – польский верхний кафтан с откидными рукавами.
(60) …начиная от короля Аяшка Белого… – Лешек Белый (ок. 1186–1227) – польский король из династии Пястов, сын Казимира Справедливого, князя Краковского и Сандомирского, и русской княжны Елены; получил краковский престол в 1202 г.
(61) …дома Тарлов… – Известный польский дворянский род, восходящий к XV в. и утративший свое значение ко второй половине XVIII в.
(62) …и пана племянника главнокомандующего нашли бардзо пришемным! – Т. е. очень милым.
(63) …его речь была подобие Цицероновой «Pro Milone»…. – Марк Туллий Цицерон (106-43 до н. э.) – древнеримский политический деятель, выдающийся оратор и писатель; сторонник республиканского строя. Имеется в виду его речь в защиту Анния Милона, обвиненного в предумышленном убийстве кандидата в преторы Клодия. Произнесенная в 52 г. эта последняя крупная судебная речь Цицерона не достигла цели: Анний Милон был осужден и сослан.
(64) …восклицая: «Фантом, фантом!» – Фантом – видение, призрак.
(65) …под епанчою… – Епанча – широкий плащ без рукавов.
(66) …как польского короля Попела. – Легендарный род Попела (Попеля), княжившего в Гнезне, вымер; на смену ему в IX в. пришла династия Пястов.
(67) …заменяя патрули и ее деты. – См. примеч. 100 на с. 627 наст. изд.
(68) …подполковник Тучков. – Николай Алексеевич Тучков (1761–1812) – участник сражения при Цюрихе (1799); при Прейсиш-Эйлау (1807) командовал правым крылом русской армии; в 1808 г., во время войны со Швецией, участвовал в военных действиях в Финляндии. В Бородинском сражении, где его 3-й пехотный корпус прикрывал левое крыло русских войск, был смертельно ранен.
(69) …фейерверкера этой роты… – См. примеч. 101 на с. 627 наст. изд.
(70) …ведьма станет творить молитву, сидя на трубе, по словам баллады… – О какой балладе идет речь – неизвестно.
(71) …завернув носик в меховой воротник ментика… Ментик – гусарская верхняя куртка, отделанная мехом и украшенная шнурами, носилась в рукава или внакидку.
(72) …гусарская ташка… – Ташка – кожаная сумка, которую гусары носили на ремнях, прикрепленных к портупее.
(73) …кивер зверски набекрень… – Строка из стихотворения Д. В. Давыдова (1784–1839) «Песня старого гусара» (1817). См. примеч. 3 к письму 17 на с. 690 наст. изд. Кивер – высокий военный головной убор из твердой кожи.
(74) …осаживаешь коня с лансады… – Лансада – крутой и высокий прыжок верховой лошади.
(75) …восхищаюсь с отцом славою Косцюшки. – Тадеуш Костюшко (1746–1817) – глава патриотических сил Польши, выступивших на защиту независимости страны и за возвращение отторженных в 1772 и 1793 гг. земель весной 1794 г.; около семи лет участвовал в войне за независимость североамериканских колоний Англии и получил чин генерала; в 1792 г. сражался против конфедератов. Ранен в бою при Мациевицах 10 октября 1794 г. и взят в плен царскими войсками. Освобожден из Петропавловской крепости в 1796 г. Умер в Швейцарии. Прах его перевезен в Краков.
(76) …подходя к одной мызе… – Мыза – обычное название для загородного дома, дача с собственным отдельным хозяйством в местностях, прилегающих к Финляндии.
(77) …меня встретил наш эскадронный квартиргер… – Квартирьер (квартиргер) обычно высылался вперед отряда с задачей подыскать квартиры для войск.
(78) …а взгляды – настоящий греческий огонь. – Греческий огонь – зажигательная смесь, применявшаяся в VII–XV вв. в морских боях и при осаде крепостей.
(79) …как пучина Левкада… – Левкад – старинное название острова Лефкас на Ионическом море. На его южной оконечности находилась скала со знаменитым храмом Аполлона на вершине. С Левкадийской скалы ежегодно сбрасывали в море одного преступника для искупления грехов всего населения. Ему не давали утонуть, но он должен был навсегда покинуть страну. По версии Овидия, с этой скалы в море бросилась Сафо, отвергнутая лесбосцем Фаоном.
(80) …сквозь рыболовную заколь… – Закол (заколь) – частокол поперек реки для ловли рыбы.
(81) То была ветхая униатская часовня… – Униаты – лица, придерживающиеся греко-католического вероисповедания и признавшие Брестскую унию 1596 г. о слиянии католической и православной церквей под главенством римского папы.
(82) …в лимбургском сыре… – Лимбургский сыр – острый, с сильным запахом, очень мягкий сыр, импортировавшийся из Бельгии.
(83) …мысль моя на Астольфовом гиппогрифе… – Астольф – английский рыцарь, персонаж поэмы «Неистовый Роланд» (1516–1532) итальянского поэта Л. Ариосто (1474–1533). Как и другие ее герои, Астольф прибегал к помощи гиппогрифа (описание этого фантастического существа, наполовину коня, наполовину грифа, см. в песни IV). На гиппогрифе он, например, летит через всю Европу и Африку, попадает на вершину горы у истоков Нила, где находится земной рай, затем на Луну, откуда привозит заключенный в склянке разум Роланда (песни XXXI–XXXIV). И Астольф, и гиппогриф действуют также в незавершенной поэме М. Бояр-до (1441–1494) «Влюбленный Роланд» (1484; опубл. 1495), как продолжение которой и был написан «Неистовый Роланд» Ариосто.
(84) …залетела на луну ~ в этой «гостинице земли», как сказано в отчете о луне, с нее сквозь Гершелев телескоп… – Какой «отчет о луне» имеет в виду Бестужев, неясно. Вильям Гершель (1738–1822) – английский астроном и оптик; в 1786–1789 гг. построил свой крупнейший рефлектор. Им открыты планета Уран (1781) с ее двумя спутниками (1787) и два спутника Сатурна (1789).
(85) …с этим связалась идея континентальной системы… – Берлинским декретом от 21 ноября 1806 г. Наполеон организовал так называемую континентальную блокаду Англии, предполагавшую закрытие всех европейских портов для ее судов, запрещение всякой торговли с англичанами и конфискацию английских товаров, обнаруженных на территории Франции и союзных с нею государств. По тайному пункту Тильзитского мира (7 июля 1807 г.) Россия дала согласие примкнуть к блокаде. Конечной целью Наполеона была морская война с Англией на два фронта – со стороны Средиземного моря и со стороны океана.
(86) …о супе из костей графа Румфорда… – Бенджамин Румфорд (1753–1814; до получения титула графа в 1791 г. носил фамилию Томсон) – англо-американский химик и физик; политический деятель. В 1784–1798 гг., занимая важные государственные должности в Баварии, много сделал для уничтожения нищенства (построил для бедных приюты, снабдил их здоровой и недорогой пищей, дал им работу). «Soupe a la Rumford» – раздаваемый беднякам дешевый суп.
(87) …о поездке на пароходе в Кронштадт… – В Петербурге в 1815 г. был построен первый в России пароход «Елизавета». Он курсировал на линии Петербург – Кронштадт.
(88) …о сдаче Праги… – Имеется в виду завершающий эпизод польского восстания 1794 г., когда командующий русскими войсками А. В. Суворов 24 октября двинул их на Прагу – предместье Варшавы на правом берегу Вислы, и после кровопролитных боев на его улицах сломил отчаянное сопротивление поляков. За поражением восстания последовал третий раздел Польши (1795) и окончательная ликвидация польского государства.
(89) …бомбардировании Копенгагена… – В конце 1800 г. по инициативе Павла I была образована лига нейтральных государств (Россия, Пруссия, Швеция, Дания) с целью противодействовать морской тирании Англии. Для Наполеона Бонапарта это была неожиданная поддержка в борьбе с Англией. Однако лига оказалась недолговечной. Первый удар ей нанесла смерть Павла I в марте 1801 г. Затем после бомбардировки Копенгагена 2 апреля 1801 г. английской эскадрой под командованием Г. Нельсона из состава лиги вышла Дания. Опасаясь возрождения лиги, самым деятельным членом которой могла бы быть Дания, Англия, начиная со 2 сентября 1807 г., в течение пяти дней, вновь подвергла Копенгаген бомбардировке. Город был взят англичанами, датский флот разграблен.
(90) …о греческом восстании, о лорде Байроне… – Речь идет о греческом восстании против турецкого ига 1823–1824 гг., в котором принял активное участие английский поэт Джордж Гордон Байрон (1788–1824).
(91) …заглавный листок «Телеграфа»… – Речь идет о журнале Н. А. Полевого «Московский телеграф» (1825–1834). Отношение к журналу у Бестужева менялось – от настороженно-иронического (см. «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов») до полного признания в 1830-е гг. (см., например, письма к К. А. Полевому от 3 мая и от 31 мая 1834 г. – наст, изд., с. 531, 533).
(92) …в одном доломане… – Доломан – короткий гусарский мундир, к которому пристегивался ментик (см. выше).
(93) …избрал своим мантелетом… – Мантелет – большой четвероугольный щит на колесах; служил для прикрытия работающих на рытье траншей, давая возможность постепенно подвигаться к атакуемому укреплению.
Следствие вечера на кавказских водах (отрывок)*
Впервые опубликовано: Марлинский А. Полн. собр. соч. 3-е изд. СПб., 1839. Ч. 12. Повести и прозаические отрывки, оставшиеся после смерти автора. С. 249–268. Черновой автограф: ИРЛИ, ф. 604, № 5577, л. 27–38. Печатается по тексту первой публикации.
Еще в 1830 г., печатая в «Сыне отечества и Северном архиве» «Вечер на Кавказских водах в 1824 году», автор обещал продолжение рассказа. Он не оставлял намерения завершить рассказ и в 1831 г. (см. письмо к А. М. Андрееву от 9 апреля 1831 г. – наст. изд., с. 496). Вначале 1832 г. Бестужев предполагал поместить «Вечер…» «целиком» в 3-й части «Русских повестей и рассказов» и сообщал матери, что снова принялся писать окончание рассказа (см. письмо П. М. Бестужевой от 9 февраля 1832 г. – наст. изд., с. 513). 9 марта 1833 г. в письме к Н. А. Полевому шла речь о том, чтобы включить законченный «Вечер…» в одну из частей (6–8), продолжающих «Русские повести и рассказы» в пяти частях (см.: наст. изд., с. 524). Делая распоряжение 18 мая 1833 г. К. А. Полевому относительно издания ч. 6–8, Бестужев просит не печатать «Вечер…» без продолжения: «„Вечер на Кавказских водах“ отдайте попозднее, хочу докончить» (см.: РВ. 18 61. № 4. С. 444). Однако продолжение так и не было написано. Стремление закончить произведение делает публикацию отрывка особенно важной. «Следствие…» теснейшим образом связано с «Вечером…», проливая дополнительный свет на характер конфликта, фигуру героя и особенность жанра произведения.
(1) …после Саллюста… – См. примеч. 1 на с. 629 наст. изд.
(2) …после Альфиери… – Витторио Альфьери (1749–1803) – итальянский драматург, автор трагедий «Клеопатра», «Мария Стюарт», «Саул» и др.
(3) …по берегам Подкумка… – См. примеч. 20 на с. 636 наст. изд.
(4) …как бочка Данаид… – Бочка Данаид в греческой мифологии – символ бессмысленного труда, на который навечно были осуждены Данаиды – 50 дочерей царя Даная – за совершенное ими злодеяние – убийство своих мужей.
(5) …в разноцветных, расшитых доломанах и ментиках… – См. примеч. 71 на с. 638 наст. изд. и примеч. 92 на с. 639 наст. изд.
(6) …значит не более как выигранная карта на пе… – «Пустить на пе» или «поставить на пе» – карточное выражение, означающее: «поставить удвоенную ставку».
(7) …с Колумбом нашел девственную землю. – Христофор Колумб (1451–1506) – мореплаватель (по происхождению генуэзец). Во время своей экспедиции 1492–1493 гг. 12 октября 1492 г. открыл Америку.
(8) …любовь похожа на Ринальдово зеркало. ~ выражать на деле. – Возможно, имеется в виду любовная сцена из «Освобожденного Иерусалима» (1580) Т. Тассо (1544–1595) (песнь XVI, октавы 20–22), происходящая между Ринальдо и Армидой в ее волшебных садах:
Она гляделась в гладкий свой кристалл,
В ее очах он зеркала искал.
«Как в зеркало сойти твоим чертам?!
Как стеклышку весь рай в себя пристроить?!
Взведи глаза на звезды – только те
Тебе равны в небесной красоте».
(Тассо Т. Освобожденный Ерусалим / Пер. Ореста Головнина (Романа Брандта). М., 1912. Т. 2. С. 112).
(9) …что и светские женщины «умеют любить»… – Иронически окрашенная скрытая цитата из «Бедной Лизы» (1792) Н. М. Карамзина (1766–1826): «и крестьянки любить умеют».
(10) …которыми 18 век населил высшее общество. – В черновом автографе за словами: «населил высшее общество» – следовало: «одним из тех образчиков, по которым судя можно сказать, что Россия сгнила недозревши» (ИРЛИ, ф. 604, № 5577, л. 33).
Прощание с Каспием*
Впервые опубликовано: БдЧ. 1834. Т. 6. С. 17–24, в серии «Кавказские очерки», с подписью: «Александр Марлинский». Печатается по тексту первой публикации.
3 апреля 1834 г. Бестужев, получив назначение в Грузинский линейный № 10 батальон, квартировавший в городе Ахалцихе, выехал из Дербента. Местные жители устроили ему шумные проводы. «…почти все городское народонаселение, – рассказывает очевидец, – провожало его и верхом и пешком, верст за двадцать от города, до самой реки Самура, стреляя на пути из ружей, пуская ракеты, зажигая факелы <…> вся толпа старалась всячески выразить свое расположение к любимому своему Искендер-беку» (PC. 1900. № 11. С. 455).
(1) …бегло читал твои дивные руны… – Руны – письмена (на камнях, металлических предметах), преимущественно у скандинавов.
(2) …чей лот досягнул до дна твоих хлябей? – Лот – прибор для измерения водных глубин.
(3) …все капельники… – Капельники – известковые наросты, образующиеся в результате затвердения капающей влаги.
(4) Но перун грянул… – См. примеч. 36 на с. 623 наст. изд.
(5) Прочь, второй Сатурн! Тебе не пожрать своего дитя! – Сатурн – римский бог посевов; отождествлялся с греческим Кроном (Кроносом) – титаном, одним из древнейших доолимпийских божеств, пожиравшим своих детей, ибо ему было предсказано, что он будет низвергнут одним из них.
(6) Скажу вместе с Байроном: «Терны, мною пожатые, взлелеяны собственною рукою ~ от подобного семени!» – Цитируется «Паломничество Чайльд Гарольда» (1812–1817) Дж. Байрона (1788–1824) (песнь IV, строфа 10).
(7) Гумбольдт доказал, что поверхность Каспийского моря ~ кажется, на триста футов… – Александр Гумбольдт (1769–1859) – немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник. Исследовал природу различных стран Европы, Урала, Сибири. Бестужев говорит о нем в «Письме к доктору Эрдману» (см.: Марлинский, 3, 138).
Мулла-Нур*
Впервые опубликовано: гл. I–X – БдЧ. 1836. Т. 17, ч. 1. С. 2–190, в серии «Кавказские очерки», с подписью: «Александр Марлинский»; «Заключение» – Сто русских литераторов. СПб., 1839. Т. 1. С. 141–158, с пометой: «9 апреля. Кубинский Кунакент. Ночь». Автограф хранится: гл. I, фрагменты гл. II – ИРЛИ, ф. 604, № 5576, л. 40–51; № 5577, л. 15–16; фрагмент «Заключения» – ИРЛИ, № 5575, л. 139–148. Печатается по сохранившимся частям автографа и по тексту первых публикаций с устранением большого количества опечаток и (по автографу) ряда неоправданных купюр в печатном тексте, в том числе и цензурного характера (частично на них указал Я. Генцель в статье «О текстологических недостатках нового издания сочинений Бестужева-Марлинского» – Рус. лит. 1961. № 1. С. 136–137).
Повесть «Мулла-Hyp» создавалась писателем в 1835–1836 гг. В письме к брату Павлу (31 декабря 1835 г.) Бестужев сообщал, что пришлет «Мулла-Нура» Смирдину около 20 января 1836 г. (ОЗ. 1860. № 7. С. 56). Бестужев просит брата передать Смирдину, что «кончил для него „Мулла-Нура“; будет листов 10 печатных» (Там же. С. 58). Рукопись была отослана Смирдину без «Заключения». Получив «Библиотеку для чтения» за 1836 г. (т. 17), Бестужев сообщает в письме к брату от 7 августа 1836 г., что «„Мулла-Hyp“ напечатан довольно отчетливо, но не без ошибок». И здесь же с тревогой говорит о невозможности дописать заключительную часть повести: «Скажи Смирдину, пусть извинит, что рассказ Мулла-Нура не кончен: ей-богу, душа не на месте» (Там же. С. 64). Рассказ Мулла-Нура, которым заканчивается повесть, так и не был завершен автором. Объясняется это крайне неблагоприятными условиями жизни Бестужева в 1835–1836 гг., почти исключавшими возможность творческой работы. В письме к братьям от 23 ноября 1836 г. он пишет: «…меня многие упрекают все, что я мало пишу. Но знают ли и немногие, какую кочевую жизнь веду я вот уже три года: в это время не пробыл я двух месяцев на месте» (ИРЛИ, ф. 604, № 5581, л. 234–235).
Так же как «Аммалат-бек», повесть «Мулла-Hyp» создана на реально-исторической и фольклорной основе (см.: Алексеев М. П. Этюды о Марлинском. Иркутск, 1928. С. 32–44; Попов А. В. Русские писатели на Кавказе: А. А. Бестужев-Марлинский. Баку, 1949. Вып. 1. С. 45–54; ср.: Базанов В. Г. Очерки декабристской литературы: Публицистика; Проза; Критика. М., 1953. С. 481–492). Герой повести – прославленный на Кавказе разбойник. О нем писал и Вл. Даль («Рассказ лезгинца Асана о похождениях своих. (Писано со слов рассказчика)): „В это время в тех местах на большом пространстве славился известный разбойник Мулла-Нур; смелость его и неустрашимость были ведомы всякому, и его боялись все“» (Даль В. И. (Казак Луганский). Полн. собр. соч. СПб.; М., 1897. Т. 2. С. 169).
Бестужев смотрел на «Мулла-Нура» как на одно из самых зрелых своих произведений о Кавказе. Братьям, которые уговаривали его написать «восточное произведение», он писал в конце 1835 г.: «Вы требуете, чтобы я во что бы то ни стало сделался мусульманином; чтобы вам угодить, я написал восточную повесть под заглавием „Мулла-Нур“ <…>. Это картина <…> списанная с натуры, в том смысле, что прототипы моих персонажей и обороты речи в точности соответствуют действительности <…>. Это первое произведение, написанное одним махом и без поправок <…> по материалам моего дневника, представленным в нем с большей значимостью, чем в официальном отчете» (ИРЛИ, ф. 604, № 5578, л. 169–171). Взыскательные братья Бестужева, Николай и Михаил, были удовлетворены повестью: «Твоего „Мулла-Нура“ прочли мы два раза с новым удовольствием. Слог твой удивительно как возмужал…» (письмо от 5 февраля 1837 г. – ИРЛИ, ф. 604, № 5579, л. 1–3).
(1) …сколько улемов… – Улемы – признанные и авторитетные знатоки теологии и религиозного права, в руках которых находились религиозные учреждения, учебные и благотворительные заведения, суды и т. д.
(2) …как назвал ошибочно Томас Мур героиню прелестной поэмы своей «Light of the Haram»… – «The Light of the Haram» («Светоч гарема») – последняя из четырех восточных сказок, составивших романтическую поэму Т. Мура (1779–1852) «Лалла Рук» (1817). Русский перевод сказки относится к 1827 г.
(3) …как степь Мугапа… – Расположена на юго-востоке Азербайджана и за его пределами, в Иране.
(4) …марена чахнет. – См. примеч. 64 на с. 625 наст. изд.
(5) …других цветов, кроме распускающихся под творческою рукою Лапиной… – Цветочный магазин Лапиной по адресу: Большая Миллионная, дом № 11, значился в «Книге адресов С.-Петербурга на 1837 год, изданной <…> Карлом Нистремом» в разделе «Особые листы, в коих обозначены лучшие магазины значительных торговцев и ремесленников, заслуживающих внимание своими лучшими произведениями в С.-Петербурге» (СПб., 1837. С. 1458).
(6) …со времени Кази-муллы… – См. примеч. 7 на с. 629 наст. изд.
(7) …о судьбе Шах-Гусейна, первого мученика-халифа секты Алиевой. – Гусейн (правильнее: Хусайи) – второй сын халифа Али и Фатимы, дочери Мухаммеда (571–632). О празднике «поминок по Гусейне» Бестужев рассказывает подробно (см.: наст, изд., с. 250–251, 259–261 и ниже, примеч. 86). Ср. также примеч. 3 на с. 678 наст. изд. о его очерке «Шах Гусейн» (1830). О культе Али у шиитов см. примеч. 4 на с. 629 наст. изд.
(8) «…а как скоро, – говорит Монтань, – кто заражен страхом болезни, тот уже заражен болезнию страха». – Мишель де Монтень (1533–1592) – французский философ-гуманист, автор «Опытов» (1580–1588), рассматривавших человека как самую большую ценность и направленных против теологии, догматизма, схоластики. В «Опытах» Монтеня такого выражения найти не удалось. Ср. в «Севильском цирюльнике» (пост. 1775) П.-О.-К. Бомарше слова Фигаро: «Когда поддаешься страху перед злом, то уже начинаешь чувствовать зло страха» (д. II, явл. 2).
(9) Вот и прошла холера ~ или чтоб не делать вперед зла, или чтоб творить благо, отпустить должникам своим ~ если б не заметил за ней предурной замашки нападать на слабых и бить лежачего… – Фрагмент представляет собой восстановленную купюру. Включает упоминания текстов из Псалтири (ср. псалмы XXXIII, ст. 1 5 и XXXVI, ст. 27) и Евангелия (ср.: Евангелие от Матфея, гл. VI, ст. 12).
(10) …иже на Хвалынском море… – Хвалынское море – Каспийское.
(11) …она построена в первом веке гиджры (около тысячи двухсот лет назад) … – Хиджра (гиджра) – переселение Мухаммеда и первых мусульман из Мекки в Медину в 622 г. по повелению халифа Омара I (см. примеч. 29 на с. 631 наст, изд.); год хиджры считается началом мусульманского летосчисления.
(12) …можем полагать поосновательнее, что древность этого храма гораздо глубже. – Джума-мечеть (соборная мечеть) Дербента занимает здание, выстроенное, по-видимому, одновременно с древнейшей частью каменных укреплений города. По преданию, это здание ранее было христианским храмом. Основание церкви, по мнению армянских историков, связано с именем Григория-младшего, внука правителя Армении, и относится к IV в. В VII в. арабский военачальник Абу-Муслим преобразовал храм в мечеть (см.: Артамоновы. Древний Дербент // Сов. археология. М.; Л., 1946. № 8). Мнение современного исследователя расходится с представлениями ученых прошлого века: «Расположение дербендской мечети, – пишет И. Н. Березин, – не согласно с строением христианских храмов, а из того, что в числе греческих епархий стояла когда-то дербендская, не следует, что соборная дербендская мечеть переделана из христианского храма. Точно такая же мечеть существует в Мосуле, и точно так же христиане приписывают ее себе» (Березин И. Путешествие по Дагестану и Закавказью. 2-е изд. Казань, 1850. Ч. 2. С. 37).
(13) …высоким навесом (айван) … – Айван – точнее: терраса с плоской крышей на столбах.
(14) …невольное безмолвие уважения покоряет (вылитый Шатобриан!). – Франсуа Рене Шатобриан (1768–1848) – французский писатель-романтик, автор произведений «Гений христианства» (1802), «Атала» (1801), «Рене» (1802), защитник христианского богословия от посягательств критики.
(15) «Ля ила иль Алла, Мухаммед ресуль Алла!..» ~ «Бог истинный есть Бог единый, а Мухаммед пророк Божий!..» – Слова исповедания веры у мусульман (в общепринятой транскрипции и переводе: «Ля илаха илля Аллах, Мухаммед расул Аллах» («Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед Его пророк»)).
(16) …по два ряда аркад со стрельчатыми сводами… – Т. е. одинаковых арок.
(17) …равняются, например, сотне верст длиннику… – Длинник – узкая и длинная полоса пашни.
(18) …Мальтебрюн или Мальтус… – Конрад Мальтбрен (Мальтебрюн) (1775–1826) – французский географ и публицист (родом датчанин); Томас Роберт Мальтус (1766–1834) – английский экономист, основоположник мальтузианства, автор «Опыта о законе народонаселения» (1798).
(19) Впрочем, я утешаю себя мыслию ~ О честолюбцы, отпускайте скорее бороду! – Текст представляет собой восстановленную купюру.
(20) …изронил золотое слово из уст своих, смешанное с благоуханием ширазского табаку… – Реминисценция из «Слова о полку Игореве» («Тогда великий Святослав изронил золотое слово, со слезами смешанное…»).
(21) Сердца ваши исписаны грехами чернее, чем книга седжиль, в которую заносит ангел Джебраил злодеяния человеческие… – Джибрил (Джабраил, Джебраил) – в мусульманской мифологии один из четырех приближенных к Аллаху ангелов, передающий его приказания пророкам. Соответствует библейскому архангелу Гавриилу. Согласно Корану, Джибрил явился Мухаммеду, чтобы передать ему текст священной книги. О книге грехов человеческих неоднократно говорится в Коране: «И положена книга, и ты видишь грешников в страхе от того, что в ней. Говорят они: „Горе нам, что с этой книгой, она не оставляет ни малого, ни великого, не зачислив!“» (сура XVIII, ст. 47); «Ведь книга распутников, конечно, в сиджжйне» (сура LXXXIII, ст. 7; согласно комментарию, сиджжйн – «тюрьма» в преисподней: Коран / Пер. И. Крачковского. М., 1963. С. 628).
(22) …адское дерево закум… – По Корану, заккум (закум) – дерево, растущее в аду, у которого вместо плодов головы шайтанов. Ср., например: Коран, сура XXXVII, ст. 60–63.
(23) … из потока радости, текущего вином в дженнете!.. – Джанна (дженнет) – в мусульманской мифологии обозначение рая. Примета рая – реки из воды, которая не портится, молока, вкус которого не меняется, вина, приятного для пьющих, и меда.
(24) …той мучительной жажды, которою накажетесь в джаганнеме… – Джаханнам (джагаинем) – распространенное название ада в мусульманской мифологии. Питье грешников, страдающих от жгучего огня, – кипяток и гнойная вода.
(25) …стену эль-Араф, делившую праведных от неправедных… – В суре VII Корана говорится об аль-Арафе, области («преграде») между раем и адом, представляющей собой нечто вроде чистилища.
(26) …фарсийских и арабских речений… – См. примеч. 62 на с. 625 наст. изд.
(27) …стихотворцев Фарсистана… – Фарс (Фарсистан) – историческая провинция на юге Ирана; ядро нескольких восточных государств, столицей которых был г. Шираз. В этом городе жили и творили Саади и Хафиз (см. примеч. 87 на с. 627 наст, изд.).
(28) …еще четыре неба осталось Божией милости. – По мусульманской мифологии, различные части рая расположены на восьми небесных сферах.
(29) …недавно обесчестили у него коня, отрубил какой-то разбойник хвост… – По обычаям ряда народов, отрезание хвоста у чужой лошади – оскорбление, позор для ее владельца; часто воспринималось и как акт магического вредительства (см.: Васильева О. В. Повесть о Шемякине суде и бытование сюжета о неправедном судье // Русский фольклор. Л., 1989. Т. 25. С. 92).
(30) …у барона Брамбеуса… – Барон Брамбеус – псевдоним Осипа (Юлиана) Ивановича Сенковского (1800–1858), русского писателя, журналиста, востоковеда, редактора и издателя журнала «Библиотека для чтения» (1834–1865). После закрытия «Московского телеграфа» (1834) «Библиотека для чтения» стала для Бестужева основным журналом, где печатались его произведения («Кавказские очерки», «Мореход Никитин», «Мулла-Hyp», «Он был убит»). Литературное общение Бестужева с Сенковским началось еще в период издания «Полярной звезды» (1823–1825), в первом номере которой был помещен «Бедуин, перевод с арабского О. Сенковского». 20 января 1824 г. Сенковский вместе с другими литераторами присутствовал на обеде у издателя «Полярной звезды»; Е. А. Бестужева рассказывала М. И. Семевскому, что Александр Александрович до 14 декабря 1825 г. имел переписку с Сенковским и в письме к брату хвалил «способности поляка, которого учу-де по-русски» (ИРЛИ, ф. 604, № 5569). Определенную смелость проявил Сенковский, опубликовав в отделе «Литературная летопись» т. 24 своего журнала за 1837 г. (с. 34) проникнутое скорбью известие о смерти Бестужева: «Русская словесность понесла новую невознаградимую потерю: наш блистательный сотрудник, автор „Морехода Никитина“, автор „Кавказских очерков“ и „Муллы-Нура“, уже не существует. За несколько дней до своей несчастной кончины он еще извещал нас, что посылает для „Б<иблиотеки> для ч<тения>“ новую повесть. Сочинение это еще не получено в Петербурге. Это будет последняя статья Марлинского!» (ср. с письмом братьев Н. А. и М. А. Бестужевых матери и сестрам от 25 апреля 1837 г. – ИРЛИ, ф. 604, № 5578, л. 97).
(31) …он жил с мусульманами долго… – О. И. Сенковский (1800–1858) после окончания Виленского университета (1819) совершил путешествие по Ближнему Востоку и Африке. Изучил многие восточные языки, был профессором Петербургского университета по кафедре арабского, персидского, турецкого языков. Знаток истории, этнографии мусульман.
(32) Отец его был любимцем изгнанного Фетх-Али-хана… – Явная историческая неточность. Фетх-Али-хан, получив от отца в 1758 г. небольшой удел, состоявший из одной Кубы, превратил его в обширное владение (ханства Дербентское, Бакинское, Шемахинское, Ширванское); умер он в 1789 г. Последним дербентским ханом был его сын Шейх-Али-хан, вступивший в управление в 1795 г.
(33) Первый раз взят был Дербент Зубовым в 1801 году и вскоре оставлен. Второй – в 1804-м. – Еще одна историческая неточность: в 1722 г. Дербентом овладели войска Петра I (см. примеч. 76 на с. 626 наст, изд.), графом Зубовым он был взят не в 1801 г., а в 1796 г. (см. примеч. 28 на с. 631 наст, изд.); вторично, после измены Шейх-Али-хана, он был занят русскими войсками в 1806 г.
(34) Мангал – жаровня.
(35) Кази-мулла осадил Дербент… – См. примеч. 7 на с. 629 наст. изд.
(36) …в одном архалуке… – См. примеч. 4 на с. 622 наст. изд.
(37) …с крашеными зюльфами… – См. пояснение Бестужева (вариант: зильфляры) на с. 6, 223 наст. изд.
(38) …подобно книге семи печатей! – О «книге, написанной внутри и отвие, запечатанной семью печатями», которую увидел св. Иоанн «в деснице у Сидящего на престоле», говорится в Апокалипсисе (гл. V–X).
(39) …не заказывает сорочин… – Сорочины – поминки, поминовение в сороковой день после смерти.
(40) …словно глоток шербета. – Шербет – восточный прохладительный напиток из фруктовых соков с сахаром.
(41) …мою Лейлу… – Лейла – героиня старинной арабской легенды о несчастной любви. Великий азербайджанский поэт и мыслитель Низами Гянджеви (ок. 1141 – ок. 1209) создал поэму «Лейли и Меджнун» (1188).
(42) Геркулес персидского баснословия, Рустем ~ «Аман, аман!» – Рустам (Рустем) – герой поэмы «Шахнаме» (первая редакция – 994; вторая редакция – 1010) классика таджикской и персидской литератур Абулькасима Фирдоуси (ок. 940-1020 или 1030). Рустам совершил семь подвигов: убил дикого льва, дракона, чародейку-ведьму, Белого дэва, нашел чудесный источник, взял в плен разбойника Авлада, умертвил шаха Аржанг-дэва. Сражаясь, по воле рока, с собственным сыном Сухрабом и другом Исфандияром, не узнал ни того, ни другого и стал их невольным убийцей.
(43) Коран твердит: «Недобро мужчине смотреть на женское лицо: взгляды – семена греха.»… – Ср.: «И скажи [женщинам] верующим: пусть они потупляют свои взоры…» (сура XXIV, ст. 31).
(44) …в целом четверике драгоценностей… – Четверик – мера объема сыпучих веществ, равна восьмой части четверти (26,239 л.).
(45) …расцвеченными хной пальчиками… – См. пояснение Бестужева на с.283 наст. изд.
(46) …какой-нибудь журнальной статейки хоть бы инвалидною прозою! – Имеется в виду «Русская инвалидная газета» (основана в 1813 г. П. П. Пезаровиусом с благотворительными целями, в пользу инвалидов, вдов и сирот; с 1816 г. выходила ежедневно как официальное издание «Комитета 18 августа 1814 года»), о которой Бестужев в статье «Взгляд на русскую словесность в течение 1823 года» писал: «„Инвалид“ (изд. Г. Воейков, в С.-Петербурге) принадлежит к словесности только своими „Прибавлениями“, в коих, если он был беднее других прозою, зато богаче всех хорошими стихами» (Марлинский, 11,116). Литературные приложения и прибавления к газете выходили в 1822–1839 гг.
(47) …угощают Гайденовым хаосом… – Франц Иозеф Гайдн (1732–1809) – австрийский композитор. Такой отзыв Бестужева о его музыке, может быть, имеет в виду характерные черты стиля композитора: эпизоды tutti – «ликующий гомон всех инструментов оркестра», финалы с их «забавнейшими неожиданностями – резкими сдвигами гармонии, внезапными наскоками tutti и скороговорчатыми, в хлестких репликах, диалогами инструментов» (Рабинович А. С. Иосиф Гайдн // Рабинович А. С. Избранные статьи и материалы. М., 1959. С. 127). Возможно, он связан еще с одним обстоятельством: в написанных в большинстве случаев на заказ симфониях Гайдну «не приходило в голову выразить <…> известную последовательность переживаний субъективного порядка (чего не могли ему простить многие люди эпохи романтизма)» (Там же. С. 121). Исследователи творчества Гайдна отмечают, что в 1820-1830-х гг. его популярность у русских любителей музыки заметно снижается (см.: Вольман Б. Наследие Гайдна в России // Сов. музыка. 1959. № 6. С. 88).
(48) …«Робертом-Дьяволом»… – «Роберт-Дьявол» – опера композитора Джакомо Мейербера (наст, имя и фам. – Якоб Либман Бер (1791–1864)), создателя героико-романтической оперы, которую отличают эффектность драматически контрастных сцен, массивность оркестровки, разнообразие в трактовке вокальных партий. Опера «Роберт-Дьявол» (1831) написана на либретто Э. Скриба.
(49) …«Фра-Дьяволом»… – «Фра-Дьяволо» (1830) – комическая опера французского композитора Даниэля Франсуа Эспри Обера (1782–1871), знаменовавшая новый этап в развитии этого жанра. Для оперы характерен острозанимательный, авантюрно-приключенческий сюжет, стремительно развивающееся действие, изобилующее эффектами, игривыми, порой гротесковыми ситуациями; музыка ее остроумна, грациозна, легка, полна изящества, веселья и блеска.
(50) …с подливкою знаменитого Карема. – Мари Антуан Карем (1784–1833) – известный повар, служивший у Талейрана, Георга IV, русского и австрийского императоров, герцога Вюртебмергского и др.
(51) Кедр ливанский, он попирает стопою мураву усов… – Сравнение с кедром ливанским – деревом, которое отличалось своими размерами, крепостью и красотой и которое было посажено Богом на горах Ливана, часто встречается в библейских текстах. Кедр ливанский – символ всего прочного, сильного и величественного (см., например, псалом XXVIII, ст. 5, псалом CIII, ст. 16 и др.). В данном случае сравнение употреблено, чтобы усилить иронический эффект.
(52) …или Каракаллы… – Имеется в виду Септимий Бассиан Каракалла (имп. имя – Марк Аврелий Антонин; 186–217) – римский император (с 211).
(53) …по закону царя Вахтанга VI… – Вахтанг VI (1675–1737) – наместник, затем царь Картли в 1703–1724 гг., грузинский писатель и ученый. При нем был составлен «Свод законов» – кодекс феодального права Грузии (1705–1708). В 1724 г. эмигрировал в Россию.
(54) …вздорожал канаус ~ два абаза. – Канаус – персидская шелковая ткань. Абаз – мелкая серебряная монета, распространенная в старину на Кавказе (около 60 коп.).
(55) …ринопласт, то есть носостроитель… – Ринопласт – врач, осуществляющий пластические операции по восстановлению носа или изменению его формы.
(56) Понабрался бы у него Бальби… – Адриано Бальби (1782–1848) – итальянский ученый, известный своими трудами по статистике и географии. Его труд «Abrege de geographie» (Paris, 1832. Vol. 1–2) переведен почти на все европейские языки.
(57) Сам Кювье… – Жорж Кювье (1769–1832) – французский зоолог, один из реформаторов сравнительной анатомии, палеонтологии и систематики животных. Почетный член Петербургской Академии наук (с 1802).
(58) …миг спустя после намаза… – См. примеч. 39 на с. 631 наст. изд.
(59) …он был, говоря словами волынского летописца, «дивлению подобен». – Слова эти приведены в Галицко-Волынской летописи под 6760 (1252) г. и относятся к описанию князя Галицкого и Волынского Даниила Романовича: «Бе бо конь под ним дивлению подобен» (Памятники литературы Древней Руси. XIII век / Сб. текстов. М., 1981. С. 320). Дивление – чудо.
(60) …огромный кинжал рисовал на брюхе эклиптику. – Эклиптика – воображаемая линия на небесном своде, по которой в течение года перемещается солнце (иначе – круг, описываемый землею около солнца).
(61) …она зевает за бостоном с матушкою… – Бостон – разновидность карточной игры.
(62) …словно тавлинские девки… – Тавлиицы – одно из лезгинских племен. О нем и о месте его проживания говорится в кратком рассказе Бестужева о народностях Дагестана (см.: наст. изд., с. 94).
(63) …а сабля – чистый мисир… – Мисир – возможно, от слова «миср» (арабское средневековое наименование Египта, а также его столицы Каира). Ср. у М. Ю. Лермонтова в «Ашик-Керибе»: «В городе Халафе я пил мисирское вино…» (Лермонтов М. 10. Собр. соч.: В 4 т. 2-е изд., испр. и доп. Л.,1981.Т.4. С. 180).
(64) Теперь он черту в чубукчи годится… – Чубукчи – по-видимому, слуга, подающий трубки с чубуками.
(65) …к переходу через Эль-Сырат?.. – См. примеч. 68 на с. 632 наст. изд.
(66) …ни в одних летописях таковых не встречается ~ оных дотоле и не существовало: это ясно как червонец! – Выделение курсивом слов «таковых» и «оных» – намек на гонителя их (и им подобных слов) О. И. Сенковского, автора «Резолюции на челобитную сего, оного, такового, коего <…> и других причастных к оной челобитной, по делу об изгнании оных, без суда и следствия, из русского языка» (БдЧ. 1835. Т. 18. Отд. IV). Пародийное обыгрывание позиции Сенковского стало общим местом в современной ему литературе. Ср. аналогичный прием в повести Бестужева «Он был убит»: наст, изд., с. 301.
(67) – Это, кажется, Дербент-наме повесть… – См. примеч. 70 на с. 626 наст. изд.
(68) …затканный в узор битью… – Бить – тончайшая проволочная нить, употребляемая для золотошвейной и золототканой работы.
(69) …а подобно городкам ковра, изорванного по каменьям. – Городки – зубцы, узоры в вышивке.
(70) …снимая саквы с седла… – Саква – род холщовой переметной сумы для поклажи.
(71) …про это и Гафиз сказал: Пейте: самых лет весна ~ Проклят на плохом вине. – Текст стихотворения (написано в 1828 г.) принадлежит Бестужеву; приведен здесь не полностью (см.: Бестужев-Марлинский А. Поли. собр. стихотворений / Вступ. статья и примеч. Н. И. Мордовченко; Общ. ред. М. А. Брискмана. Л., 1961. С. 149, 280 (Б-ка поэта; Большая сер. 2-е изд.)).
(72) …чтобы у льнуть от беды. – Ульнуть – т. е. улизнуть.
(73) …а Исфендияр – мальчишка! – Речь идет о Исфандияре – герое поэмы Фирдоуси «Шахнаме» (см. выше, примеч. 42). Ему посвящены сказания «Семь подвигов Исфандияра», «Рустам и Исфандияр».
(74) Почти все горцы ~ взаимно ненавидят друг друга. – См. примеч. 4 и 5 на с. 629 наст. изд.
(75) …и теперь сам уверился, что ты игит. – См. пояснения Бестужева на с. 8, 69, 239 наст. изд.
(76) …не только тимпану уха… – Т. е. барабанной перепонке.
(77) – Ангел Азраил! – восклицал он ~ не созрела для смерти. – См. примеч. 50 на с. 624 наст. изд.
(78) Ей-богу, была б длиннее Фетх-Али-шаховой… – Фетх-Али-шах (наст, имя – Баба-хан) (1766 или 1771–1834), шах Ирана (с 1797) из династии Каджаров.
(79) …начиная с чухи до сердца!.. – См. примеч. 7 на с. 622 наст. изд.
(80) …выводили реями до самого венца. – См. примеч. 32 на с. 623 наст. изд.
(81) …на самом темени. – См. примеч. 77 на с. 633 наст. изд.
(82) …как голодный кади в пост… – Кади – судья, рассматривающий дела на основе мусульманского права.
(83) …как чихают гурии. – См. примеч. 47 на с. 631 наст. изд.
(84) …предсказывает шамбертен под каждою длинною пробкою… – Шамбертен – сорт красного вина, производимого в Бургундии.
(85) …как покупаем мы у носячего… – Носячий – разносчик.
(86) В этот месяц ~ и потерял там жизнь в 10 день мухаррема, 61 года гиджры. ~ при блеске тысячи светильников. – Хусайн (Гусейн) был убит в 680 г. в стычке с войсками халифа Йазида I, почитается шиитами как святой мученик, а его могила в Кебеле представляет собой одну из главных шиитских святынь. Ср. выше, примеч. 7.
(87) Скоро, скоро встрепенется рыба Хут, на которой стоит свет… – Представления об огромной чудовищной рыбе – опоре земли были распространены на Северном Кавказе и в Закавказье.
(88) …крови сеида. – Сеид – почетный титул мусульманина, претендующего на происхождение от пророка Мухаммеда.
(89) …наследников Сефи? – Сефевиды – династия правителей государства на Ближнем и Среднем Востоке (1502–1736), в которое входили Иран, Азербайджан, часть Армении, большая часть территории современного Афганистана, временами Ирак и некоторые другие территории и которое поддерживало оживленные дипломатические и торговые связи с Россией и другими европейскими и азиатскими странами. В период правления шаха Тахмаспа II (1722–1732) прикаспийские области государства Сефевидов отошли к России.
(90) Один ширванский хан ~ особенной преданности к Алию. – Ср.: наст, изд., с. 111.
(91) Разве не знаешь, как плотно поколотил Эйюб, алейги'с селям, Иов (мир с ним!), свою жену за то, что она советовала ему поклониться шайтану? – Аййуб (Айюб, Эйюб) – в мусульманской мифологии один из пророков и праведных «терпеливцев»; соответствует библейскому Иову. В истории его присутствует мотив искушения шайтаном при помощи жены Аййуба (ср. совет, с которым обратилась к Иову жена: «Похули Бога и умри» – Книга Иова, гл. II, ст. 9).
(92) …привезешь дар Каабе, меккскому храму… – Кааба – главная святыня ислама, храм в Мекке (возведен в 608 г., в 1684 г. отстроен заново в виде куба). В наружной стене, у восточного угла, находится ниша со священным «черным камнем». Согласно легенде, камень был послан Адаму с неба, и для него он построил Каабу. Мусульмане всего мира при молитве обращаются лицом в сторону мечети. Паломники семь раз обходят вокруг мечети и целуют «черный камень».
(93) …словно сердце твое забили в фелаку (лещотку) … – Фалака (фелака) – орудие пытки, состоящее из веревки или цепи, которой обвязывают ноги или другую часть тела, и палки, поворачивая которую, палач сдавливает истязуемого.
(94) Рахтарщцк – сборщик дани, пошлины.
(95) …какой я буду кяфир… – Кафир (кяфир) – неверный; так мусульмане именуют немусульман; иногда – русских.
(96) …новому Колумбу… – См. примеч. 7 на с. 640 наст. изд.
(97) …робко пошел к нижнему магалу… – См. примеч. 26 на с. 630 наст. изд. Здесь в значении: квартал, район города.
(98) …с придачей двух кусков зеррбафта…– Баффетас, бафтас – белый ситец.
(99) …по старинным обычаям, шариат… – См. примеч. 48 на с. 631 наст. изд.
(100) …до нескольку пшьков от мирзы… – Мирза – здесь, по-видимому, в значении: писец.
(101) …или одним из членов Академии надписей. – Имеется в виду Academie des inscriptions et belles lettres – одна из пяти академий, составляющих Французский институт; первоначально – Academie des inscriptions (основана в 1663 г. для сочинения надписей к памятникам и медалям).
(102) Селям алейкюм, Мугаррам-бек!.. – Мухаррем-бек (Мугаррам-бек) – дербентский городничий в 1820-1830-х гг. И. Н. Березин отмечает, что он многое сделал для жителей города – устроил мельницы, провел воду в окрестные поля и т. д. (Березин И. Путешествие по Дагестану и Закавказью. 2-е изд. Казань, 1850. Ч. 2. С. 43).
(103) …будто это был знаменитый Мулла-Hyp… – И. Н. Березин подтверждает достоверность описанного автором эпизода (Там же. С. 126).
(104) …в ожидании неумытного суда… – Неумытный – неподкупный, беспристрастный (мыт – пошлина).
(105) …из похода генерала Панкратьева… – См. примеч. 23 на с. 630 наст. изд.
(106) Он восемь раз ~ не попал. – Вероятно, эпиграмма Бестужева на И. М. Петрова (ок. 1800–1838), поэта и издателя (см.: МТ. 1832. № 6. С. 300–330; № 10. С. 216–218; Бестужев-Марлинский А. Поли. собр. стихотворений / Вступ. статья и примеч. Н. И. Мордовченко; Общ. ред. М. А.Брискмана. Л., 1961. С 276 (Б-ка поэта; Большая сер. 2-е изд.))
(107) Чапархан – проводник, всадник разъездной команды.
(108) …открыт был из-под лавы столетний труп Геркуланума, этот город-мумия? – Геркуланум – древний город в Кампании, на берегу Неаполитанского залива. Разрушен и засыпан вулканическими породами и пеплом вместе с Помпеями и Стабиями 24 августа 79 г. н. э. во время извержения Везувия. Раскопки велись с начала XVIII в.
(109) …зловещий приговор Вальтазара. – Валтасар (Вальтазар) – последний вавилонский царь, который в осажденном Киром городе устроил великолепный пир; во время его огненные слова на стене возвестили Валтасару гибель его царства и его самого; в ту же ночь Валтасар был убит (Книга пророка Даниила, гл, V, ст. 1-30).
(110) Рождение Цезаря стало смертным приговором его матери. – Что имеет в виду Бестужев – неясно.
(111) …агача два крюку… – Агач – мера пути в Закавказье (пеший агач – четыре версты; конный – семь).
(112) …коротенький мушкатон… – Мушкетон (мушкатон) – короткое ружье с раструбом для картечи.
(113) Настоящий Базалай… – Базалай – знаменитый кумыкский оружейный мастер, создатель отличавшихся особой прочностью кинжальных клинков.
Он был убит*
Впервые опубликовано: вступление и «Отрывки» – БдЧ. 1835. Т. 12. С. 35–52, с подписью: «А. Марлинский»; «Второй отрывок из денника убитого офицера» – БдЧ. 1836. Т. 15, ч. 2. С. 241–277, с подписью: «Александр Марлинский» (обе публикации – в серии «Кавказские очерки»). Печатается по беловому автографу: РНБ, ф. 69, № 10 (вступление и «Отрывки») и по тексту первой публикации («Второй отрывок»).
Повесть «Он был убит» (конец 1834 – конец 1835 г.) несет на себе автобиографические черты, это очень выстраданное, личное произведение Бестужева, которое он сам высоко ценил. В письме к К. А. Полевому от 5 декабря 1835 г. он сообщал: «Теперь посылаю еще отрывки из журнала убитого, и если вы не будете плакать, их читая, – или вы, или я без сердца» (РВ. 1861. № 4. С. 476), а в письме к сестре Елене от 9 февраля 1836 г. отмечал: «Знатоки единогласно говорят, что „Он был убит“ лучшее мое произведение, а продолжение его, по моему мнению, лучше первой половины» (ИРЛИ, ф. 604, № 5580, л. 68). Об этом же говорится в письме к братьям от 15 декабря 1835 г.: «Скоро, я полагаю, вы прочитаете окончание произведения „Он был убит“. Трудно судить о собственном творении, но я считаю, что оно лучше того, которое вы так расхвалили» (ИРЛИ, ф. 604, № 5580, л. 169–170).
Тематически и по своей тональности повесть «Он был убит» близка наброскам романа «Вадимов». «Возможно, – пишет исследователь, – что когда Бестужев увидел, что роман не вытанцовывается, он стал писать „Он был убит“, в котором тоже дан образ поэта, гибнущего, правда, не от чумы, а на войне» (Прохоров, № 47, л. 18).
(1) От праха взят ~ Не убегут тлетворного завета? – Очевидно, отрывок из неизвестного нам раннего стихотворения Бестужева (см.: Бестужев-Марлинский А. Поли. собр. стихотворений / Вступ. статья и примеч. Н. И. Мордовченко; Общ. ред. М. А. Брискмана. Л., 1961. С. 288 (Б-ка поэта; Большая сер. 2-е изд.).
(2) …возрождение феникса из пепла… – Феникс – в древнегреческой мифологии птица, которая, достигнув старости и подвергнувшись самосожжению, возрождалась из пепла молодой и обновленной.
(3) …как у Фортуны, завязаны глаза… – В римской мифологии богиня счастья, случая и удачи Фортуна часто изображалась на шаре или колесе (символика изменчивости счастья) с повязкой на глазах.
(4) …ни железного венца Чингисхана… – Чингисхан (наст, имя – Тэмуджин, Темучин; ок. 1115–1227) – основатель единого монгольского государства, полководец, организатор завоевательных опустошительных походов против народов Азии и Восточной Европы.
(5) …ни нет ли Ваньки Каина. – Ванька Каин (Иван Осипов) (род. 1718) – известный московский вор и сыщик; авантюрист. В 1755 г. был приговорен к смертной казни, но, по указу Сената, наказан кнутом и сослан на каторгу. Известно множество его жизнеописаний.
(6) Имя, которое не летало перуном… – См. примеч. 36 на с. 623 наст. изд.
(7) …равенства, которое, как меч Дамокла, грозится пасть на все живое. – «Дамоклов меч» – выражение, означающее нависшую над кем-либо постоянную опасность. По древнегреческому преданию, сиракузский тиран Дионисий Старший (ок. 432–367 до н. э.) предложил на один день престол своему фавориту Дамоклу, считавшему Дионисия счастливейшим из смертных. В разгар веселья на пиру Дамокл внезапно увидел над своей головой обнаженный меч, висевший на конском волосе, и понял призрачность благополучия любого властителя.
(8) …эти мертвецы начинают свою страшную, гальваническую пляску. – Гальванический (от «гальванизировать» – пропускать через что-то электрический ток; по имени итальянского ученого Л. Гальвани (1737–1798)) – здесь, по-видимому, в значении: искусственно возбуждаемый (намек на известный опыт с сокращением мускулов ноги лягушки под воздействием электрического тока).
(9) …подобно Гамлетовым гробокопам?.. – Имеется в виду сц. 1 («Кладбище») акта V трагедии В. Шекспира (1564–1616) «Гамлет» (1601).
(10) …как некогда трепетали куски Геркулесовой кожи ~ коварною любовницею… – Согласно греческому мифу, жена Геркулеса, Деянира, ревнуя его к Иоле, послала ему плащ, пропитанный кровью кентавра Несса, убитого некогда отравленной стрелой Геркулеса. Умирая, Несс коварно посоветовал Деянире собрать его кровь, говоря, что это волшебное зелье, возвращающее утраченную любовь. Надев плащ, Геркулес почувствовал мучительную боль и, понимая неизбежность смерти, бросился в огонь. Зевс сделал Геркулеса бессмертным и взял его на Олимп, где ему в жены дана была Геба.
(11) Такие руны разгадает лишь тот, кто начертал их. – См. примеч. 1 на с. 641 наст. изд.
(12) …стопить в одно все язвы Египта… – Видимо, имеются в виду кары, которыми Бог поразил Египет, когда фараон не позволил вывести сынов Израилевых из своей земли (обращение воды в реках, озерах, деревянных и каменных сосудах в кровь, жабы в домах, на полях, во дворах египтян, ядовитая мошкара, терзающая людей и скот, и т. д.) (Исход, гл. VII–XII).
(13) …ты, как пеликан, разрываешь для пего грудь и точишь кровь жизни? – Пеликан, согласно легенде, питает своей кровью птенцов, которых змея отравила ядовитым дыханием и тем спасает их от смерти. По христианским представлениям, этот образ имеет устойчивое метафорическое значение, символизируя Христа, искупающего своей кровью «первородный грех» (см.: Морозов А. А. Из истории осмысления некоторых эмблем в эпоху Ренессанса и барокко (Пеликан) // Миф – фольклор – литература. Л., 1978. С. 38).
(14) …будь халифом хотя на час… – Халиф – титул верховного главы мусульман (преемника Магомета), совмещавшего светскую и духовную власть, в ряде государств Ближнего и Среднего Востока. «Халиф на час» (человек, на короткое время наделенный высшей властью) – образ из «Тысячи и одной ночи».
(15) …поэт, гость вельможи, есть уже слуга его… – Возможно, автор имеет в виду нападки на А. С. Пушкина со стороны Н. А. Полевого на страницах «Московского телеграфа». Критик обвинял поэта – автора стихотворения «К вельможе» (послание князю Николаю Борисовичу Юсупову; 1830), в низкой лести по отношению к вельможам.
(16) Знатным хочется прослыть меценатами… – Гай Цильний Меценат (между 74–64 – VIII в. до н. э.) – римский богач, щедро покровительствовавший поэтам и художникам; его имя стало нарицательным для обозначения богатого покровителя наук и искусств.
(17) …и я, второй Исав, продам свое первородство за блюдо чечевицы? – По библейскому преданию, Исав и Иаков, сыновья Исаака и Ревекки, бились за первородство еще в утробе матери. Голодный Исав продал свое право первородства брату за чечевичную похлебку (Бытие, гл. XXV, ст. 29–34). Отец обещал благословить своего любимца Исава после его возвращения с охоты и вкушения добытой им дичи. По наущению матери Иаков перед слепым отцом выдал себя за Исава и получил его благословение. От гнева Исава Иакову пришлось скрыться в Месопотамию. После возвращения Иакова братья примирились между собой.
(18) …как музыка Россини. – Джоаккино Антонио Россини (1792–1868) – итальянский композитор, творчество которого оказало определяющее воздействие на развитие итальянской оперы и европейского оперного искусства.
(19) …из обломков Китайской степы… – Великая китайская стена была воздвигнута, чтобы прикрыть северо-западные границы империи от нападений кочевых народов (строительство начато в IV–III вв. до н. э.); в значительной части сохранилась до наших дней.
(20) …ради имени Виктора Гюго… – Бестужев был последовательным поклонником французского романтика. Восторженные отзывы о В. Гюго (1802–1885) см. в письме к К. А. Полевому от 9 марта 1833 г. и Н. А. Полевому от 18 мая 1833 г. (наст, изд., с. 522 и 526).
(21) …к горной или к озерной? – К «озерной школе» (конец XVIII – начало XIX в.) английских поэтов-романтиков принадлежали У. Водсворт, С. Колридж, Р. Саути.
(22) …представил его в брандмайоры… – Брандмайор – начальник пожарных команд города.
(23) …к породе двуногих саламандр… – Саламандра – хвостатое земноводное, похожее на ящерицу; в средневековых поверьях и магии – дух огня.
(24) Кунсткамера – собрание разнообразных редкостей, диковинок, а также помещение для такого собрания.
(25) Что слава? Яркая заплата ~ Копите злато до конца. – С небольшой неточностью цитируется стихотворение А. С. Пушкина «Разговор книгопродавца с поэтом» (1824), высоко оцененное Бестужевым во «Взгляде на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов»: «Везде, где говорит чувство, везде, где мечта уносит поэта из прозы описываемого общества, – стихи загораются поэтическим жаром и звучней текут в душу. Особенно разговор с книгопродавцем <…> кипит благородными порывами человека, чувствующего себя человеком» (Марлинский, 11, 128–129).
(26) …с рукавами a la folle.. – Какой именно фасон рукава имеется в виду, сказать затруднительно (Ia folle (фр., букв.) – сетка с широкими петлями для ловли крупной рыбы).
(27) Протей – в греческой мифологии морское божество, обладавшее способностью принимать любой облик. Это имя употреблялось обычно как символ переменчивости.
(28) …ради самого Маммона… – Маммон – в христианских церковных текстах злой дух, идол, олицетворение сребролюбия и стяжательства (ср.: Евангелие от Матфея, гл. VI, ст. 24; от Луки, гл. XVI, ст. 13). Демон Маммон – одно из действующих лиц поэмы Дж. Мильтона «Потерянный рай», упоминается в «Фаусте» И.-В. Гете («Вальпургиева ночь»).
(29) Не воскресить юности дождем Данаи. – Согласно греческим мифам Аргосскому царю было предсказано, что его свергнет и убьет внук – сын его дочери Данаи. Он заключил дочь в подземелье, но Зевс проник к ней в виде золотого дождя, и Даная родила Персея.
(30) …дружбе, которая ступает с гривны на гривну… – Характеризуя небескорыстную, основанную на денежном расчете дружбу, Бестужев напоминает русскую пословицу о зажиточном человеке: «С гривенки на гривенку ступает, полтиною ворота запирает».
(31) …этих коварных Армид! – Армида – главная героиня поэмы Т. Тассо (1544–1595) «Освобожденный Иерусалим» (1580) – завораживала крестоносцев своей красотой, увлекла Ринальдо в свои волшебные сады (песни IV, X, XIV–XVI). Образ, символизирующий коварную обольстительницу.
(32) …как волны су раба. – Установить значение этого слова по удалось.
(33) Новый Прометей, я передам тебе огонь, похищенный с неба… – Прометей – в древнегреческой мифологии титан-богоборец, похитивший у богов с Олимпа огонь и передавший его людям. За противодействие богам Зевс повелел приковать Прометея к кавказской скале, пробил ему грудь копьем, и огромный орел, прилетая каждое утро, клевал печень титана. За ночь печень вновь отрастала. Освободил Прометея Геракл.
(34) Второй Пигмалион… – Пигмалион – в греческой мифологии легендарный скульптор, царь Кипра, который влюбился в созданную им из слоновой кости статую прекрасной девушки. Афродита, по желанию Пигмалиона, оживила статую, которая стала его женой.
(35) Фуражировка была очень удачна… – Фуражировка – добывание сухого корма для лошадей у жителей.
(36) …застрелил одного шапсуга… – Шапсуги – вольное черкесское племя, жившее по берегу Черного моря, от Анапы до реки Шахе, и по низовой части Кубани. Шапсуги особенно отчаянно сопротивлялись русским войскам. Ср.: наст, изд., с. 89.
(37) …кабардинскому абреку… – См. пояснение Бестужева: наст, изд., с. 33–34.
(38) …Дантова «Paradiso». – Имеется в виду «Рай», третья часть «Божественной Комедии» (1307–1321) Данте Алигьери (1265–1321). На Кавказе Бестужев усердно занимается итальянским языком и увлеченно читает Данте (см. письма от 29 января и 23 апреля 1831 г. Н. А. Полевому – наст. изд., с. 495, 498; ср. письмо ему же от 13 августа 1831 г. – РВ. 1861.№ 3. С. 305, отрывок из недатированного письма К. А. или Н. А. Полевому – РВ. 1861. № 4. С. 447, а также письмо П. А. Бестужеву от 15 декабря 1835 г. – 03. 1860. № 7. С 54). Это находит отражение не только в своих произведениях, но и в письмах. Рассказывая, например, об осаде крепости Бурной, Бестужев говорит в письме к Н. А. и К. А. Полевым от 16 декабря 1831 г.: «Данте поместил бы кр<епость> Бурную в своей „Divina Comedia“, и эта глава была бы сильнейшая» (см.: наст, изд., с. 508).
(39) Не хочу верить проклятому англо-итальянцу ~ (ведь он был проповедником и пророком ее в своей родине!). – Речь идет об итальянском поэте и литературоведе Габриэле Россетти (1783–1854), который с 1824 г. как представитель итальянской революционной эмиграции жил в Англии. Россетти принадлежит «Аналитический комментарий к „Божественной Комедии“ Данте» (1826–1827), в аллегориях которой он усматривал антипапские настроения, желание доказать необходимость обновления церкви и реформаторские тенденции, вполне соответствовавшие стремлениям «Молодой Италии». Данте, по его мнению, принадлежал к некоей тайной секте, которая имела свою систему символов и знаков, отразившихся в «Божественной Комедии». Воспетую Данте Беатриче он считал символом гибеллинской монархии. Упоминание о «заглавном В con ICE» подразумевает, может быть, следующие строки из песни VII (ст. 13–15), свидетельствующие о благоговейном трепете, в который повергали поэта эти звуки, образующие первый и последний слог имени Беатриче:
Но даже в БЕ и ИЧЕ приученный
Святыню чтить, я, голову клоня,
Поник, как человек в истоме сонной.
Интерпретация «Божественной Комедии» Россетти была очень субъективной. Впрочем, этой особенностью отличались труды и других комментаторов поэмы. По справедливому замечанию А. Н. Веселовского в статье «Данте и символическая поэзия католичества», в этих трудах поэт поочередно становился «еретиком, революционером, рьяным защитником единой Италии – всегда по требованию времени» (Веселовский А. Н. Собр. соч. СПб., 1908. Т. 3. С. 46–47).
(40) Beatrice mi quardb con gli occhi pieni ~ взоры ее меня мертвили! – Бестужев цитирует песнь IV «Рая» «Божественной Комедии» Данте (ст. 139–142).
(41) …воображение поэта всесильно… – Об этом ключевом положении эстетики Бестужева см.: наст, изд., с. 553–554, 556; ср. также ниже, примеч. 60.
(42) Как Мидас, он превращает в золото все ~ ломая с голоду зубы на слитке. – См. примеч. 84 на с. 626 наст. изд.
(43) Отдай мой рай, отдай мой ад, Отдай мне молодость назад! – Стихи из «Театрального вступления» к «Фаусту» (1773–1831) И.-В. Гете (1749–1832) (в переводе А. А. Шишкова 2-го под названием «Первый пролог Гетева „Фауста“» (см.: Одесский альманах на 1831-й год, изданный П. Морозовым и М. Розбергом. Одесса, 1831. С. 319; ср.: Поэты 1820-1830-х гг.: В 2 т. Л., 1972. Т. 1. С. 424, а также с. 752–753 (Б-ка поэта. Большая сер. 2-е изд.)). Эти стихи процитировал Бестужев в письме к Н. А. Полевому от 16 декабря 1831 г. (см.: наст, изд., с. 507).
(44) …ноне одно величие твоих огромов… – Возможно, имеются в виду грохот снежных лавин или грозовые раскаты в горах.
(45) …разверзающих, как сфинкс, гортань свою… – Сфинкс – в греческой мифологии крылатое чудовище с львиным туловищем и головой женщины; обитало на скале близ Фив и губило всех, кто не мог разгадать задаваемую им загадку. Эдип сумел разгадать загадку, и чудовище бросилось со скалы в море.
(46) …из циклопеанских гробниц… – Речь идёт о монументальных постройках крито-микенского периода в различных областях Греции (Арголида, Аркадия, Эпир). Согласно мифу, эти сооружения из огромных каменных плит воздвигли пришедшие в Грецию из Ликии киклопы (циклопы) – одноглазые великаны (отсюда термин «киклопические» («циклопические») постройки).
(47) …обломки рая, одичалого беглеца с берегов Тигра. – Возможно, намек на то, что в библейской легенде связаны райский сад в Эдеме и реки Тигр и Евфрат. Сад находился на горе, откуда из общего источника вытекали четыре реки, в том числе Тигр и Евфрат (Бытие, гл. II, ст. 8-14). По апокрифическому сказанию «Житие Адама и Евы», после изгнания из рая Адам и Ева, каясь, дали обет стоять порознь сорок дней в реке Тигр.
(48) …бархат ковров хорасанских… – См. примеч. 11 на с. 622 наст. изд.
(49) …муравленые, узорчатые башенки… – Муравленый – покрытый глазурью.
(50) …роза пиршества в благоуханном фалерне… – Имеется в виду фалернское вино, изготовлявшееся в Фалернской области (Кампания) и славившееся в древности как один из лучших сортов вина.
(51) Коварный дух желаний уносит душу нашу на темя гор ~ «Vade retro, Satana»? – Речь идет о третьем искушении Христа дьяволом в пустыне (Евангелие от Матфея, гл. IV, ст. 8-10).
(52) Роковой баламут подобран… – Баламут – шулерский способ укладки карт, чтобы они, при шулерской же тасовке, всегда оставались в том же порядке.
(53) Соника – выигрыш или проигрыш сразу, с первой ставки.
(54) …и в цветень жизни… – Цветень – май.
(55) …с жажды поцелуев своей Элеоноры. – В этих словах Бестужева отразилась романтическая легенда о любви Т. Тассо к сестре герцога Альфонсо II Феррарского Элеоноре д'Эсте. При дворе герцога поэт находился с 1572 г. Зависть, интриги придворных, религиозные сомнения, боязнь инквизиции, охлаждение к нему герцогини Элеоноры лишили его душевного равновесия. В 1579 г. по приказу герцога он был заключен в госпиталь св. Анны, где содержался до 1586 г.
(56) …зубы гостей, отличаясь над страсбургским пирогом… – Страсбургский пирог – паштет из гусиной печени; доставлялся в Россию в консервированном виде.
(57) Не шамбертеном он их потчует… – См. примеч. 84 на с. 646 наст. изд.
(58) …у приятеля лучше его бекешь… – Бекеша (бекешь) – старинное теплое пальто сюртучного покроя в талию и со сборками.
(59) Кто же посмеет сказать ~ это собственные слова Спасителя. – Ср.: «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (Первое соборное послание св. апостола Иоанна Богослова, гл. IV, ст. 16).
(60) Трансценденталисты находят в человеке сокращение всего мира. – По-видимому, имеется в виду главным образом Ф.-В. Шеллинг, автор «Системы трансцендентального идеализма» (1800). Следы влияния на Бестужева немецкой идеалистической философии ощутимы и в других его художественных произведениях, так же как и в критических статьях и письмах. Ср., например, высказывание Бестужева в письме к Н. А. Полевому от 13 августа 1831 г.: «…я настоящий микрокозм» (РВ. 1861. № 3. С. 304). Микрокосм (малый мир, малая вселенная), по Шеллингу, дух и душа, т. е. человек с его внутренней жизнью.
(61) …звезды, каких не видал до сих пор вдовый край Севера. – Бестужев цитирует песнь I «Чистилища» (ст. 22–27) из «Божественной Комедии» Данте:
Я вправо, к остью, поднял взгляд очей,
И он пленился четырьмя звездами,
Чей отсвет первых озарял людей.
Казалось, твердь ликует их огнями;
О северная сирая страна,
Где их сверканье не горит над нами!
(62) In questi voci lanquide risuona ~ Охотили и неволили очи к слезам. – Возможно, вольный перевод фрагмента из песни XIV «Рая» из «Божественной Комедии» Данте (ст. 122–129):
«Песнь вдоль креста столь дивная текла,
Что я пленился, хоть не понял гимна…».
(63) …терцеты Ариоста… – Терцеты – строфы из трех стихов; в узком смысле слова – трехстишные части сонета. Лудовико Ариосто (1474–1533) – итальянский поэт. Возможно, Бестужев имеет здесь в виду то обстоятельство, что сонеты составляют часть творческого наследия Ариосто.
(64) …Муровы мелодии… – Томас Мур (1779–1852) – английский поэт, автор «Ирландских мелодий» (1807–1834).
(65) …даже стихи Вальтера Скотта из «Красавицы озера» или «Последней песни барда»… – Речь идет о поэмах В. Скотта (1771–1832) «Песнь последнего менестреля» («The Lay of the last Minstrel», 1805; рус. пер. – 1822) и «Дева озера» («The Lady of the Lake», 1810; рус. пер. – 1828).
(66) …как духи из Макбетова котла… – Имеется в виду сц. 1 акта IV трагедии Шекспира «Макбет» (1606).
(67) Я согласен с Гете: подобно жене, данной человеку в лучшую ему половину, ночь для нас, право, – лучшая половина жизни. – Источник цитаты не установлен.
(68) Морфей, до утра дай отраду ~ Мои мечты благослови. – Начальные строки стихотворения Пушкина «К Морфею» (1816).
(69) Нет, это оклик: «Рунд мимо!..» – Рунд – поверка, обход караулов.
(70) Я невольно вспомнил о последнем дне Помпеи… – См. примеч. 108 на с. 647 наст. изд.
(71) …у меня бездна призывает бездну!.. – Бестужев имеет в виду псалом XLI, ст. 8: «Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих: все воды твои и волны твои прошли надо мною».
(72) …и я вспомнил стих Вальтера Скотта: О lady, twine not wreath for шее, Or twine it of the cypress-tree! – Имеется в виду поэма «Рокби» («Rokeby», 1813; рус. пер. – 1823) (песнь V, строфа 13).
(73) …«зело любопытственное сказание ~ и о прочем». – Цитата из Ипатьевской летописи (Полное собрание русских летописей. СПб., 1843. Т. 2. С. 187).
(74) …для устройства дороги реями по крутой горе кончилась на теме Маркотча. – См. примеч. 32 на с. 623 и примеч. 77 на с. 633 наст. изд.
(75) …«там, там в мерцании багряном»… – Несколько измененная цитата из стихотворения Н. М. Карамзина (1766–1826) «Посланиек Дмитриеву в ответ на его стихи, в которых он жалуется на скоротечность счастливой молодости» (1794):
В ком дух и совесть без пятна,
Тот с тихим чувствием встречает
Златую Фебову стрелу,
И ангел мира освещает
Пред ним густую смерти мглу.
Там, там, за синим океаном,
Вдали, в мерцании багряном,
Он зрит… но мы еще не зрим.
(76) Натухайцы слабее других горцев… – См. пояснение Бестужева на с. 89 наст. изд.
(77) …о кареях против турецкой кавалерии… – См. примеч. 48 на с. 624 наст. изд.
(78) …стариком Каменским… – Возможно, имеется в виду Михаил Федотович Каменский (1738–1809), граф, генерал-фельдмаршал.
(79) …ваш Магомет был великий чудодей. ~ и опять повесил месяц на небо. – Приведенный Бестужевым сюжет является вариацией рассказа В. Ирвинга о следующем «чуде»: Магомет «приказал послушному светилу (луне. – Ф. К.) войти в правый рукав своего плаща и выйти в левый; потом разделиться на две части, одна из которых пошла на восток, а другая на запад, а потом, сойдясь на средине неба, соединиться опять в круглый и светлый шар» (Ирвинг В. Жизнь Магомета. М., 1857. С 71).
(80) …безбрежная ночь ~ казалось, мигала мне тысячью огромных глаз своих. – Образ, восходящий, видимо, к стихотворению Гете «Свидание и разлука» («Willkommen und Abschied», 1770). Использован и М. IO. Лермонтовым в поэме «Мцыри» («И миллионом черных глаз Смотрела ночи темнота…»).
(81) …пищит какой-нибудь Пук или Ариель ~ всеми созданиями Шекспировой фантазии и карикатурами Гетева шабаша ведьм… – Речь идет о героях пьес В. Шекспира «Сон в летнюю ночь» (1596) (Пук – проказник-эльф) и «Буря» (1612) (Ариэль – светлый дух воздуха), являющихся также действующими лицами интермедии «Сои в Вальпургиеву ночь, или Золотая свадьба Оберона и Титании» из «Фауста» И.-В. Гете, и, конечно, о персонажах сцены «Вальпургиева ночь» из этой же трагедии.
(82) – Эй, приятель! – закричал я ~ чем тебе маячить даром! – Пересказ слов Мефистофеля, обращенных к «блуждающему огоньку» (сцена «Вальпургиева ночь» из «Фауста» Гете). Ср.:
Не откажи, чем даром тратить пламя,
Нам посветить и вверх взобраться с нами.
(83) Это яркий фалшфейер на люгере… – Фалшвеер (фалшфейер) – старинное сигнальное устройство в виде бумажной гильзы, наполненной горючим веществом. Применялось на судах для указания своего местонахождения. Люгер – небольшое трехмачтовое судно, военное или купеческое.
(84) …мой перепуганный конь вернулся на пяте… – Т. е. на месте.
(85) …и полуды не стоит… – Полудить – покрыть расплавленным оловом.
(86) Я скакал целиком… – См. примеч. 94 на с. 627 наст. изд.
(87) …за исключением кирасирского мундира смерти: полотняный колет и сосновые латы не красят человека! – Кирас (кираса) – грудные латы из двух половинок – нагрудника и пыльника; колет – плотно скроенная куртка, обычно из белого сукна, элемент кирасирского обмундирования.
(88) …братья Иосифа! ~ вы позавидуете ей на смертной своей постели. – По библейскому преданию, Иосиф Прекрасный, сын Иакова и Рахили, любимец отца, был продан завидовавшими ему братьями в рабство в Египет.
(89) …По туманному берегу Стикса… – Стикс – в древнегреческой мифологии одна из рек подземного царства.
Вадимов (отрывки)*
Впервые опубликовано: «Осада» (под названием: «Отрывок из не сочиненного еще сочинения»; в колонтитулах – «Отрывок из романа»; фрагмент: «Заря чуть занималась ~ вихорь, который должен был распылить и сместь их с лица земли») – МТ. 1834. № 2. С. 222–240, с подписью: «А. Марлинский»; «Отрывок из романа „Вадимов“. Журнал Вадимова» – 03. 1839. Т. 1. С. 74–84, с подписью: «А. Марлинский»; «Осада» (полностью, с датой: «1834 года»), «Выстрел» и «Свидание» – Марлинский А. Полн. собр. соч. 3-е изд. СПб., 1839. Ч. 12. Повести и прозаические отрывки, оставшиеся после смерти автора. С. 181–199; 215–234. Черновые автографы хранятся: ИРЛИ, ф. 604, № 5576, л. 27–39, 90-106. Печатается по изданию: Марлинский А. Полн. собр. соч. Ч. 12. С. 147–234.
Рукопись задуманного в 1833 г. романа не только не была завершена, но и не была, судя по всему, авторизована. Я. И. Костенецкий в своих воспоминаниях «Александр Александрович Бестужев (Марлинский)», между прочим, писал: «Слышав от многих, что он пишет новый роман под названием „Вадим“, я спросил его об этом. Он сказал, что действительно думает о новом романе, но что он только в проекте и еще почти ничего не написано». Далее Костенецкий сообщал, что Бестужев, как он это делывал и прежде, с другими произведениями, «в счастливые еще времена петербургской жизни», записал начало романа на клочках бумаги. После гибели Бестужева эти отдельные листочки были отосланы сестре писателя Е. А. Бестужевой. По ее просьбе И. М. Свиязев, женившийся на овдовевшей Т. М. Шнитниковой (членов семьи майора CD. А. Шнитникова (см. примеч. 1 к письму 14 на с. 688 наст. изд.) Бестужев считал своими друзьями, и вполне возможно, что в этой семье могла остаться часть его бумаг), составил из сохранившихся отрывков нечто целое и поместил «Журнал Вадимова» в «Отечественных записках», когда они перешли к А. А. Краевскому (PC 1900. № 11. С. 450–451). По словам Я. И. Костенецкого, Бестужев рассказывал ему «содержание своего романа, излагая некоторые его сцены» (Там же. С. 451). Более подробно о романе см.: наст. изд., с. 580–584.
Осада*
(1) Это было в роковое утро ахалирхского приступа, 15 августа 1828 года. – Русско-турецкая война 1828–1829 гг. была объявлена 14 апреля 1828 г. На Кавказ, к Карсу и Ахалциху, были направлены войска под командованием И. Ф. Паскевича. См. также ниже, примеч. 22.
(2) …чтобы разрушить бастион, который прикрывал куртину, обреченную на приступ… – Куртина – часть вала между двумя бастионами.
(3) На этой-то батарее, окопанной земляным бруствером с короною из туров… – Бруствер – земляная насыпь на наружной стороне окопа для укрытия стрелков от неприятельского огня. Тур – корзина, набиваемая землей и также употребляемая для защиты от пуль.
(4) …дремали с банниками… – См. примеч.78 нас. 633 наст. изд.
(5) …и зарядными сумами… – Зарядная сума (зарядница) – патронташ.
(6) Пальники, воткнутые в землю… – Пальник – палка со щипцами на конце для вставления фитиля, которым перед пушечным выстрелом поджигают порох.
(7) …многие канонеры бросились по местам. – См. примеч. 60 на с. 632 наст. изд.
(8) …русского топчи… – Т. е. главного начальника всей артиллерии, генерал-фельдцейгмей-стера (должность, именовавшаяся в Турции «топчи-баши» – ср.: наст, изд., с. 220).
(9) …чугунные иверни ее… – Иверень – осколок.
(10) …орден Персидского Солнца… – Персидский орден Льва и Солнца был учрежден в 1808 г. Фетх-Али-шахом (см. примеч. 78 на с. 646 наст, изд.).
(11) – Пятерка ва-банк! – вскричал, вскакивая, подполковник и протянул к городу жилистую руку свою. – Это восклицание в карточной игре, означающее «На весь банк!», предполагает, что делается ставка, равная сумме денег в банке. Здесь в переносном смысле: действовать с крайним риском, рискуя всем.
(12) …неужели ты думаешь, что они все Волжинские? – Полковник Волжинский возглавил марш казачьего отряда к станице Щедринской в октябре 1831 г.
(13) Странствующий образ Смоленской Божией матери… – Смоленская икона Пресвятой Богородицы Одигитрии, по преданию написанная евангелистом Лукою, по наследству досталась Владимиру Мономаху, который перенес ее в Смоленск. С этой древнейшей иконы в разное время было снято несколько списков. Один из них в 1812 г. при оставлении нашими войсками Смоленска был взят артиллерийскою ротою полковника Глухова и с того времени оставался при полках 3-й пехотной дивизии (А. П. Ермолова). Накануне Бородинской битвы икону носили по лагерю; по одержании каждой победы над неприятелем перед ней произносились благодарственные молебствия. Когда Смоленск был очищен от врагов, икона была возвращена на прежнее место.
(14) …благоговейно подклоняли головы под кропило… – Кропило – кисть или веничек, которым кропят святой водой.
(15) …как брата полюбил я русского солдата… – О русском солдате, его бесконечном мужестве, стойкости и человечности Бестужев пишет Н. А. Полевому в письме от 1 января 1832 г.: «Чтобы узнать добрый, смышленый народ наш, надо жизнию пожить с ним, надо его языком заставить его разговориться… быть с ним в росхмель на престольном празднике, ездить с ним в лес на медведя, в озеро за рыбой, тянуться с ним в обозе, драться вместе стена на стену. А солдат наш? какое оригинальное существо, какое святое существо <…>. Кто видел солдат только на разводе, тот их не знает; кто видел их с фухтелями в руке, тот их и не узнает никогда, хотя бы век прослужил с ними. Надо спать с ними на одной доске в карауле, идти грудь с грудью на завал, на батарею, лежать под пулями в траншее, под перевязкой в лазарете…» (РВ. 1861. № 3. С. 319).
(16) …всякий винт на лафете… – Лафет – станок, на котором устанавливается и закрепляется ствол артиллерийского орудия.
(17) …у бомбардиров. – Бомбардир – солдат из орудийной прислуги.
(18) …все раздолье наступающей битвы проглянуло как в райке. – Раек – ящик с отверстиями, снабженными увеличительными стеклами, через которые зрители рассматривали вращающиеся внутри картинки.
(19) В 1825 году рыскал я по Бородинскому полю, вслед за принцем Оранским, и вот он, тринадцать лет спустя ~ гробовая плита двадцати тысяч наших собратий! – Имеется в виду старший сын нидерландского короля Вильгельма I Фридриха, носивший титул принца Оранского. В битве при Ватерлоо командовал нидерландскими войсками, был ранен. Известны стихи Пушкина «Принцу Оранскому» (1816). В 1816 г. женился на сестре Александра I великой княжне Анне Павловне. В 1825 г. приезжал в Россию, но никаких сведений о посещении им Бородинского поля нет (см.: СП. 1825. 5 мая. № 54; 7 мая. № 55; 9 мая. № 56; 16 мая. № 59). Возможно, что Бестужев имеет в виду центральный участок русской позиции (так называемая батарея Раевского), недалеко от деревни Семеновское. Именно там позже, к столетию Бородинского сражения, был установлен памятник конной артиллерии русской армии. Потери только 2-й армии в бою определялись примерно в 20 000 человек.
Шельда – река, протекающая во Франции, Бельгии и Нидерландах.
(20) …только надвинув на глаза кивера. – См. примеч. 73 на с. 638 наст. изд.
(21) Говорят, Багратион закричал: «Браво, браво!» – и захлопал им в ладоши. – Петр Иванович Багратион (1765–1812), князь, русский генерал от инфантерии (1809). В Отечественной войне 1812 г. командовал 2-й Западной армией. Смертельно ранен в Бородинском бою. Описанный эпизод имел место во время атаки французов на деревню Семеновское. Чтобы отбить атаку, Багратион отдал приказ: «В штыки!». Началась рукопашная – сражались тесаками, прикладами, банниками. Багратион был ранен, и командование 2-й армией было передано Дохтурову.
(22) …турки за стенами сидят насмерть, особенно в Ахалцихе; он искони славится неодолимостью своих стен, неустрашимостью своих защитников. – Ахалцих был взят русскими войсками 16 августа 1828 г.
(23) …мой конь-игрень… – Игрений – конская масть: рыжий, с беловатыми гривой и хвостом.
(24) …я, как Цезарь, пал у стоп этого холодного идола славы, пал, хватясь за венец! – Гай Юлий Цезарь (102 или 100-44 до н. э.) – древнеримский государственный и политический деятель, полководец, писатель. Сосредоточив в своих руках всю полноту власти, стал фактически монархом, сохранив при этом республиканские формы правления. Монархические устремления Цезаря вызвали сильную оппозицию представителей республикански настроенной знати, в которую входили и бывшие его сторонники. Был убит в результате заговора.
(25) Когда колонны прорвутся за палисады… – Палисад – военное укрепление, представляющее собой сплошной частокол из заостренных кверху свай.
(26) …под Кульмом! – См. примеч. 58 на с. 625 наст. изд.
(27) …под Фершампепуазом! – Фершампепуаз – селение во Франции, близ которого 25 марта 1814 г. произошло сражение союзной армии с наполеоновскими войсками; французы понесли в нем огромные потери.
(28) …бесконечная, как петергофская бумага… – В 1817–1846 гг. в Петергофе существовала писчебумажная фабрика, открытая по специальному указанию Александра I. На ней были установлены английские машины для выделки бесконечного листа бумаги. Существовавший до того времени черпальный способ выделки бумаги в чанах ни в коей мере не обеспечивал растущей потребности в бумаге (см.: Гейрот А. Описание Петергофа. СПб., 1868. С. 44–45).
(29) …разглядеть вместе застенье Ахалциха… – Застенье – место за стеною.
(30) …подобно статуе Meмнона… – Мемнон – в греческой мифологии царь Эфиопии, отличившийся в Троянской войне и погибший от руки Ахилла. Именем Мемнона греки называли статую египетского фараона Аменхотепа III,которая при восходе солнца издавала жалобный звук, напоминающий человеческий голос. Считали, что так Мемнон приветствует свою мать – зарю Эос.
(31) Муэдзины кричали свою обычную молитву… – См. примеч. 99 на с. 627 наст. изд.
(32) …разноцветные чалмы янычар… – Янычары – отборные пехотные войска в султанской Турции.
(33) …папахи над огрудниками. – Огрудник – часть бруствера от внутренней земляной насыпи (приступки) до верхней площадки.
(34) Бородинское солнце, которое вовсе не по шерсти назвал Наполеон аустерлицким, взошло. – Эпизод, переданный, в частности, Ф. Глинкой и восходящий к рассказу барона Фена из свиты Наполеона: «К рассвету густые туманы поднялись, и в шестом часу утра выступило великолепное солнце. Это явление, вероятно, навело мысли Наполеона на времена былые. Он вспомнил Вену, Моравию и приветствовал подмосковное солнце достопамятными словами: „Это солнце Аустерлица!..“» (Очерки Бородинского сражения: (Воспоминания о 1812 годе) / Сочинение Ф. Глинки, автора Писем русского офицера. М., 1839. Ч. 1. С. 48; см. также с. 45). В приказе Наполеона перед сражением говорилось: «Действуйте так, как вы действовали при Аустерлице, Фридланде, Витебске и Смоленске. Да скажут о каждом из вас: он был в великой битве под Москвой».
(35) Волонтер – доброволец.
(36) …будто давно выслужил фейерверке ром галуны. – См. примеч. 101 на с. 627 наст. изд. Галуны – нашивки золотой или серебряной тесьмы на форменной одежде.
(37) …поднял глаза от диоптра. – См. примеч. 102 на с. 627 наст. изд.
(38) …золотого орла? – Одноглавый золотой орел – установленный Наполеоном знак отличия.
(39) Фаталитет – вера в предопределение.
(40) …опершись рукой о дуло единорога… – См. примеч. 38 на с. 631 наст. изд.
(41) …я недаром был лихим санкюлотом. – Санкюлот – название революционера, патриота периода Великой французской революции.
(42) Я сейчас вспомнил французского парикмахера у Йорика Стерна ~ за глаза довольно одного ведра. – Священник Иорик – один из героев романа английского писателя-сентименталиста Лоренса Стерна (1713–1768) «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» (1759–1767), выступает как автор в книге Стерна «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» (1768). Речь у Бестужева идет о главе «Парик» из этого последнего романа, в которой Иорик, выслушав приведенную реплику французского парикмахера, замечает, что англичанин, пожалуй, упомянул бы в таком случае только ведро (см. рус. пер.: Стерново путешествие по Франции и Италии под именем Йорика… СПб., 1793. Ч. 1.С. 112–114).
(43) – Я назывался тогда Катоном ~ это значит непобедимый. – Марк Порций Катон Старший (234–149 до н. э.) – римский писатель, историк, государственный деятель; непримиримый враг Карфагена, прозванный Цензором, т. е. строгим, взыскательным, суровым.
(44) Сегодня мы увидимся у Вери. – Вери – парижский ресторатор.
(45) Граф Эриванскийхотел всполошить неприятеля… – См. примеч. 24 на с. 630 наст. изд.
(46) …спокойно затянули свою: «Ля илля ил Алла ~ вели юлла». – См. примеч. 1 5 на с. 643 наст. изд.
(47) – Пушки на элевацию!.. – Элевация – возвышение пушки над горизонтальной линией, направление ее к горизонту, самое большое, под углом в 45°.
(48) …красный бейдах над крепостию? – Бейдах – знамя.
Выстрел*
(1) …столько же природы, как в Вольтеровой трагедии. – В статье «О романе Н. Полевого „Клятва при гробе господнем“» Бестужев констатировал, что, как ни велика была власть Вольтера над современниками, он «не опередил своего века» (Марлипский, 11,190). Бестужев не при знавал в нем ни эпического таланта, презрительно отзываясь о «надутой» «Генриаде», ни драматического: «Зажмурьте глаза – и вы не узнаете, кто говорит: Оросман или Альзира, китайская сирота или камер-юнкер Людовика XIV» (Марлипский, 11, 188). «Вольтер был для него лишь „трибуном своего века“, „представителем своего народа“» (Заборов П. Р. Русская литература и Вольтер (XVIII – первая треть XIX века). Л., 1978. С. 219–220).
(2) …взвивается опаловидное облако… – Опал – плотный молочно-голубоватых цветов минерал, иногда с красивой радужной игрой в сине-зеленой или красной цветовой гамме.
(3) …машут банниками… – См. примеч. 78 на с.633 наст. изд.
(4) …бросается канонер… – См. примеч. 60 на с. 632 наст. изд.
(5) …а фейерверкер – к запалу…– См. примеч. 101 нас. 627 наст. изд.
(6) …в артикуле нет команды, как избежать взрыва гранаты. – Артикул – военно-уголовный кодекс Петра I (1715).
(7) …русский штык стоит Архимедова рычага. – Архимед – древнегреческий ученый, математик и механик (ок. 287–212 до н. э.). Архимеду принадлежит математический вывод законов рычага. Ему приписывают слова: «Дай мне, где стать, и я сдвину Землю».
(8) …Лисабон провалился… – В 1755 г. столица Португалии Лисабон была разрушена землетрясением. Заново отстроена в конце XVIII в.
(9) … холера у дверей, а он поет «За горами, за долами»…– Имеется в виду русская народная песня, которая включалась в сборники переложений для гитары и фортепиано с начала XIX в. Долгое время (до 1930-х гг.) считалась фольклорной. Слова ее принадлежат С. Митрофанову, написаны, вероятно, в 1799 г. (авторы музыки: Афанасьев, М. Бернард, Вильбоа, В. Соколов, Ребиков).
(10) …упади пристяжная… – Пристяжная – боковая лошадь, при оглобельной упряжи, рядом с коренною.
(11) …высекайте из мрамора Лаокоона… – Лаокоон – жрец Аполлона в Трое, предостерегавший троянцев от введения в город оставленного греками деревянного коня. Боги, предрешившие гибель Трои, послали двух огромных змей, удушивших Лаокоона и двух его сыновей. Римская копия скульптурной группы, изваянной родосскими мастерами Агесандром, Атенодором и Полидором (ок. 50 до н. э.) и изображающей гибель Лаокоона и его сыновей, находится в Музее Пио-Клементино (Ватикан).
(12) …или двух борцов… – Может быть, речь идет об одном из лучших произведений древнегреческого скульптора Мирона (сер. V в. до н. э.) раннего периода его творчества – бронзовой группе двух борющихся мужчин, стоявшей на Афинском Акрополе. Известно воспроизведение этой группы на одной афинской монете.
(13) …создавайте Отелло, Гяура, Фауста… – Названы герои одноименных произведений В. Шекспира (1564–1616) («Отелло», 1604), Дж. Байрона (1788–1824) («Гяур», 1813), И.-В. Гете (1749–1832) («Фауст», 1773–1831).
(14) …пишите, как Вернет… – Карл Верне (Вернет) (1758–1836) – французский художник, в годы Империи официальный живописец-баталист, историограф наполеоновской армии.
(15) …рубаку Генриха IV ~ je иеих parattre! – Генрих IV (1553–1610) – французский король с 1589 г., первый из династии Бурбонов. Воинская слава снискала ему популярность в народе. Во время гугенотских войн – глава гугенотов, в 1593 г. принял католичество. Гугенотам Нантским эдиктом (1598) предоставил свободу вероисповедания и многие привилегии. Убит фанатиком католиком Равальяком.
(16) …Наполеона на мосту Аркольском, со знаменем в руках… – Имеется в виду один из эпизодов Итальянского похода Наполеона 1796–1797 гг. во время войны 1792–1797 гг. 1-й коалиции европейских государств (Австрия, Великобритания, Пруссия, Россия, Сардиния, Королевство обеих Сицилии) с Францией. Сражение за селение Арколе продолжалось три дня (15–17 ноября 1796 г.). 15 ноября дивизия Ожеро, которая должна была переправиться через Аркольский мост, была остановлена сильным оружейным огнем австрийской пехоты, оборонявшей селение, и огнем орудий, охранявших мост. Многие французские генералы были ранены. Тогда Наполеон со знаменем в руках, окруженный своим штабом, бросился вперед. Тем не менее войска его отступили в расстройстве и сам он едва не попал в плен. Лишь после упорных битв 16 и 17 ноября французы овладели селением. Авторитет Наполеона, показавшего при Арколе пример замечательной личной храбрости, после сражения сильно возрос. Событие это изображено на картине А.-Ж. Гро (1771–1835) «Бонапарт на Аркольском мосту».
(17) …нашего Петра, когда он говорит под Полтавой солдатам своим: «Помните, что вы сразитесь не за Петра, а за родину», когда он прыгает в разверстую пасть Балтики, чтобы спасти флот свой, разбитый бурею. – Речь идет о знаменитом приказе Петра I, прочитанном русским воинам ранним утром 27 июня 1709 г., в день Полтавской битвы: «Воины! Се пришел час, который решить должен судьбу отечества, и вы не должны помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за отечество, за православную нашу веру и церковь. <…> Имейте в сражении пред очами вашими правду и Бога <…> а о Петре ведайте, что ему жизнь его не дорога, только бы жила Россия, благочестие, слава и благосостояние ее». Второй эпизод, о котором говорит Бестужев, по преданию, произошел в районе Лахты осенью 1724 г. Петр с берега заметил бот, идущий от Кронштадта и наполненный солдатами и матросами. Бот бросило на мель. Петр послал на помощь шлюпку с людьми, которые со своей задачей не справились. Тогда царь подъехал туда сам, спрыгнул с лодки и по пояс в воде вместе со всеми тащил судно.
(18) …барельефы, похожие больше на конную, чем на битву… – Конная – базар, торг, где продаются лошади.
(19) …у всех кивера с султанами… – См. примеч. 73 на с. 638. Султан – украшение из перьев или конских волос на головных уборах (обычно военных).
(20) …великопостых гречневиков… – Гречневики (гречишники) – гречишные блины.
(21) …неуклюжие, косматые лошади Орловского… – Александр Осипович Орловский(1777–1832) – польский и русский живописец и график. Ему принадлежат батальные сцены и изображения всадников: черкесы на вспененных конях, устремляющиеся навстречу опасности (рисунки 1805 г. – Национальный музей, Краков), польские повстанцы на горячих конях в стремительном движении («Польский всадник», 1809 г. – Гос. Третьяковская галерея), Кутузов, Платов на возбужденных горячих конях (1812–1813), а также натурные штудии («Голова лошади» – Национальный музей, Варшава; «Глаз лошади» – 1807 г., Гос. Русский музей). Умение с блеском изображать коней единодушно отмечали современники художника. Правда, в академических кругах его критиковали за то, что он всех своих героев сажает на лошадей одной и той же казацкой породы. Ответ Орловского свидетельствовал о реалистических взглядах на задачи художника-анималиста: «Лошадь всегда останется лошадью, турецкая ли она, арабская ли, все дело в том, как она нарисована. Теперь везде хвалят лошадей Вернста, а что в них? Они чересчур элегантны, выдрессированы и похожи на девушку, затянутую в корсет <…> у меня главное природа…» (К-ч (Калайдович Н. К.) Александр Орловский // Иллюстрация. 1860. № 109. С. 183).
(22) …пиафирующих лошадей Зауервейта… – Александр Иванович Зауервейд (Зауервейт) (1783–1844) – русский живописец-баталист. Пиафирующие – бьющие копытом.
(23) Вернет всегда выше Дезарно. – Огюст Жозеф Дезарно (Август Осипович) (1788–1840) – французский живописец-баталист и портретист. После войны 1812 г. жил в России. О Верне см. выше, примеч. 14.
(24) …дрался с фуражирами или с рекогносцирующим отрядом… – Фуражиры – отряд, занимающийся заготовкой корма для лошадей. Рекогносцирующий отряд – разведывательный.
(25) …под командою Витгенштейна. – Луи Адольф Витгенштейн, принц Сайн (Петр Христианович) (1768–1842) – граф и князь, русский генерал-фельдмаршал. В Отечественной войне 1812 г. командовал армией на северном направлении, прикрывавшей путь к Петербургу, одержал несколько побед над французами, был прозван «щитом» Петербурга; успешно преследовал отступающих из России французов. Во время летней кампании 1813 г. командовал русскими войсками (сражения при Люцене и Бауцене).
(26) …хвосты шишаков… – См. примеч. 31 на с. 631 наст. изд.
(27) Они сделали вольтфас без команды. – Вольтфас – полный крутой поворот.
(28) …а ретираде, признаюсь, тут позавидовал. – См. примеч. 43 на с. 637 наст. изд.
(29) Да черта ты ему сделаешь в кирасе… – См. примеч. 87 на с. 653 паст. изд.
(30) Палаш – длинная и прямая сабля с широким и обоюдоострым к концу клинком.
(31) …замочного их унтер-офицера… – Т. е. замыкающего строй (см. примеч. 83 на с. 633 наст. изд.).
(32) …я уже два раза положил на крестец, его жеребца русское тавро… – Клеймо, выжигаемое на коже, рогах или копытах сельскохозяйственных животных; здесь в значении: отличительный знак.
(33) Выхватив свой пистолет из ольстряди… – Ольстра – кобура, один из двух кожаных пистолетных чехлов впереди седла.
Журнал Вадимова*
(1) …подобно Конгревовой ракете… – Ракета, изобретенная английским инженером Уильямом Конгревом (1772–1828) (была впервые применена в 1806 г.).
(2) …раздирает тимпан моего уха… – См. примеч. 76 на с. 646 наст. изд.
(3) …будто крыло серафима извлекает из тысячи струн… – В иудаистической и христианской мифологии серафимы – один из высших ангельских чинов; изображались шестикрылыми.
(4) …между двумя виталищами пытки… – Виталище – местопребывание, жилище.
(5) …и, подобно тени Данта, протекаю в сумраке лабиринт моего сердца и мозга… – Возможно, имеются в виду начальные строки «Божественной Комедии» (1307–1321), поэмы Данте Алигьери (1265–1321), с упоминанием «сумрачного леса» (аллегорически – леса заблуждений человеческой жизни).
(6) …то попалены перуном, будто казненные титаны. – Титаны – в греческой мифологии божества старшего поколения, дети Урана и Геи (Неба и Земли). Восставшие против Зевса, были жестоко усмирены им и низвергнуты в Тартар. См. также примеч. 36 на с. 623 наст. изд.
(7) …чертоги сна, описанные Виргилием… – Публий Виргилий Марон (70–19 до н. э.) – римский поэт. Имеются в виду ст. 893–901 кн. VI поэмы «Энеида».
(8) …то Мильтонов рай и ад Данте… – Речь идет о поэмах Дж. Мильтона (1608–1674) «Потерянный рай» (1667) и «Возвращенный рай» (1671) и о первой части «Божественной Комедии» Данте.
(9) …как дивы…– Дивы (в иранской мифологии) – злые духи.
(10) …продал первородство за чечевицу… – См. примеч. 17 на с. 649 наст. изд.
(11) …на скудельное творение променял дар неба!.. – Скудельный – бренный, земной, преходящий.
(12) …кто мог праху сказать: «Встань и ходи». – Имеются в виду предания о воскрешении дочери Иаира и Лазаря (Евангелие от Марка, гл. V, ст. 23–43; от Иоанна, гл. XI, ст. 1-45).
(13) …как Мидаса, умирающего с голоду на горах золота! – См. примеч. 84 на с. 626 наст. изд.
(14) …копышатся фаланги и скорпионы… – Колыхаться – копошиться.
(15) …тень манценилла манит своею коварною прохладой. – Манцинелла (манценилла, маншинелла) – тропическое растение (небольшое дерево) семейства молочайных (Мексика, Антильские острова, Колумбия), в листьях и коре которого содержится ядовитый сок.
(16) …моей Сакунталы… – Шакунтала (Сакунтала) – героиня драмы древнеиндийского поэта и драматурга Калидасы (прибл. V в.) «Узнанная по кольцу Шакунтала».
(17) …эти набобы из страданий человека делают себе забаву и наслаждение! – Набоб – первоначально титул крупных мусульманских аристократов в Индии; в Англии и Франции XVIII в. – человек, разбогатевший в колониях, главным образом в Индии. Именно в такой форме это название утвердилось в европейских языках.
(18) Мудрость и доблести Киров – сказка, изобретенная для пристыжения греков… – По-видимому, имеется в виду «Киропедия» Ксенофонта (ок. 430–355 или 354 до н. э.), древнегреческого историка, философа, писателя. В этом произведении на материале вымышленной истории ее главного героя описывается воспитание Кира II Великого (ум. 530 до н. э.), представленного идеальным правителем, главой идеального государства, которое противопоставлено пришедшей в упадок афинской демократии.
(19) …злодейства Белуса… – Бел (Белус, Белое) – ввавилоно-ассирийской мифологии первоначально нарицательное обозначение некоторых богов – Энлиля, Мардука, которые к 2–1 тыс. до н. э. сливаются в единый образ «владыки».
(20) …ненасытное сладострастие Семирамиды… – Семирамида – царица Ассирии и Вавилона, с именем которой связано сооружение «висячих садов» в Вавилоне (одного из семи чудес света) и обширные завоевания вплоть до самой Индии; о сладострастии Семирамиды говорили многие историки древности (Диодор Сицилийский (ок. 80–29 до н. э.), Павел Орозий (ок. 380 – ок.420)).
(21) …пресыщение Сарданапала… – Сарданапал – последний ассирийский царь, вошедший в пословицу благодаря своей изнеженности, любви к роскоши и наслаждениям. Запершись во дворце, проводил время в удовольствиях. Осажденный восставшим народом, сжег себя во дворце с женами и сокровищами.
(22) …безумная отвага Ксеркса… – Ксеркс (ум. 465 до н. э.) – древнеперсидский царь из династии Ахеменидов. Вел успешные войны с Вавилонским царством. Потерпел поражение в походе против Греции (480–479 до н. э.). В трагедии Эсхила (ок. 525–456 до н. э.) «Персы» (477 до н. э.) описано поражение «неистового Ксеркса» в войне с греками. Убит в результате дворцового заговора.
Свидание*
(1) …как ночной всадник на Людмилу… – Речь идет о балладе В. А. Жуковского (1783–1852) «Людмила» (1808).
(2) …лет никакой опричины… – Опричина – особенность, отдельность; здесь, возможно, в значении: исключение.
(3) …украшен был двумя сфинксами… – См. примеч. 45 на с. 651 наст. изд.
(4) …как будто бы их чертил неведомый перст на стене Валтазара. – См. примеч. 109 на с. 647 наст. изд.
(5) …будто перун расторг чреватые во дою тучи… – См. примеч. 36 на с. 623 наст. изд.
(6) Сам Бог есть любовь… – См. примеч. 59 на с. 652 наст. изд.
(7) …густому вину Токая. – Вино по имени винодельческого района в Венгрии.
(8) …точно ласточка в басне, закрадывается в дом кролика чувства… – Речь идет о басне И. И. Дмитриева «Кот, Ласточка и Кролик» (1805), представляющей собой неточный перевод басни Ж. Лафонтена.
(9) …подобно электрической струне Эоловой арфы. – Эол в греческой мифологии – бог ветров, обитавший на острове Эолия. Эолова арфа – струнный музыкальный инструмент, звучащий от дуновения ветра.
Страшное гаданье*
Впервые опубликовано: МТ. 1831. № 5,6, с подписью: «Александр Марлинский» и пометой: «1830 г. Дагестан». Печатается по беловому автографу: РНБ, ф. 69, № 5, л. 1-24.
В сопроводительной записке автор писал: «Весьма бы не худо почетный издатель „Телеграфа“ сделал, если бы приказал переписать набело сию пьесу. У меня предурная рука – да и пишется порою в холодной сакле. <…> Только покорнейше прошу сличить копию с оригиналом» (РНБ, ф. 69, № 5, л. 24). Просьба Бестужева, по всей видимости, выполнена не была.
В. Г. Белинский решительно выделил «Страшное гаданье» из числа других произведений, появившихся в издании: Марлинский А. Русские повести и рассказы: Полн. собр. соч. 3-е изд. СПб., 1838–1839. Ч. 1-12. В рецензии на это издание он писал: «Из повестей Марлинского, изображающих сильные страсти, лучшая, без всякого сомнения, – „Страшное гадание“ <…> есть места истинно поэтические <…> блестящие признаками неподдельного дарования. Поездка героя повести, сцена в крестьянской избе, многие подробности гаданья – все это прекрасно и увлекательно» (Белинский, 4, 47). На художественно-этнографическую, народно-поэтическую сторону повести указывали многие ее исследователи (см.: Васильев М. А. Декабрист А. А. Бестужев как писатель-этнограф // Научно-педагогический сборник / Восточный педагогический институт в Казани. Казань, 1926. Вып. 1. С. 73–74; ср.: Базанов В. Очерки декабристской литературы: Публицистика; Проза; Критика. М., 1953. С. 375–379).
(1) Посвящается Петру Степановичу Лутковскому. – Петр Степанович Лутковский (ок. 1800–1882) – морской офицер, воспитанник Морского кадетского корпуса, друг Михаила и Александра Бестужевых; с 1844 г. – контр-адмирал. Его брат Ф. С. Лутковский (1803–1852), контр-адмирал, привлекался к следствию по делу декабристов.
(2) Давно уже строптивые умы ~ Друзья мои, кто не был духоверцем?.. – Стихи принадлежат Бестужеву (см.: Бестужев-Марлинский А. А. Поли. собр. стихотворений / Вступ. статья Н. И. Мордовченко; Общ. ред. М. А. Брискмана. Л., 1961. С. 287 (Б-ка поэта; Большая сер. 2-е изд.)).
(3) Но мне всегда были смешны до жалости приторные вздыхатели со своими пряничными сердцами… – В статье «О романе Н. Полевого „Клятва при гробе господнем“» (1833) Бестужев писал об эпигонах сентиментализма: «Тогда Коцебу и Жанлис уже начали вводить в моду ложную чувствительность, аханье над пустяками, слезы участия для слабостей любви, именно для слабостей, – огня страстей, яду страстей они не знали» (Марлинский, 11, 195).
(4) Я кинулся в обшивни… – Обшевни (обшивни) – широкие сани, обшитые лубом.
(5) …крытых яркою китайкою… – Китайка – сорт гладкой хлопчатобумажной ткани, первоначально привозившейся из Китая.
(6) …голову коренной… – Коренная – лошадь, запрягаемая в оглобли; средняя лошадь в тройке.
(7) Опомесь – на днях, недавно (простореч.).
(8) …поехал на ней чехардой… – Сесть на кого-то чехардой – сесть верхом.
(9) …нашли его под съездом у Гаврюшки… – Съезд – высокое крыльцо.
(10) Мы брели целиком… – См. примеч. 94 на с. 627 наст. изд.
(11) …что нас обошел леший, что нам надобно выворотить шубы вверх шерстью и надеть наизнанку – все до креста. – Переодевание одежды на левую сторону с целью защиты от лешего – обычный магический прием (см.: Указатель сюжетов-мотивов быличек и бывальщин // Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири / Сост. В. П. Зиновьев. Новосибирск, 1987. С. 306).
(12) …в низаных киках, в кокошниках… – Кика – праздничный, украшенный бисером головной убор замужних женщин; кокошник – старинный русский женский головной убор в виде опахала или округлого щита вокруг головы.
(13) …в которые вплетены были треугольные подкосники с подвесками… – Точнее: подкосицы, или косники, – особые лоскуты или подушечки, шитые бисером, привешиваемые на кончик косы.
(14) …все принялись за подблюдные песни… – Имеются в виду народные святочные песни, исполняемые женщинами при гадании.
(15) Слава Богу на небе ~ Кто-то в путь во дорогу собирается. – Тексты четырех подблюдных песен, видимо, приведены Бестужевым по памяти. Расхождения их с текстами песен и вариантами их, напечатанными в кн.: (Сахаров И. П.) Песни русского народа. СПб., 1838. Ч. 1. С. 63–65, 83–85, 73–74, 72 (также с. 105–109, 114–115), – иногда довольно значительны.
(16) …что он послал бы сына и без прогонов… – Прогоны – плата, установленная при почтовой езде.
(17) …повезла в город заседателя… – Заседатель – выборный сословный представитель для участия в работе какого-либо уездного учреждения (суда, например).
(18) …либо в старую баню, чтоб погладил домовой мохнатой лапою на богачество… – Ср.: «…ходят ночью к бане, и пришед, отворят у оной двери <…> и когда почувствует, что прикоснулось <…> нечто лохматое, то значит жить богато…» (Словарь русских суеверий. СПб., 1782. С. 123).
(19) …канун-то Нового года чертям сенокос. – Черт, согласно славянской мифологии, особенно опасен на святки и в канун праздника Ивана Купалы.
(20) …глядясь за овинами на месяц в зеркало? – Ср.: «Ходят на перекресток с зеркалом и, имея за плечьми месяц, смотрят в зеркало, загадав: суженой, ряженой, покажися мне в зеркале, которой так же приходит, как и в пустой избе» (Словарь русских суеверий. С. 123).
(21) …словно живьем воочью совершаются. – Оборот, характерный для сказок в стиле лубка.
(22) …чертям скоро заговенье… – Заговенье – канун поста; здесь в значении: последний день, когда можно попировать, потешить себя.
(23) Черный ангел, или, по-кпижиому, так сказать, ефиоп… – Ефиопы (или «черные мурины») – постоянное обозначение бесов в старинной русской литературе; появление этих персонажей объясняется свойственным фольклору стремлением представить бесов (слуг, воинов, шпионов дьявола) в обличье иноверцев, иноземцев.
(24) Молодцы окручались в личины… – Личина – святочная маска; окручаться – перерядиться.
(25) …пришелец отвечал: «Мертвец пришел за саваном». – Эпизод с мертвецом, пришедшим ночью за саваном, описан в сказке № 351 сборника А. Н. Афанасьева (Народные русские сказки А. II. Афанасьева: В 3 т. М., 1985. Т. 3. С. 60–61).
(26) …от наваждения, от призору… – Наваждение – в поверьях обман чувств, видение, внушаемое злой силой, морока, соблазн, искушение; призор – призрак.
(27) …в распашной сибирке… – Сибирка – верхняя одежда, короткий кафтан в талию, с меховой опушкой и невысоким, стоячим воротником.
(28) …по откупам. – Откуп – право на взыскание каких-либо государственных доходов, предоставляемое частному лицу за денежное вознаграждение.
(29) Светец – в крестьянских домах приспособление для освещения в форме треножника.
(30) …даровым ерофеичем… – Ерофеич – водка, настоянная на травах.
(31) …я бы рад был съездить на адском бегуне в Ерусалим к заутрене. – Мотив поездки в Иерусалим на черте восходит к житию св. Иоанна Новгородского (вошло в «Пролог» и «Четьи-Минеи» Дмитрия Ростовского (7 сентября)).
(32) …в примечаниях к «Красавице озера» («Lady of the Lake») ~ тех страхов, которыми он обуял. – Речь идет о поэме В. Скотта (1771–1832) «Дева озера» (1810; рус. пер. – 1828). Примечание, о котором говорит Бестужев, относится к следующим строкам песни IV («Пророчество») строфы 4 поэмы:
Затеял Брайан ворожбу;
Он стал допытывать судьбу,
Какая участь всех нас ждет, –
Тагхайрмом звать обычай тот.
Для этого зарезан бык…
О «тагхайрме» – одном из многих способов, к которому прибегали шотландцы, пытаясь узнать будущее, В. Скотт рассказывает со ссылкой на издание «Martin's Description of the Western Islands» (1716). Бестужев имеет в виду последний абзац приведенной Скоттом большой цитаты из этого сочинения: «…некий Джон Эрч <…> находился ночью внутри шкуры <…> в течение этого времени он чувствовал и слышал такие ужасные вещи, что не мог бы выразить их; впечатление, которое все это произвело на него, было таково, что он никогда не сможет о нем забыть <…> он сказал, что ни за что не согласился бы снова оказаться вовлеченным в подобное предприятие…» (Scott W. The poetical works. Edinburgh, 1854. P. 245). Ср. слова монаха в поэме после гадания (строфа 6):
Нет, человеческая речь
Не в силах то в слова облечь,
Что я увидел…
(33) …головка полуштофа, по его словам какого-то зелья, собранного на Иванову ночь… – Штоф – старая русская мера жидкости (обычно вина, водки), равная 1/8 или 1/10 ведра. Для полуштофа использовался четырехгранный стеклянный сосуд с коротким горлышком. В праздник Ивана Купалы (24 июня по ст. ст.) собирают лекарственные травы; по славянским поверьям, в это время увеличивается их целебная сила.
(34) …трое любимцев ада… – Здесь, очевидно, в значении: три больших грешника.
(35) …а уж начавши коляду, не оглядывайся… – Коляда – здесь в значении: обряд.
(36) – Не будем ли варить в котле черную кошку ~ дали выкупу? – В различных мифологических традициях кошка выступает как воплощение (или помощник, член свиты) черта, нечистой силы. Черт может превращаться в кота черной масти, иногда с красными глазами. Согласно некоторым представлениям, он старается спрятаться около человека.
(37) …посадить лягушку в дырявый бурак, наговорить да и бросить в муравейник… – Бурак – кузовок; наговорить – в значении: наворожить.
(38) …я сам туда еду повидаться под шумок с одною барскою барынею. – Барская барыня – приближенная к помещице старшая горничная или приживалка.
(39) …звучали подрези… – Подрезь – оковка санного полоза.
(40) …прыгали наши казанки… – Казанки (козырки) – маленькие санки без полсти.
(41) …в самом развале… – Т. е. в разгаре.
(42) …в кругу котильона… – Котильон – танец-игра, непринужденный и разнообразный; танцевался на мотив вальса; один из заключавших бал танцев.
(43) …сидящего на беседке… – Беседка – сиденье для седока или ямщика.
(44) …в Писании сказано: «Блажен, кто и скоты милует!» – Ср.: Книга притчей Соломоновых, гл. XII, ст. 10 («Праведный печется и о жизни скота своего…»).
Латник. Рассказ партизанского офицера*
Впервые опубликовано: СОиСА. 1832. № 1–4, с подписью: «А. М.» и пометой: «Дагестан, 1831». Печатается по тексту первой публикации.
Как и другие произведения кавказского периода, «Латник» с большим интересом был воспринят читателями. В. К. Кюхельбекер писал: «В подробностях очень много истинно гениального. Особенно в рассказе Зарницкого о своих детских летах и в появлениях Латника…» (Кюхельбекер. С. 322).
(1) …послал меня Сеславин… – Александр Никитич Сеславин (1780–1858) – русский офицер, прославился в 1812 г. как герой партизанской войны. Первым обнаружил отступление французской армии и сообщил об этом М. И. Кутузову.
(2) …да дюжиною донцов. – По выражению историка, «самою блистательною страницею в летописях Донского войска навсегда пребудет его преследование неприятелей, совершенное под начальством графа Платова, безостановочно, в позднее время года, от Малоярославца до Ковпо. На сем пути полки, лично предводимые знаменитым атаманом, взяли более 500 орудий, несметные обозы, полонили 50 000 человек…» (Описание Отечественной войны в 1812 году, по высочайшему повелению сочиненное генерал-лейтенантом Михайловским-Данилевским. СПб., 1839. 4.4. С. 298).
(3) …назначено было местечко Ошмяны… – Имеется в виду уездный город Виленской губернии, расположенный на берегу р. Ошмяны (бассейн Немана).
(4) …волонтер Кравченко, полковой аудитор… – Волонтер – доброволец; аудитор – должностное лицо в военных судах, исполнявшее следовательские, прокурорские и секретарские обязанности. Звание было введено Петром I в воинском уставе 1715 г.
(5) …разрешать гордиевы узлы по-александровски. – По преданию, оракул предсказал владычество над Азией тому, кто развяжет узел, которым Гордий, родоначальник одной из фригийских династий, привязал ярмо к дышлу колесницы, подаренной им храму Зепса. Александр Македонский (356–323 до н. э.) разрубил узел мечом. Здесь в значении: разрешать затруднения насильственным способом.
(6) …и крест Почетного легиона – порука храбрости, звезда победы. – Крест Почетного легиона – французский знак отличия, учрежденный Наполеоном в 1802 г.; имеет пять степеней.
(7) …в любой полк во флигельманы годится. – Флигельман – фланговый солдат, демонстрировавший перед строем ружейные приемы.
(8) …стрельнут в меня Георгиевским крестом! – С 1769 г. в России был учрежден военный орден св. великомученика и победоносца Георгия.
(9) …загвоздили затравку… – Т. е. заклепали, забили гвоздем запал огнестрельного орудия.
(10) …мы нередко ремонтировались брошенными конями, излечая их гарнецем овса… – Ремонтировались – добывали лошадей, пополняли свои полки лошадьми (см. примеч. 8 на с. 635 наст, изд.). Гарнец – мера сыпучих тел, равная 1/8 четверика (см. примеч. 44 на с. 644 наст, изд.).
(11) Я усилил фланкеров. – Фланкеры – конные воины, высылаемые к флангам отряда для охраны его от нападения.
(12) …замочные унтер-офицеры… – См. примеч. 31 на с. 658 наст. изд.
(13) …залепетали флюгерами… – См. примеч. 48 на с. 637 наст. изд.
(14) …Огонь покатился вдоль фасов… – См. примеч. 19 на с. 630 наст. изд.
(15) …в саквах ни крошки сухарей… – См. примеч. 70 на с. 646 наст. изд.
(16) …едва тот успел завалить затравку… – Видимо, засыпать, заполнить запал орудия.
(17) …вызванные из замка для фуражировки… – См. примеч. 35 нас. 650 наст. изд.
(18) …шарить и шныхарить. – Шныхарить – промышлять, выведывать.
(19) Под Красным… – Под Красным в ноябре 1812 г. происходили четырехдневные бои, в ходе которых русские пытались захватить три корпуса французской армии. Попытка не удалась, но потери французов были огромны.
(20) …я вдел в нее Владимира с бантом… – Речь идет об одной из четырех степеней ордена св. Владимира, учрежденного в 1782 г. для награждения чинов военно-сухопутного и морского ведомства.
(21) …не хуже Петровок… – Петров день – праздник апостолов Петра и Павла, 29 июня ст. ст., в разгаре лета.
(22) …заговоренная кожа Ахиллеса. – Тело Ахиллеса, знаменитого и храбрейшего древнегреческого героя, было неуязвимо, кроме пятки, за которую держала его мать, морская богиня Фетида, купая ребенка в волшебном ручье. В это единственное уязвимое место попала и смертельно ранила Ахиллеса стрела Париса.
(23) …не в одних скрепах шнуровых книг… – Шнуровые книги – дворянские родословные книги, введенные в каждой губернии после издания Екатериной II в 1785 г. «Жалованной грамоты дворянству», которой утверждались личные права и преимущества дворянства как высшего сословия в России. Ведало этими книгами губернское дворянское собрание.
(24) …на дочери Платова!.. – Матвей Иванович Платов (1751–1818), граф (с 1812 г.), войсковой атаман Донского казачьего войска, генерал от кавалерии. Сподвижник А. В. Суворова. Герой Отечественной войны 1812 г.
(25) – Советовал бы я вам пустить себе самим рожечную кровь… – Рожечиая кровь – кровь, собираемая в рожки (или банки) при кровопускании.
(26) …к получению Анны на шпагу! – Голштинский орден св. Анны, учрежденный в 1795 г.; с 1797 г. включен в состав русских орденов. Имел четыре степени. Четвертая степень (с 1815) – крест, носимый на эфесе шашки или сабли, – награда, которую получали только офицеры.
(27) Неужто я не знаю его покляпого носа… – Покляпый – пригнутый книзу.
(28) …тамбурмажор какого-то егерского французского полка… – Тамбурмажор – старший над музыкантами, барабанщиками в полку.
(29) …у него на лице написано число 666… – 666 – «число зверя» в Апокалипсисе, как бы скрывающее имя антихриста («число имени его»). По утверждению церковников, Наполеон I – «апокалипсический зверь» (антихрист), так как сумма числовых значений еврейских букв его имени равняется 666.
(30) …ты будешь точно грех на звере Апокалипсиса/ – Имеются в виду ст. 3-18 гл. XVII Апокалипсиса, в которых рассказывается о «жене, сидящей на звере багряном».
(31) …а поднозе русских… –Т. е. «подноги» (церковно-слав.).
(32) …фабренной щеточки! – Щеточка, с помощью которой фабрят, т. е. красят, усы, бакенбарды.
(33) Грабе (грабий) – граф.
(34) …не то что покоевцев и ловчих. – Покоевец – слуга во внутренних покоях; ловчий – главный псарь.
(35) …с майоптка княжего… – См. примеч. 36 на с. 636 наст. изд.
(36) …у кляштора… – Кляштор – монастырь.
(37) …говорил, как Демосфен… – Демосфен (ок. 384–322 до н. э.) – древнегреческий оратор и политический деятель, вождь антимакедонской группировки Афин и других греческих полисов.
(38) …воочию совершались, как говорят русские сказки. – См. примеч. 21 на с. 661 наст. изд.
(39) Отрадно плыть во сне туманной Летой ~ И без кончины умереть!! – Стихи принадлежат Бестужеву (см.: Бестужев-Марлинский А. Поли. собр. стихотворений / Вступ. статья и примеч. Н. И. Мордовченко; Общ. ред. М. А. Брискмана. Л., 1961. С. 228 (Б-ка поэта; Большая сер. 2-е изд.)).
(40) …в усадьбе князя, называемой Шуран… – Шуран – поместье на Каме, принадлежавшее помещику П. А. Нармацкому, отличавшемуся жестоким и буйным нравом. Об этой усадьбе сохранились многие свидетельства и народные предания. Например, в «Записках о прошлом» П. Н. Суворова говорится: «Мать моей матери видела одно из шуранских подземелий. Оно представляло небольшую комнату с кирпичным полом и наглухо замурованную. В пей стояло тяжелое кресло у окна, выходившего на Каму. К креслу была прикована молодая женщина замечательной красоты, с распущенными косами. При открытии подземелья, когда струя свежего воздуха коснулась чудного призрака, он мгновенно распался. Остались одни кости и волосы. Предание передает, что Нармацкий влюбился в свою прекрасную соседку, Доможирову. Отвергнутый ею, он прибегнул к хитрости. В одну осеннюю темную ночь его дворецкий похитил Доможирову. Нармацкий силою хотел овладеть своей пленницей. Она отвечала пощечиной оскорбителю и за то поплатилась ужасно. Спустя несколько лет Нармацкий был сослан в Сибирь…» (М., 1898. 4.1. С. 5).
(41) …определение этих неумытых судей… – См. примеч. 104 на с. 647 наст. изд.
(42) …шел сзади его, как на своре. – См. примеч. 30 на с. 623 наст. изд.
(43) …иначе нельзя выправить, как перед зерцалом. – Т. е. в суде, приметой которого, как и всякого присутственного места, было трехгранное стояло с орлом и с тремя указами Петра I (зерцало).
(44) …по я вызову его, как тень Саула ~ неизбежное пророчество гибели. – По библейской легенде, Саул, иудейский царь (II в. до н. э.), пришел к власти с помощью пророка Самуила, но потом стал действовать самовластно. Когда Самуил, по повелению Бога, втайне помазал на царство Давида, Саул стал его непримиримым врагом. Гибель Саулу предрекла явившаяся ему тень умершего Самуила. Саул вместе с сыновьями погиб на следующий день в битве с филистимлянами, пав на свой меч (Первая книга царств, гл. XII–XXXI).
(45) …там был сам Наполеон. – В декабре 1812 г. Наполеон тайно покинул свою армию, передав командование Мюрату.
(46) …с ахтырцами… – Имеется в виду Ахтырский гусарский полк.
(47) …были геркулесовскими столбами его поприща. – Геркулесовы столбы – древнее название Гибралтарского пролива, на берегах которого, согласно древнегреческому мифу, Геракл, прошедший всю Европу и Ливию, поставил две скалы, за которыми, по мнению древних, был предел земли. Отсюда и выражение – дойти до Геркулесовых столпов – т. е. до конца, до крайнего предела.
Фрегат «Надежда»*
Впервые опубликовано: СО и СА. 1833. № 9-17, с подписью: «Александр Марлииский» и пометой: «1832. Дагестан». Печатается по тексту первой публикации.
В письме к матери от 29 декабря 1832 г. Бестужев сообщал: «Это время я был довольно прилежен: написал довольно большую повесть „Фрегат „Надежда““. Уверен, что она понравится, потому что писана от сердца. Чувства, которые застоялись было, брызнули потоком. Любовь и морс, две мои любимые стихии, на сцене: я разгулялся» (РВ. 1870. № 6. С. 523). О том же пишет Бестужев братьям – Николаю и Михаилу 15 января 1833 г.: «Я принялся за перо и написал полуморскую повесть „Фрегат „Надежда““; вторая половина ее должна вам понравиться, ибо я чувствую, что моей чернильницей было сердце» (наст. изд., с. 520). В. К. Кюхельбекер так оценил новое произведение Бестужева: «Повесть „Фрегат „Надежда““ – из лучших сочинений Марлинского. Особенно она мне потому нравится, что тут автор не так расточителен еа „бестужевские капли“; их тут мало и везде кстати». Отмечая далее как «единственный недостаток этого прелестного творения» «морские варваризмы», Кюхельбекер заключает: «Марлинский – человек высокого таланта: дай Бог ему обстоятельств благоприятных! У нас мало людей, которые могли бы поспорить с ним о первенстве» (Кюхельбекер. С. 363–364).
(1) Посвящается Екатерине Ивановне Бухариной. – Е. И. Бухарина – жена полковника Бухарина, тифлисского коменданта, в доме которого радушным гостеприимством встречали Бестужева, когда тот приезжал в Тифлис. За это Бухарин подвергся гонению со стороны И. Ф. Паскевича. О жене Бухарина писали как об образованной и приятной в обществе женщине, охотно принимавшей в своем доме декабристов (см.: ВейденбаумЕ. Кавказские очерки // PC. 1903. № 6. С. 481–502).
(2) В начале бе слово. – «В начале было слово…» – начальные слова Евангелия от Иоанна (гл. 1,ст. 1).
(3) …ты бы сочла меня за отаитянку на парижском бале. – Отаитянка – жительница острова Таити (Полинезия).
(4) Но петергофский праздник… – Имеется в виду, скорее всего, 1 июля – день рождения Александры Федоровны, супруги Николая I; отмечался маскарадом и иллюминацией в петергофских садах. Этот праздник пришел на смену 22 июля – дню тезоименитства Марии Федоровны, вдовы Павла I, скончавшейся в 1829 г.
(5) Я летала в небо вместе с водометом… – См. примеч. 18 на с. 630 наст. изд.
(6) …то была песня сирены. – Сирены в греческой мифологии – полуптицы-полуженщины, своим волшебным пением увлекавшие мореходов, которые становились их добычей.
(7) На мне тогда было глазетовое платье… – Глазет – сорт парчи с вытканными на ней блестящими золотыми или серебряными узорами.
(8) …самого Фому неверующего… – Речь идет об одном из евангельских апостолов, никак не желавшего поверить в воскресение Христа (Евангелие от Иоанна, гл. XX, ст. 24–29); здесь в нарицательном смысле как обозначение скептика.
(9) …учтивые рыбы Марлинского пруда… – Рыбы в петергофских прудах по звону колокольчика приплывали к берегу для получения корма. В апреле 1816 г. Бестужев поступил юнкером в лейб-гвардии Драгунский полк, расквартированный в Петергофе, и жил в Марли, с чем связано возникновение его псевдонима.
(10) …Сампсон, раздирающий льва. – Имеется в виду один из петергофских фонтанов.
(11) …танцуют передо мной польский… – Польский (полонез) – танец, открывающий бал.
(12) …пахнущими юфтью Буаста? – Юфть – сорт мягкой кожи, получаемый особой обработкой шкур, производства заводчика Буаста.
(13) …не один обломок Китайской стены… – См. примеч. 19 на с. 649 наст. изд.
(14) Вы бы могли, например, поместить какой-нибудь победный памятник, какой-нибудь храм в этом саду, так же как в Царском Селе. – В Екатерининском парке Царского Села насчитывается немало памятников славы, установленных в основном в честь русско-турецкой войны 1768–1774 гг.: Чесменская ростральная колонна в честь победы 1770 г. в Чесменской бухте (архитектор – А. Ринальди, установлена в 1771–1778 гг.), Кагульский (Румянцевский) обелиск, посвященный победе при Кагуле в 1770 г. (архитектор – А. Ринальди, установлен в 1771 г.), Морейская колонна в честь победы 1770 г. на полуострове Морея в Средиземном море (архитектор – А. Ринальди, установлена в 1771 г.). За оградой парка находится колонна, посвященная присоединению Тавриды (автор проекта неизвестен, установлена в 1777 г.). Храм в Царском Селе – это, скорее всего, пятиглавая с золотыми куполами дворцовая церковь Иконы Знамения Божией матери (архитектор – В. В. Растрелли, заложена в 1734 г.).
(15) …я беру на себя роль ростральной колонны… – Ростральной – т. е. снабженной рострами (от лат. rostra – нос корабля), украшениями в виде носовой части старинного военного судна.
(16) …коробочка Пандоры есть необходимый свадебный подарок… – Ящик Пандоры – вместилище бед, дар, чреватый несчастьями. По преданию, Пандора из любопытства открыла урну, подаренную ее мужу Зевсом и содержавшую все людские пороки, болезни и несчастья, выпустив, таким образом, на волю бедствия, от которых с тех пор страдает человечество.
(17) …к камням Монплезира… – Монплезир – дворец Петра I вПетерпЗфе, построенный в 1714–1725 гг.
(18) …и дал ему чистые лавры под Наварином. – Имеется в виду сражение в 1827 г. в Наваринской бухте между турецко-египетским флотом и соединенными эскадрами России, Англии и Франции. Сражение закончилось победой последних, в нем отличились герои обороны Севастополя П. С. Нахимов, В. А. Корнилов, В. И. Истомин.
(19) …лишь бы на нем веял флаг контр-адмирала… – Контр-адмирал – третье лицо в русском флоте, имеющее чин генерал-майора и свой флаг.
(20) Природа, как говорит Шекспир, могла бы указать на него пальцем и сказать: «Вот человек!» – Слова Антония о Бруте из трагедии В. Шекспира (1564–1616) «Юлий Цезарь» (1599) (акт V, сц. 5): «Прекрасна жизнь его, и все стихии Так в нем соединились, что природа Могла б сказать: „Он человеком был!“».
(21) В приемах его не было модной вертляности… – Вертляный – верткий, суетливый, непоседа.
(22) …о всех эволюииях… – Т. е. о строевых тактических или стратегических передвижениях, маневрах флота.
(23) Посредине просторного дека…– Дек – закрытая палуба судна.
(24) …он повторил фразу Лареньера: «Ainsicuiton auraitmange son pere». – Источник цитаты не установлен. Лареньер – лицо неустановленное.
(25) …прыгают около меня, как шутихи… – См; примеч. 52 на с. 637 наст. изд.
(26) …император поднял свой штандарт ~ вмиг салютные выстрелы загремели со всех судов. – Штандарт – императорский флаг, на котором был изображен черный двуглавый орел на золотом поле. Поднятый штандарт – знак присутствия на корабле императора. Остальные корабли салютуют в этом случае орудийными выстрелами и приспусканием своих флагов и вымпелов.
(27) Один канонер, прибивая заряд, был оглушен… – См. примеч. 60 на с.632 наст. изд.
(28) Вероятно, с бизан-русленей. ~ нередко прорезываются порты. – Бизань (бизан) – название мачты и паруса. Руслени – «полки» за бортом, за которые крепятся ванты, – в данном случае поддерживающие бизань-мачту (ср. также ниже, примеч. 225). Вант-путенсы (вант-потиигсы) – устройство, которым ванты крепятся к корпусу судна. Порт – амбразура в борту для пушечного дула.
(29) …Е per guesto ~ ипа simile tentazione. Ugo Foscolo. – Эпиграф взят из романа итальянского писателя Уго (наст, имя – Никколо) Фосколо (1778–1827) «Последние письма Якопо Ортиса» (1798; рус. пер. – 1831) (письмо от 20 ноября).
(30) Эге, Флогистон Хининович… – Шутливое прозвище, связанное с двумя названиями: флогистон – невесомое вещество, по представлениям химиков XVIII в., рождающее тепло; хинин – горький белый порошок (из коры хинного дерева), средство от малярии.
(31) Вы, конечно, любите Ганемаповы выжидающие средства… – Т. е. гомеопатические лекарства; по имени основателя гомеопатии немецкого врача Самуэля Ганемана (1755–1843).
(32) Но я все-таки ложусь на прежний румб… – Румб – каждое из 32 делений на круге компаса, соответствующее каждой – части горизонта.
(33) …картуз в дуло!.. – См. примеч. 92 на с. 634 наст. изд.
(34) …между прочим и отец медицины ~ Гиппо-по-крат… – Гиппократ (460–377 (?) до н. э.) – великий древнегреческий врач, реформатор античной медицины.
(35) …то есть чемерицы… – Чемерица – ядовитое растение, близкое к лилейным (иначе: морозник). Настойка из корней его применяется против накожных паразитов животных и человека.
(36) …щепотки три гренадерского зеленчака… – Зеленчак – крепкий нюхательный табак, приготовляемый из зеленых листьев.
(37) …и, постепенно действуя и противодействуя сперва на тунику, потом на перекраниум…– Тупика – здесь в значении: кожный покров; перекраниум – оболочка, покрывающая головной мозг.
(38) …Авиценна и Аверроэс, даже сам Парацельс… – Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина (латинизированное – Авиценна) (980-1037) – ученый, философ, врач. Автор известных трудов по философии («Книга исцеления», «Книга указаний и наставлений») и важнейшего медицинского сочинения «Канон врачебной науки» (в 5 ч.). Абу-ль-Валид Мухаммед ибн Ахмед ибн Рошд (латинизированное – Аверроэс) (1126–1198) – арабский философ и врач; автор энциклопедического медицинского труда (в 7 кн.; в европейской литературе известен под названием «Colliget»). Парацельс (наст, имя – Филипп Ауреол Геофраст Бомбаст фон Гогенгейм) (1493–1541) – немецкий врач и химик, способствовал внедрению химических препаратов в медицину.
(39) Другие же, как, например, Бургав… – Герман Бургав (1668–1738) – голландский врач, ботаник и химик, создатель первой научной клиники в Лейдене, стяжавшей мировую славу.
(40) …действуют шпанскими мухами, вессикаториями и синапизмами… – Шпанские мухи – пластырь из порошка, приготовленный из высушенного жучка; вессикаторий – нарывной пластырь; синапизм – горчичник.
(41) …изломал грота-рей… – Грота-рей – нижний из четырех поперечных брусьев, к которым прикрепляют паруса.
(42) …на фрепезию… – Френезия – бешенство, буйство.
(43) …цефальгию и даже сплин! – Цефальгия – тип угнетающей головной боли; сплин – тоска, уныние, хандра.
(44) …если б вы не носили очков и тавлинок… – Тавлинка – плоская табакерка из бересты.
(45) …вертлява как люгер… – Люгер – небольшое трехмачтовое судно.
(46) – Грот-марса-фалом клянусь! – Имеются в виду грот-марс – первая площадка на грот-мачте (в месте соединения мачты со стеньгою) и фал – снасть для поднятия на ней паруса; свое название фал получает по парусу. Ср. ниже, примеч. 74 и 79.
(47) А что оно такое, как не химическая горлянка… – Горлянка – тыква, похожая на флягу, баклажку; употребляется на юге для хранения воды, дегтя.
(48) Читали ли вы Гарвея?.. – Уильям Харви (Гарвей) (1578–1656) – английский естествоиспытатель и врач, основоположник научной физиологии и эмбриологии, автор классического труда «Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных» (1628).
(49) …знаете ли вы трактат доктора Крейсига о болезнях сердца? – Фридрих Крейсиг (1770–1839) – немецкий врач, автор книги «Болезни сердца» (1814–1817. Ч. 1–3).
(50) …как шутку в часослове. – Часослов – книга, содержащая текст некоторых церковных служб (часов).
(51) …будто муха над дорожными. – Т. е. над проезжими.
(52) …бурливее мыса Горна… – Мыс, крайний южный пункт Южной Америки, на острове Горн, к югу от Огненной Земли. Бушующие здесь западные ветры задерживают движение кораблей из Атлантического океана в Тихий.
(53) …голландский гальот… – Гальот – небольшое торговое судно (двухмачтовое или одно мачтовое).
(54) …как тетушка Пелагея Фарафонтьевна. – Речь идет об известной петербургской гадалке 20-х гг. XIX в.
(55) …собаки лечат себя от бешенства водяным шильником … – Шильник – болотное растение, применяемое в народной медицине.
(56) …я отдал бы все свои призовые деньги… – Призовые деньги – законная военная добыча (судно и груз его), которую победители делят между собой (выражение, принятое у моряков).
(57) Я бы готов на полгода отказаться от вина и елея… – Т. е. поститься, здесь в значении: отказаться от всех радостей жизни. Восходит к церковному выражению «разрешение вина и елея», означающему послабление в строгости поста.
(58) …проглотить собаку-блок после ужина!.. – Собака-блок – подвижный, свободно перемещающийся по канату блок для поднятия парусов.
(59) …можно последовать совету славного римского врача Анахорета… – Видимо, шутка Бестужева. Анахорет – отшельник.
(60) …нашего знаменитого корнеискателя… – Здесь сказалось уважительное отношение к этимологическим увлечениям А. С. Шишкова (1754–1841), автора «Рассуждения о старом и новом слоге российского языка» (1803). В статье «Взгляд на старую и новую словесность в России» Бестужев писал о Шишкове: «… он тщательно занимается родословною русских наречий и речений и доводами о превосходстве языка славянского над нынешним русским» (Марлинский, 11,144).
(61) …на даглисте… – Дагликс (даглист) – якорь с левой стороны корабля.
(62) … к правой кран-балке… – Крам-бал (кран-балк, кран-балка) – каждый из двух брусьев со шкивами, находящихся по бокам передней мачты, для подъема и уборки якоря с поверхности воды.
(63) …бакштаги в струну вытягивай! – Бакштаг – смоленая снасть (стоячий такелаж), укрепляющая продолжение каждой мачты с обоих боков.
(64) Ага! стеньги хрустят? – Стеньга – вертикальный брус, наращиваемый на мачту для увеличения ее высоты.
(65) …сотни побранок, которые Николай Иванович Греч сравнил с пеною шампанского. – Источник цитаты не установлен. См. примеч. 1 нас. 634 наст. изд.
(66) …над головами их разражался перун… – См. примеч. 36 на с. 623 наст. изд.
(67) …будто сейчас из-под мрачной кисти Сальватора… – Сальватор Роза (1615–1673) – итальянский живописец и гравер, автор картин на религиозные и мифологические сюжеты, а также портретов, пейзажей и батальных сцен. Картины его отличаются резкими светотеневыми контрастами, мрачным буровато-свинцовым колоритом.
(68) …спущены, кажется, теперь со своры… – См. примеч. 30 на с. 623 наст. изд.
(69) На баке ало! – «Ало» – оклик с судна или на судно, означающий: «Эй, слушай!».
(70) Из бухты вон! – Команда, подаваемая перед отдачей якоря.
(71) …покатился канат из клюза. – Клюзы – сквозные отверстия в борту носовой части судна для пропуска якорных канатов.
(72) Это пеньковый тифон… – См. примеч. 31 на с. 636 наст. изд.
(73) …закреплены были огоном… – Огон – обнос снасти вокруг чего-либо петлей.
(74) …послал по марсам… – Марс – площадка у вершины мачты (точнее: при соединении мачты со стеньгою).
(75) …как дух бурь, описанный Камоэнсом… – Луиш Камоэнс (1524–1580) – португальский поэт, крупнейший представитель литературы Возрождения, автор эпической поэмы «Лузиада» (1572). Речь идет об описании, находящемся в песни V поэмы.
(76) Прикажите только изготовить два плутонга пушек на оба борта… – Имеется в виду не большое число пушек и обслуживающих их артиллеристов для стрельбы плутонгами (мелкими залпами).
(77) …вздумает пощупать нас за утлегарь. – Утлегарь – продолжение бушприта (бруса, выступающего наклонно впереди носа корабля).
(78) …ходил по шканцам… – Шканцы – кормовая часть верхней палубы.
(79) Грот-марса-ре я меня убей…– Речь идет о втором из поперечных брусьев на грот-мачте для привязывания парусов (под ним – грот-рей, над ним – грот-брам-рей и грот-бом-брам-рей).
(80) …скомандовать на марса-фалы! – Название корабельной снасти, с помощью которой поднимают марсель – большой прямой парус, второй снизу, прикрепленный к реям у марса.
(81) Повторив несколько раз все эволюции салюта и ордер марша по гостиной и потом ордер-баталии… – Эволюции салюта – передвижения, построения, связанные с салютом; ордер – строй, порядок, каким флот строится для марша, сражения или другой цели.
(82) …храбрость моя роняет брамсели. – Брамсель – прямой парус на брам-pee и брам-стеньге; относится к третьему ярусу парусного вооружения судна.
(83) …в порт Свеаборга. – Свеаборг – шведское название (финское до 1918 г. – Виапори) бывшей крепости на островах Финского залива у входа в гавань Хельсинки. В апреле 1808 г. здесь перед русскими войсками капитулировала шведская армия. В 1809–1917 гг. крепость входила в состав Российской империи.
(84) …будто Конгревовы ракеты… – См. примеч. 1 нас. 659наст. изд.
(85) Стень ложного стыда удушала меня. – См. примеч. 93 на с. 627 наст. изд.
(86) …заклинался гуриями… – См. примеч. 47 на с. 631 наст. изд.
(87) …льдины <…> какие видел Парри в Баффиновом заливе… – Уильям Парри (1790–1855) – английский исследователь Арктики. В 1821–1822 гг. открыл пролив Фьюри-энд-Хекла, доказав, что Баффинова земля – остров. Имеет ли в виду Бестужев этот пролив или море Баффина – неясно. Море Баффина находится между Гренландией и восточными берегами Канадского Арктического Архипелага. И море Баффина, и Баффинова земля названы в честь английского полярного исследователя Уильяма Баффина (1584–1622).
(88) …я «суровый славянин», как говорит Пушкин. – Выражение из стихотворения Пушкина «К Овидию» (1821) («Суровый славянин, я слез не проливал…»).
(89) …как прогулка Иго рева флота на колесах… – Эпизод, о котором говорит Бестужев, связан не с Игорем, а с Олегом, который, как рассказывает в «Истории государства Российского» со ссылкой на летопись («Повесть временных лет») Н. М. Карамзин, в 906 г. «поставил суда свои на колеса и силою одного ветра, на распущенных парусах, сухим путем шел со флотом к Константинополю» (Карамзин Н. М. История государства Российского: В 3 кн., 12 т. 5-е изд. СПб., 1842. Кн. 1, т. I. Стб. 80). Карамзин считает версию летописца вымыслом.
(90) Не могу верить, говорил маркиз Граммон, чтобы Бог любил глупых. – Какому именно маркизу Граммону принадлежит данное высказывание – неизвестно.
(91) В дуэлях классик и педант… – Цитата из «Евгения Онегина» Пушкина (глава VI, строфа XXVI).
(92) «Для таких ли душ изобретал порох Бартольд Шварц, а Лепаж тратил свое искусство?»… – Бертольд Шварц – немецкий монах; по преданию, изобрел порох, по одним сведениям, в 1259 г., по другим – почти на сто лет позже; Лепаж – прославленный французский оружейный мастер начала XIX в.
(93) Перевяжи узлом мой брейд-вымпел… – Брейд-вымпел – отрядный флаг (начальника нескольких военных судов).
(94) …со своим медным секстаном… – Секстант (секстан) – угломерный инструмент для геодезических и астрономических наблюдений.
(95) …ты бы сравнил его с Мильтоновым Эмпиреем, оглашенным битвою ангелов с демонами!.. – Имеется в виду поэма английского поэта Дж. Мильтона (1708–1674) «Потерянный рай» (1667) (кн. VI).
(96) Frailty – thy name is, woman! – Эпиграф взят из трагедии В. Шекспира «Гамлет» (1601) (акт 1, сц. 2).
(97) …мы и без этого рогаля живем припеваючи. – Рогаль – калач.
(98) …произвел бы в Ювеналы… – Децим Юний Ювенал (ок. 60 – ок. 127) – римский поэт-сатирик, сатиры которого отличались тяжелым и грозным обвинительным пафосом.
(99) …злословие есть лишь гальваническое средство… – См. примеч. 8 на с. 648 наст. изд.
(100) Век наш – истинный Диоген: надо всем издевается. ~ и потом, освистывает Платоново бессмертие… – Диоген Синопский (ок. 400 – ок. 325 до и. э.) – древнегреческий философ-киник. По преданию, в ответ на предложение Александра Македонского сделать для него все, что тот пожелает, попросил об единственной милости: не заслонять ему солнца. См. о Диогене, который ко всему «относился с язвительным презрением»: Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1979. С. 240–260 (кн. 6). Платон (427–347 до и. э.) – древнегреческий философ-идеалист, изложивший свое учение о бессмертии в диалоге «Федон».
(101) …читают на воротах Дантову надпись: «Per me si va nella citta dolente!»… – Начальные слова песни III «Ада» из «Божественной Комедии» (1307–1321) Данте Алигьери (1265–1321).
(102) …из корпуса он перешел на палубу… – Имеется в виду Морской корпус, основанный в Петербурге в 1752 г.
(103) …за квакерское пожатие руки… – Квакеры – члены религиозной секты, называвшейся иначе «Обществом друзей» (основана в середине XVII в. в Англии Дж. Фоксом (1624–1690); получила распространение в Америке).
(104) …бросил он, подобно Клеопатре, в уксус страсти. – Клеопатра (68–30 до н. э.) – царица Египта, прославившаяся красотой и умом. Своим обаянием пленила Цезаря, а после его смерти Антония. По преданию, развлекаясь, любила растворять жемчуг в уксусе.
(105) За Балкан, за Саганлуг! за Варну, за Ахалцих!.. – Речь идет о местах сражений во время русско-турецкой войны 1828–1829 гг. на балканском (к Варне русские войска подступили в конце июня 1828 г. и с огромными потерями взяли ее 29 сентября, что открыло им дорогу на Константинополь; Балканский хребет был перейден в середине июля 1829 г. войсками под командованием И. И. Дибича, получившего титул Забалканского; переход этот освободил путь к Адрианополю) и кавказском (Ахалцих сдался 16 августа 1828 г., в феврале 1829 г. турки вновь пытались завладеть крепостью, но в марте были отогнаны окончательно; в июне 1829 г., двигаясь к Эрзеруму, русские войска осуществили смелый и быстрый переход через Саганлугский хребет) фронтах.
(106) …pro teterrima causa omnis belli. – Цитата из «Сатир» (ок. 35–30 до н. э.) (кн. 1, сатира 3, ст. 107) римского поэта Квинта Горация Флакка (65-8 до н. э.).
(107) «I like the women too, forgive my folly», – как говорит Байрон. – Цитируется «Беппо» (1818) Дж. Байрона (1788–1824) (первая строка строфы XLV).
(108) …не показывал в Петербурге сам Пинетти. – Пинетти – физик, демонстрировавший в Петербурге в конце XVIII – начале XIX в. различные опыты.
(109) Хорошо бордо в пол-обеда… – Бордо – сорт красного вина (по названию французского города).
(110) …но теперь лучше эперне… – См. примеч. 23 на с. 636 наст. изд.
(111) …она умеет спрягать глагол «я хочу» не хуже г-жи Линьёль… – Г-жа Линьёль – лицо неустановленное.
(112) …он весь век будто маятник между бутылкой бургонского и сткляпкой с лекарством. – Бургонское – сорт красного вина (по названию французской провинции).
(113) …и сказать: Вы сударь, камень, вы, сударь, лед… – Неточная цитата из комедии А. С. Грибоедова (1790 или 1795–1829) «Горе от ума» (1824) (д. IV, явл. 12).
(114) …под командою первого адмирала, Ноя… – «Адмиралом» иронически именуется Ной, построивший ковчег во время всемирного потопа.
(115) …а с кавалером сервенте своим… – Т. е. с верным рыцарем, признанным поклонником замужней женщины (от ит. cavaliere servente).
(116) …хромоногий бес не снимет кровли с ее будуара… – В романе А.-Р. Лесажа (1668–1747) «Хромой бес» (1707) бес Асмодей приподнимает крыши домов, чтобы показать своему спутнику частную жизнь их обитателей (гл. III).
(117) …не хуже Саллюстия… – См. примеч. 1 на с. 629 наст. изд.
(118) …чуть ли не Spottgeburtaus Dreck und Feuer. – Источник цитаты не установлен.
(119) Макиавель и Купидон – заклятые враги друг друга. – Никколо ди Бернардо Макиавелли (1469–1527) – итальянский политический мыслитель и писатель, автор книги «Государь» (1532), в которой оправдывал любые методы (насилие, обман, убийство, предательство) в борьбе за упрочение государства. Купидон (Эрос, Эрот) – бог любви.
(120) Буало насчитал в Париже до двух Лукреций… – Никола Буало-Депрео (1636–1711) – французский поэт, критик, теоретик классицизма. Лукреция – жена Тарквиния Колматипа, царского родственника, ставшая жертвой насилия со стороны Секста Тарквиния, сына последнего царя в древнем Риме Тарквиния Гордого, и покончившая жизнь самоубийством. Ее имя употреблялось как синоним супружеской верности. Ср. «Сатиру V» Буало (ст. 83–86):
Et commment savez-vous si quelque audacieux
N'a point interrompu le cours de vos aieux;
Et si leur sang tout pur, ainsi que leur noblesse,
Est passe jusqu'a vous de Lucrece?
Перевод: «И как вы узнаете, не нарушил ли какой-нибудь наглец сплошную цепь ваших предков и не дошли ли до вас их чистейшая кровь и знатность через посредство множества Лукреций?» (фр.).
(121) …Пушкин в целой России не находит трех пар стройных ножек… – Бестужев имеет в виду строки из «Евгения Онегина» Пушкина (гл. I, строфа XXX): «…только вряд Найдете вы в России целой Три пары стройных женских ног».
(122) …в продолжение высокоаюго котильона… – См. примеч. 42 на с. 663 наст. изд. В високосном котильоне шесть фигур вместо обычных пяти.
(123) …в этой столице «раскрашенных снегов», как говорит Байрон. – Выражение из поэмы Байрона «Дон-Жуан» (1818–1821) (песнь IX), а не из «Паломничества Чайльд Гарольда» (1812–1817).
(124) …едва ли они спроворят себе на глаголь. – См. примеч. 33 на с. 636 наст. изд.
(125) …путешествие испанца Гвереры в Южном океане… – По-видимому, речь идет о вымышленном лице.
(126) О, сладка месть, сладка! Гомер недаром назвал ее страстью богов… – Скорее всего, Бестужев ошибается: подобная мысль у Гомера неизвестна.
(127) Я отвратил мое медузино лицо от испуганной четы… – Медуза – одна из трех сестер Горгон. Как и сестры, обладала взглядом, обращающим всех смотревших на нее в камень; на голове у нее вместо волос извивались змеи.
(128) …смотрел на княгиню и ее Миловзора… – Имя это происходит, по всей вероятности, от фамилии персонажа романа А. Е. Измайлова (1779–1831) «Евгений, или Пагубные следствия дурного воспитания и сообщества» (1799–1801) Миловзорова.
(129) Zwei liebende Herzen ~ eine Kraft, die sie durchgeht. – Источник цитаты не установлен.
(130) …для перемены некоторых частей рангоута… – Рангоут – деревянные или стальные круглые брусья для поддержания и растягивания парусов (мачты, реи, стеньги и пр.).
(131) …бронзу на винты кароиад… – См. примеч. 32 на с. 636 наст. изд.
(132) …накофель-нагели… – Кофель-нагель – болтик в кофель-планке – бруске, прибитом к борту судна для крепления снастей.
(133) Капитана исцелили мои фумигации… – Фумигация – окуривание; в медицине – ингаляция.
(134) …стоял уже над колесом бертовского парохода… – Бертовский пароход – пароход, построенный на заводе Карла Берда (ум. 1864) в Петербурге. Курсировал в основном между Петербургом и Кронштадтом.
(135) …благоговея перед монументом Петра Великого… – Монумент Петра Великого – памятник Петру I скульптора Э.-М. Фальконе (1716–1791), открытый в Петербурге на Сенатской площади в 1782 г.
(136) …дремучие болота Рюисдаля… – Речь идет о картине «Болото» (конец 1860-х гг.; Эрмитаж) голландского живописца и графика Якоба ван Рёйсдаля (1628 или 1629–1682), принадлежащей к циклу картин с изображениями болот и лесных речек и выражающей идею стихийной и величественной мощи природы.
(137) …вдыхал свежесть ночей фан дер Неера… – Арт ван дер Hep (фан дер Неер) (1603–1677) – голландский пейзажист, автор многих ночных (недатированных) пейзажей: «Лунная ночь на реке», «Ночной вид на реке с рыбаками, развешивающими сети», «Восход луны», «Лунная ночь», «Лунная ночь на реке» (Эрмитаж).
(138) …летел с кораблем по желтому Немецкому морю фан Остада. – Среди картин голландских живописцев Адриана ван Остаде (1610–1685) и Исаака ван Остаде (1621–1649), хранящихся в Эрмитаже, указанной марины нет. Возможно, Бестужев имеет в виду одну из двух недатированных эрмитажных картин: Алберта Кейпа (1620–1691) «Накренившийся парусник в непогоду» или Адама Сило (1647–1757) «Волнующееся море с парусными судами».
(139) Портреты фан Дейка шевелились… – Антонис ван Дейк (1599–1641) – фламандский портретист. В Эрмитаже хранятся его «Семейный портрет» (1621), «Автопортрет» (конец 1620 – начало 1630-х гг.), «Портрет молодого человека» (ок. 1634–1635) и многие другие портреты.
(140) …небо Рафаэля растворялось… – Особую прозрачность всех деталей рафаэлевского пейзажа, в частности неба, отмечает, например, М. В. Алпатов (см.: Алпатов М. В. Этюды по истории западноевропейского искусства. 2-е изд. М., 1963. С. 96).
(141) …хотел удержать камни, летящие все. Стефана Лесюерова… – Эсташ Лесюер (1617–1655) – французский художник и гравер; писал картины на исторические, религиозные и мифологические темы. Возможно, Бестужев несколько ошибается. В Эрмитаже хранилась «Смерть св. Этьена» Лесюера (см.: Benezit E. Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs. Paris, 1976. T. 6. P. 617).
(142) …врубался в ряды мидян с Пуссеном… – Никола Пуссен (1594–1665) – французский живописец. Возможно, Бестужев говорит о картине «Битва израильтян с амалекитянами» (ок. 1625; Эрмитаж).
(143) …молился с блудным сыном Myрильо. – Бартоломео Эстебан Мурильо (1617–1682) – испанский живописец, писавший в основном на религиозные темы. Известен цикл его картин, посвященных сюжету о блудном сыне (1660–1680). Какая картина из этого цикла или эскиз к ней находились во времена Бестужева в Эрмитаже – неизвестно.
(144) …сельский праздник манил к себе. – Скорее всего, речь идет об одной из двух эрмитажных картин с одинаковым названием «Деревенский праздник» (1646; 1648) Давида Тенирса Младшего (1610–1690), фламандского живописца-жанриста. См. примеч. 65 на с. 632 паст. изд. Одноименная картина есть и у Адриана ван Остаде (1640; Эрмитаж).
(145) Шумная встреча штатгалтера ~ грозили перстом из oкнa. – О какой картине идет речь – неизвестно.
(146) Влево шумел черный лес Сальватора… – О какой картине С. Розы идет речь, не установлено. См. выше, примеч. 67.
(147) …вправо плескалось бурное море Вернета… – Клод? Козеф Верне (Вернет) (1714–1789) – французский художник-маринист. В Эрмитаже есть несколько картин Верне, изображающих бурное море, например: «Буря у скалистого берега» (1763), «Кораблекрушение» (1763), «Буря» (1765).
(148) …до недосягаемой святыни Урбино… – Речь, видимо, идет о Рафаэле. Рафаэлло Санти (1483–1520), как известно, родился в Урбино и с 1500 по 1504 г. там работал. Незадолго до рождения Рафаэля Урбино на некоторое время стал блестящим художественным центром, в котором по приглашению герцога Федериго да Монтефельтро работали крупнейшие архитекторы (Донато Браманте) и художники (Пьеро делла Франческо) Италии. Созданное ими было перед глазами юного Рафаэля, являясь для него притягательным примером. В данном случае, может быть, имеется в виду картина «Св. семейство (Мадонна с безбородым Иосифом)» (ок. 1 50 5), написанная уже во Флоренции.
(149) …в комнатах, заключающих в себе музей Жозефины… – Мария-Роза-Жозефина – французская императрица, первая жена Наполеона I, устроила в окрестностях Версаля, в замке Мальмезон, музей, где хранились произведения искусства, вывезенные Наполеоном из захваченных им стран. В 1815 г. Александр I привез из Мальмезона в числе прочего несколько скульптур Антонио Кановы (1757–1822) – итальянского скульптора-классициста, возрождавшего в своем творчестве античные традиции. Залы в Эрмитаже, где разместили привезенные Александром I произведения искусства, именовались Мальмезон; Бестужев называет их музеем Жозефины.
(150) …между прелестною Гебою и танцовщицею Кановы возвышается, его же резца, чета Амура и Душеньки. – Скульптурный вариант Гебы, хранящийся в Эрмитаже, представляет собой изображение олимпийской богини юности с позолоченной бронзовой чашей и кувшином. Эрмитажная фигура танцовщицы – одна из трех скульптур на эту тему, принадлежащих итальянскому мастеру. Теме «Амур и Психея» посвящены Кановой несколько различных изображений этих персонажей, одним из которых и является скульптурная группа, находящаяся в Эрмитаже.
(151) Но если группа Скопаса… – Скопас – выдающийся древнегреческий скульптор и архитектор (IV в. до н. э.), многочисленные работы которого известны по римским копиям. О его скульптуре, изображающей «Амура и Психею», сведений найти не удалось.
(152) «Одних уж нет, другие страствуют далече!»… – Слова из поэмы «Бустан» (1257) Саади (между 1203 и 1210–1292); использованы Пушкиным (см. поэму «Бахчисарайский фонтан» (эпиграф) и главу VII, строфу LI романа «Евгений Онегин»).
(153) …а сердце наш вещун! – недаром сказано Дмитриевым. – Источник цитаты не установлен.
(154) …готов был клясться иготью Эскулапа… – Иготь – ступка.
(155) Utrudzhtem usta ~ po kohcu swiata. – Эпиграф взят из стихотворения А. Мицкевича (1798–1855) «Разговор» (1825). На польский текст этого стихотворениям. И. Глинка написал музыку.
(156) …а природа не любит пустоты, вопреки Паскалю и водяному насосу… – Блез Паскаль (1625–1682) – французский философ, писатель, математик и физик. Опроверг широко распространенное в его время аристотелевское представление о том, что «природа боится пустоты», использовавшееся для объяснения действия водяного насоса, и доказал наличие атмосферного давления.
(157) Они будто волосатики впиваются в персты… – Волосатик – червь, живущий под кожей.
(158) …днем взбегают будто кресс-салат. – Кресс-салат – овощное однолетнее растение, листья которого употребляются для приготовления салата.
(159) …сердце – настоящий вестминстерский кабинет ~ и обыграть, и выбить. – В Вестминстере (юго-западная часть Лондона) находятся здания Вестминстерского аббатства, парламента (последнее носит название Вестминстерский дворец), министерств (на ул. Уайтхолл), а также резиденция премьер-министра (на Даунинг-стрит). Что здесь имеет в виду Бестужев – парламент или кабинет министров Англии – неясно.
(160) …амброзия для него пост… – Амброзия – в греческой мифологии – пища богов.
(161) Так, Наполеону выпало распутие власти ~ первая верста была батарея под Тулоном, а последняя – остров св. Елены. – Со взятия Тулона, восставшего против Конвента, в декабре 1793 г., в котором решающую роль сыграла батарея двадцатичетырехлетнего капитана Наполеона Бонапарта, началось его стремительное восхождение к власти. Ссылка после вторичного отречения (22 июня 1815 г.) на остров св. Елены, где он провел последние шесть лет своей жизни, означала крах военной и государственной карьеры Наполеона.
(162) …оно как всезначащее число 666 в Апокалипсисе. – См. примеч. 29 на с. 664 наст. изд.
(163) …их перехода через Альпы… – Имеется в виду Швейцарский поход А. В. Суворова, когда был совершен беспримерный горный переход русских войск из Италии через Альпы (перевал Сен-Готард) в Швейцарию во время войны 1798–1802 гг. 2-й коалиции (Великобритания, Австрия, Россия, Турция, Королевство обеих Сицилии) против Франции. Понеся большие потери (свыше 4000 человек убитыми и ранеными), русская армия сумела выйти из окружения и даже вывести пленных, отбиваясь от превосходящих сил противника. 11 октября 1799 г. союз с Австрией был расторгнут и войска Суворова были отозваны в Россию.
(164) …они уже вздыхают о лаврах Иены и Маренго… – 14 октября 1806 г. произошло Иено-Аурштедтское сражение между французскими войсками и прусско-саксонской армией во время русско-прусско-французской войны 1806–1807 гг. Французы одержали блестящую победу над небоеспособной прусской армией, возглавляемой бездарными генералами. Маренго – деревня в Северной Италии, близ которой 14 июня 1800 г. была разгромлена французами австрийская армия во время войны Франции против 2-й коалиции (1798–1801).
(165) …а заключенье у ней: «Индеек малую толику!» – Цитата из басни И. И. Дмитриева (1760–1837) «Лиса-проповедница» (1805).
(166) Платонизм – Калиостро; заговорит вас… – Граф Александр Калиостро – одно из имен известного итальянского авантюриста и шарлатана Джузеппе Бальзамо (1743–1795), подвизавшегося в конце XVIII в. во многих странах Европы, в том числе при французском и русском дворах, выдавая себя за великого ученого, медика и алхимика.
(167) …и вы уснете будто с маковки… – Маковка – маковая головка.
(168) …мою статью «Нечто о любви душ». ~ рядом с речью «О влиянии свирели и барабана на юриспруденцию». – Шутка Бестужева.
(169) …намеки мои на госпожу Никто, Mistriss Nobody английских фарсов… – «Nobody» – в переводе с английского языка человек, никому не известный, ничтожество, «пустое место».
(170) На площадях толкутся маймисты… – Маймисты – прозвище чухонцев, т. е. финнов.
(171) …и с годдемом в зубах… – Т. е. с проклятьем (англ. «God damn it!» – «Черт возьми!», «Будь оно проклято!»).
(172) Бары наши преважно рассуждают, каково Брюно играл Жокриса… – Брюне (наст, имя – Жан Жозеф Мира) (1766–1851) – известный французский комический актер; непревзойденный исполнитель роли Жокриса – глупца, простофили, дурня. Театральные постановки с участием этого персонажа становятся особенно популярными с начала XIX в. Это прежде всего пьесы Дорвиньи «Отчаяние Жокриса» (1802), «Спроваженный Жокрис» (1803), «Жокрис-ревнивец» (1804) и др., а также водевили и мелодрамы А. Гуффе, Ш. Анриона, Р. Перрена, М.-Н.-М. Дезожье, Ш.-О. Севрена и Г. Дюмерсана и Ж.-Т. Мерля, В Большом театре в Петербурге 4 октября 1833 г. впервые был представлен водевиль «Жокрис, или Дуэль и свадьба» (возможно, по Ш. Анриону, которому принадлежала пьеса «Свадьба Жокриса» (1800)). В «Северной пчеле» так говорилось об этом событии: «Жокрис – эта потеха прежней французской театральной черни <…> явился на петербургской сцене, явился и исчез, вероятно навсегда, при общем шиканье» (СП. 1833. 17 окт. № 235).
(173) …у них лишь то на уме, что станет говорить княгиня Марья Алексевна. – Последняя реплика Фамусова в «Горе от ума» А. С. Грибоедова, ставшая символическим выражением рабской зависимости от мнения света (д. IV, явл. 1 5).
(174) …в арии «Di tanti palpiti», тебе бы надо уверить ее, что «Una vote росо fa». – «Di tanti palpiti» – каватина Танкреда из первого действия оперы Дж. Россини (1792–1868) «Танкред» (1813) по одноименной трагедии Вольтера (роль Танкреда исполняла певица-травести); «Una voce росо fa» – каватина Розины из первого действия оперы Россини «Севильский цирюльник» (1816) по комедии П.-О-К. Бомарше «Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность».
(175) Терпение – прекрасная добродетель в дромадере… – Дромадер – одногорбый верблюд.
(176) …многие пояса затянуты гордиевым узлом… – См. примеч. 5 на с. 663.
(177) …для покровительства нашей ловле у Ситхи <…> и близ крепости Росс. – Ситха – главный город русских владений в Северной Америке (основан в 1799 г.) на западном берегу острова Баранова. Крепость Росс – русское поселение в Калифорнии, основанное в 1812 г. Российско-Американской компанией.
(178) …как вы искусны в теологии и геральдике… – Теология – учение о религиозных догматах. Геральдика – гербоведение.
(179) …я не постигал никогда градусов любви по Реомюру. – Рене Антуан Реомюр (1683–1757) – французский естествоиспытатель. Изобрел спиртовой термометр (1730), шкала которого определялась точками кипения и замерзания воды и была разделена на 80 градусов (названа его именем).
(180) Ведь есть же супиры и репантиры… – Значение этих слов установить не удалось.
(181) Недолго женскую любовь ~ Красавица полюбит вновь! – Цитата из поэмы Пушкина «Кавказский пленник» (1820–1821); приведена с небольшой неточностью; у Пушкина: «Пройдет любовь, настанет скука…».
(182) …вы убиваете меня, как Авеля… – См. примеч. 91 нас. 627 наст. изд.
(183) L'homme s'epuise ~ vouloir et pouvoir. Balzac. – Эпиграф взят из гл. I романа Опоре де Бальзака (1799–1850) «Шагреневая кожа» (1831).
(184) …дышать небом Авзонии… – Авзония – поэтическое название Италии.
(185) … прогуляться по Колизею… – Колизей, или амфитеатр Флавиев, – памятник древнеримской архитектуры (75–80 до н. э.).
(186) …бросить несколько русских гривенников лазаронам Неаполя… – Ладзарони (лаццарони) – неаполитанский бедняк, живущий нищенством или случайным заработком.
(187) …покататься по Бренте в гондоле… – Брента – река, в дельте которой стоит Венеция.
(188) …дремля под напев Торватовых октав! – Цитата из «Евгения Онегина» Пушкина (гл. I, строфа XVIII). Ср.: «Но слаще, средь ночных забав, Напев Торкватовых октав!».
(189) …не отличил бы Караважа от Поль Поттера… – Микелаиджело Караваджо (Меризи да Караваджо; 1573–1610) – итальянский живописец-реалист. Широко использовал античные и мифологические сюжеты в своих картинах, отличающихся большой силой драматизма. Паулюс Поттер (1625–1654) – голландский живописец и офортист, изображавший сцены охоты, пейзажи с фермами и стадами на пастбищах.
(190) …за работу Луки Кранаха… – Лукас Кранах Старший (1472–1553) – немецкий живописец и график.
(191) …о пушках Пекгсана… – Анри Жозеф Пексан (1783–1854) – французский генерал, изобретатель особого типа пушки, предназначавшейся для стрельбы разрывными снарядами.
(192) …к перекатам ответных выстрелов с Кроншлота. – Кронштадт основан в 1703 г. Петром I для защиты Петербурга с моря. Первым, по указанию царя, в южной части острова Котлин был построен А. Д. Меншиковым форт Кроншлот. Такое название до 1723 г. носила и вся крепость.
(193) …как седьмая роковая пуля во «Фрейшице»… – «Фрейшютц» («Фрейшиц», «Вольный стрелок» (1820)) – опера немецкого композитора К.-М. Вебера (1786–1826). В основе ее лежит немецкое народное предание о вольном стрелке, продавшем душу дьяволу и получающем от него не знающие промаха пули. Шесть раз он стреляет по своему выбору, седьмая пуля направляется чертом.
(194) …подобные надписи, начертанной огненным перстом на стене пиршества для Валтасара!.. – См. примеч. 109 нас. 647 наст. изд.
(195) …как на гомеровском щите Ахиллеса… – Щит Ахиллеса описан в песни XVIII «Илиады».
(196) …это гальваническая сплавка душ. – См. примеч. 8 на с. 648–649 наст. изд.
(197) …то в роде «Жилблаза», то в роде «Дон-Кихота» или «Роб Роя». – Имеются в виду романы А.-Р. Лесажа («История Жиль Блаза из Сантильяны», 1715–1737), М. Сервантеса (1547–1616) («Дон-Кихот», 1605–1615) и В. Скотта (1771–1832) («Роб Рой», 1818).
(198) Ты все пела? ~ поди же попляши. – Цитата из басни И. А. Крылова (1768 или 1769–1844) «Стрекоза и муравей» (1808).
(199) …лучше ли называть его Иегова <…> или Алла? – Яхве (Иегова) в иудейской религии – непроизносимое имя бога, открытое им Моисею. Алла (Аллах) – в мусульманской мифологии единый Бог, идентичный Богу иудеев и христиан.
(200) …он ли «das immerwdhrende Nichts» или «das immerwahr ende Alles»? – Источники цитат не установлены.
(201) …«Кливер-шкот отдай!» ~ «Грот-марса-булень отдай!». – Кливер – косой треугольный парус на бушприте, шкот-снасть, которой натягивается нижний угол паруса. Булень (булинь) – снасть, которой парус (в данном случае грот-марсель) оттягивается к ветру. Общий смысл команд: «Растянуть паруса!».
(202) …на драницу от смерти. – Драница (дрань) – тонкая деревянная планка для обивки стен под штукатурку. Здесь в значении: на шаг от смерти.
(203) …Plastikdes Fliessenden (зодчество жидкостей), по выражению немецких мыслителей… – Источник приводимого выражения не установлен.
(204) …самая слабая его игра – шах ферязи… – Ферязь – старинное русское платье, застегнутое донизу, с длинными рукавами, без воротника и перехвата. Возможно, игра слов (ферзь – королева) и намек на положение обманутого мужа, в котором оказался князь Петр ***.
(205) …вкруг обеих гемисфер. – Гемисфера – полушарие.
(206) …какое раздолье между Тигром и Евфратом ~ для первой четы наших праотцев ~ Эдем наш уместиться может на одной полосе земли… – См. примеч. 47 на с. 651 наст. изд.
(207) …завиднелся Эддистонский маяк… – Маяк сооружен в 1697 г. на скале в проливе Ла-Манш.
(208) Sic volo ~ sta pro ratione voluntas! Juvenal. – Эпиграф взят из «Сатиры VI» (кн. 2 «Сатир») Ювенала (не ранее 117). У Ювенала приведенная строка 223 читается так: «Hoc volo, sic iubeo, sit pro ratione voluntas».
(209) …точно в стекле косморамы… – Косморама – картина, представляющая обширную местность, большое пространство со множеством предметов на нем, написанная так, что создается впечатление живой природы.
(210) …этакой Фальстаф… – Речь идет о персонаже хроники Шекспира «Генрих IV» (1597–1598) и его комедии «Виндзорские проказницы» (1598), отличавшемся непомерным обжорством.
(211) …не исповедавшись на Афонской горе. – Афон (Святая Гора) – полуостров в Восточной Греции, на Эгейском море, известный своими православными монастырями (греческими, русскими, болгарскими).
(212) Опустошает, как Тимур-ленг, душу разлука… – Тимур (Тамерлан, Тимур-ленг) (1336–1405) – среднеазиатский государственный деятель, полководец, эмир. Объединение Средней Азии сочеталось у него с походами в Иран, Закавказье. В1389,1391, 1394–1395 гг. он разгромил войска Тохтамыша, ускорив распад Золотой Орды. Нашествие его через Дербент на Северный Кавказ, как и все другие набеги, сопровождалось страшными жестокостями, грабежами и опустошениями. Он вторгся в Индию (1398), успешно воевал с Турцией, пленив султана (1404), начал войну с Китаем.
(213) …в самовластие Аримана… – Ахриман, Ангро-Майнью (Ариман) – в иранской мифологии верховное божество зла, символ отрицательных побуждений человеческой психики.
(214) …прикажите спустить с боканцев мою десятку… – Боканцы – рычаги у кормы и с бортов корабля для подъема и подвески гребных судов. Десятка – шлюпка с десятью веслами.
(215) И в думе нет, что наслажденье – прах ~ Цветы минутной жизни косит. А. Б. – Несколько измененный фрагмент из стихотворения Бестужева «Часы» (1829). Ср.:
И в думе нет, что упований прах
Дыханье времени уносит,
Что каждый маятника взмах
Цветы неверной жизни косит.
(216) …она казалась с неба похищенною пери на коленях сурового дива… – В иранской мифологии пери – волшебное существо в образе прекрасной крылатой женщины, охраняющее людей от злых духов. О дивах см. примеч. 9 на с. 659 наст. изд.
(217) …бросил в огонь эту мирру… – Мирра – особый вид ароматной смолы.
(218) …лобзанье Иудино… – Поцелуй Иуды – символ предательства («Иисус же сказал ему: „Иуда! Целованием ли предаешь сына человеческого?“» (Евангелие от Луки, гл. XXII, ст. 48)).
(219) …чтоб услышать приговор неумытных жюри… – См. примеч. 104 на с. 647 наст. изд.
(220) …с изломанной фок-мачтой… – Фок-мачта – передняя мачта.
(221) …не ведь гюйс… – Гюйс – военно-морской флаг; поднимается ежедневно на носу кораблей во время якорной стоянки.
(222) Полкабельтова, не больше, оставалось до борта… – Кабельтов – мера длины во флоте (100 мор. саж., 180 м).
(223) …удары мушкелей… – Мушкель – оправленный железом деревянный молоток, применяемый при такелажных работах и конопатке деревянных судов.
(224) …переменяли <…> такелаж… – Такелаж – общее наименование всех снастей, составляющих вооружение судна.
(225) …размозжило о руслени… – Руслени – «полки» за бортом судна, за которые крепятся ванты – смоляные веревки, держащие мачты с боков.
(226) …задавиться турникетом…– Турникет – хирургический инструмент для зажима кровеносных сосудов.
(227) …ни одного лисель-спирта. ~ и если спустился под шквалом на фордевинд, не убравшись даже с ундерзейлями… – Лисель – парус, приставляемый сбоку к прямым парусам для увеличения их площади. Лисель-спирт – шест, к которому крепится этот парус. Фордевинд – движение судна по ветру, когда ветер дует в корму. Ундерзейль – сильный ветер, позволяющий использовать только нижние паруса; здесь, видимо, в значении: паруса, которые поднимают при этом ветре.
(228) …отдал топенант вместо грот-стенг-стаксель-фала… – Топенант – снасть, поддерживающая конец рея. Стаксель – косой парус, поднимаемый соответствующей снастью – фалом и получающий название по мачте (стеньге), к которой примыкает одним боком.
(229) …не простирает своей плены между. – Плена – тончайшая перегородка, перепонка, прослойка.
(230) «Ты, как ястреб Прометея, будешь век терзать свое сердце!» – См. примеч. 33 на с. 650 наст. изд.
(231) …облечься в гусарский доломан. – См. примеч. 92 на с. 639 наст. изд.
(232) Три грации морщились на петербургских красавиц ~ девять сестриц Парнаса… – Грации (хариты): Евфросина, Талия и Аглая – считались богинями красоты, радости и олицетворением женской прелести. Девять муз – богини поэзии, искусств и наук – обитали на Геликоне и Парнасе в гротах и у прохладных источников.
(233) Даже сова Минервы завистливо таращила глаза… – Афина (Минерва) – богиня мудрости, покровительница наук и ремесел. Изображалась обычно со своей священной птицей – совой.
(234) Только посланница любви Ирида… – Ирида – в греческой мифологии богиня радуги, посредница между богами и людьми; изображалась в виде крылатой девушки.
(235) …пролаз Меркурий лукаво заглядывал в ложи… – Гермес (Меркурий) – бог торговли, вестник богов, глашатай Зевса.
(236) Вулкан же, гладя по головке сына своей жены ~ прибыло, прибыло! – Гефест (Вулкан) – бог огня и кузнечного ремесла. Гомер называет супругой Гефеста Афродиту и рассказывает в «Одиссее», как Гефест поймал ее и бога войны Арея, с которым у нее была любовная связь, в искусно сделанную сеть. Мифы приписывают Афродите пятерых детей от Арея. Сыном Афродиты от Гермеса считался Гермафродит. От героя Анхиса у нее был сын Эней. Слова: «Нашего полку прибыло, прибыло, О Дидладо прибыло!» (с пометой: «Из старинной песни») – Бестужев использовал как эпиграф к «Андрею Переяславскому».
(237) Кто это в мальтийском мундире? – Мальтийский мундир – мундир кавалера Мальтийского ордена, обосновавшегося (с 1530 г.) на острове Мальта. Связи его с Россией устанавливаются с конца XVII – начала XVIII в. Особый период в этих отношениях – царствование Павла I. Александр I сохранял за собой некоторое время лишь звание протектора ордена, а в 1817 г. было высочайше объявлено, что орден в России более не существует. Упоминание мальтийского мундира Бестужевым, возможно, является анахронизмом. Описание мундира дано Г. Краевским: «Одежду кавалерскую черную (veftem pullam) да носит со знамением белого Креста на левой стороне: сия одежда обыкновенно да будет в знак (toga) мира; в военное же время, когда должно идти на сражение, та же одежда червленого цвету с белым крестом да будет знаком (fagum) войны» (Краевский Г. Краткое топографическое, историческое и политическое описание острова Мальты и державного ордена св. Иоанна Иерусалимского. СПб., 1800. 4.2. С. 75).
(238) – Ах, Жозеф!.. – Этот герой на предыдущих страницах повести именовался Иеронимом.
(239) …в малиновом токе? – Ток – высокий, прямой, без полей женский головной убор.
(240) Vous etes un brave garqon ~ pour n'y entrer jamais! – Источник цитаты не установлен.
(241) – Не на варшавском ли приступе, шоп cher, набрался ты этого романтического дыму? – Речь идет о взятии Варшавы русскими войсками под командованием И. Ф. Паскевича-Эриванского в результате тяжелого боя 25–26 августа 1831 г. Так было подавлено восстание, начавшееся 17 ноября 18 30 г.
(242) …отошли в «Молву»… – «Молва» – газета, издаваемая в Москве Н. И. Надеждиным (с июня до середины декабря 1835 г. под редакцией В. Г. Белинского). Задуманная как газета «мод и летучих новостей», «Молва» со временем превратилась в критико-библиографический отдел журнала «Телескоп», где помещались стихи, переводы, критические разборы книг, фельетоны и т. д. Была запрещена одновременно с «Телескопом» в октябре 1836 г.
(243) – Прекрасное недолговечно на земле… – Перефразировка строк из стихотворения B. А. Жуковского (1783–1852) «На кончину ее величества королевы Виртембергской» (1819):
«Прекрасное погибло в пышном цвете,
Таков удел прекрасного на свете!».
(244) …какой-нибудь бездушный ловелас… – Ловелас – герой романа английского писателя C. Ричардсона (1689–1761) «Клариса Гарлоу» (1748), имя которого стало нарицательным для обозначения волокиты.
(245) Пчела высасывает мед из белладонны… – Белладонна – многолетнее лекарственное растение; ядовито.
(246) Тацит, учитель добродетели, был виной изобретения нойяд в ужасы революции. – Публий Корнелий Тацит (ок. 58 – после 117) – римский историк, оратор, политический деятель. Подробно описал историю убийства матери Нерона; в истории этой была неудавшаяся попытка утопить Агрипинну на корабле, который должен был, выйдя в море, распасться на части (см.: Корнелий Тацит. Анналы. Кн. 14. Гл. 1–9 // Корнелий Тацит. Соч.: В 2 т. Л., 1969. Т. 1. С. 252–256 (Лит. памятники)). Бестужев, видимо, считает, что этим описанием была подсказана форма казни, применявшейся во время Великой французской революции (например, осенью 1793 г. в Нанте комиссаром Конвента Каррье).
Письма*
Начало публикации писем Бестужева положил М. И. Семевский, который был лично знаком с Михаилом и Еленой Бестужевыми, получил от них письма их брата и богатейшие сведения о нем. Первая большая публикация писем Бестужева к родным (96; 1830–1837) была осуществлена М. И. Семевским в 1860 г. (ОЗ. 1860. № 5. С. 147–166; № 6. С. 299–348; № 7. С. 43–80). Через год, в 1861 г., К. А. Полевой напечатал 45 (1831–1837) писем Бестужева к Н. А. и К. А. Полевым (РВ. 1861. № 3. С. 285–335; № 4. С. 425–487). К 1870 г. относится вторая публикация М. И. Семевского писем Бестужева к родным (73; 1827–1837) (РВ. 1870. № 5. С. 226–263; № 6. С. 493–524; № 7. С. 46–76). В 1894 г. С. Долгов напечатал пять писем (1832–1834) Бестужева к Н. А. и К. А. Полевым (РО. 1894. № 10. С. 820–834). 10 писем (1821–1834) Бестужева к Ф. В. Булгарину были напечатаны в 1901 г. (PC. 1901. № 2. С. 392–404). Письма Бестужева, написанные им с 1817 г. до декабря 1825 г. (28), были опубликованы Н. В. Измайловым (Памяти декабристов. Л., 1926. Ч. 1. С. 15–54, 70–83). В ч. 2 этого же сборника Г. В. Прохоров напечатал 26 писем Бестужева к родным (1827–1829) (с. 189–224,226). В разные годы отдельные письма Бестужева публиковались в различных периодических изданиях: «Русская старина», «Русский архив», «Киевская старина», «Всемирный вестник», «Голос минувшего», «Харьковские губернские ведомости» и др.
Опубликованные письма Бестужева изобилуют большим количеством опечаток, пропусков, искажений. Особенно это характерно для публикаций М. И. Семевского (см. об этом: Прохоров, № 32, л. 1–4). Реже неточности встречаются у К. А. Полевого, но и у него в силу ряда причин (в том числе и цензурного характера) имеются пропуски и искажения. Значительная часть писем Бестужева не публиковалась вообще. Из последних по времени публикаций писем Бестужева следует выделить работу Я. Л. Левкович (см.: Левкович Я. Л. Судьба Марлинского // Звезда. 1975. № 12. С. 154–165).
Более 400 писем Бестужева, в том числе и не публиковавшихся ранее, в значительной мере подготовлено к печати Г. В. Прохоровым (1941). Однако большой труд ученого не увидел света. Хранящийся в архиве РНБ, он является неоценимым подспорьем для современного научного издания писем писателя-декабриста.
35 писем, предлагаемых читателю в настоящем издании, представляют собой большой историко-литературный интерес и являются ярким документом эпохи 1830-х гг. Все письма Бестужева, за редким исключением, печатаются по подлинникам, хранящимся в архивах РНБ и ИРЛИ. Некоторые из них (№ 3,10,15,29) печатаются впервые.
1. Ф. В. Булгарину*
Впервые опубликовано: PC. 1901.№ 2. С. 394. Печатается по автографу: ИРЛИ, ф. 604, № 5581, л. 100–102.
(1) …Вы уже получили повесть «Испытание»… – Опубликована: СО и СА. 1830. № 29–32, с подписью: «А. М.» и пометой: «1830. Дагестан». Автограф хранится: РНБ, ф. 69, № 8, л. 1-57.
(2) …препровождаю при сем рассказ, под заглавием «Вечер на Кавказских водах»… – О рассказе «Вечер на Кавказских водах в 1824 году» см. на с. 580, 634–639 наст. изд.
(3) …праздника в честь Шах-Гусейна… – Речь идет об очерке «Шах Гусейн» (СП. 1830. 18 сент. № 112; 20 сент. № 113; подпись: «А. М.»).
(4) …она познакомит Васе прикаспийскою стороною Кавказа. – См.: наст, изд., с. 621.
(5) Матушка – П. М. Бестужева.
(6) …прошу присылки обоих журналов, Вами вообще с Гречем издаваемых. – Совместно Ф. В. Булгарин (1789–1859) и Н. И. Греч (1787–1867) издавали в 1825–1829 гг. журнал «Северный архив», в 1825–1839 гг. – журнал «Сын отечества» (с 1829 г. объединенный с «Северным архивом», он выходил под названием «Сын отечества и Северный архив») и в 1825–1859 гг. – газету «Северная пчела».
2. Н. А. и М. А. Бестужевым*
Впервые опубликовано: РВ. 1870. № 6. С. 497–501. Печатается по автографу: ИРЛИ, ф. 604, № 5580, л. 103–104.
(1) …чтобы наполнить пропуск в моем романе. – Бестужев не писал братьям со 2 июля 1829 г.
(2) Дорога моя была живописное путешествие. – Речь идет о путешествии из Сибири на Кавказ, описанном в письме к матери от 20 августа 1830 г. (ИРЛИ, ф. 604, № 5580, л. 114–115 об.).
(3) …вместе с Толстым… – Имеется в виду Владимир Сергеевич Толстой (1806–1888), прапорщик Московского пехотного полка, член Южного общества (1824). Приговоренный сначала к двум годам каторжных работ (вскоре срок был уменьшен до года), прибыл в Читинский острог в апреле 1827 г., в мае этого же года был отправлен на поселение, а в июне 1829 г. был определен рядовым на Кавказ. Так же как и Бестужев, в середине августа 1829 г. прибыл в Тифлис и был зачислен в 41-й Егерский полк.
(4) …стоят кисти Сальватора. – См. примеч. 67 на с. 668 наст. изд.
(5) …ранили подле Хозрев-Мирзы одного нукера… – Хозрев-Мирза – персидский принц, направлявшийся в Россию в мае 1829 г. в связи с событиями в Тегеране, во время которых был убит А. С. Грибоедов. О нападении на Хозрев-Мирзу рассказывает Пушкин в «Путешествии в Арзрум во время похода 1829 года» (1835). См. пояснение автора к слову «нукер» на с. 6 наст. изд.
(6) … близ Ардона. – Ардон – левый приток Терека.
(7) …где я нашел Павла и раненого Петра. – Речь идет о Павле Александровиче Бестужеве (1808–1846) и Петре Александровиче Бестужеве (1806–1840).
(8) …вступили в дело с лазами… – Лазы – одно из грузинских племен, проживающих на территории Турции в верховьях Евфрата, Аракса, Куры и бассейнах Чороха и Кизыл-Ирмака.
(9) …был в Сардарабаде, в Эривани… – Бестужев вспоминает о событиях русско-иранской войны 1826–1828 гг. Сардарабад – персидская крепость, 19 сентября 1827 г. занятая соединенными отрядами И. Ф. Паскевича и А. И. Красовского. Эривань была взята штурмом 1 октября 1827 г. Паскевич, руководивший блокадой и штурмом Эривани, получил титул графа Эриванского.
(10) …ей дел горестную дорогу, по которой шел к Эчмядзину Красовский… – Эчмиадзин (Эчмядзин), с монастырем, в котором находится резиденция католикоса всех армян, – центр армяно-григорианской церкви. В осажденном персами Эчмиадзине (близ селения Вагаршапат) находился небольшой русский гарнизон; к нему в мае 1827 г. после десятичасовых непрерывных боев пробился А. И. Красовский; осада была снята, и неприятель отступил к Эривани. Афанасий Иванович Красовский (ум. 1843) – генерал от инфантерии; во время войны 1826–1828 гг. отличился не только в боях за Эчмиадзин; он также участвовал во взятии Сардарабада и командовал осадным корпусом под Эриванью.
(11) …казнь Тантала. – Тантал, смертный, любимец богов, удостоенный чести посещать их пиры на Олимпе, оскорбил их и был низвергнут в Аид. Там он был подвергнут мучительному наказанию: стоя по горло в воде, терзался жаждой (вода отступала, когда он хотел сделать глоток); окруженный плодами, страдал от голода (ветви отодвигались, когда он протягивал к ним руку). Танталовы муки – страдания от сознания близости желанной цели и невозможности ее достигнуть.
(12) …близ Те мир-Хан-Шуры… – См. примеч. 13 на с. 630 наст. изд.
3. П. М., Е. Л., О. А. и М. А. Бестужевым*
Публикуется впервые. Печатается по автографу: ИРЛИ, ф. 604, № 5581, л. 104–105.
(1) …это таинства замка Удольфского. – Речь идет о романе Анны Радклиф (1764–1823) «Удольфские тайны» (1794).
(2) Первое отослано было через адрес Е. П. Торсон… – Е. П. Торсон (ум. 1851) – сестра декабриста К. П. Торсона, члена Северного общества, приговоренного к каторге. Через нее Бестужев иногда пересылал письма родным, к ней обращался с просьбами по своим литературным делам.
(3) …несколько прозаич<еских> и стих<отворных> пьес для доставления в улей. – Т. е., по-видимому, в «Северную пчелу».
(4) Очень хвалят «Милославского»… – «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» – роман М. Н. Загоскина (1789–1852), вышедший в свет в конце 1829 г. Успех романа (он выдержал одиннадцать изданий) Пушкин назвал «блистательным, вполне заслуженным» (Лит. газ. 1830. 21 янв. № 5). Бестужев в целом положительно отзывался о комедиях Загоскина в своих литературных обзорах («„Деревенский философ“, комедия г. Загоскина, развертывает забавные черты наших баричей, доказывая комический дар автора»; «В комедиях Загоскина разговор естествен, некоторые лица и многие мысли оригинальны, но планы их не новы» – Марлинский, 11, 114, 152–153), но историческим его романам в итоговой статье «О романе Н. Полевого „Клятва при гробе господнем“» дал весьма сдержанную оценку: «…явился Загоскин и с первой попытки догнал Булгарина, хотя он далеко не оправдал заносчивых титулов своих романов…» (Там же, 204).
(5) …самое изложение нравится здесь всем более, чем в «Димитрии»… – Речь идет об историческом романе Ф. В. Булгарина (1789–1859) «Димитрий Самозванец» (1830).
(6) См. примеч. 1 к письму 1.
(7) …после потерянного рая. – Так, по-видимому, называет Бестужев свою жизнь до ареста, обыгрывая название поэмы Дж. Мильтона (1608–1674).
(8) …довольно большую повесть «Наезды», где выведены поляки… – «Наезды. Повесть 1613 года», с подписью: «А. Б.» и пометой: «Дагестан, 1830 г.», впервые опубликована: СО и СА.
1831. № 7-16. В своем «Дневнике» (запись 17 июня 1834 г.) В. К. Кюхельбекер писал о повести Бестужева: «…она отличается от других его сочинений необыкновенною трезвостью и умеренностию слога; впрочем, довольно занимательна» (Кюхельбекер. С. 318).
4. П. М., Е. А., О. Л. и М. А. Бестужевым,*
Впервые опубликовано (отрывок): Звезда. 1975. № 12. С. 160. Печатается по автографу: ИРЛИ, ф. 604, № 5581, л. 118–119.
(1) У меня готова давно большая им повесть, но нельзя послать: не берут за холерою. – Речь идет о повести «Лейтенант Белозор» (СО и СА. 1831. № 34–42).
(2) Не забудьте о «Геце Берлихингене» Гете … – «Гец фон Берлихинген» (1773) – историческая драма И.-В. Гете (1749–1832). Русский перевод ее появился в 1828 г. и принадлежал М. П. Погодину.
(3) …да если можно достать роман Клингера «Faust». – Фридрих Клингер (1752–1831) – немецкий писатель периода «Бури и натиска». Название этого периода связано с заглавием его ранней драмы «Sturm und Drang» (1776). В позднем его творчестве центральное место занимают философские романы, в том числе упомянутый Бестужевым «Фауст» (1791).
(4) Об этом надо спросить Сенковского… – Об О. И. Сенковском см. примеч. 31 на с. 644 наст. изд.
5. Н. А.и М. А. Бестужевым*
Впервые опубликовано: РВ. 1870. № 6. С. 503–504. Печатается по автографу: ИРЛИ, ф. 604, № 5580, л. 108–109.
(1) Бедствие наше не похоже на котомку Эзопа ~ при каждом обеде и ужине… – Эзоп – древнегреческий баснописец (VI в. до н. э.). В легендарном «Жизнеописании Эзопа» («Повесть о Ксанфе-философе и Эзопе, его рабе, или Похождения Эзопа») (II–I вв. до и. э.), принадлежащем безымянному составителю, рассказывается такой эпизод: работорговец, который купил Эзопа, отдал приказ своим рабам разобрать поклажу и готовиться к пешему переходу; Эзоп, на потеху всем, выбрал себе огромную корзину с хлебом, которая, естественно, при каждой трапезе становилась легче; очень скоро Эзоп с пустой корзиной оказался впереди всех остальных, чья поклажа не уменьшалась в течение перехода.
(2) «Моп ante est de granite, – говорил Наполеон, – la fondre meme n'y mordra pas». – Когда и при каких обстоятельствах сказал это Наполеон, установить не удалось, но, по-видимому, к сравнению с гранитом он прибегал неоднократно. Ср.: «Может быть, я достанусь на драку крику нам писателям, но я не буду их жертвою: они изломают зубы о гранит» (МТ. 1826. № 16. С. 148–149).
(3) …на какой-то Петровский завод. – Декабристы были заключены в 1827 г. в Читинский острог, откуда в 18 30 г. были переведены в специально для них выстроенный острог в Петровске. Расстояние между Читой и Петровском (635 верст) декабристы прошли в период с 7 августа по 23 сентября 1830 г.
(4) Я не Панглос ~ вне всех расчетов вероятностей. – Панглос – герой романа Вольтера (1694–1778) «Кандид» (1759), во всех случаях жизни повторявший фразу: «Все идет к лучшему в этом лучшем из миров».
(5) …не понимаю мщения… Гомер говорит, что оно страсть богов, богов языческих, разумеется. – См. примеч. 126 на с. 671 наст. изд.
(6) …в у дел мильтоновских обитателей Пандемониума. – Пандемониум – столица ада, обиталище демонов в поэме Дж. Мильтона (1608–1674) «Потерянный рай» (1667).
6. Н. А. Полевому*
Впервые опубликовано: РВ. 1861. № 3. С. 289–293. Печатается по автографу: РНБ, ф. 69, № 17, л. 1–2 об. Является ответом Бестужева на письмо Н. А. Полевого от 20 декабря 1830 г. (ИРЛИ, ф. 604, № 5574, л. 45–46).
(1) …причину охлаждения, которое Вы могли заметить во мне при начале 1825 года. – В статье «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов» Бестужев резко критически отозвался о «Московском телеграфе»: «Неровный слог, самоуверенность в суждениях, резкий тон в приговорах, везде охота учить и частое пристрастие – вот знаки сего Телеграфа, а смелым владеет Бог – его девиз» (Марлинский, 11,133–134). К. А. Полевой видел причину такого выпада против «Московского телеграфа» в принадлежности Бестужева к партии, «открывшей войну» против этого журнала (РВ. 1861. № 3. С. 286). Сам Бестужев объясняет это свое выступление влиянием на него В. С. Филимонова (см. ниже, примеч. 3).
(2) …я был тогда в воскипении несчастной любви… – Бестужев имеет в виду свое увлечение Матильдой Бетанкур.
(3) Ф-в (Вы угадаете имя)… – Речь идет о Владимире Сергеевиче Филимонове (1787–1858) – литераторе, авторе шутливой поэмы «Дурацкий колпак» (1828–1838). С 1822 г. Филимонов состоял почетным членом Вольного общества любителей русской словесности; Бестужев общался с ним в 1824 г. (см.: Памяти декабристов. Л., 1926. Ч. 1. С. 67); в своих литературных обзорах он отмечал, что Филимонов «вложил много ума и чувствительности в свои произведения» (Марлинский, 11, 151), а его «книжечку» «Искусство жить» («извлеченное из многих новейших философов и оправленное в собственные мысли извлекателя») признал заслуживающей внимания (Там же, 127).
(4) …уста, еще влажные французским молоком, лепетали заученные песни. – В своем предисловии к публикации писем Бестужева К. А. Полевой говорит, что он защищал влияние немцев на русскую образованность, а Бестужев в то время говорил о французском влиянии и отвергал влияние немецкое (РВ. 1861. № 3. С. 286). Впоследствии он согласится с К. А. Полевым.
(5) …но, видно, она все еще как нащокинский шут с разрумяненными щеками на дряхлом лице… – В «Записках П. В. Нащокина, им диктованных в Москве 1830» (незаконченных), есть упоминание о жившем в доме отца П. В. Нащокина дураке Иване Степаныче, «лице историческом». Он смешил Потемкина, Павла I, при котором, однако, был выслан из Петербурга за дерзость, но возвращен с дороги. Такая же история повторилась и при Александре I. Его ли имеет в виду Бестужев – неясно.
(6) …поет «Уж не будут орды Крыма»… – Неустановленный песенный текст.
(7) Из книгопродавческого объявления о Далай-ламе, бесконечном «Выжигине», вижу, что он торопится плыть по ветру. Наполеон, обманутый рассказами своих агентов, идет на Россию какая нелепая мысль! ~ Я уверен, что Б(улгарин) не пожалеет ладану русскому дворянству… – В книгопродавческом объявлении о нравоописательно-историческом романе «Петр Иванович Выжигин» (продолжении «Ивана Ивановича Выжигина»; вышел в свет в 1831 г.) говорилось: «Основание сего романа следующее: Наполеон, вознамерившись ополчиться на Россию, не знал ее и верил донесениям своих агентов, которые, сами обманываясь насчет русского характера, ввели в заблуждение своего повелителя. Наполеон и его поверенные судили о русских по некоторым образцам и жестоко обманулись. При вторжении французов в сердцах русских воспрянул народный дух, оживлявший Пожарского и Минина под Москвою, Петра Великого под Прутом. Твердость царя русского и верность народа, мужество и самоотвержение на защиту престола и отечества спасли Россию и навеки прославили русских» (СП. 1830.16 дек. № 150). О размышлениях Наполеона по поводу необходимости войны с Россией см. в гл. X романа («Совещание Наполеона на рубеже России. Наполеоновская политика. Правдивый царедворец. Приближенные французского императора»); тут же говорится о героизме русского дворянства, «единственного в мире». Ср. также: Марлинский, 11, 203.
(8) …я, как проснувшийся Pun ван Винкль Ирвинга ~ новых гостей за кружкою. – Не совсем точное описание одного из эпизодов новеллы Уошингтона Ирвинга (1783–1859) «Рип ван Винкль» (вошла в «Книгу эскизов» (1819–1820)). Интерес Бестужева к творчеству американского писателя, видимо, не случаен. В. К. Кюхельбекер отметил: «Слог Вашингтона Ирвинга имеет много сходства и с слогом Гофмана, и с слогом А. Бестужева: главная отличительная черта всех троих – живость и бойкость, главный недостаток – натяжка» (Кюхельбекер. С. 288). Новеллу Ирвинга перевел Н. А. Бестужев (СО. 1825. № 22).
(9) …но долго ли подержится этот снежный валтеризм? – Бестужев имеет в виду увлечение историческими романами в русской литературе, обозначая это явление словом, производным от имени шотландского романиста. Ср. отрывок из статьи «О романе Н. Полевого „Клятва при гробе господнем“», проясняющий до некоторой степени употребление эпитета «снежный»: «В пол-дюжину лет нажили мы не одну дюжину романов, подснежных, подовых романов, романов, в которых есть и русский квас, и русский хмель; есть прибаутки и пословицы, от которых не отказался бы ни один десятский, есть и лубочные картинки нашего быта <…> есть в них все, кроме русского духа, все, кроме русского народа!» (Марлинский, 11,161). См. также письмо 25.
(10) …из башни, воздвигнутой на одной из скал Балтики… – Речь идет о крепости «Форт Слава» (Роченсальм, Финляндия), где Бестужев находился в заточении с 17 августа 1826 г. по октябрь 1827 г.
(11) …в Якутск… – В Якутской ссылке Бестужев пробыл с 31 декабря 1827 г. по июль 1829 г.
(12) …и видел все прелести войны в байбуртском сражении… – См. примеч. 87 на с. 633 наст, изд.; ср. также письмо 2.
(13) …и, наконец, очутился здесь сторожем Железных ворот, за которые напрасно рвется мое сердце. – См. примеч. 72 на с. 626 наст. изд.
(14) Посылаю, что случилось готовое: не осудите. ~ а смех, право, находка. – К этому месту журнальной публикации К. А. Полевой сделал примечание: «В упоминаемой здесь тетрадке находятся „Объявление от Общества приспособления точных наук к словесности“, „Рекомендательное письмо“ и стихотворение „К облаку“. Подлинная рукопись сохранилась у меня» (РВ. 1861. № 3. С. 292). Два первых указанных произведения опубликованы в издании: (Бестужев-Русские повести и рассказы. М., 1834. Ч. 8. С. 337–352, стихотворение «Облако» – в издании: Марлинский А. Поли. собр. соч. 3-е изд. СПб., 1838. Ч. 11. Стихотворения и полемические статьи. С. 139.
(15) За предложение насчет комиссий словесных ~ постарайтесь же купить в счет «Историю рим<скую>» Нибура… – Комиссия – поручение. Речь идет о труде немецкого историка Бартольда Георга Нибура (1776–1831) «Romische Geschichte» (Berlin, 1873–1874. Bd 1–3).
(16) …и еще какой-нибудь дельный увраж… – Увраж (фр. ouvrage) – сочинение.
7. А. М. Андрееву*
Впервые опубликовано: РА. 1869. № 4. С. 606–608. Печатается по тексту первой публикации. Автограф неизвестен.
(1) Прежде всего благодарю Вас за доставление «Поездки в Германию», почтеннейший Ардалион Михайлович. ~ для моего изношенного сердца. – Ардалион Михайлович Андреев – издатель сочинений Бестужева; ему посвящена повесть «Испытание». «Поездка в Германию» – роман Н. И. Греча, вышедший в конце 1830 г. (с датой издания: 1831).
(2) …Вы взяли с Николая Ивановича дорого за «Наезды»… – Николай Иванович – Н. И. Греч. О повести «Наезды» см. примеч. 8 к письму 3 на с. 679 наст. изд.
(3) Продолжение «Вечера на Кавказских) водах» ~ но теперь же примусь. – См.: наст, изд., с. 639–640.
(4) …и мои выходки Николай Иванович недаром назвал б<естужевски>ми каплями. – Бестужевские капли – лекарство по рецепту А. П. Бестужева-Рюмина: раствор железа в смеси спирта с эфиром. Здесь в значении: склонность к словесному метафоризму, «неугомонной ловле каламбуров» (Кюхельбекер. С. 308).
(5) В романе можно быть без курбетов и прыжков: в нем занимательность последовательная из характеров, из положений… – Видимо, Бестужев имеет в виду ту особенность своего творчества, которую отметил Пушкин в письме к нему от конца мая – начала июня 1825 г.: «… да полно тебе писать быстрые повести с романтическими переходами» (Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 17 т. М.; Л., 1937. Т.13. С. 156).
8. Н. А. Полевому*
Впервые опубликовано: РВ. 1861. № 3. С. 296–298. Печатается по автографу: РНБ, ф. 69, № 17, л. 5–6 об.
(1) …поцелуй этот не целование Иуды. – См. примеч. 218 на с. 676 наст. изд.
(2) Это совершенный pendant к Омарову изречению при сожжении библиотеки Александрийской. – Об Омаре I см. примеч. 29 на с.631 наст. изд. Бестужев, по-видимому, вспоминает легенду о сожжении Александрийской библиотеки Омаром. Халифа, в 642 г. завоевавшего Александрию, якобы спросили, как поступить с библиотекой. Он ответил: если книги библиотеки содержат вещи, противоречащие Корану, их надо сжечь; если же в них высказаны те же мысли, что и в Коране, их также надо сжечь, ибо они излишни. На самом деле библиотека погибла раньше: главная ее часть, насчитывавшая до 700 000 томов, сгорела при захвате города Юлием Цезарем (47 до н. э.), а меньшая (около 50 000 томов) была уничтожена во время нападения восставших христиан (341).
(3) Мы видели, до какого унижения довело это бесстрастие Германию во время Наполеона?! – В период наполеоновских войн Пруссия придерживалась выжидательной политики, за что довольно скоро и поплатилась. В октябре 1806 г. Наполеон, разбив прусскую армию в Тюрингии, быстро овладел всей территорией страны: города сдавались ему один за другим и победоносная армия продефилировала по улицам Берлина. По словам Г. Гейне, «Наполеон дунул на Пруссию, и ее не стало».
(4) …не сказать ли вам стих Дмитриева «Для проходящих?» – В басне И. И. Дмитриева (1760–1837) «Прохожий» (1803) рассказывается о путешественнике, который в порыве восторга от открывшегося перед ним (с колокольни монастыря) вида воскликнул, обращаясь к одному из монахов:
– Великолепные картины!
Не правда ли? – вопрос он сделал одному
Из братии, с ним стоящих.
– Да! – труженик, вздохнув, ответствовал ему:
Для проходящих.
(5) …с бывшим графом Чернышовым… – Захар Григорьевич Чернышов (1796–1862) – декабрист. В Якутск приехал из Нерчинска, где полгода жил с братьями Бестужева, Николаем и Михаилом. Бестужев писал матери и сестрам 10 июня 1828 г.: «Сюда на житье прибыл Чернышов. Одиночество мое кончилось…» (Памяти декабристов. Л., 1926. Ч. 2. С. 206). См. также письмо братьям Николаю и Михаилу от 23 июня 1828 г.: «Прибытие Чернышева, который жил с вами полгода, познакомило меня с вашим бытом и не на радость. <…> Мы живем вместе, несчастие близит и роднит людей, и, кажется, мы не будем ссориться. Я рад очень, что есть с кем разделить часы грусти и минуты приятные» (РВ. 1870. № 5. С. 236–237).
(6) …от Ивана Петровича… – Иван Петрович Жуков – сосланный на Кавказ по делу декабристов штабс-капитан, приятель, сослуживец Бестужева.
(7) «Годунов», однако ж, не в числе их, и потому пришлите… – Трагедия Пушкина вышла в свет в конце декабря 1830 г. (с датой издания: 1831). Она печаталась в отсутствие Пушкина, под наблюдением В. А. Жуковского, которому принадлежат и некоторые переделки и сокращения цензурного характера.
9. Н. А. Полевому*
Впервые опубликовано: РВ. 1861. № 3. С. 298–300. Печатается по автографу: РНБ, ф. 69, № 17, л. 7–8 об.
(1) …скажите, пожалуйста: кто таков Вельтман? ~ Прошу включить «Странника» в число гостинцев. – Александр Фомич Вельтман (1800–1870) – писатель и историк. Бестужев оказался прозорлив: Вельтман действительно служил в армии и вышел в отставку в 1831 г. Ч. 1–2 романа «Странник», который сразу принес автору популярность, вышли в свет в этом же году (ч. 3 напечатана в 1832 г.). В 1833 г. был опубликован «Кащей бессмертный». Оба романа имели шумный успех у читателей и создали Вельтману репутацию «замечательного романиста». В статье «О романе Н. Полевого „Клятва при гробе господнем“» Бестужев называет Вельтмана «чародеем» и по поводу обращения его к русской старине замечает: «… до какой обаятельной прелести может доцвесть русская сказка, спрыснутая мыслию» (Марлинский, 11, 211).
(2) …кто пишет юмористические статьи «Живописца»? – С июля 1829 г. создается сатирическое прибавление к «Московскому телеграфу» под названием «Новый живописец общества и литературы». Статьи для него писались, как правило, самим Полевым.
(3) …одного, который взял за образец аллегорию «Спектатора», род, немножко поизношенный – «Спектатор» («Зритель») – английский журнал, издававшийся в 1711–1712 гг. Р. Стилем и Дж. Аддисоном (в 1714 г. Аддисон выпустил под тем же заглавием еще несколько десятков номеров; в 171 5 г. издание продолжал В. Бонд). Об этом журнале см.: Левин Ю. Д. Английская просветительская журналистика в русской литературе XVIII в. // Левин Ю. Д. Восприятие английской литературы в России. Л., 1990. С. 5–25.
(4) Г-н Ушаков, по мнению моему, лучший писатель, нежели критик. ~ Я читал из «Киргиз-кайсака» только две главы: очень, очень милы; нельзя ли и его послать попотеть в Дербент? – Василий Аполлонович Ушаков (1789–1838) – беллетрист и критик. Написанный им разбор «„Димитрий Самозванец“. Исторический роман, соч. Ф. Булгарина, 4 ч.», о котором пишет Бестужев, напечатан в «Московском телеграфе» (1830. № 6. С. 193–237). «Киргиз-кайсак» (1830) – повесть В. А. Ушакова, сочуветвенно встреченная критикой. В. Г. Белинский в «Литературных мечтаниях» назвал ее «явлением удивительным и неожиданным» (Белинский. Т. 1. С. 95).
(5) Хвалынь наша… – Имеется в виду Каспийское море.
(6) …судами, которые пост роены по модели корабля Язонова… – Ясон (Язон) – древнегреческий герой, возглавивший поход в Колхиду за золотым руном волшебного барана. Участники похода под руководством Арга и при помощи Афины построили корабль «Арго», на котором и отправились в путь.
(7) …желающий от Вас щечиться… – Шечиться – кормиться.
(8) …с летами и я свыкнусь с такими гостями, как Гофман, но до сих пор он для меня хуже злого татарина. – В критической оценке Бестужевым творчества немецкого писателя-романтика Э.-Т.-А. Гофмана (1776–1828) сказалось неприятие его иронии, доходящей до мистического гротеска. Это ответ на письмо Н. А. Полевого от 13 мая 1831 г., в котором он сообщал, что посылает Бестужеву сочинения Гофмана, от которого «Европа с ума сходит» (ИРЛИ, ф. 265, оп. 2, № 2079, л. 13).
(9) …и фарсийского… – Т. е. персидского.
10. П. М. Бестужевой*
Публикуется впервые. Печатается по автографу: ИРЛИ, ф. 604, № 5581, л. 130–131 об.
(1) Лжепророк Кази-мулла ~ успел возмутить койсубулиниев… – См. примеч. 7 и 8 на с. 629 наст. изд.
(2) …майор Ивченко… – См. примеч. 95 на с. 634 наст. изд.
(3) Г<енерал>-м<айо>р Таубе явился с линии очень грозно ~ и вдруг ушел в Россию. – См. примеч. 15 на с. 630 наст, изд., а также с. 96 наст, изд., где рассказано о безуспешных действиях Таубе в ущелье у деревни Атлы-буйны.
(4) Г-н Коханов принял команду. – См. примеч. 17 на с. 630 наст. изд.
(5) В ту же минуту они первые пошли на приступ крепости Бурной ~ два часа позже, все было бы напрасно. – Об осаде крепости Бурной см. с. 96–98,129–130 наст. изд.
(6) …надо было взять завалы, и полковник Дистерло ~ 1200 татар усеяли улицы, облитые кровью. – См. примеч. 95 нас. 634 наст. изд.
(7) Между тем один, бек Навруз именем ~ до 200 (голов) рогатого скота. – См. о нем на с. 96 наст. изд.
11. Н. А. Полевому*
Впервые опубликовано: РВ. 1861. № 3. С. 301–303. Печатается по автографу: РНБ, ф. 69, № 17, л. 9-10 об.
(1) …если бы эриванский герой еще года два здесь остался. – И. Ф. Паскевич-Эриванский, вызванный в Петербург 4 июня 1831 г., был назначен в Польшу на место только что умершего И. И. Дибича-Забалканского.
(2) Кази-мулла ~ держит в осаде Грозную и Внезапную. – Грозная – крепость на берегу р. Сунжи; Внезапная – крепость на берегу р. Акташ, была освобождена Г. А. Эммануэлем от осады 29 июня 1831 г.
(3) …но ограничусь только замечанием, что Пушкина напрасно упрекают за бесчувствие к славе русских. – Пушкин писал об этих упреках в незавершенном первоначальном вступлении к «Домику в Коломне»:
…сердито требуют журналы,
Чтоб я воспел победы россиян
И написал скорее мадригалы
На бой или на бегство персиян…, –
имея в виду, вероятно, прежде всего Булгарина, который возмущался тем, что поэт по возвращении из-под Арзрума, вместо того чтобы воспевать победы русского оружия, издал новую, седьмую главу «Евгения Онегина» (см., например: СП. 1830. № 35). Ср. также недовольные слова Н. И. Надеждина о том, что в связи с войной 1829 г. «ни один из певунов, толпящихся между нами, не подумал и пошевелить губ своих!» (BE. 1830. № 2).
(4) «Самое жаркое дело, какое я видел в 1829 году ~ которые подрались за брошенные пушки!» – Комментируемое письмо Бестужева является единственным источником, где приведено это высказывание Пушкина.
(5) …надо петь только «За горами, за долами!!» – См. примеч. 9 на с. 657 наст. изд.
(6) Я получил «Годунова»… – См. примеч. 7 на с. 683 наст. изд.
(7) …получил «Петра Ивановича»… – См. примеч. 7 на с. 681 наст. изд.
(8) На днях ожидаю «Рославлева»… – «Рославлев, или Русские в 1812 г.» (1830) – исторический роман М. Н. Загоскина (1789–1852).
(9) Блажен, кто светлою надеждой обладаем ~ И невозможно то, что знаем мы! (Подражание Гете). – Стихи принадлежат Бестужеву (см.: Бестужев-Марлинский А. Полн. собр. стихотворений / Вступ. статья и примеч. Н. И. Мордовченко; Общ. ред. М. А. Брискмана. Л., 1961. С. 287).
(10) В «С<ыне> о<течест>ва» по временам печатаются мои стихотворные грехи… – Стихи Бестужева печатались в «Сыне отечества» и «Сыне отечества и Северном архиве» в 1818–1838 гг. (основная их часть – в 1831 г.). См., например: «Финляндия» (1829. № 20. С. 373–374); «Осень» (1831. № 17. С. 161–163); «Саатырь» (1831. № 18. С. 205–210); «Магнит. (Из Гете)» (1831. № 19. С. 281); «Юность. (Из Гете)» (там же); «Каждому свое. (Из Гете)» (1831. № 22. С. 116); «Дождь» (1831. № 24. С. 246); «Эпиграммы» (1831.№ 24. С. 245–246).
(11) …«В небе свит туманов хор»… – Речь идет о стихотворении «Всегда и везде. (Из Гете)».
(12) Какими шагами идет Ваша «История» в письме и в печати? – Имеется в виду «История русского народа» Н. А. Полевого, которая была задумана автором в двенадцати томах, но оборвалась на шестом томе (1829–1833). К июню 1831 г. вышли три тома (М., 1829. Т. 1; М.,1830. Т. 2 и 3). Бестужев дал высокую оценку этому труду в статье «О романе Н. Полевого „Клятва при гробе господнем“» (Марлинский, 11, 205–206).
(13) Перебирая старые «Телеграфы», я нашел многие очень европейские критики В. У. ~ что он лучший автор, чем критик. – В. А. Ушаков был автором театральных обзоров в «Московском телеграфе» (см. № 8-24 за 1829 гг., а также № 1,3, 4, 7, 9-13 за 1830 г.) и критических статей «О русском переводе сонетов Мицкевича» (1829. № 23. С. 336–357), «„Димитрий Самозванец“. Исторический роман, соч. Ф. Булгарина, 4 ч.» (1830. № 6. С. 193–237), «Польская литература» (1830. № 9. С. 75–97; № 10. G. 196–223). Позже В. Г. Белинский с иронией отзывался о «длинных и скучных» публикациях Ушакова, «отличающихся беззубым остроумием и забавными претензиями на критический талант и ученость» («Литературные мечтания», 1834).
(14) «С.-Петербургский Меркурий» знаете ли кем издавался в сущности? Отцом моим ~ Отец мой был дружен, даже жил вместе с Пановым, и они объявили издание под именем Панова… – К этому месту – пояснение К. А. Полевого: «Не „С.-Петербургский Меркурий“, а „С.-Петербургский журнал“ <…> и не Панов, а Пнин» (РВ. 1861. № 3. С. 303). Трактат Бестужева «О воспитании» печатался в каждом выпуске журнала (1798), а в 1803 г. вышел отдельным изданием под заглавием «Опыт военного воспитания».
(15) …между коими особенно отличался плодовитостью Александр Ефимович… – Т. е. А. Е. Измайлов, баснописец (1779–1831).
(16) За «Исповедь» Фон-Визина отца моего вызывали на дуэль… – Имеются в виду ч. 1–2 «Чистосердечного признания» Д. И. Фонвизина (1744 или 1745–1792), опубликованные в «С.-Петербургском журнале» (1798. Ч. 3. Июль).
(17) …ребячество не хуже Омара. – Бестужев, испортивший часть архива отца, уподобляет себя халифу Омару I, по преданию приказавшему сжечь Александрийскую библиотеку (см. примеч. 2 к письму 8 на с. 682 наст, изд.).
(18) Все лучшие художники и сочинители ~ терся между ними. – В доме А. Ф. Бестужева бы вали М. И. Козловский, В. Л. Боровиковский, И. Е. Хандошкин, Н. Я. Озерецковский, А. И. Корсаков и другие деятели науки и искусства.
12. Н. А. Полевому*
Впервые опубликовано: РВ. 1861. № 3. С. 306–308. Печатается по автографу: РНБ, ф. 69, № 17, л. 13–14 об.
(1) …Кази-мулла держал нас восемь дней в осаде… – См. об этих событиях в «Письмах из Дагестана» (наст, изд., с. 100–105).
(2) …у нас были гомеровские стычки с неприятелями, при коих и Ваш покорнейший не упускал случая порыскать. – См. примеч. 52 на с. 631–632 наст. изд.
(3) Боюсь, что мой дагестанец слишком дороден для «Телеграфа»? – Речь идет о повести «Аммалат-бек», посвященной Н. А. Полевому и опубликованной в «Московском телеграфе» (см. примеч. 1 на с. 621–622 наст, изд.).
(4) …Иван Петрович идет в поход… – См. примеч. 6 на с. 683 наст. изд.
(5) Недавно я читал «Телескоп»… – «Телескоп» (1831–1836) издавался Н. И. Надеждиным (1804–1856) с приложением газеты «Молва». Антиромантическая направленность журнала определила некоторую настороженность Бестужева по отношению к нему. Во «Фрегате „Надежда“» он иронически отзывается о «Молве» Надеждина (см. с. 482 наст, изд., а также примеч. 242 на с. 677).
(6) Давайте скорее 4-ю часть «Истории»… – Т. 4 «Истории русского народа» Н. А. Полевого вышел в 1833 г. (ценз. разр. – 4 марта 1833 г.).
13. Н. А. и К. А. Полевым*
Публикуется впервые. Печатается по автографу: РНБ, ф. 69, № 17, л. 15–16 об.
(1) Сколько давно уснувших дум и чувств очнулось во мне на письмо Ваше от 25 сентября! – Это глубоко задушевное, откровенное, доверительное письмо Н. А. Полевого опубликовано Н. К. Козьминым (Изв. по рус. яз. и словесности АН СССР. Л., 1929. Т. II, кн. 1. С. 208–213) по автографу: ИРЛИ, ф. 604, № 5574, л. 49–52.
(2) Один только неповитый глупец ~ сам собою… – Повитый, повитой – отъявленный.
(3) Будь я манихей… – Манихей – последователь иранского религиозного реформатора, вероучителя и пророка Мани, основателя манихейства. Истина, которую заключает в себе это учение, по убеждению его приверженцев, абсолютна, совершенна. В основе манихейской космологии и эсхатологии лежит представление о битве света и тьмы. Только Мани несет человеку окончательное спасение.
(4) …какой-нибудь Эблис… – Иблис (Эблис) – в мусульманской мифологии дьявол. Согласно преданию, живет на земле в нечистых местах – в руинах, на кладбищах.
(5) …сквозь Данаидину бочку… – См. примеч. 4 нас. 640 наст. изд.
(6) Где-то в Писании сказано: «Бездна призывает бездну»… – См. примеч. 71 на с. 652 наст. изд.
(7) …за Вами лежит Меридово озеро… – См. примеч. 75 на с. 626 наст. изд.
(8) …прочтите «The Darkness» Байрона ~ над которым мелькают какие-то неясные образы. – Стихотворение «The Darkness» («Тьма») (1816) – одно из наиболее пессимистических произведений Дж. Байрона (1788–1824), относящихся к швейцарскому периоду его творчества. См. о современных Бестужеву переводах стихотворения: Сухарев С. Л. Стихотворение Байрона «Darkness» в русских переводах // Великий романтик: Байрон и мировая литература. М., 1991. С. 221–228.
(9) Ветхий Адам проносился на мне, правда, до дыр, но еще с плеч не падает. – Бестужев отвечает на следующие слова Н. А. Полевого в его письме от 25 сентября 1831 г.: «Милый Бестужев! послушайте – чувствуете ли вы свое перерождение, чувствуете ли, что ветхий Адам свалился с вас, как чешуя с глаз Савла, при громе бедствий и буре страданий, вами испытанных? Разгадайте, узнайте эту светлую идею, и дорожите жизнью, дорожите собою! Уже десять лет я вас знаю; какое сравнение между тем вохренным Бестужевым, которого видел я некогда в шуме Петербурга, и Бестужевым, который писал письмо к Эрдману, с Лены и с Кавказа. Но вот где он, этот Бестужев, – в письмах ко мне! в этой драгоценности, которую будут читать и плакать через несколько веков. Только тем, которые прошли, узнали тяжкую школу бедствий, возможно так чувствовать и мыслить» (ИРЛИ, ф. 604, № 5574, л. 51). Ср. также примеч. 89 на с. 634 наст. изд.
(10) …но вполне разоблаченную душу видел только один, и этот один уже в лоне Бога. – Несомненный намек на К. Ф. Рылеева.
(11) «Отдай мой рай, отдай мой ад, Отдай мне молодость назад!» – восклицаю я с Гете. – См. примеч. 43 на с. 651 наст. изд.
(12) Я изувеченный гренадер, который неловко берется за берды. – Бердыш (берды) – старинное оружие (топор и копье на длинном древке).
(13) «Больше разницы между человеком и человеком, – сказал Монтань, – чем между челои скотом»… – Гл. XLII кн. I «Опытов» (1 580-1588) Мишеля де Монтеня (1533–1592) веком начинается словами: «Плутарх говорит в одном месте, что животное от животного не отличается так сильно, как человек от человека». По-видимому, Бестужев имеет в виду этот фрагмент.
(14) …ибо знаю людей, для коих падение стало вознесением. – Речь идет о декабристах, дорогих Бестужеву товарищах.
(15) …знаменитого храбростью полковника Миклашевского… – См. примеч. 25 на с. 630 наст. изд.
(16) …это был настоящий Аякс… – Из двух неразлучных друзей, сражавшихся под Троей всегда рядом, – Аякса, сына Теламона с острова Саламина, и Аякса, сына Оилея из Локриды на берегу Евбейского пролива, чаще обычно подразумевается первый, более знаменитый. Здесь в значении: замечательный воин, верный боевой товарищ.
(17) …он недавно поглотил отличного свитского офицера Искритского… это жертва Выжигина. – Демиан (Демьян) Александрович Искрицкий (1803–1831) – декабрист. Подпоручик гвардии Генерального штаба, он был переведен тем же чином в Оренбургский гарнизон, а затем на Кавказ в 42-й Егерский полк. Бестужев считал его «жертвою Выжигина», т. с. доносов Булгарина; это мнение разделялось и другими (ср.: Воспоминания декабриста А. С. Гангеблова. М., 1888. С. 43).
(18) …«Notre Dame» совершенно в моем вкусе. – В письме от 25 сентября 1831 г. Н. А. Полевой писал Бестужеву: «Посылаем вам при сем „Notre Dame“ Виктора Гюго – произведение, изумившее Францию. В два месяца вышло этой книги шесть или семь изданий» (ИРЛИ, ф. 604, № 5574, л. 59).
(19) Странник чересчур колобродит. – Речь идет о бесконечных «курбетах», выражаясь слогом Бестужева, в сюжете и слоге романа A. CD. Вельтмана «Странник». Возможно, Бестужев имеет в виду ту особенность творчества Вельтмана, о которой позже говорил Некрасов: «Всем известна литературная слабость г. Вельтмана ко всему странному, неестественному, можно сказать – дикому: дикость отражается почти на всех произведениях г. Вельтмана…» (Некрасов Н. А.Поли. собр. соч. и писем: В 15 т. Л., 1989. Т. 11, кн. 1.С. 22). См. примеч. 1 нас. 683 наст. изд.
(20) Насчет моих отношений с Гречем скажу: я плачу старый долг. ~ но много и благородства – Ответ на слова Н. А. Полевого в его письме: «Если бы можно было, я не позволил бы на страницах Греча являться ни одной букве Марлинского» (ИРЛИ, ф. 604, № 5574, л. 60).
(21) …ибо Вы не печатали ничего моего, кроме «Гаданья». – Речь идет о рассказе «Страшное гаданье» (МТ. 1831. № 5,6).
(22) …придется, писать a la madame Genlis «historique». – Мадлен Фелисите Жанлис (1746–1830) – французская писательница сентиментального направления. Ее романы из жизни светского общества, часто на исторические темы, получили широкое распространение в России. «Пряничные» страсти сентиментальной литературы всегда вызывали ироническое отношение Бестужева.
(23) Скажите с Байроном: за злобу, за преследование воздам я местью и клятвами, и эта клятва будет забвение. – Источник цитаты не установлен.
(24) …ради самого графа Хвостова… – Дмитрий Иванович Хвостов (1757–1835) – русский писатель. Его оды, послания, драмы – постоянная тема эпиграмм и пародий современников.
(25) …в Дагестане, в этом «Land of mountains and floods»…– Цитата из «Дон-Жуана» (1818–1823) Дж. Байрона (песнь X, строфа 19). Ср.: I «scothed not killed» the Scotchman in my blood, And love the land of «mountain and flood».
(26) Дело под Агач-кале ~ и с ними начальник отряда Миклашевский. – См.: паст, изд.,с. 126–128.
(27) Дело под Чиркеем ~ в три часа они покорились. – Ср.: наст, изд., с. 114–121, а такжепримеч. 75 на с. 632–633.
14. Н. А. Полевому*
Впервые опубликовано: РВ. 1861. № 3. С. 321–324. Печатается по автографу: РНБ, ф. 69, № 17, л. 21–22.
(1) …прекраснейшему семейству майора Шнитникова… – Федор Александрович Шнитни-ков – комендант Дербента, майор Апшеронского пехотного полка. Он и его жена относились к Бестужеву дружелюбно и приветливо. Шнитников умер в 1836 г. от раны в грудь, полученной при штурме койсубулинской деревни Ашильты. О нем Бестужев упоминает в очерке «Кавказская стена» (Марлинский, 6, 224). См. также: Костенецкий Я. И. Александр Александрович Бестужев (Марлинский) // PC. 1900. № 11. С. 443–444.
(2) …через Паскевича, этого глупейшего и счастливейшего из военных дураков… – Откровенно резкая характеристика Паскевича в письме, переданном с оказией, понятна (К. А. Полевой при публикации опустил резкие отзывы Бестужева о Паскевиче, как и о некоторых других официальных лицах: РВ. 1861. № 3. С. 309–317). Я. И. Костенецкий в воспоминаниях «Александр Александрович Бестужев (Марлинский)» вспоминал о постоянном неприятии Бестужевым Паскевича и привел слова сосланного декабриста о нем: «Может быть, мне удастся пошатнуть пьедестал, на который поставил его случай» (PC. 1900. № 11. С. 450). Ср. также примеч. 24 на с. 630 наст. изд.
(3) Есть здесь полк<овник> Гофман ~ думаю, и не в последний. – См. примеч. 69 на с. 632 наст. изд. Охотник до коленкору, по-видимому, любитель прекрасного пола.
(4) Г. Стрекалову сказали… – С. С. Стрекалов – генерал-адъютант (ум. 1856), с 1828 г. военный губернатор Тифлиса.
(5) С Иваном Петровичем… – См. примеч. 6 нас. 683 наст. изд.
15. П. М. Бестужевой*
Публикуется впервые. Печатается по автографу: ИРЛИ, ф. 604, № 5581, л. 144–145 об.
(1) …достойное прелюбезное семейство… – См. примеч. 1 к письму 14.
(2) «Вечер на корабле» (помещенный в «Волшебном фонаре») … – Бестужев ошибся: рассказ «Ночь на корабле» (с подписью: «Александр Марлинский») был напечатан в «Литературных листках» (1823. № 4, 5).
(3) «Листок из дневника гвардейского офицера» (из «Приб<авлений> к „С<ыну> о<течест>ва“») … – Это название при первоначальной публикации имели два рассказа Бестужева. Один из них был напечатан в «Соревнователе просвещения и благотворения» (1823. Ч. XXII, кн. 6. С. 256–265), другой в «Литературных прибавлениях к „Сыну отечества“» (1823. № 6. С. 66–72) (оба с подписью: «Александр Бестужев»). Второй в позднейшей публикации был озаглавлен «Еще листок из дневника гвардейского офицера» (Марлинский А. Поли. собр. соч. 3-е изд. СПб., 1839. Ч. 12. Повести и прозаические отрывки, оставшиеся после смерти автора. С. 33–42).
(4) …«Рассказ офицера, бывшего в плену у горцев» (из «Тифлис<ских> ведомостей)»; об поправках я пришлю листок) … – Этот рассказ был опубликован в «Тифлисских ведомостях» (1831.№ 9-17).
(5) …ибо окончание я снова принялся писать и пришлю для «С<ына> о<течест>ва». – См. наст, изд., с. 639–640.
(6) Титул можно дать и другой ~ можно будет мешать и не повести. – В 1832 г. в Москве увидели свет пять частей издания «Русских повестей и рассказов» Бестужева (имя автора на титульном листе указано не было). Произведения Бестужева были распределены в них следующим образом: ч. 1 – «Испытание», «Замок Эйзен», «Ночь на корабле», «Отрывки из рассказов о Сибири», «Шах Гусейн»; ч. 2 – «Наезды», «Красное покрывало», «Страшное гаданье»; ч. 3 – «Лейтенант Белозор», «Замок Нейгаузен», «Письмо к доктору Эрдману»; ч. 4 – «Латник», «Замок Венден», «Ревельский турнир», «Роман в семи письмах», «Военный антикварий», «Часы и зеркало», «Будочник-оратор», «Сибирские нравы. Исых»; ч. 5 – «Аммалат-бек». В письме от 9 марта 1833 г. (№ 22) Бестужев выражал недоумение, что в эти вышедшие в 1832 г. части не включена почти треть сочинений, которые он хотел бы видеть напечатанными и о которых писал матери. Издание (ч. 6–8 вышли в Петербурге) было продолжено в 1834 г.: ч. 6 – «Поездка в Ревель», «Письма из Дагестана», «Кавказская стена», «Еще два письма из Дагестана»; ч. 7 – «Фрегат „Надежда“», «Роман и Ольга»; ч. 8 – «Вечер на Кавказских водах в 1824 году», «Изменник», «Рассказ офицера, бывшего в плену у горцев», «Вечер на бивуаке», «Второй вечер на бивуаке», «Подвиг Овечкина и Щербины за Кавказом», «Объявление от Общества приспособления точных наук к словесности», «Рекомендательное письмо». Ср. также письмо 20.
16. Н. А. Полевому*
Впервые опубликовано: РО. 1894. № 10. С. 820–823. Печатается по тексту первой публикации. Автограф неизвестен.
(1) Читаю, что Вы меня хвалите часто в печати… – См., например, в отзыве о кн. «Вечера на хуторе близ Диканьки: Повести, изданные пасечником Рудым Паньком» (СПб., 1831. Кн. 1): «Посмотрите-ка на одного сказочника, который написал повесть „Лейтенант Белозор“! Вот художник! Его голландец Саарвайерзен как живой перед вами!..» (МТ. 1831. № 17. С. 95), а также предисловие к «Клятве при гробе господнем», где «первыми опытами настоящего исторического русского романа» названы «повести А. Бестужева: „Роман и Ольга“, „Ревельский турнир“, „Замок Нейгаузен“» (Полевой Н. Клятва при гробе господнем: Русская быль XV века. М., 1832. 4.1.C.XLI).
(2) «Qive them a sugar-plump and a looking-glass and they would be perfectly glad», – сказал Байрон. – Источник цитаты не установлен.
(3) «Le monde de chimeres est le seul qui est digne d'etre habite», – писал Руссо. – Источник цитаты не установлен.
(4) …Надеждин прислал мне журнал свой, прося повестей за какие угодно мне условия. – Не дошедшее до нас письмо Надеждина свидетельствует о том, что издатель «Телескопа», придерживавшийся антиромантической ориентации, ценил творчество автора «Аммалат-бека».
(5) Я все еще, как Навуходоносор, осужден пастись с быками и есть травку-муравку, включая в то и словесность нашу. – Навуходоносор II – царь Вавилона (605–562 до н. э.). Согласно библейской легенде, за свое высокомерие был наказан безумием; возомнив себя быком, стал есть траву.
(6) Вышел новый роман «Марина». ~ не великий ли знакомец? – Бестужев говорит, очевидно, не о новом романе, а об исторической статье «Марина Мнишек, супруга Димитрия Самозванца», которая действительно принадлежала «великому знакомцу» Ф. В. Булгарину (1789–1859). Вошла в издание: Булгарин Ф. В. Соч.: В 12 ч. 2-е изд. испр. и умнож. СПб., 1830. Ч. 1.С. 25–51.
(7) Я, однако ж, виноват против него. ~ Я чай, и в Милютиных лавках не найдешь. – Бестужев имеет в виду эпизод из гл. VIII («Безуспешный поиск. Чародейство. Политика царя Бориса. Составление ложного доноса») романа Ф. В. Булгарина «Димитрий Самозванец» – посещение Борисом Годуновым чародейки Федосьи, искусной в тайной науке узнавать будущее. Об этом он уже писал Н. А. Полевому 1 января 1832 г. (РВ. 1861. № 3. С. 318). Ср. также: Марлинский, 11, 203. Торговое здание А. Я. Милютина находилось на Невском проспекте; здесь торговали самыми разнообразными изысканными дорогими товарами.
(8) …что такое «Рудый Панько» и что за повести его? – Печатные отзывы о «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя Бестужев, очевидно, мог прочитать в «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду“» (1831. № 79. С. 623) и «Московском телеграфе» (1831. № 17. С. 91–95).
(9) Жаль Вельтмана ~ и потом преувеличение не имеет границ; Искендар таков и должен быть, но Мстислав странен в его хитоне. – См. примеч. 19 на с. 687 наст. изд. «Искандер» («Эскандер») – стихотворение А. Ф. Вельтмана (опубл.: МТ. 1831. № 2. С. 145–202), Мстислав – герой его романа «Кащей Бессмертный» (1833).
(10) Я думаю, Вы виделись уже с дербентским жителем Аграимом, несколько обрусевшим татарином. – См. письмо 14.
17. К. А. Полевому*
Впервые опубликовано: 03.1860. № 5. С. 1 55-156; повторно, с поправками К. А. Полевого: РВ. 1861. № 3. С. 322–324. Печатается по тексту повторной публикации. Автограф неизвестен.
(1) Очень верю, что Вам была не радость подобная весть… – Это, очевидно, ответ на следующие слова из письма К. А. Полевого к Бестужеву от 5 февраля 1832 г.: «.. одна весть обледенила было нас своею дикостью: сказали, что Вы, именно Вы пали в бою с горцами… Не нужно да и можно ли описывать впечатление… Слава Богу, что теперь оно изгладилось неожиданной радостью, которую принесло нам возобновленное сообщение с Кавказскими воротами. Вы отыщете в своем сердце выражение для того чувства, какое воскресило письмо Ваше» (ИРЛИ, ф. 604, № 5574, л. 53–54).
(2) …так же радостно идут в дело, как в кружало. – См. примеч. 54 на с. 637 наст. изд.
(3) Дениса Давыдова судите <Вы> по его словам; но, между нами будь сказано, он более выписал, чем вырубил себе славу храбреца. ~ Я очень люблю его, но он принадлежит истории, а история есть нагая истина… – Бестужев всегда высоко ценил литературный талант Дениса Васильевича Давыдова (1784–1839). В первом выпуске (1823) альманаха «Полярная звезда», издаваемого Бестужевым и Рылеевым, были опубликованы две элегии Давыдова («О милый друг! оставь угадывать других…» и «Нет! полно пробегать с улыбкою любви…»). Здесь же, в статье «Взгляд на старую и новую словесность в России», Бестужев писал о стихах Давыдова: «Амазонская муза Давыдова говорит откровенно наречием воинов, любит беседы вокруг пламени бивуака и с улыбкой рыщет по полю смерти. Слог партизана-поэта быстр, картинен, внезапен. Пламень любви рыцарской и прямодушная веселость попеременно одушевляют оный…», отметив, впрочем, что поэт иногда нерадив в отделке своих произведений (Марлинский, 11, 229–230). Личное их знакомство состоялось у Вяземского в Москве в феврале 1823 г. (см.: Памяти декабристов. Л., 1926. Ч. 1. С. 56, 58); они переписывались (PC. 1888. № 11. С. 328–329). Бестужев неоднократно вспоминает о Давыдове (эпиграф к «Вечеру на бивуаке» взят из «Песни старого гусара», повесть «Замок Нейгаузен» посвящена Давыдову). В данном случае оценка Бестужева предполагает, по-видимому, автобиографию Давыдова, которую, скорее всего, и имел в виду его корреспондент. Увидевшая свет впервые в 1828 г., она в издании «Стихотворения Дениса Давыдова» (М., 1832, ценз. разр. – 23 мая) была дополнена материалами за 1823–1832 гг.; о варианте 1832 г. К. А. Полевой, может быть, уже имел представление к марту 1832 г. Бестужев же, возможно, опирался на какие-то сведения о кавказском эпизоде военной биографии Давыдова, которые он мог получить на месте (ср., например, отзыв о Давыдове в 1826 г. Н. Н. Муравьева-Карского, которому он показался не очень храбрым, изнеженным, капризным и «совершенно далеким от высоких достоинств партизанских, приписанных ему рассказами народными», – РА. 1889. № 4. С. 590–592, 602). Направление в Грузию Давыдов получил после шестилетней отставки в апреле 1826 г. Он принял участие в русско-иранской войне, командовал русско-грузинским отрядом, осуществившим рейд в направлении к Эривани. В конце 1826 г. Ермолов отправил его в отпуск, а когда Давыдов весной 1827 г. вновь вернулся на службу, сменивший Ермолова И. Ф. Паскевич не разрешил ему участвовать в военных операциях и в июле того же года приказал окончательно выписать его из Кавказского корпуса.
Николай Григорьевич Бедряга – один из сослуживцев Давыдова по Ахтырскому гусарскому полку (командовал вторым эскадроном), сражался с ним в партизанском отряде. См. о нем: Памяти декабристов. Ч. 1. С. 60–62 и 91.
18. Н. А. Полевому*
Впервые опубликовано: РО. 1894. № 10. С 823–826. Печатается по тексту первой публикации. Автограф неизвестен.
(1) …и эта беспричинная тоска (занимаю на час это слово у Шишкова) … – Александр Семенович Шишков (1754–1841) – адмирал, президент Российской Академии (1813–1841), министр народного просвещения и глава Цензурного ведомства (1824–1828), поэт и переводчик, противник карамзинистов, основатель Беседы любителей русского слова. Бестужев вступил в спор с Шишковым по поводу его основного тезиса о церковно-славянском языке как единственном источнике русского литературного языка. Не отрицая в целом значения церковно-славянского языка, Бестужев утверждал принципы изменяемости, обогащения, развития и совершенствования современного языка (полемику их см.: Соревнователь просвещения и благотворения. 1821. Ч. XIII, кн. 2. С. 305–311; ч. XIV, кн. 1. С. 91–102, кн. 2. С. 209–219; ср. об этом: Базапов В. Г.Вольное общество любителей российской словесности. Петрозаводск, 1949. С. 221–224).
(2) Пускай бы меня, как Прометея, терзали орлы и коршуны… – См. примеч. 33 на с. 650 наст. изд.
(3) …какой-нибудь Васильев… – Яков Евтифеевич Васильев – командир Грузинского линейного № 10 батальона, в котором служил Бестужев; человек ограниченный и неблагородный.
(4) …всех более понравилась мне Thierri – это Франклин в истории ~ у него идеи в фактах. – Огюстен Тьерри (1795–1856) – французский историк эпохи Реставрации, один из основателей новой школы французской историографии (см.: РеияовБ. Г. Французская романтическая историография. Л., 1956). В письме от 22 июня 1832 г. (ИРЛИ, ф. 604, № 5574, л. 55–56) К. А. Полевой, перечисляя книги, посылаемые Бестужеву, назвал и «Письма по истории Франции» Тьерри (Lettres sur l'histoire de France. Paris, 1827). В статье Бестужева «О романе Н. Полевого „Клятва при гробе господнем“» ощущаются следы прямого влияния Тьерри. Бенджамен Франклин (1706–1790) – американский просветитель, государственный деятель, ученый.
(5) Saint-Beuve немного широковещателен ~ впрочем, много в нем сочного. – Шарль Огюстен Сент-Бёв (1804–1869) – французский литературный критик, выдвигавший на первый план личность поэта. Речь идет о его книге «Tableau historique et critique de poesie francaise <…> au XIX siecle» (Paris, 1828).
(6) Jules Janin владеет огромным талантом ~ и вот секрет его творения. – Жюль Жанен (1804–1874) – французский писатель, критик-фельетонист, автор романа «Барнав» (1831), о котором идет речь в комментируемом письме. Бестужев неточно цитирует предисловие автора. У Жанена: «Plus je poursuivais la verite avec ardeur, plus elle prenait soin de me fuir. Enfin, desesperant de l'atteindre, j'ai vu qu'il me serait impossible de reconstruire l'histoire telle qu'elle s'est passee; et comme pourtant il me fallait une histoire, fen alfaitune a ma maniere, et pour ainsidire a mon usage» (Janin J. Barnave. 2-meed. Paris, 1831. T. 1. Preface. P. 9; курсив наш. – Ф. К). Возможно, Бестужев имеет в виду главы «La diligeance» (t. 3, ch. VI) и «Fin du roman» (t. 4, ch. XIX), в которых действительно ощутим намеренный параллелизм (одни и те же персонажи, погруженные в свои эгоистические интересы; поведение главного героя).
(7) …жаль, что Le Roy приехал поздно… – Жак Леруа (1734–1812) – французский врач; его работа «La medecine curative» в 1825 г. вышла вторым изданием.
19. Н. А. и М. А. Бестужевым*
Впервые опубликовано: РВ. 1870. № 7. С. 46–48. Печатается по автографу: ИРЛИ, ф. 604, № 5520, л. 139.
(1) …Сигов и Орлов перед ними Байроны. – Сигов – писатель 1830-1840-х гг. В письме к К. А. Полевому от 24 мая 1832 г. Бестужев называет пишущих в таком роде «сиговоподобной сволочью» (РВ. 1861. № 3. С. 327). Александр Анфимович Орлов (1791–1840) – московский поэт и прозаик, автор полулубочных романов, повестей и рассказов. С сатирической целью издавал свои «продолжения» романов Ф. В. Булгарина «Иван Выжигин» и «Петр Иванович Выжигин».
(2) Нынешний корпусный командир б(арон) Розен… – См. примеч. 12 на с. 630 наст. изд.
(3) Государь отсек своей благостью еще пять лет вашей казни ~ а будущее всегда лучше настоящего. – Н. А. и М. А. Бестужевым, первоначально осужденным на вечные каторжные работы, срок был сокращен в три приема до 13 лет. В 1839 г. они вышли на поселение в Селенгинск (Забайкалье).
20. Я. И. Гречу*
Впервые опубликовано: Голос минувшего. 1917. № 1. С. 268–269. Печатается по тексту первой публикации. Автограф неизвестен.
(1) я задумал роман ~ полип нашей словесности нарастет еще одним рогом. – Речь идет о работе над романом «Вадимов».
(2) …в разрушении замыслов С мир дина ~ протягиваю вновь руку. – А. Ф. Смирдии (1795–1857) – книгопродавец и издатель. Н. И. Греч, взявшийся вместе с А. М. Андреевым за издание повестей Бестужева, очень плохо при этом соблюдал денежные интересы автора. В связи с этим Е. А. Бестужева вынуждена была расторгнуть договор с Гречем и взять продажу в свои руки. Говоря обо всем этом в письме к К. А. Полевому от 23 февраля 1833 г., Бестужев коснулся и инцидента со Смирдиным: «Смирдин через Н. И. (Греча. – Ф. К.) закабалил меня в год за пять тысяч, по его журнал не состоялся, и Н. И. извещает меня лишь теперь об этом, предлагая по-прежнему сотрудиться за 1500 в год. Я отказался – и теперь вольный казак». Тут же Бестужев предлагает Полевому свое сотрудничество, назначая цену по 100 руб. за лист (РВ. 1861. № 4. С. 433). Однако, как свидетельствует настоящее письмо, он вскоре изменил свое намерение.
(3) Оресту моему тоже… – Орест Михайлович Сомов (1793–1833) – давнишний товарищ Бестужева и К. Ф. Рылеева, член Вольного общества любителей российской словесности, участвовал в издании «Литературной газеты» и альманаха «Северные цветы». Первое издание «Русских повестей и рассказов» Бестужева (М.; СПб., 1832–1834. Ч. 1–8) выходило и под его присмотром.
(4) …которые, конечно, занимательнее «Исыха»? – «Сибирские нравы. Исых» – очерк Бестужева, напечатанный в «Северной пчеле» (1831.№ 115); перепечатан в ч. 4 «Русских повестей и рассказов».
(5) А. Корнилович в графском полку: хвала и честь государю! – Александр Осипович Корнилович (1800–1834) – декабрист, член Южного общества; писатель, историк, сотрудник «Северного архива» и «Полярной звезды», издатель альманаха «Русская старина» (1825); был приговорен Верховным судом к 12 годам каторги и поселению в Сибири; в ноябре 1832 г. зачислен рядовым в пехотный полк графа Паскевича-Эриванского и отправлен на Кавказ. Бестужев писал 2 февраля 1833 г. К. А. Полевому: «Скажу Вам приятную для литературы новость: Александр Корнилович – рядовым в графском полку» (РВ. 1861. № 4. С. 431).
(6) За Шекспира чох, чох саголь. – Возможно, речь идет об однотомнике: Shakespeare W. The dramatic works of Shakespeare in one volume. Leipzig, 1824.
21. К. А. Полевому*
Впервые опубликовано: РВ. 1861. № 4. С.434–435. Печатается по автографу: РНБ, ф. 69, № 15,л. 18–19 об.
(1) Как могли Вы, вместе с Пушкиным, клеветать так на Европу, на живых прозаиков, поставя меня чуть не выше их! – Это ответ на письмо К. А. Полевого от 19 января 1833 г., в котором Бестужев прочел следующее: «Соглашаюсь с Пушкиным, который сказал, что из живых писателей Бестужев теперь один романист в Европе. Пушкин повторил то, что говорил я самому себе много раз» (ИРЛИ, ф. 265, оп. 2, № 2077, л. 216).
(2) «Претерпевый до конца, той спасен будет», – сказал Спаситель. – Цитируется «Евангелие от Матфея» (гл. X, ст. 22; гл. XXIV, ст. 13).
(3) …я уже получил прекрасное издание в одном томе. – См. примеч. 6 к письму 20.
(4) Недели через две получите отрывок из романа. – См. примеч. 1 к письму 20.
(5) Иван Петрович благодарит за помин… – См. примеч. 6 на с. 683 наст. изд.
22. Н. А. Полевому*
Впервые опубликовано: РВ. 1861. № 4. С. 435–436. Печатается по подлиннику: РНБ, ф. 69, № 17, л. 27–28 об.
(1) Вы с братом для меня созвездие Кастора и Поллукса… – Кастор и Полидевк (Поллукс) – близнецы, носившие прозвище Диоскуры. Участники похода аргонавтов, во время которого погиб Кастор. Зевс позволил Диоскурам день проводить в подземном царстве, а день на Олимпе, среди богов. По некоторым преданиям, Зевс в награду за братскую любовь Диоскуров сделал их созвездием Близнецов.
(2) …читая рассказ Черного доктора… ~ Когда он пал на колени и молился… – Имеется в виду публикация: Андрей Шенье. Повесть, рассказанная Черным Доктором: Из нового романа Альфреда де Виньи «Стелло» // МТ. 1832. № 13. С 27–64; № 14. С. 168–216; № 15. С. 316–361; № 16. С 490–522. Эпизод, о котором говорит Бестужев, см.: МТ. 1832. № 16. С. 497–501.
(3) …повесть Ваша «Блаженство безумия» – прелесть. – Повесть напечатана в «Московском телеграфе» (1833. № 1, 2). К. А. Полевой писал Бестужеву в письме от 19 января 1833 г.: «В „Телеграфе“ заметьте повесть моего брата „Блаженство безумия“. Мне кажется, он ничего не написал лучше» (ИРЛИ, ф. 265, оп. 2, № 2079, л. 76).
(4) …у Бориса Чиляева, моего старого однокашника… – Борис Гаврилович Чиляев (1798–1864), как и Бестужев, воспитанник Горного кадетского корпуса, правитель горских народов по Военно-Грузинской дороге (февр. 1828 – июнь 1829), майор Эриванского карабинерного полка, впоследствии генерал-майор. В мае 1828 г. Пушкин обращался к нему с просьбой оказать содействие в переправе через горы, ночевал у него. На обратном пути Пушкин снова встречался с Чиляевым, о чем и пишет Бестужев в комментируемом письме.
(5) …так что он со мной и не встретился. – Этими словами Бестужева опровергается рассказ П. K. Мартьянова о встрече Пушкина с Бестужевым на Кавказе, состоявшейся якобы в начале июня 1829 г., когда Пушкин был на пути в армию Паскевича (см.: Мартьянов П. К. Три встречи: Из старой записной книжки // Ист. вестн. 188 5. № 11. С. 413–421). Но в июне Бестужев направлялся из Якутска в Иркутск, откуда он выехал на Кавказ только в начале июля, а в августе 1829 г., когда он ехал в Тифлис, как свидетельствуют оба поэта, встреча их так и не состоялась.
23. Н. А. Полевому*
Впервые опубликовано: РВ. 1861. № 4. С. 439–443. Печатается по автографу: РНБ, ф. 69, № 17, л. 29–30 об.
(1) …голова или сердце в нетчиках. – Нетчик – находящийся в нетах, неявившийся, отсутствующий.
(2) …как токайское… – См. примеч. 7 на с. 660 наст. изд.
(3) Козлов стал стихотворцем, когда перестал быть человеком (я разумею телесно) … – И. И. Козлов (1779–1840) – поэт, переводчик. В 1818 г. у него развивается паралич ног, а в 1821 г. он ослеп. В 1821 г. же году опубликовано его первое стихотворение, а к середине 1820-х гг. имя его становится широко известным в литературных и читательских кругах.
(4) …но чтобы написать болото, как Рюисдаль… – См. примеч. 136 на с. 671.
(5) Сегодня в моде Подолинский… – Андрей Иванович Подолинский (1806–1886) – поэт-романтик. В журнале Н. А. Полевого была горячо одобрена его поэма «Див и Пери» (МТ. 1827. № 21. С 82–89).
(6) Не вините крепко меня за Бальзака ~ и потом он мастер выражаться. – Высокая оценка «Шагреневой кожи» (1830–1831) Бестужевым составляла исключение в его общем критическом отношении к творчеству Оноре де Бельзака (1799–1850) (см., например, примеч. 7).
(7) Зато в повестях его я, признаюсь, нашел только один силуэт ростовщика, резким перстом наброшенный. – Речь идет о повести Бальзака «Гобсек» (1830).
(8) В Нодье я сроду ничего не находил и не постигаю дешевизны похвал ~ носится, будто с писаною торбой. – Шарль Нодье (1780–1844) – французский писатель-романтик, автор принесшего ему небывалый успех романа «Жан Сбогар» (написан в 1812 г., издан анонимно в Париже в 1818 г.) о бунтаре во имя справедливости, главе разбойников, грабившем богачей в пользу бедняков.
(9) Перед Гюго я ниц ~ «Бюг Жаргаль» – золотая посредственность. – В глазах Бестужева и Н. А. Полевого творчество Виктора Гюго (1802–1885) – великий образец романтического искусства. Статья Н. А. Полевого «О романе В. Гюго и вообще о новейших романах» (МТ. 1832. № 3) в ряде существенных моментов соприкасается с бестужевской статьей «О романе Н. Полевого „Клятва при гробе господнем“». Об отношении Бестужева к «Собору Парижской богоматери» (1829) см. также примеч. 18 на с. 687 наст. изд. Романы Гюго «Ган Исландец» и «Бюг Жаргаль» написаны соответственно в 1821–1823 и 1826 гг.
(10) …В «Гернани», в «Марион Delorme»… – Речь идет о драмах Гюго «Эрнани» и «Марион Делорм» (обе – 1829).
(11) «Кромвель» холоден и растянут ~ но целиком – нет. – Имеется в виду драма «Кромвель» (1827), предисловие к которой явилось знаменитым эстетическим манифестом романтизма.
(12) …это «Гец» для времени Ришелье. – См. примеч. 2 к письму 4 на с. 680 наст. изд. Арман Жан дю Плесси Ришелье (1585–1642) – французский государственный деятель, кардинал (с 1622), фактический правитель Франции, много сделавший для укрепления абсолютизма.
(13) Полагаю, что «Борджия» достойна своей славы, и жажду прочесть ее. – «Лукреция Борджиа» (1832) – драма В. Гюго.
(14) Кстати, «Последний день осужденного» – ужасная прелесть!.. – «Последний день приговоренного к смерти» (1828) – психологический этюд В. Гюго.
(15) «Клятву» перечитываю для последнего тома ~ и не раз пробивала меня слеза. – См. примеч. 5 на с. 695 наст. изд. Это сообщение Бестужева, по-видимому, связано с его работой над статьей «О романе Н. Полевого „Клятва при гробе господнем“», опубликованной в августе-сентябре 1833 г. (МТ. 1833. № 15. С. 399–420; № 16. С. 541–555; № 17. С. 85–107). Не совсем ясно, что имеется в виду под «последним томом». Возможно, Бестужев хотел обновить в памяти содержание первых трех частей романа Н. А. Полевого, собираясь обратиться к чтению последней, четвертой его части (ценз. разр. – 3 июня 1832 г.).
(16) Вы пишете, что плакали, описывая Куликово побоище. ~ мне подарил его С. Нечаев. – Как свидетельствует Я. И. Костенецкий, Бестужев постоянно носил кольцо, «древнее, серебряное, очень толстое и большое, на верху которого очень искусно была сплетена из серебряной проволоки корзинка, в которую, вероятно, был вделан какой-нибудь камень»; носил он его на большом пальце правой руки, по обычаю черкесов, которым оно служит «пособием при взводе ружейного или пистолетного курка» (см.: Костенецкий Я. И. Александр Александрович Бестужев (Марлинский) // PC. 1900. № 11. С. 455–456). С. Д. Нечаев (1792–1860) – литератори археолог; декабрист.
(17) О своем романе… – Имеется в виду «Вадимов».
(18) Не дивитесь, что я знаю морскую технику… – Это знание Бестужев проявил в «Лейтенанте Белозоре» (1831) и во «Фрегате „Надежда“» (1833).
24. Н. А. и М. А. Бестужевым*
Впервые опубликовано: РВ. 1870. № 6. С. 503–504. Печатается по автографу: ИРЛИ, ф. 604, № 5580, л. 153–156.
(1) …от к(нягини) Трубецкой… – Речь идет о Е. И. Трубецкой, жене С. П.Трубецкого, последовавшей за ним в Сибирь.
(2) …мой Саарвайерзен… – Август ван Саарвайерзен – персонаж из повести «Лейтенант Белозор» (1831).
(3) …это с портретов Ван Дейка… – См. примеч. 139 на с. 671 наст. изд.
(4) Неужели, например, в ботанической лекции, как называешь ты разговор Белозора ~ сладкую пшцу. – Имеется в виду сцена в оранжерее между Жанни ван Саарвайерзен и Белозором (глава IV «Лейтенанта Белозора»).
(5) …как, например, разговор Кокорина с лекарем… – Речь идет об эпизоде из повести «Фрегат „Надежда“».
(6) У Бальзака много хорошего, но учиться у него я не буду. ~ он более блестящ, чем ясен. – Ср. с характеристикой Бальзака, данной Н. А. Полевым (МТ. 1832. № 19. С. 397–398).
(7) …он торопится за золотыми яблоками Аталанты… – Аталанта – знаменитая аркадская охотница. Тем, кто добивался ее руки, она предлагала состязание в беге, и всех, кого обгоняла, убивала. Меланион победил ее хитростью: во время бега он разбрасывал золотые яблоки, поднимая которые Аталанта не сумела обогнать его. Здесь в значении: соблазн, увлекающий в сторону от намеченной цели.
(8) Так, лучшее из его лиц, госпожа Жюль ~ Будь уверен, что я не выставил бы такого лица на поклонение, не надел бы на него бесполого, хоть и бархатного, кафтана Колибрадоса! – Г-жа Жюль – героиня повести Бальзака «Феррагюс, вождь пожирателей» (1833). Бестужев вспоминает также о вконец обнищавшем, но безмерно гордящемся своим тысячелетним дворянством персонаже комедии А. Коцебу доне Ранудо де Колибрадосе; свою гостью Изабеллу делла Маре он вынужден принимать в бархатном кафтане с прорехами на спине, стараясь при этом держаться так, чтобы их не было заметно (д. II,явл. 2) (Коцебу А. Дон Ранудо де Колибрадос // Театр Августа фон Коцебу… М., 1824. Ч. 10. С. 164). Пьеса написана в 1803 г., напечатана в 1805 г. Переведена П. А. Каратыгиным (см.: Вольф А. И. Хроника петербургских театров с конца 1826 до начала 1855 года. СПб., 1877. Ч. 1. С. 33 (сезон 1833/1834 г.)).
(9) Его «Notre Dame», его «Marion Delorme», «Le Roi s'amuse» и «Боргиа» ~ под каждым словом скрыта плодовитая мысль. – См. примеч. 9-14 на с. 693 наст. изд. Драма «Король забавляется» написана в 1832 г.
(10) В голове у меня давно уже лежит роман ~ теперь о нем ни слова. – См. примеч. 1 к письму 20 на с. 691 наст. изд.
25. К. А. Полевому*
Впервые опубликовано: РВ. 1861. № 4. С. 425–428. Печатается по автографу: РНБ, ф. 69, № 15, л. 7–9 об. Датируется 1834 г. по содержанию.
(1) …замечанию вашему о черном галстуке… – К. А. Полевой так прокомментировал это место в письме Бестужева: «..в одной из своих статей он выставил как верх светского неприличия явиться на вечер в черном галстуке; я заметил ему в письме, что уже несколько лет в черных галстуках являются на вечера все порядочные люди, а в белых – одни лакеи» (РВ. 1861. № 4. С.425).
(2) …хотя Гюго и вздумалось сказать, что «жалкие слова: романтизм и классицизм – упали в забвение наравне с глюккизмом и пиччинизмом». – Ср. у Гюго (1802–1885) в предисловии к «Марион Делорм» (1829): «Жалкие, бывшие предметом споров слова „классический“ и „романтический“ канули в бездну 1830 года, как „глюкист“ и „пиччинист“ исчезли в пучине 1789 года. Осталось только искусство» (Гюго В. Собр. соч.: В 15 т. М., 1953. Т. 3. С. 11). Кристоф Виллибальд Глюк (1714–1787) – немецкий композитор, один из виднейших представителей музыкального классицизма. Смысл радикальной революции, осуществленной им в опере, заключался в повышении драматургического значения музыки. Его противниками были представители французской и итальянской оперы. Приезд в Париж в 1776 г. Никколо Пиччини (1728–1800) – итальянского оперного композитора, в особенности широко известного оперой «Чеккина, или Добрая дочка» (1760), которая наметила новое, лирико-сентиментальное направление в жанре оперы-буфф (нежная, чувствительная мелодия, развитая музыкально-драматическая декламация), явился началом войны глюкистов и пиччинистов. Соревнуясь, композиторы работали над одним сюжетом «Ифигения в Тавриде» (опера Глюка была поставлена в 1779 г., опера Пиччини – в 1781 г.). В этом соревновании победил Глюк. В дальнейших операх Пиччини ощутимо влияние глюковского драматизма.
(3) …полагаю я в эре христианства. – По убеждению Бестужева, христианство с его апофеозом души и духовности, явилось почвой для возникновения романтизма.
(4) …ибо иное дело бытие, иное дейсточе. – Проблемы бытия и действия как важнейшие философские проблемы эстетики романтизма Бестужева рассматривались им в незавершенной статье «О романтизме» (1829) (см.: Литературно-критические работы декабристов / Вступ. статья, подгот. текста и примеч. Л. Г. Фризмана. М., 1978. С. 314–315; Канунова Ю. 3. Сибирский период литературно-критической деятельности А. А. Бестужева-Марлинского // Литературная критика в Сибири. Новосибирск, 1988. С. 68) и в итоговой критической работе «О романе Н. Полевого „Клятва при гробе господнем“» (Марлинский, 11,165–166).
(5) …очень рад, что статья моя нравится вам обоим… – Имеется в виду статья Бестужева «О романе Н. Полевого „Клятва при гробе господнем“». К. А. Полевой в своих примечаниях к письмам так объясняет происхождение этой статьи: «Я писал ему, что он сделал бы одолжение и публике, и автору „Клятвы при гробе господнем“, если бы развил подробно свои мысли об этом сочинении, которое так ему понравилось. Следствием была известная его блистательная критическая статья» (РВ. 1861.№ 4. С. 414).
(6) Кстати о Вельтмане ~ передать Лазарю! – Речь идет о романе А. Ф. Вельтмана «Кащей бессмертный» (М., 1833. Ч. 1–3) и его персонажах: Иве Олельковиче – русском витязе, могучем богатыре, его матери Мине Ольговне и верном конюшем Ивы Олельковича Лазаре-сказочнике.
(7) Скажите, что за лицо Брамбеус ~ (как говорит Фита)? – Барон Брамбеус – псевдоним О. И. Сенковского. См. о нем примеч. 30 на с. 643–644 наст. изд. В «Северной пчеле» за 1833 г. было напечатано несколько не в меру хвалебных отзывов о бароне Брамбеусе. Булгарин (его Бестужев называет «Фита»), например в статье «Обозрение новых русских романов и других произведений словесности», подписанной инициалами «Ф. Б.», ставит «Ученое путешествие на Медвежий остров» рядом с «Фаустом» Гете и «Манфредом» Байрона, а в отношении «глубокого чувства филантропии» даже отдает предпочтение Барону Брамбеусу (СП. 1833. 25 нояб. № 269).
(8) Спросите CD. Б… – Т. е. Фаддея Булгарина.
(9) …В-ра Б-ш-а… – Имеется ввиду В. П. Бурнашев (1812–1888), агроном, писатель, журналист, сотрудник ряда журналов различных направлений, в том числе и «Северной пчелы» (1832–1834), автор позднейших воспоминаний о «пятницах» А. Ф. Воейкова и «четвергах» Н. И. Греча.
(10) …и мурлычет на лежанке, словно заслуженный кот My pp. – Кот Мурр – герой неоконченного романа Э.-Т.-А. Гофмана (1776–1822) «Житейские воззрения кота Мурра» (1820–1822).
(11) Отрывок Загоскина «Аскольдовой могилы» – ниже презрения. – Где опубликован отрывок и какой именно – неизвестно. См. примеч. 4 на с. 679 наст. изд.
(12) Насчет Филантропа я не переменял мыслей ни на миг ~ это в порядке вещей. – Речь идет о Сергее Николаевиче Глинке (1776–1847), поэте, драматурге, журналисте и цензоре (с 1 октября 1827 г. по 1830 г.), издателе журнала «Русский вестник» (1808–1826), в котором он неустанно проповедовал «деятельное благотворение». Этому принципу Глинка следовал в своей собственной жизни (участвовал в выкупе из крепостных композитора Д. Н. Кашина, отпустил на волю своих крестьян, во время войны с Наполеоном собирал через «Русский вестник» пожертвования для вдов и сирот, снаряжал за свой счет на службу юношей-ополченцев, сохранив для казны врученную ему для этих нужд Ростопчиным сумму в 300 000 руб.). «Бескорыстие его доходило до безрассудства <…> он <…> раздавал много милостыни, так что часто оставался без гроша», – писал К. А. Полевой (Полевой Кс. Записки о жизни и сочинениях Николая Алексеевича Полевого // Николай Полевой: Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов. Л., 1934. С. 252; ср. сходный отзыв о Глинке С. Т. Аксакова: «…он не мог видеть бедного человека, не поделившись всем, что имел, забывая свое собственное положение и не думая о будущем, отчего, несмотря на значительный иногда прилив денег, всегда нуждался в них…» (Аксаков С. Т. Литературные и театральные воспоминания // Собр. соч. М., 1956. Т. 3. С. 9)). «Деяния и сочинения» Глинки в 1812 г. (он первым записался в ратники, вдохновлял и ободрял московских жителей яркими речами в дворянском собрании, на рынках, улицах, площадях, славил высокие проявления русских патриотических чувств и военные подвиги в своем журнале) были отмечены орденом Владимира 4-й степени при милостивом рескрипте Александра I. К. А. Полевой рассказывает, что Глинка «отговаривался, когда мы называли его патриотом. „Я филантроп, а не патриот“, – говаривал он и доказывал, что слово „патриот“ означает понятие узкое, что патриотом можно быть временно, а филантропом должно быть всегда» (Полевой Кс. Записки о жизни и сочинениях Николая Алексеевича Полевого. С. 252). В 1830-х гг. Глинка оказался жертвой клеветников, объявивших его тайным шпионом и доносчиком.
(13) Не всякая природа так сильна, как моя, и может выдерживать плавку золота, подобно капелле. – Купель ((фр. coupelle), капель, капёлина, капёльна, капелла) – пробирная чашечка из жженой кости и древесного пепла, в которой золото или серебро очищаются под воздействием огня от посторонних примесей.
26. Я. И. Костенецкому*
Впервые опубликовано: PC. 1900. № 11. С. 457. Печатается по тексту первой публикации. Автограф неизвестен.
(1) …благородный, добрый мой друг Яков Иванович… – Яков Иванович Костенецкий – глава студенческого кружка в Московском университете, связанного с Н. П. Сунгуровым, который, выдавая себя за члена общества декабристов, уцелевшего после разгрома 1825 г., пытался организовать тайное общество. Костенецкий, арестованный в июле 1831 г., был отправлен на Кавказ рядовым в Куринский егерский полк. Он познакомился и сблизился с Бестужевым в свой приезд в Дербент в июле 1833 г., когда привез ему от его брата Павла (из Тифлиса) письма, книги и шашку. Во второй раз Костенецкий попал в Дербент в 1834 г. в начале февраля и тоже прожил там несколько дней.
(2) Антонович теперь у меня… – Платон Александрович Антонович – товарищ Я. И. Костенецкого по университету, очевидно сосланный на Кавказ по тому же делу; впоследствии генерал-лейтенант, попечитель Киевского учебного округа. Через него Бестужев передал настоящее письмо к Костенецкому. См. о нем: PC. 1900. № 11. С. 457.
(3) Ваше письмо из Кизляра наделало проказ ~ и эта нескромность Ваша стоить будет многим чинов и мест. – Костенецкий рассказывает об этом эпизоде в своих воспоминаниях «Александр Александрович Бестужев (Марлинский)»: «В этом письме Бестужев намекает на событие вследствие письма моего в Москву с дороги на Кавказ к товарищу моему Почеке о снисхождениях, делаемых нам, т. е. мне и Антоновичу, на этапном пути нашем, некоторыми воинскими начальниками. Письмо это попалось в руки добрым людям, и хотя мы не имели никакой неприятности, но бывшие снисходительными к нам воинские начальники пострадали, к нашему сожалению, и совершенно невинно» (PC. 1900. № 11. С. 457). П. А. Клейнмихель (1793–1869) – с 1832 г. дежурный генерал Главного штаба.
27. К. А. Полевому*
Впервые опубликовано: РВ. 1861. № 4. С. 455–457. Печатается по автографу: РНБ, ф. 69, № 15, л. 35–36 об.
(1) …с вестью о кончине «Телеграфа»… – Журнал Н. А. Полевого «Московский телеграф» был закрыт в апреле 1834 г. по распоряжению царя. Поводом для закрытия журнала явилась рецензия Полевого на урапатриотическую пьесу Н. В. Кукольника «Рука Всевышнего отечество спасла» (МТ. 1834. № 3). Редактор журнала в сопровождении жандарма был привезен в Петербург.
(2) …однако же лучше толковать о «Мазепе» Булгарина и «Тассе» Кукольника… – «Мазепа» – роман Ф. В. Булгарина (1789–1859) (СПб., 1833–1834. Ч. 1–2); «Торквато Тассо» – «драма-фантазия в стихах» Н. В. Кукольника (1809–1868) (М., 1833). Рецензию Н. А. Полевого на эту пьесу см.: МТ. 1834. № 3–4.
(3) Вам кланяется Вышеславцев… – Вышеславцев – лицо неустановленное.
28. К. А. Полевому*
Впервые опубликовано: РВ. 1861. № 4. С. 457–459. Печатается по автографу: РНБ, ф. 69, № 15, л. 38–39 об.
(1) …я встретился там с описателем Гори, который обещает быть недурным писателем. – В письме к брату Павлу от 3 февраля 1834 г. Бестужев спрашивал: «Не Каменский ли написал в „Телеграф“ о Гори?» (имеется в виду публикация П. П. Каменского (1810 или 1812–1871) «Гори, древняя столица Карталинии» (МТ. 1833. № 16. С. 493–512; подпись: «Херсонец»)). Как свидетельствует настоящее письмо, к маю 1834 г. состоялось личное знакомство Бестужева и Каменского. Ср. о последнем в «Литературных воспоминаниях» И. И. Панаева: этот «интересный молодой человек, явившийся с Кавказа с повестями a la Марлинский и с солдатским Георгием в петлице», «сразу одержал две победы в Петербурге: одну над Краевским, издававшим „Литературные прибавления к „Инвалиду““, который, пораженный его талантом, заплатил 500 рублей ассигнациями за его первую повесть („Келишь-бей“. – Ф. К.); другую – над дочерью Ф. П. Толстого», которая вышла за него замуж (Панаев И. И. Литературные воспоминания с приложением писем. 3-е изд. СПб., 1888. С. 54). Каменский претендовал на роль литературного преемника Бестужева; опубликовал некролог писателю (Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». 1837. № 32; без подписи).
29. И. П. Жукову*
Публикуется впервые. Печатается по автографу: ИРЛИ, ф. 604, № 5574, л. 20–21.
(1) Я слышал, любезный Иван Петрович… – Об Иване Петровиче Жукове см. примеч. 6 на с. 683 наст. изд.
(2) …от Ф. А. Ш(нитнико) ва… – См. примеч. 1 к письму 14 на с. 688 наст. изд.
(3) «Вадимов» в застое. – Роман «Вадимов», о котором Бестужев неоднократно упоминает в своих письмах.
(4) Кашперову поклон… – Кашперов – лицо неустановленное.
30. К. А. Полевому*
Впервые опубликовано: РВ. 1861. № 4. С. 461–463. Печатается по автографу: РНБ, ф. 69, № 15, л. 43–44 об.
(1) Неужели Вы думаете, что я ценю «Морехода Никитина» во что-нибудь? – «Мореход Никитин. Быль» – повесть, опубликованная в «Библиотеке для чтения» (1834. Т. 4. С. 65–108) с подписью: «А. Марлинский» и пометой: «1834 г. Дагестан».
(2) Вычеркнули даже о взятии Колы англичанами ~ как будто для русских это может составить пятно. – В «Мореходе Никитине» речь идет о попытках английских крейсеров разграбить Соловецкий монастырь и о проникновении одного брига до Колы – города на Кольском полуострове. Этот эпизод относится, по-видимому, к 1810 г. Англия усиленно сопротивлялась континентальной блокаде (см. примеч. 85 на с. 639 наст, изд.): ее корабли захватывали торговые суда Франции и ее союзницы России, а также нейтральные суда и контрабандным путем ввозили британские товары в Европу. Впрочем, Россия уклонялась от активной помощи Франции на море. В конце 1810 г. нейтральным судам был разрешен заход в русские порты, т. е. торговля с Англией была возобновлена через посредников.
(3) …послал им недавно четыре кавказских очерка… – Общим заглавием «Кавказские очерки» объединены четыре очерка: «Прощание с Каспием», «Горная дорога из Дагестана в Ширван через Кунакенты», «Последняя станция к старой Шамахе» и «Переезд от станции Топчи в Куткаши» (БдЧ. 1834. Т.6. С. 17–21, 25–51).
(4) Пошлите экземпляр <…> Ястребцову… – Иван Иванович Ястребцов (род. 1776) – врач и педагог, сотрудник «Московского телеграфа».
(5) …барону Григорию Владимировичу Розену… – Имеется в виду один из командиров Отдельного Кавказского корпуса, барон, генерал-адъютант (известен черновик письма Бестужева к нему от 25 июня 1834 г. – ИРЛИ, ф. 604, № 5573, л. 48).
(6) …генералу Владимиру Дмитриевичу Вальховскому… – Владимир Дмитриевич Вольховский (Вальховский) (1798–1841), товарищ Пушкина по лицею, декабрист, был переведен на Кавказе 1826 г., участник войны с Персией и Турцией, с 1831 г. генерал-майор, в 1832–1837 гг. начальник штаба Отдельного Кавказского корпуса.
(7) …(первому в сафьяновом переплете, для уровня с первыми)… – К этому месту письма К. А. Полевой сделал примечание: «Томами, посланными из Петербурга».
(8) …Шнитникову – один… – О Ф. А. Шнитникове см. примеч. 1 к письму 14 на с. 688 наст. изд.
(9) …(майору Василию Григорьевичу Зеничу, ахалцихскому коменданту), поскорее пришлите «Басни» Крылова и «Сочинения» Державина (последних изданий), – и со всеми привычками палатки. – Имеются в виду смирдинские петербургские издания басен Крылова и сочинений Державина (оба – 1834).
(10) Я ждал разрешения на бой <…> в Абхазии… – В связи с неблагоприятно сложившимися для России обстоятельствами на Черноморском побережье барон Розен поручил генералу Вельяминову предпринять экспедицию в Закубанье для устройства кордонной линии до Геленджика. В эту экспедицию и просился Бестужев в своих письмах к Розену и Вольховскому.
(11) Желаю полного успеха в разгадке борьбы Наполеона с Русью ~ «Со мной кончился ряд людей, которые могли занимать всю сцену, владычествовать массы». – где-то сказал сам N<apoleon>. – Теперь будут – Размышления Бестужева о столкновении наполеоновской Франции и России см. также в письме к Н. А. Полевому от 29 января 1831 г. (наст, изд., с. 494). Где и когда сказал Наполеон приводимые слова – не установлено.
31. К. А. Полевому*
Впервые опубликовано: РВ. 1861. № 4. С. 474–475. Печатается по автографу: РНБ, ф. 69, № 15, л. 60–61 об.
(1) …как Овидий между крымиами. – Публий Овидий Назон (43 до н. э. – ок. 18 и. э.) – римский поэт. В конце 8 в. н. э. был сослан Августом в г. Томы (ныне Констанца в Румынии), на берег Черного моря, где и умер. В изгнании написал «Скорбные элегии» и «Понтийские послания». Овидия высоко ценил Пушкин.
(2) Да, грустно было Чайльд Гарольду покидать Англию… – Речь идет о песни I (строфы 7-13) известной поэмы Дж. Байрона (1788–1824) «Паломничество Чайльд Гарольда» (1812–1817).
(3) Сенковский писал ко мне и признавался, что он переделывать должен все статьи, к нему присылаемые ~ что это обращает словесность в фабрику. – Этой своей манере в обращении с авторами О. И. Сенковский не изменил и позже. Не выдержав бесцеремонного редактирования своих произведений, с «Библиотекой для чтения» порвала, например, Е. А. Ган, сотрудничавшая в журнале с 1836 г. (см.: Некрасов Н. А. Поли. собр. соч. и писем: В 15 т. Л., 1989. Т. 11, кн. 1. С. 412). О редакторском произволе Сенковского говорил Н. А. Полевой в письме к Ф. В. Булгарину от 2 апреля 1838 г.: «…он портит русский язык своими нововведениями. Он берет на себя всезнание <…> и все это прикрывает гордым самоуверением» (PC. 1896. № 6. С. 568).
(4) …отошлите билет сестре моей Елене Александровне…. – К. А. Полевой выполнил эту просьбу Бестужева. В письме к Е. А. Бестужевой от 30 декабря 1835 г. он писал, что на днях через своего родственника Ф. Ф. Меца пришлет восемь тысяч рублей ассигнациями, а в феврале 1836 г. еще семь тысяч (ИРЛИ, ф. 604, № 5585, л. 121–122).
32. Н. А. и М. А. Бестужевым*
Впервые опубликовано: РВ. 1870. № 7. С. 63–66. Печатается по автографу: ИРЛИ, ф. 604, № 5580, л. 166–167.
(1) Небольшой я охотник до литературных оправданий… – Ср. письмо 24 (наст, изд., с. 527–528).
(2) Слово и ум есть братское достояние всех людей… – Эта мысль об общечеловеческом смысле подлинного искусства принципиально важна для эстетики романтизма. Еще В. А. Жуковский, полемизируя с А. С. Шишковым, утверждал, что «прогрессивная идея <…> интернациональна» (см.: Библиотека В. А. Жуковского в Томске. Томск, 1978. Ч. 1. С. 119).
(3) Насчет романтизма в разборе «Клятвы при гробе господнем» скажу, что в ней не читали вы лучшего, и потому нельзя вам судить о целом и связи. – Статья Бестужева была изуродована цензурой (см.: Литературно-критические работы декабристов / Вступ. статья, подгот. текста и примеч. Л. Г. Фризмана. М., 1978. С. 316).
(4) …что в некоторых местах сталкиваюсь я с Тьерри… – См. примеч. 4 на с. 690–691 наст. изд.
(5) …как Вольтер или Щербатов. – Вольтер (наст, имя – Мари Франсуа Аруэ; 1694–1778) – французский писатель, философ, историк (автор трудов «Век Людовика XIV» (1751 и 1768), «Опять о нравах и духе народов» (1756), «История Российской империи в царствование Петра Великого» (1759–1763)); Михаил Михайлович Щербатов (1733–1790) – историк (автор «Истории Российской от древнейших времен» (доведена до 1610 г.)) и публицист.
(6) Но напрасно поместили Вы в число моих ut-re-mi-fa – Sismondi: я не читал его до сих пор… – Жан Шарль Леонард Симонд де Сисмонди (1773–1842) – швейцарский писатель-романтик, экономист и историк.
(7) Точно так же как «Саламандру»… – Имеется в виду роман французского писателя Э. Сю (наст, имя – МариЖозеф; 1804–1857), вышедший в 1832 г.
(8) Ирвингу подражал я в форме, не в сущности… – Уошингтон Ирвинг (1783–1859) – американский писатель-романтик, автор фантастических новелл.
(9) …но и сам Ирвинг занял олицетворение вещей у Попа… – Александр Поп (1688–1744) – английский поэт и критик, автор дидактических поэм в духе классицизма.
(10) …Поп у Ботлера… – Сэмюэл Батлер (Ботлер) (1612–1680) – английский поэт-сатирик, автор ироикомической поэмы «Гудибрас» (1663–1678. Ч. 1–3), осмеивающей буржуазно-пуританские нравы.
(11) …«И остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим»… – Слова из молитвы «Отче наш» (см.: Евангелие от Матфея, гл. VI, ст. 12).
(12) …лучше шапсугов не видал… – См. примеч. 36 на с. 650 наст. изд.
(13) Там со многими другими умер от климата Корнилович. – См. примеч. 5 к письму 20 на с. 692 наст. изд.
(14) Кланяйтесь, мои милые братья, Ивану Дмитриевичу, Александру Ивановичу… – Речь идет об Иване Дмитриевиче Якушкине (1793–1857) – декабристе, одном из зачинателей движения, члене Союза спасения, Союза благоденствия и Северного общества, и Александре Ивановиче Якубовиче (1792–1845), декабристе, члене Северного общества. Первый был осужден по первому разряду на 20 лет каторги, второй – на вечную каторгу.
(15) В отряде со мной был Кривцов. – Сергей Иванович Кривцов (1802–1864), декабрист, подпоручик гвардейской конной артиллерии, в 1831 г. был отправлен рядовым на Кавказ, а в 1837 г. произведен в прапорщики.
33. А. X. Бенкендорфу*
Впервые опубликовано: Звезда. 1931. № 3. С. 228–231. Печатается по тексту первой публикации. Автограф неизвестен.
(1) …не утаю, что я жажду покоя, дабы развить в уме зерно словесности ~ хотелось бы примириться тем с отечеством!.. – Письмо Бестужева согласился передать лично Бенкендорфу М. С. Воронцов, побывавший летом 1836 г. в Керчи и с сочувствием отнесшийся к прославившемуся писателю. Однако ни полное отчаяния письмо Бестужева, ни записка, адресованная Бенкендорфу Воронцовым, не оказали положительного воздействия на решение вопроса о судьбе писателя. 28 сентября 1836 г. последовала «жесткая» резолюция Николая I: «Мнение гр. Воронцова совершенно неосновательно; не Бестужеву с пользой заниматься словесностию; он должен служить там, где сие возможно без вреда для службы. Перевесть его можно, но в другой баталион» (Щеголев П. Е. Из резолюций имп. Николая I о декабристах // Голос минувшего. 1913. № 11. С. 199). Приказом от 18 октября Бестужев был переведен в Кутаис, «в местность страшно малярийную». Трагический конец надвигался катастрофически быстро (см.: Прохоров Г. Неопубликованные письма А. А. Бестужева-Марлинского // Звезда. 1931. № 3. С. 228–231; Левкович Я. Судьба Марлинского // Звезда. 1975. № 12. С. 162–163).
34. П. А. Бестужеву*
Впервые опубликовано: 03. 1860. № 7. С. 66–67. Печатается по автографу: ИРЛИ, ф. 604, № 5590, л. 128–129 об.
(1) Ольгинский тет-де-пон. – Тет-де-пон – предмостное оборонное укрепление.
(2) Мингрельские лихорадки… – Мегрелия (Мингрелия) – историческая область Западной Грузии. В XVI – начале XIX в. была самостоятельным феодальным княжеством. В 1803 г. вступила в российское подданство.
(3) Если это сделано, снисходя на письмо мое, писанное к графу Бенкендорфу… – См. письмо 33.
(4) …и долго ли мне быть Танталом? – См. примеч. 11 на с. 679 наст. изд.
(5) От доктора Мейера… – Николай Васильевич Майер (Мейер) (1806–1846) – в 1830-е гг. врач в Пятигорске и Ставрополе. Был близок со ссыльными декабристами (С. М. Палицын, Н. И. Лорер, А. А. Бестужев, А. И. Одоевский) и с Лермонтовым. Прототип доктора Вернера в «Княжне Мери». См. о нем: Бронштейн Н. Доктор Майер //Лит. наследство. М.; Л., 1948. Т. 45–46, кн. 1. С. 473–496.
(6) Кулаковскому мой привет. – Кулаковский – лицо неустановленное.
35. П. А. Бестужеву*
Впервые опубликовано: 03. 1860. № 7. С. 71–72. Печатается по автографу: ИРЛИ, ф. 604, № 5591, л. 131–132.
(1) Какой жребий, однако, выпал на долю всех поэтов наших дней!.. Вот уже трое погибло, и какой смертью все трое! – Имеются в виду К. Ф. Рылеев, А. С. Грибоедов, А. С. Пушкин.
(2) Когда я прочел твое письмо Мамуку Арбелианову… – О Мамуке Орбелиани (Арбелианове) см. в воспоминаниях Н. Н. Муравьева-Карского, относящихся к эпизоду участия Д. Давыдова в русско-иранской войне в 1826 г. В его отряд входила грузинская конница; «конницею Тифлисского уезда предводительствовал князь Мамука Орбельян, молодой человек, пылкий, храбрый и благородный» (РА. 1889. № 4. С. 591). Ср. примеч. 3 к письму 17 на с. 690 наст. изд. С июля 1845 г. М. Орбелиани – начальник Гянджинского уезда, пригласивший с собой в качестве помощника поэта Н. Бараташвили.
(3) …у барона Роз(ена) был блестящий бал… – См. примеч. 12 на с. 630 наст. изд.
Духовное завещание Бестужева*
Впервые опубликовано: 03. 1860. № 7. С. 79–80. Печатается по автографу: ИРЛИ, ф. 604, № 5581, л. 224 об.
(1) Если меня убьют… – Завещание написано в самый день смерти Бестужева. О своем предчувствии скорой гибели Бестужев часто говорит в ряде последних писем. Еще 12 мая 1837 г. он писал К. А. Полевому о лестной для него «перспективе» быть убитым «в какой-нибудь дрянной перестрелке, в забытом углу леса» (РВ. 1861. № 4. С. 486). 31 мая 1837 г. в письме к брату Павлу он прощается с ним «на всякий случай» и просит задержать письмо к матери (написанное 30 мая. – CD. К.) «до следующего известия, чтобы не дать ей напрасного беспокойства» (РВ. 1870. № 7. С. 75). Об обстоятельствах гибели Бестужева см.: Семевский М. И. Александр Бестужев на Кавказе. 1829–1837: Неизданные письма его к матери, сестрам и братьям // РВ. 1870. № 7. С. 76–83; Федоров Н. М. Походные записки на Кавказе с 1835 по 1842 год // Кавказский сборник. Тифлис, 1879. Т. 3. С. 80–81; Левкович Я. Судьба Марлинского // Звезда. 1975. № 12. С. 163–164.
(2) …в квартире Потоцкого… – Альберт Потоцкий – друг Бестужева.
Список сокращений
БдЧ – «Библиотека для чтения».
Белинский – Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1953–1959. Т. 1–13.
BE – «Вестник Европы».
ИРЛИ – Институт русской литературы Российской академии наук.
Кюхельбекер – Кюхельбекер В. К. Путешествие; Дневник; Статьи. Л., 1979 («Литературные памятники»).
Марлинский – Бестужев-Марлинский А. Второе полн. собр. соч.: В 4 т., 12 ч. СПб., 1847. Т. I, ч. 1–3; Т. II, ч. 4–6; Т. III, ч. 7–9; Т. IV, ч. 10–12.
МТ – «Московский телеграф».
ОЗ – «Отечественные записки».
Прохоров – Бестужев-Марлинский А. А. Письма / Ред. и примеч. Г. В. Прохорова (1941) // РНБ, ф. 69, № 32–47.
РА – «Русский архив».
РВ – «Русский вестник».
РНБ – Российская Национальная библиотека (С.-Петербург).
РО – «Русское обозрение».
СО – «Сын отечества».
СОиСА – «Сын отечества и Северный архив».
СП – «Северная пчела».
Выходные данные
Александр Александрович Бестужев-Марлинский
КАВКАЗСКИЕ ПОВЕСТИ
Ф. З. Канунова – составление, статья, комментарии
Утверждено к печати
Редколлегией серии «Литературные памятники»
Редактор издательства Т. А. Лапицкая
Художник Л. А. Яценко
Технический редактор Н. Ф. Соколова
Корректоры О. И. Буркова, И. А. Крайнева, Э. Г. Рабинович и А. X. Салтанаева
Компьютерная верстка Л. Н. Напольской
ЛР № 020297 от 27.11.91.
Сдано в набор 12.10.94. Подписано к печати 16.11.95.
Формат 70x90 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура академическая.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 51.48. Уч. – изд. л. 59.8.
Тираж 3000. Тип. зак. № 3202. С 1256
Санкт-Петербургская издательская фирма РАН
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская лин., 1
Санкт-Петербургская типография № 1 РАН
199034, Санкт-Петербург, 9 лин., 12
Примечания
(1) Джума соответствует нашей неделе, то есть воскресенью. Вот имена прочих дней магометанской недели: шамби (наша суббота), ихшамба (воскресенье), душамба (понедельник), сешамба (вторник), чершамба (середа), пханшамба (четверг), джума (пятница).
(2) Хотя, в существе, нет никакой разницы между мужскими шальварами и женскими туманами (панталонами), но для мужчины будет обидно, если вы скажете, что он носит туманы, и наоборот.
(3) Обыкновенный образ сиденья у азиатцев на улице или перед старшим. А потому Н. М. Карамзин очень ошибся, переведя слова волынского летописца: «Зле те, Романе, на коленех пред ханом седиши» – «худо тебе, Роман, на коленях стоишь перед ханом». Конечно, сидеть на корточках было невесело для галицкого князя, но не так унизительно, как думает историк5.
(4) Первые шамхалы были родственники и наместники халифов дамасских. Последний шамхал умер, возвращаясь из России, и с ним кончилось это бесполезное достоинство. Сын его, Сулейман-паша, владеет наследством просто как частным имением12.
(5) Нукер – общее имя для прислужников; но, собственно, это то же самое, что у древних шотландцев Henchman (прибедренник). Он всегда и везде находится при господине, служит за столом, режет и рвет руками жаркое и так далее.
(6) Эмджек – грудной, молочный брат; от слова эмджек – сосец. У кавказских народов это родство священнее природного; за своего эмджека – каждый положит голову. Матери стараются заранее связать таким узлом надежные семьи. Мальчика приносят к чужой матери, та кормит его грудью – и обряд кончен – неразрывное братство начато.
(7) Славная в Персии порода туркменских лошадей, называемая теке.
(8) Он был родной брат Гассан-хана Джемутайского, а сделался ханом Аварским, женясь на вдове хана, единственной его наследнице.
(9) Тогда отряд наш, состоявший из трех тысяч человек, окружен был шестьюдесятью тысячами горцев. Там был уцмий Каракайдахский17, аварцы, койсубулипцы и другие. Русские пробились ночью – и с уроном.
(10) Дом по-татарски эвь; утах – значит палаты, а сарай – вообще здание. Гарам – хане – женское отделение (от этого происходит русское слово хоромы). В смысле дворца употребляют иногда слово и гарат. Русские все это смешивают в одно название сакли, что по-черкесски значит дом.
(11) Отец Аммалата был старший в семействе и потому настоящий наследник шамхальства; но русские, завладев Дагестаном и не надеясь на его доброхотство, отдали власть меньшому брату.
(12) Игра слов, до которой азиатцы большие охотники: кызыль-гюллар, собственно, значит розы, но хан намекает на кызыль – червонец.
(13) Гаджи, собственно, значит путешественник, по придается вроде титула тем, кои были в Мекке. Они имеют право носить белую витую чалму; шагиды редко, однако ж, ее носят.
(14) Вес горцы плохие мусульмане, но держатся секты сунн и; напротив, большая часть дагестанцев шагиды, как и персияне… Обе секты сии ненавидят друг друга от чистого сердца.
(15) Не имея собственного свинца, аварцы большею частью стреляют медными пулями, ибо у них есть медные руды.
(16) Азиатцы носят кинжал не на боку, а впереди.
(17) Агач – семь верст. Он называется конным. Пешеходный – четыре версты.
(18) Редко случались примеры, чтобы мы стрелками своими могли выжить горцев из лесу, и потому лес считают они лучшею крепостью. Вся песня переведена почти слово в слово.
(19) Это настоящие берсеркеры46 древних норманнов, которые, переходя в неистовство, рубили даже товарищей. Примеры такой безумной храбрости нередки между азиатцами.
(20) Русской коннице не худо бы перенять горский образ батовать (связывать при спешивании) коней. Мы батуем, продевая повод в повод, но для этого нужно много сторожей, и лошади имеют слишком много места беситься. Черкесы, напротив, ворочают через одну лошадь головой к хвосту, продевают повод сквозь пахви49 соседней и потом уже петляют в узду третьей. От этого кони не могут шевельнуться, так что можно их оставлять без надзора.
(21) Ур, ура – значит бей по-татарски. Нет сомнения, что этот крик вошел у нас в употребление со времени владычества монголов, а не со времени Петра, будто бы занявшего «hurra!» у англичан.
(22) Очень забавно неверие европейцев к тому, что кинжалом можно отрубить голову; стоит пожить педелю в Азии для убеждения в противном. Кинжал в опытной руке стоит и топора, и штыка, и сабли.
(23) Для черноты и предохранения от ржавчины клинки коптят и мажут нефтью.
(24) Лар есть множественное число всех существительных в татарском языке, а потому бегляр значит беки, а галар – аги. Русские по незнанию употребляют иногда и в единственном так же.
(25) У татар непременное обыкновение отдавать вестнику чего-нибудь приятного свою верхнюю, с плеча, одежду.
(26) Урмийская долина есть сад печальной, каменистой Персии. Весною это царство роз, осенью – винограда.
(27) и этим все сказано (фр.).
(28) Я убежден, что Кавказские ворота древних, Железные ворота русских историков, находились не в Дербенте, а в Дарьяле (Дар-юл – узкая дорога, теснина). Что восточные историки называли иногда Дербент Темир-капи, это не доказательство: они и двадцать других городов величали тем же именем; а ныне, вопреки рассказам иных вторящих одно и то же путешественников, в целой Азии никто не знает Дербента под названием Железных ворот. Плиний описывает Дарьял очень подробно73. Прокоп74 называет оный Каспийскими воротами, но, видимо, разумеет Дарьял, а не Дербент. И, наконец, хан половецкий, разбитый Мопомахом, ушел в абазинскую землю за Железные ворота, следственно за Дарьял, а не Дербент, ибо через сей последний нет средства пробраться в Абхазию. Грузинские летописи приписывают построение Дарьяльского замка Мирвану, царю своему; Прокоп отдает эту честь Александру, сыну Филиппа!!!
(29) Татары с уважением вспоминают Петра. Угловая комната, в которой жил он в ханском доме в крепости Дербента, сохранялась как она была при нем. Русские все переделали: не пощадили даже окна, из которого любовался он морем. Петр оставил здесь майора Туркула, родом венгерца, который усовершил виноделие, – теперь нет в Дербенте даже порядочного уксусу!
(30) Это самое нежное выражение татарских песен и самый обязательный привет женщине.
(31) Пул – вообще деньги. Карапул – наша денежка, или полушка (которая произошла вовсе не от пол-ушка, а от татарского пул). Да и слово рубль происходит, по мнению моему, не от рубки, а от арабского слова руп (четверть) и перешло к нам от кочевых азиатцев древности. Ногат значит точка.
(32) Тарковцы секты сунни. Яхунт – старший мулла.
(33) Имам – святой; ших – пророк.
(34) Кусочки жареного мяса на вертеле (шашлык).
(35) То есть передаст ему свои чувства; татарское выражение.
(36) Охотно и позвольте! Слово в слово значит на мою голову, на мои очи!
(37) Подушка сия, унизанная дорогими камнями и жемчугом, не имеет цены.
(38) Мусульмане верят, что в часовне, на северном кладбище Дербента, положены сорок первых правоверных, замученных язычниками; русские суеверы подозревают, что тут схоронены сорок мучеников.
(39) Бог дал, то есть на здоровье. Приглашая пить, говорят.
(40) Один батальон Куринского полка зимовал в с(елении) Казанищи.
(41) Атлы-буйны напрямик верст тридцать от Тарков.
(42) Тому причиной были сборища турецких войск на границе.
(43) Золотая Нога – так называют дагестанцы гр. Валериана Зубова. Они никак не верят, что политические перемены в России, вследствие чего Зубов был отозван в столицу, а вовсе не храбрость дербентцев, были причиною зимовки русских в двадцати верстах от города. Весною город сдался, едва построили первые батареи. Это было в 1796 году.
(44) Это истина. Такими-то обещаниями наиболее прельстились горцы.
(45) Тази – собака. Игра слов, вместо Кази.
(46) Так зовут суннитов дербентских. Шагиды, по ненависти, клеветали на них.
(47) музыкальное произведение траурного характера для хора и оркестра (лат.).
(48) Сардарь – по-персидски главнокомандующий. Запросто мы всегда употребляем это слово: оно просто и звучно.
(49) Оный состоял из 2500 человек пехоты и 1500 кавалерии, при двенадцати орудиях. Вагенбург остался под с(елением) Кяфир-Кумыком66, прикрытый батальоном апшеронцев, двумя ротами курипцев и одиннадцатью орудиями.
(50) Там случилось странное событие, доказывающее уважение черкесов к св. Николаю. Ограбив русскую церковь дочиста, они оставили только богатый образ сего святого неприкосновенным.
(51) Падишах тапенджи – так называют татары пушки.
(52) уксус четырех воров (фр.).
(53) «Проклятие на мою душу!» (англ.).
(54) «Порази меня насмерть!» (англ.).
(55) «Вырезать их, вырезать!» (пол.; пер. авт.).
(56) Тем хуже (пол.; пер. авт.).
(57) «Схватите этого сумасброда!» (пол.; пер. авт.).
(58) «Если русский не своротит с дороги, то катай его бичом в лоб!» (пол.; пер. авт.).
(59) При императрице Екатерине II гвардейские кирасиры носили, во внутренний караул, суконное подобие кираса, с золотым шитым орлом; это-то называлось суперверсом. Во время рыцарства он надевался на латы, как чехол.
(60) в манере фрески (ит.).
(61) «Да сгинет Станислав, да сгинет Москва!» (лат.).
(62) «В защиту Милона» (лат.).
(63) в натуральном виде (фр.).
(64) В самом деле, что такое янтарь? Древесная смола, говорят минералоги; но почему ж она теперь не плавится, почему до сих пор не нашли в недрах гор этого междупотопного ископаемого?..
(65) Страх люблю ученых; кому-то из них вздумалось сказать, что жемчуг есть болезнь перламутра, и все набожно повторяют это сказание, не рассуждая нимало, что болезни свойственны только органической природе, а череп жемчужной устрицы не что иное, как известняк. Если называть болезнию образование, почти всеобщее в их роде, жемчужных зерен, то придется причислить к бородавкам все капельники3, натеки и сталактиты.
(66) Касатки, или дельфины, плавают с невероятною быстротою, то прямо, то чрез голову колесом, и в пять минут нередко скрываются из виду. Замечательно, что дельфин и ласточка, быстрейшие до сих пор известные плаватели, имеют одинаковое устроение тела: полукруг, для разреза влаги, и клин, чтоб она скользила назад. Лучшие корабли-ходаки строятся наподобие дельфина.
(67) Гумбольдт доказал, что поверхность Каспийского моря ниже горизонта других морей, кажется, на триста футов7; следовательно, мнение, будто оно имеет подземную связь с Индийским океаном, падает само собою; если б это существовало, оно необходимо пришло бы в уровень с другими. Воды океана содержат от тридцати до сорока пяти частей соли на тысячу; Каспий – до шестидесяти на тысячу. Мертвое море – до четырехсот сорока на тысячу. Жар не имеет влияния на соленость океана, но всегдашний холод полюсов осаждает из воды соль прежде ее замерзания.
(68) Сопки, извергающие грязь, находятся почти на всех островах, соседних Баке, а огненные фонтаны, бьющие из моря, на Каспии не в редкость.
(69) «Child Harold's pilgrimage».
(70) Несомненно, что древние дербентские стены далеко входили в море и сомкнуты были плотиной с воротами, которая образовала за собой безопасную пристань. Часто плавая и ныряя там, я, можно сказать, осязал их основания.
(71) Мулла не только священник, но всякий грамотный, ученый. Hyp значит свет и встречается очень часто в сложности мусульманских имен, например Дарья-Hyp – Море света – прозвище лучшего алмаза персидского шаха, Нур-джан – Свет души, Нур-эддин – Свет веры, Нур-магаль – Свет области, а не Свет гарема, как назвал ошибочно Томас Мур героиню прелестной поэмы своей «Light of the Haram»2 («Светоч гарема» (англ.)).
(72) Кызыл-гюль – золотая с камнями бляха, женский убор. Собственно кызыл-гюль значит красная роза.
(73) Заметьте, что мусульмане-шагиды не строят минаретов у мечетей, тогда как у суннитов минарет есть необходимость.
(74) Кыр есть не что иное, как с песком скипевшаяся нефть, добываемая вблизи бакинских вечных огней. Им кроют (обливая) в Дагестане кровли. Пуд кыру стоит гривну серебром.
(75) Бомарше в числе других острот, занятых им у Монтаня, вложил эту в уста Фигаро.
(76) Н. А. Полевой напрасно думает, будто чюм значит мех (outre), а не ковш. Слово это сохранилось в азербайджанском наречии доселе и присвоено деревянному ковшу. Металлический ковш., всегда возимый на седле, называют они джам. Чюм-ча (ча или джа прибавляют татары ко многим словам для образования существительного), очевидно, мать русской чумички.
(77) Замечательно, что шагиды не украшают полумесяцем своих мечетей: на них или рука, или звезда, или просто яблоко.
(78) В городах закавказских весьма уважают большие бороды, в горах, напротив, белые бороды – ах-саккаль. Старшины горных селений не имеют другого имени, а часто и другого достоинства.
(79) В Европе имеют совершенно ложное понятие о неприкосновенности бород у мусульман: воображают, что у них считается смертным грехом брить бороду, между тем как по крайней мере две трети молодых людей, лет до тридцати, не запускают себе бороды, а франты и до сорока лет бреются, особенно в Турции. Вот почему султан не встретил противодействия за бороды при образовании регулярного войска, как это было при Петре Великом на Руси. Правда, когда мусульманин раз запустит бороду, он считает грехом сбрить ее, но он может без нареканий не запускать бороды до старости. Желая остепениться, мусульманин сзывает родных и знакомых на пирушку и объявляет им торжественно, что он отпускает себе бороду. Этот праздник называется у них сакал-коян зиафети.
(80) То есть ага-эмир – господин князь; иногда называют их сеидами. Ага-миры пользуются до сих пор большим уважением между мусульманами, и особа их считается неприкосновенною. Не получив власти в удел себе в Персии и полагая унизительным заниматься чем-нибудь поприбыточнее ханжества, они составляют самый бедный и тунеядный класс народа. Гордые и заносчивые, они горько упрекают тех из собратий своих, которые решаются служить русскому правительству. Надобно заметить, что ага-миры секты шии не носят зеленой чалмы, как турецкие эмиры, и ничем не отличаются в одежде. У них редко и гаджи (пилигримы, путешественники в Мекку) обвивают папах белой чалмою, между тем как сунниты почитают это долгом.
(81) Азиатцы говорят пить табак или тянутьтрубку: тютюн ичмак, люлля чек-ман. Тютюн, собственно, значит дым.
(82) Водка позволена правоверным только в случае недуга, требующего спиртных лекарств, и то в крайности.
(83) Полицеймейстер в мусульманских городах.
(84) Оратор, поэт, краснослов.
(85) Конфеты из обсахаренных орехов.
(86) Красноречивый человек.
(87) Кербела – место могилы Гусейна, в Ираке, близ Багдада. Мусульмане секты шии ежегодно отправляются туда караванами, точно так же как в Мекку. Для этого делают сбор со всех правоверных на молитву.
(88) Очень недавно случилось мне прочесть чудесное толкование на татарское слово киса – кошелек, занятое нами у монгольских татар, а татарами у персиян, а персиянами у аравитян. «Кошельки, – говорит господин этимолог, – делались в старину (???) из кошек (не знаю, где видел и начитал он такую редкость), а от ласкательного уменьшительного кисочка произошло киса». Бедная татарская киса никогда не думала попасть в такое четвероногое родство. Я бы спросил, однако ж, отчего происходит библейское слово кошница! Неужели хлеб и рыб носили иудеи в кошачьих шкурках? А кошель, кошелек и кошница, без сомнения, росли на одном корне. Все они родились от старинного кош – корзина.
(89) Коран запрещает выставлять имена и достоинства на гробовой плите. «Недостойно правоверного это тщеславие, – говорит Магомет. – Прохожий в свет эдема, не пиши своего имени на грязных стенах караван-сарая, для потехи любопытным. К чему тебе имя теперь? Тело твое прах, а прах безымянен. Душу кликнет Аллах на суд не по званию, а по делам». Какая высокая философия! И точно, вы не встретите мусульманских гробниц с формулярным списком. Простые трогательные слова украшают их. «Молитесь за душу раба Божия Омара» или «Нур-али»; потом стих из Корана, и более ничего.
(90) Первый раз взят был Дербент Зубовым в 1801 году и вскоре оставлен. Второй – в 1804-м33.
(91) Дербентцы с ужасом вспоминают это время. Заслышав о таком наборе в наложницы, они платили приданое (вещь неслыханная) за дочерями; отдавали их за нукеров, только бы окрутить в час.
(92) Женские шаровары.
(93) Бумажная материя, которая добротою понижается от кисеи до парусины.
(94) Нарын-кале, если перевесть слово в слово, значит нежная крепость; но старинное ей имя – Нарындж-калеси, крепость померанцев. Есть предание, что в ней росли огромные померанцевые деревья.
(95) Необыкновенно жирная рыба, род сельди; ловится только у кизлярских берегов Каспия.
(96) Кубичи – большое селение вольного Кара-Кайтаха, в девяноста верстах от Дербента, славное в горах оружием, осадкою оружий и особенно насечкою по железу. Кубичинцы уверяют, что предки их были франки, – ничем не подтвержденная басня.
(97) Комуз, или кобуз, – род балалайки с тремя металлическими струнами.
(98) Мелкие пожитки.
(99) Кичкене значит малютка. Искендер-бек играет здесь словами.
(100) Хлебные лепешки, то есть чуреки, пекут на Востоке в открытой наподобие котла, из глины сбитой печи. Ее разжигают хворостом и потом прилепляют тесто к бокам: в минуту хлеб зреет и отпадает сам.
(101) Дорая – крепкая тафта всех цветов. Шамахинское произведение.
(102) Азан – призыв к молитве, слово, присвоенное более к полуденному молению. Вечернее чаще называют намаз.
(103) Альма-дольма – яблоко, начиненное мясным фаршем.
(104) Чтобы понять всю едкость этого упрека, надо знать, что старухи мусульманки носит но большой части пестрые покрывала и полем их сплетней с соседками служат обыкновенно кровли домов. Там, присевши на корточки, злословят они или бранятся между собою.
(105) Есаулы – остатки ханского порядка, гонцы верстовые и охрана коменданта, народ видный, смелый, смышленый и хорошо вооруженный. Чауши – десятские.
(106) Заносный издалека водоворотами или землетрясениями: огромный обломок, чуждый составом почве, на которой лежит. Геологический термин.
(107) Татары при чиханье здравствуются, точно так же как русские.
(108) Пегливанами называют также прыгунов по канату, которые показывают вместе и чудеса силы и ловкости.
(109) Лезгины нанимаются всегда копать марену у дербентцев и их обыкновенно называют лопатчиками – кюрекли.
(110) Пошлина. В мусульманских провинциях не только провоз товаров через каждый город обложен ею, но, по старым правам, многие ханы взимают пошлину за переезд через свои владения. Это чрезвычайно стесняет тамошнюю торговлю.
(111) На исподней стороне ножен приделывается обыкновенно место для ножичка, бичах, и шила, биз. Хотя последнее и похоже на однозубую вилку, но как мусульмане едят все руками, то она предназначена для провертывания путлищ.
(112) Дали, или дали-баш, собственно, значит безумная, удалая голова, храбрец; но у турок дали-баши – особенный род кавалерии. Они носят высокий черный колпак, с рукавом, с него веющим, и первые кидаются в ряды неприятельские.
(113) Закон запрещает мусульманам есть бесчешуйную рыбу, и оттого рыболовство у них почти неизвестно.
(114) Через пламя джаганнема (ада) для перехода в рай лежит, как лезвие сабли острый, мост эль-Сырат. – Алкоран.
(115) Зеафуры – селение по правую сторону Самбура.
(116) Почти все черкесские лошади ворочаются на передних ногах, а зад заносят. Это для нас, европейцев, очень неприятно; но туземцы гоняются не за красой, а за пользою.
(117) Мусульмане плотно завтракают часов около семи утра, а ужинают при закате солнца, – в полдень никогда не едят и считают это вредным.
(118) Абарат – необходимая вещь для путешественников по Азии: это предписание начальника округа или хана, чтобы вам давали ночлег, пищу и коней.
(119) Самое чистое серебро.
(120) Керван-сагиби – хозяин каравана; ляр – окончание множественного числа в татарском языке.
(121) Род ковров без ворсы.
(122) Дербент-наме – повествование о Дербенте, смесь нелепых басен с историческими истинами: полупоэма, полусказка, очень старинная и весьма уважаемая.
(123) Городская стена Дербента. А славная огромностью своею стена, идущая через горы, зовется Даг-бары – горная стена.
(124) Заметьте, он не говорит – твои жены, но – твои домашние, эвдакиляр.
(125) Род супу с чесноком и с лапшою.
(126) В горах часто куют не только ослов, но быков и буйволов.
(127) Беш-Бармак – приморская гора в Кубинской провинции.
(128) Гюль-шад – имя; значит роза веселая.
(129) Почти все горцы и часть горожан дагестанских держатся секты Омаровой, то есть сунни; дербентцы и бакинцы, напротив, – секты Алиевой, то есть шии, как здесь говорят – шаги, и взаимно ненавидят друг друга74.
(130) Монета в тридцать пар, около тридцати наших копеек, из весьма дурного серебра.
(131) Татары говорят вместо присягаю – пью клятву, анд ичерим. Известно, что это выражение относится к старинному, языческому обряду племен Монгольской плоской возвышенности, у которых присягающие выпускали друг у друга несколько капель крови и пили ее; при этом они еще надевали себе на голову, как утверждает один персидский писатель, юбку старой бабы и произносили: «Пусть сделаюсь презреннее этой исподницы, ежели не сдержу моего обещания!»
(132) Опиум, приготовленный шариками с душистою смолою. Употребление его не обще, но велико между азиатцами.
(133) В каждой оде (роте) янычар котел заменял знамя. Ода, потерявшая в бою котел, разбивалась по другим. Обращение котлов вверх дном всегда бывало у них знаком мятежа.
(134) Между первым и вторым звуком трубы ангела смерти протечет сорок лет. – Алкоран.
(135) Так зовут горцы славного мятежника дагестанского – Кази-муллу.
(136) В утешение господ, посылаемых в караул без очереди, я честь имею доложить, что в слове караул нет ничего христианского. Оно татарское по родословной книге и записано в статье о выходцах из Орды.
(137) Надо сказать, шииты, шаги, имеют кучу вздорных обрядов при молитвах. Здешние сунниты их отвергают. Между прочим, шииты в начале моления вкладывают большие пальцы в уши и дуют на сторону. Руки они кладут на колени; напротив, здешние сунниты складывают их под грудью.
(138) Борода Фетх-Али-шаха, недавно умершего, славилась по всей Персии; она доставала у него до пояса.
(139) Девяносто девять прозвищ Аллаха передал Магомет правоверным, но сотого невозможно узнать человеку в этой жизни: оно известно только духам-небожителям. Искание этого сотого имени – философский камень для мусульман.
(140) Есть куплет на старинном турецком языке, в котором эта мысль развита с поэтическими подробностями. Азиатцы находят ее злодейски остроумною. Для уразумения этой посточной красоты вот начертание трехбуквенного лица Гюльшады: «Ж». Я уверен, что ни один европейский ум не подозревал столько прелестей в лаконическом «живете».
(141) Чай на турецком языке значит река, и потому смешно писать: река Арпа-чай, река Гюльгори-чай. Это такой же плеоназм, как понтонный мост и тому подобное.
(142) То есть не ищи покровительства хитреца.
(143) Кстати, об имени Дербента. Дербент есть слово персидское, часто встречаемое в географии Востока, и значит застава, крепость, замыкающая ущелие или узкий проход. Оно сложено из двух персидских слов: дер – дверь и бенд – связка, замычка, скоба. Под именем Демир-капы, железных ворот, его никогда закавказцы не знали. Аравитяне называли Кавказский Дербент – Баб эль-абуаб, ворота из ворот, главные ворота, главная застава.
(144) Впрочем, кельби Али, в просторечии Кельбалай, есть мусульманское собственное имя. Один ширванский хан, генерал-майор нашей службы, его носит, и оно вовсе не доказывает, как думают многие, особенной преданности к Алию90.
(145) В Персии множество нищих с выколотыми глазами, жертв каждой политической смуты. Гьозим усти, собственно, значит на мой глаз, но это междометие должно принимать в смысле: клянусь я своими глазами в твоих повелениях!
(146) Эгри – косой.
(147) Карадаг – Черногоры.
(148) Метеги, мутии – временный брак, позволенный у шиитов, но не везде употребительный. Впрочем, и сунниты Северного Дагестана допускают его из корысти, даже с русскими. Он облечен всею законностью, но только низший класс народа занимается такою торговлею.
(149) Написанная иероглифами, будто бы Алием, обо всем, что было и будет до конца света. Поверье шиитов.
(150) Истаут, так зовут татары перец.
(151) Аллах-верды – Бог дал, обыкновенное восклицание того, кто пьет; кто подносит, говорит: «Сизин кейфиниса (На здоровье вам)» – или просто: «Яхши олсун (Да будет благо)». Искендер смеется над пьянством Юсуфа: впрочем, Аллахверды (Богдан) – обыкновенное собственное имя.
(152) с высоты птичьего полета (фр.).
(153) На некоторых главах Корана вместо обычного заголовка, бисмеле, Магомет ставит какие-нибудь две буквы арабской азбуки. Смысл их, говорил он, известен одному Аллаху, со слов которого Джебраил писал эту книгу.
(154) Уздень, uzden, – слово татарское, сложенное из двух, uz и den, сам и от, то есть от себя (зависящий), сам собою (живущий). Оно известно только в Лезгистане и напрасно присвоено русским черкесам. Это род наших инородцев. Они обязаны ханам только службою во время войны да разъездами в гонцы: другой подати не платят. Живут иногда особыми селениями; чаще рассеяны между рабами ханов, кулами, происходят первоначально от воинов, покорителей туземцев; умножены вольноотпущенными. Чем глубже в горы, тем они воинственнее, независимее и многочисленнее.
(155) Замечательно, что у татар читать и петь выражается одним и тем же глаголом, охумах.
(156) Лаваши – с лист бумаги сухие блины. Их подают при обедах вместо закуски и салфеток.
(157) Известно, что татарское письмо опускает гласные, а точки служат титлами для различения подобных букв, связи и движения речи.
(158) Пир – человек, угодный Богу делами или страданиями. У суннитов.
(159) Собрание старшин у кавказских народов, совет, суд по Корану или по преданию.
(160) Восточные женщины-мусульманки вовсе не употребляют поясов: исключения чрезвычайно редки.
(161) В наших закавказских областях так зовут рубль серебра.
(162) Фагер, собственно, значит бедняк, нищий (факир), но нередко присваивают это имя, по обещанию, странствующим в веригах дервишам (род монахов), срагеры эти – великие обманщики и тунеядцы. За Кавказом они пришельцы и редкие гости.
(163) Муллы не составляют исключительного класса и нередко занимаются торговлею, ходят на бой, водят караваны.
(164) Муфти – духовный глава суннитских мулл; муштаид, правильнее муджтегид, – то же самое для духовных Алиева исповедания.
(165) Стихи Петрова.
(166) Титло в виде двоеточия.
(167) Если невеста за ветреность подвергалась нареканию, то насмешники, при проезде мимо ее, стреляют вниз, а не вверх, как обыкновенно. Такие шутки, однако ж, редко проходят даром, и за холостой заряд подобные зоилы рискуют получить в бок заряд с приложением свинцу. Мусульманин будет хладнокровно слушать, если вы браните его мать и деда, гроб отца и его собственную колыбель; но за брань жены он держит ответ не за зубами, а за кушаком.
(168) Оджах – наш очаг, пепелище, камин (atre); в переносном смысле: семья, род, племя. У нас есть пара к этой татарской пословице: не вспоя, не вскормя, ворога не сыщешь.
(169) Деревня Русты лежит верст на восемнадцать от Кубы, в долине между хребтом и ею. Там я переменил лошадей.
(170) По дагестанской привычке, я ношу на большом пальце железное кольцо, для удобнейшего взвода тугих курков азиатского оружия.
(171) Хотя местоимение ты не считается у татар неучтивостью, но люди образованные предпочитают в разговорах с равными и высшими местоимение вы, с и з.
(172) Прошу вспомнить моих почтенных читателей, что на всем Востоке мода красить концы пальцев хенною, или, как там ее зовут, татарах пою.
(173) Надобно пояснить, что имя и слава однозначащи на татарском языке и оба выражаются одним словом ад.
(174) Буюр значит прикажите, благословите, не угодно ли, а иногда, так же как слово бали (так), значит чего изволите?
(175) Это литературная вершина (фр.).
(176) «Рая» (ит.).
(177) отец Данте (ит.).
(178) «Б» и окончание «ИЧЕ» (ит.).
(179) «Изыди, Сатана» (лат.).
(180) Settcntrional vedovo sito. Dante. «Purgatorio». (Данте. «Чистилище» (ит.).)
(181) непременное (лат.).
(182) Не вей, красавица, для меня венка или свей его из веток кипарисовых! (англ, пер. авт.).
(183) Плут попал в цель (фр.).
(184) Видеть не значит иметь (фр.).
(185) нарастания силы звука (ит.)
(186) Имя полковника Волжинского, недавно убитого в сражении с чеченцами, за беззаветную храбрость вошло за Кавказом в пословицу.
(187) Это искупительное паломничество (фр.).
(188) Примирительное паломничество (фр.).
(189) на скорую руку (фр.).
(190) Не минарет по-турецки мечетная башня, но минара.
(191) В речи своей перед Бородинским сражением.
(192) господам русским (фр.).
(193) «Не заслоняйте меня, я желаю сиять!» (фр.).
(194) Это такой народ, что обдирает мертвых дерзко и ловко, как наши модные сочинители.
(195) «Внимание, захождение по четыре направо, галопом, марш!» (фр.).
(196) Тюрьмы в Венеции.
(197) «Ну, смелее, ребята, – покажите зубы, друзья, смыкайте ряды, стой! Изрешетите-ка мне на слапу этих верзил: это горячит сердце; проваливайте, проваливайте, я вам говорю… огонь!»
(198) «огонь!» (фр.).
(199) Кто не помнит этого слуха во время Отечественной войны? Это была выдумка, но выдумка, характеризующая дух народный; она объяла всю Европу. Я видел английскую картину, изображающую прекрасную казачку, с надписью: «Miss Platoff», и внизу: «I join my heart to my father's will», то есть «Предаю сердце к воле отеческой».
(200) Капитан, полковник, генерал (фр.).
(201) моя дорогая (фр.).
(202) мой друг (фр.).
(203) В Петергофе есть беседка в виде гриба, которая нежданно обливает водой.
(204) милый человек (фр.).
(205) Так вот, Софья (фр.).
(206) «С удовольствием, сударь» (фр.).
(207) «Вы любите танцевать, сударыня?» (фр.).
(208) это настоящий фейерверк (букв, искусственный огонь) (фр.).
(209) я вижу много поддельного, но где же огонь? (фр.).
(210) Боже милостивый (фр.).
(211) итак, начинаю (фр.).
(212) «Так вкусно приготовленного можно съесть родного отца» (фр. пер. авт.).
(213) в самую глубь преисподней (фр. пер. авт.).
(214) Вероятно, с бизап-русленей. Между вант-поутингсов нередко прорезываются порты28.
(215) …И потому, когда я вижу, как люди роковым образом ищут несчастий днем с огнем и в поте лица, до последнего изнеможения, стараются создать себе вечные горести, – я готов скорее размозжить себе голову, чем допустить, что в нее придет когда-нибудь подобное желание. Уго Фосколо (ит.).
(216) О, здравое безумие! (лат.).
(217) …Так и есть… (лат.)
(218) Их называют иначе sauvetage-dogs… В Англии близ каждого опасного места лежит их множество; они, видя разбитое судно, кидаются в воду и вытаскивают утопающих; также пригоняют к берегу тюки и бочонки.
(219) Снасть для сдержки паруса.
(220) Кольцо желобком.
(221) Закрепка.
(222) Снасть сбоку паруса, удерживающая более в нем ветра.
(223) Все мачты, все дерево выше палубы.
(224) Клянусь самим дьяволом! (ит.).
(225) Тащит с якорем.
(226) Снасти, коими поддерживаются и обращаются реи.
(227) Поворотить.
(228) На морском языке есть значит да, исполнено.
(229) Плехт – один из больших якорей, даглист – немного менее.
(230) На два якоря.
(231) В кольца сложенные снасти.
(232) Веревка, на которой висит якорь.
(233) Цепь, поддерживающая якорь в горизонтальном положении.
(234) Бриг «Фальк» погиб оттого, что якорь долго висел вертикально и, качаясь, прошиб лапою скулу судна.
(235) Места, где лежат ядра.
(236) Ставни амбразур.
(237) Самые верхние части мачт.
(238) При опросе: есть ли офицер? – с шлюпки, когда в ней командир судна, отвечают именем судна. Бак – нос судна.
(239) Лестницы веревочные у передней мачты.
(240) Отправляя гребное судно на берег, условливаются взаимно о числе и месте фонарей, чтобы ночью можно было опознать и найти друг друга.
(241) Веревки для всходящих на лестницу (трап) корабля.
(242) Снасти у руля, снаружи висящие.
(243) Вервь, на которую вяжут шлюпки за кормою.
(244) Носовая основа.
(245) Снасти, коими канат прикрепляется к кольцам (рымам), вбитым в палубу. Стопор происходит от англ. глагола to stop – останавливать.
(246) Устой для крепленья канатов.
(247) Палки, которыми вращают ворот.
(248) Низ.
(249) шкаф, в котором хранится компас.
(250) То есть высмолены, от английского слова tare – смола. Тируют только стоячий такелаж.
(251) Скрепя.
(252) Розовая вода; она в большом употреблении в Азии. Это арабские слова: гюль – роза и аб – вода, су (тоже вода) – прибавляют азиатцы из невежества. У нас ее звали гуляф.
(253) Он претендует на остроумие, этот морской лев! (фр.).
(254) Да, он на него претендует! (фр.).
(255) Но на этот раз он не такой болван, каким кажется (фр.).
(256) Если вам удобно, сударь, мы проведем наше состязание в остроумии завтра после десяти часов. Предоставляю вам избрать тот язык, который вам нравится, – включая сюда язык железа и свинца. Вы, надеюсь, позволите мне доставить себе удовольствие сказать вам на пяти европейских языках, что вы наглец? (фр.).
(257) отдельного, обособленного обмена репликами (ит.).
(258) Паруса, сбоку других поднимаемые.
(259) Сплошной звон колокола, обыкновенно в полдень.
(260) То есть сбоку.
(261) Ничтожество – имя твое, женщина! Шекспир (англ.).
(262) «Через меня лежит путь в город страданий!» (ит.).
(263) за худшую причину каждой войны (лат.).
(264) «Охотник я и до женщин, – простите мне эту глупость» (англ.).
(265) Любовь дамам, честь храбрым (фр.).
(266) Бог дал! – заздравное восклицание мусульман.
(267) милый друг (ит.).
(268) дорогой мой (фр.).
(269) мой друг! (фр.).
(270) «Проспись, спящая красавица» (фр.).
(271) модистки (фр.).
(272) выродки брения и огня. (Гете) (нем. пер. авт.).
(273) «Как вы поживаете?» (фр.).
(274) «This famed capital of painted snows». «Childe Harold's pilgrimage»
«Эта знаменитая столица раскрашенных снегов». «Паломничество Чайльд Гарольда» (англ.)
(275) Задняя мачта.
(276) Наклонная, из носа выдающаяся мачта.
(277) Поручни.
(278) Два любящих сердца подобны двум магнитам: то, что движется в одном, должно так же приводить в движение и другое, ибо в обоих действует только одно – сила, которая их пронизывает. Гете (нем.).
(279)
Я измучил уста тщетным переживанием,
Теперь хочу их слить с твоими устами,
И хочу говорить лишь биением сердца,
И вздохами, и поцелуями.
И говорить так часы, дни и годы,
До конца мира и после конца мира.
Мицкевич (пол.).
(280) Под чужим именем торгующий. Слово, употребительное между купцами.
(281) «Не скажу вам точно, сударь» (фр.).
(282) «соблюдайте приличия» (фр.)
(283) «сохраняйте совесть!» (фр.).
(284) «Что за трепет» (ит.).
(285) «В полуночной тишине» (ит.).
(286) Человек истощает себя двумя действиями, выполняемыми инстинктивно, которые иссушают источники его существования. Два глагола выражают формы, в которые выливаются эти две причины смерти: желать и мочь. Бальзак (фр.).
(287) на уровне века (фр.).
(288) маринованных шинкованных овощей с пряностями (англ.).
(289) Бог (исп.).
(290) «вечно существующее Ничто» (нем.).
(291) «вечно существующее Все» (нем.).
(292) У печи.
(293) Верхний перекресток веревок на передней мачте.
(294) То есть матросов, вывертывающих воротом якорь.
(295) Так я хочу, так я приказываю, – да будет воля моим доводом! Ювенал (лат.).
(296) То есть полощутся, висят не надувшись.
(297) Техническое выражение, округлость паруса.
(298) Косые паруса.
(299) душевное расстройство (фр.).
(300) в здоровом теле здоровый дух (лат.).
(301) Вы добрый малый, достойный человек, – но хорошо запомните мою дверь, чтоб никогда в нее не входить! (фр.).
(302) Нерон утопил мать свою на галере с окном; подобные плашкоуты заменяли гильотину во время террора.
(303) Колера свирепствует в провинциях Шамахинской, Бакинской и уже в 20 верстах от Дербента. В Шамахе умирает до 40 чел. в день. Очень искусный врач г. Соловьев спас всех тамошних начальников, заболевших с семействами. Самым спасительным средством оказалось обливание водою, трение льдом и щеткою беспрестанно. Здесь умерло несколько нижних чинов с подозрительными признаками.
(304) «У меня гранитная душа, и даже порох ее не берет» (фр.).
(305) «Стой, стой!» (фр.).
(306) до-ре-ми-фа (ит.).
(307) я человек, и ничто человеческое мне не чуждо (лат.).
(308) «Махните на это рукой» (нем.).
(309) Если я это сказал, я от этого отрекаюсь (фр.).
(310) на манер «исторического повествования» госпожи Жанлис (фр.).
(311) «краю гор и потоков» (англ.).
(312) мания смягчать (фр.).
(313) указов короля об изгнании или заключении и тюрьму (фр.).
(314) «Дайте им сладости и зеркало – и они будут счастливы» (англ.).
(315) «Только мир химер и заслуживает быть населенным» (фр.).
(316) «Он заставляет думать, он заставляет сердце биться» (фр.).
(317) «Я создал историю на свой лад, возможно, для моего собственного пользования» (фр.).
(318) записные дощечки (фр.).
(319) большое спасибо (тюрк.).
(320) к праотцам (лат.).
(321) просвещенным человеком (фр.).
(322) Это мимоходом (фр.).
(323) будь здоров (лат.).
(324) В рукописи: 1833
(325) необходимого условия (лат.).
(326) Так в рукописи.
(327) Будьте здоровы (лат.).
(328) я человек! (лат.).
(329) до-ре-ми-фа – Сисмонди (ит. и фр.).
(330) Вот и все, что касается его благополучия (фр.).
(331) Естественно, что кавказские повести привлекли к себе наибольшее внимание литературоведов. Глубокое изучение творчества Бестужева кавказского периода началось с работ советских исследователей М. А. Васильева и М. П. Алексеева (см.: Васильев М. А. Декабрист А. А. Бестужев как писатель-этнограф // Научно-педагогический сборник / Восточный педагогический институт в Казани. Казань, 1926. Вып. 1. С. 65–70; Алексеев М. П. Этюды о Марлинском. Иркутск, 1928. С. 32–44). В отличие от некоторых дореволюционных ученых, утверждавших незначительность кавказского творчества Бестужева (см., например: Козубский Е. И. Памятная книжка Дагестанской области. Темир-Хан-Шура, 1895. С. 38 (раздел «Опыт библиографии Дагестанской области»)), М. П. Алексеев, изучив большой фактический материал, говорит об авторе «Аммалат-бека» как о прекрасном знатоке быта и природы Кавказа, замечательно осведомленном в наречиях и этнографии Кавказа. «О горах и горцах, – пишет М. П. Алексеев, – в частности о Дагестане, Бестужев для своего времени знал больше, чем кто-нибудь другой; свои личные впечатления, полученные им во время многочисленных походов и опасных экспедиций (например, в Табасаранские горы), он систематически и даже с некоторой долей педантизма проверял и обосновывал в чтении специальной литературы, как ни затруднительно было ее получение в глуши кавказских захолустий» (Алексеев М. П. Этюды о Марлинском. С. 32). Эти обширные знания Бестужева исследователь сумел показать, всесторонне проанализировав разнообразные источники повести «Аммалат-бек».
Идя от работ М. П. Алексеева и М. А. Васильева, В. Васильев (см.: Васильев В. Бестужев-Марлинский на Кавказе. Краснодар, 1939) и А. В. Попов (см.: Попов А. В. Русские писатели на Кавказе: А. А. Бестужев-Марлинский. Баку, 1949. Вып. 1) расширили исследование кавказского периода жизни и творчества Бестужева, главным образом, под углом зрения этнографических, краеведческих интересов ссыльного декабриста.
Следующим значительным вкладом в изучение творчества Бестужева кавказского периода явилась работа виднейшего знатока декабристской литературы В. Г. Базанова, рассматривавшего творчество Бестужева 1830-х гг. как последовательное выражение общественно-политической декабристской программы (см.: Базанов В. Г. Очерки декабристской литературы: Публицистика; Проза; Критика. М., 1953. С. 389–405,475,492 и др.). Проблемы эволюции романтизма Бестужева в 1830-е гг., жанровой природы и поэтики его кавказского творчества исследователь не касается. Эти вопросы, намеченные в ряде работ 1970-1980-х гг. (см. исследования Ю. В. Манна, Е. М. Пульхритудовой, Н. Н. Петруниной, В. 10. Троицкого, В. А. Носовой), требуют дальнейшего изучения.
(332) Известно, что Лермонтов был внимательным читателем «Аммалат-бека». Так, в юнкерском альбоме четыре рисунка являются иллюстрациями к этой повести. См.: Пахомов Н. И. Живописное наследство Лермонтова // Лит. наследство. М.-Л., 1948. Т. 45–46, кн. 2. С. 156, 176–179; ср.: Семенов Л. К вопросу о влиянии Марлинского на Лермонтова // Филол. записки. Воронеж, 1914. Вып. 5–6. С. 625–631, 637–639.
Проблема «Лермонтов и Марлинский» в нашем литературоведении решалась главным образом в плане противопоставления методов двух писателей (см., например, статью: Вацуро В. Лермонтов и Марлинский // Творчество М. Ю. Лермонтова. М., 1964. С. 341–363). Если же наши исследователи говорят о влиянии Бестужева на Лермонтова, то, как правило, торопятся оговориться, что для Бестужева характерно «только просветительское решение чисто кавказских этнографических вопросов, не поднимающихся до широких литературных проблем» (Филатова Г. В. Ранние кавказские поэмы М. 10. Лермонтова: (К вопросу о положительном герое в его творчестве) // Учен. зап. Моск. обл. пед. ин-та им. Н. К. Крупской. 1964. Т. CLII, вып. 10, С. 163).
