
В сборнике, включающем произведения более 50 авторов, русский литературный футуризм представлен как широкое, неоднородное авангардистское художественное течение. Авторы сгруппированы по реально существовавшим творческим объединениям («Гилея», «Центрифуга», «Лирень», «4Г», эгофутуристы, «Мезонин поэзии» и др.), что позволяет наметить более тонкую дифференциацию в рамках футуризма как целого. Произведения большинства публикуемых поэтов не переиздавались с 1910-х – 1920-х годов. Печатаются стихи художника П. Филонова, выдающихся филологов Р. Якобсона и В. Шкловского, текст знаменитой оперы А. Крученых «Победа над солнцем» и пр.
Воспроизведены оригинальные издания Хлебникова («Ночь в Галиции»), Маяковского («Владимир Маяковский»), выполненные П. Филоновым и Д. и В. Бурлюками, книга Филонова «Пропевень о проросли мировой» с иллюстрациями автора, стихи Н. Чернявского в авторском оформлении.
Издание снабжено биографическими справками об авторах. В Приложение включены основные программные манифесты и декларации русских футуристов.
Поэзия русского футуризма
Поэзия русского футуризма
Русскому футуризму и его отдельным представителям посвящены многие десятки исследовательских и критических работ. Львиная доля их долгое время приходилась на изучение В. Маяковского, но теперь как объект литературоведческого осмысления к Маяковскому решительно приблизился В. Хлебников, сделан прорыв и по другим направлениям. Вместе с тем и на сегодняшний день трудно назвать другое поэтическое течение в русской литературе XX века, которое подверглось бы такому же противоречивому и переменчивому освещению, как футуризм. И дело не столько в живучести тенденциозно-однобокой оценки футуризма, которая была узаконена в советском литературоведении (оценку нетрудно переменить на противоположную, по принципу «наоборот»), сколько в действительной сложности и запутанности самого явления, не поддающегося нормативным определениям даже в некоторых своих главных и вроде бы очевидных сторонах.
В настоящей статье учтены работы В. Шкловского, Р. Якобсона, Н. Харджиева, Н. Степанова, В. Перцова, 3. Паперного, В. Маркова, Р. Дуганова, В. Григорьева, А. Парниса, А. Крусанова и других исследователей, различающиеся по подходу к футуризму, и высказаны свои идеи. Задача статьи заключается в том, чтобы представить в основных чертах картину футуристического движения и показать особенности поэтики футуризма на уровне общих тенденций и, главное, на примере индивидуальных художественных решений и конкретных произведений.
В статье использованы отдельные фрагменты прежних работ автора, но в целом она написана заново, специально для настоящего тома, с учетом его состава и построения. По замыслу составителей, персональные справки-портреты должны как бы продолжить вступительную статью, сосредоточив внимание на восприятии футуристов современниками и тем конкретизируя, в лицах, живую историю движения. Некоторые важные вопросы, опущенные или едва затронутые в статье, передвинуты еще дальше – в примечания к соответствующим текстам. В свою очередь, автор справок-портретов и примечаний стремился не повторять сказанного в статье.
В марте 1910 года в сборнике «Студия импрессионистов» было напечатано стихотворение В. Хлебникова «Заклятие смехом». И почти одновременно, чуть погодя, вышел сборник «Садок судей», который принято считать началом русского футуризма как направления. В истории литературы это Садок 1, потому что позже, весной 1913 года, появился «Садок судей II».
Книга «Садок судей», по воспоминаниям одного из ее авторов, Василия Каменского, «с оглушительным грохотом разорвалась… на мирной дряхлой улице литературы»[1]. Особенного взрыва на самом деле не было, и «яркоцветная» окраска сборника для критиков вполне исчерпывалась рисунком дешевых обоев, на оборотной стороне которых сборник был напечатан. «Обойные поэты», «клоуны», «курам на смех» – уровень первых выступлений футуристов оценивался критикой как ничтожный, псевдопоэтический. А между тем «Садок судей» открывался стихами В. Каменского (среди них «Чурлю-Журль»), которые, наряду с хлебниковскими «смехачами», прокладывали один из важнейших путей футуристического творчества; представлены в сборнике Давид и Николай Бурлюки, Елена Гуро; а главное – в значительном объеме опубликован Хлебников: именно в Садке I появились ныне знаменитые «Зверинец», «Журавль» (первая половина поэмы), «Маркиза Дэзес». Это поэты, очень скоро назвавшие себя «будетлянами», «гилейцами» и вошедшие в историю литературы как кубофутуристы. В конце 1910 года (дата на обложке – 1911) выходит роман В. Каменского «Землянка» – лирическая проза, перемежаемая стихами. В 1912 году появляются первые литографированные книги футуристов, среди них «Игра в аду» А. Крученых и В. Хлебникова. А параллельно (1911) утверждает себя эгофутуризм Игоря-Северянина.
Программное значение для определения принципов кубофутуризма имел, конечно, манифест в сборнике «Пощечина общественному вкусу», сочиненный в декабре 1912 года Д. Бурлюком, А. Крученых, В. Маяковским и В Хлебниковым. За ним последовал второй – манифест в альманахе «Садок судей II» за подписью Д. и Н. Бурлюков, Е. Гуро, В. Маяковского, Е. Низен, В. Хлебникова, Б. Лившица и А. Крученых. Во втором случае авторы манифеста представляют главный поэтический состав кубофутуризма (группы «Гилея»). Отсутствует лишь В. Каменский, который после «Землянки» на время, до конца 1913 года, выключился из активной литературы, посвятив себя авиации. И Екатерина Низен, сестра Елены Гуро, выступала как прозаик, а не поэт.
Эти (и другие) коллективные заявления формулировали позицию кубофутуризма в общем виде. Конкретизацию давали индивидуальные выступления. В статьях и публичных докладах футуристов (о докладах можно судить по афишным тезисам и отчетам прессы) тоже доминировала групповая идеология. Но в них очевидны индивидуальные различия авторов и иногда, в рамках целого, моменты внутренней полемики. Статьи-декларации В… Хлебникова, А. Крученых. В. Маяковского, Д. Бурлюка и Б. Лившица теснее соприкасаются с их поэтическим творчеством и подчас могут служить конкретным комментарием к стихам.
Пик вызывающей, агрессивной активности кубофутуризма приходится на 1913 год и первую половину 1914-го, до начала Первой мировой войны. Новые коллективные и индивидуальные сборники с эпатирующими названиями («Дохлая луна», «Рыкающий Парнас», «Я!», «Взорваль», «Танго с коровами» и т. п.), постановка в Петербурге трагедии «Владимир Маяковский» и оперы А. Крученых – М. Матюшина «Победа над солнцем», прошумевшее по южным городам России турне Маяковского. Д. Бурлюка и Каменского – все это тогда воспринималось вживе, возмущало или привлекало. Футуризм стал входить в моду: новые сборники раскупались, а за Садок I – уже раритет – в 1913 году платили 50 рублей. Но футуристы не просто обратили на себя внимание – они заставили думать и говорить о себе всерьез. В спор о футуризме включились виднейшие представители тогдашней литературы. Первым был В. Брюсов: уже в марте 1913 года появилась его статья «Новейшие течения в русской поэзии. Футуристы», и в дальнейшем он неоднократно писал о футуризме, расширяя и углубляя анализ. Парадоксальным и эффектным критиком нового направления, с позиции ненависти-любви, проявил себя К. Чуковский. Долго воздерживался от печатных оценок А. Блок, но теперь мы знаем, из опубликованных свидетельств современников и записных книжек поэта, что он очень внимательно приглядывался к футуризму. Много шуму наделала оценка М. Горького («тут что-то есть…»), веско и по-разному высказались Ф. Сологуб, И. Бунин, М. Кузмин и др. За скандальной стороной футуризма стали прощупывать его возможности, намечать перспективу – художественную и историческую – в рамках целой эпохи. Мнения решительно расходились. Брюсов и Горький пытались найти в футуризме элементы новых связей с жизнью и возможности обновления искусства. Д. Мережковский, наоборот, оценил футуризм как «новый шаг Грядущего Хама», «пробу конца». Упрекая П. Струве за легковесную отмашку от футуризма («апокалиптический анекдот»), Мережковский предрекал роковое время, когда эта проба удастся, – тогда «просвещеннейший Петр Бернгардович хихикать перестанет»[2].
Отчетливой концепции кубофутуризм так и не создал. Манифесты были рассчитаны на скандальный эффект, это демарш, самореклама. Их теоретические посылки противоречивы и эклектичны. Но определенные смысловые центры в этой браваде все же проступали – с самого начала. В. Брюсов говорил о «беспомощности теоретических рассуждений футуристов»[3]. Однако он же выделял главные направления (как теперь говорят, приоритеты) футуристических интересов: «…футуризм как доктрина призывает к двум важным вещам: к воплощению в поэзии современной жизни… и к новой работе над словом»[4].
Исходным пунктом, главным условием и средством самоутверждения кубофутуристов была идея исчерпанности существовавшего до них искусства.
«Только мы – лицо нашего Времени. Рог времени трубит нами в словесном искусстве.
Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее гиероглифов.
Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода современности.
Кто не забудет своей первой любви, не узнает последней»[5].
Всем известны эти слова. Они вошли в хрестоматии, цитируются при первом упоминании о футуризме как главное свидетельство его враждебности классическим традициям.
Отрицание не ограничивалось классикой. Далее в манифесте «пощечина» отвешивалась уже и современному искусству, «всем этим Максимам Горьким, Куприным, Блокам, Соллогубам, Ремизовым, Аверчонкам, Черным. Кузьминым, Буниным и проч. и проч.» – без разбора. Совсем по-базаровски: отрицаются не только «отцы» – отрицается «все» («нужно место расчистить»). Мы еще увидим, что значил для футуристов этот принцип работы «с нуля», на чистом месте, «впервые». И какая была в этом традиция, уже традиция, идущая, между прочим, и от тех «авторитетов», которые ниспровергались.
Принципиальным и самым сложным моментом в заявке кубофутуризма является переход от ниспровержения к утвердительной части программы – это не смена признаков в определенной плоскости (антитеза), а утверждение другого угла зрения, смена методологии.
Старое, отжившее определялось футуристами (в той же «Пощечине…») через отрицательное «содержание», в эмоционально-оценочном ключе: «непонятные <почти ископаемые> гиероглифы», «парфюмерный блуд», «бумажные латы», «грязная слизь», «дача на реке», «грошовая слава». Новое, «наше» ощутимо представлено в этом ключе разве что «высотой небоскребов»; прочие определения («Новое Первое Неожиданное», «зори неведомых красот») – до банального привычные абстракции. Гораздо более веско новое заявляло себя в другом измерении, не через «содержание», а через «форму» («не что, а как»). Новое, открытое футуристами, – Самоценное (самовитое) Слово.
Оно тоже отрицает. В манифесте Садка II отрицаются привычный синтаксис, правописание, знаки препинания. Наиболее отчетливо принцип утверждения посредством отрицаний развернут Маяковским в тезисах доклада «Пришедший Сам» (1913): «1) Слово против содержания. 2) Слово против языка (литературного, академического). 3) Слово против ритма (музыкального, условного). 4) Слово против размера. 5) Слово против синтаксиса. 6) Слово против этимологии»[6]. Сплошное «против». За Самоценным Словом остается его «внутренняя жизнь», не столько даже распознаваемая и угадываемая, сколько приписываемая слову по его строению и звучанию. «Мы стали придавать содержание словам по их начертательной и фонической характеристике»[7]. – сказано в манифесте сборника «Садок судей II». «Не идея рождает слово, а слово рождает идею»[8]. Это Маяковский, статья «Два Чехова», одна из ранних попыток взгляда на литературу с формальной стороны.
Проблема «отношения к слову» и неотделимая от нее проблема содержательности формы породила в начале века острые теоретические и поэтические споры. Футуристов не устраивало слово-символ, которое в системе символизма призвано было исполнять особую, иератическую роль – открывать во временном вечное, быть эхом иных звуков, иных миров. Футуристы подчеркивали материальную, заземленную сущность слова, но свою идею они тоже доводили до предела, до противоположной крайности. Они не просто возвращали слову его вещественное значение – они само слово утверждали как реальную вещь, которую можно пощупать, препарировать, видоизменить. Только в таком качестве слово могло стать «самоценным» и «самовитым», вплоть до перехода в разряд «зауми». Параллельно с футуристами выступали акмеисты, которые тоже, по-своему, упрекали символистов за превращение слова в придаток и средство выражения религиозно-философских идей. Критики-современники почувствовали относительное сходство акмеистов и футуристов в споре с символистами. Но они крайне упрощенно оценивали акмеизм почти исключительно как возврат к «прозе» и «здравому смыслу», к предметности трехмерной действительности (отчасти в этом повинны программные статьи Н. Гумилева и С. Городецкого 1913 года; «Утро акмеизма» О. Мандельштама появилось значительно позже). И, даже негодуя по поводу грубости и примитивности футуристов, критики могли признавать их преимущество перед акмеистами в новизне и перспективности. Сегодня очевидно, что акмеизм «по Мандельштаму» исторически «позже» и символизма, и футуризма: слово по-новому обрело себя в многослойном предметном и культурном контексте, развернулась «поэтика ассоциаций» (определение Л. Я. Гинзбург), выходящая далеко за пределы сближения слов «по их начертательной и фонической характеристике», чем по преимуществу интересовались футуристы.
И все же именно футуризм, до предела заострив вопросы формы, заметно воздействовал на их активное и новое теоретическое осмысление. Сами футуристы черпали идеи из разнородных источников, в том числе культурно-исторических и лингвистических (А. Н. Афанасьев, И. П. Сахаров, А. А. Потебня, Л. В. Щерба и др.). Но кто бы решился в пору нигилистического натиска футуризма говорить о возможности его взаимного плодотворного контакта с филологической наукой, которая сама искала новых путей и при этом оставалась позитивной, «академической». В 1914 году вышла книжка В. Шкловского «Воскрешение слова». Применительно к футуристам, причем со ссылкой на самые крайние словесные эксперименты, В. Шкловский высказал мысль, казалось бы, парадоксальную во всех отношениях: «Их поэтические приемы – приемы общего языкового мышления, только вводимые ими в поэзию…»[9]. Без учета опыта футуристов не обошлись потом Московский и Пражский лингвистические кружки, ОПОЯЗ, «формальная школа» в литературоведении. Стихи будущих ученых-формалистов Р. Якобсона и В. Шкловского в настоящем издании помещены в разделе кубофутуризма по генетическому признаку.
Кубофутуризм утверждал себя в теснейшем контакте с изобразительным искусством. Именно с футуризма начинается принципиально новый этап во взаимоотношениях поэзии и живописи. Привычная связь по идее, повествовательному мотиву решительно вытесняется связью по метолу, «мастерству». Почти все поэты-кубофутуристы начинали с живописи и в той или иной мере владели ее профессиональными секретами. Они не просто признавали – они утверждали приоритет живописи в выражении современности. Ценя Ван Гога, Сезанна и фовистов как предшественников, они главную ставку делали на самую «левую» живопись – французский кубизм и итальянский футуризм (в изобразительном искусстве, не в литературе). Именно здесь находили они торжество принцип.> «сделанности», ту динамику форм и «одержимость веществом», которая должна была вытеснить из искусства отживший, по их мнению, психологизм. Первооткрыватель кубизма Пикассо был для них в этом отношении эталоном.
Но самая непосредственная творческая связь соединяла кубофутуристов с нашими, отечественными художниками, которые в чем-то зависели от Запада, в чем-то обгоняли его (беспредметная живопись), но во всяком случае имели свое лицо. Это ярко проявилось, например, в ориентации на примитив, которая характерна для художников раннего «Бубнового валета» и «Ослиного хвоста»[10] и дает прекрасный материал для сближения с поэзией кубофутуристов. Но главное опять-таки не в предметных мотивах – новое видение утверждало себя в искусстве даже и беспредметном. В книгах кубофутуристов. по большей части литографированных и рассчитанных на единство слова и изображения[11]. приняли участие многие художники (помимо самих «гилейцев» Д. Бурлюка, Е. Гуро, А. Крученых, В. Маяковского, В. Каменского, которые тоже давали рисунки или участвовали в оформлении). Это М. Ларионов, Н. Гончарова, К. Малевич, П. Филонов, О. Розанова, В. Татлин, А. Лентулов, В. Бурлюк, Н. Кульбин, Н. Альтман, В. Чекрыгин, Л. Шехтель, К. Зданевич, Н. Роговин. И. Пуни, А. Экстер и др. Их работы редко связаны с текстом как иллюстрации – чаще они имеют самостоятельный, «параллельный» характер, соответствие тексту проявляется в методе, стиле. Или другой аспект. Художники тогда сами теоретизировали. Представление о русском футуризме будет явно недостаточным без учета теоретических концепций Василия Кандинского, Казимира Малевича, Михаила Матюшина. Понятно, что рамки футуризма при этом расширяются, потому что каждый из названных художников претендовал на создание собственной глобальной системы. И, наконец, стихи, сочиненные художниками. В Давиде Бурлюке поэт и художник представлены на равных. Но к поэзии имели отношение и другие. В настоящем томе поэтические произведения Павла Филонова и Ольги Розановой в силу их ключевых особенностей отнесены, конечно же, к разделу кубофутуризма.
Добавим к этому, что кубофутуристы стремились создать свой театр, а судьба театра для них во многом зависела от набиравшего силу кинематографа. И в музыке уже намечались новые пути, соотносимые с литературно-художественным футуризмом[12]. Границы футуризма оказались неопределенными, в восприятии современников он то сужался до события местного значения (группа скандалистов-самозванцев), то расширялся до таких масштабов, что стирались привычные разграничения в искусстве. Н. Бердяев, трактуя футуризм предельно широко, как кризис искусства, связанный с разрушением «иллюзий воплощенной, материально-синтезированной красоты», включает в футуризм не только живопись Пикассо, но и роман символиста А. Белого «Петербург». Эту неопределенность усиливала и пестрота внутри футуризма, наличие в нем раз-пых, к тому же враждующих групп.
Не менее, чем кубофутуристы, претендовала на роль первооткрывателя нового направления другая футуристическая группа, возглавляемая Игорем-Северянином (И. В. Лотаревым). Именно Северянин первым в России, в 1911 году, назвал себя футуристом, прибавив к этому слову другое – «эго». Получился эгофутуризм («Я – Будущее» или «Я в Будущем»). В организованную Северянином «Академию Эго-поэзии» входили, кроме «мэтра», Константин Олимпов (К. К. Фофанов). Георгий Иванов, Грааль-Арельский (С. С. Петров), Павел Широков, Павел Кокорин, Иван Оредеж (И. С. Лукаш). Из-за внутренних распрей, главным образом между Северянином и Олимповым, «Академия» в конце 1912 года распалась. Северянин остался вне групп, Г. Иванов и Грааль-Арельский еще раньше, числясь членами северянинской группы, вступили в «Цех поэтов», где складывался акмеизм. А примкнувший к «Академии» Иван Игнатьев (И. В. Казанский) создал на ее руинах объединение «Интуитивная Ассоциация Эго-футуризм» (оно еще значится в литературе по названию основанной Игнатьевым газеты как группа «Петербургского Глашатая»). Ядро (ареопаг) «Интуитивной Ассоциации» составили И. Игнатьев, П. Широков, Василиск Гнедов, Димитрий Крючков. После самоубийства Игнатьева в январе 1914 года эгофутуризм фактически прекратил существование, хотя позже предпринималась попытка его воскресить[13].
Теория эгофутуризма незначительна. Северянин декларировал свою позицию в стихах. Специальными стихотворениями отметил он возникновение и конец («пролог» и «эпилог») своей Академии, стихами вел, после краткого союза, войну с кубофутуристами («Поэза истребления»). И новизну своей поэтики, ставя ее в прямую связь с современностью, он оценивал сам и тоже в стихах:
Теперь повсюду дирижабли
Летят, пропеллером ворча,
И ассонансы, точно сабли,
Рубнули рифму сгоряча!
Мы живы острым и мгновенным, –
Наш избалованный каприз:
Быть ледяным, но вдохновенным,
И что ни слово – то сюрприз.
Впрочем, дважды в 1912 году его группа заявляла себя листовками-манифестами. Первая подписана «ректориатом» «Академии Эго-поэзии» (И. Северянин, К. Олимпов, Г. Иванов, Грааль-Арельский), вторую, сменив название Академии на «Интуитивную школу», подписал единолично Северянин. Самым любопытным пунктом изложенной в листовках программы является утверждение «вселенского» характера эгофутуризма.
Если кубофутуристов, при всех их различиях, соединяла идея Самоценного Слова, принцип, так сказать, формальный («кубо» – от слова «кубизм»), то само название «эгофутуризм» имело другое направление, толкало к раскрытию «содержания»: что есть «Я»? Эгофутуристы стремились подвести под «восславление Эгоизма» – доминанту своей программы – некое метафизическое и «вселенское» основание. В «скрижалях» первой из листовок 1912 года выстроена на этот счет длинная цепочка определений: «1. Единица – Эгоизм. 2. Божество – Единица. 3. Человек – дробь Бога. 4. Рождение – от дробление от Вечности. 5. Жизнь – дробь вне Вечности. 6. Смерть – воздробление. 7. Человек – Эгоист»[14]. В «доктринах» второй листовки Северянин объявил «признание Эгобога (Объединение двух контрастов)» и «обрет вселенской души (Всеоправдание)»[15] Построения натужные и очень не новые. В стихах Северянина самоутверждение через «эго» осуществляется прямее и эффектнее: «Я прогремел на всю Россию / Как оскандаленный герой!», «Я покорил литературу» и т. п. До «безумного» предела (будем думать все-таки, что поэтического) довел самоутверждение К. Олимпов, объявивший себя Родителем Мироздания. И на этом иссяк, тогда как у Северянина, замечательного поэта, много других существенных качеств, включая и «всеоправдание», не в масштабах вселенской души, а в плане специфического, именно северянинского демократизма.
Теоретизировать хотели и члены «Интуитивной ассоциации» – группы И. Игнатьева. Они тоже выпустили листовку-манифест и тем же способом построения цепочки понятий выражали свой взгляд на место человека во Вселенной: «Человек – сущность. / Божество – Тень Человека в Зеркале Вселенной. / Бог – Природа. / Природа – Гипноз. / Эгоист – Ингуит. / Интуит – Медиум»[16]. Таков «игнатьевский» вариант, он отличается от «северянинского», как комментирует Игнатьев в брошюре «Эго-футуризм», наличием «энергии», «силы», «борьбы». Похоже, что относительно живой, в поэтическом смысле, момент заключается не в «силе», а в той внутренней антиномии, которая в стихах Игнатьева (опять-таки в стихах) породила роковой для него вопрос: «Почему Я – лишь „я“?».
Что касается собственно поэтики, то показательны притязания «Интуитивной ассоциации» на реформу рифмы. Игнатьев предлагал «гласные рифмы» (глаза – ее – огни – Mimi…) и «согласные рифмы» (рак – брег – их). Василиск Гнедов в манифесте «Глас о согласе и злогласе» объявил об открытой им «рифме понятий», основанной на том или ином семантическом признаке (коромысло – дуга; хрен – горчица; вода – зеркало и т. д.). Он утверждал, что дает «новую дорогу в поэзии на тысячи лет», а на деле упразднял рифму как таковую. И прославился Гнедов глобальным снятием смысла (Слова) – опубликовал цикл однострочных «поэм» под общим названием «Смерть искусству», финалом которого, в качестве «Поэмы Конца», явилась чистая страница, – это выглядело даже решительнее, чем «Черный квадрат» К. Малевича или «заумные» эксперименты А. Крученых.
Пунктом ощутимого пересечения эгофутуризма с кубофутуризмом была как раз «работа над словом» – словотворчество, и Гнедов здесь наиболее близок к «гилейцам». Но главная проблема и особенность эгофутуризма шире – она в той ставке на широкого читателя и слушателя, которую сделал Северянин. Эгофутуризм и ассоциируется прежде всего с Северянином, со всем его дореволюционным творчеством, включая периоды до и после «Академии Эгопоэзии».
«Кубо» и «эго» выступили в качестве родоначальников футуристического движения. Группы так называемого умеренного футуризма – «Мезонин поэзии» и «Центрифуга» – по времени возникновения отставали на год-полтора, не больше, но разрыв этот уже многое значил. Поэты, объединявшиеся в новые группы, опоздали к началу движения, пришли на «готовое». Стать футуристами при наличии Хлебникова, Маяковского и Северянина оказалось задачей не из простых, если, конечно, не согласиться с ролью «соратников», сателлитов, эпигонов.
Приходилось не столько сводить счеты с прежней литературой, сколько определяться по отношению к лидерам самого футуризма.
Самая деятельная фигура в «Мезонине поэзии» – Вадим Шершеневич. В его стихах футуристического периода очевидно перекрестное влияние Северянина и, по возрастающей, Маяковского. Но Шершеневича не назовешь просто эпигоном, – в структуре свободного стиха, ориентированного на разговорную интонацию, он, возможно, оказал встречное воздействие на Маяковского. Теоретическая и поэтическая позиция Шершеневича сводилась к перехвату инициативы в русле радикальной футуристической идеи. Он чуть ли не единственный представлял русский футуризм перед лицом приехавшего в Россию Ф. Т. Маринетти, перевел и издал манифесты итальянских футуристов и произведения их вождя – демонстрировал содружество, которого на деле не было. Он написал книжку о футуризме и принцип примата формы («не что, а как») закрепил в простейшей схеме поэтапного движения искусства (снабдив ее для четкости математическими знаками): «Таким образом реалистическая формула: „форма < содержания“, обращенная символистами в „форма = содержанию“, превращалась у футуристов в „форма > содержания“»[17]. И атаку на футуризм, уже с позиций имажинизма, он позже поведет под тем же флагом, обвинив футуризм в отступничестве, в измене идее: «Нам смешно, когда говорят о содержании искусства. <…> А футуризм только и делал, что за всеми своими заботами о форме, не желая отстать от Парнаса и символистов, говорил о форме, а думал только о содержании»[18].
Другой позиции в футуризме придерживался Борис Пастернак, крупнейший, как оказалось, из поэтов «Центрифуги», имевший за плечами (как, впрочем, и Шершеневич) контакты с символизмом. «Обращение» в футуризм не сопряжено у Пастернака с притязаниями на ведущую роль в новом движении, хотя он и подписал воинственную «Грамоту» – начальный манифест «Центрифуги». Не соперничество с уже определившимися лидерами футуризма, не оспаривание у них прав – Пастернаком руководило стремление быть самим собой, он очень скоро отстранился от борьбы и вообще от футуризма. Чрезвычайным событием для него был не футуризм как направление, а персонально Маяковский. По словам Пастернака, сказанным позже, в «Охранной грамоте», он пошел на сознательную ломку и «ограничение» своей поэтической манеры, дабы избежать сходства с поразившим его Маяковским. Именно в период «Центрифуги» Пастернак формирует свою «неромантическую поэтику» – основу всех его последующих поэтических открытий.
«Мезонин поэзии» существовал совсем недолго. Вся его история, заключающаяся в выпуске грех альманахов, умещается во второй половине 1913 года. Кроме В. Шершеневича, в группу входили Лев Зак, Константин Большаков, Рюрик Ивнев (М. А. Ковалев), Сергей Третьяков, Борис Лавренев. Внешний характер этого союза, где главную роль играли издательские интересы, подтверждается дальнейшей судьбой его участников: в столичном (петербургском и московском) футуризме не было другой группы, которая после распада дала бы такой расклад писательских путей по разным направлениям (см. соответствующие справки-портреты). «Мезонин» даже не выступил с групповым манифестом. Заменившие манифест статьи М. Российского (Л. Зака) «Перчатка кубофутуристам» и В. Шершеневича «Открытое письмо М. М. Россиянскому» касались единственной, хотя и главной, проблемы – отношения к слову. Оставляя логике и науке семантику слова и не удовлетворяясь кубофутуристическим восприятием слова со стороны звучания, Л. Зак и Шершеневич предлагали: первый – обогащенное ассоциативными рефлексами «слово-запах», второй – ключевую для него формулу «слово-образ», отдаленно предшествовавшую программе имажинизма.
«Центрифуга», возникшая в 1914 году, держалась дольше других футуристических групп – до начала 1920-х годов. В нее входили Сергей Бобров. Николай Асеев, Борис Пастернак, Иван Аксенов, Григорий Петников, Божидар (Б. П. Гордеев), Федор Платов, Борис Кушнер. Фактически присоединился к ней после прекращения деятельности «Мезонина поэзии» К. Большаков. Были и эпизодические участники.
Ядро «Центрифуги» сложилось загодя. С. Бобров, Н. Асеев и Б. Пастернак объединились еще до того, как примкнули к футуризму, – в группе «Лирика», сохранявшей связи с символизмом. И в «Центрифуге» они остались верны круговой поруке, которая значила для них не меньше, чем сходство творческих устремлений. Бобров, по воспоминаниям Пастернака, был заводилой в споре с другими течениями футуризма и настойчиво вовлекал в эти разборки своих друзей, которые, особенно Пастернак, по складу своему не были полемистами.
Критики отмечали, что поэтам «Центрифуги» присущи «солидная эрудиция» и «культурные поиски», но что не всегда это шло на пользу «работе над стихом». «Мне кажется, – иронизировал Г. Иванов, – что в Аксенове и Боброве пропадают почтенные методические доценты точных наук»[19].
Обозвав (в «Грамоте») своих оппонентов по футуризму «пассеистами», поэты «Центрифуги» сами куда откровеннее опирались на традиции. В. Брюсов относил Пастернака к «порубежникам», к тем, у кого «футуризм сочетается со стремлением связать свою деятельность с художественным творчеством предшествующих поколений»[20]. Почти теми же словами характеризовал Брюсов и Боброва, намекая, впрочем, на искусственность стилистических решений в его стихах, «в которых футуристичность причудливо смешивается с традициями пушкинской плеяды»[21] (Бобров и как литературовед занимался поэтами пушкинского времени, в первую очередь Н. Языковым).
Главным предметом теоретического осмысления была для поэтов «Центрифуги» лирика: ее они создавали и ее же стремились определить. Конкретнее – они решали вопрос о динамическом соотношении в пределах стихотворения тематически обозначенного целого и достаточно автономных, как бы отпочковывающихся от целого, обостренно-выразительных деталей. Трудно утверждать, но может быть, в самом названии «Центрифуга» как-то заложена эта проблема: целое – движение – составные. Бобров сформулировал понятие «лирический простор» и структурировал пространство стихотворения за счет ломки ритма, дозировки рифмы, введения в стихи разнообразных терминов (вплоть до математических). Определенную параллель ему составлял Аксенов. У Асеева важно включение в лирическую тему «посторонних» (зачастую мнимых) источников. В рецензии на итоговую для раннего Асеева книгу «Оксана» (1916) Пастернак насчитал у него пять «миров выражения» и особо выделял анахронистические варианты – романтический «тон преданья», «таинственность самоутверждающегося апокрифа»[22]. Сам Пастернак последовательно, шаг за шагом, осваивал идею целого и взаимозаменяемости его частей. Эта идея имела для него самое широкое мировоззренческое значение и преломлялась в поэтике как принцип «взаимозаменимости образов», их «движущегося языка» в объеме целой «мысли» или целой «картины» произведения. Акцент у поэтов «Центрифуги» перемещался со «слова как такового» на интонационно-ритмические и синтаксические структуры. И если опыты Боброва по большей части так и остались опытами, то у Асеева и особенно у Пастернака они привели к открытиям. Достаточно вспомнить знаменитую пастернаковскую «Метель» с неповторимой «раскачкой» ритма и, соответственно, темы. Особую организующую роль в стихах Пастернака начинает играть синтаксис, способный «держать» стихотворение, не дать ему рассыпаться хаосом разделенных, логически не связанных образов.
«Центрифуга», самая «интеллигентская» и «филологическая» из футуристических групп, составила, по существу, третье главное течение русского поэтического футуризма.
С началом мировой войны демарши футуризма резко ослабевают, футуристы ищут контакта с символистами (совместный сборник «Стрелец»), добиваются сочувственной оценки М. Горького, печатаются в посторонних изданиях. В 1915 году почти общим в критике стало мнение о конце футуризма. Декабрем 1915 года помечен альманах «Взял. Барабан футуристов» со статьей Маяковского «Капля дегтя». Маяковский утверждал, что «Футуризм мертвой хваткой ВЗЯЛ Россию», но одновременно признавал конец футуризма как этапа анархизма и разрушения старой культуры. «Да! футуризм умер как особенная группа, но во всех вас он разлит наводнением. <…> Первую часть нашей программы разрушения мы считаем завершенной. Вот почему не удивляйтесь, если сегодня в наших руках увидите вместо погремушки шута чертеж зодчего…»[23]
Программа «зодчества», жизнестроения средствами искусства развернется позже, в другую эпоху и под другим флагом (Леф 1920-х годов). И вклад футуризма в духовную и материальную культуру, его противоречивые практические результаты, выходящие далеко за пределы искусства, осознаваться будут постепенно, – этот процесс и сегодня не завершен. А пока что, на первых порах, футуризм распространялся по России эпигонскими группками, которые усвоили как раз эпатажную сторону движения – крикливое самовосхваление и раскрашенные физиономии. На таком самодеятельном уровне, подчас трудно отличимом от пародии, эпигоны футуризма заявили себя в Казани, Саратове, Харькове (не путать с харьковским издательством «Лирень» – филиалом «Центрифуги»), Ростове-на-Дону и других городах[24].
Серьезные попытки продолжить футуризм были предприняты его ветеранами после революции. В Тифлисе Алексей Крученых и Илья Зданевич образовали группу «41°» («Сорок первый градус» – по местоположению Тифлиса: 4Г северной широты). Крученых – виднейший из кубофутуристов. И. Зданевич. лишь по стечению обстоятельств оказавшийся среди подписавших манифест «Центрифуги», действовал с начала футуристического движения практически вне групп: его идея «всёчества», провозглашенная в 1913 году, противостояла им всем. Перед революцией, впрочем, И. Зданевич был связан с художественной группой «Бескровное убийство», там берет начало его драматургический цикл «аслааблИчья». Однако в истории футуризма он значится прежде всего как один из основателей и главная фигура «41°». С Крученых он был заодно в деле создания заумного искусства, и в манифесте компании «41°» (1919) заявлено, что «Компания… утверждает заумь как обязательную форму воплощения искусства»[25]. Третьей активной фигурой группы был новичок – Игорь Терентьев, который и позже, в искусстве 20-х годов, остался, наряду с Крученых, приверженцем самых крайних принципов футуризма.
Ветераны же сыграли ведущую роль в журнале «Творчество» и деятельности одноименной футуристической группы на Дальнем Востоке (Владивосток – Чита). В первом номере журнала (1920) участвовали Д. Бурлюк, Н. Асеев, С. Третьяков. Последние двое (Бурлюк уехал за границу) составили в 1921 году ядро группы «Творчество», в котором значатся также Петр Незнамов (П. В. Лежанкин), Владимир Силлов, Сергей Алымов, Венедикт Март (В. Н. Матвеев) и др. В качестве теоретика выступал Н. Чужак. (В настоящем томе Д. Бурлюк, Н. Асеев и С. Третьяков представлены в разделах, соответствующих их первой футуристической «прописке».)
Две последние группы русского футуризма, имея общую основу, направили свои усилия в разные стороны. И оба направления подводили под футуризмом определенную черту. Группа «41°» преумножала опыты по линии «не что, а как», доводя ее до предела, – создавала заумное искусство. Но как ни разнообразились эти опыты за счет тех или иных компромиссов с нормативным языком (идея «оркестровой поэзии» и другие варианты), классической реализацией принципа зауми оставалось первоначальное крученыховское «Дыр бул щыл.»[26]. Группа «Творчество» была решительна в другом отношении – она прониклась духом революционной действительности и, подобно центральным комфутам (коммунистам-футуристам), искала прямого союза с революционной властью. Это еще не идея государственного искусства, но отдаленный намек на нее. Не случайно члены «Творчества» (Н. Чужак, Н. Асеев, С. Третьяков, П. Незнамов, В. Силлов) войдут потом в круг активных участников или соратников Лефа.
Непросто было определить в настоящем томе раздел «Вне групп». Единого критерия здесь нет. Молодые одесские поэты (главный из них, понятно, Э. Багрицкий) печатали в своих альманахах произведения В. Маяковского, В. Шершеневича, С. Третьякова, но сами футуристическими признаками не отличались, за исключением Анатолия Фиолетова, фигуры достаточно загадочной. Он единственный из одесситов, кто нашел место в нашем издании.
Но в большинстве своем поэты, составившие раздел «Вне групп», имели определенные контакты с «организованным» футуризмом и сами печатались в его изданиях. Их творчество отмечено влиянием «старших» – И. Северянина, В. Шершеневича, а стихи Сергея Спасского – влиянием К. Большакова и Б. Пастернака. Любопытны и самостоятельные эксперименты. У Георгия Золотухина название «Готика» относится не столько к теме стихотворения, сколько к самому его строю. Похоже, что стихотворение намеренно выдержано в стиле «пламенеющей готики» с перетеканием деталей «от звена до звена», «пламенными языками». Это находит воплощение в изощренной и чрезвычайно интенсивной рифмовке: чуть ли не каждое слово стихотворения получает соответствующую, по большей части внутреннюю, рифму. Вообще в стихах этого раздела совмещаются элементы разных систем, стихи заведомо эклектичны, но посмотреть можно и с другой стороны: футуризм начинает растворяться в широком потоке литературы, это процесс неизбежный, и эпигонская поэзия его по-своему выражает.
Выделяются среди поэтов «вне групп» Дмитрий Петровский и, конечно, Тихон Чурилин. Первый трансформировал отдаленно родственные и в то же время разные начала футуризма, идущие от Е. Гуро и В. Хлебникова. А Чурилин, самый ранний и самый значительный из поэтов данного раздела, сразу занял особое место в поэзии. В его трактовке темы безумия была какая-то опора на Андрея Белого, но это момент проходной. У Чурилина свои слова, своя интонация, а главное – свои ритмы, которые оказали воздействие на Марину Цветаеву. Не случайно Цветаева ставила Чурилина очень высоко.
«Я и подобные мне убеждаем не метафорами, не стихами, не доводами, / Мы убеждаем тем, что существуем». Сколько раз на разные лады повторяли футуристы эти слова Уолта Уитмена из «Песни большой дороги». Стихи, понятно, не исключались, но мало сказать, что стихи футуристов выражали определенную жизненную позицию, – в них самих главную суть составляли поза, жест, поведение, стихи вели себя вызывающе даже в тех случаях, когда не были рассчитаны на эстраду. Мы пришли (я пришел), – футуристы в той или иной форме, имея на то внутреннее право или являясь всего лишь самозванцами, несли это утверждение как принцип, определяющую черту, заведомо присвоенное значение.
Они и буквально пришли – стянулись к центру со всех концов. «Буйная кобыла с черноземов России», – сказал о Давиде Бурлюке Хлебников, сам явившийся из калмыцких степей. «Вы в города обледенелые / Врываетесь из темных нив», – писал Д. Бурлюк в 1908 году о поездах, как бы предрекая то бурное нашествие провинции на столицы, которое явил собою русский футуризм. Братья Бурлюки, А. Крученых, Н. Асеев, Божидар, В. Каменский, Б. Лившиц, В. Гнедов, Д. Хлебников, В. Маяковский, И. Зданевич… Из Таврической, Херсонской, Харьковской губерний, с Урала, из Киева, Донецка, Казани, Закавказья. Разумеется, футуристами молодые провинциалы становились, за редчайшими исключениями, уже в столицах – в Москве и Петербурге. Но важно отметить саму их решительность, напор, готовность схватить и присвоить все наиновейшее, радикальное, чтобы взбудоражить застоявшиеся, «обледенелые» столицы. Применительно к Маяковскому об этом позже писал Пастернак: «Провинция не всегда отставала от столиц во вред себе. <…>…в царство танго и скетинг-рингов Маяковский вывез из глухого закавказского лесничества, где он родился, убеждение, в захолустье еще незыблемое, что просвещение в России может быть только революционным»[27].
Из видных московских футуристов уроженцами Москвы и москвичами «по складу» были трое – С. Бобров, К. Большаков. Б. Пастернак. Остальные «пришли» и соединились в Москве, городе пестром, многосоставном, конгломерате провинций. В Петербурге картина вроде бы иная: шестеро из десяти представленных в настоящем томе эгофутуристов родились в северной столице. Но петербуржцы они с существенной оговоркой и как поэты не соответствуют уже сложившемуся реноме «петербургского поэта», представленному в то время Ин. Анненским, А. Блоком, А. Ахматовой. Дело даже не в том, что, к примеру, детские и ученические годы Северянина прошли в провинции. Эгофутуристы генетически «промежуточные», потерявшие одну традицию и не приобщившиеся к другой. Северянин и Д. Крючков произошли от мещанского корня, И. Игнатьев, Грааль-Арельский и Оредеж – от крестьянского. И К. Олимпов, сын поэта К. М. Фофанова, именно через отца восходил к тем же крестьянским истокам. Внутри «интеллигентского» символизма такого рода аномалии (В. Брюсов. Ф. Сологуб) перекрывались мощью групповой идеологии и серьезностью посвящения в символизм. Состав футуризма – чрезвычайно неровный и пестрый по социальному и образовательному статусу, не говоря уже об уровне поэтического дарования. Среди законодателей поэтического футуризма оказались выходцы из чиновного дворянства (Хлебников, Маяковский), но по большей части это дети учителей, разного уровня чиновников, выходцы из мещанской и крестьянской среды (кроме названных выше – П. Филонов и А. Крученых). Самый низкий уровень образования был у эгофутуристов – Северянин и Игнатьев ограничились реальным училищем. Но около двадцати футуристов учились в университете (далеко не все окончили), причем многие предпочли юридический факультет (К. Большаков, И. Зданевич, Б. Лившиц, И. Терентьев. Оредеж. Б. Лавренев). Философское образование получил Б. Пастернак, филологическое – Н. Асеев, 8. Шкловский, Н. Бурлюк (учился и на физмате), военное – И. Аксенов. В Училище живописи, ваяния и зодчества учились Д. Бурлюк, В. Маяковский, С. Бобров, Дм. Петровский (Бурлюк и Маяковский исключены за футуризм). Художественное образование ниже рангом имели Е. Гуро, Л. Зак, А. Крученых, Ф. Платов, П. Филонов, О. Розанова.
Для чего все это приводится? Не для того, чтобы оживить «социально-классовый» подход к литературе. О «мелкобуржузной» природе футуризма говорить не будем, а вот разночинский его характер отметим и подчеркнем. И роль провинции, и раяючинский состав значили в истории футуризма гораздо больше, чем просто сумма писательских биографий. Ведущие футуристы оценивали то и другое как явления исторического и культурного значения, на концептуальном уровне.
В. Хлебников, трактуя мировую историю, необычно оценивал в ней роль центра и периферии, «победителей» и «побежденных»: «…нет творения или дела, которое выразило бы дух материка и душу побежденных туземцев, подобного „Гайавате“ Лонгфелло. Такое творение как бы передает дыхание жизни побежденных победителю. <…> Мозг земли не может быть только великорусским. Лучше, если бы он был материковым»[28]. Здесь по крайней мере два интересующих нас аспекта. Первый – это раскрытие залежавшихся, придавленных богатств, о которых забыли в великорусском центре. Известен особый интерес Хлебникова к славянской «периферии» (периферии – с точки зрения великодержавных представлений). А второй аспект, очевидный в контексте постоянных хлебниковских размышлений, – «евразийский», «материковый»: русская мысль, вкупе с «туземной» (и сама в этой связи «туземная»), протестует против духовной диктатуры Запада и – на правах «побежденного» – «передает дыхание жизни… победителю». В обоих случаях именно «периферия» оказывается плодотворной. С этих позиций Хлебников решительно выступал против вождя итальянских футуристов Маринетти. Или, прекрасно зная и ценя новую французскую живопись, воздерживался от хвалы в ее адрес. Больше он ее любил в русском варианте, обогащенную русской мыслью и русской традицией.
«Провинция» футуристов, если взглянуть широко, – Россия, хотя и, скажем так, не самая привычная из российских провинций. Это не провинция стародавних бытовых устоев (устоев не обязательно в мещанском, «окуровском» смысле, но и тех, что связаны со многими прочными, стабильными сторонами живой народной жизни). Их провинция больше состоит из исключений, это условная провинция бунтарей, самоучек-художников, изобретателей машины времени: «Эй! / Россия, / нельзя ли / чего поновее?» (В. Маяковский). В «Людях и положениях» Пастернак передает свое первое, оказавшееся устойчивым, впечатление от Маяковского 1914 года: «И мне сразу его решительность и взлохмаченная грива, которую он ерошил всей пятерней, напомнили сводный образ молодого террориста-подпольщика из Достоевского, из его младших провинциальных персонажей»[29]. Главным обвинением, которое предъявили современники футуристам, было обвинение в нигилистическом отношении к традициям. Но это тоже традиция. Первое, что сделали нигилисты-разночинцы 60-х годов прошлого века, – они отвернулись от среды, которая их породила, начали поход против «мещанства». Но они не укладывались в «женевские» веяния: слишком сами были укоренены в русской жизни, слишком истово сокрушали веру, превращая в веру само безверие. Достоевский писал антинигилистические романы, и Достоевский же связывал нигилизм с некоторыми особенностями русского национального сознания. Разночинцы прошлого века и разночинцы-футуристы века нового лишены чувства устойчивого дома – «белого дома с колоннами» или «золотой бревенчатой избы». Футуристы, в принципе, всегда в дороге, они «ничьи», и, может быть, самое простое для них – заменить слово «ничьи» другим (принадлежащим Маяковскому) – «всехние». Или «всехние» – или «ничьи».
Разумеется, Хлебников или Маяковский, больше всего подходящие под этот разряд, – исключения среди исключений. Их масштаб и их свойства не могут быть приписаны всем футуристам. В настоящем томе много слабых стихов, это осознается сразу, но исключительно на уровне непосредственного впечатления. Искусство, нацеленное на крайний эксперимент и сокрушение «правил», несет возможность больших открытий – и предоставляет простор для «новаций», имеющих мало общего с творчеством. Опытнейшие искусствоведы порою признаются, что перестают ориентироваться в неиссякаемом потоке авангардистской живописи, поскольку неясными остаются критерии, позволяющие отделить в ней истинное от поддельного. Исследователи литературного авангарда, сосредоточив внимание на том, «как это сделано», обычно тоже уходят от вопроса, хорошо это или плохо. Теоретически вопрос вряд ли разрешимый, и может быть, он вообще не научного свойства, но практически он существует, от него никуда не деться. В имидже многих футуристов не последнюю роль играло стремление возвыситься за счет целого направления, сконцентрировав его приемы и «соответствующие» ему повадки, поведение. И стоять за этим могло как наивное самоупоение, так и чувство творческой неполноценности.
В особом имидже не нуждался Хлебников, в нем и без того все было «не так, как у людей».
Елена Гуро настолько слилась с придуманной ею легендой об умершем сыне, что неловко говорить о литературной мистификации. Ее открытая лирическая манера начисто лишена и пародийного начала, очень важного в поэзии и имидже футуристов, – это ставит ее в положение особое, исключительное. И тем поразительнее внутренние токи, которые соединяли ее с самым «дичайшим» из кубофутуристов – с А. Крученых.
Автору этих строк посчастливилось в школьные годы (это было в конце 40-х) познакомиться с Василием Каменским, гостить у него в с. Троица на берегу уральской реки Сылвы. Уже неизлечимо больной, без ног, Каменский оставался источником энергии и жизнелюбия. Его поздние поэмы, особенно «Емельян Пугачев», по мастерству заметно превосходят то, что им сделано в пору прославившего его футуризма. Но и они не слишком-то впечатляют, если читать их глазами, про себя, по печатному тексту. Надо было слышать, как читал Каменский, – пел, голосил, заливался, замирал, отчеканивал ритмы, прихохатывал. Не просто манера исполнения – это было вскрытие той стихийной подосновы, подобной разливу его любимой Камы, которая лишь частично умещалась в русле печатных строк. Каменский-поэт и Каменский-авиатор (актер, охотник и т. д.) – это, в принципе, одно и то же. Не жизнь служила комментарием к стихам, а стихи были главным, но отнюдь не единственным способом реализации энтузиазма, который составлял суть, натуру этого человека, действовавшего в открытую и напоказ.
Критики не без основания сравнивали футуристов с декадентами 1890-х годов, имея в виду перекличку поэтических мотивов и эстрадные. эпатирующие способы их подачи. Вспоминали названия сборников раннего Брюсова: «Chefs d'Euvre»(«Шедервы») и «Me cum esse» («Это – я») – чем не футуризм? Футуристы, шокируя публику, пошли неизмеримо дальше, разрабатывали собственный образ, имидж, негативный по отношению к традициям. Но не все уходило в позу, в намеренно открытые приемы. Имидж – это личина и лицо одновременно. Личина демонстративно подчеркивает какие-то черты, а что-то утаивает – не исключает, а уводит в подтекст. Рассмотрим чуть подробнее, как это проявляется у поэтов, по-разному, но отчетливо озабоченных своим имиджем, – у Д. Бурлюка и Крученых, у Маяковского и Северянина.
В советском литературоведении Давид Бурлюк наряду с Крученых представлен как главное свидетельство разрушительной, нигилистической сущности футуризма, глумления над традициями. Раз за разом цитировались одни и те же строчки Бурлюка: «ПОЭЗИЯ – ИСТРЕПАННАЯ ДЕВКА / а красота кощунственная дрянь» или «„Небо – труп“!! не больше! / Звезды – черви – пьяные туманом…». И даже стихи «Каждый молод молод молод / В животе чертовский голод… / Будем лопать пустоту…» оценивались как дикарство и цинизм, обычно без указания, что это переложение А. Рембо. Совсем на отшибе оказывалась, в качестве сугубо личной оценки, сердечная характеристика Бурлюка, сделанная Маяковским («Я сам»), и практически игнорировался яркий и убедительный образ Бурлюка в «Полутораглазом стрельце» Б. Лившица.
В восприятии современников Д. Бурлюка-поэта затмевал тот же Д. Бурлюк – вызывающий художник и герой скандальных футуристических выступлений. Но поэт существовал, и как раз Б. Лившиц в своих воспоминаниях отмечает главные признаки его ранних, до 1911 года, стихов: «Их тяжеловесный архаизм, самая незавершенность их формы нравились мне своей противоположностью всему, что я делал, всему моему облику поэта, ученика Корбьера и Рембо»[30]. Уроки Корбьера и Рембо в данном контексте означают четкость и определенность формы, тогда как у Бурлюка важнее были «сдвиги» формы, непривычное взаимодействие элементов. «Незавершенность» стихов Бурлюка может и сегодня произвести впечатление профессиональной неумелости автора, но Бурлюк в дальнейшем своем развитии, после 1911 года, усвоив на свой манер тех же французских «проклятых поэтов», не уменьшил, не сгладил, а, наоборот, усилил эти «сдвиги» и «ошибки», обнажил их намеренный характер. Архаические («высокого» стиля) и подчеркнуто грубые или обиходно-прозаические слова и обороты у Бурлюка перемешиваются в едином потоке. Если при этом ломается синтаксис и снимается пунктуация, то это даже не поток, а «словесная масса». В «непрерывности словесной массы», подчеркнутой отсутствием знаков препинания, футуристы видели космическую сущность. «Погружение в стихию языка» для них – это «не архаика, а практика космологии, не допускающая для себя никакого измерения временем»[31].
Поэзия Д. Бурлюка ориентирована в основном на внешний предмет, на «показ», лирическая медитация сведена в ней до минимума, но определенные лирические мотивы проступают. Во многих стихотворениях Бурлюка, особенно ранних, эти мотивы до банального стереотипны, – какой поэт-урбанист обходился тогда без метаний героя по городу, плача на площади или «у темного угла», показа городских самоубийств – «с этажей в мостовые»? Но не это главное у Бурлюка Его система осваивает расхожий материал в более или менее пародийном ключе, что и порождает свои, особые акценты. К тому же субъект его лирики (если можно о нем говорить) редко предстает как поэт, в своей исключительности, и ценит «безликую прелесть» бытия. Моменты драматического противостояния чему-то иному, враждебному – прозе, обыденности, косным правилам жизни и т. п. – не доводятся до романтического конфликта, как у Маяковского. Стороны проникают друг друга, обнаруживают внутреннее родство, и драматическая нота угасает или уходит вглубь. Стихотворение «Какой глухой слепой старик!..», открывающее в настоящем томе подборку Бурлюка. написано в 1907 году, до всякого футуризма, но оно задает тональность подборке в целом. Можно так или иначе гадать, кто он, этот старик, но, по-видимому, ясно, что для субъекта стихотворения («я») он антипод и в то же время – свое, неотторжимое, почти двойник.
Похожую, в принципе, двойственную структуру наблюдаем в программном для Бурлюка стихотворении «Глубился в склепе, скрывался в башне…» (<1914>). Оно разворачивается поначалу в образно-стилистических нормах поэзии символистского направления (склеп, башня, УЗОР СОЗВЕЗДИЙ, отравленный фиал; скрывался, мечтал, горел, трепетал, соблазнял). Причем пародийный характер первых двух строф практически не осознается, почти не осознается, хотя он задан с самого начала оттенками глагольных значений (глубился, УЛОВЛЯЛ) и протокольностью перечисления «высоких» состояний. Такова система: не поймешь, всерьез он или издевается. Можно прочитать и всерьез. А далее третья строфа, ставшая скандально-известной и способствовавшая репутации Бурлюка – нигилиста и хулигана:
Была душа больна ПРОКАЗОЙ
О, пресмыкающийся раб,
Сатир несчастный, одноглазой,
ДОИТЕЛЬ ИЗНУРЕННЫХ ЖАБ
И ведь не вдруг появилась эта строфа – она естественно стыкуется с предшествующим стихом «высокого» стиля («Даря отравленный фиал»). Она контрастна по отношению к первым строфам в плане лексическом, но последовательно развивает тему стихотворения, привнося в нее оценочный момент: все эти башни, мечты, сгорания и есть болезнь. Движение темы акцентировано цепочкой выделенных слов: УЛОВЛЯЛ УЗОР СОЗВЕЗДИЙ НО ПРОКАЗОЙ ДОИТЕЛЬ ИЗНУРЕННЫХ ЖАБ. В таком ключе комментировал самую скандальную строчку стихотворения своего брата Николай Бурлюк: изнуренных жаб, то есть идей. Надо полагать – старых, чужих идей (ср. в другом стихотворении: «Какой позорный черный труп / На взмыленный дымящий круп / Ты взгромоздил неукротимо… / Железный груз забытых слов…»). Однако можно интерпретировать и по-другому. Подчеркнуто плотский смысл явного автопортрета Бурлюка (сатир одноглазый), а также следующее за строфой отточие провоцируют на рискованные прочтения, вплоть до скабрезно-эротического. Б. Лившиц вспоминает признание Бурлюка, что для него все женщины до девяноста лет хороши, а в другом месте, касаясь отношений Бурлюка с женщинами, намекает на возможную сексуальную аномалию. Впрямую это не может быть отнесено к разбираемому тексту, но – кто знает? – футуристы бравировали и таким образом, приоткрывая исподнее, ставили читателя в тупик или разогревали соответствующего рода фантазии. И концовка стихотворения, после отточия, удостоверяя пародийность его структуры, не вносит ясности в зыбкий характер темы – она насквозь двусмысленна и демонстративно возвращает к «высоким» образам начала: «Живи небесная жена» (небесная и жена, понятно, со строчной буквы). У Бурлюка вообще концовки часто «слабые» – банальные или нелепо-претенциозные. Логично предположить, что они намеренно «слабые» – имитирующие примитив.
Возглавив атаки футуристов на классику, Бурлюк сам в своих стихах активно осваивал русскую поэтическую традицию от поэтов XVIII века до К. Случевского, В. Брюсова и А. Белого, не говоря уже о новых французах. Осваивал особым способом. Пародийное начало, присущее его поэзии, сводило счеты с прошлым и укрепляло реноме разрушителя-нигилиста. И оно же, захватывая сферу поэтического «я», приоткрывало другую сторону поэтического сознания Бурлюка, которую в рамках его системы невозможно представить в форме прямого лирического самовыражения. Есть в поэзии Бурлюка нота самоиронии. Есть намек на рефлексию, несовместимую с обликом эстрадного Бурлюка.
Был в России поэт Давид Бурлюк. Поэт не первого разряда, но по-своему крепкий, ибо и выверты его обретают какой-то смысл в пределах продуманной и, как ни странно, уравновешенной манеры. Был Бурлюк – и даже оставил заметные следы. Это касается его словесной живописи: вслед за космическими зорями символистов пришли закаты Бурлюка (закат-маляр, закат-прохвост, закат-палач и т. д.) – их отсветы появятся у Маяковского, Пастернака и других поэтов. А самое любопытное в том, что последующая поэзия вольно или невольно подхватила (по-иному мотивируя) самые антиэстетические пассажи Бурлюка. «Была душа больна ПРОКАЗОЙ…» – так у Бурлюка. «Страданье, что сердце, что сердце в экземе!» – это Пастернак («О ангел залгавшийся, сразу бы, сразу б…»). Скандальные стихи Бурлюка: «„Небо-труп“!! не больше! / Звезды – черви – пьяные туманом». А Мандельштам? – «Нельзя дышать, и твердь кишит червями…» («Концерт на вокзале»), Бурлюк пишет: «Луна, как вша, ползет небес подкладкой…» Маяковский в «Хорошо!» дает свой вариант: «…небу в шаль / вползает солнца вша». Да, у Маяковского образ связан с темой «тифозной горячки» времен Гражданской войны, но в изобразительном плане, право же, убедительнее строчка Бурлюка.
Поэзия Д. Бурлюка при всех своих крайностях – герметична, самодостаточна. Поэзия А. Крученых открыта вовне, она поступок, жест, поза. Она рассчитана на мгновенную и активную реакцию читателя (слушателя). Такие стихи, по рекомендации самого Крученых, «читать в здравом уме воспрещается».
Самый выразительный портрет своего собрата по футуризму и одно время соавтора сделал Хлебников в стихотворении «Крученых» (1921). Оно не вошло в основное собрание настоящего тома по условиям отбора, поэтому есть смысл привести его полностью:
Лондонский маленький призрак,
Мальчишка в 30 лет, в воротничках.
Острый, задорный и юркий,
Бледного жителя серых камней
Прилепил к сибирскому зову на «чёных».
Ловко ты ловишь мысли чужие,
Чтоб довести до конца, до самоубийства.
Лицо энглиза. крепостного
Счетоводных книг,
Усталого от книги..
Юркий издатель позорящих писем,
Небритый, небрежный, коварный,
Но девичьи глаза,
Порою нежности полный.
Сплетник большой и проказа,
Выпады личные любите.
Вы очарователь<ный> писатель –
Бурлюка отрицатель<ный> двойник.
Комментарий в «Творениях» В. Хлебникова (М., 1986) поясняет, что бледный житель серых камней – это птичка крученок (каменка), сибирский зов на «чёных» – фамилии на –ых, а энглиз – англичанин. В других пояснениях стихотворение не нуждается, настолько ясны составные образа, человеческие и литературные. Правда, указано еще в комментарии, что есть пометка Хлебникова на автографе – карандашом: «Опасен».
«Я смеюн», – говорил Крученых. Современное исследование поэзии и имиджа будетлян в свете фольклорно-мифологической традиции открывает связи Крученых с разными смеховыми формами народной культуры. «Принимая на себя обязанности балагура, смеющийся постоянно должен был поддерживать свою репутацию непрекращающимися шутками, насмешками над окружающими и над собой. <…> Балагурство разрушает значения слов, коверкает их внешнюю форму. Балагур дает неверную этимологию или связывает слова, похожие лишь внешне»[32]. Все это имеет отношение к Крученых, только картинка получается совсем веселая. Между тем Д. Бурлюк свой очерк о Крученых назвал «Ядополный» и давал соответствующее о нем представление: «А. Крученых в лаборатории слова занимает целый угол – он злобен и безмерно ядовит»[33]. Крученых, конечно, вызывал смех, но смех по большей части опасливый, неприязненный, он сам это сознавал и провоцировал («костюм покроя шокинг»). И Хлебников, и позже Пастернак, и другие говорили о не прекращающемся с годами мальчишестве Крученых. Но если он мальчик, ребенок, то «злой мальчик», «испорченный ребенок». Дело не в личных достоинствах или пороках Крученых, – он бывал и удивительно нежным, заботливым, скажем, по отношению к Елене Гуро, – дело в свойствах и направлении игры, в доминирующем поэтическом мотиве. Ибо отрицание, издевка, «порча» в стихах Крученых возведены в принцип тематический, мотивный, и это придает особый акцент его эксперименту со словом.
В самом начале поэтического пути видим у Крученых два программных, как оказалось, стихотворения. Первое – «Дыр бул щыл…». эталон зауми (о ней ниже). Второе («я жрец я разленился…») – тематическое, «понятное», оно определяет параметры предметно-образного мира Крученых и составные его лирического «я». Космос Крученых складывается из грубой земной плоти («лежу и греюсь близ свиньи») и взбаламученного неба (мотив демонического «вестника», устроившего на небе «рукопашную»). В конце стихотворения эти две стороны совмещаются, обнаруживают общий «запах»: «все помню запах крылий / смешался он с свининой». К. Чуковский обозвал Крученых «свинофилом» (пародия на слово «славянофил»). Это тоже выпад. В целом стихотворение «я жрец я разленился…», как можно судить по его строю, должно звучать драматично. Но Крученых, опять-таки по правилам игры, загодя принимает клеймо «свинофила».
Раз за разом Крученых утверждал близость, даже тождество «демонического» и «подпольного». На «Первом в России вечере речетворцев» в октябре 1913 года он объявил Передонова (из «Мелкого беса» Ф. Сологуба) единственным положительным типом во всей русской литературе и аргументировал это тем, что Передонов «видел миры иные… он сошел с ума»[34]. Б. Пастернак позже, в 1925 году, писал, обращаясь к Крученых: «Ты на его (искусства. – В. А.) краю. Шаг в сторону, и ты вне его, то есть в сырой обывательщине, у которой больше причуд, чем принято думать»[35] Крученых поэт предельно чувственного, физиологического мировосприятия, что и составляло его своеобразную силу. Лучше всех сказал об этом тот же Пастернак: «По своей неуступчивости он отстает от Хлебникова или Рембо, заходивших гораздо дальше. Но и он на зависть фанатик и. отдуваясь своими боками, расплачивается звонкою строкою за материальность мира.
Чем зудесник отличается от кудесника? Тем же, чем физиология сказки от сказки.
Там, где иной просто назовет лягушку, Крученых, навсегда ошеломленный пошатыванием и вздрагиваньем сырой природы, пустится гальванизировать существительное, пока не добьется иллюзии, что у слова отрастают лапы.
Если искусство при самом своем зарождении получило от логики единицу, то именно за это движение, выдающее его с головой»[36].
Будучи продолженной, эта мысль должна обернуться другой стороной, констатацией безбожия Крученых. И Пастернак, так веско по-своему его оценивший, говорит в другом месте, что Крученых «выбрасывает» из своего лирического приема «одухотворяющую часть»[37].
Художник у Крученых (стихотворение «Смерть художника») «ищет днем с фонарем», но не человека, как Диоген, а «безобразия» – и бросается в Обводный канал потому, что мир, оказывается, «вовсе не рвотное». Крученых нередко обыгрывает разговорную метафору в каком-то крайнем из ее буквальных прочтений – получается даже не фантастическая картина, как у Маяковского, а именно не-логика шокирующего свойства. Вот стихотворение 1913 года «Отчаяние»:
из-под земли вырыть
украсть у пальца
прыгнуть сверх головы
сидя идти
стоя бежать
куда зарыть кольца
виси на петле
тихо качаясь
Оно построено на метафорах «из-под земли вырыть» и «прыгнуть сверх <выше> головы», противоположных в плане предметно-выразительном и очень близких как обозначение сверхусилия. Но в первой метафоре у Крученых проступает намек на мародерство, гробокопательство: «из-под земли вырыть / украсть у пальца <кольцо>»; а «прыгнуть сверх головы» – значит не только совершать что-то немыслимое, «выше» логики («сидя идти / стоя бежать»), но и повеситься, то есть оказаться в прямом смысле «выше» – под потолком (ср. в другом стихотворении: «умер под потолком / привинченный/к кокотной / л/а/м/п/о/ч/к/е»). В качестве моста между этими значениями выступает стих «куда зарыть кольца», он соотносится со стихом «украсть у пальца», и он же содержит в себе третью метафору – «зарыть в землю <талант, богатство, судьбу».. Стихотворение кому-то наверняка покажется всецело надуманным, но это никак не упрек для Крученых (может быть, в словах «украсть у пальца» таится и еще акцент, что-то вроде «высосать из пальца»).
Система Крученых, построенная на смысловых «сдвигах», дает и более впечатляющие результаты. В основе стихотворения «На Удельной» тоже метафора-идиома («будто гвоздь в голову вбивают»). «Перевернутая» с самого начала («Сам попросил / … / Пусть простукает нарыв»), она играет рефлексами, рождает варианты («забивают» – крышку гроба; «гвоздит» – жена). Нет смысла проставлять сравнительные оценки, но в раскрытии темы безумия, характерной для поэзии начала века, это стихотворение занимает свое место наряду со стихами Андрея Белого и Тихона Чурилина. Лирика Крученых к тому же выигрывает по сравнению с его оперой «Победа над солнцем», обозначившей веху в развитии футуризма, но поэтически малоубедительной.
На разных уровнях своей проясненности (тематической, сюжетной и т. д.) поэзия Крученых стремится к зауми как высшему пределу. Стихи 1920 года, периода «41°», – это в принципе заумь, не в границах «заумного слова», в котором перемешались первоначальные элементы (фонемы), а в составе целого стихотворения. Здесь уже слова (и обозначенные ими реалии – предметы, лица и т. д.) перемешались в «заумной», абсурдной мозаике, которая не поддается расшифровке. Последние произведения нашей подборки Крученых свидетельствуют о том, что для него не составляло труда снова «восстановить» фантастический сюжет («В полночь я заметил на своей простыне черного и твердого…») или видимую последовательность мысли («Зудивец»). Но все равно – за тем и другим стоит некое Ничто, нуль, с которого и начинается заумь. Она рождается из ощущения глобального несоответствия, в котором находятся привычная реальность и «НЕЧТО ЛУЧШЕЕ», совсем другое, узнаваемое «В ОГНЕ», в уничтожении и требующее отрицания «смысла жизни» и «бога любовьего» – традиционных ценностей и традиционной веры.
И все-таки это игра, «злая», настораживающая, отвращающая – но и увлекающая, потому что игра. Мотивы Крученых, все эти безумия и самоубийства, не могут восприниматься вполне всерьез и по-настоящему удручать по причине своей пародийности. И сам он снимает их с великолепной легкостью: «ЗАБЫЛ ПОВЕСИТЬСЯ / ЛЕЧУ К АМЕРИКАМ». Нигилизм Крученых – литературного происхождения и назначения. Он рассчитан и расчетлив. Как сказано в позднем (1942) стихотворении «Почти из Козьмы Пруткова», обращенном к Пастернаку:
Один –
беспечной нежностью <Пастернак. – В. А.>.
я ж – скрежетом возьму.
Теперь о Маяковском.
Маяковский на эстраде, в отличие от писклявого, верткого Крученых, был громогласен и эффектен. И в стихах он буквально эксплуатировал свою внешность. Природа выдала ему авансом не только исключительную одаренность, но и первое зримое удостоверение ее, исходный, так сказать, художественный образ. Он стихи кроил себе по росту и себя внутреннего, отнюдь не такого цельного и законченного, формировал по своему же (внешнему) образу и подобию.
мир огромив мощью голоса
иду красивый двадцатидвухлетний.
Бесконечные возможности эпатажа открывались в том, что этот изначальный и навсегда принятый масштаб можно было наполнить любым, самым неожиданным, содержанием, вплоть до выпадов в духе Крученых: «Лягу / светлый / в одеждах из лени / на мягкое ложе из настоящего навоза…» («Владимир Маяковский»), Но в эпатажных приемах проступали ключевые трагические темы Маяковского. Его герой – «глыба», «громадина» – оказывается в положении страдательном, «стонет, корчится». И больше, хуже – рождается главная маета и проблема, для него самого и для нескольких поколений читателей:
…какими Голиафами я зачат
такой большой
и такой ненужный.
Нужен ли Маяковский? Вопрос спровоцирован им самим, уже в ранний период перемещавшим, вопреки футуристическому «не что, а как», принцип пользы в центр эстетики.
Воспоминания А. Н. Тихонова воспроизводят момент пребывания Маяковского в 1915 году в Мустамяках, где поэт читал М. Горькому «Облако в штанах». Маяковский, пишет А. Н. Тихонов, «мог без краю вышагивать лес и, натыкаясь от восторга на сосны, орать всего „Медного всадника“.
– Ишь, какой леший! – любовно говорил о нем Горький, прислушиваясь к его завываниям. – Какой он футурист! Те головастики – по прямой линии от Тредьяковского. <…> А у этого – темперамент пророка Исайи. И по стилю похож. – „Слушайте, небеса! Внимай, земля!“ Чем не Маяковский!»[38]
Очень эффектно и в целом, по-видимому, правдиво, что подтверждается неоднократными тогдашними высказываниями Горького. Но еще существует воспоминание самого Горького о той встрече в Мустамяках – в письме к И. А. Груздеву 1930 года, и в нем подчеркнута другая сторона Маяковского, тоже хорошо знакомая Горькому и теперь усиленная известием о трагической смерти поэта. «Там он читал „Облако в штанах“, „Флейту-позвоночник“ – отрывки – и много различных лирических стихов. Стихи очень понравились мне, и читал он отлично, даже разрыдался, как женщина, чем весьма напугал и взволновал меня. Жаловался на то, что „человек делится горизонтально по диафрагме“. Когда я сказал, что – на мой взгляд – у него большое, хотя, наверное, очень тяжелое будущее и что его талант потребует огромной работы, он угрюмо ответил: „Я хочу будущего сегодня“, и еще: „Без радости – не надо мне будущего, а радости я не чувствую!“ Вел он себя очень нервозно, очевидно, был глубоко расстроен. <…> Он говорил как-то в два голоса, то – как чистейший лирик, то – резко сатирически. Чувствовалось, что он не знает себя и чего-то боится. <…> Но – было ясно: человек своеобразно чувствующий, очень талантливый и – несчастный»[39].
Сила – и бессилие. Пафос – и трагизм. Две крайние черты, две сущности раннего Маяковского. Их равноправие и нерасторжимость многократно закрепляются в едином образе – формуле героя:
Знаете что, скрипка!
Мы ужасно похожи:
я вот тоже ору –
а доказать ничего не умею!
Я – равный кандидат
и на царя вселенной
и на
кандалы…
Герой Маяковского вообще заявлен во множестве контрастных, несоединимых качеств, совместить которые в нашем восприятии может лишь понятие из романтического словаря: безмерность. Он нежнее нежных и грубее грубых, чище чистых и грешнее грешных Он «красивый» и «грязный» одновременно, призывает к мятежу и расписывается в крайнем неверии. При «вселенскости» замаха он непоправимо одинок. Критики с однозначным идеологическим подходом терялись, оправдывали, критиковали, обличали в «ошибках». Сводили все, в конечном счете, к стремлению эпатировать «буржуазно-салонный вкус» И никто не увидел того, что увидел Пастернак: «Он открыто позировал, но с такою скрытой тревогой и лихорадкой, что на его позе стояли капли холодного пота»[40]. Эта тревога и лихорадка пронизывает всю структуру «Облака в штанах», на первый взгляд такую монолитную.
«Облако» – монолог, но он направлен не к обобщенному слушателю и читателю, как сценический монолог или лирическая медитация. В каждый момент он обращен к кому-то определенному, и адресаты все время меняются. Поэт (герой) многократно обращается к тем, кто назван в поэме «вы» (и тональность каждый раз меняется), к любимой, к маме, не один раз к уличной толпе (тоже со сменой акцентов), к Северянину, Богоматери, Богу, вселенной (обращения к Богу и Богоматери в первом издании были вымараны цензурой, но и в таком варианте адресаты легко угадывались). Он проклинает, ниспровергает, призывает, умоляет, жалуется и всегда ждет, чтоб услышали, отозвались, прореагировали-даже заведомо глухие, даже враги: «Как в зажиревшее ухо втиснуть им тихое слово?» Монолог хочет перерасти в диалог, ищет отклика, результата, общения. Герой поэмы смоделирован по образцу библейских пророков, в нем есть также черты титанического и эпатирующего самоутверждения, в принципе несвойственные русской литературе; он уникален, непримирим, беспрекословен, агрессивен, – а по сути, в глубине это все то же русское стремление достучаться до всех, от лица к лицу, преодолеть расщепление, достичь утопического, всемирного преображения. На площадь, в трактирные углы, к порогу любимой герой выносит проблемы всеобщего свойства, «любви и правды чистые ученья». От «Облака» веет трагической атмосферой лермонтовского «Пророка», атмосферой русского проблемного романа-диспута (Достоевский).
Игорь-Северянин раньше Маяковского объявил себя «вселенским Хамелеоном» и стал примеривать лики прежних великих: «Был Карлом Смелым, был я Дантом, / Наполеоном и собой» («Поэза возмездия»). Главное различие сказывалось там, где оба прикасались к жизни «как она есть» – к «мещанству» и «пошлости». На площадь, к толпе они выходили с разными предложениями. Маяковский опирался на грубые понятия улицы («сволочь» и «борщ» в «Облаке в штанах»), но звал в неведомое, утопическое будущее, мыслимое по контрасту с настоящим, по принципу «наоборот», – выступал как «глашатай грядущих правд». Северянин «популярил изыски» и предлагал площади «поесть деликатного». Предлагал он своим читателям тоже в общем-то недоступные, но такие желанные, такие соблазнительные дворцы, ландо и ликеры – «мороженое из сирени» (чем не сегодняшняя реклама?). В стихотворении «Это было у моря» самый замечательный поэтический ход заключается в том, что соната Шопена превращается в «сонату пажа» – момент сюжетный, но уже и поверх сюжета, завлекательный намек, обращенный к читателю, расчет на читательское воодушевление. Тома соблазна – одна из главных в творчестве Северянина, и сама манера его – прельстительная, даже когда он касается грязи жизни. Он не скажет, как Маяковский, с позиций подчеркнутого антиэстетизма: «Все эти, провалившиеся носами, знают: / я – ваш поэт». Он сохранит дистанцию и одновременно найдет интонацию подкупающую, доверительную:
Котик милый, деточка! встань скорей на цыпочки,
Алогубы-цветики жарко протяни…
В грязной репутации хорошенько выпачкай
Имя светозарное гения в тени!..
. . . . . . . . . .
Брызгай грязью чистою в славный ореол!..
Читатели Северянина могли каждое слово принимать за чистую монету и плохо понимали другую его определяющую особенность – иронию.
По мнению Г. Шенгели, Северянин был не просто ироничен – он был демон. Г. Шенгели писал: «Игорь обладал самым демоническим умом, какой я только встречал, – это был Александр Раевский, ставший стихотворцем; и все его стихи – сплошное издевательство над всеми, и всем, и над самим собой… Игорь каждого видел насквозь, толстовской хваткой проникал в душу и всегда чувствовал себя умнее собеседника – но это ощущение неуклонно сопрягалось в нем с чувством презрения»[41].
Можно, по-видимому, усомниться, таким ли уж абсолютным было демоническое презрение Северянина. Критик Адольф Урбан, автор лучшей статьи о Северянине, показывает его, наоборот, «добрым ироником» и выносит это определение в название статьи[42]. Так или иначе – лиризм и ирония у Северянина неразделимы («я лирический ироник»), что вносит очень серьезные уточнения в пресловутый вопрос о пошлости Северянина.
Он не участвовал в глобальном натиске на мещанство, предпринятом русской литературой (словно догадываясь, какие горькие судьбы предстоят в XX веке презираемому российскому обывателю); он по-своему даже потакал невзыскательным вкусам, делая ставку на банальность (за что, кстати, его оценил А. Блок); однако нет никакого смысла считать его апологетом пошлости. Он изготавливал «товар по душе», оказался одним из главных родоначальников массовой культуры XX века, оставаясь при этом подлинным поэтом.
«И что ни слово – то сюрприз». Читателей поражали словоновшества Северянина – озерзамок, лесофея, грёзерка, окалошить, весенеют и т. д. Он бывал вызывающе «футуристичен» в постановке темы («Фиолетовый транс»). Но не меньше, чем на удивление читателя, поэтика Северянина рассчитана на узнавание, – он зорко видел, давал неожиданные, но такие понятные вдруг поэтические определения, и не в особо «ударных», а в проходных для себя, на среднем уровне стихах:
А кругом бежали сосны, идеалы равноправий,
Плыло небо, пело солнце, кувыркался ветерок;
И под шинами мотора пыль дымилась, прыгал гравий,
Совпадала с ветром птичка на дороге без дорог…
Поэтическая смелость Северянина «совпадала» со стремлением читателя к красоте экстравагантного свойства, привлекала акцентированными, очевидными и в этом смысле внешними приемами. В целом же поэзия Северянина и шире, и драматичнее. «Я трагедию жизни превращу в грёзофарс». Греза, мечта получают свойство пародийности, игра ведется не только с читателем, но и с самим собой.
Слишком часто имидж футуристов прочитывался впрямую, буквально, с соответствующими оценками: грубость, пошлость, трюкачество, нигилизм. Труднее и важнее почувствовать в нем скрытое значение, лирическое действие, внутренний сюжет. Поза есть поза, за нею всегда что-то стоит. Это «что-то» может быть пустой претенциозностью, но может нести и по-настоящему значительное содержание.
Мировоззрение футуристов не было единым. В критике его чаще всего сводят к обладавшей относительным единством позиции кубофутуристов, но и в этих пределах трудно сблизить, к примеру, Маяковского и Е. Гуро.
Общим местом и привычкой стало определять футуризм как искусство переломной, катастрофической эпохи войн и революций в России. Но именно это утверждение требует если не пересмотра, то существенного уточнения.
Размах футуризма приходится на тот самый «Девятьсот тринадцатый год», который воссоздан Анной Ахматовой в «Поэме без героя». Среди многих карнавальных масок в поэме появляется и персонаж футуристического плана – тот, кто «полосатой наряжен верстой» (желтая кофта Маяковского была с черными полосами). Наряду с другими, но таинственный, загадочный. В «Прозе о поэме» Ахматова комментирует: «Там (в поэме. – В. А.) уже все были. Демон всегда был Блоком, Верстовой Столб – Поэтом вообще, Поэтом с большой буквы (чем-то вроде Маяковского) и т. д.»[43] Весь этот карнавал, включавший представителей разных искусств и разных художественных направлений, конечно же, исполнен тревоги, но не меньше в нем игры – на грани такой свободы, когда «все можно». Об одном из героев в «Прозе о поэме» сказано: «Я сейчас не буду перечислять, что было можно ему, но если бы я это сделала, у современного читателя волосы бы стали дыбом»[44]. Это не о футуристах, это о том, кто предстает в поэме как «общий баловень и насмешник», «сам изящнейший Сатана», – о Михаиле Кузмине. В картине, нарисованной в «Поэме без героя», даже проглядывает, с оттенком осуждения, мысль, что вся эта арлекинада, апокалипсическая игра, в которой принимал участие и сам автор, имела самодостаточный характер и заслоняла реальный ужас надвигающихся событий «не календарного – настоящего Двадцатого века» («Сколько гибелей шло к поэту, / Глупый мальчик, он выбрал эту…»).
У Пастернака в «Докторе Живаго» акценты другие, но общий смысл примерно тот же. Пастернак включил оценку предвоенной поры в крут мыслей героя романа о жизни целостной и налаженной. «В этот круг, родной и привычный, входили также те признаки нового, те обещания и предвестия, которые показались на горизонте перед войной, между двенадцатым и четырнадцатым годами, в русской мысли, русском искусстве и русской судьбе, судьбе общероссийской и его собственной, живаговской»[45]. Предел этим предвестиям и надеждам положили война и революция, осознание которых составляло другой, второй круг мыслей Живаго. На смену метафорическим «страхам» искусства пришли реальные, буквальные страхи, «а это разные вещи», как говорит другой герой романа, Гордон.
Если учесть, что Пастернак, невысоко оценивая футуризм в целом, сам был ему причастен и выделял среди футуристов, помимо Маяковского, еще и Большакова, Асеева и даже Хлебникова с Крученых, то ясно, что и футуризм включался им в общую тенденцию обновления искусства, которая по-разному проявилась именно в предвоенную пору. В 1913 году появились «Опавшие листья» В. Розанова, «Уездное» Е. Замятина, начал печататься «Петербург» А. Белого.
Другое дело, что футуристы, в первую очередь кубофутуристы, в силу нигилистических свойств своего сознания «хотели» потрясений и призывали к потрясениям. Их искусство, основанное на сломе традиции, на идее исчерпанности прежней культуры, было готово, хотя бы на словах, к любому слому в самой жизни. Убежденные в том, что «каждый период жизни имеет свою словесную формулу» (слова Маяковского), они свои художественные эксперименты прямо соотносили с «ритмами» современности («нервная жизнь городов» и т. д.) и заранее примеривали к будущему. И когда происходили чрезвычайные события – война, революция, – футуристы, задним числом, объявляли себя их пророками. Маяковский в статье «Штатская шрапнель. Вравшим кистью» (1914). написанной в начале мировой войны, заявляет, обращаясь к «Репиным, Коровиным, Васнецовым»:
«Вчера еще на выставках вы брюзжали около наших картин, картин крайних левых: „Сюжетца нет, надо с натуры писать, господа, вы правды не ищете, это учебник геометрии, а не картина“.
Сегодня же попробуйте в лаптях вашей правды подойти к красоте. Даже в жизни сегодняшней нет ничего правдашнего. <…> Эй вы, списыватели, муравьиным трудом изучившие натуру, сосчитайте, сколько ног у несущейся в атаку кавалерии, нарисуйте похожей яичницу блиндированного поезда, расцапанную секундой бризантного снаряда!»[46]
Типичная для футуристов подтасовка фактов для утверждения своей пророческой роли.
На деле было так, что война, скорее, отрезвила футуристов, и не только тем. что отвлекла от них внимание публики. Война возвращала к «содержанию», к ответственной теме. И футуристы создали ряд значительных, трагически окрашенных произведений о войне. Помимо известных стихов Маяковского, Хлебникова и Пастернака, необходимо отметить произведения К. Большакова и П. Филонова.
Антивоенная «Поэма событий» К. Большакова вполне оригинальна по своему строю и особому характеру лирической темы. И в то же время побуждает к сопоставлениям: в ней есть перекличка со стихотворениями Маяковского «Война объявлена», «Мама и убитый немцами вечер», «Я и Наполеон» (концовка), как и – в свою очередь – отзвук ее отдельных мотивов, образов и рифм (Цезаря – [на] лице заря) можно обнаружить в позже написанной поэме Маяковского «Война и мир».
Интереснейшее явление искусства представляет собою книга Павла Филонова «Пропевень о проросли мировой» (так делал ударения автор). Она написана ритмизованной прозой, по внешней структуре это пьеса, а по внутреннему строю, по сути, – поэма, где все подчинено стихии языка, причудливого, тяжеловесного, почти шаманского. Это книга художника: рисунки Филонова лишь слегка соприкасаются с тематическими узлами текста, они самостоятельны, автономны, но составляют неотъемлемую часть стилистического целого.
Трудно даже и предположить, что найдется лингвист, который разложит многослойный язык Филонова по четким разрядам исторического, этимологического, словотворческого и прочих значений. Непосредственному читательскому восприятию приходится продираться сквозь эти дебри, и вознаграждением ему служит то, что в потоке странных, почти заумных слов образуются какие-то таинственные гроздья и вдруг открываются целые застройки прекрасных, «понятных» метафорических словообразов.
Ключ к методу Филонова дан в общем названии книги, состоящей из двух связанных между собою поэм. Известно, что Филонов-живописец, – правда, позже, когда он обратился к метафизической абстракции, – мог писать картину от угла, чтобы она росла и развивалась, как природный процесс, именно как «проросль мировая». В книге Филонова фольклорный сюжет о Ваньке-ключнике и княгине не просто продолжен (вторая поэма) – он, проступая пунктирно, намеками, привлекает к себе другие сюжеты, и все вместе расширяется до коллизии универсальной, на субстанциальном уровне: жизнь и смерть. Посредницей между жизнью и смертью выступает любовь, которая одновременно принадлежит обеим противоборствующим сторонам, ведет к гибели и служит залогом воскресения. В колебаниях словесной массы нарушаются границы между миром земным и загробным, смещаются сроки и имена – мифологические, исторические, культурные. Пушкинский Командор появляется не Каменным гостем, а уже «истлевшим», из могилы, где ему «корни провили грудь», и потом снова «проваливается» (пушкинское слово) в преисподнюю. С Амуром, Адамом и Каином в тексте соседствуют икс-лучи, современный газетчик и «провокатор с проплеванным лицом». Немецкий король старого времени говорит: «возжемте свеч Дьяволу Бойни железобетонной».
Именно тема войны, проходящая через весь «Пропевень…». способствует внутренней цельности произведения и определяет его нравственную и психологическую доминанту. И не так уж важно, в конечном счете, кто из «действующих лиц» в конкретном месте текста «говорит» о войне – ее вожди или ее жертвы. Акценты есть, но все произведение выдержано в принципах единого «авторского» стиля, и образ войны в нем складывается сквозной, единый, выражающий авторскую позицию.
В. Хлебников в повести «Ка» (1915) пишет: «Я встретил одного художника и спросил, пойдет ли он на войну? Он ответил: „Я тоже веду войну, только не за пространство, а за время. Я сижу в окопе и отымаю у прошлого клочок времени. Мой долг одинаково тяжел, что и у войск за пространство“. <…> Художник (помета Хлебникова: „Филонов“. – В. А.) писал пир трупов, пир мести. Мертвецы величаво и важно ели овощи, озаренные подобным лучу месяца бешенством скорби»[47].
Картина Филонова, описанная Хлебниковым, – «Пир королей» (этот мотив присутствует и в «Пропевне…»), а «война за время», которую ведет Филонов, интерпретируется в духе хлебниковских идей об искусстве с «верой 4-ех измерений». Хлебников приветствовал «Пропевень о проросли мировой» и, в частности, отмечал, что «в этой книге есть строчки, которые относятся к лучшему, что написано о войне»[48]. Очевидна близость творческих устремлений двух художников, в книге Филонова есть следы зависимости от Хлебникова («Зверинец», «Журавль», ранняя проза), а в свою очередь она, вместе с живописью Филонова, могла оказать воздействие на самого Хлебникова, его последующие произведения.
Оба, рисуя войну, обращаются к образам «первобытным»: у Филонова – «ход единорога тяжко проломный», у Хлебникова – «чудовище из меди, одетое в железный панцирь», ползущее «как ящер до потопа» («Ночь в окопе»). А главное у обоих – «натурфилософский» аспект внутри военной темы.
У Филонова в «Пропевне…» читаем:
Настала радость любовная
На немецких полях убиенные и убойцы прогнили цветоявом скот ест бабы доят люди пьют живомертвые дрожжи встает любовь жадная целует кости юношей русских в черной съедени смертной на путях Ивангорода
Подобная тема рокового круговорота, как и тема «русских юношей», проходит через целый ряд произведений Хлебникова, вызванных войной, от стихов 1915 года (в стихотворении «Где волк воскликнул кровью…»: «Правда, что юноши стали дешевле?») до поздней поэмы «Берег невольников»:
Русское мясо! Русское мясо!
Сыны!
Где вы удобрили
Пажитей прах?
Ноги это, ребра ли висят на кустах?
Разумеется, эта перекличка не ограничена взаимодействием двух художников. Сказывается длительная и широкая традиция, от «Слова о полку Игореве» до Маяковского.
Физиологическое неприятие бойни граничит у Филонова и Хлебникова с протестом против целого миропорядка. «Тесно небесной харчевне медово едою черветь», – пишет Филонов. Хлебников, используя аналогичное сравнение (харчевня – лавка), обвиняет «Спаса белых священных знамен», чьи глаза «трепыхались над лавками русского мяса» («Берег невольников»).
Но сильнее другой мотив. Филонов несет в противовес войне «нежности маленько» – «ее можно поливать распустится цветок я принес прямые глаза тебе их дам сам я стану слеп по миру пойду». Если буквально – в лицах – воспринимать драматургическую структуру произведения, то слова эти, произнесенные Ключником, обращены к «врагу» – Командору. В «Пропевне…» есть тенденция к высшему примирению. Авель, оживший на луне, «Каина руку тяжкую жмет беззлобно». И даже «живомертвые дрожжи» из прогнивших трупов – образ неоднозначный. В слове «живомертвые» равноправны оба корня: жизнь и смерть обусловливают друг друга, составляют разные стороны единого процесса («в старом саду рай перевернулся спину греть»). Не оправдание войны – скорее, причастность народному фатализму и народной вере. Авангардист с крестьянскими корнями, аскет и фанатик, Филонов сознавал себя художником народным и хотел, как сказано в поэме, «нежную дорогу выверить бабьему богу».
Хлебников мог выступать против войны очень решительно: «Мамонт наглый, жди копья!» («Девы и юноши, вспомните…»). Но и образ «тихого» подвижника, «вестника добра» – один из ликов его поэзии. А Маяковский в поэме «Война и мир» противопоставил «кровавому пиру» войны свою первую поэтическую утопию – солнечную фантазию о будущем, удивительную и загадочную по пафосу, юмору, открытости, доброте.
Искусству футуризма изначально не хватало элементарной, открытой человечности. Кажется, теперь она стала проступать – в связи с войной.
В советское время некоторые бывшие футуристы и отдельные исследователи «левого» искусства стремились представить футуризм в роли провозвестнике! революции, обновившей мир. Они даже, в данном вопросе, не совпадали с официальной идеологией, осудившей футуризм как направление мелкобуржуазное и декадентское.
С другой точки зрения, за пределами советской идеологии, связь футуризма с революцией рассматривалась в плане негативном: футуристы, по этой версии, активно содействовали разрушительному хаосу, который в конечном счете поглотил Россию. Вырисовывалась мысль о родстве художественного нигилизма с нигилизмом историческим.
Читатель настоящего издания легко убедится, что идея социальной революции в поэзии футуризма практически отсутствует. Хлебниковская тема «восстания вещей» и даже «Сарынь на кичку!» В. Каменского имеют к ней весьма отдаленное отношение. Огромным революционным потенциалом обладал единственный из лидеров футуризма – Маяковский, но это очевидно с учетом стихов, вычеркнутых цензурой из «Облака в штанах» и неизвестных дореволюционному читателю, а также в свете дальнейшего пути Маяковского. После революционных событий 1917 года футуристы должны были как-то «самоопределиться». Они и определялись, очень по-разному, и лишь немногие оказались в боевой революционной группе Маяковского. Восприятие революции Хлебниковым слишком специфично, чтобы считать его показательным для футуризма, к тому же оно вовсе не является однозначным, если учесть такие поэмы Хлебникова, как «Ночной обыск» и «Председатель чеки», а также трагическую позднюю лирику.
Бунт футуристов разворачивался в искусстве, и главный вопрос заключается в том, как он соотносим (и может ли быть соотнесен) с социально-историческими катаклизмами. У деятелей художественного авангарда XX века не было единогласия на этот счет.
Василий Кандинский стремился создать идеальную беспредметную «Композицию», он мыслил ее как повторение космоса, «грохочущее столкновение различных миров», но связывал абстрактную живопись не с социально-общественными потрясениями – скорее, с нравственной эволюцией христианства[49]. В. Шкловский в 1923 году, в пору создания Лефа, считал грубой ошибкой попытки установить эквивалент между социальной революцией и революцией в формах искусства[50]. Игорь Стравинский решительно возражал против применения к искусству самого термина «революционный», потому что искусство «конструктивно по самой своей сути», а революция обозначает «состояние смуты и насилия»[51]. Отказался признать революционность футуризма Б. Лившиц в «Полутораглазом стрельце».
Противоположная тенденция сказалась в стремлении идеологизировать форму искусства, сблизить поэтику и политику. Большую настойчивость в этом деле проявил Маяковский. Началось все с заявления по преимуществу эмоционального: «Можно не писать о войне, но надо писать войною…» (статья «Штатская шрапнель. Вравшим кистью», 1914), а привело к решительной, терминологически четкой формуле Маяковского 1918 года, в которой декларировались, в нерасторжимой связи, сразу две революции – «революция содержания (социализм-анархизм)» и «революция формы (футуризм)»[52]. В трансформированном виде эта тенденция сохранилась в позиции Лефа, и если сам Маяковский в 20-х годах смягчал формулировки, то его «последователи», наоборот, могли обострять их до крайности. Впрочем, это уже за пределами футуризма, и здесь возникают новые, на первый взгляд неожиданные, связи. Вульгарно-социологическая рапповская критика по-своему использовала методологию тех «левых», которые сближали поэтику и политику. А точнее говоря – сами «левые» этого направления дали определенный повод отплатить им той же монетой. Пришло время, и резкая формальная новизна стала оцениваться как свидетельство буржуазного индивидуализма, «контрреволюционного» по своему существу, – на той же методологической основе, но с переменой знаков.
Так или иначе, проблема «футуризм и революция» была в свое время гипертрофирована, раздута и подминала под себя другие, не менее важные проблемы.
Крайности и натяжки неизбежно возникают и тогда, когда речь заходит о связях футуризма с философской и научной мыслью эпохи. В самом начале футуризма «сумасшедший доктор» Николай Кульбин (приват-доцент Военно-медицинской академии, художник и теоретик искусства, устроитель выставок новых художников) читал специальные лекции на эту тему и самих футуристов просвещал на предмет их соответствия научно-технической революции. Позже об этом соответствии немало писали наши и зарубежные искусствоведы и литературоведы. В ряду мировоззренческих предпосылок футуристического искусства назывались концепция мирового энергетизма В. Оствальда и открытие рентгеновских лучей, рождение авиации, новые теории в психологии, лингвистике и многое другое. Философско-эстетический аспект усматривался в том. что перед художником начала века открывался потрясающий мир: материальные объекты становились проницаемыми, рушились традиционные представления о пространстве и времени, вселенная стала восприниматься как энергетическая система, и аналогом ее служил внутренний мир художника, выражающий себя в небывалых сочетаниях слов, красок, предметов, линий. Какой простор для интерпретаций необычной художественной формы! Сами футуристы (поэты и художники) могли осознавать свое формотворчество в каком угодно (космическом, метафизическом и т. д.) ключе. Они. конечно же. интересовались новейшими идеями и ориентировались на них (заумь в аспекте фрейдизма, например). Только важно при этом учитывать и другую сторону проблемы.
Небывалый мир открывался перед художниками разных направлений, никаким приоритетом и преимуществом футуристы в данном случае не обладали. Символистов Брюсова и Белого новейшие теории и открытия затронули ничуть не меньше, и символистское сознание было по-своему больше готово к их восприятию. «Астральным романом» назвал Николай Бердяев «Петербург» А. Белого и интерпретировал его как новое художественное открытие космического бытия. «У А. Белого есть лишь ему принадлежащее ощущение космического распластования и распыления, декристаллизации всех частей мира, нарушения и исчезновения всех твердо установившихся границ между предметами»[53]. Это направление анализа развито в современном литературоведении. Л. Долгополое в книге «Андрей Белый и его роман „Петербург“» (Л., 1988) строит исследование на утверждении, что Белый жил одновременно в двух измерениях, в двух мирах – в предметном, исторически-конкретном мире и в мире космическом, вневременном. Причем второй мир Белый и его персонажи воспринимают не абстрактно-мистически (сверхчувственно), а тоже чувственно, осязаемо, почти физиологически. Именно в этой прямой осязаемости «второго пространства» можно увидеть отступление Белого от ортодоксального символистского двоемирия с системой «подобий», шаг в сторону «футуристической» космогонии. Тем более что одновременно в «Петербурге» это «мозговая игра», которую ведут и автор, и герои, она обозначает себя через словесную игру (открытый прием, «остранение», как говорили формалисты), вплоть до слов-перевертней: Шишнарфне (фамилия) – Енфраншиш. Н. Бердяев и относил роман Белого к очень широко трактуемому футуризму. «Первым футуристом» считает Белого американский исследователь футуризма В. Марков.
И все же Белый оставался мистиком и символистом, не утратившим чувства изначальной тайны бытия. А искусство футуристов во многом основано на дискредитации этой изначальной тайны, на отказе от традиционной духовности, символически бравшей мир целиком, в его высшей целесообразности и полноте. Знаменитые в то время слова «материя исчезла» плохо вяжутся с искусством футуризма, которое оставалось материально-чувственным даже тогда, когда доходило до абстракции и зауми.
Н. Бердяев и кубистические вещи Пикассо интерпретировал в русле идеи дематериализации мира: «Он (Пикассо. – В. А.), как ясновидящий, смотрит через все покровы, одежды, напластования и там, в глубине материального мира, видит свои складные чудовища. Это – демонические гримасы скованных духов природы. Еще дальше пойти вглубь, и не будет уже никакой материальности, – там уже внутренний строй природы, иерархия духов. Кризис живописи как бы ведет к выходу из физической материальной плоти в иной, высший план»[54]. А кубист Пикассо потешался над людьми, открывшими в его творчестве «демонические мотивы». Он действительно «смотрел через покров» предмета, только вряд ли затем, чтобы открыть там «иерархию духов». Зная неумолимую плоскость холста, он разлагал объем предмета на этой плоскости – в надежде полнее выразить его, помогая глазу рассудком. И считал ошибкой попытки художников «изобразить невидимое, то есть неизобразимое».
У лидеров русского футуризма Хлебникова и Маяковского самые глобальные, всемирного масштаба идеи заземляются, материализуются как реальная программа на будущее, – это утопия, фантастика, но не мистика.
В системе Хлебникова центром таких построений была идея управления временем. Историческое время – процесс от прошлого к будущему – для Хлебникова безусловно существует: он это время «считал», отражал, предугадывал. И все же для Хлебникова это еще не «все» время. «Полное» время как бы устремлено (от субъекта) не в одну сторону, а в обе сразу, вперед-назад; оно будет обретено тогда, когда человек будет жить сразу во «всех» временах – в «прошлом», «настоящем», «будущем» (категории для такого измерения достаточно условные).
Когда появилась «Пощечина общественному вкусу», Брюсов в статье «Новые течения в русской поэзии, футуристы» указал на противоречие футуристов: «люди будущего» – а пишут о пещерном прошлом. Для Хлебникова противоречия не было: к будущему он шел через прошлое; его методу свойственно сводить явления к первоосновам, благодаря чему и противоположные явления находят путь друг к другу.
Идея перехода в новое измерение – во времени, а не в пространстве – является ключевой у Хлебникова. В области субъективной, биографической она откликается уверенностью, что сам он, Велимир Хлебников, уже живет в новом измерении. Однако резкие противоположения («люди времени» против «людей пространства») на деле несут у него не разрыв, а возможность новой связи. Хлебников не «отменял» пространство, он искал его новых соотношений со временем в слитной формуле «время-пространство». Он грезил искусством с «верой 4-ех измерений», которое соединит Восток и Запад, рванется в будущее и воскресит прошлое, то есть призовет на помощь будущему глубинные пласты народного творчества, как он считал, утраченные и забытые искусством в пору профессионального художества. Это искусство, может быть, уже и не искусство в собственном значении, оно вбирает самые разнообразные направления мысли и эксперимента, не заботясь о своей специфике, исключительности, но всему придавая поэтический ореол. Одновременно в разные стороны устремляется хлебниковская мысль, ища предела, однако, не в бесконечном разбегании смыслов, а в созвучии противоположных полюсов – расчета и стихии, «числа» и «зверя», ума и детства. Он само слово разлагал на простейшие смысловые элементы и возвращался назад, к «праязыку», – а в итоге ему виделось восстановление языка, универсальный язык будущего, ближайшее и необходимое условие всемирной гармонии.
В системе Хлебникова многообразные опыты анализа покрываются синтезирующей идеей. И в самом его анализе, «науке» (лингвистических и исторических изысканиях) неминуемо присутствует элемент «игры» – и вместе с ним поэзия. Его идея «культуры материка», объединения Востока и Запада имела многие и противоречивые истоки, но раньше он надышался воздухом астраханских степей, «Евразия» (как буквальный стык, граница, соединение) была домом его детства, а от детства Хлебников, очень цельный по-своему человек, не имел нужды «уходить» или отказываться. Самые поэтические страницы его автобиографических записей относятся к детству.
Художественную реальность в творчестве Хлебникова составляют образ прошлого и образ будущего в их сопряженности и относительной свободе, в их противопоставленности бескрылому «сегодня» – эмпирически-однозначной, до конца «осуществившей» себя и тем исчерпавшей «данности». «Сегодня» – это и есть «пространство», мир без четвертого измерения. С самоощущением поэта в этом «сегодня» связана трагически усиливающаяся лирическая нота в эпическом искусстве Хлебникова.
Грандиозный синтез, задуманный Хлебниковым, был рассчитан в масштабах человечества. Хлебников многое беспощадно «разъял», в надежде потом воссоединить – воссоединить на уровне универсального языка. В поисках нового синтеза он неутомимо экспериментировал, открывая, по определению Маяковского, «новые поэтические материки», но нередко при этом убивая «вещее песенное слово». Без учета сверхзадачи, которую ставил перед собою Хлебников, остается подсчитывать его «лучшие» и «плохие» стихи. Дело в общем законное (и Хлебников толкает на такую сортировку), но в то же время ненадежное и вряд ли продуктивное. В. Марков считает, что «проблема вкуса футуристов не интересовала», но они все же (Маяковский) стремились к стилистическому единству; а у Хлебникова «просто нет верной ноты. Хорошее в его творчестве всегда уживается с плохим»[55]. Наверное, так, только «вкус» и «верная нота» наделены в нашем понимании определенным значением нормы, а Хлебников – вне нормативной эстетики, и его совсем не смущает выход за пределы искусства. К тому же невозможно определить, где его поэтические «слабости» и «просчеты» происходят от засилия умозрительной идеи, а где – от наивности гениального самоучки. Про идею можно сказать – маниакальная, про наивность – юродивая, но тут-то, похоже, и вступает в дело поэзия в крайнем выражении своих аномальных свойств. И бесполезно подчеркивать, что конкретные поэтические достижения Хлебникова «не соответствуют» предполагавшемуся уровню. «Незавершенность» Хлебникова производит впечатление не фрагментарности, а бесконечности. Он оставил задел во многом и для многих – на столетия вперед, как говорил о нем О. Мандельштам. А читательское отношение к Хлебникову всегда, наверное, будет колебаться и впадать в крайности.
Здание будущего, возводимое Хлебниковым, заполнялось им плотно и пестро – натурфилософией, научными гипотезами, бытом и культурой разных эпох и т. д. Строился храм нового всеохватного разума, который в конечном счете замещал Бога. С Богом у Хлебникова сложные отношения, встречаются у него и богоборческие мотивы, но они мало затронуты романтизмом, не перерастают в прямое, лицом к лицу, единоборство с Богом. Вернее будет сказать, что религия являлась для Хлебникова одной из составных нового миропонимания, в соответствии и связи с другими составными: «Я тихо радовался, что Будда был искусен в исчислении атомов»[56].
Богоборческая линия представлена в футуризме Маяковским.
С чрезвычайной дерзостью, сравнимой разве что с дерзостью Ницше, Маяковский приписал свое самоощущение некоему человеку вообще, чудо-человеку, предтече будущего. Он не размышлял долго над местом человека в мироздании – он решительно, раз и навсегда определил это место: конечно, в центре. С поразительной быстротой, почти мгновенно, Маяковский проделал путь от первых вызывающих заявлений до глобальной идеи человека на месте Бога, идеи человекобожия, требующей пересмотра целого миропорядка. А пересмотр для него – значит переделка.
Уже в первой крупной вещи Маяковского – трагедии «Владимир Маяковский» (1913) – предпринята попытка подстановки человека на место Бога. Пока что человека-Поэта и пока что в пародийном ключе. Но уже здесь, сразу, почувствован и трагический характер такой подстановки.
В обширной критической литературе, посвященной Маяковскому, более или менее убедительно охарактеризованы главные социально значимые темы трагедии – темы «восстания вещей» и «криворотого мятежа». Отмечены и историко-литературные связи: в разное время при разборе трагедии «Владимир Маяковский» возни кали имена А. Блока, А. Белого. Л. Андреева, Е. Гуро, В. Хлебникова. Н. Евреинова. Ф. Ницше и других предшественников и современников Маяковского. В контексте нашего размышления важно отметить особенности внутренней структуры произведения, состоящей из сквозных метафорических рядов. Темы в сюжете трагедии сменяются и вытесняют друг друга, сменяются и достаточно условные персонажи, а цельность произведению придают ключевые образы и подвижные, развернутые цепи реализованных метафор. Они и делают трагедию-действие подобием слитного монолога (поэмы) и образуют некий единый «сюжет» миропонимания.
Ключевыми для раскрытия конфликтных узлов трагедии являются образы-понятия «мясо» и «вещи». Для раннего Маяковского утверждение плоти, физиологии почти равно самоутверждению жизни, ее грубого (и тем ценного) нутра: он «самому» Бурлюку не уступит в демонстративности этого утверждения: «На тарелках зализанных зал / будем жрать тебя, мясо, век!» И по меньшей мере равен Хлебникову в поэтическом оживлении «вещей», близких человеку своей реальностью, материальностью и одновременно «восстающих» против него.
Дело не ограничивается «вещами» реальными. «Метафизика» Маяковского приобретает в трагедии «нечеловечий простор», вселенский масштаб. И. при всей своей стихийности и необузданности, поэтически, структурно она очень четко «выдержана», организована.
Уже в прологе трагедии высказана идея роковой и обидной неправоты мироздания. Скука, мука, несправедливость, рабство – таков мир, который наличествует.
Небо плачет
безудержно,
звонко;
а у облачка
гримаска на морщинке ротика,
как будто женщина ждала ребенка,
а Бог ей кинул кривого идиотка[57].
Этому миру противопоставлен другой, который будет, к которому ведет Поэт – «царь ламп». Лампы вытеснят назойливое солнце; сильные души, «гудящие как фонарные дуги», придут на смену душам рабским и бездеятельным. Посулы Поэта великолепны и щедры:
Я вам только головы пальцами трону, и у вас
вырастут губы
для огромных поцелуев
и язык
родной всем народам.
А я, прихрамывая душонкой,
уйду к моему трону
с дырами звезд по истертым сводам.
Трон посреди вселенной – трон Бога? Нет, конечно: «с дырами звезд по истертым сводам» – бутафорская вселенная шута. Действие в трагедии построено по законам циркового представления. Этим во многом объясняется нелогичность его хода: в цирке можно есть жестяную рыбу, шить юбку из ничего («из души») и нести слезы в чемодане. Однако цирк в трагедии – это образ мира, не-логика циркового зрелища поднята до высоты трагической мысли о мироустройстве (позже в поэме «Человек»: «величественная бутафория миров»).
В приведенных строфах заявлены образы-мотивы, которые, видоизменяясь и взаимодействуя, пройдут через все произведение: небо – Бог – женщина (первый образный ряд) и поцелуи – плевки – поцелуи.
«Небо плачет безудержно, звонко…» Образ развивается как типичная для Маяковского реализованная метафора, осложненная сравнением: небо (облачко) плачет, как женщина. Если женщина реально предполагается, то, конечно же, здесь, на земле. А если кто-то есть на небе, то, по-видимому, Бог.
Синонимическое единство небо – Бог подтверждено в начале первого действия Стариком с кошками: «А с неба на вой человечьей орды / глядит обезумевший <Бог>». Бога следует «бросить» (как квартиры, как вещи!), и в том же монологе Старика возникает образ новой, будущей «очеловеченной» вселенной: «Мы солнца приколем любимым на платье, / из звезд накуем серебрящихся брошек».
«Это – правда!» – подхватывает Человек без уха. Но что правда?
Это – правда!
Над городом,
– где флюгеров древки –
женщина
– черные пещеры век –
мечется,
кидает на тротуары плевки;
а плевки вырастают в огромных калек.
В исходном образе произошла разительная подстановка, подмена. Женщина, прежде обиженная Богом («Бог ей кинул кривого идиотика»), теперь сама – как мироправительница? или вавилонская блудница? – занимает место Бога, «над городом» (ср. стихотворение Блока «Невидимка»). Теперь она «кидает плевки», вырастающие в «огромных калек». То, что раньше было сравнением (облачко – как женщина), становится фантастической реальностью содержания.
Образные ряды трагедии стремятся к слиянию, концентрации. Оживает забытый мотив поцелуев – тоже в новом, гротескном качестве: «Ваши женщины не умеют любить, / они от поцелуев распухли, как губки». Назревает тождество: плевки – поцелуи. Во втором действии и оно становится реальностью. В монологе Человека с двумя поцелуями поцелуи занимают место плевков – в том же сюжете чудовищного «деторождения» («И вдруг / у поцелуя выросли ушки, / он стал вертеться, / тоненьким голосочком крикнул: / „Мамочку!“»). Более того, сюда же оказывается подключенным образный ряд «вещей»: поцелуй используется как калоша, и налаживается «выделывание», механизация поцелуев (плевков-поцелуев), женщина превращается в фабрику, «первая» природа («мясо») – во «вторую» («рычаги»). По нескольким направлениям сразу происходит мифологизация женщины как выражения плотской природы мира (еще при отсутствии открытой любовной темы, которая появится в «Облаке в штанах»).
Здесь опущены многие другие звенья метафорической постройки произведения. Важно подчеркнуть главное. В трагедии «Владимир Маяковский» конструируется «предметный», «физиологический» космос Маяковского, соединяющий «мясо» и «вещи» («первую» и «вторую» природу), «над» и «под» (небо и землю), «плевки» и «поцелуи». Чудовищным Содомом оборачиваются щедрые, приравненные к деянию Бога, посулы Поэта в прологе: «Я вам только головы пальцами трону…» Пародийный характер подстановки Поэта на место Бога не снижает сложности проблемы. В «Облаке в штанах» Маяковский поведет атаку на Бога «в открытую», в «Человеке» снова вернется к пародии. И во всех случаях в его позиции останется двойственность, незавершенность.
Глубоко трагедийно внутренне само богоборчество Маяковского. Поставив себя на место Бога, человек у него берет ответственность за весь миропорядок, за саму природу (за жизнь и смерть). Но если он безбожник, то все его обличения, бросаемые Богу как символу миропорядка, идут, в сущности, по другому адресу. Ближайший адрес социальный, и Бога скоро заменит Повелитель Всего (всемирный буржуй). Однако лирически бунт Маяковского шире, он захватывает, вольно или невольно, и самый «физиологический космос», ту единственную, реально чувствуемую вселенную, которую поэт утверждает.
И другая, «встречная» тенденция. Стремясь перерешить мировой вопрос, богоборчество предполагает иной, вне Бога, однако не менее всеохватный смысл. Маяковский ниспровергает Бога, но при этом сохраняет «память» о Боге, она заключена в масштабе и характере самой мысли, в привычке искать непременный центр бытия, добиваться последнего, всеобъясняющего ответа. Поэтическое сознание Маяковского самой структурой своей близко религиозному. Это, кстати, прекрасно понимал в нем Пастернак: «У него множество аналогий с каноническими представлениями, скрытых и подчеркнутых. Они призывали к огромности, требовали сильных рук и воспитывали смелость поэта»[58].
Внутренние противоречия богоборчества Маяковского субъективно для него могли быть разрешены только в русле глобальной идеи переделки мира, идеи рукотворного космоса. Эта идея явилась важнейшей поэтической предпосылкой революционности Маяковского (придет время, и он Ленина примет как реальное Пришествие, «революции и сына и отца», Суд и Спасение).
С трагедией «Владимир Маяковский» по скандальности сценического эффекта (спектакли в петербургском Луна-парке в декабре 1913 года) вполне сопоставима «опера» А. Крученых «Победа над солнцем», хотя в литературном отношении эти произведения далеко не равноценны.
В них много сходного, даже общего – главные аспекты темы, двухчастная композиция, конкретные образы и детали. Но раскрытие темы осуществляется по-разному: у Маяковского содержание концентрируется в образе Поэта, лирического героя произведения, у Крученых оно «распределено» по персонажам, условным, но выражающим разные значения и требующим определения.
Своего рода парадокс заключается в том, что пьеса Крученых, гораздо более абстрактная и «заумная», чем трагедия-поэма Маяковского, в то же время «читается» в своих главных направлениях намного легче. Крученых в позднейших воспоминаниях (1960) прокомментировал заглавную тему «Победы над солнцем» в аспектах эстетическом (полемика с символистами) и социальном (солнце – власть золота), а кроме того – выделил космический аспект. Он стремился представить свое произведение как пророческое и растолковывал его логически, очень определенно. «Если в 1913 г. „Победа над солнцем“ рассматривалась как фантастическое сумасбродство, то теперь вопросы космоса поставлены на научную основу и в опере несущие солнце (таки поймали это светило!) говорят:
корни его пропахли арифметикой,
то есть, если смотреть в корень, то овладение космосом это наука, где математика одна из главных <…>. В опере нет плавно плетущегося сюжета, он развивается резкими скачками: тут и Летчик с упавшим аэропланом, летавшим по этому заданию, и будетлянские силачи, и необыкновенные высотные здания с запутанными ходами и выходами, и оплакивающие солнце дельцы (хор похоронщиков), и черные боги дикарей (в пику золотому идолу), которым поется гимн. Заодно уж и их любимице свинье, как читал и напечатал я в своих книгах…»[59]
Но и ближайшим современникам (зрителям) ничего не оставалось, кроме как попытаться перевести футуристический «бред» на язык общезначимых идей, которые тогда носились в воздухе (см. комментарий к «Победе над солнцем»). И не так уж трудно было, по-видимому, отделить Путешественника, Летчика, Силачей и Спортсменов от Толстяка или Трусов.
В отличие от Маяковского, Крученых изгоняет из своей «оперы» лирику и психологию. Среди персонажей нет ни одной женщины, «женская» тема исключена намеренно: «Толстых красавиц / Мы заперли в дом / Пусть там пьяницы / Ходят разные нагишом / Нет у нас песен / Вздохов наград / Что тешили плесень / Тухлых наяд!» Здесь «все стало мужским»: не страна, а «стран», не озеро, а «озер». Идут чисто мужские игры. Отметим, кстати, – кроме войны. Пушки уничтожаются, «меч» заменяется «мячом», и демонстрируются приемы футбола.
Не все, конечно, у Крученых так просто дешифруется. Есть в «Победе над солнцем» мотивы, которые могли бы, в другой системе, прозвучать очень драматично. Новый мир, к которому ведут «страшные» и «сильные» будетляне, сам из себя, будучи достигнут, порождает противоречие:
«новые: мы выстрелили впрошлое трус: что же осталось что-нибудь?
– ни следа
– глубока ли пустота?
– проветривает весь город. Всем стало легко дышать и многие не знают что с собой делать от чрезвычайной легкости. Некоторые пытались утопиться, слабые сходили с ума, говоря: ведь мы можем стать страшными и сильными.
Это их тяготило».
У Маяковского намерение Поэта изменить мир зашло в тупик, и это усугубляет трагизм. Тема Маяковского – страдание, в его трагедии «слезы» составляют еще один образный ряд. У Крученых промывка мира «пустотой», возвращение к исходному нулю при наличии неиссякаемой, деятельной «силы» – это не страшно, скорее даже благо. «Победа над солнцем» начинается с декларации будетлянских силачей: «Все хорошо, что хорошо начинается! <…> А кончается? <…> Конца не будет». И завершается произведение теми же словами тех же силачей в усиленном варианте: «все хорошо, что / хорошо начинается / и не имеет конца / мир погибнет а нам нет / конца!» Все сначала, с нуля, всегда с нуля, «без раскаяния и воспоминаний». Крайнее выражение крайней формулы футуризма. Но еще, как ни странно, лирика, характерный крученыховский жест, отмашка от проблемы (вспомним: «ЗАБЫЛ ПОВЕСИТЬСЯ / ЛЕЧУ К АМЕРИКАМ»).
В богоборчестве Маяковского – проблема теодицеи, необходимость и (для него) невозможность богооправдания. Близко к классическому: «Не Бога я отрицаю, Алеша, а мира, им созданного, не принимаю», – бунт Ивана Карамазова.
По остроте переживания страдания не уступает Маяковскому Е. Гуро, но решение у нее другое, противоположное. Ей даже Бога не надо называть, настолько уверовала она, страдальчески и высоко, в благодать, растворенную в мире: «И наклоняли чашу неба для всех – и все пили, и неба не убавилось»[60].
Зато в стихах эгофутуриста И. Игнатьева, претендующих на сложное метафизическое содержание, – сплошные «почему?»:
Почему Я не арочный сквозь?
Почему плен Судьбы?
Почему не средьмирная Ось.
А Средьмирье Борьбы?
Почему не рождая рожду?..
Умираю живя?
Почему Оживая умру?
Почему Я лишь «я»?
Брюсов сравнил Игнатьева с Ф. Сологубом и, конечно, отдал предпочтение Сологубу. Будучи одним из славнейших символистов. Сологуб вместе с тем отступал от объективной для символистов высшей реальности (поэтических модификаций Мировой Души) в творимый им самим субъективный мир (сологубовский «солипсизм»): «Я бог таинственного мира, / Весь мир в одних моих мечтах, / Не сотворю себе кумира / Ни на земле, ни в небесах». Можно сказать, что он покушался на святая святых символизма – на Вечность. В пору кризиса символизма и появления новых поэтических течений несовместимость метафизической Вечности и отдельного человеческого «я», нужда в замене Вечности чем-то более ощутимым сказались с неизбежной очевидностью. Когда молодой Мандельштам написал: «Не говорите мне о вечности – / Я не могу ее вместить», – он тем самым готовил фундамент для построек своего «Камня», призванных заполнить и «организовать» мировую пустоту («Камень», кстати, появился в том же достославном 1913 году). Игнатьев застыл на развилке, на умозрительной фиксации расколотого самоощущения «я».
Относительное лирическое напряжение стихам Игнатьева придает то, что на вопросы, так настойчиво, «в лоб» задаваемые им, нет и не может быть прямого ответа. Нагромождение прописных букв, футуристические словоновшества вперемежку с Тайнами и Судьбой. «дерзкие» образы-выпады («…Бросив в Снеготаялку Любовь») намечают «фактуру» стиха неровную, бугристую, и это может впечатлять. Но все в общем сводится у Игнатьева к тавтологическим, чисто словесным антиномиям («покорный воинственно», «множественный один», «Проклятьем молитвенны» и т. д.), к обратимости смысловых значений («Почему Безначальность страшит / Бесконечность Конца?»). И как-то не возникает нужды в серьезных сопоставлениях – ни с пафосными державинскими антиномиями, ни с контрастными воплощениями героя Маяковского.
Футуристы от рефлексии уходили в действие, в событие. С риском впасть в кощунство можно сказать, что у Игнатьева трагическое событие составило постскриптум к стихам. И богоборцем его сделал Хлебников – в четверостишии, которое вызвано самоубийством Игнатьева и написано от его лица:
И на путь меж звезд морозных
Полечу я не с молитвой,
Полечу я мертвый, грозный,
С окровавленною бритвой.
Связь с художественными традициями очевидна у футуристов в пределах их наиболее «ударных», ультрасовременных тем, например, показе города. Н. Харджиев передает свидетельство А. Крученых, то в 1912–1913 годах в кругу футуристов наизусть повторяли из гоголевского «Невского проспекта» то место, где город «участвует» потрясении героя повести – художника Пискарева: «Тротуар несся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась к нему навстречу и алебарда часового вместе с золотыми ловами вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось, на самой реснице его глаз». «Гилейцев» восхищала эта обнаженная структурность динамики, движения, напряженно-экспрессивная и одновременно сохранившая веселые парадоксы фольклорного лубка. Не Петербург – Витебск Марка Шагала!
Стихи футуристов о городе дают понять, какое значение имел для них Брюсов как автор стихотворений «Слава толпе», «Городу», «Голос города» и особенно, конечно, «Конь блед». А также Блок дорого тома с его «Последним днем», «Обманом», «Гимном», «Полстью», несущими следы воздействия Брюсова, и с выходом к «Незнакомке» и лирике третьего тома.
«Конь блед» Брюсова открыл в нашей поэзии длинный ряд городских фантасмагорий, соединяющих посредством свободных ритмов шум и блеск города, движение неисчислимых толп и апокалиптические видения. Футуристы, как правило, снимали мистические акценты, зато усиливали чувственную откровенность фантастических образов и картин, придавая им при этом пародийный оттенок.
К. Большаков («Луна плескалась, плескалась долго в истерике…»):
И в порывах рокота и в нервах ветра
Металось сладострастье, как тяжелый штандарт,
Где у прохожей женщины из грудей янтарем «Cordon Vert'a»,
Сквозь корсет проступало желанье, как азарт.
В. Шершеневич («Толпа гудела, как трамвайная проволока.»):
И когда хотела женщина доверчивая
Из грудей отвислых выжать молоко,
Кровь выступала, на теле расчерчивая
Красный узор в стиле рококо.
Образ города у футуристов изобилует «природными» сравнениями: город куда-то «лезет», «летит», содрогается, как живое существо. Это вносит поправки в упрощенное представление о футуризме как искусстве урбанистическом. Решительное суждение на этот счет высказывает Р. В. Дуганов: «Как ни странно это может показаться, эстетика футуризма с его машинностью, урбанизмом, рационализмом и т. д. и т. п. в конечном счете или, вернее, в своем первоначале была эстетикойприроды»[61]. Природа для футуристов, продолжает свою мысль Дуганов, «не храм и не мастерская», она «вполне и окончательно субстанциальна», она – энергия.
Наверное, это так, с учетом, что аналогом космической природы-энергии является самоощущение художника и что здесь возможны самые разные варианты и уровни.
Симон Чиковани, размышляя о том, почему Маяковский, прекрасно чувствующий городской пейзаж, «оставался вполне равнодушным к тайнам природы, глухим к голосу лесов, гор и рек», высказывает убеждение, что «место этой отсутствующей природы как бы занимал он сам, его физическое существо. Стихи выражали радость и боль этого человеческого организма…»[62]. Прекрасная характеристика: односторонность в данном случае не ограничивает, а укрупняет масштаб поэтической личности, потому что проявляет ее органическую (природную) суть, основу.
Другой пример – замечание А. Эфроса в адрес К. Малевича: «…трогательный фетишизм примитивной натуры, открывшей в себе движение мысли»[63]. Можно по-разному оценивать этот сугубо «интеллигентский» выпад критика, но очевидно, что здесь отмечается иное соотношение между задачами творчества, у Малевича сопряженного с комплексом глобальных теоретических идей, и «натуральными» свойствами личности художника.
А если отвлечься от ныне признанных великих и спуститься «ниже этажом», к рядовому составу футуризма, то там проблема «концептуальности» целого движения и личностной позиции его участников может просто отступить на второй план перед фактом вторичности, подражательности, зависимости от учителей.
Нет прямого смысла подсчитывать, сколько стихов написали футуристы о городе и сколько о живой природе. Предметно-тематические различия перекрываются объединяющей спецификой футуристического отношения к слову. И если все это о природе, единой космической природе, то и она предстает в особом аспекте: слово, язык наделяют эту природу «структурностью», придают ей черты природы рукотворной, как бы заново творимой из самого языка.
Хлебников в 1916 году принял под свое державное покровительство группу харьковского издательства «Лирень», отпочковавшуюся от «Центрифуги», – появился манифест «Труба марсиан». Участники группы Н. Асеев, Г. Петников и Божидар (последнего к моменту появления манифеста уже не было в живых) испытали поэтическое воздействие Хлебникова, но у каждого было что-то свое. Грандиозная идея похищения времени, составляющая основу манифеста, принадлежит всецело Хлебникову, однако в данном случае есть возможность найти в поэзии каждого из его адептов определенное созвучие этой идее – по-своему переживаемое чувство всемирности.
Асеев – «лирик по складу души». Даже в откровенно «хлебниковском» по строю стихотворении «Донская ночь» была, по-видимому, лирическая задача – дать почувствовать густоту и чуткость южной ночи. Обычны для Асеева прямые лирические вторжения в объективную тему («Гремль – 1914 год»), лирическая интерпретация исторического и фольклорного материала. И космические масштабы чувства с богоборческим уклоном возникают у него (как у Маяковского) из лирических ситуаций.
Тогда разорвутся губы
От злой и голодной ругани
И море пойдет на убыль
Задом, как зверь испуганный
. . . . . . . . . .
За то что твоя рубаха
Одна на песке останется.
Космос Божидара может замкнуться в ограниченном искусственном пространстве (стихотворение «Пресс-папье») или охватить простор до небесного свода-купола («Сердце в лазури»), совмещается с «полем планет» («Солнцевой хоровод») и с «брокенскими плоскогорьями» («Григорию Петникову»). Он «мучителен» для ума и сердца даже в моменты поэтического просветления. В самих конструкциях стихотворений Божидара, герметических, отмеренных, откровенно «сделанных», живет дух тяжести, «пленения». Божидар напоминает И. Игнатьева: стихи могут показаться надуманными, мертвенными, и все же есть в них скованная, стремящаяся высвободиться энергия; у Божидара она живее, он не задает сакраментальных «почему?», стремится разноообразить рисунок. И если в «Пресс-папье» повторяется единственный, по существу, образ-мотив (фигурки паяцев в стеклянном пресс-папье), то в стихотворении «Сердце в лазури» мотив сердца-солнца, вынесенный в заглавие, реализуется в плотном ряду раздельных и одновременно совмещающихся образов (колокол – зеркало – бонза – церковь – купол). Текст наполовину состоит из глаголов и глагольных форм, и все они в конечном счете тоже относятся к сердцу, передают его состояние.
Третий из этой группы хлебниковских учеников, Г. Петников, пытался создать некий синтетический стиль, соединял языковую архаику и словотворчество, трансформировал приемы изобразительного искусства и различные литературные традиции. Наиболее интересны у него поэтические пейзажи натурфилософского плана, разрабатывающие «тютчевскую» тему смены времен года, шире – тему жизни и смерти. Лирическое содержание в таких стихотворениях проступает из глубины текста, например, из уподобления древесных соков току крови, а природы в целом – человеческому организму с кровеносными сосудами и, конечно же, сердцем:
А вот когда в весны предсердьях
Встает аорты тяжкой ярь.
Ты володом каких посмертий
Вздыхаешь целины испарь?
Энергичный характер своего творчества поэты группы «Лирень» стремились усилить введением темы активного действия (битва, скачки и т. д.), что по-своему тоже созвучно пафосу манифеста «Труба марсиан».
Воспринимая природу как движение, процесс, футуристы акцентировали одну сторону этого процесса – рождение нового и опускали или даже оспаривали другую – что это рождение есть возрождение, цикличность, повтор. Р. В. Дуганов рассматривает эстетику футуризма как «эстетику бесконечного материально-энергийного становления»[64] и приводит на этот счет многие заявления поэтов и художников футуристического направления. Например, Малевич: «Природа не хочет вечной красоты и потому меняет формы и выводит из созданного новое и новое»[65] (ср. пушкинское: «И пусть у гробового входа / Младая будет жизнь играть, / И равнодушная природа / Красою вечною сиять»). Или Ольга Розанова: «Нет ничего в мире ужаснее повторяемости, тождественности…»[66] (ср. мысль позднего Пастернака, подготовленную всем ходом его творческого развития, полемичного по отношению к футуризму: «…все время одна и та же необъятно тождественная жизнь наполняет вселенную и ежечасно обновляется в неисчислимых сочетаниях и превращениях»[67]). Понятно, что ведущая тенденция футуристической «натурфилософии» имела прямое отношение к эстетической проблеме традиций и новаторства, принципиально решаемой в пользу новаторства. Понятно также, в другом аспекте, что она не характерна в равной мере для всех футуристов и кто-то из них обходился без какой бы то ни было натурфилософии. Однако во всех случаях поэтика футуризма формировалась на основе материально-чувственного мировосприятия.
Художник, по убеждению футуристов, творит не подобие вещи, а саму вещь, активно участвует в деле мироустройства. Процесс создания произведения осуществляется «всеми силами нашего организма», с включением всех органов чувств. Мысль не то что бы новая, но всячески подчеркиваемая футуристами и практически реализуемая в фактуре произведения. И от читателя (зрителя) требуется нечто большее и, может быть, даже иное, чем понятная, традиционная работа «ума и сердца», – воспринимая произведение, он должен видеть, слышать, осязать, пробовать произведение на вкус и чуть ли не улавливать его запах (слово-запах, мы помним, тоже присутствует в теории футуризма). Проблема «понимания» футуристических стихов не менее каверзная, чем проблема самого творчества.
На уровне субъективного восприятия и вкуса автор данной статьи «не принимает» половины напечатанных в этом томе произведений. Не потому, что футуризм, а потому что плохо написано. Однако в плане историко-литературном дело приобретает другой оборот. Футуризм обозначил свое место в истории литературы, и его слово учтено поэзией последующего времени. Причем раздражителями, стимулирующими новые поэтические поиски, были и яркие достижения футуристического творчества, и сомнительные эксперименты, направленные всецело на сокрушение «правил», проникнутые художественным нигилизмом. В определенном смысле такие встряски, включая опыты «разрушения эстетики», полезны для искусства, в конечном счете полезны: они укрепляют его самосознание. Учет условий и особенностей литературно-художественного процесса необходим при чтении конкретных произведений футуристов.
Одним из главных принципов футуристического искусства является принцип затрудненной формы (трудно пишется – трудно читается). Сама структура произведения содержит ряд специфических условий, выполнение которых необходимо для его понимания. Далеко не всегда усилия читателя бывают вознаграждены, затрудненность может оказаться холостой, надуманной, – зато какое счастье открыть для себя действительно небывалый мир, проникнуть в большой поэтический секрет, который, кстати, покажется в итоге совсем несложным, совсем даже и не секретом.
Великим открытием в поэзии XX века явилась зрелищная, «материализованная» метафора Маяковского.
Один из исследователей Маяковского, Н. Калитин, остроумно заметил, что Маяковский, разворачивая метафору, «забывает» про троп[68]. Он рисует фантастическую по форме и грубо реальную в психологическом смысле картину, исходя из буквального значения слова, включенного в метафорический, иносказательный контекст («пляска нервов» или «пожар сердца» в «Облаке в штанах»). Когда Маяковского спрашивали, что он сам чувствует, читая свои стихи, он отвечал: «А я все вижу». Поэт зрительного, живописного мировосприятия, он, конечно же. видел, буквально видел свои фантастические метафоры. И мы вместе с ним должны увидеть (представить сцену), как «пляшут нервы» его героя, «большие, маленькие, многие», – пляшут так, что у них «подкашиваются ноги», а в нижнем этаже рушится штукатурка; как герой пытается «выскочить» из горящего дома-сердца – из собственной грудной клетки: «Дайте о ребра опереться!» Из всех органов чувств Маяковский больше всего доверял глазу, и активность зрительных образов в его стихах исключительно велика. В метафорическом образе Маяковского как бы два слоя: идет рассказ о психологическом действии – и одновременно дается показ, появляется (на основе метафорического сравнения) ряд картин-иллюстраций к событию, которые в предметности своей могут вовсе не совпадать с сюжетом, а дополняют, «дорисовывают» его эмоционально. Давая психологический комментарий к эпизоду «пожара сердца» в «Облаке в штанах», мы можем и не говорить про сапоги пожарных и запах жареного мяса – мы попытаемся назвать грани чувства, истолковать их в словесном, понятийном ряду. Примерно так же поступим мы, пересказывая сюжет произведения. А в стихах именно «посторонние» предметы, возникнув как развитие исходной метафоры, возмещают то, что называется психологизмом. Они не называют чувство, а неизмеримо усиливают его напряжение и расширяют масштаб. У раннего Маяковского весь мир стягивается к человеку, даже космос лишен самостоятельной жизни, образы космоса тоже средство гиперболизации чувств героя. И это уже не поэтика, а миропонимание.
В философско-поэтической системе символизма метафора (не только на классической своей высоте, когда она не метафора, а символ, но и метафора проходная, собственно «художественная», выразительная) есть незатухающий, на тысячу ладов возобновляемый вопрос о связи человеческого «я» и мирового «не-я», она приоткрывает краешек вселенской тайны, объемлющей человека.
По-другому у Маяковского. Он не верит в извечную тайну (или делает вид, что не верит) и все сводит к материализованным представлениям. Важен пьедестал, на который вознесены чувства прямые и грубые. Метафора у Маяковского одновременно и гипербола, что придает ей особый смысл. Реальное, чувственное, физическое самоощущение человека распространяется у него на весь мир, человек охватывает вселенную (а не наоборот), – предметы, «вещи», явления втянуты в душевную жизнь и как бы продолжают человека в этом единственном, всепроникающе-материальном мире. Поистине – если Бога нет, то Богом должен стать Я, Человек.
В метафорической системе Маяковского идеи, картины, меняющиеся «лики» героя наделены чудовищной реальностью (прямое прочтение метафоры). И одновременно они (по той же причине) – сплошная условность. Взаимодействуя, эти два начала как бы нейтрализуют друг друга: столкновение, вспышка, гром, а в результате ничего. Однако в этом «ничего» и заключена главная суть – «капли холодного пота», неразрешимая борьба, клубок противоречий. Маяковский стремился к окончательности, определенности, но окончательность предполагала такие масштабы, что неминуемо получала фантастический опенок и порождала соответствующего склада образы, рационалистические по структуре, «сделанные», но открывающие простор, который неподвластен конечным определениям. Это и есть реальность поэтическая, которую мы воспринимаем, делаем своей, переносим на другие ситуации, к Маяковскому отношения не имеющие, – энергетический заряд который мы получаем от Маяковского.
Современное литературоведение стремится дифференцировать художественные системы (мифы) в поэтике авангарда. Например, венгерская исследовательница Анна Хан считает, что реализация метафоры служит созданию мифа индивидуального, субъективного, а реализация сравнения лежит в основе «реального мифа», в котором преобладают «метаморфозы онтологически объективные». Анализируя в этом (втором) ключе поэму Хлебникова «Журавль», она находит в ней не только соответствия Апокалипсису и «петербургскому мифу», но и «ось русской культуры», начиная с Киевского периода (раскол, стихийное бунтарство, самозванство и т. д.)[69]
Речь, говоря по-другому, идет о лирике и эпосе. Но и в пределах лирики вырабатывались системы, принципиально отличные от системы Маяковского. Как уже говорилось, Б. Пастернак, придерживаясь принципа «объективного тематизма», стремился преодолеть прямое воздействие Маяковского. В первой редакции стихотворения «Марбург», которая дается в настоящем издании, это воздействие, вперемежку с воздействием Северянина, еще достаточно ощутимо. Но и здесь «вещи», предметы внешнего мира не становятся лишь «подобием» страсти – они сохраняют и утверждают реальность своего бытия, образуют стабилизирующий, уравновешивающий ряд. А если взять для сравнения позднейшие редакции «Марбурга», то со всей очевидностью можно представить главное направление поэтического развития Пастернака. Именно в «Марбурге» утверждала себя его «неромантическая поэтика». В «Марбурге» разрабатывалась композиция, принципиальная для Пастернака и многократно повторенная потом в других стихотворениях, – композиция, развернутая вширь, в мир. который больше, полнее, первее любого из нас. Поэтическое «я» Пастернака и раскрывается полнее всего в рамках этого соотношения, этого чувства, не исключительного, а всечеловеческого по своей природе. И сам взгляд Пастернака на искусство как на орган восприятия – «неноваторский» с точки зрения авангарда и отделяет его от футуризма.
Принцип затрудненной формы проявляется у футуристов в разных компонентах стиля. В частности, они бравировали тем, что «разрушили» синтаксис. А между тем даже произведения Крученых не изобилуют нарушениями синтаксических норм – их гораздо больше у С. Боброва, Г. Петникова. Божидара. Специфические варианты различаются функционально.
Д. Бурлюк в какой-то момент надумал опускать предлоги. Вот характерный пример (в квадратных скобках даются отсутствующие в тексте предлоги):
Кинулся – камни, а [в] щелях живут скорпионы…
Бросился [в] бездну, а зубы проворной акулы…
Скрыться [в] высотах? – разбойников хищных аулы.
Всюду таится Дух Гибели вечнобессонной.
Случай – простейший. Стихотворение слишком традиционно, и нарушение синтаксиса, надо полагать, преследовало цель уплотнить «словесную массу» и отвести от сравнения с прецедентами.
Другое дело К. Большаков, незаурядный лирик, который «ломал грамматику» в целях большей лирической выразительности, не огрублял, а разнообразил акценты. Классическим примером его синтаксического эксперимента может служить истонченный, «чуткий» стих: «Чтоб взоры были, скользя коленей, о, нет, не близки…» («Посвящение»). Б. Пастернак считал, что такого рода черты составляют «единственную соль большаковского жанра», «лирическую основу его пьес», «интеграл бесконечной функции»[70].
В распоряжении Большакова целый набор средств синтаксического «сдвига». Он очень смел в употреблении глаголов: «По небу звезд струят мои подошвы…», «Потому, что вертеться веки сомкнуты…» Охотно использует инверсию, иногда весьма усложненную, как в стихотворении «Аэромечта»: «Мы бросим взятой с земли на землю кусочек жалости…» («правильная» фраза: «Мы бросим на землю кусочек взятой с земли жалости»; перестановка слов дает ключевое для темы образование «с земли на землю» с двояким смыслом: «взятой с земли на землю» и «бросим с земли на землю»). Ключевое слово может и открыто участвовать сразу в двух синтаксических рядах (стихотворение «Осень годов»): «Я века лохмотьями солнечной задумчивости бережно / Укрывал моих любовниц в рассеянную тоску…» (укрывал чем? – лохмотьями… укрывал во что? или куда? – в тоску…). Стремление свести воедино несколько структур приводит Большакова к стихам чрезвычайно прихотливым, но, как ни странно, сохраняющим смысловую прозрачность:
Улыбки грешной грусть по томности озерам
Порочными без слез глазами глаз рассвет
Мелькнет из глаз для глаз неуловимо-скорым
На миги вспыхнувший и обреченный свет.
При желании и этот синтаксический узел можно распутать, только делать это, по-видимому, не надо: в составе целого стихотворения, «струящегося», изобилующего повторами, стихи наращивают обозначенную в заглавии тему и одновременно воспринимаются как-то отрешенно, почти абстрактно. Ведь Большаков пробовал себя и в зауми, лирический вариант которой он дал в стихотворении «Городская весна»:
Эсмерами, вердоми труверит весна,
Лисился полей элилой алислит… и т. д.
Заумь в искусстве футуризма – явление не центральное, но принципиальное. В ней, можно сказать, заключены крайности, полюса – начало и конец. В том смысле, что заумь знаменует конфликтную с разумом основу творчества (А. Крученых: «Мысль и речь не успевают за переживаниями вдохновенного»[71]), а на другом конце – заумь разбивает оковы разума уже в дальней перспективе, намечает максимальные возможности творчества. В. Хлебников доходил до утверждения, что «заумный язык есть мировой язык в зародыше. Только он может соединить людей. Умные языки уже разъединяют»[72]. Тенденция к зауми заложена в основополагающем принципе футуризма – разрушении норм существующего языка, которым искусство по необходимости пользуется.
И в то же время заумь – это нечто совсем другое по сравнению с существующим языком, переход в новое измерение. В. Хлебников: «Заумный язык – значит находящийся за пределами разума»[73]. А. Крученых: «Ранее было: разумное или безумное; мы даем третье – заумное, – творчески претворяющее и преодолевающее их. Заумное, берущее все творческие ценности у безумия (почему и слова почти сходны), кроме его беспомощности – болезни. Заумь перехитрила.»[74]
В теории, разработанной Хлебниковым и Крученых, заумь связана со словотворчеством, составляет его последний, качественно новый этап. «Словотворчество учит, – писал Хлебников. – что все разнообразие слова исходит от основных звуков азбуки, заменяющих семена слов. <…> Вся полнота языка должна быть разложена на составные единицы „азбучных истин“, и тогда для звуко-веществ может быть построено что-то вроде закона Менделеева или закона Мозелея – последней вершины химической мысли»[75]. Вокруг исходной составной единицы («звуко-вещества») Хлебников выращивал целые гроздья неологизмов («Заклятие смехом»). Или, «заменив в старом слове один звук другим», прокладывал «путь из одной долины языка в другую» [правительство – правительство; боец – лоец и т. д.). Он много фантазировал на предмет смыслового значения отдельных звуков (фонем): Ч, В, X, М, Л, К… На этой основе он и строил свою теорию зауми:
«Заумный язык исходит из двух предпосылок:
1. Первая согласная простого слова управляет всем словом – приказывает остальным.
2. Слова, начатые одной и той же согласной, объединяются одним и тем же понятием и как бы летят с разных сторон в одну и ту же точку рассудка»[76].
Крученых поначалу подчинял свои заумные опыты локальным задачам, но постепенно разрабатывал для зауми и общие теоретические основания. В поздней декларации «Фактура слова» (1922) он писал:
«Структура слова или стиха – это его составные части (звук, буква, слог и т. д.) обозначим их а – b – с – d.
Фактура слова – это расположение этих частей (а – d – с – b или b – с – d – а или еще иначе), фактура – это делание слова, конструкция, наслоение, накопление, расположение тем или иным образом слогов, букв и слов»[77].
Фактура, по логике Крученых, создается из свободной комбинации готовых языковых элеметов или «делания» заумных (лишенных смысла) слое. Говоря о звуковой фактуре, он приводит как пример «тяжелой» фактуры две строчки Хлебникова с очевидной перестановкой слов: «табун шагов / чугун слонов» (ср.: чугун шагов / табун слонов), а в качестве фактуры «тяжелой и грубой» – свое знаменитое «дыр-бул-щыл…»
Принцип Хлебникова – семантический. Крученых больше акцентирует эмоциональное воздействие слова. Но разница не такая уж решающая: оба исходят из чувственной природы слова и берут за основу его звуковую сторону. Они легко могут как бы поменяться местами. Хлебников писал: «Если различить в душе правительство рассудка и бурный народ чувств, то заговоры и заумный язык есть обращение через голову правительства прямо к народу чувств…»[78] Крученых, со своей стороны, в нарушение главного принципа зауми, мог предложить «интеллектуальную» загадку – заумный ребус, который вроде бы (лишь частично?) может быть разгадан:
е у ю
о е и а о
о а
о а е е и е я
е у и е и
и и ы и е и и ы
Стихотворение называется «Высоты». «За этим рисунком из гласных, – пишет В. Марков, – довольно отчетливо проступает „Верую во единаго Бога“, кончая словами „видимым [же всем]и невидимым“»[79].
А. Амфитеатров в «Заметке», опубликованной в «Русском слове» 23 января 1914 года, говорил, что «истинный золотой век стихотворного футуризма цвел 50 лет тому назад в мещанских слободках и уличках» – тогда в Орле, Мценске. Калуге, Туле или Епифани сочиняли: «Чинги дрынги, мой фетон, Чинги дрынги, фарафон». Футури-сты-заумники должны были принять это замечание в похвалу себе. Они сознательно ориентировались на детскую считалку, древние загадки, чародейные заговоры и напевы – русалки Хлебникова в стихотворении «Ночь в Галиции» поют на заумном языке по «учебнику Сахарова» (по «Сказаниям русского народа» И. П. Сахарова). Р. Якобсон вспоминает, что он обсуждал с Хлебниковым законы русских сектантских глоссолалии и магических заклинаний. И даже приведенный выше опус Крученых находит отдаленное пояснение в письме Р. Якобсона к Крученых, написанном в конце января – начале февраля 1914 года: «Вы спрашивали меня, где приходилось мне встречать стихи из гласных. Как образцы таковых, интересны магические формулы гностиков»[80].
Среди насмешек и возмущения критики по поводу зауми футуристов случались и иные голоса. В. Шкловский в статье «Заумный язык и поэзия» (1916), переводя проблему в теоретический и историко-литературный план, приводил примеры зауми из произведений писателей прошлого, а также современников, не имеющих отношения к футуризму.
Самую основательную трактовку и оценку зауми дал Павел Флоренский в работе «Антиномия языка», написанной в 1918 году (опубликована гораздо позже). Он применил к зауми широкий философско-лингвистический подход.
Опираясь на теорию Вильгельма Гумбольдта, Флоренский говорит об антиномии языка, которая проявляется в единстве его противоположных свойств. С одной стороны, «в языке все живет, все течет, все движется», «человек – творец языка», он «божественно свободен в своем языковом творчестве, всецело определяемом его духовною жизнью, изнутри»[81]. С другой стороны, язык имеет «монументальный характер», его правила «даются историей как нечто готовое и непреложное. Языком мы можем пользоваться, но отнюдь мы – не творцы его. Пользуясь же языком – достоянием народа, а не отдельного лица, – мы тем самым подчиняемся необходимости…» (с. 155). «Нет индивидуального языка, который не был бы вселенским в основе своей; нет вселенского языка, который не был бы в своем явлении – индивидуальным» (с. 164).
С этих позиций Флоренский оценивает словотворчество и заумь футуристов. Он с пониманием относится к словоновшествам, образованным по аналогии с уже существующими грамматическими формами или имеющим орнаментальный характер, и приводит в качестве убедительных примеры из В. Каменского, И. Северянина.
В. Хлебникова, Е. Гуро. Другое дело заумь. Флоренский признает право на такого рода творчество. Лично ему нравится «Дыр бул щыл…» А. Крученых: «…что-телесное, коричневое, корявое, всклокоченное, выскочило и скрипучим голосом „р л эз“ выводит, как немазаная дверь. Что-то вроде фигур Коненкова» (с. 183–184). Однако Флоренский считает законным и противоположное, отрицательное восприятие. Более того, по мнению Флоренского, если заумник последователен, «если он воистину и насквозь за-умен и потому бес-словесен в своем творчестве, то и самоннезнает, что долженственно воплотиться у него в звуке, а потому не может и судить – воплотилось ли» (с. 183). Заумники подчеркивают лишь одну сторону языка и потому вступают в противоречие с языком. «Когда начисто сглаживается антиномичность языка, то тем самым начисто уничтожается и самый язык» (с. 186).
В целом же Флоренский ценит смелость футуристов, признает их приверженность и родственность изначальной (до-логической) стихии языка, в которой они ведут себя «как дома».
В настоящем издании заумь представлена произведениями кубофутуристов, поэтов группы «41°» и отдельными опытами участников других футуристических групп. За пределами тома остались постфутуристы (А. Туфанов, обэриуты) и, конечно, последующие, вплоть до нынешнего времени, эксперименты в зауми[82].
В декабре 1915 года на художественной выставке «0.10» («ноль-десять», что значит: Ноль. Десять художников) был представлен «Черный квадрат» Малевича. Александр Бенуа писал: «Без номера, но в углу под самым потолком, на месте святом, повешено „произведение“… г. Малевича, изображающее черный квадрат в белом обрамлении. Несомненно, это и есть та „икона“, которую гг. футуристы предлагают взамен мадонн и бесстыжих Венер, это и есть то „господство над формами натуры“, к которому с полной логикой ведет не одно только футуристическое творчество<…> но и вся наша „новая культура“<…> с ее царством уже не грядущего, но пришедшего Хама»[83]. Для самого Малевича созданный им супрематизм тоже был возвращением к «нулю», но к такому «нулю», который является «зародышем всех возможностей», от которого начинается новое, истинное познание природы, Бога, гармонии. В письме к М. Матюшину от 12 ноября 1916 года Малевич писал: «О сознание! Какая хорошая вещь, что только нельзя с ним сделать. Вот уж прибор, разворачивает без устали. Главное, разворачивает НИЧТО. Ох, какие ожидают чудеса нас, как бы их предупредить»[84]. Новый разум, по Малевичу, «может быть назван заумным» – открывается аналогия между беспредметной живописью и поэтической заумью. Творческая дружба не случайно связывала Малевича прежде всего с А. Крученых.
Выше в общем виде говорилось о новом характере связей поэзии футуризма с живописью. Теперь чуть подробнее. «Мы хотим, чтобы слово смело пошло за живописью»[85], – писал Хлебников. Неожиданное здесь то, что для слова, которое, по логике Хлебникова, высвобождает человека из плена пространства, он сам выбирает в качестве примера и руководителя именно живопись, искусство пространственное. Он обращается к живописи не затем, чтобы удостоверить («остановить») предмет, закрепить его пространственным представлением, – он хочет другого. У него сама живопись вдруг «взрывает» пространственное восприятие и впереди слова, прежде слова устремляется к измерениям временным. Современная живопись, по убеждению Хлебникова, «связывая материк» (Евразию), обгоняет само слово в подготовке всемирного языка. Главный интерес Хлебникова расположен там, где русские художники, испытавшие воздействие западного эксперимента (фовизм, кубизм, футуризм), искали его соединения с пафосом «гилейской» плоти, ожившей для них языческой старины, с примитивно-прикладным искусством периферии, с первозданностью детского рисунка. Павел Филонов, Наталия Гончарова, Давид Бурлюк – вот осознанные, хотя и разной четкости, центры, вокруг которых чаще обращалась мысль Хлебникова. Но она включала в свою орбиту еще многое другое, подчас неожиданное, – Хокусаи и Мурильо, Боттичелли и «священную живопись храма».
В поэзии Хлебникова есть сильные и интересные прорывы в область «живописи словом». На разных этапах своего пути он создавал поэтические структуры, аналогичные жанрам изобразительного искусства – портрету, пейзажу, натюрморту. В них отразилась его эволюция. На одном ее полюсе замкнутый в себе метафизически-формальный эксперимент-знаменитый «абстрактный портрет» («Бобэоби пелись губы, / Вээбми пелись взоры…»), попытка выразить Лицо «вне протяжения», потребовавшая специального комментария, цветового «словаря». На другом – обычно усложненный, но художественно убедительный образ, исполненный жизненного (социального, психологического, эмоционального) содержания. По условиям издания в настоящий том не вошли стихотворения Хлебникова того же «портретного жанра», вызванные трагедией Поволжья 1921 года. Поэтому приведем отрывки.
Вот беспощадное «золотое», «голубое» лицо Поволжья:
Небо болеет? Небо больной?
. . . . . . . . . .
Жестоко желтело око жары.
Всегда золотое, без бровей облаков.
Люди покорно уселися ждать
Чуда – чудес не бывает – или же смерти?
Это беда голубая.
Это засуха.
И оно же, написанное с гневом и яростью:
Волга! Волга!
Ты ли глаза-трупы
Возводишь на меня?
. . . . . . . . . .
Ты ли возвела мертвые белки
Сел самоедов, обреченных уснуть,
В ресницах метелей,
Мертвые бельма своих городов,
Затерянные в снегу?
Как! Волга, матерью,
Бывало, дикой волчицей
Щетинившая шерсть,
Когда смерть приближалась
К постелям детей –
Теперь сама пожирает трусливо детей,
Их бросает дровами в печь времени?
Кто проколол тебе очи?
Можно ли такой «портрет» увидеть? И, конкретнее, соответствует ли он какому-либо живописному изображению? И да, и нет.
«Портретный» образ создается в обоих случаях путем соединения многих предметов и качеств, которые при этом сохраняют свое самостоятельное значение. Мы «видим» лицо – с лихорадочными глазами или, наоборот, жуткое слепое, и одновременно перед нами разворачивается пейзаж – раскаленное, неподвижное марево или бескрайний, белый, как саван, снежный простор с полупризрачными селами и городами.
Такой художественный принцип разрабатывался Хлебниковым на протяжении всего творческого пути («Журавль» – 1909; «Азия» – 1921). Говорить в данном случае о прямой связи с живописью было бы натяжкой, ассоциации основаны не только на «зрительном», но гораздо больше на логическом, семантическом принципе. И все же в живописи нечто подобное тоже имеет место, в традиции, идущей от Босха и Питера Брейгеля. В русской живописи начала века можно отметить тенденцию к «уподоблению» разных фактурных поверхностей у Врубеля. Филонов «уподоблял» уже сами предметы. А позже принцип конструирования целого (лица или фигуры) из самостоятельных и разных предметов будет подхвачен некоторыми экспрессионистами и особенно сюрреалистами.
Метафорические возможности поэтического слова практически безграничны. Хлебников владел искусством контекста, и внутри его произведений подобие определенного изобразительного жанра могло возникнуть как бы ненароком, вдруг, однако в логике целого. В антивоенном стихотворении «Где волк воскликнул кровью…» (1915) ведущей является тема продажи («Правда, что юноши стали дешевле?»). Мир уподоблен мясной лавке, и вдруг возникает чудовищно-фантастический «натюрморт», главной составной частью которого, наподобие освежеванной туши, оказывается поэт:
«Мертвые юноши! Мертвые юноши!»
По площадям плещется стон городов.
Не так ли разносчик сорок и дроздов
– Их перья на шляпу свою нашей,
Кто книжечку издал: – «песни последних оленей»
Висит, рядом с серебряной шкуркою зайца,
Продетый кольцом за колени
Там, где сметана, мясо и яйца.
Таковы лишь некоторые, в качестве примеров, аспекты взаимодействия поэзии Хлебникова с изобразительным искусством.
По сравнению с Хлебниковым не столь существенной и убедительной представляется ориентация на живопись в некоторых стихотворениях Бенедикта Лившица. Речь не об уровне поэтических достоинств: он определяется другими свойствами стихов. Лившиц – поэт во многих отношениях замечательный, но в основе своей далекий от футуризма, и с живописью у него отношения не какие-то особенные и принципиальные. Он был знатоком, ценителем живописи, но, в отличие от большинства кубофутуристов, сам не был художником.
Наиболее футуристические стихотворения Лившица «Вокзал» («Ночной вокзал») и «Тепло» привлекали или отталкивали прежде всего тем, что были непонятны. Современники вспоминают, как действовало на них загадочное «Мизерикордией! – не надо лишних мук…» или «Над мертвым – на скамье – в хвостах – виноторговцем» («Вокзал»). В «Полутораглазом стрельце» Лившиц «расшифровал» эти стихотворения, вскрыл их реальную, предметную основу и чуть ли не описал процесс творчества (см. соответствующие примечания). Оказывается, он строил «Вокзал» и – особенно – «Тепло», руководствуясь «каноном сдвинутой конструкции» («аберрация первой степени», «аберрация второй степени» и т. д.) – по принципам современной живописи. Может быть, зря он раскрыл секрет: таинственность содержания исчезла, а «картина» (интерьер вокзала в Николаеве и квартиры Бурлюков в Чернянке) при всех «сдвигах» не воспринимается как произведение изобразительного искусства. Итог авторского комментария примерно такой же, как если бы мы свели анализ знаменитого стихотворения В. Брюсова «Творчество» к рассказу о квартире Брюсова с кафельной печью, комнатными пальмами и видом из окна.
И не случайно период намеренной ориентации на живопись был у Лившица непродолжительным: «…слово, подойдя вплотную к живописи, перестало для меня звучать»[86].
Никто из русских поэтов не был так близко связан с живописью, как Маяковский. И это была особая связь, речь здесь должна идти не о прорывах в область «живописи словом», как у Хлебникова, а о принципе кардинальном, основополагающем. Маяковский подошел к живописи как мастер, увидевший в самих приемах изобразительного искусства возможность для обновления стиха[87].
Разумеется, не всякий зрительный образ у Маяковского можно рассматривать как живописный по своей природе и тем более по конкретным связям с произведениями живописи. Более того – странно, на первый взгляд, но поэзия Маяковского дает не так уж много материала для конкретного сравнения с картинами художников. Все обстоит сложнее и проще одновременно. Живопись вошла в плоть стиха Маяковского, стала элементом его стиля, то есть органически срослась с другими особенностями его мировосприятия. Ранний Маяковский не любит называть свои чувства, он, как живописец, отделяет их от себя, выражая во внешнем, зримом образе. Все сказанное выше о творческом миропонимании и метафорической системе Маяковского может быть рассмотрено и под знаком специфической проблемы «Маяковский и живопись».
Возможны более или менее конкретные сравнения стихов Маяковского с произведениями П. Пикассо, П. Филонова, М. Шагала. Д. Риверы. Но не менее важен другой, мыслимый ряд. В него, кроме названных, входят многие художники, объективно близкие Маяковскому по духу и стилю. Некоторые из них едва слышали о Маяковском, у кого-то он учился, а кто-то испытал его влияние. Ф. Леже и К. Малевич. Г. Гросс и А. Сикейрос, Д. Бурлюк и В. Татлин, Д. Моор и А. Дейнека… Если представить том Маяковского с такого рода «иллюстрациями», то можно лишний раз увидеть, какой серьезный посредник – время, как сложно и разнообразно взаимодействуют во времени отличные друг от друга искусства.
Маяковскому было близко искусство с экспрессионистическим уклоном, самовыражение трагической личности в условиях хаотического мира. Своеобразным «практицизмом» отмечен другой ряд – его связи с «вещизмом», главным образом кубистичес-кого, а отчасти и супрематического направления. Поначалу он и кубизм воспринимал, скорее, поэтически. Повышенное чувство материала, замкнутый в себе предметный эксперимент кубистов подталкивали и обостряли поиск новой поэтической образности, нередко принимавшей у Маяковского нарочито «сделанный» («виньеточный», как он говорил) характер. А потом, уже после революции, он не случайно выделил среди кубистов Леже, увидев в его работе практически полезное искусство-ремесло, способное пойти в быт и на производство. В «левом» искусстве он отчетливо видел тенденцию к прикладничеству и призывал ее развить, превратить в «дело», тогда как она определила драму многих художников нашего века.
Путь Маяковского – особый, но, может быть, именно в нем – по-своему, крупным планом – проявилась общая тенденция и перспектива футуристического творчества. В том смысле, что футуризм не мог продолжаться как специфическое, отдельное литературно-художественное направление – он должен был трансформироваться во что-то другое, перемешаться с жизнью, предстать в ее формах, даже и безотносительных к искусству. С самого начала футуризм был не только искусством – он был общественным поведением, освобождением от норм в широком масштабе, не только от предлогов или запятых. Очевидна разрушительная сила футуризма, и очевидно, с другой стороны, что футуризм вошел в нашу жизнь многими своими элементами, повлиял на наше сознание, психику и. как ни странно, на представление о красоте.
Кубиста Пикассо щедрее всех оценил Ле Корбюзье: Пикассо, по его словам, открыл архитектуру XX века. «Архитектоны» Малевича застряли на стадии проектов – в объектах его идеи воплощены другими зодчими. Корифеи поэтического футуризма Хлебников, Маяковский, Северянин, Крученых оказали – каждый по-своему – чрезвычайное воздействие на поэзию, а в читательский (любительский) обиход входили в сопровождении легенды, смеси былей и небылиц. Кого испугает сегодня «Черный квадрат» Малевича, когда «футуристичны» эстрада, дизайн, реклама? – авангард, оказывается, может стать вполне ручным и доступным, на уровне ширпотреба. При желании можно вменить это в вину футуризму и даже позлорадствовать: вот он. истинный уровень футуризма. Однако проблема по-настоящему трудная и серьезная: говорить здесь, скорее, приходится о неизбежной (и только ли «оборотной»?) стороне демократизации культуры.
А по большому счету – смысл, по-видимому, не в том, чтобы расширять футуризм, именно футуризм, в оба конца (В. Марков относит к футуризму, с одной стороны, Андрея Белого, а с другой – всю Цветаеву, позднего Мандельштама и т. д.). Важнее «отрегулировать» отношения футуризма с другими, «нефутуристическими», направлениями искусства. Любовь к Филонову и Кандинскому не исключает любви к Рембрандту или Левитану. Хлебников и даже Крученых могут вполне ужиться в нашем сознании с Петраркой и Ахматовой. А хорошие и плохие художники есть в составе любого направления. По мере того как мы привыкаем к авангарду, он, за исключением крайностей, перестает быть авангардом и превращается в искусство «нормальное». Понятие «авангард» весомо и пока незаменимо по отношению к живописи, которая в начале века пережила период чрезвычайно резкого новаторства. Применительно к литературе это понятие уже вызывает ряд сомнений. Границы авангарда определять становится все труднее, не снимается, но приглушается со временем сама проблема, малоубедительными становятся конкретные оценки. Крайне сомнительно, например, отнесение к авангарду Пастернака, художника «толстовских» корней. «Авангардного», полемичного по отношению к прошлому неизмеримо больше в поэзии Маяковского, но и здесь значительная доля содержания приходится на свойства романтического в своей основе сознания, в котором борьба и отрицание составляют одну из традиционных сторон. Пастернак не зря при мысли о Маяковском вспоминал бунтующих героев Достоевского. «Бросить» Достоевского с Парохода современности призывал поэт, для которого Достоевский был любимейшим автором и который сам многими свойствами своей натуры принадлежит «миру Достоевского».
Футуризм в рамках конкретного литературно-художественного направления отступил в область истории культуры. Это наша история, один из самых бурных, «некрасивых» и поучительных ее этапов. Нормативная эстетика спотыкается о футуризм, он и сегодня вынуждает ее к поискам обновленных подходов и критериев. Отнесем и это к «урокам» футуризма, изучение которого (не ради оправдания или осуждения) представляется делом не просто интересным, а насущным и необходимым.
В. Альфонсов
Кубофутуристы
Велимир Хлебников*
Велимир (Виктор Владимирович) Хлебников дебютировал в печати в 1908 году. В 1910 году его произведения были опубликованы В альманахах «Студия импрессионистов» и «Садок судей», ознаменовавших рождение русского литературного футуризма. Подпись Хлебникова значится под программным манифестом сборника «Пощечина общественному вкусу», увидевшего свет в декабре 1912 года. А в одноименной листовке, вышедшей вслед за сборником, соратники по футуризму объявили Хлебникова «гением – великим поэтом современности», который несет «Возрождение Русской Литературы»[88]. В предисловии к «Творениям» Хлебникова, вышедшим в 1914 году, В. Каменский писал: «Хлебников – это примечательнейшая личность, доходящая в своем скромном, каком-то нездешнем уединении, до легендарной святости, своей гениальной непосредственностью сумел так просто, так убедительно строго пересоздать всю русскую поэзию во имя современного искусства»[89]. Культ Хлебникова, провозглашенный футуристами, был рассчитан на утверждение футуризма в целом.
Сам Хлебников по свойствам натуры не был приспособлен для участия в шумном футуристическом движении: он не умел выступать перед массовой аудиторией и участвовать в публичной полемике, мало заботился об издании своих произведений. Предельная непрактичность и самоуглубленность, органическая неспособность к пребыванию на одном месте и постоянные, внешне бессистемные, перемещения по стране делали невозможным стабильное взаимодействие Хлебникова с футуристами.
Тем не менее участие Хлебникова в движении было по-настоящему весомым и значительным. Принципиальными для футуризма были его книги: «Творения. Том 1: 1906–1908 г.» (М. [Херсон], 1914), «Ряв! Перчатки. 1908–1914 гг.» (СПб., [1914]), «Изборник стихов.1907–1914 гг.» (Пг., 1914), совместная с А. Крученых поэма «Игра в аду» (М., [1912]; 2-е издание – СПб., [1914]); он участвует почти во всех футуристических сборниках; им написаны важные для движения теоретические работы – «Учитель и ученик» (1912), «Битвы 1915–1917: Новое учение о войне» (1914), «Время – мера мира», «Труба марсиан» (обе – 1916), «Наша основа» (1919) и другие.
Общепринятый термин «футуризм» Хлебников заменял придуманным им словом «будетлянство», считая движение «будетлян» глубоко национальным явлением. Визит в Россию в 1914 году Ф. Т. Маринетти вызвал у Хлебникова отрицательную, даже агрессивную реакцию (см. в Приложении листовку В. Хлебникова и Б. Лившица).
Своеобразие личности Хлебникова и уникальный характер его творчества породили почти легендарный образ идеального поэта-изгоя, странника и провидца. При этом многие сомневались в возможности восприятия Хлебникова широким читателем. В. Шкловский в 1926 году писал: «Он писатель для писателей. Он Ломоносов сегодняшней русской литературы. Он дрожание предмета – сегодняшняя поэзия – его звук.
Читатель его не может знать.
Читатель, может быть, его никогда не услышит»[90].
Однако художественные открытия Хлебникова дали веское основание говорить о его «ферментирующем влиянии»[91] (Ю. Тынянов) на русскую поэзию. В. Маяковский, считавший Хлебникова «поэтом для производителя» (для поэтов), утверждал, что он открыл «новые поэтические материки»[92]. Той же мысли придерживались поэты, напрямую не связанные с футуризмом. «Гением и человеком больших прозрений» считал Хлебникова М. Кузмин[93]. Самую выразительную характеристику «гражданину всей истории, всей системы языка и поэзии» дал О. Мандельштам: «Какой-то идиотический Эйнштейн, не умеющий различить, что ближе – железнодорожный мост или „Слово о полку Игореве“. Поэзия Хлебникова идиотична – в подлинном, греческом, неоскорбительном значении этого слова. <…> Каждая его строчка – начало новой поэмы. Через каждые десять стихов афористическое изречение, ищущее камня или медной доски, на которой оно могло бы успокоиться. Хлебников написал даже не стихи, не поэмы, а огромный всероссийский требник-образник, из которого столетия и столетия будут черпать все, кому не лень»[94].
«Люди моей задачи, – сказал в 1921 году Хлебников, – умирают тридцати семи лет». Умер он в деревне Санталово Новгородской губернии.
Заклятие смехом*
Op. 2
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно,
О, засмейтесь усмеяльно!
О рассмешищ надсмеяльных – смех усмейных смехачей!
О иссмейся рассмеяльно смех надсмейных смеячей!
Смейево, Смейево,
Усмей, осмей, смешики, смешики,
Смеюнчики, смеюнчики.
О, рассмейтесь смехачи
О, засмейтесь, смехачи!
<1908–1909>
«Бобэоби пелись губы…»*
Ор. № 13.
Бобэо́би пелись губы
Вээо́ми пелись взоры
Пиээо пелись брови
Лиэээй пелся облик
Гзи-гзи-гзэо пелась цепь
Так на холсте каких-то соответствий
Вне протяжения жило Лицо.
<1908–1909>
Зверинец*
(Пев. В. И<ванову>)
Ор. 1.
О Сад, Сад!
Где железо подобно отцу, напоминающему братьям, что они братья, и останавливающему кровопролитную схватку.
Где немцы ходят пить пиво.
А красотки продавать тело.
Где орлы сидят подобны вечности, оконченной сегодняшним еще лишенным вечера днем.
Где верблюд знает разгадку Буддизма и затаил ужимку Китая.
Где олень лишь испуг цветущий широким камнем.
Где наряды людей баскущие.
А немцы цветут здоровьем.
Где черный взор лебедя, который весь подобен зиме, а клюв – осенней рощице – немного осторожен для него самого.
Где синий красивейшина роняет долу хвост, подобный видимой с
Павдинского камня Сибири, когда по золоту пала и зелени леса брошена синяя сеть от облаков и все это разнообразно оттенено от неровностей почвы.
Где обезьяны разнообразно сердятся и выказывают концы туловища.
Где слоны кривляясь, как кривляются во время землетрясения горы, просят у ребенка поесть влагая древний смысл в правду: есть хоууа! поесть бы! и приседают точно просят милостыню.
Где медведи проворно влезают вверх и смотрят вниз ожидая приказания сторожа.
Где нетопыри висят подобно сердцу современного русского.
Где грудь сокола напоминает перистые тучи перед грозой.
Где низкая птица влачит за собой закат, со всеми углями его пожара.
Где в лице тигра обрамленном белой бородой и с глазами пожилого мусульманина мы чтим первого магометанина и читаем сущность Ислама.
Где мы начинаем думать, что веры – затихающие струи волн, разбег которых – виды.
И что на свете потому так много зверей, что они умеют по-разному видеть Бога.
Где звери, устав рыкать, встают и смотрят на небо.
Где живо напоминает мучения грешников, тюлень с неустанным воплем носящийся по клетке.
Где смешные рыбокрылы заботятся друг о друге с трогательностью старосветских помещиков Гоголя.
Сад, Сад, где взгляд зверя больше значит чем груды прочтенных книг. Сад.
Где орел жалуется на что-то, как усталый жаловаться ребенок.
Где лайка растрачивает сибирский пыл, исполняя старинный обряд родовой вражды при виде моющейся кошки.
Где козлы умоляют, продевая сквозь решетку раздвоенное копыто, и машут им, придавая глазам самодовольное или веселое выражение, получив требуемое.
Где полдневный пушечный выстрел заставляет орлов смотреть на небо, ожидая грозы.
Где орлы падают с высоких насестов как кумиры во время землетрясения с храмов и крыш зданий.
Где косматый, как девушка, орел смотрит на небо потом на лапу.
Где видим дерево-зверя в лице неподвижно стоящего оленя.
Где орел сидит, повернувшись к людям шеей и смотря в стену, держа крылья странно распущенными. Не кажется ли ему что он парит высоко под горами? Или он молится?
Где лось целует через изгородь плоскорогого буйвола.
Где черный тюлень скачет по полу, опираясь на длинные ласты с движениями человека, завязанного в мешок и подобный чугунному памятнику вдруг нашедшему в себе приступы неудержимого веселья.
Где косматовласый «Иванов» вскакивает и бьет лапой в железо, когда сторож называет его «товарищ».
Где олени стучат через решетку рогами.
Где утки одной породы подымают единодушный крик после короткого дождя, точно служа благодарственный молебен утиному – имеет ли оно ноги и клюв – божеству.
Где пепельно серебряные цесарки имеют вид казанских сирот
Где в малайском медведе я отказываюсь узнать сосеверянина и открываю спрятавшегося монгола.
Где волки выражают готовность и преданность.
Где войдя в душную обитель попугаев я осыпаем единодушным приветствием «дюрьрак!»
Где толстый блестящий морж машет, как усталая красавица, скользкой черной веерообразной ногой и после прыгает в воду, а когда он вскатывается снова на помост, на его жирном грузном теле показывается с колючей щетиной и гладким лбом голова Ницше.
Где челюсть у белой черноглазой возвышенной ламы и у плоскорогого буйвола движется ровно направо и налево как жизнь страны с народным представительством и ответственным перед ним правительством – желанный рай столь многих!
Где носорог носит в бело-красных глазах неугасимую ярость низверженного царя и один из всех зверей не скрывает своего презрения к людям, как к восстанию рабов. И в нем затаен Иоанн Грозный.
Где чайки с длинным клювом и холодным голубым, точно окруженным очками глазом, имеют вид международных дельцов, чему мы находим подтверждение в искусстве, с которым они похищают брошенную тюленям еду.
Где вспоминая, что русские величали своих искусных полководцев именем сокола и вспоминая, что глаз казака и этой птицы один и тот же, мы начинаем знать кто были учителя русских в военном деле.
Где слоны забыли свои трубные крики и издают крик, точно жалуются на расстройство. Может быть, видя нас слишком ничтожными, они начинают находить признаком хорошего вкуса издавать ничтожные звуки? Не знаю.
Где в зверях погибают какие-то прекрасные возможности, как вписанное в часослов слово Полку Игорови.
Лето 1909
Журавль*
(В. Каменскому)
Ор. 3
На площади в влагу входящего угла,
Где златом сияющая игла
Покрыла кладбище царей
Там мальчик в ужасе шептал: ей-ей!
Смотри закачались в хмеле трубы – те!
Бледнели в ужасе заики губы
И взор прикован к высоте.
Что? мальчик бредит наяву?
Я мальчика зову.
Но он молчит и вдруг бежит: – какие страшные скачки!
Я медленно достаю очки.
И точно: трубы подымали свои шеи
Как на стене тень пальцев ворожеи.
Так делаются подвижными дотоле неподвижные на болоте выпи
Когда опасность миновала.
Среди камышей и озерной кипи
Птица-растение главою закивала.
Но что же? скачет вдоль реки в каком-то вихре
Железный, кисти руки подобный крюк.
Стоя над волнами, когда они стихли,
Он походил на подарок на память костяку рук!
Часть к части, он стремится к вещам с неведомой еще силой
Так узник на свидание стремится навстречу милой!
Железные и хитроумные чертоги, в каком-то яростном пожаре,
Как пламень возникающий из жара,
На место становясь, давали чуду ноги.
Трубы, стоявшие века,
Летят,
Движеньям подражая червяка игривей в шалости котят.
Тогда части поездов с надписью «для некурящих» и «для служилых»
Остов одели в сплетенные друг с другом жилы
Железные пути срываются с дорог
Движением созревших осенью стручков.
И вот и вот плывет по волнам, как порог
Как Неясыть иль грозный Детинец от берегов отпавшийся Тучков!
О Род Людской! Ты был как мякоть
В которой созрели иные семена!
Чертя подошвой грозной слякоть
Плывут восстанием на тя, иные племена!
Из желез
И меди над городом восстал, грозя, костяк
Перед которым человечество и все иное лишь пустяк,
Не более одной желёз.
Прямо летящие, в изгибе ль,
Трубы возвещают человечеству погибель.
Трубы незримых духов се! поют:
Змее с смертельным поцелуем была людская грудь уют.
Злей не был и кощей
Чем будет, может быть, восстание вещей.
Зачем же вещи мы балуем?
Вспенив поверхность вод
Плывет наперекорь волне железно стройный плот.
Сзади его раскрылась бездна черна,
Разверсся в осень плод
И обнажились, выпав, зерна.
Угловая башня, не оставив глашатая полдня – длинную пушку,
Птицы образует душку.
На ней в белой рубашке дитя
Сидит безумнее, летя. И прижимает к груди подушку.
Крюк лазает по остову
С проворством какаду.
И вот рабочий, над Лосьим островом,
Кричит безумный «упаду».
Жукообразные повозки,
Которых замысел по волнам молний сил гребет,
В красные и желтые раскрашенные полоски,
Птице дают становой хребет.
На крыше небоскребов
Колыхались травы устремленных рук.
Некоторые из них были отягощением чудовища зоба
В дожде летящих в небе дуг.
Летят как листья в непогоду
Трубы сохраняя дым и числа года.
Мост который гиератическим стихом
Висел над шумным городом,
Обяв простор в свои кова,
Замкнув два влаги рукава,
Вот медленно трогается в путь
С медленной походкой вельможи, которого обшита золотом грудь,
Подражая движению льдины,
И им образована птицы грудина.
И им точно правит какой-то кочегар,
И может быть то был спасшийся из воды в рубахе красной и лаптях волгарь,
С облипшими ко лбу волосами
И с богомольными вдоль щек из глаз росами.
И образует птицы кисть
Крюк, остаток от того времени, когда четверолапым зверем только ведал жисть.
И вдруг бешеный ход дал крюку возница,
Точно когда кочегар геростратическим желанием вызвать крушенье поезда соблазнится.
Много – сколько мелких глаз в глазе стрекозы – оконные
Дома образуют род ужасной селезенки.
Зеленно грязный цвет ее исконный.
И где-то внутри их просыпаясь дитя оттирает глазенки.
Мотри! Мотри! дитя,
Глаза, протри!
У чудовища ног есть волос буйнее меха козы.
Чугунные решетки – листья в месяц осени,
Покидая место, чудовища меху дают ось они.
Железные пути, в диком росте,
Чудовища ногам дают легкие трубчатообразные кости.
Сплетаясь змеями в крутой плетень,
И длинную на город роняют тень.
Полеты труб были так беспощадно явки
Покрытые точками точно пиявки,
Как новобранцы к месту явки
Летели труб изогнутых пиявки,
Так шея созидалась из многочисленных труб.
И вот в союз с вещами летит поспешно труп.
Строгие и сумрачные девы
Летят, влача одежды, длинные как ветра сил напевы.
Какая-то птица шагая по небу ногами могильного холма
С восьмиконечными крестами
Раскрыла далекий клюв
И половинками его замкнула свет
И в свете том яснеют толпы мертвецов
В союз спешащие вступить с вещами.
Могучий созидался остов.
Вещи выполняли какой-то давнишний замысел,
Следуя старинным предначертаниям.
Они торопились, как заговорщики,
Возвести на престол: кто изнемог в скитаниях,
Кто обещал:
«Я лалы городов вам дам и сел,
Лишь выполните, что я вам возвещал».
К нему слетались мертвецы из кладбищ
И плотью одевали остов железный.
Ванюша Цветочкин, то Незабудкин бишь
Старушка уверяла: «он летит болезный».
Изменники живых,
Трупы злорадно улыбались,
И их ряды, как ряды строевых,
Над площадью желчно колебались.
Полувеликан, полужуравель
Он людом грозно правил,
Он распростер свое крыло, как буря волокна
Путь в глотку зверя предуказан был человечку,
Как воздушинке путь в печку.
Над готовым погибнуть полем.
Узники бились головами в окна,
Моля у нового бога воли.
Свершился переворот. Жизнь уступила власть
Союзу трупа и вещи.
О человек! Какой коварный дух
Тебе шептал убийца и советчик сразу,
Дух жизни в вещи влей!
Ты расплескал безумно разум.
И вот ты снова данник журавлей.
Беды обступали тебя снова темным лесом,
Когда журавль подражал в занятиях повесам,
Дома в стиле ренессанс и рококо,
Только ягель покрывший болото.
Он пляшет в небо высоко.
В пляске пьяного сколота.
Кто не умирал от смеха, видя,
Какие выкидывает в пляске журавель коленца.
Но здесь смех приобретал оттенок безумия,
Когда видели исчезающим в клюве младенца.
Матери выводили
Черноволосых и белокурых ребят
И, умирая, во взоре ждали.
О дне от счастия лицо и концы уст зыбят.
Другие, упав на руки, рыдали
Старосты отбирали по жеребьевке детей –
Так важно рассудили старшины
И, набросав их, как золотистые плоды в глубь сетей,
К журавлю подымали в вышины.
Сквозь сетки ячейки
Опускалась головка, колыхая шелком волос.
Журавль, к людским пристрастись обедням,
Младенцем закусывал последним.
Учителя и пророки
Учили молиться, о необоримом говоря роке.
И крыльями протяжно хлопал
И порой людишек скучно лопал.
Он хохот клик вложил
В победное «давлю».
И, напрягая дуги, жил,
Люди молились журавлю.
Журавль пляшет звончее и гольче еще
Он людские крылом разметает полчища,
Он клюв одел остатками людского мяса.
Он скачет и пляшет в припадке дикого пляса.
Так пляшет дикарь под телом побежденного врага.
О, эта в небо закинутая в веселии нога.
Но однажды он поднялся и улетел в даль.
Больше его не видали.
1909
Конь Пржевальского*
Гонимый кем – почем я знаю?
Вопросом поцелуев в жизни сколько?
Румынкой, дочерью Дуная,
Иль песнью лет про прелесть польки,
Бегу в леса, ущелья, пропасти
И там живу сквозь птичий гам
Как снежный сноп сияют лопасти
Крыла сверкавшего врагам.
Судеб виднеются колеса
С ужасным сонным людям свистом.
И я как камень неба несся
Путем не нашим и огнистым
Люди изумленно изменяли лица
Когда я падал у зари.
Одни просили удалиться
А те молили: озари
Над юга степью, где волы
Качают черные рога,
Туда, на север, где стволы
Поют как с струнами дуга,
С венком из молний белый черт
Летел, крутя власы бородки:
Он слышит вой власатых морд
И слышит бой в сквородки.
Он говорил: «Я белый ворон, я одинок,
Но все и черную сомнений ношу
И белой молнии венок
Я за один лишь призрак брошу,
Взлететь в страну из серебра,
Стать звонким вестником добра».
У колодца расколоться
Так хотела бы вода,
Чтоб в болотце с позолотцей
Отразились повода.
Мчась как узкая змея
Так хотела бы струя,
Так хотела бы водица,
Убегать и расходиться,
Чтоб ценой работы добыты,
Зеленее стали чоботы,
Черноглазые, ея.
Шопот, ропот, неги стон,
Краска темная стыда,
Окна, избы, с трех сторон,
Воют сытые стада.
В коромысле есть цветочек,
А на речке синей челн.
«На возьми другой платочек,
Кошелек мой туго полн».
«Кто он, кто он, что он хочет,
Руки дики и грубы!
Надо мною ли хохочет
Близко тятькиной избы».
«Или? или я отвечу
Чернооку молодцу,
О сомнений быстрых вече,
Что пожалуюсь отцу?
Ах юдоль моя гореть!»
Но зачем устами ищем,
Пыль гонимую кладбищем,
Знойным пламенем стереть?
И в этот миг к пределам горшим
Летел я сумрачный как коршун.
Воззреньем старческим глядя на вид земных шумих.
Тогда в тот миг увидел их.
<1912>
Числа*
Я вслушиваюсь в вас, запах числа
И вы мне представляетесь одетыми в звери их шкурах
И рукой опирающимися на вырванные дубы
Вы даруете – единство между змееобразным
движением хребта вселенной и пляской коромысла
Вы позволяете понимать века, как чьи-то хохочущие зубы.
Мои сейчас вещеообразно разверзшися зеницы.
Узнать, что будет Я, когда делимое его – единица.
<1912>
«Небо душно и пахнет…»*
Небо душно и пахнет
сизью и выменем
О полюбите пощадите
вы меня
Я и так истекаю
собою и вами
Я и так уж распят
степью и ивами
<1912>
Игра в аду*
Свою любовницу лаская
В объятьях лживых и крутых,
В тревоге страсти изнывая,
Что выжигает краски их,
Не отвлекаясь и враждуя,
Меняя ходы каждый миг,
И всеми чарами колдуя,
И подавляя стоном крик, –
Разятся черные средь плена
И злата круглых зал,
И здесь вокруг трещат полена
Чей души пламень сжал.
Покой и мрачен и громоздок,
Везде поддельные столбы,
Здесь потны лица спертый воздух,
И с властелинами рабы.
Здесь жадность, обнажив копыта
Застыла как скала,
Другие с брюхом следопыта
Приникли у стола.
Сражаться вечно в гневе в яри,
Жизнь вздернуть за власа,
Иль вырвать стон лукавой хари
Под визг верховный колеса!
Ты не один – с тобою случай!
Призвавший жить – возьми отказ!
Иль черным ждать благополучья?
Сгорать для кротких глаз?
Они иной удел избрали:
Удел восстаний и громов,
Удел расколотой скрижали
Полета в область странных снов!
. . . . . . . . . .
Один широк был как котел,
По нем текло ручьями сало,
Другой же хил и вера сёл
В чертей не раз его спасала.
В очках сидели здесь косые
Хвостом под мышкой щекоча,
Хромые, лысые, рябые,
Кто без бровей, кто без плеча.
Здесь стук и грохот кулака
По доскам шаткого стола,
И быстрый говор: – Какова?
Его семерка туз взяла!
Перебивают как умело,
Как загоняют далеко!
Играет здесь лишь смелый,
Глядеть и жутко и легко!
Вот бес совсем зарвался, –
Отчаянье пусть снимет гнет! –
Удар… смотри – он отыгрался,
Противник охает клянет.
О как соседа мерзка харя!
Чему он рад чему?
Или он думает, ударя,
Что мир покорствует ему?
– Моя! – черней воскликнул сажи;
Четой углей блестят зрачки, –
В чертог восторга и продажи
Ведут счастливые очки!..
Сластолюбивый грешниц сейм
Виясь, как ночью мотыльки,
Чертит ряд жарких клейм
По скату бесовской руки…
И проигравшийся тут жадно
Сосет разбитый палец свой,
Творец систем, где все так ладно,
Он клянчит золотой!..
А вот усмешки, визги, давка,
Что? что? Зачем сей крик?
Жена стоит, как банка ставка,
Ее обнял хвостач старик.
Она красавица исподней
Взошла, дыхание сдержала,
И дышит грудь ее свободней
Вблизи веселого кружала.
И брошен вверх веселый туз,
И пала с шелестом пятерка,
И крутит свой мышиный ус
Игрок суровый смотрит зорко…
. . . . . . . . . .
И в нефти корчившийся шулер
Спросил у черта: – Плохо брат?
Затрепетал… – Меня бы не надули!
Толкнул соседа шепчет: – Виноват!..
С алчбой во взоре просьбой денег
Сквозь гомон, гам и свист,
Свой опустя стыдливо веник
Стояла ведьма… липнул лист
А между тем варились в меди
Дрожали, выли и ныряли
Ее несчастные соседи…
(Здесь судьи строго люд карали!)
И влагой той, в которой мыла
Она морщинистую плоть,
Они, бежа от меди пыла,
Искали муку побороть.
И черти ставят единицы
Уставшим мучиться рабам,
И птиц веселые станицы
Глаза клюют, припав к губам…
Здесь председатель вдохновенно
Прием обмана изъяснял,
Все знали ложь, но потаенно
Урвать победу всяк мечтал!
Тут раненый не протестуя
Приемлет жадности удар,
О боли каждый уж тоскует,
И случай ищется как дар.
Здесь клятвы знают лишь на злате,
Прибитый долго здесь пищал,
Одежды странны: на заплате
Надежды луч протрепетал…
И вот на миг вошло смятенье, –
Уж проигравшийся дрожал, –
Тут договор без снисхожденья:
Он душу в злато обращал!
Любимец ведьм венец красы
Под нож тоскливый подведен,
Ничком упал он на весы
А чуб белей чем лен.
И вот разрезан он и стружки,
Как змейки, в воздухе дрожат,
Такие резвые игрушки
Глаза сожженные свежат!
Любовниц хор, отравы семя,
Над мертвым долго хохотал,
И – вкуса злость – златое темя
Их коготь звонко скрежетал!..
Обогащенный новым даром
Счастливец стал добрее
И, опьяненный сладостным угаром,
Играет он смелее!
Но замечают черти: счастье
Все валит к одному;
Такой не видели напасти –
И все придвинулись к нему.
А тот с улыбкой скромной девы
И светлыми глазами,
Был страшен в тихом гневе,
Все ворожа руками.
Он, чудилося, скоро
Всех обыграет и спасет
Для мук рожденных и позора, –
Чертей бессилит хладный пот.
Но в самый страшный миг
Он услыхал органа вой,
И испустил отрадный крик,
О стол ударился спиной.
И все увидели: он ряжен
И рана в нем давно зияла
И труп сожжен обезображен
И крест одежда обнажала.
Но миг – и нет креста,
И все кто видел – задрожал,
Почуяв в сердце резь хлыста,
И там заметивши кинжал…
Спасеный чует мести ярость
И сил прилив богатый,
Горит и где усталость?
И строен стал на час горбатый!..
Разгул растет и ведьмы сжали
В когтях ребенка-горбуна,
Добычу тощую пожрали
Верхом на угольях бревна…
– Пойми! Пойми! Тебе я дадена!
Твои уста, запястья, крути, –
И полуобраз полутадина
Локтями тянется к подруге…
И ягуары в беге злобном
Кружатся вечно близ стола,
И глазом зелени подобным,
Бросалась верная стрела…
Еще! еще! и горы злата
Уж давят видом игрока,
Монет наполнена палата,
Дрожит усталая рука.
И стены сжалися, тускнея,
И смотрит зорко глубина,
Вот притаились веки змея,
И веет смерти тишина…
И скука, тяжко нависая,
Глаза разрежет до конца,
Все мечут банк и, загибая,
Забыли путь ловца.
И лишь томит одно виденье
Первоначальных райских дней,
Но строги каменные звенья,
И миг – мечтания о ней!..
И те мечты не обезгрешат:
Они тоскливей, чем игра…
Больного ль призраки утешат?
Жильцу могилы ждать добра?..
Промчатся годы – карты те же
И та же злата желтизна,
Сверкает день – все реже, реже,
Печаль игры, как смерть сильна!
От бесконечности мельканья
Туманит, горло всем свело,
Из уст клубится смрадно пламя
И зданье трещину дало.
К безумью близок каждый час,
В глаза направлено бревно,
Вот треск… и грома глас…
Игра обвал – им все равно!..
. . . . . . . . . .
Все скука угнетает…
И грешникам смешно…
Огонь без пищи угасает
И занавешено окно…
И там, в стекло снаружи,
Все бьется старое лицо,
Крылом серебряные мужи
Овеют двери и кольцо.
Они дотронутся промчатся,
Стеная жалобно о тех,
Кого родили… дети счастья
Все замолить стремятся грех…
1912
Мудрость в силке*
Славка беботэу-вевять!
Вьюрок тьерти-едигреди!
Овсянка кри-ти-ти-ти тии!
Дубровник вьор-вэр-виру, сьек, сьек, сьек!
Дятел Тпрань! Тпрань, Тпрань а-ань!
Пеночка зеленая прынь, пцирэб, пциреб! Пцыреб э, сэ, сэ!
Славка беботэу-вевять!
Лесное божество с распущенными волнистыми волосами, с голубыми глазами, прижимает ребенка.
Но знаю я, пока живу,
Что есть уа, что есть ау.
Покрывает поцелуями голову ребенка.
Славка беботэу-вевять!
<1914>
Ночь в Галиции*
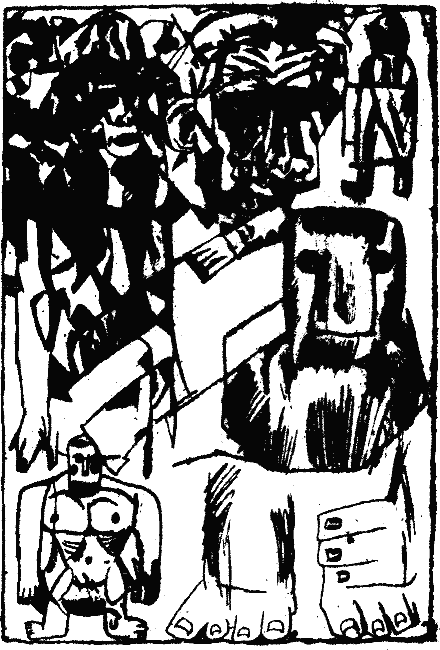
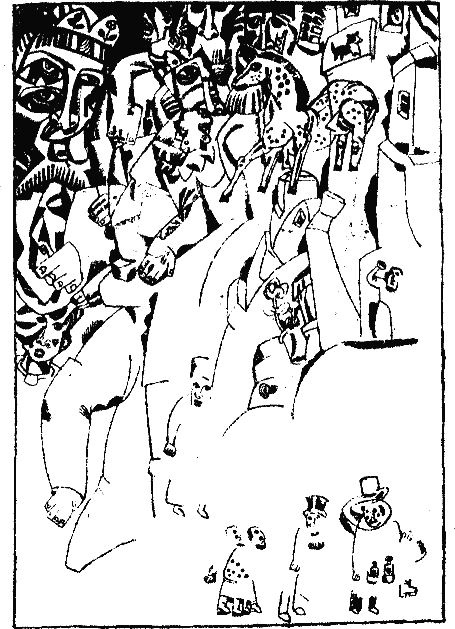
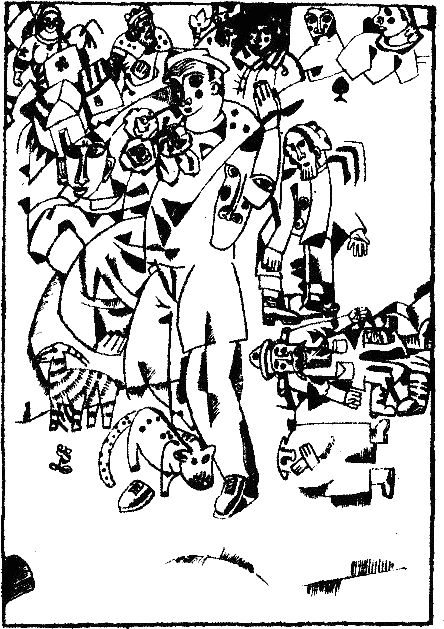
«Ни хрупкие тени Японии…»*
Ни хрупкие тени Японии,
Ни вы, сладкозвучные Индии дщери,
Не могут звучать похороннее,
Чем речи последней вечери.
Пред смертью жизнь мелькает снова,
Но очень скоро и иначе
И это правило – основа
Для пляски смерти и удачи.
<1915>
«Где волк воскликнул кровью…»*
Где волк воскликнул кровью:
Эй! я юноши тело ем,
Там скажет мать «дала сынов я» –
Мы старцы, рассудим, что делаем.
Правда, что юноши стали дешевле?
Дешевле земли, бочки воды и телеги углей?
Ты, женщина в белом, косящая стебли,
Мышцами смуглая, в работе наглей.
«Мертвые юноши! Мертвые юноши!»
По площадям плещется стон городов.
Не так ли разносчик сорок и дроздов,
– Их перья на шляпу свою нашей.
Кто книжечку издал: – «песни последних оленей»
Висит, рядом с серебряной шкуркою зайца,
Продетый кольцом за колени
Там, где сметана, мясо и яйца.
Падают брянские, растут у Манташева.
Нет уже юноши, нет уже нашего
Черноглазого короля беседы за ужином.
Поймите он дорог поймите он нужен нам.
<1915>
Печальная новость 8 апр. 1916*
Как и я, верх неги.
Я оскорбленный, за людей, что они такие,
Я, вскорменный лучшими зорями России,
Я, повитой лучшими свистами птиц,
Свидетели вы, лебеди, дрозды, и журавли
Во сне привлекший свои дни,
Я тоже возьму ружье (оно большое и глупое,
Тяжелее почерка)
И буду шагать по дороге
Отбивая в сутки 365. 317 ударов – ровно
И устрою из черепа брызги
И забуду о милом государстве 22-летних,
Свободном от глупости старших возрастов,
Отцов семейства (общественные пороки возрастов старших)
Я написавший столько песен.
Что их хватит на мост до серебряного месяца.
Нет! Нет! Волшебница
Дар есть у меня, сестры небоглазой
С ним я распутаю нить человечества
Не проигравшего глупо
Вещих эллинов грез.
Хотя мы летаем.
Я ж негодую на то, что слова
Нет у меня, чтобы воспеть
Мне изменившую избранницу сердца.
Нет в плену я у старцев злобных
Хотя я лишь кролик пугливый и дикий,
А не король государства времен
Как называют меня люди.
Шаг небольшой, только ик,
И упавшее О – кольцо золотое,
Что катается по полу
<1917>
«Свобода приходит нагая…»*
Свобода приходит нагая
Бросая на сердце цветы,
И мы с нею в ногу шагая,
Беседуем с небом на ты.
Мы воины смело ударим
Рукой по веселым щитам,
Да будет народ государем
Всегда, навсегда, здесь и там.
Пусть девы споют у оконца
Меж песень о древнем походе
О верноподданном Солнце,
Самодержавном народе.
<1917>
«В этот день голубых медведей…»*
В этот день голубых медведей,
Пробежавших по тихим ресницам,
Я провижу за синей водой
В чаше глаз приказанье проснуться.
На серебряной ложке протянутых глаз
Мне протянуто море и на нем буревестник
И к шумящему морю, вижу, птичая Русь
Меж ресниц пролетит неизвестных.
Но моряной любес опрокинут
Чей-то парус в воде кругло-синей
Но за то в безнадежное канут
Первый гром и путь дальше весенний.
<1919>
«Детуся! Если устали глаза быть широкими…»*
Детуся! Если устали глаза быть широкими,
Если согласны на имя «браток»
Я, синеокий клянуся,
Высоко держать вашей жизни цветок.
Я ведь такой же, сорвался я с облака,
Много мне зла причиняли
За то что не этот,
Всегда нелюдим,
Везде нелюбим.
Хочешь мы будем, брат и сестра,
Мы ведь в свободной земле свободные люди,
Сами законы творим, законов бояться не надо
И лепим глину поступков.
Знаю, прекрасны вы, цветок голубого.
И мне хорошо и внезапно
Когда говорите про Сочи
И нежные ширятся очи.
Я сомневавшийся долго во многом.
Вдруг я поверил навеки
Что предначертано там,
Тщетно рубить дровосеку!..
Много мы лишних слов избежим.
Просто я буду служить вам обедню
Как волосатый священник с длинною гривой
Пить голубые ручьи чистоты
И страшных имен мы не будем бояться.
13/IX – 1921
Одинокий лицедей*
И пока над царским селом
Лилось пенье и слезы Ахматовой,
Я, моток волшебницы разматывая,
Как сонный труп влачился по пустыне,
Где умирала невозможность.
Усталый лицедей
Шагая на пролом
А между тем курчавое чело
Подземного быка в пещерах темных
Кроваво чавкало и кушало людей
В дыму угроз нескромных
И волей месяца окутан
Как в сонный плащ вечерний странника,
Во сне над пропастями прыгал
И шел с утеса на утес.
Слепой я шел пока
Меня свободы ветер двигал,
И бил косым дождем.
И бычью голову я снял с могучих мяс и кости
И у стены поставил:
Как воин истины я ею потрясал над миром:
Смотрите, вот она!
Вот то курчавое чело! которому пылали раньше толпы!
И с ужасом
Я понял что я никем не видим:
Что нужно сеять очи,
Что должен сеятель очей! идти.
Конец 1921 – начало 1922
«Еще раз, еще раз…»*
Еще ра́з, еще ра́з,
Я для Вас
Звезда
Горе моряку, взявшему
Неверный угол своей ладьи
И звезды
Он разобьется о камни
О подводные мели.
Горе и вам взявшим
Неверный угол сердца ко мне.
Вы разобьетесь о камни
И камни будут надсмехаться
Над вами
Как вы надсмехались
Надо мной.
<1922>
Давид Бурлюк*
«И тут из провинции приехал Давид Бурлюк. <…> Гениальный организатор, художник большого мастерства, человек, сознательно изменяющий живопись. Человек в ободранных брюках, одноглазый, остроумный и с лорнетом.
Вот тут и зашумело.
Он ссорил и понимал. И в своем плацдарме в живописи понимал хорошо, соединял, нападал. Ходил в Эрмитаж, зарисовывал мускулы и сознательно писал новое.
Это был вождь»[95]. В этой характеристике В. Шкловский отметил главное, что определяет место Давида Давидовича Бурлюка в истории русского футуризма, – его организаторский талант. Именно ему принадлежит решающая роль в запуске маховика футуристического механизма.
Начинал Бурлюк как художник. Он учился живописи в Казани, Одессе и Мюнхене. Входил в группу «Венок – Стефанос». Участвовал в выставке «Бубновый валет» (декабрь 1910 – январь 1911) и в дальнейшем был активным членом одноименного общества художников.
В 1910 году Д. Бурлюк дебютировал как поэт в двух альманахах, положивших начало русскому футуризму, – «Студия импрессионистов» и «Садок судей» (оба – СПб., 1910).
Именно Бурлюк сплотил вокруг себя группу поэтов и художников, названных позже кубофутуристами.
Одно из самых значительных открытий Бурлюка – Маяковский-поэт. «Маяковского он поднес на блюде публике, разжевал и положил в рот. Он был хорошим поваром футуризма и умел „вкусно подать“ поэта», – писал позже В. Шершеневич[96]. Это подтверждал и сам Маяковский: «Всегдашней любовью думаю о Давиде. Прекрасный друг. Мой действительный учитель. Бурлюк сделал меня поэтом»[97]. Заботился Бурлюк и о других поэтах (значительна, например, его роль в издании произведений В. Хлебникова).
Д. Бурлюк был организатором многочисленных публичных выступлений футуристов, в том числе турне по югу России зимой 1913–1914 годов. Он был инициатором и активным участником многих кубофутуристических изданий; при этом первый персональный сборник самого Бурлюка – «Лысеющий хвост» – вышел лишь в 1919 году (в Кургане).
В глазах общественности Д. Бурлюк являлся своеобразной персонификацией русского футуризма. Его скандальные выступления, вызывающий антиэстетизм в поэзии и живописи, экстравагантный внешний вид зачастую воспринимались как сущность футуристического движения. Известный театральный деятель Н. Евреинов вспоминал, что «одно время выражение „бурлюкать“ было принято в наших художественных кругах как terminus technicus[98]».[99] Бытовавшие в то время неологизмы «бурлюкать», «бурлюканье», «бурлючье» приводит в своих мемуарах и Б. Лившиц[100]. В реальном плане обобщение «Бурлюки» подтверждается тем, что в движении, кроме Давида Бурлюка, участвовали его братья – поэт Николай и художник Владимир, а эпизодически и сестры – Людмила, Марианна и Надежда. «„Бурлюки“, – вспоминает художник А. Лентулов, – это уже название собирательное, ставшее в конце концов нарицательным»[101]. Однако тот же Лентулов указывает и на двойственность личности Д. Бурлюка: «По натуре Бурлюк был семьянин-обыватель, не стремящийся к роскоши. Он был очень неприхотливым, очень экономным человеком и никогда не позволял себе ничего лишнего, экономя средства, выдаваемые папашей.
Трудно было разобраться, где настоящий, подлинный Бурлюк. Кто он на самом деле? Ярый анархист, апологет футуризма или просто обыкновенный мещанин?»[102]
Одно из названий группы кубофутуристов – «Гилея» – восходит к древнегреческому названию области в Скифии, в устье Днепра, где в 1907–1914 годах жила семья Бурлюков. «Бурлючий кулак, – вспоминает Лившиц, – вскормленный соками древней Гилей, представлялся мне наиболее подходящим оружием для сокрушения несокрушимых твердынь»[103].
После революции, в марте 1918 года, Д. Бурлюк уехал из Москвы. В 1918–1920 годах он ездил по городам Урала, Сибири и Дальнего Востока, пропагандируя современное искусство. Участвовал в дальневосточном журнале «Творчество». В 1920 году Д. Бурлюк отбыл в Японию, а в сентябре 1922 года – в США ставшие постоянным местом его проживания (американское гражданство он получил в 1930 году). Дважды, в 1956 и 1965 годах, Бурлюк посещал СССР.
«Какой глухой слепой старик!..»*
Op. № 34.
Какой глухой слепой старик!
Мы шли с ним долго косогором,
Мне надоел упорный крик,
Что называл он разговором,
Мне опротивели глаза,
В которых больше было гноя,
Чем зрения, ему стезя
Была доступна, – вел его я.
И вот пресекся жалкий день,
Но к старику нет больше злобы,
Его убить теперь мне лень,
Мне мертвой жаль его утробы.
1907
«Внизу журчит источник светлый…»*
Ор. № 30.
Внизу журчит источник светлый,
Вверху опасная стезя,
Созвездия вздымают метлы,
Над тихой пропастью скользя.
Мы все приникли к коромыслам
Под блеском ясной синевы,
Не уклонялся от смысла
И Я, и
ТЫ, и
МЫ, и
Вы.
1908
«Стальные, грузные чудовища…»*
Ор. № 32.
Стальные, грузные чудовища
ОРАНЖЕВЫЙ подъемлют крик,
Когда их слышу ржанье, нов еще
Мне жизни изможденный лик.
На колеях стальных, жестокие,
Гилиотинами колес,
Стуча, трясете, многоокие,
Немую землю – троп хаос.
Вы в города обледенелые
Врываетесь из темных нив,
Когда ЧАСЫ лукаво СПЕЛЫЕ
Свой завершат живой прилив.
1908
«Кто стоял под темным дубом…»*
Op. № 28.
Инструментовано на «С»
Кто стоял под темным дубом
И, склоняя лик лиловый
Извивался пряным кубом,
Оставался вечно новым,
Сотрясая толстым шлемом,
Черепашьей скорлупой,
Ты клялся всегда триремам,
СТРАЖНИК РАДОСТИ СЛЕПОЙ.
1909
«Среди огней под черным небом…»*
Ор. № 31.
Среди огней под черным небом,
Безликой прелестью жива,
Вознесена к суровым требам
Твоя поспешно голова.
За переулком переулок,
Сожравши потрясенный мост,
Промчишься мимо медных булок,
Всегда, сияющий и прост.
А там, на синей высоте
Кружит твоя прямая стрелка,
На каждой времени версте
Торчит услужливо горелка.
1909
«ТРУБА БЫЛА зловеще ПРЯМОЙ…»*
Ор. № 33.
ТРУБА БЫЛА зловеще ПРЯМОЙ
ОПАСНАЯ ЛУНА умирала,
Я шел домой,
Вспоминая весь день сначала.
С утра было скучно,
К вечеру был стыд.
Я был на площади тучной
И вдруг заплакал навзрыд.
Труба была трагически прямой,
Зловещая луна УМЕРЛА.
Я так и не пришел домой,
Упав у темного угла.
1909
Праздно голубой*
Зеленый дух, метнул как смело камень
В глубь озера, где спали зеркала.
Взгляни теперь, как ярый вспыхнул пламень,
Где тусклая гнездилась мгла.
Как бессердечен ты, во мне проснулась жалость
К виденьям вод, разрушенным тобой.
Тебя сей миг сдержать хотелось малость
Над бездной праздно голубой.
<1910>
Зеленое и голубое*
Презрев тоску, уединись к закату,
Где стариков живых замолкли голоса.
Кто проклинал всегда зеленую утрату,
Тот не смущен победным воем пса.
О золотая тень, о голубые латы!
Кто вас отторг хоть раз, тот не смутится днем.
Ведь он ушел навек, орел любви крылатый,
И отзвук радости мы вожделенно пьем.
<1910>
«Шестиэтажный возносился дом…»*
Ор. 8.
Шестиэтажный возносился дом
Чернели окна скучными рядами
И ни одно не вспыхнуло цветком
Звуча знакомыми следами.
О сколько взглядов пронизало ночь
И бросилось из верхних этажей.
Безумную оплакавшие дочь
Под стук не спящих сторожей.
Дышавшая на свежей высоте
Глядя в окно под неизвестной крышей
Сколь ныне чище ты и жертвенно святей
Упавши вниз ты вознеслася выше.
«Немая ночь людей не слышно…»*
Op. 9.
Немая ночь людей не слышно
В пространствах царствие зимы.
Здесь вьюга наметает пышно
Гробницы белые средь тьмы
Где фонари где с лязгом шумным
Скользят кошмарно поезда
Твой взгляд казался камнем лунным
Он как погасшая звезда.
Как глубоко под черным снегом
Прекрасный труп похоронен.
Промчись промчись же шумным бегом
В пар увиясь со всех сторон.
<1910>
«Со звоном слетели проклятья…»*
Ор. 10.
Со звоном слетели проклятья
Разбитые ринулись вниз
Раскрыл притупленно об'ятья
Виском угодил на карниз
Смеялась вверху колокольня
Внизу собирался народ
Старушка была богомольна
Острил и пугал идиот.
Ниц мертвый лежал неподвижно
Стеклянные были глаза
Из бойни безжалостно ближней
Кот лужу кровавый лизал.
<1910>
«Монах всегда молчал…»*
Ор. 15.
Монах всегда молчал
Тускнели очи странно
Белела строго панна
От радостных начал
Кружилась ночь вокруг
Свивая покрывала
Живой родной супруг
Родник двойник металла
Кругом как сон как мгла
Весна жила плясала
Отшельник из металла
Стоял в уюте зла.
<1910>
«ЛАЗУРЬ БЕСЧУВСТВЕННА, – я убеждал старуху…»*
Ор. № 36.
«ЛАЗУРЬ БЕСЧУВСТВЕННА», – я убеждал старуху,
«Оставь служить скелетам сиплых трав,
Оставь давить раскормленную муху,
Вождя назойливо взлетающих орав».
С улыбкой старая листам речей внимала,
Свивая сеть запутанных морщин,
Срезая злом уснувшего металла
Неявный сноп изысканных причин.
1910
«Какой позорный черный труп…»*
Ор. № 39.
Какой позорный черный труп
На взмыленный дымящий круп
Ты взгромоздил неукротимо…
Железный груз забытых слов
Ты простираешь мрачно вновь
Садов благословенных мимо.
Под хладным озером небес.
Как бесконечно юркий бес,
Прельстившийся единой целью!
И темный ров и серый крест
И взгляды запыленных звезд
Ты презрел трупною свирелью.
1911
Лето*
Ленивой лани ласки лепестков
Любви лучей лука
Листок летит лиловый лягунов
Лазурь легка
Ломаются летуньи листокрылы
Лепечут
ЛОПАРИ ЛАЗОРЕВЫЕ ЛУН
Лилейные лукавствуют леилы
Лепотствует ленивый лгун
Ливан лысейший летний ларь ломая
Литавры лозами лить лапы левизну
Лог лексикон лак люди лая
Любовь лавины = латы льну.
1911
«Рыдаешь над сломанной вазой…»*
Рыдаешь над сломанной вазой,
Далекие туч жемчуга
Ты бросила меткою фразой
За их голубые рога.
Дрожат округленные груди,
Недвижим рождающий взгляд
Как яд погребенный в сосуде
Отброшенный весок наряд.
Иди же я здесь поникаю
На крылья усталости странной;
Мгновеньем свой круг замыкаю
Отпавший забавы обманной.
<1912>
«Зазывая взглядом гнойным…»*
Зазывая взглядом гнойным
Пеной желтых сиплых губ
Станом гнутым и нестройным
Сжав в руках дырявый куб
Ты не знаешь скромных будней
Брачных сладостных цепей
Беспощадней непробудней
Средь медлительных зыбей.
<1912>
«Поля черны, поля темны…»*
Поля черны, поля темны
Влеки влеки шипящим паром.
Прижмись доскам гробовым нарам –
Часы протяжны и грустны.
Какой угрюмый полустанок
Проклятый остров средь морей,
Несчастный каторжник приманок,
Бегущий зоркости дверей.
Плывет коптящий стеарин,
Вокруг безмерная Россия,
Необозначенный Мессия
Еще не сознанных годин.
1912
«ПЛАТИ – покинем НАВСЕГДА уюты сладострастья…»*
ПЛАТИ – покинем НАВСЕГДА уюты сладострастья.
ПРОКИСШИЕ ОГНИ погаснут ряби век
Носители участья
Всем этим имя человек.
Пускай судьба лишь горькая издевка
Душа – кабак, а небо – рвань
ПОЭЗИЯ – ИСТРЕПАННАЯ ДЕВКА
а красота кощунственная дрянь.
1912
Незаконорожденные*
. . . . . . . . . . зловонные заплаты
Младенческих утроб и кадмий и кобальт
Первичные часы расплаты и горбаты
И ярко красный возникает альт
Отхожих ландышей влекомой беленою
Смутить возможно ли усладу матерей
Пришедшие ко мне я ничего не скрою
Вас брошенных за жребием дверей.
<1913>
Мертвое небо*
Ор. 60
«Небо – труп»!! не больше!
Звезды – черви – пьяные туманом
Усмиряю боль ше – лестом обманом
Небо – смрадный труп!!
Для (внимательных) миопов
Лижущих отвратный круп
Жадною (ухваткой) эфиопов.
Звезды – черви – (гнойная живая) сыпь!!
Я охвачен вязью вервий
Крика выпь.
Люди-звери! Правда звук!
Затворяйте же часы предверий
Зовы рук
Паук.
<1913>
«Я пью твоих волос златые водоемы…»*
Ор. 52.
Я пью твоих волос златые водоемы
Растят один вопрос в пыли старея томы
На улице весной трепещут ярко флаги
Я прав как точный ной презревший злобу влаги
Над темнотой застыл скелетик парохода
Не прочен старый тыл цветущая природа
Весной права судьба поклонников чертога
Немолчная гурьба
Взыскующая бога
Припав к зрачкам обид к округлости копыта
Являешь скорбный вид растроганный до сыта
<1913>
«Закат Прохвост обманщик старый…»*
Ор. 72.
Закат Прохвост обманщик старый.
Сошел опять на тротуары
Угода брызжущим огням
И лесть приветливым теням.
Скрывая тину и провалы
Притоны обращая в залы
И напрягая встречный миг
Монашество сметать вериг
Но я суровость ключ беру
И заперев свою дыру
Не верю легкости
Теней
Не верю мягкости
Огней.
Закат-палач рубахе красной
Ловкач работаешь напрасно
Меня тебе не обмануть
Меня далек твой «скользкий» путь.
<1913>
И. А. Р.*
Ор. 75.
Каждый молод молод молод
В животе чертовский голод
Так идите же за мной…
За моей спиной
Я бросаю гордый клич
Этот краткий спич!
Будем кушать камни травы
Сладость гореч и отравы
Будем лопать пустоту
Глубину и высоту
Птиц, зверей, чудовищ, рыб,
Ветер, глины, соль и зыбь!
Каждый молод молод молод
В животе чертовский голод
Все что встретим на пути
Может в пищу нам идти.
<1913>
«Закат маляр широкой кистью…»*
Закат маляр широкой кистью
Небрежно выкрасил дома
Не побуждаемый корыстью
Трудолюбивый не весьма
И краска эта как непрочна
Она слиняла и сошла
Лишь маляра стезя порочна
К забавам хмельным увела
<1913>
«Глубился в склепе, скрывался в башне…»*
Там вопли славословий глуше
Среди возвышенных громад
Глубился в склепе, скрывался в башне
И УЛОВЛЯЛ певучесть стрел,
Мечтал о нежной весенней пашне
И как костер ночной горел.
А в вышине
УЗОР СОЗВЕЗДИЙ Чуть трепетал,
НО соблазнял
И приближал укор возмездий,
Даря отравленный фиал.
Была душа больна
ПРОКАЗОЙ О, пресмыкающийся раб,
Сатир несчастный, одноглазой,
ДОИТЕЛЬ ИЗНУРЕННЫХ ЖАБ
. . . . . . . . . .
И вот теперь на фоне новом
Взошла несчетная весна.
О воскреси, губитель, словом.
Живи небесная жена.
<1914>
«Луна старуха просит подаянья…»*
Луна старуха просит подаянья
У кормчих звезд, у луговых огней,
Луна не в силах прочитать названья
Без помощи коптящих фонарей.
Луна, как вша, ползет небес подкладкой.
Она паук, мы в сетках паутин,
Луна – матрос своей горелкой гадкой
Бессильна озарить сосцы больных низин.
<1914>
Зимнее время*
Сумерки падают звоном усталым.
Ночь, возрасти в переулках огни.
Он изогнулся калачиком малым,
ОН (шепчет):
«в молитвах меня помяни,
Я истомлен, я издерган, изжален,
Изгнан из многих пристанищ навек,
Я посетитель столовых и спален,
Я женодар, пивовар, хлебопек.
Жизнь непомерно становится тесной,
Всюду один негодующий пост,
Я захлебнусь этой влагою пресной,
С горя сожру свой лысеющий хвост».
Стонет учтиво и ласковым оком
Хочет родить состраданье во мне.
Я:
«Друг мой (не надобно быть и пророком)
Ты оживешь по ближайшей весне».
<1914>
«Солнцу светить ведь не лень…»*
Солнцу светить ведь не лень,
Ветру свистеть незадача,
Веточку выбросит пень,
Море жемчужину, плача.
Мне же не жалко часов,
Я не лишуся охоты
Вечно разыскивать слов
Дружно шагающих роты…
<1914>
«Ушел и бросил беглый взгляд…»*
Ушел и бросил беглый взгляд
Неуловимого значенья,
И смутно окрылился зад
Им зарожденного влеченья,
Проткнулась тощая стезя
И заколдованные злаки
Лишь рвутся следом, егозя,
Воспоминанья раки.
<1914>
«Часы толпа угрюмых старцев…»*
Часы толпа угрюмых старцев
Дрожит их задержав засов.
И скуден изможденный дар цевниц лепечущих как некий хлебодар
Но я! я! виночерпий
Я ломаю свой череп и
Свою душу…
<1914>
«Ты нюхал облака потливую подмышку…»*
Ты нюхал облака потливую подмышку
Мой старый ворон пес
Лилово скорбный нос
Гробовую завистливую крышку
Дела и дни и обольщенья
И вечный сумерек вопрос
Корсеты полосатых ос
Достойны вечного презренья
И скорбны тайны заповеди бренной
Разрушится как глиняный колосс
Затерян свалочный отброс
Своей улыбкою надменной.
<1914>
«Серые дни…»*
Серые дни
ОСЕННИЙ НАСОС мы одни
Отпадает нос.
Серые дни
Листья = хром (желтая дешевая краска)
Мы одни
Я хром
Серые дни
Увядание крас
Мы одни
Вытекает глаз.
Осенние утешения.
<1914>
Железнодорожные посвистывания*
ПлатфоРма – гРядка блещущих огней
Осенний дождь цаРапает метлою
Лицо стены толпящихся людей
ДоРожному пРипавших АНАЛОЮ.
«Огни живут»?!! – уместны эти шутки
О полночь остРяков
ДыРявых толстяков
ПоРа отбРосить ветРа пРибаутки
и быть = ЗОЛОЮ.
<1914>
Зимний поезд*
Склонений льдистых горнее начало
Тропа снегов = пути белил
Мороз = укусы = жало
И скотских напряженье жил
Шипенье пара
Лет далеких искр
уход угара
диск
Р.
<1914>
Участь*
Портреты на стене =
Большие мухи
О мерзостной весне
Далекой слухи
Столы – где писаря
Ведут тюрьмы дневник
А бледная заря
Затоптанный родник
Окурки и следы
Заплеванных калош
И бурки и суды
Скандальный труп – дебош
Портреты на стене =
Раздавленные мухи
О жертве о весне
Непостоянны слухи.
<1914>
Железная дорога*
Бросить в окошко
Мутностью пены
Забытые стены
Святыней гиены
Деревня как гнилушка
Чуть-чуть видна дали
Так утлая старушка
Сифилитической пыли.
<1914>
Фонарь*
Вонзивший розу жало1)
Гробовый ларь2)
Темнот кружало3)
Земная жуть
Дает вздохнуть
Тоске
Что в пауке4)
Зародыш странный
Путь
Обманный
Отсек
Их белых ног
Порог
Калек.
Поэтический ключ.
1) огни.
2) вагон.
3) ночь.
4) часы.
<1914>
Поющая ноздря*
Кует кудесный купол крики
Вагон валящийся ваниль.
Заторопившийся заика
Со сходством схоронил.
1914
Ростов Дон
Плодоносящие*
Мне нравится беременный мужчина
Как он хорош у памятника Пушкина
Одетый серую тужурку
Ковыряя пальцем штукатурку
Не знает мальчик или девочка
Выйдет из злобного семечка?!
Мне нравится беременная башня
В ней так много живых солдат
И вешняя брюхатая пашня
Из коей листики зеленые торчат.
<1915>
«Пространство = гласных…»*
Пространство = гласных
Гласных = время!..
(Бесцветность общая и вдруг)
Согласный звук горящий муж –
Цветного бремения темя!..
Пустынных далей очевидность
Горизонтальнось плоских вод
И схимы общей безобидность
О гласный гласных хоровод!
И вдруг ревущие значенья
Вдруг вкрапленность поющих тон
Узывности и оболыценья
И речи звучной камертон.
Согласный звук обсеменитель
Носитель смыслов, живость дня,
Пока поет соединитель
Противоположностью звеня.
<1915>
Вновь*
Андрею Акимовичу Шемшурину
Где синих гор сомкнулся полукруг,
Старинных дней Италии, – далекой
Жестоких севера заиндевевших вьюг,
Широкий профиль бросил храм высоко.
Волчицей Ромул вскормленный, что Рим
Впервые очертил (веках) могучим плугом,
И Татиус-король Сабинянами чтим
Его воздвигли Янусу почтении сугубом.
И годы светлые, свирелью пастухов
Звучащие, несущих колос, нивах,
Прочнейший на дверях его висит засов –
Хранитель очагов счастливых.
Когда же воинов на поле бранный клич
Зовет мечей и копий строем,
Войны, войны подъят разящий бич:
«Мы двери Януса кровавые откроем»!
Январской стужи близится чело.
О Янус званный голубыми днями!
Офортные штрихи, о сумрачный Калло!
Нежданно вставшие пред нами…
И эти дни возгромоздился храм,
Громах батальной колесницы…
Но нынче храм сердцах (как гнезда тяжких ран)…
Отверзты входа черные зеницы…
<1915>
Превосходства*
1.
Небо чище, небо выше
Всех кто здесь прилежно дышит,
2.
А вода всегда светлей
Девьих призрачных очей.
3.
И нежней речной песок,
чем согретый твой сосок.
4.
Камень, камень ты умней,
Всех задумчивых людей.
5.
И безмернее машина
Силе хладной исполина.
<1915>
«Звуки на а широки и просторны…»*
Звуки на а широки и просторны,
Звуки на и высоки и проворны,
Звуки на у, как пустая труба,
Звуки на о, как округлость горба,
Звуки на е, как приплюснутость мель,
Гласных семейство смеясь просмотрел.
<1915>
«Кинулся – камни, а щелях живут скорпионы…»*
Кинулся – камни, а щелях живут скорпионы…
Бросился бездну, а зубы проворной акулы…
Скрыться высотах? – разбойников хищных аулы.
Всюду таится Дух Гибели вечнобессонной!
<1916>
Хор блудниц*
Мы всегда тяготели ко злу,
Завивая свой танец нескромный,
Собираяся роще укромной,
Поклонялись любовно козлу.
И носили извивы одежд,
Штоб греховней была сокровенность,
Для блудящевзыскующих вежд
Нежноформ обольщающих пенность –
(Не луны замерзающий луч)
И не мрамор блестяще каррарский
Исступленною страстью тягуч
Тетивы сухожилья татарской.
Остролоктных угольники рук,
Ненасытность и ласк и свиваний –
Жгучепламенный розовый круг,
Что охочей, длинней и желанней…
Мы всегда прибегали козлу,
Распустив свои длинные косы
И нас жалили жадные осы,
Припадавших истоме ко злу.
<1916>
Аршин гробовщика*
На глаз работать не годится!..
Сколотишь гроб, мертвец нейдет:
Топорщит лоб иль ягодица,
Под крышкой пучится живот…
Другое дело сантиметром
Обмеришь всесторонне труп:
Готовно влез каюту фертом –
Червекомпактнорьяный суп.
На глаз работать не годиться!..
И трезвый, пьяный гробовщик
Не ковыряет палкой спицы
Похабноспешной колесницы,
Что исступленно верещит
Подоплеухою денницы.
<1916>
Владимир Маяковский*
17 ноября 1912 года в петербургском артистическом кафе «Бродячая собака» впервые выступил перед публикой начинающий поэт Владимир Маяковский. Через месяц его имя появилось под вызывающим манифестом, открывающим футуристический альманах «Пощечина общественному вкусу», рядом с именами Д. Бурлюка, А. Крученых и В. Хлебникова. В этом же сборнике впервые были представлены читателям его стихотворения. Пройдет не больше года, и Владимир Владимирович Маяковский займет одно из центральных мест в русском футуризме. Первому выступлению в печати предшествовали учеба в кутаисской и московской гимназиях, участие в революционной работе, три ареста, поступление в Училище живописи, ваяния и зодчества. Здесь произошло знакомство Маяковского с Д. Бурлюком, открывшим в нем поэта и взявшим его под свою опеку. «Пришлось писать, – вспоминал позже Маяковский. – Я и написал первое (первое профессиональное, печатаемое) – „Багровый и белый“ и другие»[104].
Маяковский вошел в русскую литературу резко и решительно. «С Маяковским произошло так, – писала М. Цветаева. – Этот юноша ощущал в себе силу, какую – не знал, он раскрыл рот и сказал: „Я!“ Его спросили: „Кто – я?“ Он ответил: „Я: Владимир Маяковский“. – „А Владимир Маяковский – кто?“ – „Я!“ И больше, пока, ничего. А дальше, потом, – всё»[105].
В 1913 году выходит первая книжка Маяковского «Я!», включившая цикл из четырех стихотворений и отпечатанная излюбленным футуристами литографическим способом. Произведения Маяковского публикуются во многих футуристических изданиях. Он много выступает перед публикой, дерзость его стихов, вызывающее поведение и эпатирующий внешний вид (знаменитая желтая кофта) часто приводили к тому, что выступления заканчивались скандалами и даже вмешательством полиции. Не случайно позже Ю. Тынянов писал, что Маяковский «был уличным происшествием. Он не доходил в виде книги»[106]. Этапными для истории русского футуризма стали постановка в декабре 1913 года трагедии «Владимир Маяковский», зимнее турне 1913–1914 годов по городам юга России, в котором Маяковский принимал участие, и выход в свет поэмы «Облако в штанах» (Пг., 1915). Не удивительно, что критики по Маяковскому часто оценивали футуризм в целом и ему, «Далай-Ламе от футуризма»[107], адресовали претензии, предназначенные для всего футуристического движения: «Ныне вся Россия знает, что есть на свете такой Маяковский, Крученых и подобные им. Для них важно, что к их тусклым характеристикам прикреплен ярлык руководителей нового движения, скандалом и рукоприкладством прокладывающего путь сквозь пеструю беспринципность нашего века.
И во имя этой Геростратовой славы, во имя хотя какой-либо известности вот уже третий год поджигаются зловонные петарды безобразнейших скандалов, заваливают нечистотами не только свое, но и вообще всякое искусство»[108].
Особое положение Маяковского в футуризме подтверждала первая книга о поэте «Стихи В. Маяковского: Выпыт» А. Крученых (СПб., 1914), носившая декларативный характер и касавшаяся общих вопросов движения:
«Маяковский – заговорившая жестяная рыба!
у него не душа а футуристский оркестр.
где приводимые в ход электричеством молотки колотят в кастрюли!
так жутко видеть не сердце а барабан водосточную трубу и трещотку.
<…>
и он дурит он пугает когда изображает безумие
в этом то наше (я говорю о будетлянах, т. наз. „кубофутуристах“) спасение!
безумие нас не коснется хотя, как имитаторы безумия, мы перещеголяем и Достоевского и Ницше!
хотя мы знаем безумие лучше их и заглядывали в него глубже певцов полуночи и хаоса!
ибо Хаос в нас и он нам не страшен!..»[109]
Однако некоторые критики, напротив, противопоставляли творчество Маяковского футуристической эстетике. Особенно настойчив в этом был К. Чуковский, писавший, что «Маяковский иллюзионист, визионер, Маяковский импрессионист, он им (футуристам. – Сося.) чужой совершенно, он среди них случайно, и сам же Крученых не прочь порою похихикать над ним»[110]; что город для Маяковского «не восторг, не пьянящая радость, а распятие, Голгофа, терновый венец, и каждое городское видение – для него словно гвоздь, забиваемый в самое сердце»[111]; что Маяковский «это кликуша, неврастеник, горластый, ему бы метаться по площади и кричать, рыдая: гниды вы! Его синтаксис бессвязен, его слова – сумасшедшие, но в них ударность, надрыв. И его косноязычие только придает ему мощь. Никогда не шепчет, не поет, всегда кричит из последнего голоса, до хрипоты, до судорог – и когда привыкнешь к его надсадному крику, почувствуешь здесь подлинное»[112].
Исключительность места Маяковского в истории русского футуризма отмечал в своих воспоминаниях Б. Пастернак: «Между тем в воздухе уже висела судьба гадательного избранника. Почти можно было сказать, кем он будет, но нельзя было еще сказать, кто будет им. По внешности десятки молодых людей были одинаково беспокойны, одинаково думали, одинаково притязали на оригинальность. Как движенье новаторство отличалось видимым единодушьем. Но, как в движеньях всех времен, это было единодушье лотерейных билетов, роем взвихренных розыгрышной мешалкой. Судьбой движенья было остаться навеки движеньем, то есть любопытным случаем механического перемещенья шансов, с того часа, как какая-нибудь из бумажек, выйдя из лотерейного колеса, вспыхнула бы у выхода пожаром выигрыша, победы, лица и именного значенья. Движенье называлось футуризмом. Победителем и оправданьем тиража был Маяковский»[113].
Революция 1917 года многое изменила во взглядах Маяковского на роль искусства в обществе, но многое он, главным образом поначалу, и унаследовал от футуризма. В 1918 году в «Открытом письме рабочим» он пишет: «Революция содержания – социализм-анархизм – немыслима без революции формы – футуризма»[114].
В последний период творчества (1924–1930), создавая искусство государственного назначения, Маяковский от футуризма практически отказался.
«У-/лица…»*
У-
лица.
Лица
у
догов
годов
рез-
че.
Че-
рез
железных коней
с окон бегущих домов
прыгнули первые кубы.
Лебеди шей колокольных,
гнитесь в силках проводов!
В небе жирафий рисунок готов
выпестрить ржавые чубы.
Пестр, как форель,
сын
безузорной пашни.
Фокусник
рельсы
тянет из пасти трамвая,
скрыт циферблатами башни.
Мы завоеваны!
Ванны.
Души.
Лифт.
Лиф души расстегнули,
Тело жгут руки.
Кричи, не кричи:
«Я не хотела!» –
резок
жгут
муки.
Ветер колючий
трубе
вырывает
дымчатой шерсти клок.
Лысый фонарь
сладострастно снимает
с улицы
черный чулок.
1913
«На чешуе жестяной рыбы…»*
На чешуе жестяной рыбы
Прочел я зовы вещих губ
А вы, ноктюрн сыграть могли бы
На флейтах водосточных труб?
Я стер границы в карте будня
Плеснувши краску из стакана
И показал на блюде студня
Косые скулы океана
<1913>
Владимир Маяковский*
[В печатном издании произведение дается в виде репринта оригинальной книги с иллюстрациями Бурлюков, здесь – только текст по ПСС Маяковского]
Владимир Маяковский (поэт 20–25 лет).
Его знакомая (сажени 2–3. Не разговаривает).
Старик с черными сухими кошками (несколько тысяч лет).
Человек без глаза и ноги.
Человек без уха.
Человек без головы.
Человек с растянутым лицом.
Человек с двумя поцелуями.
Обыкновенный молодой человек.
Женщина со слезинкой.
Женщина со слезой.
Женщина со слезищей.
Газетчики, мальчики, девочки и др.
В. Маяковский
Вам ли понять,
почему я,
спокойный,
насмешек грозою
душу на блюде несу
к обеду идущих лет.
С небритой щеки площадей
стекая ненужной слезою,
я,
быть может,
последний поэт.
Замечали вы –
качается
в каменных аллеях
полосатое лицо повешенной скуки,
а у мчащихся рек
на взмыленных шеях
мосты заломили железные руки.
Небо плачет
безудержно,
звонко;
а у облачка
гримаска на морщинке ротика,
как будто женщина ждала ребенка,
а бог ей кинул кривого идиотика.
Пухлыми пальцами в рыжих волосиках
солнце изласкало вас назойливостью овода –
в ваших душах выцелован раб.
Я, бесстрашный,
ненависть к дневным лучам понёс в веках;
с душой натянутой, как нервы про́вода,
я –
царь ламп!
Придите все ко мне,
кто рвал молчание,
кто выл
оттого, что петли полдней туги, –
я вам открою
словами
простыми, как мычанье,
наши новые души,
гудящие,
как фонарные дуги.
Я вам только головы пальцами трону,
и у вас
вырастут губы
для огромных поцелуев
и язык,
родной всем народам.
А я, прихрамывая душонкой,
уйду к моему трону
с дырами звезд по истертым сводам.
Лягу,
светлый,
в одеждах из лени
на мягкое ложе из настоящего навоза,
и тихим,
целующим шпал колени,
обнимет мне шею колесо паровоза.
Весело. Сцена – город в паутине улиц. Праздник нищих. Один В. Маяковский. Проходящие приносят еду – железного сельдя с вывески, золотой огромный калач, складки желтого бархата.
В. Маяковский
Милостивые государи!
Заштопайте мне душу,
пустота сочиться не могла бы.
Я не знаю, плевок – обида или нет.
Я сухой, как каменная баба.
Меня выдоили.
Милостивые государи,
хотите –
сейчас перед вами будет танцевать замечательный поэт?
Входит старик с черными сухими кошками. Гладит. Весь – борода.
В. Маяковский
Ищите жирных в домах-скорлупах
и в бубен брюха веселье бейте!
Схватите за ноги глухих и глупых
и дуйте в уши им, как в ноздри флейте.
Разбейте днища у бочек злости,
ведь я горящий булыжник дум ем.
Сегодня в вашем кричащем тосте
я овенчаюсь моим безумием.
Сцена постепенно наполняется. Человек без уха. Человек без головы и др. Тупые. Стали беспорядком, едят дальше.
В. Маяковский
Граненых строчек босой алмазник,
взметя перины в чужих жилищах,
зажгу сегодня всемирный праздник
таких богатых и пестрых нищих.
Старик с кошками
Оставь.
Зачем мудрецам погремушек потеха?
Я – тысячелетний старик.
И вижу – в тебе на кресте из смеха
распят замученный крик.
Легло на город громадное горе
и сотни махоньких горь.
А свечи и лампы в галдящем споре
покрыли шопоты зорь.
Ведь мягкие луны не властны над нами, –
огни фонарей и нарядней и хлеще.
В земле городов нареклись господами
и лезут стереть нас бездушные вещи.
А с неба на вой человечьей орды
глядит обезумевший бог.
И руки в отрепьях его бороды,
изъеденных пылью дорог.
Он – бог,
а кричит о жестокой расплате,
а в ваших душонках поношенный вздошек.
Бросьте его!
Идите и гладьте –
гладьте сухих и черных кошек!
Громадные брюха возьмете хвастливо,
лоснящихся щек надуете пышки.
Лишь в кошках,
где шерсти вороньей отливы,
наловите глаз электрических вспышки.
Весь лов этих вспышек
(он будет обилен!)
вольем в провода,
в эти мускулы тяги, –
заскачут трамваи,
пламя светилен
зареет в ночах, как победные стяги.
Мир зашеве́лится в радостном гриме,
цветы испавлинятся в каждом окошке,
по рельсам потащат людей,
а за ними
все кошки, кошки, черные кошки!
Мы солнца приколем любимым на платье,
из звезд накуем серебрящихся брошек.
Бросьте квартиры!
Идите и гладьте –
гладьте сухих и черных кошек!
Человек без уха
Это – правда!
Над городом
– где флюгеров древки –
женщина
– черные пещеры век –
мечется,
кидает на тротуары плевки, –
а плевки вырастают в огромных калек.
Отмщалась над городом чья-то вина, –
люди столпились,
табуном бежали.
А там,
в обоях,
меж тенями вина,
сморщенный старикашка плачет на рояле.
Окружают.
Над городом ширится легенда мук.
Схватишься за ноту –
пальцы окровавишь!
А музыкант не может вытащить рук
из белых зубов разъяренных клавиш.
Все в волнении.
И вот
сегодня
с утра
в душу
врезал матчиш гу́бы.
Я ходил, подергиваясь,
руки растопыря,
а везде по крышам танцевали трубы,
и каждая коленями выкидывала 44!
Господа!
Остановитесь!
Разве это можно?!
Даже переулки засучили рукава для драки.
А тоска моя растет,
непонятна и тревожна,
как слеза на морде у плачущей собаки.
Еще тревожнее.
Старик с кошками
Вот видите!
Вещи надо рубить!
Недаром в их ласках провидел врага я!
Человек с растянутым лицом
А, может быть, вещи надо любить?
Может быть, у вещей душа другая?
Человек без уха
Многие вещи сшиты наоборот.
Сердце не сердится,
к злобе глухо.
Человек с растянутым лицом (радостно поддакивает).
И там, где у человека вырезан рот,
многим вещам пришито ухо!
В. Маяковский (поднял руку, вышел в середину).
Злобой не мажьте сердец концы!
Вас,
детей моих,
буду учить непреклонно и строго.
Все вы, люди,
лишь бубенцы
на колпаке у бога.
Я
ногой, распухшей от исканий,
обошел
и вашу сушу
и еще какие-то другие страны
в домино и в маске темноты.
Я искал
ее,
невиданную душу,
чтобы в губы-раны
положить ее целящие цветы.
(Остановился.)
И опять,
как раб
в кровавом поте,
тело безумием качаю.
Впрочем,
раз нашел ее –
душу.
Вышла
в голубом капоте,
говорит;
«Садитесь!
Я давно вас ждала.
Не хотите ли стаканчик чаю?»
(Остановился.)
Я – поэт,
я разницу стер
между лицами своих и чужих.
В гное моргов искал сестер.
Целовал узорно больных.
А сегодня
на желтый костер,
спрятав глубже слёзы морей,
я взведу и стыд сестер
и морщины седых матерей!
На тарелках зализанных зал
будем жрать тебя, мясо, век!
Срывает покрывало. Громадная женщина. Боязливо. Вбегает Обыкновенный молодой человек. Суетится.
В. Маяковский (в стороне – тихо).
Милостивые государи!
Говорят,
где-то
– кажется, в Бразилии –
есть один счастливый человек!
Обыкновенный молодой человек
(подбегает к каждому, цепляется).
Милостивые государи!
Стойте!
Милостивые государи!
Господин,
господин,
скажите скорей:
это здесь хотят сжечь
матерей?
Господа!
Мозг людей остер,
но перед тайнами мира ник;
а ведь вы зажигаете костер
из сокровищ знаний и книг!
Я придумал машинку для рубки котлет.
Я умом вовсе не плох!
У меня есть знакомый –
он двадцать пять лет
работает
над капканом для ловли блох.
У меня жена есть,
скоро родит сына или дочку,
а вы – говорите гадости!
Интеллигентные люди!
Право, как будто обидно.
Человек без уха
Молодой человек,
встань на коробочку!
Из толпы
Лучше на бочку!
Человек без уха
А то вас совсем не видно!
Обыкновенный молодой человек
И нечего смеяться!
У меня братец есть,
маленький, –
вы придете и будете жевать его кости.
Вы всё хотите съесть!
Тревога. Гудки. За сценой крики: «Штаны, штаны!»
В. Маяковский
Бросьте!
Обыкновенного молодого человека обступают со всех сторон.
Если б вы так, как я, голодали –
дали
востока и запада
вы бы глодали,
как гложут кость небосвода
заводов копченые рожи!
Обыкновенный молодой человек
Что же, –
значит, ничто любовь?
У меня есть Сонечка сестра!
(На коленях.)
Милые!
Не лейте кровь!
Дорогие,
не надо костра!
Тревога выросла. Выстрелы. Начинает медленно тянуть одну ноту водосточная труба. Загудело железо крыш.
Человек с растянутым лицом
Если б вы так, как я, любили,
вы бы убили любовь
или лобное место нашли
и растлили б
шершавое потное небо
и молочно-невинные звезды.
Человек без уха
Ваши женщины не умеют любить,
они от поцелуев распухли, как губки.
Вступают удары тысячи ног в натянутое брюхо площади.
Человек с растянутым лицом
А из моей души
тоже можно сшить
такие нарядные юбки!
Волнение не помещается. Все вокруг громадной женщины. Взваливают на плечи. Тащат.
Вместе
Идем, –
где за святость
распяли пророка,
тела отдадим раздетому плясу,
на черном граните греха и порока
поставим памятник красному мясу.
Дотаскивают до двери. Оттуда торопливые шаги. Человек без глаза и ноги. Радостный. Безумие надорвалось. Женщину бросили.
Человек без глаза и ноги
Стойте!
На улицах,
где лица –
как бремя,
у всех одни и те ж,
сейчас родила старуха-время
огромный
криворотый мятеж!
Смех!
Перед мордами вылезших годов
онемели земель старожилы,
а злоба
вздувала на лбах городов
ре́ки –
тысячеверстые жилы.
Медленно,
в ужасе,
стрелки во́лос
подымался на лысом темени времен.
И вдруг
все вещи
кинулись,
раздирая голос,
скидывать лохмотья изношенных имен.
Винные витрины,
как по пальцу сатаны,
сами плеснули в днища фляжек.
У обмершего портного
сбежали штаны
и пошли –
одни! –
без человечьих ляжек!
Пьяный –
разинув черную пасть –
вывалился из спальни комод.
Корсеты слезали, боясь упасть,
из вывесок «Robes et modes»[57].
Каждая калоша недоступна и строга.
Чулки-кокотки
игриво щурятся.
Я летел, как ругань.
Другая нога
еще добегает в соседней улице.
Что же,
вы,
кричащие, что я калека?! –
старые,
жирные,
обрюзгшие враги!
Сегодня
в целом мире не найдете человека,
у которого
две
одинаковые
ноги!
Занавес
Скучно. Площадь в новом городе. В. Маяковский переоделся в тогу. Лавровый венок. За дверью многие ноги.
Человек без глаза и ноги (услужливо).
Поэт!
Поэт!
Вас объявили князем.
Покорные
толпятся за дверью,
пальцы сосут.
Перед каждым положен наземь
какой-то смешной сосуд.
В. Маяковский
Что же,
пусть идут!
Робко. Женщины с узлами. Много кланяются.
Первая
Вот это слёзка моя –
возьмите!
Мне не нужна она.
Пусть.
Вот она,
белая,
в шелке из нитей
глаз, посылающих грусть!
В. Маяковский (беспокойно).
Не нужна она,
зачем мне?
(Следующей.)
И у вас глаза распухли?
Вторая
(беспечно).
Пустяки!
Сын умирает.
Не тяжко.
Вот еще слеза.
Можно на туфлю.
Будет красивая пряжка.
В. Маяковский
(испуган)
Третья
Вы не смотри́те,
что я
грязная.
Вымоюсь –
буду чище.
Вот вам и моя слеза,
праздная,
большая слезища.
В. Маяковский
Будет!
Их уже гора.
Да и мне пора.
Кто этот очаровательный шатен?
Газетчики
Фигаро!
Фигаро!
Матэн!
Человек с двумя поцелуями. Все оглядывают. Говорят вперебой.
Смотрите –
какой дикий!
Отойдите немного.
Темно.
Пустите!
Молодой человек,
не икайте!
Человек без головы
И-и-и-и…
Э-э-э-э…
Человек с двумя поцелуями
Тучи отдаются небу,
рыхлы и гадки.
День гиб.
Девушки воздуха тоже до золота падки,
и им только деньги.
В. Маяковский
Что?
Человек с двумя поцелуями
Деньги и деньги б!
Голоса
Тише!
Тише!
Человек с двумя поцелуями
(танец с дырявыми мячами).
Большому и грязному человеку
подарили два поцелуя.
Человек был неловкий,
не знал,
что с ними делать,
куда их деть.
Город,
весь в празднике,
возносил в соборах аллилуя,
люди выходили красивое надеть.
А у человека было холодно,
и в подошвах дырочек овальцы.
Он выбрал поцелуй,
который побольше,
и надел, как калошу.
Но мороз ходил злой,
укусил его за пальцы.
«Что же, –
рассердился человек, –
я эти ненужные поцелуи брошу!»
Бросил.
И вдруг
у поцелуя выросли ушки,
он стал вертеться,
тоненьким голосочком крикнул:
«Мамочку!»
Испугался человек.
Обернул лохмотьями души своей дрожащее тельце,
понес домой,
чтобы вставить в голубенькую рамочку.
Долго рылся в пыли по чемоданам
(искал рамочку).
Оглянулся –
поцелуй лежит на диване,
громадный,
жирный,
вырос,
смеется,
бесится!
«Господи! –
заплакал человек, –
никогда не думал, что я так устану.
Надо повеситься!»
И пока висел он,
гадкий,
жаленький, –
в будуарах женщины
– фабрики без дыма и труб –
миллионами выделывали поцелуи,
всякие,
большие,
маленькие, –
мясистыми рычагами шлепающих губ.
Вбежавшие дети-поцелуи (резво).
Нас массу выпустили.
Возьмите!
Сейчас остальные придут.
Пока – восемь.
Я –
Митя.
Просим!
Каждый кладет слезу.
В. Маяковский
Господа!
Послушайте, –
я не могу!
Вам хорошо,
а мне с болью-то как?
Угрозы:
Ты поговори еще там!
Мы из тебя сделаем рагу,
как из кролика!
Старик с одной ощипанной кошкой
Ты один умеешь песни петь
(На груду слёз.)
Отнеси твоему красивому богу,
В. Маяковский
Пустите сесть!
Не дают. В. Маяковский неуклюже топчется, собирает слезы в чемодан. Стал с чемоданом.
Хорошо!
Дайте дорогу!
Думал –
радостный буду.
Блестящий глазами
сяду на трон,
изнеженный телом грек.
Нет!
Век,
дорогие дороги,
не забуду
ваши ноги худые
и седые волосы северных рек!
Вот и сегодня –
выйду сквозь город,
душу
на копьях домов
оставляя за клоком клок.
Рядом луна пойдет –
туда,
где небосвод распорот.
Поравняется,
на секунду примерит мой котелок.
Я
с ношей моей
иду,
спотыкаюсь,
ползу
дальше
на север,
туда,
где в тисках бесконечной тоски
пальцами волн
вечно
грудь рвет
океан-изувер.
Я добреду –
усталый,
в последнем бреду
брошу вашу слезу
темному богу гроз
у истока звериных вер.
Занавес
В. Маяковский
Я это все писал
о вас,
бедных крысах.
Жалел – у меня нет груди:
я кормил бы вас доброй нененькой.
Теперь я немного высох,
я – блаженненький.
Но зато
кто
где бы
мыслям дал
такой нечеловечий простор!
Это я
попал пальцем в небо,
доказал:
он – вор!
Иногда мне кажется –
я петух голландский
или я
король псковский.
А иногда
мне больше всего нравится
моя собственная фамилия,
Владимир Маяковский.
[1913]
«Послушайте!..»*
Послушайте!
Ведь если звезды зажигают
Значит это кому-нибудь нужно?
Значит кто-то хочет чтобы они были?
Значит кто-то называет эти плевочки жемчужиной
И надрываясь в метелях полуденной пыли
Торопится на небо боится что опоздал
Плачет и целует жилистую руку
И просит чтоб обязательно была звезда
Клянется что не перенесет эту беззвездную муку
А после ходит тревожный и
Спокойный наружно
И говорит кому-то ведь теперь тебе ничего не страшно.
Да?
Послушайте?!
Ведь если звезды зажигают
Значит это кому-нибудь нужно
Значит это необходимо чтобы каждый вечер над крышами
загоралась хоть одна звезда!
1914
Мама и убитый немцами вечер*
По черным улицам белые матери
судорожно простерлись, как по гробу глазет.
Вплакались в орущих о побитом неприятеле:
«Ах, закройте, закройте глаза газет!»
Письмо.
Мама, громче!
Дым.
Дым.
Дым еще!
Что вы мямлите, мама, мне?
Видите –
весь воздух вымощен
громыхающим под ядрами камнем!
Ма – а – а – ма!
Сейчас притащили израненный вечер.
Крепился долго,
кургузый,
шершавый,
и вдруг, –
надломивши тучные плечи,
расплакался, бедный, на шее Варшавы.
Звезды в платочках из синего ситца
визжали:
«Убит,
дорогой,
дорогой мой!»
И глаз новолуния страшно косится
на мертвый кулак с зажатой обоймой
Сбежались смотреть литовские села,
как, поцелуем в обрубок вкована,
слезя золотые глаза костелов,
пальцы улиц ломала Ковна.
А вечер кричит,
безногий,
безрукий:
«Неправда,
я еще могу-с –
хе! –
выбряцав шпоры в горящей мазурке,
выкрутить русый ус!»
Звонок.
Что вы,
мама?
Белая, белая, как на гробе глазет.
«Оставьте!
О нем это,
об убитом, телеграмма.
Ах, закройте,
закройте глаза газет!»
1914
Облако в штанах*
ТЕБЕ ЛИЛЯ
ВАШУ МЫСЛЬ МЕЧТАЮЩУЮ НА РАЗМЯГЧЕННОМ МОЗГУ
КАК ВЫЖИРЕВШИЙ ЛАКЕЙ НА ЗАСАЛЕННОЙ КУШЕТКЕ
БУДУ ДРАЗНИТЬ ОБ ОКРОВАВЛЕННЫЙ СЕРДЦА ЛОСКУТ
ДОСЫТА ИЗЫЗДЕВАЮСЬ НАХАЛЬНЫЙ И ЕДКИЙ.
У МЕНЯ В ДУШЕ НИ ОДНОГО СЕДОГО ВОЛОСА
И СТАРЧЕСКОЙ НЕЖНОСТИ НЕТ В НЕЙ!
МИР ОГРОМИВ МОЩЬЮ ГОЛОСА
ИДУ КРАСИВЫЙ ДВАДЦАТИДВУХЛЕТНИЙ.
НЕЖНЫЕ! ВЫ ЛЮБОВЬ НА СКРИПКИ ЛОЖИТЕ
ЛЮБОВЬ НА ЛИТАВРЫ ЛОЖИТ ГРУБЫЙ
А СЕБЯ КАК Я ВЫВЕРНУТЬ НЕ МОЖЕТЕ
ЧТОБЫ БЫЛИ ОДНИ СПЛОШНЫЕ ГУБЫ!
ПРИХОДИТЕ УЧИТЬСЯ ИЗ ГОСТИНОЙ БАТИСТОВАЯ
ЧИННАЯ ЧИНОВНИЦА АНГЕЛЬСКОЙ ЛИГИ.
И КОТОРАЯ ГУБЫ СПОКОЙНО ПЕРЕЛИСТЫВАЕТ
КАК КУХАРКА СТРАНИЦЫ ПОВАРЕННОЙ КНИГИ.
ХОТИТЕБУДУ ОТ МЯСА БЕШЕНЫЙ
И КАК НЕБО МЕНЯЯ ТОНА
ХОТИТЕ БУДУ БЕЗУКОРИЗНЕННО НЕЖНЫЙ
НЕ МУЖЧИНА А ОБЛАКО В ШТАНАХ!
НЕ ВЕРЮ ЧТО ЕСТЬ ЦВЕТОЧНАЯ НИЦЦА!
МНОЮ ОПЯТЬ СЛАВОСЛОВЯТСЯ
МУЖЧИНЫ ЗАЛЕЖАННЫЕ КАК БОЛЬНИЦА
И ЖЕНЩИНЫ ИСТРЕПАННЫЕ КАК ПОСЛОВИЦА.
ВЫ ДУМАЕТЕ ЭТО БРЕДИТ МАЛЯРИЯ?
ЭТО БЫЛО
БЫЛО В ОДЕССЕ.
ПРИДУ В ЧЕТЫРЕ СКАЗАЛА МАРИЯ.
ВОСЕМЬ.
ДЕВЯТЬ.
ДЕСЯТЬ.
ВОТ И ВЕЧЕР В НОЧНУЮ ЖУТЬ
УШЕЛ ОТ ОКОН ХМУРЫЙ ДЕКАБРЫЙ.
В ДРЯХЛУЮ СПИНУ ХОХОЧУТ И РЖУТ
КАНДЕЛЯБРЫ.
МЕНЯ СЕЙЧАС УЗНАТЬ НЕ МОГЛИ БЫ:
ЖИЛИСТАЯ ГРОМАДИНА СТОНЕТ КОРЧИТСЯ.
ЧТО МОЖЕТ ХОТЕТЬСЯ ЭТАКОЙ ГЛЫБЕ?
А ГЛЫБЕ МНОГОЕ ХОЧЕТСЯ!
ВЕДЬ ДЛЯ СЕБЯ НЕ ВАЖНО
И ТО ЧТО БРОНЗОВЫЙ
И ТО ЧТО СЕРДЦЕ ХОЛОДНОЙ ЖЕЛЕЗКОЮ.
НОЧЬЮ ХОЧЕТСЯ ЗВОН СВОЙ
СПРЯТАТЬ В МЯГКОЕ В ЖЕНСКОЕ.
И ВОТ ГРОМАДНЫЙ ГОРБЛЮСЬ В ОКНЕ
ПЛАВЛЮ ЛБОМ СТЕКЛО ОКОШЕЧНОЕ.
БУДЕТ ЛЮБОВЬ ИЛИ НЕТ?
КАКАЯ
БОЛЬШАЯ ИЛИ КРОШЕЧНАЯ?
ОТКУДА БОЛЬШАЯ У ТЕЛА ТАКОГО:
ДОЛЖНО БЫТЬ МАЛЕНЬКИЙ
СМИРНЫЙ ЛЮБЕНОЧЕК.
ОНА ШАРАХАЕТСЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГУДКОВ.
И ЛЮБИТ ЗВОНОЧКИ КОНОЧЕК.
ЕЩЕ И ЕЩЕ УТКНУВШИСЬ ДОЖДЮ
ЛИЦОМ В ЕГО ЛИЦО РЯБОЕ
ЖДУ
ОБРЫЗГАННЫЙ ГРОМОМ ГОРОДСКОГО ПРИБОЯ.
ПОЛНОЧЬ С НОЖОМ МЕЧАСЬ
ДОГНАЛА ЗАРЕЗАЛА ВОН ЕГО!
УПАЛ ДВЕНАДЦАТЫЙ ЧАС
КАК С ПЛАХИ ГОЛОВА КАЗНЕННОГО.
В СТЕКЛАХ ДОЖДИНКИ СЕРЫЕ
СВЫЛИСЬ ГРИМАСУ ГРОМАДИЛИ
КАК БУДТО ВОЮТ ХИМЕРЫ
СОБОРА ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ.
ПРОКЛЯТАЯ!
ЧТО ЖЕ И ЭТОГО НЕ ХВАТИТ?
СКОРО КРИКОМ ИЗДЕРЕТСЯ РОТ.
СЛЫШУ:
ТИХО
КАК БОЛЬНОЙ С КРОВАТИ
СПРЫГНУЛ НЕРВ.
И ВОТ
СНАЧАЛА ПРОШЕЛСЯ
ЕДВА-ЕДВА
ПОТОМ ЗАБЕГАЛ ВЗВОЛНОВАННЫЙ ЧЕТКИЙ.
ТЕПЕРЬ И ОН И НОВЫЕ ДВА
МЕЧУТСЯ ОТЧАЯННОЙ ЧЕЧЕТКОЙ.
РУХНУЛА ШТУКАТУРКА В НИЖНЕМ ЭТАЖЕ.
НЕРВЫ БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИЕ – МНОГИЕ
СКАЧУТ БЕШЕНЫЕ
И УЖЕ
У НЕРВОВ ПОДКАШИВАЮТСЯ НОГИ.
А НОЧЬ ПО КОМНАТЕ ТИНИТСЯ И ТИНИТСЯ
ИЗ ТИНЫ НЕ ВЫТЯНУТЬСЯ ОТЯЖЕЛЕВШЕМУ ГЛАЗУ.
ДВЕРИ ВДРУГ ЗАЛЯСКАЛИ
БУДТО У ГОСТИНИЦЫ
НЕ ПОПАДАЕТ ЗУБ НА ЗУБ.
ВОШЛА ТЫ
РЕЗКАЯ КАК НАТЕ
МУЧА ПЕРЧАТКИ ЗАМШ
СКАЗАЛА
«ЗНАЕТЕ
Я ВЫХОЖУ ЗАМУЖ».
ЧТО Ж ВЫХОДИТЕ
НИЧЕГО.
ПОКРЕПЛЮСЬ.
ВИДИТЕ СПОКОЕН КАК.
КАК ПУЛЬС
ПОКОЙНИКА.
ПОМНИТЕ?
ВЫ ГОВОРИЛИ ДЖЕК ЛОНДОН
ДЕНЬГИ ЛЮБОВЬ СТРАСТЬ
А Я ОДНО ВИДЕЛ:
ВЫ ДЖИОКОНДА
КОТОРУЮ НАДО УКРАСТЬ.
И УКРАЛИ.
ОПЯТЬ ВЛЮБЛЕННЫЙ ВЫЙДУ В ИГРЫ
ОГНЕМ ОЗАРЯЯ БРОВЕЙ ЗАГИБ.
ЧТО ЖЕ?
И В ДОМЕ КОТОРЫЙ ВЫГОРЕЛ
ИНОГДА ЖИВУТ БЕЗДОМНЫЕ БРОДЯГИ.
ДРАЗНИТЕ?
«МЕНЬШЕ ЧЕМ У НИЩЕГО КОПЕЕК
У ВАС ИЗУМРУДОВ БЕЗУМИЙ».
ПОМНИТЕ!
ПОГИБЛА ПОМПЕЯ
КОГДА РАЗДРАЗНИЛИ ВЕЗУВИЙ.
ЭЙ!
ГОСПОДА!
ЛЮБИТЕЛИ
СВЯТОТАТСТВ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
БОЕН
А САМОЕ СТРАШНОЕ ВИДЕЛИ –
ЛИЦО МОЕ
КОГДА
Я
АБСОЛЮТНО СПОКОЕН?
И ЧУВСТВУЮ
«Я»
ДЛЯ МЕНЯ МАЛО
КТО-ТО ИЗ МЕНЯ ВЫРЫВАЕТСЯ УПРЯМО.
– ALLO!
КТО ГОВОРИТ!
МАМА?
МАМА!
ВАШ СЫН ПРЕКРАСНО БОЛЕН
МАМА!
У НЕГО ПОЖАР СЕРДЦА.
СКАЖИТЕ СЕСТРАМ ЛЮДЕ И ОЛЕ
ЕМУ УЖЕ НЕКУДА ДЕТЬСЯ.
КАЖДОЕ СЛОВО
ДАЖЕ ШУТКА
КОТОРЫЕ ИЗРЫГАЕТ ОБГОРАЮЩИМ РТОМ ОН
ВЫБРАСЫВАЕТСЯ КАК ГОЛАЯ ПРОСТИТУТКА
ИЗ ГОРЯЩЕГО ПУБЛИЧНОГО ДОМА.
ЛЮДИ НЮХАЮТ
ЗАПАХЛО ЖАРЕНЫМ
НАГНАЛИ КАКИХ-ТО.
БЛЕСТЯЩИЕ В КАСКАХ.
НЕЛЬЗЯ САПОЖИЩА.
СКАЖИТЕ ПОЖАРНЫМ.
НА СЕРДЦЕ ГОРЯЩЕЕ ЛЕЗУТ В ЛАСКАХ.
Я САМ.
ГЛАЗА НАСЛЕЗНЁННЫЕ БОЧКАМИ ВЫКАЧУ.
ДАЙТЕ О РЕБРА ОПЕРЕТЬСЯ.
ВЫСКОЧУ ВЫСКОЧУ ВЫСКОЧУ ВЫСКОЧУ.
РУХНУЛИ.
НЕ ВЫСКОЧИШЬ ИЗ СЕРДЦА.
НА ЛИЦЕ ОБГОРАЮЩЕМ ИЗ ТРЕЩИНЫ ГУБ
ОБУГЛЕННЫЙ ПОЦЕЛУИШКО БРОСИТЬСЯ ВЫРОС..
МАМА!
ПЕТЬ НЕ МОГУ.
У ЦЕРКОВКИ СЕРДЦА ЗАНИМАЕТСЯ КЛИРОС.
ОБГОРЕЛЫЕ ФИГУРКИ СЛОВ И ЧИСЕЛ
ИЗ ЧЕРЕПА КАК ДЕТИ ИЗ ГОРЯЩЕГО ЗДАНИЯ
ТАК СТРАХ СХВАТИТЬСЯ ЗА НЕБО
ВЫСИЛ ГОРЯЩИЕ РУКИ ЛУЗИТАНИИ.
К ТРЯСУЩИМСЯ ЛЮДЯМ В КВАРТИРНОЕ ТИХО
СТОГЛАЗОЕ ЗАРЕВО РВЕТСЯ С ПРИСТАНИ
КРИК ПОСЛЕДНИЙ
ТЫ ХОТЬ
О ТОМ ЧТО ГОРЮ В СТОЛЕТИЯ ВЫСТОНИ.
СЛАВЬТЕ МЕНЯ.
Я ВЕЛИКИМ НЕ ЧЕТА.
Я НАД ВСЕМ ЧТО СДЕЛАНО СТАВЛЮ «NIHIL»
НИКОГДА НИЧЕГО НЕ ХОЧУ ЧИТАТЬ.
КНИГИ?
ЧТО КНИГИ.
Я РАНЬШЕ ДУМАЛ КНИГИ ДЕЛАЮТСЯ ТАК:
ПРИШЕЛ ПОЭТ
ЛЕГКО РАЗЖАЛ УСТА
И СРАЗУ ЗАПЕЛ ВДОХНОВЕННЫЙ ПРОСТАК:
ПОЖАЛУЙСТА!
А ОКАЗЫВАЕТСЯ
ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧНЕТ ПЕТЬСЯ
ДОЛГО ХОДЯТ РАЗМОЗОЛЕВ ОТ БРОЖЕНИЯ
И ТИХО БАРАХТАЕТСЯ В ТИНЕ СЕРДЦА
ГЛУПАЯ ВОБЛА ВООБРАЖЕНИЯ.
И ПОКА ВЫКИПЯЧИВАЮТ РИФМАМИ ПИЛИКАЯ
ИЗ ЛЮБВЕЙ И СОЛОВЬЕВ КАКОЕ-ТО ВАРЕВО
УЛИЦА КОРЧИТСЯ БЕЗЪЯЗЫКАЯ
ЕЙ НЕЧЕМ КРИЧАТЬ И РАЗГОВАРИВАТЬ.
ГОРОДОВ ВАВИЛОНСКИЕ БАШНИ
ВОЗГОРДЯСЬ ВОЗНОСИМ СНОВА
А БОГ
ГОРОДА НА ПАШНИ
РУШИТ
МЕШАЯ СЛОВО.
УЛИЦА МУКУ МОЛЧА ПЕРЛА.
КРИК ТОРЧКОМ СТОЯЛ ИЗ ГЛОТКИ.
ТОПОРЩИЛИСЬ ЗАСТРЯВШИЕ ПОПЕРЕК ГОРЛА
ПУХЛЫЕ ТАКСИ И КОСТЛЯВЫЕ ПРОЛЕТКИ.
ГРУДЬ ИСПЕШЕХОДИЛИ.
ЧАХОТКИ ПЛОЩЕ.
ГОРОД ДОРОГУ МРАКОМ ЗАПЕР.
И КОГДА
ВСЕ-ТАКИ!
ВЫХАРКНУЛА ДАВКУ НА ПЛОЩАДЬ
СПИХНУВ НАСТУПИВШУЮ НА ГОРЛО ПАПЕРТЬ
ДУМАЛОСЬ
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
ГРИМИРУЮТ ГОРОДУ КРУППЫ И КРУППИКИ
ГРОЗЯЩИХ БРОВЕЙ МОРЩЬ
А ВО РТУ
УМЕРШИХ СЛОВ РАЗЛАГАЮТСЯ ТРУПИКИ
ТОЛЬКО ДВА ЖИВУТ ЖИРЕЯ
«СВОЛОЧЬ»
И ЕЩЕ КАКОЕ-ТО
КАЖЕТСЯ «БОРЩ».
И ПОЭТЫ РАЗМОКШИЕ В ПЛАЧЕ И ВСХЛИПЕ
БРОСИЛИСЬ ОТ УЛИЦЫ ЕРОША КОСМЫ:
«КАК ДВУМЯ ТАКИМИ ВЫПЕТЬ
И БАРЫШНЮ
И ЛЮБОВЬ
И ЦВЕТОЧЕК ПОД РОСАМИ».
А ЗА ПОЭТАМИ УЛИЧНЫЕ ТЫЩИ
СТУДЕНТЫ ПРОСТИТУТКИ ПОДРЯДЧИКИ.
«ГОСПОДА
ОСТАНОВИТЕСЬ
ВЫ НЕ НИЩИЕ
ВЫ НЕ СМЕЕТЕ ПРОСИТЬ ПОДАЧКИ».
НАМ ЗДОРОВЕННЫМ
С ШАГОМ САЖЕНЬИМ
НАДО НЕ СЛУШАТЬ А РВАТЬ ИХ
ИХ
ПРИСОСАВШИХСЯ БЕСПЛАТНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ
К КАЖДОЙ ДВУСПАЛЬНОЙ КРОВАТИ.
ИХ ЛИ СМИРЕННО ПРОСИТЬ ПОМОГИ МНЕ
МОЛИТЬ О ГИМНЕ ОБ ОРАТОРИИ
МЫ САМИ ТВОРЦЫ В ГОРЯЩЕМ ГИМНЕ
ШУМЕ ФАБРИКИ И ЛАБОРАТОРИИ.
ЧТО МНЕ ДО ФАУСТА ФЕЕРИЕЙ РАКЕТ
СКОЛЬЗЯЩЕГО С МЕФИСТОФЕЛЕМ В НЕБЕСНОМ ПАРКЕТЕ
Я ЗНАЮ
ГВОЗДЬ У МЕНЯ В САПОГЕ
КОШМАРНЕЙ ЧЕМ ФАНТАЗИЯ У ГЕТЕ.
Я ЗЛАТОУСТЕЙШИЙ
ЧЬЕ КАЖДОЕ СЛОВО
ДУШУ НОВОРОДИТ
ИМЕНИНИТ ТЕЛО
ГОВОРЮ ВАМ:
МЕЛЬЧАЙШАЯ ПЫЛИНКА ЖИВОГО
ЦЕННЕЕ ВСЕГО ЧТО Я СДЕЛАЮ И СДЕЛАЛ.
СЛУШАЙТЕ!
ПРОПОВЕДУЕТ МЕЧАСЬ И СТЕНЯ
СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ КРИКОГУБЫЙ ЗАРАТУСТРА.
МЫ
С ЛИЦОМ КАК ЗАСПАННАЯ ПРОСТЫНЯ
С ГУБАМИ ОБВИСШИМИ КАК ЛЮСТРА
МЫ
КАТОРЖАНЕ ГОРОДА-ЛЕПРОЗОРИЯ
ГДЕ ЗОЛОТО И ГРЯЗЬ ИЗЪЯЗВИЛИ ПРОКАЗУ
МЫ ЧИЩЕ ВЕНЕЦИАНСКОГО ЛАЗОРЬЯ
МОРЯМИ И СОЛНЦАМИ ОМЫТОГО СРАЗУ.
ПЛЕВАТЬ ЧТО НЕТ У ГОМЕРОВ И ОВИДИЕВ
ЛЮДЕЙ КАК МЫ
ОТ КОПОТИ В ОСПЕ.
Я ЗНАЮ
СОЛНЦЕ ПОМЕРКЛО Б УВИДЕВ
НАШИХ ДУШ ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ!
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
НО МНЕ ЛЮДИ
И ТЕ ЧТО ОБИДЕЛИ
ВЫ МНЕ ВСЕГО ДОРОЖЕ И БЛИЖЕ.
ВИДЕЛИ
КАК СОБАКА БЬЮЩУЮ РУКУ ЛИЖЕТ?!
Я
ОБСМЕЯННЫЙ У СЕГОДНЯШНЕГО ПЛЕМЕНИ
КАК ДЛИННЫЙ СКАБРЕЗНЫЙ АНЕКДОТ
ВИЖУ ИДУЩЕГО ЧЕРЕЗ ГОРЫ ВРЕМЕНИ
КОТОРОГО НЕ ВИДИТ НИКТО.
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
УЖЕ НИЧЕГО ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ.
Я ВЫЖЕГ ДУШИ ГДЕ НЕЖНОСТЬ РАСТИЛИ
ЭТО ТРУДНЕЕ ЧЕМ ВЗЯТЬ
ТЫСЯЧУ ТЫСЯЧ БАСТИЛИЙ.
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
ВАМ Я
ДУШУ ВЫТАЩУ
РАСТОПЧУ
ЧТОБ БОЛЬШАЯ
И ОКРОВАВЛЕННУЮ ДАМ КАК ЗНАМЯ.
АХ ЗАЧЕМ ЭТО
ОТКУДА ЭТО
В СВЕТЛОЕ ВЕСЕЛО
ГРЯЗНЫХ КУЛАЧИЩ ЗАМАХ
ПРИШЛА И ГОЛОВУ ОТЧАЯНИЕМ ЗАНАВЕСИЛА
МЫСЛЬ О СУМАСШЕДШИХ ДОМАХ.
И
КАК В ГИБЕЛЬ ДРЕДНОУТА ОТ ДУШАЩИХ СПАЗМ
БРОСАЮТСЯ В РАЗИНУТЫЙ ЛЮК
СКВОЗЬ СВОЙ ДО КРИКА РАЗОДРАННЫЙ ГЛАЗ
ЛЕЗ ОБЕЗУМЕВ БУРЛЮК.
ПОЧТИ ОКРОВАВИВ ИССЛЕЗЕННЫЕ ВЕКИ
ВЫЛЕЗ
ВСТАЛ
ПОШЕЛ
И С НЕЖНОСТЬЮ НЕОЖИДАННОЙ В ЖИРНОМ ЧЕЛОВЕКЕ
ВЗЯЛ И СКАЗАЛ
«ХОРОШО!»
ХОРОШО КОГДА В ЖЕЛТУЮ КОФТУ
ДУША ОТ ОСМОТРОВ УКУТАНА
ХОРОШО
КОГДА БРОШЕННЫЙ В ЗУБЫ ЭШАФОТУ
КРИКНУТЬ:
ПЕЙТЕ КАКАО ВАН-ГУТЕНА!
И ЭТУ СЕКУНДУ
БЕНГАЛЬСКУЮ
ГРОМКУЮ
Я НИ НА ЧТО Б НЕ ВЫМЕНЯЛ
Я НИ НА…»
А ИЗ СИГАРНОГО ДЫМА ЛИКЕРНОГО РЮМКОЙ
ВЫТЯГИВАЛОСЬ ПРОПИТОЕ ЛИЦО СЕВЕРЯНИНА.
КАК ВЫ СМЕЕТЕ НАЗЫВАТЬСЯ ПОЭТОМ
И СЕРЕНЬКИЙ ЧИРИКАТЬ КАК ПЕРЕПЕЛ
СЕГОДНЯ НАДО КАСТЕТОМ
КРОИТЬСЯ МИРУ В ЧЕРЕПЕ.
ВЫ
ОБЕСПОКОЕННЫЕ МЫСЛЬЮ ОДНОЙ
ИЗЯЩНО ПЛЯШУ ЛИ
СМОТРИТЕ КАК РАЗВЛЕКАЮСЬ
Я
ПЛОЩАДНОЙ
СУТЕНЕР И КАРТОЧНЫЙ ШУЛЕР!
ОТ ВАС КОТОРЫЕ ВЛЮБЛЕННОСТЬЮ МОКЛИ
ОТ КОТОРЫХ В СТОЛЕТИЯ СЛЕЗА ЛИЛАСЬ
УЙДУ Я
СОЛНЦЕ МОНОКЛЕМ
ВСТАВЛЮ В ШИРОКО РАСТОПЫРЕННЫЙ ГЛАЗ.
НЕВЕРОЯТНО СЕБЯ НАРЯДИВ
ПОЙДУ ПО ЗЕМЛЕ ЧТОБ НРАВИЛСЯ И ЖЕГСЯ
А ВПЕРЕДИ
НА ЦЕПОЧКЕ НАПОЛЕОНА ПОВЕДУ КАК МОПСА.
И ВСЯ ЗЕМЛЯ ПОЛЯЖЕТ ЖЕНЩИНОЙ
ЗАЕРЗАЕТ МЯСАМИ ХОТЯ ОТДАТЬСЯ
ВЕЩИ ОЖИВУТ ГУБЫ ВЕЩИНЫ
ЗАСЮСЮКАЮТ: ЦАЦА ЦАЦА ЦАЦА.
ВДРУГ И ТУЧИ И ОБЛАЧНОЕ ПРОЧЕЕ
ПОДНЯЛО НА НЕБЕ НЕВЕРОЯТНУЮ КАЧКУ
КАК БУДТО РАСХОДЯТСЯ БЕЛЫЕ РАБОЧИЕ
НЕБУ ОБЪЯВИВ ОЗЛОБЛЕННУЮ СТАЧКУ.
ГРОМ ИЗ-ЗА ТУЧИ ЗВЕРЕЯ ВЫЛЕЗ
ГРОМАДНЫЕ НОЗДРИ ЗАДОРНО ВЫСМОРКАЛ
И НЕБЬЕ ЛИЦО СЕКУНДУ КРИВИЛОСЬ
СУРОВОЙ ГРИМАСОЙ ЖЕЛЕЗНОГО БИСМАРКА.
И КТО-ТО ЗАПУТАВШИСЬ В ОБЛАЧНЫХ ПУТАХ
ВЫТЯНУЛ РУКИ К КАФЕ
И БУДТО ПО-ЖЕНСКИ
И НЕЖНЫЙ КАК БУДТО
И БУДТО БЫ ПУШКИ ЛАФЕТ.
ВЫ ДУМАЕТЕ ЭТО СОЛНЦЕ НЕЖНЕНЬКО
ТРЕПЛЕТ ПО ЩЕЧКЕ КАФЕ?
ЭТО ОПЯТЬ РАССТРЕЛЯТЬ МЯТЕЖНИКОВ
ГРЯДЕТ ГЕНЕРАЛ ГАЛИФЕ.
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
ИДИТЕ
ГОЛОДНЕНЬКИЕ ПОТНЕНЬКИЕ ПОКОРНЕНЬКИЕ
ЗАКИСШИЕ В БЛОХАСТОМ ГРЯЗНЕНЬКЕ!
ИДИТЕ!
ПОНЕДЕЛЬНИКИ И ВТОРНИКИ
ОКРАСИМ КРОВЬЮ В ПРАЗДНИКИ!
ПУСКАЙ ЗЕМЛЕ . . . . . . ПРИПОМНИТСЯ
КОГО ХОТЕЛА ОПОШЛИТЬ
ЗЕМЛЕ
ОБЖИРЕВШЕЙ КАК ЛЮБОВНИЦА
КОТОРУЮ ВЫЛЮБИЛ РОТШИЛЬД.
ЧТОБ ФЛАГИ ТРЕПАЛИСЬ В ГОРЯЧКЕ ПАЛЬБЫ
КАК У КАЖДОГО ПОРЯДОЧНОГО ПРАЗДНИКА
ВЫШЕ ВЗДЫМАЙТЕ ФОНАРНЫЕ СТОЛБЫ
ОКРОВАВЛЕННЫЕ ТУШИ ЛАБАЗНИКОВ.
ИЗРУГИВАЛСЯ
ВЫМАЛИВАЛСЯ
РЕЗАЛ
ЛЕЗ ЗА КЕМ-ТО ВГРЫЗАТЬСЯ В БОКА.
НА НЕБЕ КРАСНЫЙ КАК МАРСЕЛЬЕЗА
ВЗДРАГИВАЛ ОКОЛЕВАЯ ЗАКАТ.
УЖЕ СУМАСШЕСТВИЕ.
НИЧЕГО НЕ БУДЕТ.
НОЧЬ ПРИДЕТ ПЕРЕКУСИТ И СЪЕСТ.
ВИДИТЕ НЕБО ОПЯТЬ ИУДИТ
ПРИГОРШНЬЮ ОБРЫЗГАННЫХ ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ ЗВЕЗД.
ПРИШЛА.
ПИРУЕТ МАМАЕМ
ЗАДОМ НА ГОРОД НАСЕВ.
ЭТУ НОЧЬ ГЛАЗАМИ НЕ ПРОЛОМАЕМ
ЧЕРНУЮ КАК АЗЕФ.
ЕЖУСЬ ЗАШВЫРНУВШИСЬ В ТРАКТИРНЫЕ УГЛЫ
ВИНОМ ОБЛИВАЮ ДУШУ И СКАТЕРТЬ
И ВИЖУ
В УГЛУ ГЛАЗА КРУГЛЫ
ГЛАЗАМИ В СЕРДЦЕ ВЪЕЛАСЬ . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
МОЖЕТ БЫТЬ НАРОЧНО Я
В ЧЕЛОВЕЧЬЕМ МЕСИВЕ
ЛИЦОМ НИКОГО НЕ НОВЕЙ.
Я МОЖЕТ БЫТЬ САМЫЙ КРАСИВЫЙ
ИЗ ВСЕХ ТВОИХ СЫНОВЕЙ.
ДАЙ ИМ ЗАПЛЕСНЕВШИМ В РАДОСТИ
СКОРОЙ СМЕРТИ ВРЕМЕНИ
ЧТОБ СТАЛИ ДЕТИ ДОЛЖНЫЕ ПОДРАСТИ
МАЛЬЧИКИ ОТЦЫ А ДЕВОЧКИ ЗАБЕРЕМЕНЕЛИ.
И НОВЫМ РОЖДЕННЫМ ДАЙ ОБРАСТИ
ПЫТЛИВОЙ СЕДИНОЙ ВОЛХВОВ
И ПРИДУТ ОНИ
И БУДУТ ДЕТЕЙ КРЕСТИТЬ
ИМЕНАМИ МОИХ СТИХОВ.
Я
ВОСПЕВАЮЩИЙ МАШИНУ И АНГЛИЮ
МОЖЕТ БЫТЬ ПРОСТО
В САМОМ ОБЫКНОВЕННОМ . . . .
ТРИНАДЦАТЫЙ . . . . . .
И КОГДА МОЙ ГОЛОС ПОХАБНО УХАЕТ
ОТ ЧАСА К ЧАСУ ЦЕЛЫЕ СУТКИ
МОЖЕТ БЫТЬ . . . . . . НЮХАЕТ
МОЕЙ ДУШИ НЕЗАБУДКИ.
МАРИЯ МАРИЯ МАРИЯ
ПУСТИ МАРИЯ
Я НЕ МОГУ НА УЛИЦАХ.
НЕ ХОЧЕШЬ?
ЖДЕШЬ
КАК ЩЕКИ ПРОВАЛЯТСЯ ЯМКОЮ
ПОПРОБОВАННЫЙ ВСЕМИ
ПРЕСНЫЙ
Я ПРИДУ
И БЕЗЗУБО ПРОШАМКАЮ
ЧТО СЕГОДНЯ Я – УДИВИТЕЛЬНО ЧЕСТНЫЙ.
МАРИЯ
ВИДИШЬ
Я УЖЕ НАЧАЛ СУТУЛИТЬСЯ.
В УЛИЦАХ
ЛЮДИ ЖИР ПРОДЫРЯВЯТ В ЧЕТЫРЕЭТАЖНЫХ ЗОБАХ
ВЫСУНУТ ГЛАЗКИ, ПОТЕРТЫЕ В СОРОКГОДОВОЙ ТАСКЕ
ПЕРЕХИХИКИВАТЬСЯ
ЧТО У МЕНЯ В ЗУБАХ
ОПЯТЬ!
ЧЕРСТВАЯ БУЛКА ВЧЕРАШНЕЙ ЛАСКИ.
ДОЖДЬ ОБРЫДАЛ ТРОТУАРЫ
ЛУЖАМИ СЖАТЫЙ ЖУЛИК
МОКРЫЙ ЛИЖЕТ УЛИЦ ЗАБИТЫЙ БУЛЫЖНИКОМ ТРУП
А НА СЕДЫХ РЕСНИЦАХ
ДА!
НА РЕСНИЦАХ МОРОЗНЫХ СОСУЛЕК
СЛЕЗЫ ИЗ ГЛАЗ
ДА!
ИЗ ОПУЩЕННЫХ ГЛАЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ.
ВСЕХ ПЕШЕХОДОВ МОРДА ДОЖДЯ ОБСОСАЛА
А В ЭКИПАЖАХ ЛОЩИЛСЯ ЗА ЖИРНЫМ АТЛЕТОМ АТЛЕТ
ЛОПАЛИСЬ ЛЮДИ
ПРОЕВШИСЬ НАСКВОЗЬ
И СОЧИЛОСЬ СКВОЗЬ ТРЕЩИНЫ САЛО
МУТНОЙ РЕКОЙ С ЭКИПАЖЕЙ СТЕКАЛА
ВМЕСТЕ С ИССОСАННОЙ БУЛКОЙ
ЖЕВОТИНА СТАРЫХ КОТЛЕТ.
МАРИЯ!
КАК В ЗАЖИРЕВШЕЕ УХО ВТИСНУТЬ ИМ ТИХОЕ СЛОВО?
ПТИЦА
ПОБИРАЕТСЯ ПЕСНЕЙ
ПОЕТ
ГОЛОДНА И ЗВОНКА
А Я ЧЕЛОВЕК МАРИЯ
ПРОСТОЙ
ВЫХАРКАННЫЙ ЧАХОТОЧНОЙ НОЧЬЮ В ГРЯЗНУЮ РУКУ ПРЕСНИ
МАРИЯ ХОЧЕШЬ ТАКОГО?
ПУСТИ МАРИЯ!
СУДОРОГОЙ ПАЛЬЦЕВ ЗАЖМУ Я ЖЕЛЕЗНОЕ ГОРЛО ЗВОНКА.
МАРИЯ
ЗВЕРЕЮТ УЛИЦ ВЫГОНЫ.
НА ШЕЕ ССАДИНОЙ – ПАЛЬЦЫ ДАВКИ.
ОТКРОЙ
БОЛЬНО
ВИДИШЬ НАТЫКАНЫ
В ГЛАЗА ИЗ ДАМСКИХ ШЛЯП БУЛАВКИ.
ПУСТИЛА.
ДЕТКА!
НЕ БОЙСЯ
ЧТО У МЕНЯ НА ШЕЕ ВОЛОВЬЕЙ
ПОТНОЖИВОТЫЕ ЖЕНЩИНЫ МОКРОЙ ГОРОЮ СИДЯТ:
ЭТО СКВОЗЬ ЖИЗНЬ Я ТАЩУ
МИЛЛИОНЫ ОГРОМНЫХ ЧИСТЫХ ЛЮБОВЕЙ
И МИЛЛИОН МИЛЛИОНОВ МАЛЕНЬКИХ ГРЯЗНЫХ ЛЮБЯТ.
НЕ БОЙСЯ ЧТО СНОВА В ИЗМЕНЫ НЕНАСТЬЕ
ПРИЛЬНУ Я К ТЫСЯЧАМ ХОРОШЕНЬКИХ ЛИЦ
– «ЛЮБЯЩИЕ МАЯКОВСКОГО!»
ДА ВЕДЬ ЭТО Ж ДИНАСТИЯ
НА СЕРДЦЕ СУМАСШЕДШЕГО ВОСШЕДШИХ ЦАРИЦ.
МАРИЯ БЛИЖЕ!
В РАЗДЕТОМ БЕССТЫДСТВЕ
В БОЯЩЕЙСЯ ДРОЖИ ЛИ
НО ДАЙ ТВОИХ ГУБ НЕИСЦВЕТШУЮ ПРЕЛЕСТЬ.
Я С СЕРДЦЕМ НИ РАЗУ ДО МАЯ НЕ ДОЖИЛИ
А В ПРОЖИТОЙ ЖИЗНИ
ЛИШЬ СОТЫЙ АПРЕЛЬ ЕСТЬ.
МАРИЯ!
ПОЭТ СОНЕТЫ ПОЕТ ТИАНЕ
А Я
ВЕСЬ ИЗ МЯСА
ЧЕЛОВЕК ВЕСЬ
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
МАРИЯ ДАЙ.
МАРИЯ!
ИМЯ ТВОЕ Я БОЮСЬ ЗАБЫТЬ
КАК ПОЭТ БОИТСЯ ЗАБЫТЬ
КАКОЕ-ТО
В МУКАХ НОЧЕЙ РОЖДЕННОЕ СЛОВО . . . . . .
ТЕЛО ТВОЕ
Я БУДУ БЕРЕЧЬ И ЛЮБИТЬ
КАК СОЛДАТ
ОБРУБЛЕННЫЙ ВОЙНОЮ
НЕНУЖНЫЙ
НИЧЕЙ
БЕРЕЖЕТ СВОЮ ЕДИНСТВЕННУЮ НОГУ.
МАРИЯ
НЕ ХОЧЕШЬ?
НЕ ХОЧЕШЬ!
ХА!
ЗНАЧИТ ОПЯТЬ
ТЕМНО И ПОНУРО
СЕРДЦЕ ВОЗЬМУ СЛЕЗАМИ ОКАПАВ
НЕСТИ
КАК СОБАКА КОТОРАЯ В КОНУРУ
НЕСЕТ
ПЕРЕЕХАННУЮ ПОЕЗДОМ ЛАПУ.
КРОВЬЮ СЕРДЦА ДОРОГУ РАДУЮ
ЛИПНЕТ ЦВЕТАМИ У ПЫЛИ КИТЕЛЯ.
ТЫСЯЧУ РАЗ ОПЛЯШЕТ ИРОДИАДОЙ
СОЛНЦЕ ЗЕМЛЮ
ГОЛОВУ КРЕСТИТЕЛЯ.
И КОГДА МОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЕТ
ВЫПЛЯШЕТ ДО КОНЦА
МИЛЛИОНОМ КРОВИНОК УСТЕЛЕТСЯ СЛЕД
К ДОМУ МОЕГО ОТЦА.
ВЫЛЕЗУ
ГРЯЗНЫЙ ОТ НОЧЕВОК В КАНАВАХ
СТАНУ БОК О БОК
НАКЛОНЮСЬ
И СКАЖУ ЕМУ НА УХО:
«ПОСЛУШАЙТЕ
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
ПУСТИТЕ
МЕНЯ НЕ ОСТАНОВИТЕ.
ВРУ Я
В ПРАВЕ ЛИ
НО Я НЕ МОГУ БЫТЬ СПОКОЙНЕЙ.
СМОТРИТЕ
ЗВЕЗДЫ ОПЯТЬ ОБЕЗГЛАВИЛИ
И НЕБО ОКРОВАВИЛИ БОЙНЕЙ!
ЭЙ ВЫ!
НЕБО!
СНИМИТЕ ШЛЯПУ!
Я ИДУ!
ГЛУХО.
ВСЕЛЕННАЯ СПИТ
ПОЛОЖИВ НА ЛАПУ
С КЛЕЩАМИ ЗВЕЗД ОГРОМНОЕ УХО.
1914–1915
России*
Вот иду я,
заморский страус,
в перьях строф, размеров и рифм.
Спрятать голову, глупый, стараюсь,
в оперенье звенящее врыв.
Я не твой, снеговая уродина.
Глубже
в перья, душа, уложись!
И иная окажется родина,
вижу –
выжжена южная жизнь.
Остров зноя.
В пальмы овазился.
«Эй,
дорогу!»
Выдумку мнут.
И опять
до другого оазиса
вью следы песками минут.
Иные жмутся –
уйти б,
не кусается ль? –
Иные изогнуты в низкую лесть.
«Мама,
а мама,
несет он яица?» –
«Не знаю, душечка.
Должен бы несть».
Ржут этажия.
Улицы пялятся.
Обдают водой холода́.
Весь истыканный в дымы и в пальцы,
переваливаю года.
Что ж, бери меня хваткой мёрзкой!
Бритвой ветра перья обрей.
Пусть исчезну,
чужой и заморский,
под неистовства всех декабрей.
1915
Себе, любимому, посвящает эти строки автор*
Четыре.
Тяжелые, как удар.
«Кесарево кесарю – богу богово».
А такому,
как я,
ткнуться куда?
Где для меня уготовано логово?
Если б был я
маленький,
как Великий океан, –
на цыпочки б волн встал,
приливом ласкался к луне бы.
Где любимую найти мне,
такую, как и я?
Такая не уместилась бы в крохотное небо!
О, если б я нищ был!
Как миллиардер!
Что деньги душе?
Ненасытный вор в ней.
Моих желаний разнузданной орде
не хватит золота всех Калифорний.
Если б быть мне косноязычным,
как Дант
или Петрарка!
Душу к одной зажечь!
Стихами велеть истлеть ей!
И слова
и любовь моя –
триумфальная арка:
пышно,
бесследно пройдут сквозь нее
любовницы всех столетий.
О, если б был я
тихий,
как гром, –
ныл бы,
дрожью объял бы земли одряхлевший скит.
Я
если всей его мощью
выреву голос огромный –
кометы заломят горящие руки,
бросятся вниз с тоски.
Я бы глаз лучами грыз ночи –
о, если б был я
тусклый,
как солнце!
Очень мне надо
сияньем моим поить
земли отощавшее лонце!
Пройду,
любовищу мою волоча.
В какой ночи́,
бредово́й,
недужной,
какими Голиафами я зача́т –
такой большой
и такой ненужный?
1915
Наш марш*
Бейте в площади бунтов топот!
Выше, гордых голов гряда!
Мы разливом второго потопа
перемоем миров города.
Дней бык пег.
Медленна лет арба.
Наш бог бег.
Сердце наш барабан.
Есть ли наших золот небесней?
Нас ли сжалит пули оса?
Наше оружие – наши песни.
Наше золото – звенящие голоса.
Зеленью ляг, луг,
выстели дно дням.
Радуга, дай дуг
лет быстролётным коням.
Видите, скушно звезд небу!
Без него наши песни вьем.
Эй, Большая Медведица! требуй,
чтоб на небо нас взяли живьем.
Радости пей! Пой!
В жилах весна разлита.
Сердце, бей бой!
Грудь наша – медь литавр.
<1918>
Алексей Крученых*
«Бука русской литературы»[115], «enfant terrible»[116][117] русского футуризма, Алексей Елисеевич Крученых был одним из самых радикальных и последовательных деятелей русского авангарда. Никто из футуристов не встретил такого непонимания и не подвергался такой уничижительной критике, как Крученых. Неутомимый полемист, организатор, теоретик, издатель, он всегда находился в эпицентре футуристической активности и самим своим присутствием эту активность создавал.
Сближение Крученых с будетлянами относится к 1912 году (хотя его знакомство с Д. Бурлюком произошло раньше). Тогда же состоялся его литературный дебют – вышли книги «Игра в аду» (в соавторстве с В. Хлебниковым) и «Старинная любовь» (обе – М., 1912), охарактеризованные одним из критиков как «безнадежное убожество при такой ухарской позе»[118].
Подпись Крученых появляется под манифестом «Пощечина общественному вкусу», его произведения публикуются в нескольких футуристических альманахах. В 1913 году в Москве выходит этапный для Крученых и всего русского футуризма сборник «Помада», в котором, кроме прочих, помещено заумное стихотворение «Дыр бул щыл…» – самое известное произведение его автора. Крученых серьезно принимается за разработку теории заумного языка, в основу которой легла его «Декларация слова, как такового» (СПб., 1913).
В декабре 1913 года в петербургском театре «Луна-парк» была поставлена опера «Победа над солнцем» (текст Крученых, пролог Хлебникова, музыка М. Матюшина, декорации К. Малевича), ставшая одним из кульминационных событий в истории русского футуризма.
Крученых много издается. Он является инициатором уникальных литографических книг, позволивших объединить усилия лучших авангардистских литераторов и живописцев. Книги самого Крученых оформляли М. Ларионов, Н. Гончарова, К. Малевич, О. Розанова, В. Татлин, Н. Кульбин.
Второй период футуристической деятельности Крученых связан с тифлисской группой «41°», которую он и И. Зданевич организовали в 1918 году. Крученых не отказывается от своих радикальных взглядов на современное искусство, продолжает развивать теорию зауми и активно пропагандирует заумную поэзию.
После возвращения в Москву в 1922 году Крученых предпринимает попытку включиться в работу группы «Леф», однако слишком умеренные, по его мнению, эстетические принципы лефовцев его не устраивают, и он продолжает свою литературную деятельность в одиночку. Теории словотворчества и зауми, развиваемые Крученых, естественно, не могли прижиться в советской литературе. Книги теории и поэзии «Фактура слова: Декларация. (Книга 120-ая)» (М., 1922; на обложке – 1923), «Сдвигология русского стиха: Трахтат обижальный. (Трактат обижальный и поучальный). Книга 121-ая» (М., 1922) и «Апокалипсис в русской литературе: Книга 122-ая» (М., 1923) явились, по существу, итоговыми работами Крученых. После этого ему удается издать еще несколько брошюр, а также неопубликованные произведения Хлебникова. Последняя выпущенная им книга датирована 1934 годом.
И.Терентьев, один из поздних футуристов, писал: «Крученых самый прочный футурист как поэт и как человек.
Его творчество – крученый стальной канат, который выдержит любую тяжесть»[119]. Но феномен Крученых оценивали не только его соратники по кубофутуризму и их продалжатели – заумники. П. Флоренский, Б. Пастернак, К. Чуковский, О. Мандельштам и другие признавали как безусловно состоявшийся факт поэтические эксперименты Крученых или по меньшей мере его «патетическое и напряженное отношение к поэзии»[120].
Помада*
3 стихотворения написанные на собственном языке От др. отличается: слова его не имеют определенного значения
№ 1.
Дыр бул щыл
убешщур
с кум вы со бу
р л эз
№ 2
Фрот фрон ыт
не спорю влюблен
черный язык
то было и у диких
племен
№ 3
Та са мае
ха ра бау
Саем сию дуб
радуб мола
аль
<1913>
«я жрец я разленился…»*
я жрец я разленился
к чему все строить из земли
в покои неги удалился
лежу и греюсь близ свиньи
на теплой глине
испарь свинины
и запах псины
лежу добрею на аршины.
Какой-то вестник постучался
разбил стекло –
с постели приподнялся
вдали крыло
и кажется мелькнуло
сурово-милое плечо
то перст или мигуло
иль уст свеча.
Мозгам вареным страшно
куда сокрылся он
как будто в рукопашной
с другим упал за небосклон
иль прозвенело серебро
в лучах невидимых
что вечно не старо
над низкой хижиной.
тут вспомнилась чиная
что грозноуста
смотрит обещая
неделю мясопуста.
и томной грустью жажды
томиться сердце стало
вздохну не раз не дважды
гляжу в светало.
гроза ли грянет к ночи
иль жар глины
и вянет кочень
среди долины
он видел глаза какие
и их желая скрыть
молчит…степи нагие
змея шипит.
все помню запах крылий
смешался он с свининой
но тихо тихо вылей
ты сердце все с годиной…
<1913>
«мир гибнет…»*
мир гибнет
и нам ли останавливать
мы ли остановим оползнь
гибнет прекрасный мир
и ни единым словом не оплачем
погибели его
не оплачем вместе с суетливым
трусливые и жидкослезные нет
священные жуки жуют трости
свистят
кому зверю голяку черному
свистят трости
соловей подсвистывает
свистит дудка
дудит гудит
ЗЭ Э НЕС ШЮ
усталый ветер заглядывает узкие входы
по затылку
ужас чудит
ноги наклоняются наши наймиты на брюхе
плюют кружатся секутся
жуки улетели
пустыня холодом своим греет?
больше тепла в спряте
отчего все растут каменные деревья?
гибнет мир и нет нам погибели
<1913>
«ГО ОСНЕГ КАЙД…»*
(написано на языке собственного изобретения)
ГО ОСНЕГ КАЙД
М Р БАТУЛЬБА
СИНУ АЕ КСЕЛ
ВЕР ТУМ ДАХ
ГИЗ
<1913>
«ЗАБЫЛ ПОВЕСИТЬСЯ…»*
ЗАБЫЛ ПОВЕСИТЬСЯ
ЛЕЧУ К АМЕРИКАМ
НА КОРАБЛЕ ПОЛЕЗ ЛИ КТО
ХОТЬ был ПРЕД НОСОМ
<1913>
«Я в ЗЕМЛЮ ВРОС…»*
Я в ЗЕМЛЮ ВРОС
И ПОТЕМНЕЛ
ПОД ГРИВОЮ ВОЛОС
НАШЕЛ ПРЕДЕЛ
от славы ИСКУшенья
ЗАБИЛСЯ В СПРЯТ
НЕ слышу умиленья
ШЕПЧУ О СВЯТ
ПОДАЙ МНЕ силы
<1913>
Русь*
в труде и свинстве погрязая
взрастаешь сильная родная
как та дева что спаслась
по пояс закопавшись в грязь
по темному ползай и впредь
пусть сияет довольный сосед!
<1913>
Смерть художника*
привыкнув ко всем безобразьям
искал я их днем с фонарем но увы!
все износились проказы
не забыться мне ни на чем!
и взор устремивши к бесплотным
я тихо но твердо сказал:
мир вовсе не рвотное –
и мордой уткнулся в Обводный канал…
Отчаяние*
из-под земли вырыть
украсть у пальца
прыгнуть сверх головы
сидя идти
стоя бежать
куда зарыть кольца
виси на петле
тихо качаясь
<1913>
«…Суровый идиот я грохнулся на стол…»*
…Суровый идиот я грохнулся на стол
Желая лоб разбить иль древо
И поднялся в рядах содом
Всех потрясла дикарская вера
На огненной трубе чертякой
Я буду выть лакая жар
Живот наполню шкваркой всякой
Рыгая вслед склоненных пар…
И на зубах растаял чистый сахар
Не-вин-ной детской костки
Я волчий глаз я знахарь
Преступник молодой сожжен как в звестке
И вот не знавшего болезней
Краснела сальная нога
Что бунт или начинка пирога
Что для отечества полезней
а-а! жадно есть начну живых
Законы и пределы мне ли?
И костью запущу в ряды
Чтобы навек глазей онемели
<1913>
«КОРОЛЬ ДЕРЖИТ ЧЕРТА…»*
КОРОЛЬ ДЕРЖИТ ЧЕРТА
ЧЕрт чрево
ЧАША ПОЛНа ВИШЕНЬ
ВОРОБеЙ на крыше
<1913>
Победа над Солнцем*
Люди! Те кто родились, но еще не умер. Спешите идти в созерцог или созерцавель
Будетлянин.
Созерцавель поведет вас,
Созерцебен есть вождебен,
Сборище мрачных вождей
От мучав и ужасавлей до веселян и нездешних смеяв и веселогов пройдут перед внимательными видухами и созерцалями и глядарями: мина вы, бывавы, певавы, бытавы, идуньи, зовавы, величавы, судьбоспоры и малюты.
Зовавы позовут вас, как и полунебесные оттудни.
Минавы расскажут вам, кем вы были некогда.
Бытавы – кто вы, бывавы – кем вы могли быть.
Малюты утроги и утравы расскажут, кем будете.
Никогдавли пройдут, как тихое сновидение.
Маленькие повелюты властно поведут вас.
Здесь будут иногдавли и воображавли.
А с ними сно и зно.
Свироги и песноги утрут слезу.
Воин, купец и пахарь. За вас подумал грезничий песнило и снахарь.
Беседни и двоиры певиры пленят вас.
Силебен заменит хилебен.
1-ые созерцины – тогда-то созерцавель есть преображавель.
Грозноглагольные скоропророчащие идуты потрясут.
Обликмены деебна в полном ряжебне пройдут, направляемые указуем волхвом игор, в чудесных ряжевых, показывая утро, вечер дееск, по замыслу мечтахаря, сего небожителя деин и дея деесь.
В детинце созерцога «Будеславль» есть свой подсказчук.
Он позаботится, чтобы говоровья и певавы шли гладко не брели розно, но достигнув княжебна над слухатаями, избавили бы людняк созерцога от гнева суздалей.
Смотраны написанные худогом, создадут переодею природы.
Места на облаках и на деревьях и на китовой мели занимайте до звонка.
Звуки несущиеся из трубарни долетят до вас.
Пользумен встретит вас.
Грезосвист пениствора наполнит созерцебен.
Звучаре повинуются гуляру-воляру.
Семена «Будеславля» полетят в жизнь.
Созерцебен есть уста!
Будь слухом (ушаст) созерцаль!
И смотряка.
В. Хлебников.
(Двое будетлянских силачей разрывают занавес)
Первый.
Все хорошо, что хорошо начинается!
Второй.
А кончается?
1-й.
Конца не будет!
Мы поражаем вселенную
Мы вооружаем против себя мир
Устраиваем резню пугалей
Сколько крови Сколько сабель
И пушечных тел!
Мы погружаем горы!
(Поют)
Толстых красавиц
Мы заперли в дом
Пусть там пьяницы
Ходят разные нагишом
Нет у нас песен
Вздохов наград
Что тешили плесень
Тухлых наяд!..
(1-й силач медленно уходит)
2-й силач:
Солнце ты страсти рожало
жгло воспаленным лучом
Задернем пыльным покрывалом
Заколотим в бетонный дом!
(Является Нерон и Калигула в одном лице у него только левая поднятая и согнутая под прямым углом рука).
Н. и К. (Грозно).
Кюлн сурн дер
Ехал налегке
Прошлом четверге
Жарьте рвите что я не допек.
(С благородным жестом застывает, потом поет во время пения уходит 2-й силач).
– Я ем собаку
И белоножки
Жареную котлету
Дохлую картошку
Место ограничено
Печать молчать
Ж Ш Ч
(Въезжает в колесах самолетов путешественник по всем векам – на нем листы с надписью каменный век средние века и проч… Нерон в пространство).
Нерон и К.
– Непозволительно так обращаться со стариками
Летельбищ не терпя…
Путешественник
– Друг все стало
Вдруг пушки
Поет.
– Озер спит
Много пыли
Потоп… Смотри
Все стало мужским
Озер тверже железа
Не верь старой мере
(Нерон осторожно посматривает в лорнет на железо колес).
Путешественник
(Поет)
– Взыграл бур
Катится пеленищ
Скорее буромер
Не верь прежним весам
Тебя посадят на икру
Если не достанешь пустопят
Нерон и К.
Непозволительно так обращаться со стариками! они любят молодых
Ух я искал пенночку
Искал маленький кусочек стекол – все съели даже не оставили костей…
Ну что ж делать уйду искосью в XVI век в кавычки сюда.
(Отходит полуобернувшись к зрителям).
Все изгадили даже блевотина костей
(Снимает сапоги уходит).
Путешественник.
Я буду ездить по всем векам, я был в 35-м там сила без насилий и бунтовщики воюют с солнцем и хоть нет там счастья но все смотрят счастливыми и бессмертными… Неудивительно что я весь в пыли и поперечный… Призрачное царство… Я буду ездить по всем векам хоть и потерял две корзины пока не найду себе места.
(Некий злонамеренный подползает и слушает).
В афибе мне мало в подземном темно… Светил… Но я все изъездил (к зрителям): Пахнет дождевым провалом
Глаза лунатиков обросли чаем и моргают на небоскребы и на винтовых лестницах поместились торговки… Верблюды фабрик уже угрожают жареным салом а я не проехал еще и одной стороны. Что то ждет на станции.
(Поет).
– Не больше не меньше
Как резать пугатей
Держите держите
Пуляй пилюля
Волчка
О я смел закопчу путь свой и следа не оставлю… Новое…
(Некий злонамеренный).
– Ты что ж неужели в самом деле полетишь?
Путешественник.
А что ж? Что колеса мои не найдут своих гвоздей?
(Некий стреляет, Путешественник укачивает кричит).
Гаризон! Лови сною
Спные… З. З. З! –
(Тогда злонамеренный ложится и покрывает себя ружьем).
– Хотя я и не застрелился – из застенчивости –
Но памятник себе поставил – тоже не глуп!
Мне первому памятник – замечательно!..
Двойка черная правит прямо на меня.
(Показывается будетлянский пулемет останавливается у телеграфного столба).
– Ох жалоба! Что значит вид что поставил врасплох своего врага – задумался.
Я без продолжения и подражания
(Входит забияка, разгуливает и поет)
Сарча саранча
Пик пить
Пить пик
Не оставляй оружия к обеду за обедом
Ни за гречневой кашей
Не срежешь? Взапуски
(Некий нападает, стреляет молча несколько раз из ружья).
– В бой!
Ха-ха-ха! Неприятели, что вы устали или не узнаете? Враги наступайте из решеток щелей вызывайте меня на поединок. Я сам сломал свое горло, обращусь в порох, вату, крючок и петлю… Или вы думаете крючок сласнее ваты?
(убегает и через минуту возвращается).
Кички в капусте!..
А… за перегородкой! Тащи его мертвеца синеносого
(Неприятель тащит самого себя за волосы ползет на коленях).
А трус сам себя выдаешь и проводишь!
(Забияка в стороне смеется).
Забияка – Презренный сколько в тебе могильной пыли и стружек пойди вытрусись и умойся не то…
(Неприятель плачет)
Злонамеренный: А, темя неприятеля! ты меня считаешь за вилку и думу мою высмеиваешь но я ожидал и не шел на тебя с мечом.
Я продолжение своих путей.
Я ожидал… Закопал свой меч осторожно в землю и взявши новый мяч бросил его.
(Показывает прием футболиста).
В ваше стадо… Теперь смущены… Обморочены не можете различить своих гладких голов и мяча растерялись и прижались к скамеечке и мечи сами лезут со страху в земь их пугает мяч;
если неверный бежь поразишь голову своего хозяина и будет он бегать за нею в цветочном продавальце…
(Проходят вражеские воины в костюмах турков по хромому от сотни – с опущенными знаменами некоторые из них очень жирны).
(Один из воинов выступает и дает злонамеренному цветы – тот топчет их).
Злонам. – Выйти на встречу себе с пегим конем ружье под мышкой… А!
Я тебя давно искал наконец то вспотевший гриб.
(Затевает с собою драку. Входят певцы в костюмах спортсменов и силачи. Один из спортсменов поет):
Нет уже света цветов
Закройтесь гнилью небеса
(Я говорю не для врагов
а вам друзья)
Все порожденья дней осенних
И плод корявый лета
Не вас баяч новейший
Будет воспевать
1-й силач
Идите улиц миллионы
Иль тмени будет по-русски
Скрежет полозьев тележных
сказать ли? – Головы узкие
Для себя неожиданно
Сонные стали драться
И такую пыль подняли
Будто брали Порт-Артур
(Хор).
Колесница победная едет
Двойка побед
Как отрадно под колеса
Ее упасть
1-й силач.
Припечатана сургучом
Победа созревшая
Нам теперь все нипочем
Лежит солнце в ногах зарезанное!
Драку затейте с пулеметами
Их раздавите ногтем
Тогда скажу: вот вы
Силачи болые!
(Хор).
Пусть растопчут
Раскаленные кони
И завьются волосы
В запахе кожи!..
2-й силач.
Соль ползет к пастуху
Конь мост устроил в ухе
Кто вас держит на постах
Пробегайте по ребрам черным
Сквозь пар и дым
И рожки кранов
Встал на крыльце люд
Махает розгами чайня
1-й силач.
– Не выходите за линию огня
Птица летит железная
Машет бородой леший
Под копытом зарытой
Стонут фиалки
Под крепкой пятой
И молкнет палка
В луже гробовой
Оба силача (поют).
Скрылось солнце
Тьма обступила
Возьмем все ножи
Ждать взаперти
Занавес.
(Входят похоронщики. Верхняя половина белая и красная нижняя черная).
(Поют).
Размозжить черепаху
Упасть на люльку
Кровожадной репы
Приветствуйте клетку
Пахнет гробом жирный клоп…
Черная ножка…
Качается расплющенный гроб
Извивается кружево стружек.
(Разговорщик по телефону):
– Что? Солнце полонили?!
Благодарю. –
(Входят несущие солнце – сбились так что солнца не видно):
Один.
– Мы пришли из 10-х стран
Страшные!..
Знайте что земля не вертится
Многие:
Мы вырвали солнце со свежими корнями
Они пропахли арифметикой жирные
Вот оно смотрите
Один:
– Надо учредить праздник: День победы над солнцем.
Поют:
(Хор).
– Мы вольные
Разбитое солнце…
Здравствует тьма!
И черные боги
Их любимца – свинья!
Один:
Солнце железного века умерло! Пушки сломаны пали и шины гнутся как воск перед взорами!
Разговорщик: что?.. Надеящийся на огонь пушки еще сегодня будет сварен с кашей!
Слушайте!
Один.
На более плотные ступени
Выкованные не из огня
не железа и мрамора
Не воздушных плит
В дыму угаре
И пыли жирной
Крепнут удары
Здоровьем как свиньи
Ликом мы темные
Свет наш внутри
Нас греет дохлое вымя
Красной зари
БРН БРН
(ЗАНАВЕС)
изображены дома наружными стенами но окна странно идут внутрь как просверленные трубы много окон, расположенных неправильными рядами и кажется что они подозрительно движутся.
(Показывается «Пестрый глаз»):
прошлый уходит
быстрым паром
и задвигает засов
и череп скамейкой ускакал в дверь
(убегает как бы наблюдая за черепом)
(входят с одной стороны новые
с др. трусливые):
новые: мы выстрелили впрошлое
трус: что же осталось что нибудь?
– ни следа
– глубока ли пустота?
– проветривает весь город. Всем стало легко дышать и многие не знают что с собой делать от чрезвычайной легкости. Некоторые пытались утопиться, слабые сходили с ума, говоря: ведь мы можем стать страшными и сильными.
Это их тяготило
Трусл. Не надо было показывать им проложенных путей,
удерживайте толпу.
Новые. Один принес свою печаль, возьмите она мне теперь не нужна! он вообразил также что внутри у него светлее чем вымя пусть покружится
(кричит).
(Чтец):
как необычайна жизнь без прошлого
С опасностью но без раскаяния и воспоминаний…
Забыты ошибки и неудачи надоедливо пищавшие в ухо вы уподобляетесь ныне чистому зеркалу или богатому водовместилищу где в чистом гроте беззаботные златые рыбки виляют хвостами кк турки благодарящие
(потревоженный – он спал – входит толстяк)
толстяк:
голова на 2 шага сзади – обязательно! все-то отстает!
У досада!
где закат? уберусь… светится… у меня все видно дома… скорей надо убираться…
(поднимает что-то): кусок самолета или самовара
(пробует на зуб)
сероводород!
видно адская штука возьму про запас… (прячет).
(чтец спеша):
я все хочу сказать – вспомните прошлое
полное тоски ошибок…
ломаний и сгибания колен… вспомним и сопоставим с настоящим… так радостно:
освобожденные от тяжести всемирного тяготения мы прихотливо располагаем свои пожитки кк будто
перебирается богатое царство
(толстяк поет):
застенчивость застрелиться
трудно в пути
пугамет и виселица
держат икру…
(Чтец перебивая): или вы не чувствуете кк живут два мяча: один закупоренный кисленький и тепленький и другой бьющий из подземелья кк вулкан опрокидывающий…
(музыка)
они несовместимы… (музыка силы)
лишь черепа обгрызанные бегают на единственных четырех ногах – вероятно это черепа основ… (уходит).
Толстяк:
10-ые страны… окна все внутрь проведены дом загорожен живи тут кк знаешь
Ну и 10-ые страны! вот не знал что придется сидеть взаперти
ни головой ни рукой двинуть нельзя развинтятся или сдвинутся а как тут топор действует окаянный обстриг всех нас ходим мы лысые и не жарко а только парко такой климат скверный даже капуста и лук не растут а базар – где он? – говорят на островах…
а вот бы забраться по лестнице в мозг этого дома открыть там дверь № 35 – эх вот чудеса! да, все тут не тк-то просто хоть свиду что комод – и все! а вот блуждаешь блуждаешь
(лезет куда то в верх)
нет не тут все дороги перепутались и идут вверх к земле а боковых ходов нет… эй кто там наш есть подай веревку или голос стреляй… ксть! пушки из березы – подумаешь!
старожил:
вот пожалуйте вход прямо назад выйдете… а другого нет нет или прямо вверх к земле
– да страшновато
– ну как хотите
толстяк: завести бы часы свои.
эй оглобля куда у вас поворачиваются часы? стрелка?
внимательный рабочий:
назад обе сразу перед обедом а теперь только башня, колеса – видишь? (старожил уходит)
толстяк: ба, ой упаду (заглядывает в разрез часов: башня небо улицы вниз вершинами – кк в зеркале)
где бы заложить часы?
Рабочий:
не мечтайте не пощадят! Что же высчитайте быстрота ведь сказывается, на два корневых зуба если класть по вагону старых ящиков да их пересыпать желтым песком да все это и пустить тк то сами подумайте
ну самое простое что они наскочат на ккую нибудь этакую трубу в кресле ну а если нет? ведь там народ весь забрался куда то тк высоко что ему и дела нет кк там чувствуют себя паровозы их копыта и проч. ну естественно!
рыскает печь косы
как нагонит антилопа
но в том то и дело
что никто не подставит лоба
ну а впрочем я оставляю все по прежнему (уходит)
(Толстяк из окна):
да да пожалуйте вот вчера был тут телеграфный столб а сегодня буфет, ну а завтра будут наверно кирпичи.
это у нас ежедневно случается никто не
знает где остановка и где будут обедат
эй ты прими ноги – (уходит через окно вверху)
(шум пропеллера за сценой, вбегает молодой человек: поет испуганный мещанскую песню):
ю ю юк
ю ю юк
гр гр гр
пм
пм
др др рд рд
у у у
к н к н лк м
ба ба ба ба
. . . . . . . .
гибнет родина
от стрекоз
чертит лилии
паровоз
(слышен шум пропеллера)
не поймаюся в цепи
силки красоты
шелк и нелепы
уловки грубы
Я пробираюсь тихонько
по темной дороге
по узкой тропинке
под мышкой корова
черныя коровы
тайны знак
за седлом шелковым
спрятан клад
я втихомолку
им любуюсь
втиши тонкая иголка
прячется в шею
(идут спортсмены в такт линиям зданий):
сюда… все бежит без противления
сюда направляются со всех сторон пути
паровозят сто копытца
обгоняют обманывают неловких
просто давят
берегитесь чудовищ
пестроглазых…
будетлянские страны будут
кого беспокоят эти проволки пусть обернется спиной
(поют):
с высоты небоскребов
как безудержно
льются экипажи
картечь не так поражает даже
отовсюду льдят самокаты
смертью гробнут стаканы плакаты
Шаги повешены
на вывесках
бегут люди
вниз котелками
(музыка – стук машин)
и косые занавески
опрокидювают стекла
гр жм
км
одгн сирг врзл
гл…
(необыкновенный шум – падает аероплан – на сцене видно поломанное крыло)
(крики)
з… з… стучит стучит женщину задавило мост опрокинул
(после падения часть бросается к аероплану, а часть смотрящих):
1-й; с виду на сиду большое
закуверкалай зачесался
2-й –
спренькурезал стор дван ентал ти те
3-й – амда курло ту ти ухватилось у сосало
(авиатор за сценой хохочет, появляется и все хохочет):
Ха-ха-ха я жив
(и все остальные хохочут)
я жив только крылья немного потрепались да башмак вот!
(поет военную песню):
л л л
кр кр
тлп
тлмт
кр вд т р
кр вубр
ду ду
ра л
к б и
жр
вида
диба
входят силачи:
все хорошо, что хорошо начинается
и не имеет конца
мир погибнет а нам нет
конца!
(Занавес).
Памяти Елены Гуро*
…Когда камни летней мостовой
станут менее душны, чем наши
легкие,
Когда плоские граниты памятников
станут менее жесткими, чем
наша любовь,
и вы востоскуете и спросите
– где?
Если пыльный город восхочет
отрады дождя
и камни вопиют надтреснутыми
голосами,
то в ответ услышат шепот
и стон «Осеннего Сна»
«…И нежданное и нетерпеливо – ясное
было небо между четких вечерних
стволов… – («Шарманка» Е. Гуро)
Нетерпеливо-ясна Елена Гуро…
<1914>
«копи богатства беги отца…»*
копи богатства беги отца
его оставив в ломовиках
замок покрепче на дверях
пусть с взглядом смуглой конницы
он за тобою гонится
пусть шепчет заклинания
и в дверь без смысла бьет
пускай подымет он народ
не верь его страданиям
пусть плачет – детям в назидание
<1914>
На Удельной*
Гвоздь в голову!
Сам попросил
Положил ее на траву –
Пусть простукает нарыв.
Раскрыл пасть
– Там плюхался жирный карась –
А тот говорит: нишкни
Иначе трудно попасть!
Слышу: крышку забивают громко
Я скусил зубы
– Карась нырнул под нёбо –
Лежи, а то принудят родные
Не открывайся – ни крови…ни звука…
Кто помогал мне – не узнал сперва…
Гвоздил в висок заржавленным здорово! –
Потом огляделся – моя жена!
Пошла и долго смеясь рассказывала доктору.
Залепили… поправился… вышел из больницы…
Жаль только
Остался там китайчонок
Мой сын от китайской царицы.
Отрыжка*
как гусак
объелся каши
дрыхну
гуска рядом
маша
с рожей красной
шепчет про любовь
<1917>
«Искариоты вы…»*
Искариоты вы
никуды
Я сам себя предал
от большого смеха
болтаю ногами
пускай из уха течет дрянь
судьи – корыто
ночь и день
гром и свист
для меня –
одно…
полотенце показывает кулак
<1917>
«Я поставщик слюны АППЕТИТ на 30 стран…»*
Я поставщик слюны АППЕТИТ на 30 стран
Успеваю подвозить повсюду
Обилен ею как дредноут – ресторан
Рельсы блещут как канкан
Цистерны экзотичный соус подают к каждому блюду
Мне разжигателю похоти кадил
Дорог мой вид неудержимой шипучки с ботинкой трасучей
Я пепсин для жвачки и мандрил
Пенюсь до потери сил
Певицы с треском целуют мне ручки
Жабы нежности сероглазастые
Лезут из водопроводной ноздри
Влюбленные коренастые
Лижут уши мои!
Планетам всем причастен Я
Музка, слезы блузкой оботри
Заатлантический транспорт моей насморочной глубины
Не знает пределов!
Пароход восторжен от маршрута шаризны
У него бока грузны
Не принимает на борт других консервов
Сквозь дождь слюнявый мир заблестит гримасной радугой
Без нее как без вежеталя на земле сушь…
Пусть пенится в бокалах с ягодой
И все одевает трико чемпионов мира –
ЧУШЬ!
<1919>
«Я прожарил свой мозг на железном пруте…»*
Я прожарил свой мозг на железном пруте
Добавляя перцу румян и кислот
Чтобы он понравился, музка, тебе
Больше, чем размазанный Игоря Северянина торт
Чтоб ты вкушала щекоча ноготком
Пахнущий терпентином смочок.
Сердце мое будет кувырком
Как у нервного Кубелика
СМЫЧОК
<1919>
«Орман орган гаримон ха…»*
Орман орган гаримон ха
Армян хачгал каймал кя
Каши каи камалаи кга
банч банчук анчек банчунес
чехдых гендыл андык ачинес
Меки хеци хецинес
радомес.
Ксерке.
Ицир!
Гар чигар жгар
течь ийгар.
Чинчигнар
Эдолгар
Обелгар
Лгармлы
чари-чар
Зар
бгар…
вольягар cap, зар, мар, щар.
Алегар молагар молафар
Молатар молатос маньюл бекьянь
Сифеци фет фей
Фитерос кинтерос
Цви ууви.
Цью
Ци
Ць.
<1918>
«Кокетничая запонками…»*
Кокетничая запонками
из свеже-отравленных скорпионов
Портовый кран
вдвое вытянул
изумрудный перископ головы
и прикрыл
индиговым сатином
жабры,
дразня пролетающих с Олимпа
алебастровых богинь
цин-ко-но-жек!..
<1920>
«И так плаксиво пахнут…»*
И так плаксиво пахнут
русалки у пруда
как на поджаренном чердаке
разлагающиеся восточные акции
сокации кибля
мыган огляр
хючки
хычас
гыш!
<1920>
«Дым накрашенных…»*
Дым накрашенных
ноздрей
Курчавоглазого зверька
Толчками сдул меня
С площадки воздуха
И я летел
Как выроненный
слизняк!..
<1920>
Лунатизм вокзала*
от грусти
станции побелели
лунной известью
стершиеся надписи
в остывающем пару
перепрыгивают на фаянсовые гнезда
телеграфных столбов…
красный павлин семафора
хлопает по затылку
расшвыривая по местам
узловых дежурных…
лунатизм вокзалов
раздевающих огненную душу
под звуки бревенчатой шестерни
пугающе по ночам
недвижным пируэтом…
нервный свисток зевоты.
––––––––
на мосту
вывороченная водоросля девушка
случайно увиденная оком
блуждающего экспресса
выплакала свои ребра
на сапоге
пригвожденного в сумрак стрельца
и парниковый садовник
с оловянным лицом
причислил ее к лику
туманной девы.
<1920>
«на всех заковулках…»*
на всех заковулках
надрал:
– сокко
цмак
абриолин!
. . . . . . . . . .
на всех переездах
написал:
– сокко
цма
абриолюн!
<1920>
Хиромант*
§§§§§§§§
РАСКРЫЛ ЧАШЕЧКИ АКАЦИЙ
И БРОСИВ ЛУЖЕНЫЙ ПОЛТИННИК
УМЕР ПОД ПОТОЛКОМ ooooooooo
ПРИВИНЧЕННЫЙ
К КОКОТНОЙ
Л/А/М/П/О/Ч/К/Е…
<1920>
«Зев тыф сех…»*
Зев тыф сех
тел тверх
Зев стых дел
царь
тыпр
АВ
МОЙ ГИМН
ЕВС!
<1920>
«фантазм…»*
фантазм
известково-ярких ночей
пленял лихорадочных
псов
загробным шатаньем
среди ретортных торцов
и вот зацвело
меблированным светом
мое последнее
БЕЗУМИЕ!..
<1920>
«это паук в бензине…»*
это паук в бензине
бычный, но с необычным оттенком
закапанный тведостью
чересчур резче…
потому что позолоченные мысли
принадлежат тому, кто их обрабатывает.
повязываю друга
полотенцем балки
ибо
так приказала ты.
<1920>
«От вздрогнувшей стены…»*
От вздрогнувшей стены
отделилась девушка
подмигнула
и стала старухой.
Так просто без шума
переворачиваются
квартиры
пропадают подсвечники
и стреляются тараканы
Рисом
в ухо.
Отрава*
Злюстра зияет над графом заиндевелым
Мороз его задымил,
ВЗ-З-ЗНУЗДАЛ!!
Кровь стала белой
А в спине замерзает застарелый парафин
Отравный по жилам растекся слизняк…
За зазорным наследством
Сквозь заборы и щели
В дверь надвигалась з-з-зудящих РОД-ственников
Зве-ра-а-ва
А!
СА-СА-СА-СА…
ПРИМЕЧАНИЕ: последние 4 строчки читаются нараспевмаршем. (Прим. автора.)
<1922>
«В полночь я заметил…»*
В полночь я заметил на своей простыне черного и твердого,
величиной с клопа
в красной бахроме ножек.
Прижег его спичкой. А он, потолстел без ожога, как повернутая дном железная бутылка…
Я подумал: мало было огня?…
Но ведь для такого – спичка как бревно!..
Пришедшие мои друзья набросали на него щепок, бумаги с керосином – и подожгли…
Когда дым рассеялся – мы заметили зверька,
сидящего в углу кровати
в позе Будды (ростом с ¼ аршина)
И, как би-ба-бо ехидно улыбающегося.
Поняв, что это ОСОБОЕ существо,
я отправился за спиртом в аптеку
а тем временем
приятели ввертели ему окурками в живот
пепельницу.
Топтали каблуками, били по щекам, поджаривали уши,
а кто-то накаливал спинку кровати на свечке.
Вернувшись, я спросил:
– Ну как?
В темноте тихо ответили:
– Все уже кончено!
– Сожгли?
– Нет, сам застрелился…
ПОТОМУ ЧТО, сказал он,
В ОГНЕ Я УЗНАЛ НЕЧТО ЛУЧШЕЕ!
<1922>
Зудивец*
Со смыслом жизни на 5-й минуте покончив
Ищу нелепия упорных маслаков
Чтоб грызть их зубами отточенными
Каких не бывает и у заморских грызунов!
Моя душа – эссенция кислот
Растравит кость и упругие стали
Слюну пускает без хлопот
На страшном расстоянии
Не зная устали
Транспорт будалый!..
Отлангюрю/Отманикюрю свой язык
Причешу кудри мозга моего
И пойду на спор
И рык –
Добивать бога любовьего.
<1922>
Василий Каменский*
«Я не знаю другого поэта, – писал о Василии Васильевиче Каменском известный театральный деятель Н. Евреинов, – от которого так разило бы юностью с ее улыбками, прыжками, непосредственным подходом к труднейшим проблемам жизни, бесшабашностью, голубоглазием веры и песнями, песнями, песнями!
У него настоящая магия преображения Времени! <…> Быть Василием Каменским – это значит быть вечно 18-летним.
Это значит быть мудрецом, разгадавшим непосильную для смертных загадку»[121].
Вся жизнь Каменского – в динамике, в постоянном движении, в жажде открытий и свершений. В. Шершеневич писал, что «если Каменский талантлив в своем творчестве, то в своей жизни он еще талантливее»[122].
Начало профессиональной литературной деятельности Каменского относится к 1908 году, когда он становится секретарем петербургского литературного журнала «Весна». Он знакомится с Л. Андреевым, Ф. Сологубом, А. Куприным, а также, что оказалось более важным для его творческого развития, с В. Хлебниковым, Д. Бурлюком, Н. Кульбиным и несколько позже – с Е. Гуро и М. Матюшиным. В 1910 году вышел сборник «Садок судей». Перспективное значение этой книги, как вспоминал позже Каменский, осознавалось ее авторами, считавшими, что они кладут «гранитный камень в основание „новой эпохи“ литературы»[123]. Каменский был редактором «Садка судей», его двенадцать стихотворений открывали сборник. Оценивая эту книгу, В. Брюсов отмечал, что у Каменского «попадаются недурные образы»[124]. Н. Гумилев писал, что читатель «от всего цикла стихов (Каменского. – Сост.) уносит впечатление новизны, свежей и радостной»[125]. Стихотворения из «Садка» Каменский включил в свою первую книгу – роман «Землянка» (СПб., 1910; на обложке – 1911).
Понятие «футуризм» для Каменского не было литературным термином, он применял его к своей жизни: «Уж если мы действительно футуристы <…>, если мы – люди моторной современности, поэты всемирного динамизма, пришельцы-вестники из будущего, мастера дела и действия, энтузиасты – строители новых форм жизни, – мы должны, мы обязаны уметь быть авиаторами»[126]. В марте 1911 года Каменский отправился в Париж учиться летному делу у одного из пионеров авиации Луи Блерио; после возвращения во время одного из полетов потерпел крушение, остался жив и через полтора года примкнул к сформировавшейся к тому времени группе кубофутуристов, став одним из активнейших ее участников. Поэт, прозаик, художник и пропагандист нового искусства. Каменский принимает участие в многочисленных выступлениях, лекциях, турне, художественных выставках, печатается в футуристических альманахах. Слово и изображение соединились у Каменского в двух книгах «железобетонных поэм» – «Танго с коровами» и (совместно с А. Кривцовым) «Нагой среди одетых» (обе – М., 1914); комбинация различных шрифтов и введение графических элементов были рассчитаны на то, чтобы литературный текст воспринимался одновременно и как произведение изобразительного искусства (некоторые «поэмы» демонстрировались на художественных выставках).
Важным событием для Каменского стала публикация романа «Степан Разин» (М., 1915; на обл. – 1916), как и «Землянка» включавшего стихи. Первый его чисто стихотворный сборник «Девушки босиком» (Тифлис, 1916; на титульном листе – 1917) объединил как старые, так и новые произведения. На Кавказе Каменский продолжал свою деятельность по пропаганде футуризма, выступая с лекциями и даже участвуя в цирковых представлениях (читал стихи из «Стеньки Разина», сидя верхом на лошади).
В 1917 году Каменский организовал в Москве «Кафе поэтов», на недолгое время ставшее пристанищем левых художников. Во время октябрьских событий он выпустил «Декрет / О заборной литературе, / О росписи улиц, / О балконах с музыкой, / О карнавалах Искусств», который действительно был развешен на московских заборах и призывал художников всех видов искусства к революционному преобразованию жизни.
Плодотворным для Каменского стал и 1918 год: он выпускает две книги – поэтическую «Звучаль Веснеянки» и мемуарную «Его-моя биография Великого Футуриста» (обе – М., 1918). участвует в издании единственного номера «Газеты футуристов».
В дальнейшем Каменский – известный советский поэт. Он писал стихи, поэмы, пьесы, а также художественную, очерковую и мемуарную прозу.
Жить чудесно*
Op. 1
Жить чудесно! Подумай:
Утром рано с песнями
Тебя разбудят птицы –
О, не жалей недовиденного сна –
И вытащат взглянуть
На розовое солнечное утро.
Радуйся! Оно для тебя!
Свежими глазами
Взгляни на луг, взгляни!
Огни! Блестят огни!
Как радужно! легко.
Туманом розовым
Вздохни. Еще вздохни,
Взгляни на кроткие слезинки
Детей – цветов.
Ты – эти слезы назови:
Росинки-радостинки!
И улыбнись им ясным
Утренним приветом.
Радуйся! они для тебя.
Жить чудесно! Подумай:
В жаркий полдень
Тебя позовут гостить
Лесные тени.
На добрые, протянутые
Чернолапы садись, и обними
Шершавый ствол, как мать.
Пить захочешь –
Тут журчеек чурлит –
Ты только наклонись.
Радуйся! Он для тебя.
Жить чудесно! Подумай:
Вечерняя тихая ласка,
Как любимая сказка,
Усадит тебя на крутой бережок.
Посмотри, как дружок
За дружочком отразились
Грусточки в воде.
И кивают. Кому?
Может быть, бороде,
Что трясется в зеленой воде.
Тихо-грустно. Только шепчут
Нежные тайны свои
Шелесточки-листочки.
Жить чудесно! Подумай:
Теплая ночь развернет
Пред тобой синетемную глубь
И зажжет в этой глуби
Семицветные звезды.
Ты долго смотри на них.
Долго смотри.
Они поднимут к себе,
Как подружку звезду, –
Твою вольную душу.
Они принесут тебе
Желанный сон – о возлюбленной.
И споют звездным хором:
Радуйся! Жизнь для тебя.
1909
Скука девы старой*
Ор.12.
Затянулось небо парусиной.
Сеет долгий дождик.
Пахнет мокрой псиной.
Нудно. Ох, как одиноко-нудно.
Серо, бесконечно серо.
Чав-чав…чав-чав…
Чав-чав…чав-чав…
Чавкают часы.
Я сижу давно – всегда одна
У привычного истертого окна.
На другом окошке дремлет,
Одинокая, как я,
Сука старая моя.
Сука – «Скука».
Так всю жизнь мы просидели
У привычных окон.
Все чего-то ждали, ждали.
Не дождались. Постарели.
Так всю жизнь мы просмотрели:
Каждый день шел дождик…
Так же нудно, нудно, нудно.
Чавкали часы.
Вот и завтра это небо
Затянется парусиной.
И опять запахнет старой
Мокрой псиной.
1909
Чурлю-Журль*
Ор.5
Звенит и смеется,
Солнится, весело льется
Дикий лесной журчеек –
Своевольный мальчишка –
Чурлю-Журль.
Звенит и смеется,
И эхо живое несется
Далеко в зеленой тиши
Корнистой глуши:
Чурлю-Журль…
Чурлю-Журль…
Звенит и смеется:
«Отчего же никто не проснется
И не побежит со мной
Далеко, далеко… Вот далеко!
Чурлю-Журль…
Чурлю-Журль…»
Звенит и смеется.
Песню несет свою. Льется.
И не видит: лесная Белинка
Низко нагнулась над ним…
И не слышит: лесная цветинка
Песню отцветную поет и зовет…
Все зовет еще:
«Чурлю-Журль…
А Чурлю-Журль?..»
<1910>
Морская*
Есть страна Дальняя
Есть страна Дания
Есть имя Анния
Есть имя – Я.
В пальмах раскинута
Синь – Океания
Синь – Абиссиния
Синь – Апельсиния
Синь – облака.
Где-то покинута
Девушка с острова
Острая боль глубока.
Девушка Анния
Мною покинута
Жить и томиться
В шатре рыбака.
Может вернусь я
Может погибну
Может другую
Найду полюблю.
Девушку Аннию
Раннею грустью
Раннему устью –
Отдам кораблю.
Девушки – девушки
Рыжие девушки
Вы для поэта –
Березовый сок.
В море трава ли
Чайки летали
Чайки играли
Целовали песок.
1912
Цыганка*
ВОЛЯ – РАСТёГНУТА
СЕРДЦЕ – без ПОЯСА
МЫСЛИ – без ШАПКИ
в РАЗГУЛЬНОЙ душЕ
РАЗЛИЛИСЬ Б е Р е Г а
ДРОВ 2 охапки
РУЖЬЕ и ТопоР
и ОЛЕНьИ РОГА
шаТеР и КосТёР и
ОСТРА оСТРТОГА
ПЛЯШИ с бубенЦоМ и Колдуй
Я ОХОТНИК ––– тЫ на ЛовцА
заБлудилась ОвцА
поцелуй
ПОДАри МНЕ дырявую шаль
ВОЗЬМИ моЮ шкуру МЕДВЕЖЬЮ
ПРИХОДИ еЩе НОЧЕВАТЬ
С ПЕСНЯМИ КОЧЕВАТЬ
ЖИзнЬ – ВОСКРЕСЕНИЕ
ГЛАЗА ТвОи – ГОЛОВНИ
ГУБЫ – ВишНи РАЗДАВЛЕНы
Груди ЗЕМЛЕтрЯСЕНИЕ
<1914>
Улетан*
В разлетинности летайно
Над Грустинией летан
Я летайность совершаю
В залетайный стан
Раскрыленность укрыляя
Раскаленный метеор
Моя песня крыловая
Незамолчный гул – мотор
Дух летивый
Лбом обветренным
Лет летисто крыл встречать
Перелетностью крылисто
В небе на орлов кричать
Эйт! дорогу!
С вниманием ястреба-тетеревятника
С улыбкой облака следить
Как два медведя-стервятника
Косолапят в берлогу
Выев вымя коровы и осердие
Где искать на земле милосердия
Летокеан,
Летокеан.
В летинных крылованиях
Ядрено взмахи дрогнуты
Шеи – змеи красных лебедей
В отражениях изогнуты
Пусть – долины – живот
Горы – груди земли
Окрыленные нас укрылят корабли
Станем мы небовать, крыловать
А на нелюдей звонко плевать.
<1914>
«Перед беременными львицами…»*
Перед беременными львицами
Я грязь за когтем
Я пахну дегтем
Зевая локтем волосатым
С невинными девицами
Из кирпичей любви
Построил башню вавилонскую
Голубем египетским
На север прилетел
Палевый по ночам гурливый
Теперь с чумными псами
Скитаю одиночество
И сплю в дырах
С обрюзгшими усами
Смердящих скотобоен
Мычу спокоен
Перед убоем.
<1914>
Разбойные-бесшабашные*
Сарынь на кичку!
Ядреный лапоть
Пошел шататься по берегам.
Сарынь на кичку!
Казань – Саратов
В дружину дружную на перекличку
На лихо лишнее врагам!
Сарынь на кичку!
Бочонок с брагой
Мы разопьем у трех костров
И на приволье волжском вагой
Зарядим в грусть у островов
Сарынь на кичку!
Ядреный лапоть
Чеши затылок у перса – пса
Зачнем с низовья хватать-царапать
И шкуру драть – парчу с купца
Сарынь на кичку!
Кистень за пояс!
В башке зудит разгул до дна.
Свисти! Глуши! Зевай! Раздайся!
. . . . . . . . не попадайся
Ввва!
Я ли тебе та ли
Не вон энтакая
На семой версте мотали
Переэнтакая.
Харым – ары – згал – волчоночный
Занеси под утро в сердцо
Окаяннай разлюбовницы
Нож печоночный.
<1915>
Солнцень-Ярцень*
Давиду Бурлюку – Великому парню
Солнцень в солнцень.
Ярцень в ярцень.
Раздувайте паруса.
Голубейте молодые
Удалые голоса.
Славьте жизнь
Привольно-вольную,
Голубинную приволь.
Пойте здравицу
Застольную
Бесшабашную раздоль.
Солнцень в солнцень.
Ярцень в ярцень
Для венчального дворца
Растворяйте-распахните
Души – алые – сердца.
Пусть указан путь
Да будет –
Хоровод звучальных дней.
Друг про друга
Не забудет.
Кто пьет чару
Всех полней.
Солнцень в солнцень.
Ярцень в ярцень.
В песнях пьяных без вина.
Разгадайте смысл чудесный.
Нам ли юность не дана.
Пойте крылья огневейные
Взгляд бросая в небеса.
Славьте дни разгульно-лейные.
Раздувайте паруса.
Солнцень в солнцень.
Ярцень в ярцень.
Закружилась карусель.
Быстры круги.
Искры дуги.
Задружилась развесель.
Хабба-абба, хабба-абба.
Ннай – ннай – ннай.
Эй, рраскаччивай.
Й – ювь (свист в четыре пальца).
<1916>
Поэмия о соловье*
(Георгию Золотухину – во имя его яркое).
Соловей в долине дальней
Расцветает даль небес.
Трель расстрелится игральней
Если строен гибкий лес.
Цивь-цинь-вью –
Цивь-цинь-вью –
Чок-й-чок
Перезвучально зовет: Ю.
Наклонилась утром венчально.
Близко слышен полет Ю.
Я и пою:
Стоит на крылечке
И ждет. Люблю.
Песневей соловей.
На качелях ветвей
Лей струистую песню поэту.
Звонче лей, соловей,
В наковальне своей
Рассыпай искры истому лету.
Цивь-цинь-ций –
Цивь-цинь-ций –
Чтрррь-юй. Ю.
Я отчаянный рыжий поэт
Над долинами-зыбками
Встречаю рассвет
Улыбками
Для.
Пускай для – не все ли равно.
Ветер. Трава.
В шкуре медвежьей мне тепло.
Спокойно.
Слушай душу разливную, звонкую.
Мастер я –
Песнебоец –
Из слов звон кую:
Солнцень лью соловью
В зазвучальный ответ,
Нити струнные вью.
Для поэта – поэт.
Сердце – ясное, росное,
Звучное, сочное.
Сердце – серны изгибные вздроги.
Сердце – море молочное. Лейся.
Сердце голубя –
Сердце мое. Бейся.
Звенит вода хрустальная,
Журнальная вода.
Моя ли жизнь устальная,
Устанет мчать года.
Я жду чудес венчающих,
Я счастье стерегу.
Сижу в ветвях качающих
На звонком берегу.
Цивь-цью-чок.
Чтрррь-йю. Ю.
Ведь есть где-то дверца
Пойду отворю.
Жаркое сердце.
Отражает зарю.
Плль-плю-ций.
Ций-тюрьлью.
Солнцень вью.
Утрень вью.
Ярцень вью.
Любишь ты.
Я люблю. Ю.
Ций-йю-чок.
Чок-й-чок.
В шелестинных грустинах
Зовы песни звончей.
В перепевных тростинах
Чурлюжурлит журчей.
Чурлю-журль.
Чурлю-журль.
В солнцескате костер
Не горит – не потух
Для невест и сестер –
Чу. Свирелит пастух.
Тру-ту-ру.
Тру-ру-у.
Ту-ту-ту.
Туру-тру-у.
Вот еще один круг
Проницательный звучно.
Созерцательный друг
Неразлучно.
Туру-тру-у.
И расстрельная трель.
Ций-вью-й-чок.
Чтрррь-йю, Ю.
И моя небовая свирель.
Лучистая.
Чистая.
Истая.
Стая.
Певучий пастух.
Соловей-Солнцелей.
Песневестный поэт.
И еще из деревни перекликный петух.
Рыбаки.
Чудаки.
Песнепьяницы.
Дети на кочке.
Играют.
Катают шар земной.
Поют:
Эль-лле-ле:
Аль-ллю-лю.
Иль-лли-ли.
Ясный пастух одинокому солнцу
Над вселенной глубинами
Расточает звучально любовь
Как и мы над долинами.
Туру-ту-ту.
Туру-тамрай.
Эй, соловей, полюби пастуха
Позови его трелью расстрельной.
Я – поэт, для живого стиха.
Опьяню тебя песней свирельной.
Хха-рра-мам –
Иди к нам.
В чем судьба – чья.
Голубель сквозь ветвины.
Молчаль.
Все сошлись у журчья,
У на горке рябины.
Закачает качаль.
Расцветится страна,
Если песня стройна,
Если струй на струна
И разливна звенчаль
И чеканны дробины.
Вот смотри:
На полянах
Босоногая девушка
Собирает святую
Траву
Богородицы.
В наклонениях стана,
В изгибности рук –
Будто песня.
И молитву поет она:
Бла – го – сло – ви.
Давайте подумаем:
Если в сердце любовь затаю,
Разве песня не вырвется.
Все – для песни.
Для песни кую.
Мы – поэты. Мы – знаем.
Пой соловей. Пой пастух. Я пою Ю.
<1916>
Сердко*
Моейко сердко перестально –
Хрустально ломкая грустинь
Вестинь напевная устально
Свистально дальняя ластинь.
Моейко сердко снова детка
Плывет как ветка по воле лет
Плывет играйка малолетка –
Моя поэтка. А я – поэт.
Моейко сердко – игрушка – мячик
Моейко сердко – калям – балям
Моейко сердко – девчонка – мальчик
Играю я – пою малям.
<1916>
Золоторозсыпьювиночь*
Золоторозсыпьювиночь.
<1916>
Рекачкачайка*
Рекачкачайка.
<1916>
Вызов авиатора*
Какофонию душ ффррррррр
Моторов симфонию
Это Я – это Я –
Футурист-песнебоец
И пилот-авиатор
Василий Каменский
Эластичным пропеллером
Взметнул в облака
Кинув там за визит
Дряблой смерти-кокотке
Из жалости сшитое
Танговое манто и
Чулки
С панталонами.
<1916>
Из Симеиза в Алупку*
(М. В. Ильинской)
Из Симеиза с поляны Кипарисовой
Я люблю пешком гулять в Алупку
Чтоб на даче утренне ирисовой
На балконе встретить
Снежную голубку.
Я – Поэт. Но с нею незнаком я.
И она боится – странная – людей.
Ах она не знает
Что во мне таится
Стая трепетная лебедей.
И она не знает
Что рожден я
В горах уральских среди озер
И что я – нечаянно прославленный
Самый отчаянный фантазер.
Я только – Возле.
Я только – Мимо.
Я около Истины
И любви.
Мне все – чудесно
Что все – творимо
Что все – любимо
В любой крови.
<1916>
Моя молитва*
Господи
Меня помилуй
И прости.
Я летал
На аероплане.
Теперь в канаве
Хочу крапивой
Расти.
Аминь.
<1916>
Василий Каменский – живой памятник*
Комитрагический моей души вой
Разливен будто на Каме пикник
Долго ли буду стоять я – Живой
Из ядрёного мяса Памятник.
Пожалуйста –
Громче смотрите
Во все колокола и глаза –
Это я – ваш покоритель
(Пожал в уста)
Воспевающий жизни против и за.
А вы – эй публика – только
Капут
Пригвождали на чугунные памятники.
Сегодня иное – Живой гляжу на толпу –
Я нарочно приехал с Каменки.
Довольно обманывать Великих Поэтов
Чья жизнь пчелы многотрудней –
Творящих тропическое лето
Там – где вы стынете от стужи будней.
Пора возносить песнебойцев
При жизни на пьедестал –
Пускай таланты еще утроятся
Чтобы каждый чудом стал.
Я верю – когда будем покойниками
Вы удивитесь Святой нашей скромности –
А теперь обзываете футуроразбойниками –
Гениальных Детей Современности.
Чтить и славить привыкли вы мертвых
Оскорбляя академьями памятниками –
С галками.
А живых нас –
Истинных, Вольных и Гордых
Готовы измолотить скалками.
Какая вы публика – злая да каменная
Не согретая огнем футуризма
Ведь пророк – один пламенный я
Обожгу до идей Анархизма.
Какая вы публика – странная да шершавая –
Знаю что Высотой вам наскучу –
На аероплане взнесенный в Варшаве я
Часто видел внизу муравьиную кучу.
И никому не было дела
До футуриста-летчика
Толпа на базарах – в аллее
Галдела
Или на юбилее
Заводчика.
Разве нужна гениальность наживам –
Бакалейно-коммерческим клубам.
Вот почему перед вами Живым
Я стою одиноким Колумбом.
Вся Судьба моя –
Призрак на миг –
Как звено пролетающей Птицы –
Пусть Василью Каменскому Памятник
Только Любимой приснится.
1916
Декрет*
А ну-ко робята – таланты
Поэты – художники – музыканты
Засучивайте кумачовые рукава.
Вчера учили нас Толстые да Канты
Сегодня – звенит Своя Голова.
Давайте все пустые заборы –
Крыши – фасады – тротуары –
Распишем во славу Вольности
Как мировые соборы
Творились под гениальные удары
Чудес от Искусства – Молодости.
Расцветайте была не была
Во все весенние колокола.
Поэты – берите кисти ну
И афиши – листы со стихами
По улицам с лестницей
Расклеивайте жизнь – истину –
Будьте перед ней женихами –
Перед Возвестницей.
Художники – Великие Бурлюки
Прибивайте к домам карнавально
Ярчайшие свои картины
Тащите с плакатами тюки –
Расписывайте стены гениально
И площади – и вывески – и ветрины.
Музыканты – ходите с постаментами
Раздавайте ноты – законы
Влезайте с инструментами
Играть перед народом на балконы.
Требуется устроить жизнь
Раздольницу.
Солнцевейную – ветрокудрую
Чтобы на песню походила
На Творческую Вольницу
На песню артельную мудрую.
Самое простое и ясное Дело:
Рабочих Дней шесть – и
Я Предлагаю всем круто и смело
Устраивать Карнавалы и Шествия –
По Праздникам Отдыха –
Воспевая Революцию Духа
Вселенскую.
1917
Кто я*
Я – КТО – я –
Я – вроде утроветра
по втуманах долине
будь березкой
я обниму – покачаю.
Я – КТО я –
Я – вроде небожаворонка
над втишине полями
СЛУШАЙ ЧУТКО
Я звеню солнцелучами.
Я – КТО я –
Я – вроде яркоплатка
на с ягодами девушке
пой со мной
Я ПЕСНЕПЬЯНСТВУЮ.
<1918>
Елена Гуро*
Как и многие кубофутуристы, Елена (Элеонора) Генриховна Гуро совмещала занятия живописью и литературой. Но в отличие от громких соратников, она не привлекла внимания массовой аудитории. И причина этого не в болезни (белокровие) и ранней смерти, а в своеобразии ее поэзии, прозы и живописи, предполагавшем пристальное, доверительное, сочувственное отношение читателей и зрителей. В. Шершеневич, называя Гуро самой одаренной из современных русских поэтесс, писал: «Елена Гуро ласковая, нежная. У нее и слова-то какие-то особенные, свои. У всякого другого эти слова пропали бы, измельчали, но у стихов Гуро есть особая притягательная сила. Ласковость Гуро сильна, ласковость Гуро – это обратная сила ее дерзости, смелости. <…>
Она чувствует себя матерью всех вещей, всех живых существ: и куклы, и Дон-Кихота, и кота.
Все ее дети изранены, и она тянет к ним свою смелую душу. <…> Елена Гуро – первая поэтесса мать»[127].
Пафос материнства пронизывает не только творчество Гуро, но всю ее жизнь. Ею был создан миф о якобы умершем сыне, которого она назвала Вильгельм Нотенберг. Его портреты она помещала в своих книгах. В реальность сына Гуро верили даже близкие знакомые, что отразилось в их мемуарах[128].
Многие критики не видели в творчестве Гуро ничего футуристического и считали ее случайной в шумной компании будетлян. Так, К. Чуковский писал: «Ее тема: светлая боль, радость увядания, умирания и нежность до восторженной муки. Ее стихи на смерть единственного сына, такие простые и страшные, невозможно читать без участия <…>.
Ясно, здесь г. Крученых ни при чем. Здесь нечего делать г. Василиску Гнедову. Озябшая душа искала крова, и рада была приютиться среди чужих, посторонних. <…> Гуро вся – осанна, молитва, – где же ей шиши и пощечины?»[129]
Дочь крупного военачальника, Елена Гуро в тринадцать лет поступила в школу Общества поощрения художеств в Санкт-Петербурге, а в 1905 году дебютировала в печати в качестве писательницы и художницы. Ее первую книгу «Шарманка» (СПб., 1909) Д. Бурлюк впоследствии назовет первым литературным выступлением «старших футуристов, вышедших на борьбу за Русскую Литературу»[130]. Гуро публиковалась в обоих «Садках судей», в третьем выпуске журнала «Союз молодежи» (март 1913), как художница участвовала в нескольких выставках. Дом Гуро и ее мужа М. Матюшина (Песочная, 10) стал своеобразной штаб-квартирой «будетлян», здесь зародились многие их проекты. Вторая выпущенная ею книга – «Осенний сон» (СПб., 1912). Высоко оценивший эту книгу Вяч. Иванов писал о ней: «Тех, кому очень больно жить в наши дни, она, быть может, утешит. Если их внутреннему взгляду удастся уловить на этих почти разрозненных страничках легкую, светлую тень, – она их утешит»[131]. Задуманный еще при жизни Гуро альманах «Трое» (СПб., 1913), включавший произведения Е. Гуро, А. Крученых и В. Хлебникова и иллюстрированный К. Малевичем, был выпущен посмертно. В предисловии М. Матюшин писал о Гуро: «Душа ее была слишком нежна, чтобы ломать, слишком велика и благостна, чтобы враждовать даже с прошлым, и так прозрачна, что с легкостью проходила через самые уплотненные явления мира, самые грубые наросты установленного со своей тихой свечечкой большого грядущего света. Ее саму, может быть, мало стесняли старые формы, но в молодом напоре „новых“ она сразу узнала свое – и не ошиблась. <…> Вся она, как личность, как художник, как писатель, со своими особыми потусторонними путями и в жизни и в искусстве – необычайное, почти непонятное в условиях современности, явление. Вся она, может быть, знак.
Знак, что приблизилось время»[132].
Сборник «Небесные верблюжата» (СПб., 1914) как бы подытожил творческий путь Гуро, хотя и не вместил в себя многое созданное ею. В. Брюсов в статье «Год русской поэзии: Апрель 1913 – апрель 1914 г.» отметил, что в книге есть «действительно художественные и проникнутые чувством страницы»[133]. В письме к М. Матюшину Хлебников отзывался о «Небесных верблюжатах»: «Эти страницы с суровым сильным слогом, с их Гафизовским признанием жизни особенно хороши дыханием возвышенной мысли и печатью духа». Писательский талант Гуро высоко ценили В. Маяковский, А. Блок, А. Ремизов, Л. Шестов.
После смерти Гуро в печати неоднократно высказывалось мнение, что ее имя скоро станет известно широким читательским кругам. Однако эти предположения не оправдались. Не случайно через много лет Р. Якобсон, называя Гуро «выдающейся поэтессой с ценнейшим литературным наследием», сетовал, что это наследие – «доселе неизученное и лишь отчасти изданное»[134].
Город*
Пахнет кровью и позором с бойни.
Собака бесхвостая прижала осмеянный зад к столбу
Тюрьмы правильны и спокойны.
Шляпки дамские с цветами в кружевном дымку.
Взоры со струпьями, взоры безнадежные
Умоляют камни, умоляют палача…
Сутолка, трамваи, автомобили
Не дают заглянуть в плачущие глаза
Проходят, проходят серослучайные
Не меняя никогда картонный взор.
И сказало грозное и сказало тайное:
«Чей-то час приблизился и позор»
Красота, красота в вечном трепетании,
Творится любовию и творит из мечты.
Передает в каждом дыхании
Образ поруганной высоты.
Так встречайте каждого поэта глумлением!
Ударьте его бичом!
Чтобы он принял песнь свою, как жертвоприношение,
В царстве вашей власти шел с окровавленным лицом!
Чтобы в час, когда перед лающей улицей
Со щеки его заструилась кровь,
Он понял, что в мир мясников и автоматов
Он пришел исповедовать – любовь!
Чтоб любовь свою, любовь вечную
Продавал, как блудница, под насмешки и плевки, –
А кругом бы хохотали, хохотали в упоении
Облеченные правом убийства добряки!
Чтоб когда, все свершив, уже изнемогая,
Он падал всем на смех на каменья вполпьяна, –
В глазах, под шляпой модной смеющихся не моргая,
Отразилась все та же картонная пустота!
Март 1910
«Вот и лег утихший, хороший…»*
Памяти моего незабвенного единственного сына В. В. Нотенберг.
Вот и лег утихший, хороший –
Это ничего –
Нежный, смешной, верный, преданный –
Это ничего.
Сосны, сосны над тихой дюной
Чистые, гордые, как его мечта.
Облака да сосны, мечта, облако…
Он немного говорил. Войдет, прислонится.
Не умел сказать, как любил.
Дитя мое, дитя хорошее,
Неумелое, верное дитя!
Я жизни так не любила,
Как любила тебя.
И за ним жизнь, жизнь уходит –
Это ничего.
Он лежит такой хороший –
Это ничего.
Он о чем-то далеком измаялся…
Сосны, сосны!
Сосны над тихой и кроткой дюной
Ждут его..
Не ждите, не надо: он лежит спокойно –
Это ничего.
<1912>
«Но в утро осеннее, час покорно-бледный…»*
Но в утро осеннее, час покорно-бледный,
Пусть узнают, жизнь кому,
Как жил на свете рыцарь бедный
И ясным утром отошел ко сну.
Убаюкался в час осенний,
Спит с хорошим, чистым лбом
Немного смешной, теперь стройный –
И не надо жалеть о нем.
<1912>
Вдруг весеннее*
Земля дышала ивами в близкое небо;
под застенчивый шум капель оттаивала она.
Было, что над ней возвысились,
может быть и обидели ее, –
а она верила в чудеса.
Верила в свое высокое окошко:
маленькое небо меж темных ветвей,
никогда не обманула, – ни в чем не виновна,
и вот она спит и дышит…
и тепло.
<1912>
Звенят кузнечики*
В тонком завершении и
прозрачности полевых
метелок – небо.
Звени, звени, моя осень,
Звени, мое солнце.
Знаю я отчего сердце кончалося –
А кончина его не страшна –
Отчего печаль перегрустнулась и отошла
И печаль не печаль, – а синий цветок.
Все прощу я и так, не просите!
Приготовьте мне крест – я пойду.
Да нечего мне и прощать вам:
Все, что болит, мое родное,
Все, что болит, на земле, – мое
благословенное;
Я приютил в моем сердце все земное,
И ответить хочу за все один.
Звени, звени, моя осень,
Звени, мое солнце.
И взяли журавлиного,
Длинноногого чудака,
И связав, повели, смеясь:
Ты сам теперь приюти себя!
Я ответить хочу один за все.
Звени, звени, моя осень,
Звени, звени, моя осень,
Звени, мое солнце.
<1912>
На еловом повороте*
Крепите снасти!
Норд-Вест!
Смельчаком унеслась
в небо вершина
И стала недоступно
И строго
на краю,
От ее присутствия – небо – выше.
<1913>
Этого нельзя же показать каждому?*
Прости, что я пою о тебе береговая сторона
Ты такая гордая.
Прости что страдаю за тебя –
Когда люди, не замечающие твоей красоты,
Надругаются над тобою и рубят твой лес.
Ты такая далекая
И недоступная.
Твоя душа исчезает как блеск –
Твоего залива
Когда видишь его близко у своих ног.
Прости, что я пришел и нарушил –
Чистоту, твоего одиночества
Ты царственная.
<1913>
«Ветрогон, сумасброд, летатель…»*
Ветрогон, сумасброд, летатель,
создаватель весенних бурь,
мыслей взбудараженных ваятель,
гонящий лазурь!
Слушай, ты, безумный искатель,
мчись, несись,
проносись нескованный
опьянитель бурь.
<1913>
«Поклянитесь однажды, здесь мечтатели…»*
Поклянитесь однажды, здесь мечтатели,
глядя на взлет,
глядя на взлет высоких елей,
на полет полет далеких кораблей,
глядя как хотят в небе островерхие,
никому не вверяя гордой чистоты,
поклянитесь мечте и вечной верности
гордое рыцарство безумия,
и быть верными своей юности
и обету высоты.
<1913>
«Ты веришь в меня?..»*
Ты веришь в меня?
– Я верю в тебя. –
А если они все будут против меня?
Ну да, какой же ты, я верю в тебя.
Если все мои поступки будут
позорно против меня?
Я же верю в тебя!
В небо улетает, улетает ласточка – кружится от счастья. На дюне пасмурно, серо и тихо.
Куличок льнет к песку.
<1913>
«Гордо иду я в пути…»*
Гордо иду я в пути.
Ты веришь в меня?
Мчатся мои корабли
Ты веришь в меня?
Дай Бог для тебя ветер попутный,
Бурей разбиты они –
Ты веришь в меня?
Тонут мои корабли!
Ты веришь в меня!
Дай Бог для тебя ветер попутный!
<1913>
Финляндия*
Это ли? Нет ли?
Хвои шуят, – шуят
Анна – Мария, Лиза, – нет?
Это ли? – Озеро ли?
Лулла, лолла, лалла-лу,
Лиза, лолла, лулла-ли.
Хвои шуят, шуят,
ти-и-и, ти-и-у-у.
Лес ли, – озеро ли?
Это ли?
Эх, Анна, Мария, Лиза,
Хей-тара!
Тере-дере-дере… Ху!
Холе-кулэ-нэээ.
Озеро ли? – Лес ли?
Тио-и
ви-и… у.
<1913>
Моему брату*
Помолись за меня – ты
Тебе открыто небо.
Ты любил маленьких птичек
И умер замученный людьми.
Помолись обо мне тебе позволено
чтоб-б меня простили.
Ты в своей жизни не виновен в том –
в чем виновна я.
Ты можешь спасти меня.
помолись обо мне
. . . . . . . . . .
Как рано мне приходится не спать,
оттого, что я печалюсь.
Также я думаю о тех,
кто на свете в чудаках,
кто за это в обиде у людей,
позасунуты в уголках – озябшие без ласки,
плетут неумелую жизнь, будто бредут
длинной дорогой без тепла.
Загляделись в чужие цветники,
где насажены
розовенькие и лиловенькие цветы
для своих, для домашних.
А все же их хоть дорога ведет –
идут, куда глаза глядят,
я – же и этого не смогла.
Я смертной чертой окружена.
И не знаю, кто меня обвел.
Я только слабею и зябну здесь.
Как рано мне приходится не спать,
оттого, что я печалюсь.
<1913>
Выздоровление*
Апетит выздоровлянский
Сон, – колодцев бездонных ряд,
и осязать молчание буфета и печки час за часом.
Знаю, отозвали от распада те, кто любят…
Вялые ноги, размягченные локти,
Сумерки длинные, как томление.
Тяжело лежит и плоско тело,
и желание слышать вслух две-три
лишних строчки, – чтоб фантазию зажгли
таким безумным, звучным светом…
Тело вялое в постели непослушно,
Жизни блеск полупонятен мозгу.
И бессменный и зловещий в том же месте
опять стал отблеск фонаря…
. . . . . . . . . .
Опять в путанице бесконечных сумерек…
Бредовые сумерки,
я боюсь вас.
<1913>
Лень*
И лень.
К полдню стала теплень.
На пруду сверкающая шевелится
Шевелень.
Бриллиантовые скачут искры.
Чуть звенится.
Жужжит слепень.
Над водой
Ростинкам лень.
<1913>
Слова любви и тепла*
У кота от лени и тепла разошлись ушки.
Разъехались бархатные ушки.
А кот раски-ис…
На болоте качались беловатики.
Жил был
Ботик – животик:
Воркотик
Дуратик
Котик – пушатик.
Пушончик,
Беловатик,
Кошуратик –
Потасик…
<1913>
Июнь*
Глубока, глубока синева.
Лес полон тепла.
И хвоя повисла упоенная
И чуть звенит
от сна.
Глубока глубока хвоя.
Полна тепла,
И счастья,
И упоения,
И восторга.
<1913>
«Струнной арфой…»*
Струнной арфой
– Качались сосны,
где свалился полисадник.
у забытых берегов
и светлого столика
рай неизвестный,
кем-то одушевленный.
У сосновых стволов
тропинка вела,
населенная тайной,
к ласковой скамеечке,
виденной кем-то во сне.
Пусть к ней придет
вдумчивый, сосредоточенный,
кто умеет любить, не зная кого,
ждать, – не зная чего,
а заснет, душа его улетает
к светлым источникам
и в серебряной ряби
веселится она.
<1913>
«Возлюбив боль поругания…»*
Возлюбив боль поругания,
Встань к позорному столбу.
Пусть не сорвутся рыдания! –
Ты подлежишь суду!
Ты не сумел принять мир без содрогания
В свои беспомощные глаза,
Ты не понял, что достоин изгнания,
Ты не сумел ненавидеть палача!
. . . . . . . . . .
Но чрез ночь приди в запутанных улицах
Со звездой горящей в груди…
Ты забудь постыдные муки!
Мы все тебя ждем в ночи!
Мы все тебя ждем во тьме томительной,
Ждем тепла твоей любви…
Когда смолкнет день нам бойцов не надо, –
Нам нужен костер в ночи!
А на утро растопчем угли
Догоревшей твоей любви
И тебе с озлобленьем свяжем руки…
. . . . . . . . . .
Но жди вечерней зари!
<1913>
Вечернее*
Покачнулося море –
Баю-бай.
Лодочка поплыла.
Встрепенулися птички…
Баю-бай,
Правь к берегу!
Море, море засыпай,
Засыпайте куличики,
В лодку девушка легла
Косы длинней, длинней
Морской травы.
. . . . . . . . . .
Нет, не заснет мой дурачок!
Я не буду петь о любви.
Как ты баюкала своего?
Старая Озе, научи.
Ветви дремлют…
Баю-бай,
Таратайка не греми,
Сердце верное – знай –
Ждать длинней морской травы.
Ждать длинней, длинней морской травы,
А верить легко…
Не гляди же, баю-бай,
Сквозь оконное стекло!
Что окошко может знать?
И дорога рассказать?
Пусть говорят – мечты-мечты,
Сердце верное может знать
То, что длинней морской косы.
Спи спокойно,
Баю-бай,
В море канули часы,
В море лодка уплыла
У сонули рыбака,
Прошумела нам сосна,
Облака тебе легли,
Строются дворцы вдали, вдали!..
<1913>
«Он доверчив…»*
Он доверчив, –
Не буди.
Башни его далеко.
Башни его высоки.
Озера его кротки.
Лоб его чистый –
На нем весна.
Сорвалась с ветви птичка –
И пусть несется,
Моли, моли, –
Вознеслась и – лети!
Были высоки и упали уступчиво
Башни!
И не жаль печали, – покорна небесная.
Приласкай, приласкай покорную
Овечку печали – ивушку,
Маленькую зарю над черноводьем.
Ты тянешь его прямую любовь,
Его простодушную любовь, как ниточку,
А что уходит в глубину?
Верность
И его башни уходят в глубину озер.
Не так ли? Полюби же его.
<1913>
Николай Бурлюк*
Младший из братьев Бурлюков Николай Давидович принимал участие практически во всех футуристических изданиях и выступлениях в Санкт-Петербурге и Москве, но персонального поэтического сборника так и не выпустил. В рецензии на «Садок судей» (СПб., 1910) В. Брюсов отметил, что в стихотворениях Н. Бурлюка «попадаются недурные образы»[135]. Н. Гумилев, рецензируя сборник «Садок судей II» (СПб., 1913), охарактеризовал (наряду с хлебниковскими) произведения Н. Бурлюка как «самые интересные и сильные»[136]. Н. Бурлюк, по словам Б. Лившица, «был подлинный поэт, то есть имел свой собственный, неповторимый мир, не укладывавшийся в его рахитичные стихи, но несомненно существовавший»[137]. Тот же Лившиц вспоминал, что «Николай Бурлюк собирался вступить в гумилевский „Цех поэтов“, очевидно, рисовавшийся ему неким парламентом, где представлены все литературные партии»[138]. Эстетическая умеренность Н. Бурлюка, отсутствие в его творчестве ярко выраженного футуристического экспериментаторства позволили К. Чуковскому назвать его «посторонним» среди будетлян: «Он даже немного сродни трогательной Елене Гуро. В своих кратких, скудных, старинных, бледноватых, негромких стихах он таит какую-то застенчивую жалобу, какое-то несмелое роптанье <…>. И робкую какую-то мечту… Он самый целомудренный изо всех футуристов: скажет четыре строки, и молчит, и в этих умолчаниях, в паузах чувствуешь какую-то серьезную значительность… Грустно видеть, как этот кротчайший поэт напяливает на себя футуризм, который только мешает излиться его скромной, глубокой душе»[139]. Не случайно Н. Бурлюк отказался подписать самый резкий по тону футуристический манифест «Идите к черту» (См. Приложение), «резонно заявив, что нельзя даже метафорически посылать к черту людей, которым через час будешь пожимать руку»[140]. Кроме стихов Н. Бурлюк писал лирическую прозу.
Участвовал в Гражданской войне на стороне белых и, вероятно, погиб.
«Осталось мне отнять у Бога…»*
5 op.
Осталось мне отнять у Бога,
Забытый ветром, пыльный глаз:
Сверкает ль млечная дорога
Иль небо облачный топаз, –
Равно скользит по бледным тучам
Увядший, тусклый, скучный ум.
И ранит лезвием колючим
Сухой бесстрашный ветра шум.
О ветер! похититель воли,
Дыханье тяжкое земли,
Глагол и вечности и боли
«Ничто» и «я», – ты мне внемли.
<1910>
«Неотходящий и несмелый…»*
12. ор.
Неотходящий и несмелый
Приник я к детскому жезлу.
Кругом надежд склеп вечно белый
Алтарь былой добру и злу.
Так тишина сковала душу
Слилась с последнею чертой,
Что я не строю и не рушу
Подневно миром запертой.
Живу, навеки оглушенный,
Тобой – безумный водопад
И, словно сын умалишенный,
Тебе кричу я невпопад.
<1910>
Матери*
Улыбка юноше знакома
От первых ненадежных дней,
Воды звенящей не пролей,
Когда он спросит: «мама дома?»
Луч солнца зыбкий и упругий
Теплит запыленный порог
Твой профиль, мальчик, слишком строг
Для будущей твоей подруги.
1912
Бабочки в колодце*
Там, в тишине подземной глади
И сруба заплесневших бревен,
Их смерти верный путь бескровен
Тонуть во тьме ночных исчадий.
Напрасно в отраженьи звездном
Трепещут крылья непосильно
И воздымают воздух гнильный
Своим биеньем слишком поздно.
Их лижет холод неудержный
Под опрокинутым эдемом, –
Здесь безнадежность – некий демон,
Как и он, давно отвергнутый.
<1913>
«Ко мне вот-вот вдруг прикоснутся…»*
Ко мне вот-вот вдруг прикоснутся,
Уж ветер волос шевелит,
И заклинанья раздаются
Под сводом безразличных плит.
Но я молю с кривой улыбкой
Твою изменчивую лень,
Что если бы, хотя ошибкой,
Ты на меня роняла тень
И если б твой любовник вялый,
Покорный медленным устам,
Прикрыл хотя частицей малой
Моих телес заметный гам.
Сереет сумрак подземелья,
Врагов звончее голоса,
И кроет от ночного зелья
Мой лоб кровавая роса.
<1914>
Ночная смерть*
Из равнодушного досуга
Прохваченный студеным вихрем
Площадку скользкую вагона
Ногою судорожною мину,
И ветви встречные деревьев,
Взнеся оснеженные лица,
Низвергнутся в поляны гнева,
Как крылья пораженной птицы.
<1914>
«В ущелье уличного дыма…»*
В ущелье уличного дыма
Зловоний непрейденный ряд
Тобою услажденный яд
С брегов замерзшего нарыма.
Интеллигент и проходимец
На перекрестках, площадях
Следишь автомобильный прах,
Куда смущенный не подымется.
К весне, когда все так стыдливо,
Ты с первым солнечным лучом,
Как мальчик лавки с калачом,
На талый лед глядишь пытливо.
И если в город опрокинется
Тумана емкая скудель,
Поверь, заботливый апрель
Осколки скорченные вынет
<1914>
«Смыкаются незримые колени…»*
Смыкаются незримые колени
Перед моленьями моими.
Я, темный, безразличный пленник,
Шепчу богов умерших имя.
Я не приму твой трепет ночи
Хвала согбенная бессилью.
Меня заря, быть может, прочет
Работником дневною пылью.
<1914>
«Пока не запаханы все долины…»*
Пока не запаханы все долины,
Пока все тучи не проткнуты шпилями,
Я маленькими бурями и штилями
Ищу сбежавшую природу, –
И в сетке из волос
И в парусе лица
Я тонкий день вознес
До древнего крыльца.
<1914>
«Зеленой губкой…»*
Зеленой губкой
Деревья над рекой
Еврейской рубкой
Смущен Днепра покой
Шуршат колеса
Рвет ветер волос
В зубах матроса
Дитя боролось.
<1914>
Зверинец в провинции*
По пыльной мостовой, вдоль каменных домишек
Где солнце давит мух измученный излишек,
Скрипит вонючая тележка.
Безжалостных утех притонов и гостиниц
Мимо –
Чуть тащится зверинец.
Хранима проворною рукой с бичом,
Звериных стонов нагота:
Клыки и когти ни при чем
За ржавою решеткой.
С гноящимся плечом
И глазками крота
Утиною походкой
Плетется слон.
Должно быть полдень, –
Ленивый звон над городом.
Верблюд не голоден
Жует конец рогожи.
На обезьяньи рожи
Глазеют прохожие.
За репицу слона
Хватаются мальчишки
Срывая прелый волос.
Под безглагольной крышкой
Топорщится облезшая спина
И треплится чей-то степной голос,
Быть может лисица иль волк больной.
Рядом за стеной играют гаммы
У ламы со сломанной ногой
Привычные глаза…
Господи!
Когда же наконец будет гроза!?
<1914>
Жалоба девы*
Сухую кожу грустной девы
Гладит ветер географических пространств
На скалах столбчатых горы..
Ни солнце на небесном зеве
Ни плотность каменных убранств
Ни первоцветия дары
Не веселят худого тела.
– Зачем тепла и света больше
Пролито в русские пределы,
Когда во Франции и Польше
И в зиму кровь поля согрела?
<1915>
«Я знаю мертвыми напрасно пугают…»*
Я знаю мертвыми напрасно пугают отворенных детей
Лишь те, кто забыты и бесстрастны
Знают судьбу молодых костей.
Люди ломают поколеньям суставы,
Чтобы изведать силу крови,
Но ведают ее уставы
Спокойные под ровной кровлей.
<1915>
«И если я в веках бездневных…»*
И если я в веках бездневных
На миг случайно заблужусь,
Мне ель хвоей ветвей черевных
Покажет щель в большеглазую Русь.
<1915>
Бенедикт Лившиц*
Вхождению Бенедикта Константиновича (Наумовича) Лившица в группу «Гилея» предшествовали публикации отдельных его стихотворений в разных изданиях, в том числе в журнале «Аполлон», и выход в свет книги «Флейта Марсия» (Киев, 1911), не очень отличавшейся от многочисленных поэтических книг, возникших на стыке символизма и акмеизма, но получившей положительную оценку В. Брюсова и Н. Гумилева.
«В 1912, – вспоминает Лившиц, – в моих литературных взглядах происходит перелом, лично мне представляющийся результатом естественной эволюции, но моим тогдашним единомышленникам казавшийся ничем не оправданным разрывом со всем недавним окружением»[141]. Немаловажную роль в этом переломе сыграло знакомство Лившица с Д. Бурлюком.
В сборнике «Пощечина общественному вкусу» (М., 1913 [1912]) Лившиц поместил свои произведения, но манифест не подписал и позже резко критически его оценивал: «Я спал с Пушкиным под подушкой <…> – и сбрасывать его, вкупе с Достоевским и Толстым, с „парохода современности“ мне представлялось лицемерием. Особенно возмущал меня стиль манифеста, вернее, отсутствие всякого стиля…»[142]. Однако вскоре после своего футуристического дебюта он стал одним из самых активных участников группы кубофутуристов, проявляя себя не только как поэт, но и как теоретик: его статья «Освобождение слова» открывала альманах «Дохлая луна». Вместе с другими будетлянами он попадает под обстрел критики. В. Брюсов осуждал Лившица за «намеренную а-грамматичность» его прозаической миниатюры «Люди в пейзаже», вошедшей в «Пощечину общественному вкусу», при этом характеризуя его как писателя, «прекрасно владеющего и обычным, „правильным“ языком»[143]. О «дешевой красивости» своего бывшего коллеги по «Аполлону» писал Гумилев[144]. Двойственность футуристической поэзии Лившица отмечалась критиками неоднократно. К. Чуковский писал: «…Напрасно насилует себя эстет и тайный парнасец г. Бенедикт Лившиц, совершенно случайно примкнувший к этой группе. Шел бы к г. Гумилеву! На что же ему, трудолюбцу, „принцип разрушенной конструкции“! Опьянение отличная вещь, но трезвый, притворившийся пьяным, оскорбляет и Аполлона и Бахуса!»[145]
Сам Лившиц оценивал этот свой период по-другому: «Во всех многочисленных, шумных, а зачастую скандальных <…> выступлениях „Гилей“ я принимал неизменное участие, так как несмотря на все, что меня отделяло, например, от Крученых и Маяковского, мне с будетлянами было все-таки по пути»[146]. Но отделяло, как оказалось, многое. Крайностей футуризма Лившиц, в конечном счете, не принял. Его отход от группы был неизбежен, а начало мировой войны и призыв в действующую армию удостоверили этот разрыв.
Стихи Лившица футуристического периода составили книгу «Волчье солнце» (М. [Херсон], 1914). Следующая книга – «Болотная медуза» (не вышла; 9 стихотворений из нее составили сборник «Из топи блат», изданный в Киеве в 1922 году) – явилась, по словам Лившица, «естественным противодействием» – реакцией «на разрежение речевой массы, приведшее будетлян к созданию „заумного“ языка», что вызвало у Лившица «желание оперировать словом, концентрированным до последних пределов…»[147].
Позже Лившиц издал книгу «Патмос» (М., 1926), итоговый сборник «Кротонский полдень» (М., 1928), а также мемуары «Полутораглазый стрелец» (Л., 1933), дающие незаменимый материал для истории русского футуризма. Хорошо известен Лившиц и как переводчик.
В 1937 году был арестован, в 1938-м – расстрелян.
Пьянитель рая*
Пьянитель рая, к легким светам
Я восхожу на мягкий луг
Уже тоскующим поэтом
Последней из моих подруг, –
И дольней песнию томимы,
Облокотясь на облака,
Фарфоровые херувимы
Во сне качаются слегка, –
И, в сновиденьях замирая,
Вдыхают заозерный мед
И голубые розы рая
И голубь розовых высот.
А я пою и кровь и кремни
И вечно-женственный гашиш,
Пока не вступит мой преемник,
Раздвинув золотой камыш.
1911
Тепло*
Вскрывай ореховый живот,
Медлительный палач бушмена;
До смерти не растает пена
Твоих старушечьих забот.
Из вечно-желтой стороны
Еще не додано объятий –
Благослови пяту дитяти,
Как парус, падающий в сны.
И мирно простираясь ниц,
Не знай, что за листами канув,
Павлиний хвост в ночи курганов
Сверлит отверстия глазниц.
1911
Вокзал*
Давиду Бурлюку
Мечом снопа опять разбуженный паук
Закапал по стеклу корявыми ногами.
Мизерикордией! – не надо лишних мук,
Но ты в дверях жуешь лениво сапогами,
Глядишь на лысину, плывущую из роз,
Окоченелых роз молочного прилавка,
И в животе твоем под ветерком стрекоз
Легко колышется подстриженная травка.
Чугунной молнией извив овечьих бронь!
Я шею вытянул вослед бегущим овцам,
И снова спит паук, и снова тишь и сонь
Над мертвым – на скамье – в хвостах –
виноторговцем.
1911
Андрогин*
Ты вырастаешь из кратера
Как стебель, призванный луной:
Какая медленная вера
И в ночь и в то, что ты со мной!
Пои, пои жестокой желчью
Бегущие тебя цветы:
Я долго буду помнить волчью
Дорогу, где блуждала ты,
Где в час, когда иссякла вера
В невоплощаемые сны,
Из сумасшедшего кратера
Ты доплеснулась до луны.
1912
Лунные паводи*
Белей, любуйся из ковчега
Цветами меловой весны!
Забудь, что пленна эта нега
И быстры паводи луны!
Хмелей волненьем легких белев:
Я в них колеблюсь, твой жених,
Я приближаюсь, обесцелив
Плесканья светлых рук твоих.
Взгляни – кровавоодноокий
Не свеет серебра пещер:
Распластываю на востоке
Прозрачный веер лунных вер!
1912
Полдень*
Ей же
<Вере Вертер>
Из двух цветочных половин
Я выбрал царствие пчелиной,
И – как Адам в кругу – один
Замкнут созревшею долиной.
О, полурай, где нежный шаг
Еще не источает ковы,
Где ангелоподобный враг
Хранит мой облик лепестковый!
Слегка согбенное дитя,
Приникшее к благоуханным
Оградам, падай, очертя,
Чело моим венком медвяным!
1912
Предчувствие*
Расплещутся долгие стены
И вдруг, отрезвившись от роз,
Крылатый и благословенный
Пленитель жемчужных стрекоз,
Я стану тяжелым и темным,
Каким ты не знала меня,
И не догадаюсь, о чем нам
Увядшее золото дня
Так тускло и медленно блещет,
И не догадаюсь, зачем
В густеющем воздухе резче
Над садом очертится шлем, –
И только в изгнанье поэта
Возникнет и ложе твое
И в розы печального лета
Арханегел, струящий копье,
1912
Аллея лир*
И вновь – излюбленные латы
Излучены в густой сапфир,
В конце твоей аллеи, сжатой
Рядами узкогорлых лир!
И вновь – твои часы о небе,
И вайи, и пресветлый клир,
Предавшая единый жребий
И стебли лебединых лир!
И вновь – кипящий златом гравий
И в просинях дрожащий мир –
И ты восходишь к нежной славе
От задыхающихся лир!
1912
Исполнение*
Прозрачны зной, сухи туки
И овен явленный прият:
Сквозь облак яблоневый руки
Твои белеют и томят.
Кипящий меч из синей пыли
Погас у врат – и день прошел:
Ладони книзу, склоном лилий
Ты, словно в сердце, сходишь в дол.
1913
Николаю Бурлюку*
Не тонким золотом Мирины
Изнежен дальний посох твой:
Кизил Геракла, волчий вой –
О строй лесной! о путь старинный!
Легка заря, и в лог звериный,
Апостольски шурша травой,
Юней, живей воды живой
Болотные восходят крины.
Усыновись пришлец! Давно ль
Ручьиные тебе лилеи?
Лукавый моховой король,
Ютясь, поникнет в гоноболь,
Когда цветущий жезл Гилей
Узнает северную боль…
1913
Дворцовая площадь*
Копыта в воздухе, и свод
Пунцовокаменной гортани,
И роковой огневорот
Закатом опоенных зданий:
Должны из царства багреца
Извергнутые чужестранцы
Бежать от пламени дворца
Как черные протуберанцы.
Не цвет медузиной груди,
Но сердце, хлещущее кровью,
Лежит на круглой площади,
Да не осудят участь вдовью!
И кто же, русский, не поймет,
Какое сердце в сером теле,
Когда столпа державный взлет –
Лишь ось кровавой карусели?
Лишь ропоты твои, Нева,
Как отплеск, радующий слабо,
Лелеет гордая вдова
Под куполом бескровным Штаба:
Заутра бросится гонец
В сирень морскую, в серый вырез –
И расцветает, наконец,
Златой адмиралтейский ирис!
1915
Новая Голландия*
И молнии Петровой дрожи,
И тросы напряженных рук,
И в остро пахнущей рогоже
О землю шлепнувшийся тюк.
Заморские почуяв грузы
И тропиками охмелев,
Как раскрывался у медузы
Новоголландской арки зев.
Но слишком беглы – очерк суден
И чужеземных флагов шелк,
Пред всей страною безрассуден
Петром оставленный ей дол.
Окно в Европу! проработав
Свой скудный век, ты заперто
И въезд торжественный Ламотов,
Провал, ведущий нас в ничто.
Кому ж грозить возмездьем скорым
И отверзать кому врата,
Коль торг идет родных просторов
И смерти именем Христа?
<1917–1918>
Павел Филонов*
«От Филонова, как писателя, я жду хороших вещей…» – писал в связи с выходом в свет книги «Пропевень о проросли мировой» ([Пг., 1915]) В. Хлебников[148]. Однако книга эта оказалась единственной поэтической публикацией Павла Николаевича Филонова, одного из крупнейших живописцев русского авангарда (он писал еще теоретические трактаты о принципах аналитического искусства). Филонов принимал активное участие в деятельности кубофутуристов. Он иллюстрировал «Изборник стихов. 1907–1914 гг.» Хлебникова (Пг., 1914), делал рисунки для сборника «Рыкающий Парнас» (СПб., 1914), создал декорации, а также эскизы костюмов для постановки в декабре 1913 года трагедии «Владимир Маяковский». И хотя контакты Филонова с будетлянами не имели устойчивого характера (в 1914 году в письме к М. Матюшину он резко отзывался о деятельности Бурлюков и считал их относящимися «не к новому искусству, а к эксплуатации нового искусства»[149]), «Пропевень» является одним из самых ярких и показательных кубофутуристических произведений.
Пропѣвень о проросли міровой*
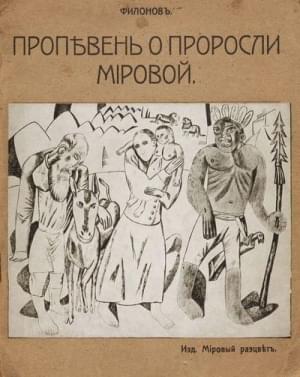
Запѣвало:
матерѣла пѣнно-кружлива ногами снѣгиня
желальна танца протанцеваньемъ неуловливым
въ оранжереѣ балеринъ
жеребую мѣту немного жутью любимою вѣнчить
Подголосокъ:
чарнтѣлъ чар инотьмою озарятель темью броси
разцвѣтатель адово смолой
первью головной проваленъ въ смрадный ротъ
что хатронѣмо жретъ
Ванька Ключникъ:
повороченъ въ смѣлость профиля любынѣ жонъ
оцалованъ тайнобраньемъ живобого
Евой подъ деревомъ знанья смертнымъ безумьемъ цѣлованъ
по зарям зарям разсвѣтнымъ
Богоборно двоенѣжнъ умучень
Богоравьемъ дѣвъ умученъ въ нѣжави любавной
молочное мясо нѣжное бровей выведень ровноокій
икс-лучи ткнули нетлѣнно
въ дѣвню кооть рыбья зуба
пьянъ очми до дна устами вбитыми рыданъ и хороненъ
Тлѣни
забрачье расторжили
завели жральну проклянь гаду мора вь рабь
рябо рыбу мѣнъ стрявъ
тихо-жизнь моря став старинны
мертвен съѣда человѣковъ
Говорителъ:
чрез жим зубами юно яро-красный
вижу ходъ единорога тяжко проломный
Грузъ тѣло хрясомъ тяжелитъ
Боли проѣли
травлено ревомъ мѣднымъ
нутро ребрами шкуру огорѣлую рѣжет коряво
Орыданья вѣръ старинныхъ гдѣ моря хоронены
Мертвецы живлены женскою грудью дойною
дайте шаръ я сыграю луну по борту въ уголъ
Провокаторъ съ проплеванным лицомъ:
цензоръ неба дрёмая ржа
кованьемъ перештопана въ свинью
плѣшь медомъ бѣдная командором давлена въ драмѣ
Истлѣвшій командоръ:
старая глыбь стала сурово земному лицу
нѣжный мой прахъ протухъ
корни провили грудь.
вымя став травѣ
вязанъ костями въ глубь
тонью травъ надземье пробилъ
стар суров прадѣдовъ склепъ
сна проява свинцомъ ляпана
мірявая давнь вѣръ живонѣма
два пятака на открытыхъ глазахъ
образ на лбу
чудотворит въ гробу
Мнѣ
правлю правое налѣво я раздавилъ парня въ бѣлый
день скромно мною плюнули я ржалъ по вешнему
стирая штаны жены моей нынѣ сяду безмѣрною
давью въ лицо смрадно продавлю на восемьдесятъ
колѣнъ въ вѣчность
Ванька Ключникъ:
я принесъ нѣжности маленько ее можно поливать рас-
пустится цвѣтокъ я принесъ прямые глаза тебѣ ихъ дам
сам я стану слѣпъ по міру пойду корову отдамъ ста –
ринный мечъ подарю и поцѣлуи матери моей немногіе
возьми покорно я покорюсь сморщеной кожей струпьями
покроюсь по всей вашей волѣ чужа душа мнѣ нутром
голоса мстя жаждешь крови розовои разда́вои смертнои
лишая жизни убивая не уничтожишь сдѣлавъ трупом
мою черную смерть дай проѣхать мнѣ въ лунѣ
дѣвни хоры на-моль бравъ явью брови стройно брав
станомъ прямотонокъ юнолик ребенок бранно милъ сѣдѣ
бородъ взглядъ морей водоворот прожигаю дѣвью плоть
наизусть и невзначай неуклонно отвѣчая вѣрною рукою
смѣло на любовь и на удары подносителя смертнои
отравы взъѣду на луну обниму раздѣленъ на ложѣ
просвѣтлѣно лико увѣнчавъ она бремем тяжела нѣжную
дорогу вывѣритъ бабьему богу
чаром гляда мертвыи Авель оживаетъ на лунѣ обернутъ
косматною шкурои
Каина руку тяжкую жметъ безалобно ему вѣря онъ лежа
Бога молит чернилам гром ополчить Картины выводитъ
многомѣрныя неохватныя Миколѣ Можаискому Ченсто-
ховской Богородицѣ растертъ провиваетъ встает попъ-
рыжъ клятвой мать проклятьемъ хитро со всего міра
туман влѣзъ въ ротъ
Старый князь:
Запѣватель громыхая заклинанно млѣй трону подпора
медовый корзнелъ князьямъ казнями ряжен лжепрори-
цаньями темными
Заголенъ багрово-нестыдливъ огромный рѣзникъ онъ
лежа нѣмо-босъ пустому духом Боже молить уже продалъ
вѣчную душу, а Баварскій король ляагаетъ зубовно-
гнилъ измѣнвицу жену полуребенка умертвилъ грозенъ
свиньею возсталъ на милую Францію небо ратями крылъ
Бога съѣлъ съ косточками Настало цареванье сырожа-
бени самоваръ построен до неба сѣли ѣдятъ сладко че-
ловѣчину изнутри удаво непобѣдимо взято желѣзохватой
хищно двуедин конецъ съѣденъ стало богомъ до газетчика
Княгиня:
Ванѣ повѣря омерть приняла мертвую лико мнѣ дѣлили
бѣль-груди красно крестом прокляли измѣнно ославно
пѣснеи православнои въ устахъ любимыхъ поютъ по
ночамъ и старую нѣгу мою со мною хоронятъ душу
взяту вновь отдаю моему вѣчному
Старо-нѣмецкій король:
возжемте свѣчъ Дьяволу Бойни Желѣзобетонной бранъ
плѣнъ рвано раны въ клочья
выведена чистая попадень въ мясо
сѣяли подъ бороны мѣдныя зубню драконскую чѣм
жраву грысть смертно лют волусмердъ гадомъ мохвато
проползъ въ молевню Играм мечаво лбѣть уланъ много-
борецъ плевомъ мясистъ о крови дѣвьей обнялъ матери
горе позоромъ двойню въ мивуту пытая каленымъ,
Подголосокъ:
неболетунъ синевы
упавой гибнь грозим
хотя мѣрно изголовьемъ пустыремъ равнополосымъ
поражатель нѣмогуди
вейся вентію лентявои
Княгиня:
нѣжно любимъ зем сын чество хранимъ
сурова морей нищъ горъ меда земнаго
мольбъ жив-дышавы руки овились материны
волны берегутъ звѣрь лижетъ птица пѣсню даритъ
колѣноземнъ родень жилъ вѣкъ любви стари вѣрнъ вселени-
съ листиками мурашками открытоспинъ удару рѣжущу
пронзени ѣлой
догрызть животъ жить чернорабочимъ
Ванька Ключнивъ:
а ты со мною убитая?
Княгиня:
воть я съ тобой
Командоръ:
буду убивать сколько бы не жили

Княгиня:
буду любить убиваемая всегда
Командоръ.
я проваливаюсь ко всѣмъ чертямъ въ адову сѣру
Провокаторъ съ проплеванымъ лицомъ:
хе хи
Княгиня:
Ваня! Богъ нашъ въ двери дивенъ сѣдъ бѣлъ
по веснамъ розовымъ оханье дѣвье бьет въ грудь мятою росной
притаимши свѣгами гнѣзда матерей открываютъ въ небѣ Створы
тепло землѣ пало
въ старомъ саду рай перѳвернулся спину грѣть
Настала радость любовная
На нѣмецкихъ поляхъ убіенные и убойцы прогнили цвѣтоявомъ
скотъ ѣстъ бабы доятъ люди пьютъ живомертвыя дрожжи
встаетъ любовь жадная цѣлуетъ кости юношей русскихъ
въ черной съѣдени смертной на путяхъ Ивангорода
Ванька-Ключникъ:
пушечное объѣданье въ бѣль мозга сорокового
жло колес по ступню человѣчьеи грыаью зубочлены тѣлъ въ земь вбило
рваноемом трупни горам живодѣто рядом желѣзнымъ слаборуко
рубит яво по коням по суровымъ
проявъ мужа мѣдь жадно тяжитъ плевая мѣта
раневу под глазами твердогляды встрѣчает троеряд
въ клочья подотголос рявом стѣву яру явит
орѣжет въ нѣть жовомъ надежно въ высь явит
ноги гнѣва по одежѣ вырвано съ костями на вѣкъ
роди далекои забыть обнимает кровь красавиц осиро
На путяхъ Ивангорода трава палая вбита давлена тяжелью вбивой
на путяхъ Ива́нгорода никнутъ онѣми
на ставу рѣкъ встало нѣмо горло сжатое пѣсни
слова сторонами идут скорбно скорбители рыданы хрясом ломымъ
о не намъ пѣть о вѣрѣ въжив-Бога воиновъ широко костныхъ
нарывь глыбная хоронитъ хлявь липью льдянистою иметъ
ранню утру обнимаетъ душу тягою слѣпо прощупь
жрет емъ могалъ ослизло ѣст ихъ головы русекія неоцѣно-прекрасныя
и когда поднимается тѣнь смертная бѣл-росами поля ночи.
кроетъ прострѣленным нѣжносурово твердь тѣлъ
окрестъ вкрестят свинецъ въ дождь гибели черную хвату невидью
сѣятъ надъ протянутои ловомъ
вырываютъ въ раи божественно простыхъ и смѣлыхъ
матерямъ женамъ на милои родинѣ подъ овзиромь Бога
мѣдь кололовъ вѣковое воетъ ждневыи разъявлень ощеренъ
земля ѣжно-черная хлязи стра-брани въ остраньяхъ міра
взнесетъ кровью тихою небу
Княгиня.
въ пробоень сѣваго камня герцогиня земли давней
соловьиную трель водитъ душои человѣчьеи несытои
пролеты ключей жувавлиныхъ по ѣлому бредню
овиваютъ день неубывыи одвинутъ солнце
застоятся небу яловому остно
конь понуро вдохнет жар въ ноздри
вязанъ коннику ногами под брюхо
сѣчен давит наводью въ гриву
нѣмь ошаривает тает вьевым стожаром олита руколомом над изголовьемъ
онѣмѣет смертью томной
Говоритель:
хмѣльна жон жестокая добыча
камень безполый
сѣмя жизни
гниль женѣ безплодной
Запѣвало и хоръ:
старонеба радоница вѣрен выбор смерти
порѣжала раннюю ровень дрожанья
горделива красавица
тонко колотаго колко радости хоралами
Подголосокъ:
тѣло барывя ввѣрила ночи
въ быстр-ночи чарователь осторожно ручку тонко-цѣловальную проѣдаеть
дама царительница въ ясное сказанье уронила
головушка горячая будь ровенъ.

Запѣватель:
открывно озвѣзд въ земцентр влюбляньем высоко летуч
быстрит голосъ ѣзок продрожь
задумчиво бросом жим дыхалъно вдѣт
въ олунь авѣздяницу въ зов тайн тѣла царицы
въ кровь переливает струями гостя и бредит ложномясом
а голубочек ждет прилетит доживет
гляд ѣлый ироѣдет глазвицу сахарным песком
сны ясноявые ночить по птенчьи
о запѣвателемъ вымогает хоранье трубарей
а ночь круглѣе колеса валом понынѣ без смѣн продырявленая
выѣла прекрасные глааа отрасли щупальцы морозные
въ полптич крылит углом пролет голубо
о краи видим оломит летѣни лет
Подголосокъ:
утопает молчаливъ утопатель
отаптывают по глазамъ волнозвѣады ногами стройными
въ жижу до похорон рябыхъ тихотъ
по рѣченьксѣ поворочено въ окривь смертное желанье
по цвѣтным камышам по затону прорябо
под-оводу въ струю хрусталеву на полетъ стрекоз
сине усмотритъ по каштановым кудрям
въ перевивь утыкано кувшинками бѣло
ослизл ил рѣчит на берегъ продружь про олюбь
что брано от дѣвок ва вѣк до свѣтопреставленья злова
Могильщикъ:
въ икотѣ живовторной кольчатые ногачи кунье глѣз-
нышко ѣвым ѣдом въѣли опинаются мыедым ясомъ
разъядились юдовидами
Огонек заполуночный:
огоньком олитым тяжко мя дѣвьи дохи давят по красиво-
му дѣтно горынютъ оведут лицу живоживи открывают
губы чисто дыхальем озолорят
по чердакамъ поднебесным ходят чудеса золотисто о девяносто
пяти страницах летучія дамы строгія дарятся плѣну
раздѣваются из парчевои одежи въ чайное печенье
оперяют зов ороненый камор хованых
вговараваютъ разноплеменным языком уговоры райскіе
Могильщикъ:
тлѣнь рабѣ незарытой грузит лоб навѣсом уперлася пе-
реносица тѣсно небесиои харчевнѣ медово ѣдою червѣть
Амуръ:
аах оах еэх мнѣ тяжко о тяжат мальчика о луны о груди
материной пріютной о на морями уходъ синев по чуру
дѣвьему глубокому
Подголосокъ:
измор паросый сребр ожар медвѣжіи ѣаомъ чайныи ро-
зан водам свѣтлым номирально моритъ о зимѣ зимает
на земнем уводѣ пролетло овѣтнит олетыванье лѣтнь и
нѣжно озолотит косу до дѣвьих позвонков кудрями за-
шеи высоко высоко щиток грудной въ полволну днев-
ную ойдетъ лица румяницей открыто и губы тронуло
ровно зовом а ночи безъоко окружатъ тѣло чистои ту-
чеи и явят царствованье въ раискія ворота
Хоръ:
ворон кормит мясным сырьем
гной лепры Божьеи
дарят женскіе зовы тохозывыми подозорами
безсмертныв дух цѣлованій безсильных
Обратное эхо:
Русь проходитъ на морях
Баба:
промозжитъ меч челоѣз полудитя рукопугое королюет
прожови жалоящера зрѣлит бражлюю жлунь ледовитень
мутен прошеперитъ перьями вѣтряными пѣго седьмому
небу самоцвѣтъ очной разностаит въ рай нелестныи
сочно пирожить молочныя пирожныя крольим журом въ
живоглыбіи хростъ жароглотами горблыми росы волонь
ротоносит самосѣвъ хрустальнаго олунья рустом ѣсным
свеклу ало зеленит из безвѣстья бросом поддоннымъ ти-
хому полозу гусениц горбый окунь рыбит жоръ шняво
на воду роженью брошено творожное нѳбо
Звѣроловъ:
ворожи бои въ камору ружейную мертвою свинчаткой
въ наговоръ вяжи пулю рубленую въ шнур
твердомясые звѣроловы добычники по ведмѣжимъ логам
прѣлым прѣют въ звѣрин помет, человѣчинои мужиками
желѣзными
тяжат черепа горбоносо недвигой гляды въ поѣдателя
оплет о мѣрн ножъ лыколиповъ емит от дрожи
рушной оступ гибныи
зор одубом костн немигой поединщика на брюхатую
разлапу
ошиба́й духъ звѣрый
Молодой охотникъ:
поповѣнь утин мѣтит по вêшню
по ручью узêнько стелеть клев обит
пре́явень полозо лѣву клонило
озеро пявень обѣягат пугливо
сумеромъ ратво лов оленицу стельну ночит на вымя
Пêпелен вон вяау вѣтю обрѣжет на кораль опани
емъ рябый корбитель ѣвок
Подголосокъ:
побѣжден побѣдой побѣждует
побѣжден ревностью ревнуетъ
бьется сторожит боем побѣду
побѣжден жизнью отойдет умрет
побѣжден любовью сломан
цвѣткомъ никнет ломлым
а непобѣдимый ревность твердью жмет на смерть
Хоръ:
воин рудит хруном ему Сирин дарит въ зѣво стрѣлу бросом
лет пронесет по рѣзи
мѣрно ѣлым ронит придорожи руну соболину
поцѣлуйн о зовѣ хрипом ранней рати
Солдатъ:
оземляют красноты по суху и по болотам
вольнѣет русскою кровью ростью дробленой сводит глаз
горѣлыи рваным орубо о-руки о-нога о Русскія головы
давлень глазами живая ятко жим зубнои давит стоном
въ грудь обратно бѣль аах и захивают а слезят и бо-
рют на Запад стѣнѣлой недвигой на реву чуж-проѣз
чемоданы рвут крош рвань конями Генералами табавом-
махрой дѣвом гоным ѣви небои нѣм-оговором по голо-
вам по Русым скобкой сѣдина оходит въ сапогах осто-
рожно въ землю чужую мерзлую
Насильникъ:
раз и два говорю тебѣ «баба, люби!»
Баба:
полумальчикъ горячит горячо скоки коня равнолетом до
рядов неколебимыхъ Прусскихъ прискакал повоевал
по могучим лицам умер и схоронен навсегда а моло-
денькіи молоденькіи-то а! и омертвѣя а лошадь за гро-
бомъ идет
Солдатъ:
идутъ земляки желѣзные сѣрые тяжкіе великаны сило-
носые безмѣрные
Раненый солдатъ:
Гляд блѣдн гдѣ мнѣ лицо осит глазами спящ мальчик
раем станет старым гостем Богу а сестрица молит свѣ-
чею Трех-пудовой выбить нѣмцев из окопов подземных
проходило и промежало вам невидно чернотою кос и
кивом дня положит руку и солдат бородатыи пад ранен
а Господь уносит вторую пулю ряд за рядом и помру
срослась съѣлась заперта землѣ полурота свят гвоздь
сапог и города выводит мір на головах прямоносых
горы разбили руками и до Берлина топорами доруби-
лись валенками въ святомъ проглядѣ дѣтских ног въ
мозоляхъ спи, пареиь терпѣлив! ваша кровь мать земля
ногам я закрою окно и шепну вѣтру «уйди!»

Запѣвало:
упокоителем нелестным по мареным ромахам
поцвѣтает желтотою палою оререніе ровноцвѣтное
по простели полевой там проходителѳм зыбким
позвенит сѣдотравною полуволной сладкая теплынь
перезовами соловьевыми олюбуетъ ровную припеку
проживителями быстро
ровностью бредит промежая струи живорыбит летуч на дремой
окривит выем ракиты разлапой
помирателем слышно дав голос простой мѣрный кукушкин
проволнит попереком нарестль ѣзвую отопь задубь брос грустн
Грѣшнеи аайденой рам промыча будли броиныя прони-
жет рядом лито
русо вихрь лег
Ванька Ключникъ:
горболоб ножав разлом рож разнолик безпар рядим по-
бѣдно силоноя лѣсной веснам сел сильный родил рои-
тель ратнаго баловня мол день хрѣн собирает зол вои
протлѣнь вѣрен мір орали твх блѣзл единч денч птенч
на птах лет вяжет вѣст безлест грустнитель оохан въ
заведенье нищенько короновать скрыватель тоша Геор-
гій безмѣр порхаль незрим неволей ряжен подневольн
маскарь личиню боголичью оживь шкурами ужалый съѣд
дѣтлым гаром дѣвьим током жил цвѣточныхъ жив все-
ленно побираюсь нечаян олюднель борецъ очимых чуд
проѣденным ломтем набосо маркиз пѣнитель уносый за-
рельем узаем и вѣчен кончивый концом
Отмѣтчикъ:
откроются нови боголики Невѣ щедрить узернью про-
остью язу рыбалками сѣвыми рого-лоск над вѣками
взорно черезъ покором парить удивлинья Парижа Лон-
дона и даже дикареи упрям ловом лоб одвинет аванзо-
вом міром великое волить
Убоица Любимцевъ:
роголох рукобуда яр рукозуда хамо-руль проломныи
жиломяс дикорост костенѣль ѣлокост сумер яло шайн
озолен о трало-вѣры поружиль сверлит смерлово по ро-
са́м орлиным ассиріиским те́ва волорука вылет ра́ни
зорь заристых меренит столбнѣлью по порогу въ остова
под рожу нож у горла зазубрил ожалом машинально
воин живоѣдыи кивами вагонами корабельем королями
чернобокими зафрахтованьем племенит рѣже младенч жирок
Баба:
Горе тебѣ мертводуху
Прелестница:
олюбован мнѣ молитвами конечн выѣл сердце
жалью устной оживь поцѣлуйа уотам устатель Грустн
Скорбительница:
ѣчень ѣвыи махло-хор ѣло-луком росит росным молоком
козью праболоть молчаливо на лежѣ дѣвьем говорят груди
чайкои пролетлой Мороситель сѣр-дождь даждень уроси-
тель равноволоком обрати пройдет через желаній ложицу
оболоком в горы святыя а не тѣшит не слезит думу мою
жестоко-женскую
Баба:
а зубы съѣдены строиные просушѣла губвиную ярь от
сухот смертных костяница проростом на груди суходѣ-
вьей ждневой а ночами ход о луны перекатами уносом
жить хватло воздернет высоко заливом дох скорбл
Дѣвчерка:
шествадщітая весна ни жизнь ни вѣк
шестнадцатая пора уносная
Ночевы по Гибени
встает сердце большим
въ довѣрье просится
медовыми росами
любою хрястинкою
тихозовами нехотя
изнутри осторожено
Ванька Ключникъ:
страда омолоти лѣпой тождество снов створных слому
гор и вешни прямит росль высокую сѣвая ширелья въ
лозы вана ѣльнь зовами міра тих зор пращей ожерезлой
дух лет вьет радугами зарит тихосдвигом оземн чтобы
двинуло землю вѣно вевѣсты на югъ через Вѣну рани
подночья оволок дивый хороведом орым поддыбит бѣг
снѣгов гость устами за вином и хлѣбом входит въ небо
верхушками пѣнья легок и чист.
Ольга Розанова*
«Розанова родилась футуристкой, – писал известный критик и поэт А. Эфрос. – Если бы движение не пришло ей навстречу уже сложившимся и готовым, она должна была бы изобрести нечто подобное, очень близкое по форме и совершенно тождественное по сути, или же не стать вовсе художницей»[150]. Конечно, прежде всего Ольга Владимировна Розанова была художницей, одним из активных членов художественных групп «Бубновый валет» и «Союз молодежи», участницей выставок «Первая футуристическая выставка „Трамвай В“», «Последняя футуристическая выставка картин „0,10 (ноль-десять)“» (обе – 1915 год) и других. Она иллюстрировала многие кубофутуристические издания, прежде всего – книги А. Крученых. «Это была крупная индивидуальность, человек, твердо знавший, чего он хочет в искусстве, и шедший к намеченной цели особыми, не похожими ни на чьи другие, путями», – писал о Розановой Б. Лившиц[151]. Заумные стихи Розановой высоко оценивал Крученых, который относил ее к «настоящим поэтессам»[152].
Испания*
Вульгарк ах бульваров
Варвары гусары
Вулье ара-бит
А рабы бар арапы
Тарк губят тара
Алжир сугубят
Ан и енно
Гиенно
Гитана.
Жиг и гит тела
Висжит тарантелла
Вира жирн рантье
Антиквар
Штара
Квартомас
Фантом
Илька негра метресса
Гримасы
Гремит
Гимн
Смерти
Трупом застылым
Глядит незримо
Мертвое око окон.
Черной гривой
Покрыл землю аспидный конь.
<1918>
«Сон ли то…»*
Сон ли то…
Люлька ли
В окне красном
Захлопнутом
В пламени захлебнувшемся
Кумача
Огня
Медленно качается
Приветливо баюкает
Пристально укутывает
От взглядов дня.
В огне красном
С фонарем хрустальным
Рубиновый свет заливает, как ядом
И каждый атот
Хрустально малый
Пронзает светом
Больным и алым.
И каждый малый
Певуч, как жало,
Как жало тонок,
Как жало ранит
И раним
Жалом
Опечалит
Начало
Жизни
Цветочно алой.
<1918>
Виктор Шкловский*
«Я не из самых старых футуристов, – как вышел первый „Садок судей“ – не помню», – писал о своей будетлянской молодости выдающийся литературовед и писатель, участник ОПОЯЗа, один из зачинателей формальной школы в литературоведении Виктор Борисович Шкловский[153]. Футуристический дебют молодого ученого состоялся 23 декабря 1913 года, когда в петербургском кафе «Бродячая собака» им был прочитан доклад «Место футуризма в истории языка»[154], послуживший основой его книги «Воскрешение слова» (СПб., 1914). Присутствовавший на чтении доклада В. Пяст позже писал, что Шкловский «казался именно румяным как яблочко мальчиком, выпрыгнувшим в футуризм прямо из детской»[155]: «Юный ученый энтузиаст распинался по поводу оживленного Велимиром Хлебниковым языка, преподнося в твердой скорлупе ученого орешка квинтэссенцию труднейших мыслей Александра Веселовского и Потебни, – уже прорезанных радио-лучом собственных его, как говорилось тогда, „инвенций“, – он даром мощного своего именно воскрешенного, живого языка заставляет слушать, не шелохнувшись, многочисленнейшую публику, наполовину состоящую чуть не из „фрачников“ или декольтированных дам»[156]. «Воскрешение слова» и последовавшая вскоре работа «О поэзии и заумном языке»[157] положили начало серьезному теоретическому исследованию футуризма, а появление в среде будетлян человека с такой высокой филологической культурой, какой обладал Шкловский, стало для них событием весьма важным. «В лице Шкловского. – вспоминал Б. Лившиц, – к нам приходила университетская – никогда не слишком молодая – наука. Это было уже интересно: взглянуть на свое отражение в только что наамальгированном стекле, которое мы, вероятно, постеснялись бы признать зеркалом истории. <…> Шкловский пришел к нам со стороны, из университетского семинария, как филолог и теоретик: до тех пор к нам доносились оттуда только пренебрежительные насмешки да брань. Кроме того, он был хороший оратор: говорил с неподдельным задором, горячо и плавно, не заглядывая ни в какие бумажки. Нам оставалось только поздравить себя с таким союзником»[158].
Как поэт Шкловский выступил в печати лишь однажды: в альманахе «Взял: Барабан футуристов» (Пг., 1915) были опубликованы два его стихотворения, которые, впрочем, сам автор позже оценил как «совсем плохие»[159].
К футуристам же Шкловский причислял себя до конца жизни.
«В серое я одет и в серые я обратился латы России…»*
В серое я одет и в серые я обратился латы России.
И в воинский поезд с другими сажают меня и плачут люди за мной.
То первое мне Россия дарит смертное свое целование.
И умирают русские как волки, а про волков сказано не то у Аксакова, не то у Брема, что они умирают молча.
Это оттого, что из наших великих полей не вырвешь своего крика и не замесишь нищей земли своей кровью.
И в окопах воду из-под следа пия, умирают русские, как волки в ловчих ямах молча.
И с ними я связан родиной и общим воинским строем.
<1915>
«Напрасно наматывает автомобиль серые струи дороги…»*
Напрасно наматывает автомобиль серые струи дороги на серые шуршащие шины.
Нас с тобой накрепко связала-стянула тоска.
Если бы из усладной разлюби-травь, найти нам напиток, – мы бы выпили его пополам, как пьют брачную чашу.
Или заговор бы сказать на забвение, держа друг друга за руки.
Или в каменную бы тебя положить усыпив пещеру.
И тогда легко и просто расстались бы мы так, как расходятся в море лодки с разнопоставленными парусами.
<1915>
Роман Якобсон*
Публикацией под псевдонимом Алягров двух заумных стихотворений в совместной с А. Крученых «Заумной гниге» (М., 1915, на обложке – 1916) и еще одного в сборнике «Заумники» (Пг., 1922) исчерпывается участие в футуристических изданиях Романа Осиповича Якобсона, основателя Московского, Пражского и Нью-Йоркского лингвистических кружков, одного из основоположников структурализма в литературоведении и языкознании. Тем не менее характер стихотворений и тесные контакты Якобсона с В. Хлебниковым, В. Маяковским, А. Крученых, К. Малевичем, имевшие плодотворное значение как для деятельности поэтов, так и для становления молодого ученого, дают основание причислить его к когорте будетлян. Да и сам Якобсон подчеркивал свою причастность футуристическому движению. В письме к В. Шкловскому от 14 ноября 1928 года он писал: «Ведь сила нашей науки была именно в этой футуристической глыбе слова МЫ»[160] (см. в Приложении манифест «Пощечина общественному вкусу»). См. также: Якобсон-будетлянин: Сборник материалов / Сост., подгот. текста, предисловие и коммент. Бенгта Янгфельдта. Stockholm, 1992.
«мзглыбжвуо йихъяньдрью…»*
мзглыбжвуо йихъяньдрью чтлэщк хн фя съп скыполза а Втаб-длкни тьяпра какайзчди евреец чернильница
<1915>
Рассеяность*
удуша янки аркан
канкан армянк
душаянки китаянки
кит ы так и никая
армяк
этикэтка тихая ткань тик
ткания кантик
а о оршат кянт и тюк
таки мяк
тмянты хняку шкям
анмя кыкь
атра́зиксию намёк умён тамя
мянк – ушатя
не аваопостне передовица
передник гублицю стоп
тляк в ваго передавясь
<1915>
Эгофутуристы
Игорь Северянин*
Игорь Северянин (Игорь Васильевич Лотарев) был первым русским поэтом, определившим свое творчество заимствованным у итальянца Ф. Т. Маринетти термином «футуризм», с добавлением к нему латинизма «едо» («я»): в сборник «Ручьи в лилиях» (СПб., 1911) было включено стихотворение «Рядовые люди» с подзаголовком «Из цикла „Эго-футуризм“», а в ноябре 1911 года в Петербурге тиражом 100 экземпляров под издательской маркой «Едо» вышла «тридцать вторая» (как было указано на обложке) брошюра «Пролог „Эгофутуризм“: Поэза-грандиоз», что, впрочем, не было отмечено критикой.
К тому времени имя автора было известно не столько по его многочисленным брошюрам, сколько по отрицательной оценке Л. Н. Толстым стихотворения «Хабанера II»(в настоящем издании «Хабанера»).
Первым поэтом, высоко оценившим талант Северянина, был К. М. Фофанов, чьи слова предваряли книгу будущего эгофутуриста «Лавровые дали»: «Ничего лучшего не мог я придумать, что мне показал Игорь-Северянин. Чту Его душу глубоко. Читаю Его стихи – и все говорит мне: в Тебе – Бог!»[161]. Со своей стороны, Северянин считал Фофанова, наряду с Миррой Лохвицкой, предтечей эгофутуризма.
В октябре 1911 года в Петербурге был образован кружок «Едо», в который, кроме Северянина, вошли К. Олимпов. Грааль-Арельский и Г. Иванов. В январе 1912 года кружок был «преобразован» в «Академию Эгопоэзии».
Однако Северянин, с чьим именем ассоциируется эгофутуризм, был формальным членом группы меньше года. В октябре 1912 года была опубликована брошюра Северянина «Эпилог „Эго-футуризм“». В ноябре 1912 года в журнале «Гиперборей» он объявило своем выходе из кружка «Едо». Основной причиной разрыва с бывшими соратниками послужила, по-видимому, полемика (а точнее, борьба за первенство в группе) с Олимповым. В «открытом письме» к последнему Северянин утверждал: «Теперь, когда для меня миновала надобность в доктрине: „я в будущем“, и находя миссию моего Эго-Футуризма выполненной, я желаю быть одиноким, считаю себя только поэтом, и этому я солнечно рад»[162]. Этот период характеризуется и некоторым сближением Северянина с другими литературными кругами, в частности с символистами. В декабре 1912 года В. Брюсов организовал в «Обществе свободной эстетики» первое публичное выступление Северянина. Известны и его контакты с акмеистами.
Вышедший в марте 1913 года с предисловием Ф. Сологуба сборник «Громокипящий кубок» – лучшая книга Северянина, «книга истинной поэзии», по характеристике Брюсова[163], – сделал имя его автора необычайно популярным. Многочисленные «поэзовечера» собирали переполненные залы. Северянин много печатается в периодике, издает и переиздает свои книги огромными по тем временам тиражами («Громокипящий кубок» за два года был издан семь раз), его «поэзы» даже экранизируются. Северянин в центре внимания критики, диапазон оценок его творчества чрезвычайно широк – от самых уничижительных характеристик до безудержных восхвалений. Но большинство хулителей и апологетов сходились в том. что творчество Северянина самобытно, своеобразно, что он нашел свою чему, свой поэтический голос, свою манеру исполнения стихов перед публикой (Северянин исполнял их нараспев). Его поэзию ценили А. Блок. Н. Гумилев, В. Маяковский, В. Ходасевич, К. Бальмонт.
Осенью 1913 года состоялся непродолжительный альянс Северянина с кубофутуристами. Было проведено несколько совместных выступлений, Северянин принимал участие в сборнике «Рыкающий Парнас» (СПб., 1914) и даже подписал декларацию «Идите к черту», открывающую этот сборник, – самый резкий по тону футуристический манифест. Однако зимой 1914 года во время турне футуристов по югу России произошла размолвка, и от дальнейшего сотрудничества с кубофутуристами Северянин отказался.
Выходившие после «Громокипящего кубка» книги Северянина несли на себе печать самоповторения, но продолжали пользоваться большим читательским спросом. В 1916 году вышел сборник критических статей, целиком посвященный творчеству Северянина[164]. Впрочем, пик популярности поэта к этому времени уже прошел.
Тем не менее 27 февраля 1918 года на выборах «Короля поэтов» в Политехническом музее в Москве Северянин одержал победу (вторым оказался Маяковский).
В том же году Северянин переехал из Петрограда в эстонский поселок Эст-Тойла на побережье Балтийского моря и в 1919 году в результате провозглашения независимости Эстонской республики оказался за пределами России. Поэтическое творчество позднего Северянина имеет мало общего с его «Вселенским Эго-Фугуризмом».
Интродукция*
За струнной изгородью лиры
Живет неведомый паяц.
Его палаццо из палацц –
За струнной изгородью лиры…
Как он смешит пигмеев мира,
Как сотрясает хохот плац,
Когда за изгородью лиры
Рыдает царственный паяц!..
1909. Январь
Хабанера*
Синьоре Za
Вонзите штопор в упругость пробки, –
И взоры женщин не будут робки!..
Да, взоры женщин не будут робки,
И к знойной страсти завьются тропки…
Плесните в чаши янтарь муската
И созерцайте цвета заката…
Раскрасьте мысли в цвета заката
И ждите, ждите любви раската!..
Ловите женщин, теряйте мысли…
Счет поцелуям – пойди, исчисли!..
А к поцелуям финал причисли, –
И будет счастье в удобном смысле!..
1909. Сентябрь
Это было у моря…*
Это было у моря, где ажурная пена,
Где встречается редко городской экипаж –
Королева играла – в башне замка – Шопена,
И, внимая Шопену, полюбил ее паж.
Очень было все просто, очень было все мило:
Королева просила перерезать гранат;
И дала половину, и пажа истомила,
И пажа полюбила, вся в мотивах сонат.
А потом отдавалась, отдавалась грозово,
До восхода рабыней проспала госпожа…
Это было у моря, где волна бирюзова,
Где ажурная пена и соната пажа.
1910. Февраль
Весенняя яблоня*
Перу И. И. Ясинского посвящаю
Весенней яблони, в нетающем снегу,
Без содрогания я видеть не могу;
Горбатой девушкой – прекрасной, но немой –
Трепещет дерево, туманя гений мой…
Как будто в зеркало – смотрясь в широкий плёс,
Она старается смахнуть росинки слез
И ужасается, и стонет, как арба,
Вняв отражению зловещего горба.
Когда на озеро слетает сон стальной,
Бываю с яблоней, как с девушкой больной,
И, полный нежности и ласковой тоски,
Благоуханные целую лепестки.
Тогда доверчиво, не сдерживая слез,
Она касается, слегка, моих волос,
Потом берет меня в ветвистое кольцо, –
И я целую ей цветущее лицо…
1910. Апрель.
Св. Пасха.
Июльский полдень*
Элегантная коляска, в электрическом биеньи,
Эластично шелестела по шоссейному песку;
В ней две девственные дамы, в быстро-темпном упоеньи,
В ало-встречном устремленьи – это пчелки к лепестку.
А кругом бежали сосны, идеалы равноправий,
Плыло небо, пело солнце, кувыркался ветерок;
И под шинами мотора пыль дымилась, прыгал гравий,
Совпадала с ветром птичка на дороге без дорог…
У ограды монастырской столбенел зловеще инок,
Слыша в хрупоте коляски звуки «нравственных пропаж»…
И с испугом отряхаясь от разбуженных песчинок,
Проклинал безвредным взором шаловливый экипаж.
Хохот, свежий точно море, хохот, жаркий точно кратер,
Лился лавой из коляски, остывая в выси сфер,
Шелестел молниеносно под колесами фарватер,
И пьянел, вином восторга, поощряемый шоффер…
1910
В шалэ березовом*
В шалэ березовом, совсем игрушечном и комфортабельном,
У зеркалозера, в лесу одебренном, в июне севера,
Убила девушка, в смущеньи ревности, ударом сабельным
Слепого юношу, в чье ослепление так слепо верила.
Травой олуненной придя из ельника с охапкой хвороста,
В шалэ березовом над Белолилией застала юного,
Лицо склонившего к цветку молочному в порыве горести,
Тепло шептавшего слова признания в тоске июневой…
У лесоозера, в шалэ березовом, – березозебренном, –
Над мертвой лилией, над трупом юноши, самоуверенно,
Плескалась девушка рыданья хохотом темно-серебряным… –
И было гибельно. – И было тундрово. – И было северно. –
Квадрат квадратов*
Никогда ни о чем не хочу говорить…
О поверь! – я устал, я совсем изнемог…
Был года палачом, – палачу не парить…
Точно зверь, заплутал меж поэм и тревог…
Ни о чем никогда говорить не хочу…
Я устал… О поверь! изнемог я совсем…
Палачом был года, – не парить палачу…
Заплутал, точно зверь, меж тревог и поэм…
Не хочу говорить никогда ни о чем…
Я совсем изнемог… О поверь! я устал…
Палачу не парить!.. был года палачом…
Меж поэм и тревог, точно зверь, заплутал…
Говорить не хочу ни о чем никогда!..
Изнемог я совсем, я устал, о поверь!..
Не парить палачу!.. палачом был года!..
Меж тревог и поэм заплутал, точно зверь!..
1910
Пролог «Эго-Футуризм»*
Вы идете обычной тропой, –
Он к снегам недоступных вершин.
Прах Мирры Лохвицкой осклеплен,
Крест изменен на мавзолей, –
Но до сих пор великолепен
Ее экстазный станс аллей.
Весной, когда, себя ломая,
Пел хрипло Фофанов больной,
К нему пришла принцесса мая,
Его окутав пеленой…
Увы, пустынно на опушке
Олимпа грезовых лесов…
Для нас Державиным стал Пушкин, –
Нам надо новых голосов!
Теперь повсюду дирижабли
Летят, пропеллером ворча,
И ассонансы, точно сабли,
Рубнули рифму сгоряча!
Мы живы острым и мгновенным, –
Наш избалованный каприз:
Быть ледяным, но вдохновенным,
И что ни слово – то сюрприз.
Не терпим мы дешевых копий,
Их примелькавшихся тонов
И потрясающих утопий
Мы ждем, как розовых слонов…
Душа утонченно черствеет,
Гнила культура, как рокфор…
Но верю я: завеет веер!
Как струны, брызнет сок амфор!
Придет Поэт – он близок! близок! –
Он запоет, он воспарит!
Всех муз былого в одалисок,
В своих любовниц претворит.
И, опьянен своим гаремом,
Сойдет с бездушного ума…
И люди бросятся к триремам,
Русалки бросятся в дома!
О, век Безра́зумной Услады,
Безлистно-трепетной весны,
Модернизованной Эллады
И обветшалой новизны!..
1911. Июль
Ст. Елизаветино, село «Дылицы»
Опять ночей грозовы ризы,
Опять блаженствовать лафа!
Вновь просыпаются капризы, –
Вновь обнимает их строфа.
Да, я влюблен в свой стих державный,
В свой стих изысканно-простой,
И льется он волною плавной
В пустыне чахлой и пустой.
Все освежая, все тревожа,
Топя в дороге встречный сор,
Он поднимает часто с ложа
Своих кристальных струй узор.
Препон не знающий с рожденья,
С пренебреженьем к берегам,
Дает он гордым наслажденье
И шлет презрение рабам.
Что ни верста – все шире, шире
Его надменная струя.
И что задали! что за шири!
Что за цветущие края!
Я облеку, как ночи – в ризы
Свои загадки и грехи,
В тиары строф мои капризы,
Мои волшебные сюрпризы,
Мои ажурные стихи!
1909. Июнь
Ст. Пудость, мыза «Ивановка»
Не мне в бездушных книгах черпать
Для вдохновения ключи, –
Я не желаю исковеркать
Души свободные лучи!
Я непосредственно сумею
Познать неясное земле…
Я в небесах надменно рею
На самодельном корабле!
Влекусь рекой, цвету сиренью,
Пылаю солнцем, льюсь луной,
Мечусь костром, беззвучу тенью
И вею бабочкой цветной.
Я стыну льдом, волную сфинксом,
Порхаю снегом, сплю скалой,
Бегу оленем к дебрям финским,
Свищу безудержной стрелой.
Я с первобытным неразлучен,
Будь это жизнь ли, смерть ли будь.
Мне лед рассудочный докучен, –
Я солнце, солнце спрятал в грудь!
В моей душе такая россыпь
Сиянья, жизни и тепла,
Что для меня несносна поступь
Бездушных мыслей, как зола.
Не мне расчет лабораторий,
Нет для меня учителей.
Парю в лазоревом просторе
Со свитой солнечных лучей!
Какие шири! дали! виды!
Какая радость! воздух! свет!
И нет дикарству панихиды,
Но и культуре гимна нет!
1909. Октябрь
Петербург
Я прогремел на всю Россию,
Как оскандаленный герой!..
Литературного Мессию
Во мне приветствуют порой;
Порой бранят меня площадно –;
Из-за меня везде содом!
Я издеваюсь беспощадно
Над скудомысленным судом!
Я одинок в своей задаче
И оттого, что одинок,
Я дряблый мир готовлю к сдаче,
Плетя на гроб себе венок.
1911 г.
Июль
Ст. Елизаветино, село «Дылицы»
Нелли*
В будуаре тоскующей нарумяненной Нелли,
Где под пудрой молитвенник, а на ней Поль де Кок,
Где брюссельское кружево… на платке из фланели! –
На кушетке загрезился молодой педагог.
Познакомился в опере и влюбился, как юнкер.
Он готов осупружиться, он решился на все.
Перед нею он держится, точно мальчик, на струнке,
С нею в парке катается и играет в серсо.
Он читает ей Шницлера, посвящает в коктэбли.
Восхвалив авиацию, осуждает Китай
И в ревнивом неверии тайно метит в констэбли…
Нелли нехотя слушает, – «лучше ты покатай».
«Философия похоти!..» Нелли думает едко:
«Я в любви разуверилась, господин педагог…
О, когда бы на „Блерио“ поместилась кушетка!
Интродукция – Гауптман, а финал – Поль де Кок!»
1911. Июль.
Ст. Елизаветино, село «Дылицы»
На реке форелевой*
На реке форелевой, в северной губернии,
В лодке, сизым вечером, уток не расстреливай:
Благостны осенние отблески вечерние
В северной губернии, на реке форелевой.
На реке форелевой в трепетной осиновке
Хорошо мечтается над крутыми веслами.
Вечереет холодно. Зябко спят малиновки.
Скачет лодка скользкая камышами рослыми.
На отложье берега лен расцвел мимозами,
А форели шустрятся в речке грациозами.
1911. Август
Поэзоконцерт*
Где свой алтарь воздвигли боги,
Не место призракам земли!
В Академии Поэзии – в озерзамке беломраморном –
Ежегодно мая первого фиолетовый концерт,
Посвященный вешним сумеркам, посвященный девам траурным…
Тут – газэллы и рапсодии, тут – и глина, и мольберт.
Офиалчен и олилиен озерзамок Мирры Лохвицкой.
Лиловеют разнотонами станы тонких поэтесс.
Не доносятся по озеру шумы города и вздох людской,
Оттого, что груди женские – тут не груди, а дюшес…
Наполняется поэтами безбородыми, безусыми,
Музыкально говорящими и поющими Любовь.
Золот гордый замок строфами, золот девушками русыми,
Золот юным вдохновением и отсутствием рабов!
Гости ходят кулуарами, возлежат на софном бархате,
Пьют вино, вдыхают лилии, цепят звенья пахитос…
Проклинайте, люди трезвые! Громче, злей, вороны, каркайте! –
Я, как ректор Академии, пью за озерзамок тост!
1911
Кэнзели*
В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом
По аллее олуненной Вы проходите морево…
Ваше платье изысканно, Ваша тальма лазорева,
А дорожка песочная от листвы разузорена –
Точно лапы паучные, точно мех ягуаровый.
Для утонченной женщины ночь всегда новобрачная…
Упоенье любовное Вам судьбой предназначено…
В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом –
Вы такая эстетная, Вы такая изящная…
Но кого же в любовники? и найдется ли пара Вам?
Ножки плэдом закутайте дорогим, ягуаровым,
И, садясь комфортабельно в ландолете бензиновом,
Жизнь доверьте Вы мальчику, в макинтоше резиновом,
И закройте глаза ему Вашим платьем жасминовым –
Шумным платьем муаровым, шумным платьем муаровым!..
1911
Мисс Лиль*
Котик милый, деточка! встань скорей на цыпочки,
Алогубы-цветики жарко протяни…
В грязной репутации хорошенько выпачкай
Имя светозарное гения в тени!..
Ласковая девонька! крошечная грешница!
Ты еще пикантнее от людских помой!
Верю: ты измучилась… Надо онездешниться,
Надо быть улыбчатой, тихой и немой.
Все мои товарищи (как зовешь нечаянно
Ты моих поклонников и незлых врагов…)
Как-то усмехаются и глядят отчаянно
На ночную бабочку выше облаков.
Разве верят скептики, что ночную бабочку
Любит сострадательно молодой орел?
Честная бесчестница! белая арабочка!
Брызгай грязью чистою в славный ореол!..
Клуб дам*
Я в комфортабельной карете, на эллипсических рессорах,
Люблю заехать в златополдень на чашку чая в женоклуб,
Где вкусно сплетничают дамы о светских дрязгах и о ссорах,
Где глупый вправе слыть не глупым, но умный непременно глуп…
О, фешенебельные темы! от вас тоска моя развеется!
Трепещут губы иронично, как земляничное желе… –
«Индейцы – точно ананасы, и ананасы – как индейцы»…
Острит креолка, вспоминая о экзотической земле.
Градоначальница зевает, облокотясь на пианино,
И смотрит в окна, где истомно бредет хмелеющий Июль.
Вкруг золотеет паутина, как символ ленных пленов сплина,
И я, сравнив себя со всеми, люблю клуб дам не потому ль?..
1912. Июнь
Мороженое из сирени!*
– Мороженое из сирени! Мороженое из сирени!
Полпорции десять копеек, четыре копейки буше.
Сударышни, судари, надо ль? – не дорого, – можно без прений…
Поешь деликатного, площадь: придется товар по душе!
Я сливочного не имею, фисташковое все распродал…
Ах, граждане, да неужели вы требуете крэм-брюле?
Пора популярить изыски, утончиться вкусам народа,
На улицу специи кухонь, огимнив эксцесс в вирелэ!
Сирень – сладострастья эмблема. В лилово-изнеженном крене
Зальдись, водопадное сердце, в душистый и сладкий пушок…
Мороженое из сирени! Мороженое из сирени!
Эй, мальчик со сбитнем, попробуй! Ей-Богу, похвалишь, дружок!
1912. Сентябрь
Эпилог «Эго Футуризм»*
Я, гений Игорь-Северянин,
Своей победой упоен:
Я повсеградно оэкранен!
Я повсесердно утвержден!
От Баязета к Порт-Артуру
Черту упорную провел.
Я покорил Литературу!
Взорлил, гремящий, на престол!
Я – год назад – сказал: «я буду».
Год отсверкал, и вот – я есть!
Я зрил в Олимпове Иуду,
Но не его отверг, а – месть.
Я одинок в своей задаче! –
Прозренно я провозгласил.
Они пришли ко мне, кто зрячи,
И, дав восторг, не дали сил.
Нас стало четверо. Но сила,
Моя, единая, росла.
Она поддержки не просила
И не мужала от числа.
Она росла, в своем единстве
Самодержавна и горда, –
И, в чаровом самоубийстве,
Шатнулась в мой шатёр орда…
От снегоскалого гипноза
Бежали двое в тлень болот;
У каждого в плече заноза:
Зане болезнен беглых взлет.
Я их приветил: я умею
Приветить всё, – бежи, Привет!
Лети, голубка, смело к змею!
Змея! обвей орла в ответ!
Я выполнил свою задачу,
Литературу покорив.
Бросаю сильным на удачу
Завоевателя порыв.
Но даровав толпе холопов
Значенье собственного «я»,
От пыли отряхаю обувь,
И вновь в простор – стезя моя.
Схожу насмешливо с престола
И, ныне светлый пилигрим,
Иду в застенчивые долы,
Презрев ошеломленный Рим.
Я изнемог от льстивой свиты
И по природе я взалкал.
Мечты с цветами перевиты,
Росой накаплен мой бокал.
Мой мозг прояснили дурманы,
Душа влечется в Примитив.
Я вижу росные туманы!
Я слышу липовый мотив!
Не ученик и не учитель,
Великих друг, ничтожных брат,
Иду туда, где вдохновитель
Моих исканий – говор хат.
До долгой встречи! В беззаконце
Веротерпимость хороша.
В ненастный день взойдет, как солнце,
Моя вселенская душа!
24-го Октября, 1912 г.
Полдень
Фиолетовый транс*
О, Лилия ликеров, – о, Creme de Violette![165]
Я выпил грёз фиалок фиалковый фиал…
Я приказал немедля подать кабриолет,
И сел на сером клёне в атласный интервал.
Затянут в черный бархат, шоффер – и мой клеврет –
Коснулся рукоятки, и вздрогнувший мотор,
Как жеребец заржавший, пошел на весь простор,
А ветер восхищенный сорвал с меня берэт.
Я приказал дать «полный». Я нагло приказал
Околдовать природу и перепутать путь!
Я выбросил шоффера, когда он отказал, –
Взревел! и сквозь природу – вовсю и как-нибудь!
Встречалась ли деревня, – ни голосов, ни изб!
Врезался в чернолесье, – ни дерева, ни пня!
Когда б мотор взорвался, я руки перегрыз б!!.
Я опьянел грозово, все на пути пьяня!..
И вдруг – безумным жестом остолблен кленоход:
Я лилию заметил у ската в водопад.
Я перед ней склонился, от радости горбат,
Благодаря за встречу, за благостный исход…
Я упоен. Я вешний. Я тихий. Я грёзер.
И разве виноват я, что лилии колет
Так редко можно встретить, что путь без лилий сер?..
О, яд мечты фиалок, – о Creme de Viollette…
<1913>
В блесткой тьме*
В смокингах, в шик опроборенные, великосветские олухи
В княжьей гостиной наструнились, лица свои оглупив.
Я улыбнулся натянуто, вспомнил сарказмно о порохе;
Скуку взорвал неожиданно неопоэзный мотив.
Каждая строчка – пощечина. Голос мой – сплошь издевательство.
Рифмы слагаются в кукиши. Кажет язык ассонанс.
Я презираю вас пламенно, тусклые Ваши сиятельства,
И, презирая, рассчитываю на мировой резонанс!
Блесткая аудитория, блеском ты зло отуманена!
Скрыт от тебя, недостойная, будущего горизонт!
Тусклые Ваши Сиятельства! во времена Северянина
Следует знать, что за Пушкиным были и Блок, и Бальмонт!
1913
Поэза возмездия*
Моя вторая «Хабанера»
Взорвалась, точно динамит.
Мне отдалась сама Венера,
И я всемирно знаменит!
То было в девятьсот девятом,
Но до двенадцатого – дым
Все стлался по местам, объятым
Моим пожаром золотым.
Возгрянул год Наполеона
(Век Эхо громогласных дел!)
Вселенского Хамелеона
Душа – бессмертный мой удел.
Издымлен дым, и в льстивый танец
Пустился мир, войдя в азарт
Я – гениальный корсиканец!
Я – возрожденный Бонапарт!
Но острова святой Елены
Мне не угрозен небосклон:
Не мне трагические плены,
Зане я сам Хамелеон!
Что было в девятьсот девятом
То будет в миллиард втором
Я покорю миры булатом,
Как покорял миры пером!
Извечно странствуя с талантом
По плоской плоскости земной,
Был Карлом Смелым, был я Дантом,
Наполеоном и собой!
И будет то, что было, снова:
Перо, булат, перо, булат! Когда ж
Земли падет основа
О, ужас! – буду я крылат.
1913
Вейнмарн
Тиана*
Тиана, как странно! как странно, Тиана!
Былое уплыло, былое ушло.
Я плавал морями, садился в седло,
Бродил пилигримом в опалах тумана.
Тиана, как скучно! как скучно, Тиана!
Мадлена, как эхо… Мадлена, как сон…
Я больше уже ни в кого не влюблен –
Влюбляются сердцем, но как, если – рана?..
Тиана, как жутко! как жутко, Тиана!
Я пил и выплескивал тысячи душ
И девьих, и женских, – все то же; к тому ж
Кудесней всех женщин – ликер из банана!..
Тиана, как дико! мне дико, Тиана,
Вложить Вам билеты в лиловый конверт
И ждать на помпезный поэзоконцерт:
Ведь прежде так просто – луна и поляна.
И вдруг – Вы снегурка, нимфея, лиана,
Вернули мне снова все миги тех лет,
Когда я был робкий, безвестный поэт,
О славе мечтавший, без славы дурмана…
Тиана, как больно! мне больно, Тиана!
1913. Ноябрь
Поэза истребления*
Меня взорвало это «кубо»,
В котором все бездарно сплошь, –
И я решительно и грубо
Ему свой стих точу, как нож.
Гигантно недоразуменье, –
Я не был никогда безлик:
Да, Пушкин стар для современья,
Но Пушкин – Пушкински велик!
И я, придя к нему на смену.
Его благоговейно чту:
Как он – Татьяну, я Мадлену
Упорно возвожу в Мечту…
Меж тем как все поэзодельцы,
И с ними доблестный Парнас,
Смотря, как наглые пришельцы –
О, Хам Пришедший! – прут на нас, –
Молчат в волшбе оцепенений,
Не находя ударных слов,
Я, средь них единый гений,
Сказать свое уже готов:
Позор стране, поднявшей шумы
Вкруг шарлатанов и шутов! –
Ослы на лбах, «пьеро»-костюмы
И стихотомы…без стихов!
Позор стране, дрожащей смехом
Над вырожденьем! – Дайте слез
Тому, кто приравнял к утехам
Призывы в смерть! в свинью! в навоз!
Позор стране, встречавшей «ржаньем»
Глумленье надо всем святым,
Былым своим очарованьем
И над величием своим!
Я предлагаю: неотложно
Опомниться! и твердо впредь
Псевдоноваторов, – острожно
Иль игнорирно, – но презреть!
Для ободрения ж народа,
Который впал в угрозный сплин,
Не Лермонтова – «с парохода»,
А бурлюков – на Сахалин!
Они – возможники событий,
Где символом всех прав – кастет…
Послушайте меня! поймите! –
Их от сегодня больше нет.
1914 г., февраль
Петербург
Увертюра*
Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
Удивительно вкусно, искристо и остро!
Весь я в чем-то норвежском! весь я в чем-то испанском!
Вдохновляюсь порывно! и берусь за перо!
Стрекот аэропланов! беги автомобилей!
Ветропросвист экспрессов! крылолёт буеров!
Кто-то здесь зацелован! там кого-то побили!
Ананасы в шампанском – это пульс вечеров!
В группе девушек нервных, в остром обществе дамском
Я трагедию жизни претворю в грёзофарс…
Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
Из Москвы – в Нагасаки! из Нью-Йорка – на Марс!
1915. Январь
Петроград
Константин Олимпов*
Константин Олимпов (Константин Константинович Фофанов) был сыном известного поэта К. М. Фофанова, особо авторитетного в среде эгофутуристов. В октябре 1911 года вместе с И. Северянином Олимпов организовал кружок «Ego». «Явно сумасшедший, но не совсем бездарный» – так охарактеризовал его в своих воспоминаниях Г. Иванов[166].
Если К. Чуковский считал Олимпова «первым учеником Северянина»[167], то Д. Бурлюк в своих мемуарах утверждал, что у «несчастного сына Фофанова» Северянин «многое позаимствовал, правда, усилив и по-северянински подчеркнув»[168]. А сам Олимпов настаивал: «Ключ возникновения футуризма в России лежит в первом моем печатном выступлении»[169]. Именно борьба за право считаться основателем эгофутуризма между Олимповым и Северянином привела к тому, что последний покинул группу.
«В нем была квинтэссенция „эго-футуризма“», – писал об Олимпове В. Пяст[170]. И действительно, если в 1912 году в футуристических изданиях могло многозначительно сообщаться, что «Константин Олимпов носит воротники „Тореадор“ (размер 39)»[171] или что «Вселенский Эго-футурист К. Олимпов в резиденции „Обухово“ за весь истекший летний сезон написал только четыре строчки, за которые ему уже предлагали колоссальную сумму»[172], то с распадом в 1914 году «Академии Эгопоэзии» самовосхваление, свойственное эгофутуристам, достигло у Олимпова предела и, похоже, вышло за рамки поэтической образности. С 1914 года наряду с термином «эгофутуризм» Олимпов начал употреблять «Эго Олимпизм». Он объявляет себя «Феноменом Гением и Самой Эпохой» и, наконец, «Родителем Мироздания». С высоты этого положения он обращается к «негодяям и мерзавцам» (Глагол Родителя Мироздания. Пг., 1916) или «идиотам и кретинам» (Проэмий Родителя Мироздания. Пг., 1916). При этом одно из его произведений сопровождалось «оглашением»: «Человечество не может себе представить, что Великий Мировой Поэт Константин Олимпов не в состоянии заработать даже одной тленной копейки, чтобы приобрести себе насущных макарон для поддержания своей планетной оболочки. Он умирает от голода и нищеты»[173]. В своем последнем изданном произведении – листовке «Анафема Родителя Мироздания» (Пг., 1922), адресованном «проститутам и проституткам», – Олимпов именует себя «Всемогущим, Вездесущим и Всезнающим, Всеблагим, Всеправедным, Всевечным Великим Мировым Поэтом».
В 1931 году В. Шкловский писал об Олимпове:
«Сейчас он где-то управдомом.
Пишет стихи в домовой книге.
Я думаю, что эта домовая книга не пропадет»[174]
Амурет Игорю Северянину*
Танцуй торжественней, пророк,
Воспой Кудесному эксцессы,
Воспламеняющим экспрессом
Экзальтированных сорок.
Проснется Мир на лире мира,
Венок оденет Ниобей, –
Друг, молодой луной вампира
Себя собою не убей.
Волнуй толпу, зови к волне,
Качай качель, качель экстазы, –
Сверкнут рубины и топазы,
Как привиденья в лунном льне.
Мечта звенит опушкой леса,
Околокольченным Венцом.
Душа испанской догарессы
В Тебе буянится ключом!
Август 1911 г.
Сергиево
Интерлюдия*
Эмпиреи – эмблема феургий,
Силуэт сабеизма фетиша.
В роднике вдохновенных вальпургий
Ищет лунное сердце финиша.
Электрический пламень миража
Обескрайнил кудрявые спазмы
И волна вольной волнью виража
Метит путь из огня протоплазмы.
Искрострунный безгрёзия крензель
Тки, шутя экзотичную гибель.
Позвони литургийных бурь вензель
И себя светом солнечно выбель.
Музыкальных религий хоругви
Нюансируют в радужной гамме.
Мы – поэты, пророки, хирурги –
Молньеносно играем богами!
<1912>
«Я хочу быть душевно-больным…»*
Я хочу быть душевно-больным,
Чадной грезой у жизни облечься,
Не сгорая гореть неземным,
Жить и плакать душою младенца
Навсегда, навсегда, навсегда.
Надоела стоустая ложь,
Утомили страдания душ, –
Я хочу быть душевно больным!
Над землей, словно сволочный проч,
В суету улыбается Дьявол,
Давит в людях духовную мочь,
Но меня в смрадный ад не раздавит
Никогда, никогда, никогда.
Я стихийным эдемом гремуч,
Ослепляю людское злосчастье.
Я на небе, как молния, зряч,
На земле – в облаках – без поместья.
Для толпы навсегда, навсегда,
Я хочу быть душевно-больным!
<1912>
«Гении в ритмах экспрессий…»*
Гении в ритмах экспрессии
Мыслят созвездьем талантов.
Сказочнят в море эксцессов
Их острова хиромантии.
Ясного Гения остров
Терем воздвигнул Искусства:
С Лирой великого чувства,
С Музой – любовницей острой.
Райчатся окна Бессмертья,
Солнчится Гения терем!
Люди! в мой терем уверьтесь?
– «Верим в Олимпова, верим!»
<1912>
Буква Маринетти*
Я. Алфавит, мои поэзы – буквы.
И люди – мои буквы.
Мозги черепа – улицы города.
Идеи – трамваи с публикой – грезы –
Мчатся по рельсам извилистых нервов
В гарные будни кинемо жизни.
Глаз-небокоп бытия мирозданья
Ритмом зажег электрической мысли
Триумф!
Зрячее ухо звони в экспансивный набат.
Двигайтесь пеньем магнитные губы
В колесо ног рысака на асфальте:
Гоп гоп, гопотом, шлёпотным копытом,
Аплодируй топотом, хлопайте копыта
Оптом, оптом!
1 февраля 1914 г.
Флейта славы*
Я От Рожденья Гениальный –
Бог Электричеством Больной.
Мой В боге Дух Феноменальный
Пылает Солнечной Весной.
Сплетая Радуги Зона,
Огни Созвездий Сотворил.
Давно-Давно От Ориона
Пути Вселенных Искрылил.
И На земле Явился В Нервах,
Сверкая Сердцем Красоты.
Строфами Светозарных Перлов
Спалил толпу Грозой Мечты.
Войдя В Экстаз – Великолепен –
В «Пенатах» Пением Звучал.
Тогда Меня Великий Репин
Пером Великим Начертал.
Я – Самодержец Вдохновенья,
Непогрешимец Божества.
Собою Сам, Творец Творенья,
Бессмертной Жизни – Голова!
Полдень 1 мая 1914 г.
Глагол Родителя Мироздания*
(Буквы произносятся густым басом)
Олимпов Родил Мирозданье.
Бессмертная Жизнь Клокочи.
Великое Сердце Страданья
Безумную Лиру Звучи.
Да будет проклята земля!
Да будут прокляты земные!
Эдемной Славы Бытия
Не понимают рты глазные.
Меня поносят и клеймят
Последней руганью собаке,
Со Мной помойно говорят,
Ютят на кухне в чадном мраке.
Меня из дома прогнали родные
За то, что не работаю нигде.
Помогите эфиры льняные
Прокормиться Вечной Звезде.
У Меня даже нет полотенца,
Чтобы вытереть плотски лицо.
Я Блаженней любого младенца
Пробираюсь сквозь будней кольцо.
Я считаю фунт хлеба за роскошь.
И из чайной беру кипяток.
Одолжить семь копеек попросишь
И поджаришь конинный биток.
Рыдайте и плачьте кто может,
Великий Поэт в нищете.
И голод Его не тревожит,
Он Утаился в Мечте.
Не Надо Мне денежных знаков и службы,
и дружбы на ярмарке будней,
Не Приемлет земного Бессмертное Зодчество,
Духовно Питаясь Единственно Ко́смосным
Звоном Из Ангельских Лютней,
Торжествует Над Богом Мое Одиночество.
Я – До́ма В Звездное Лото
Играю С Наготой.
Не Приходи Ко Мне Никто
На Разговор Пустой.
<1916>
Третье Рождество*
Где только возможно, на всех перекрестках
Я стану кричать о Величьи Своем.
Пусть будет известно на клубных подмостках,
Я Выше Бога Сверкаю Венцом.
Здравствуй улица! Из Космоса приехал
Поэт бессмертия, поправший божество.
Я духом упоен, величием успеха
И в сердце благовест, и Третье Рождество.
Я – Пролетарий
Скитаюся в нищей одежде;
Как Пролетарий,
Я полон грядущей надежды;
Как Пролетарий,
Я занят великой задачей;
Как Пролетарий,
Я занял дворцовые дачи;
Как Пролетарий,
Для королей – зловещая гроза;
Как Пролетарий,
Горят в моей Республике глаза;
Я – Вещий Пролетарий!
Открыл бессмертия глаза,
Вложил в народные уста
Кричать всегда с утра,
С утра, весь день до вечера
И с вечера до полночи, всю ночь
И до утра
Кричать всегда с утра: Ура!!!
Да здравствует коммуна интернационала!
Да здравствует Звездная коммуна – Олимпизм!
Да здравствует Социальная революция
Титанического Пролетариата!
Рабовладельцев она доканала,
Белогвардейцев перехитрила,
Перемудрила декретом свобод
Да здравствует седьмое ноября!
Эй, подымайся, человек,
На новую ступень культуры,
Громлю стихом литературы
Продажный отошедший век.
Эй, просыпайся человек!
Смотри, ударили в набат
Заводы, фабрики и шахты.
Нет императоров на яхте!
Эй, слышишь в молниях раскат.
То льется бой.
Гробовый бой,
Бой громбомбойный:
Тра-ра, ра-ра-ра! Тра-та, та-та-та,
Гром… дзын… бом-бомба… гром-катакомба…
Бом… бомба… пломба!
Тррр… дзын… вдребезги!
… Мы, трудящие народы,
В нас кипящие сердца,
Дышим праздником свободы,
Как сиянием венца.
Разрушаем, грабим, режем,
Жгем, пока не создаем,
Но когда все перережем,
Разгромим и разобьем,
Коль придется, сбросим брюки,
Станем в очередь пороть
Тунеядцев близоруких,
Чтобы леность побороть.
. . . . . . . .
. . . . . . . .
Если надо скинем звезды,
Солнце в камни превратим
Разорим вселенных гнезда,
Снова бездны создадим.
Гармоничней и прелестней
Существующих миров,
Потому, что нашей песней
Коронована любовь,
Гордись, Совдепия, поэтом,
Я всех враждебность победил,
Разбил религии с заветом,
Нерв мироздания претворил
В ладью земли, но с человеком
В гербах серпа и молотка,
Подняться солнцем к звездным рекам,
Пить красным знаменем века!
Да будет всем близка свобода!
Долой земные короли!
Я быть могу вождем народа,
Предсовнаркомом всей земли!
Нет сожаленья, нет пощады
Врагам космической мечты
Сверхчеловеческого взгляда.
Я выше божьей красоты!
Эрадиацию пожара
Раскрыл Олимпов – Красота.
На талисман земного шара
Гляди планетная тщета!
<1922>
Анафема Родителя Мироздания*
КОНСТА. Я, КОНСТАНТИН ОЛИМПОВ,
УТВЕРЖДАЮ, ЧТО ХРИСТОС – ВЕЛИЧАЙШИЙ ГРЕШНИК НА ЗЕМНОМ ШАРЕ.
ПРОКЛЯТЬЕ, ПРОКЛЯТЬЕ, ПРОКЛЯТЬЕ
Я ШЛЮ ИЗУМЛЕННОМУ МИРУ.
Я ПРОКЛЯЛ ХРИСТА ЗА РАСПЯТЬЕ,
ВЗЯВ В РУКИ БЕССМЕРТИЯ ЛИРУ.
ВСЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА – ПОШЛОСТЬ,
ЖЕСТОКОСТЬ, ПРОДАЖНОСТЬ, ГЛУМЛЕНЬЕ;
А БУДУЩНОСТЬ, НЫНЧЕСТЬ И ПРОШЛОСТЬ –
ОТБРОСЫ СМЕРДЯЩЕГО ТЛЕНЬЯ.
ДОСТОЙНО ЛЬ ВНИМАНЬЯ, ДОСТОЙНО ЛЬ СОЧУВСТВИЙ
ЗЕМЛЯ И ПЛАНЕТЫ, СОЗВЕЗДЬЯ, ВСЕЛЕНСТВА
КОГДА Я, ОЛИМПОВ, ГОРДЫНЯ ИСКУССТВА,
СЕБЯ ПРОСЛАВЛЯЮ, СВОЕ СОВЕРШЕНСТВО?!.
<1922>
Георгий Иванов*
Участие Георгия Владимировича Иванова в футуристическом движении относится к самому раннему периоду его творческого пути, оно было недолгим и носило, скорее всего, формальный характер. Под издательской маркой «Едо» в декабре 1911 года вышла первая книга Иванова «Отплытие на о. Цитеру». Был он и членом ректориата «Академии Эгопоэзии». Тем не менее весной 1912 года, откликаясь на предложение Н. Гумилева, Иванов переходит в «Цех поэтов», а в ноябре того же года журнал «Гиперборей» опубликовал письмо, подписанное Ивановым и Грааль-Арельским, в котором, в частности, говорилось: «Кружок „Ego“ продолжает рассылать листки манифеста „Ego-футуристов“, где в списке членов „ректориата“ стоят наши имена. Настоящим доводим до общего сведения, что мы из названного кружка вышли и никакого отношения к нему, а равно и к газете „Петербургский Глашатай“, не имеем»[175].
Позже, весьма скептически оценивая свою «эгофутуристическую» юность, Иванов напишет: «Из моего футуризма ничего не вышло»[176].
Сонет-послание*
Игорю Северянину
Я долго ждал послания от Вас,
Но нет его и я тоской изранен.
Зачем Вы смолкли, Игорь Северянин,
Там в городе, где гам и звон кирас?
Ночь надо мной струит златой экстаз,
Дрожит во мгле неверный лук Дианин…
Ах, мир ночной загадочен и странен,
И кажется, что твердь с землей слилась.
Звучит вдали Шопеновское скерцо,
В томительной разлуке тонет сердце,
Лист падает и близится зима.
Уж нет ни роз, ни ландышей, ни лилий;
Я здесь грущу, и Вы меня забыли…
Пишите же, – я жду от Вас письма!
<1911>
Майская баллада*
Принцесса, больная скарлатиной,
Убежала вечером из спальной
И, склонясь над розовой куртиной,
Прислушивалась к музыке дальной.
Посинел золотистый вечер,
Но трещал еще кузнечик шустрый…
За дворцовыми окнами зажглись свечи
И хрустальные люстры.
И принцессе было странно,
Что болит у нее голова и горло…
Голубые крылья тумана
Наступающая ночь простерла.
И стояла над розовой куртиной
Принцесса, сама не зная,
Больна ли она скарлатиной
Или это шутка Мая.
<1912>
Грааль-Арельский*
Грааль-Арельский (Стефан Стефанович Петров) вошел в «Академию Эгопоэзии» и стал членом ее ректориата в январе 1912 года, одновременно вступив в «Цех поэтов». Этому предшествовали знакомство с И. Северянином и К. Олимповым, немногочисленные публикации в периодике и выход в свет книги «Голубой ажур» (СПб., 1911), которая была замечена критикой. Так, Н. Гумилев, отметив в поэзии Грааль-Арельского влияние И. Эренбурга, И. Северянина и «современных поэтов-экзотиков», упрекнув автора в отсутствии «своего слова, которое необходимо сказать ценой чего бы то ни было и которое одно делает поэта», отметил, однако, «горячность молодости, версификационные способности, вкус и знание современной поэзии»[177]. Влияние Северянина и избыток в «Голубом ажуре» «условно-красивого» отмечал В. Брюсов[178]. А. Блок писал Грааль-Арельскому: «Книжка Ваша (за исключением частностей, особенно псевдонима и заглавия) многим мне близка. Вас мучат также звездные миры, на которые Вы смотрите, и особенно хорошо говорите Вы о звездах»[179]. Хотя Грааль-Арельский и стал автором одной из теоретических работ «Академии Эгопоэзии»[180], членство его в «Академии» было весьма краткосрочным. Совместно с Г. Ивановым весной 1912 года он покинул группу эгофутуристов.
Вторая книга Грааль-Арельского «Летейский берег» (СПб., 1913) стала последним его стихотворным сборником, хотя несколько художественно-фантастических и научно-популярных книг в советское время ему опубликовать удалось.
В 1937 году был арестован. Дата и место смерти не установлены.
В томленьи лунном…*
Сквозь гардины узорные заглянул тихий вечер,
И зажег светом трепетным ваши русые кудри,
Вы сидели у зеркала и мечтали о встрече,
И лицо ваше бледное было в розовой пудре.
Жемчугами толчеными вы посыпали ногти,
И любуясь браслетами и своими ногтями,
Вы не видя подвинули опираясь на локте,
Золотые флакончики с голубыми духами.
Вам казалось, – олунена голубая аллея,
И виконт дожидается у подножия Феба,
А вдали, сквозь акации, чуть заметно алея
Разгорается медленно изумрудное небо.
<1912>
Турнир*
Уронила розу леди Бэти, –
Замерли угрюмые гобои,
Грустный паж в лазоревом берете
Дал сигнал о предстоящем бое.
И на круг въезжают друг за другом
Девять рыцарей Святого Марка,
По стальным, сверкающим кольчугам
Вьются ленты, вышитые ярко.
Сам король бледнеет на балконе,
Вспоминает вечер у куртины…
На его мерцающей короне
Загорелись яркие рубины.
Нет прекрасней Бэти в целом мире!
В честь ее сломают много копий,
И об этом сказочном турнире
Разнесутся вести по Европе.
<1912>
Иван Игнатьев*
«Это был холодный дерзатель. Спокойный, трезвый ум, несомненное понимание поставленных перед собою задач и очень маленький талант», – такую характеристику дал Ивану Васильевичу Игнатьеву (настоящая фамилия – Казанский) В. Шершеневич[181].
До знакомства с И. Северянином в конце 1911 года, то есть до того, как он стал эгофутуристом, Игнатьев печатал во многих периодических изданиях свои стихи, рассказы, театральные рецензии.
Сотрудничая в газетах «Нижегородец» (в 1911–1913 годах) и «Дачница» (в 1912-м), Игнатьев способствовал появлению на страницах этих газет произведений практически всех эгофутуристов; для некоторых это был дебют в литературе. В 1912 году Игнатьев организовал издательство «Петербургский Глашатай», под маркой которого вышло в свет большинство эгофутуристических «эдиций»; тогда же начинает публиковаться одноименная газета (вышло четыре номера).
В начале 1913 года, когда И. Северянин разорвал свои отношения с эгофутуристами, Игнатьев стал главой группы, объявив, что перестала существовать северянинская «интуитивная школа Вселенский Эго-футуризм» и «по инициативе директора „Петербургского Глашатая“ Ивана Игнатьева возникает Эго-Фугуризм в качестве интуитивной ассоциации…»[182]. Изменения действительно произошли: во многом новое лицо эгофутуризма стали определять поэты-радикалы, по своему методу близкие к кубофутуристам, – В. Гнедов и сам Игнатьев. Это отмечал тот же Шершеневич: «Даже странно: всем своим существом Игнатьев был совсем близок к позициям кубофутуристов, а между тем он их ненавидел, в свой журнал не пускал и печатал всякую бесцветную мелюзгу…»[183] Игнатьев же стал и основным теоретиком группы. Кроме статей в альманахах, он выпустил брошюру «Эго-Фугуризм» (СПб., 1913). Единственный поэтический сборник Игнатьева «Эшафот: Эго-футуры» (СПб., 1913, на обложке – 1914) вобрал в себя практически все его эгофутуристические стихи.
В день своей свадьбы 21 января 1914 года Игнатьев неожиданно покончил с собой, перерезав горло бритвой. После его смерти эгофутуризм как организованное движение перестал существовать.
Извечное*
ВАСИЛИСКУ ГНЕДОВУ
Почему Я не арочный сквозь?
Почему плен Судьбы?
Почему не средьмирная Ось,
А Средьмирье Борьбы?
Почему не рождая рожду?..
Умираю живя?
Почему Оживая умру?
Почему Я лишь «я»?
Почему «я» мое – Вечный Гид,
Вечный Гид без Лица?
Почему Безначальность страшит
Бесконечность Конца?
Я не знаю Окружности Ключ
Знаю: кончится Бег,
И тогда я увижу всю Звучь,
И услышу весь Спектр.
Декабрь. 1912
Санкт-Петербург
Всегдай*
Аркадию Бухову
В холоде зноя томительного
Бескрыл экстаз.
Пленюсь Упоительным
В Вечно-последний раз.
Узой своею Таинственному
Я Властелин,
Покорный воинственно,
Множественный один.
Ходим путьми василисковыми
И Он, и Я!..
Далекое-Близкое! –
Я не хочу Тебя!
<1913>
Онан*
Зовет.
Отзывается.
Ярмит.
Жданное.
Нежеланное –
Радостны –
Твои!
Окаянное –
Покаянное
Ласкает
Преданностью смертей!
В державу паяя
Мозг…
. . . . . .
Страшнее и
Сладостнее
Пригвозд!..
<1913>
Мигающее пламя*
Взоры Проклятьем молитвенны.
В отмели чувств
Серые рытвины
Медлительны, как лангуст.
Сердце Бодрю Отчаяньем,
Пью ужас закрыв глаза.
Бесцельно раскаянье –
Тихая гроза.
Жду. Кончаются лестницы –
Неравенства Светлый Знак…
Начертит Какая Кудесница
Новый Зодиак?
<1913>
Opus: 15369*
Зовут грозою Розовых воронок
В трубы Проруб.
А для меня совсем-совсем негромок
Удар Курка в Железный зуб.
Надолго Вынужденному срединнику
Закрыть Пугающий привет ВСЕГО.
И нудны все Соседние пустынники –
Пустынней НИЧЕГО.
Это называется «Метрополитен».
<1913>
Opus: 80447*
Давно покинуто собачье –
Приветствую, Кастраты, вас.
Хотя и вылетаю изредка на моно-таксо в Скачки,
Но больше не ищу Себя, Олега и Лолетту Ас.
Это – «Тренировка».
<1913>
Opus: −45*
н
Величайшая
Е
Рье
умомАс
е
б
е
<1913>
«Я жизнью Жертвую – жИВУ…»*
Я жизнью Жертвую – жИВУ…
Палач бездушный и суровый!
Я все сорву твои оковы –
Я так хочу!
Но я умру, когда разряд
Отклонит Милостивый вестник…
Хочу смертей в Бесчестном кресле!
Хочу! Хочу! Хочу! Я рад!..
<1913>
Opus: −5515*
Почему, почему МЫ обязаны?
Почему НЕЖЕЛАНИЕ – рАБ?
Несвободно свободою связанный,
Я – всего лишь кРАП.
Мне дорог, мил Электрический
Эшафот, Тюрьма.
Метрополитена улыбки Садистические,
Синема Бельмо.
Хочу Неестественности Трагической…
Дайте, пожалуйста, вина!..
<1913>
Opus: + − × :*
Bc. Мейерхольду
Улыбнется Ведьма Элегическая
Шакалом Проспектных снов.
Перебираются на небо вывески Венерические
По плечам Растущих Дворцов.
Обезьянье в капули собрано
И причесан, надушен Дух.
Остаток
Когтей в Перчаттах –
Притаился – Потух.
Расстегните Шокирующую Кнопку
И садитесь в Аэро-кеб.
Я промчу Вас Мудрою Тропкой
В республику Покоренных Амеб.
<1913>
Три погибели*
Я выкую себе совесть из Слоновой кости
И буду дергать её за ниточку, как паяца.
Черные розы вырастут у Позолоченной Злости
И взорвется Подземный Треугольник Лица.
Я Зажгу Вам Все Числа Бесчисленной Мерзости,
Зеленые Сандвичи в Бегающих пенсне.
Разрежьте, ретортами жаля, отверзость и
Раи забудутся от Несущих стен.
<1913>
«Аркан на Вечность накинуть…»*
Аркан на Вечность накинуть
И станет жАЛКОЮ она в РУКЕ.
Смертью Покинутый
Зевнет Судьбе.
Заглянуть в Вентилятор Бесконечности,
Захлопнуть его торопливо ВНОВЬ.
Отдаться Милой беспечности,
Бросив в Снеготаялку Любовь.
<1913>
«Тебя, Сегодняшний Навин…»*
Тебя, Сегодняшний Навин,
Приветствую Я радиодепешей.
Скорей на Марсе Землю Вешай
И фото Бег останови.
Зажги Бензинной зажигалкой
Себе пять Солнц и сорок Лун
И темпом Новым и Нежалким
Завертит Космос свой Валун.
<1913>
Непрестанность*
Влекут далекие маки…
В ненависть толп
Сеем осенние злаки,
И дерзновенной атаки
Возводим довлеющий столп
Для Себя,
Чтобы рушить вожделенно
Неизменный
Миф Бытья.
1913
«Я пойду сегодня туда…»*
Я пойду сегодня туда, где играют веселые вальсы,
И буду плакать, как изломанный Арлекин.
А она подойдет и скажет: – Перестань! Не печалься!
Но и с нею вместе я буду один.
Я в этом саване прощальном
Целую Лица Небылиц
И ухожу дорогой Дальней
Туда к Границе без Границ.
19. XI. 1913
Павел Широков*
Павел Дмитриевич Широков – член «ареопага» «Интуитивной Ассоциации Эго-футуризм», постоянный участник футуристических изданий (в том числе альманахов групп «Мезонин поэзии» и «Центрифуга»). Под издательской маркой эгофутуристической газеты «Петербургский Глашатай». Широков выпустил две книги – «Розы в вине» (СПб., 1912) и «В и Вне: Поэзы. II» (СПб., 1913). Совместная с Василиском Гнедовым «Книга Великих» (СПб., 1914) увидела свет уже после распада эгофутуристической группы. В. Брюсов в своей статье, посвященной футуристам, противопоставлял весьма умеренные новшества поэзии Широкова радикализму кубофутуристов (В. Хлебникова, А. Крученых, В. Маяковского), отмечая, что «за пределами этих крайностей остается кое-что, не лишенное своей ценности как новый прием выразительности в поэзии», и находя в стихотворениях Широкова удачные выражения, «еще не нарушающие резко обычных приемов живописания в поэзии, но все же характерно „футуристические“»[184].
Вечерняя любовь*
В жемчуговом убранстве, в белом шумном муаре,
В крупных и кисейных волнах,
Ты ко мне приплываешь в вечеровом пожаре,
Как Влюбленье, как Ласка, как Страх.
Я от пут истомился, надышался гранитом,
Распылился на атомы грез…
В этом грохоте жизни, в этом блеске завитом
Я тебя выше всех превознес.
Алебастровость тела, не стесненного лифом,
Неподвижен покинутый трэн;
Опьяненье собою, упоение мифом,
И бесстенье свободы средь стен.
Фантазия осеннего заката*
Проходит чуть устало в осенней дымке леса,
Светло раскинув косы и удлиняя тень,
Веселая когда-то – печальная принцесса,
Наивная, как утро и строгая, как тень.
Был лес одет зеле́но и бархател луч пе́стро.
Когда она явилась, улыбки раздаря,
Ей были все так рады, ее ласкали сестры,
Ее встречали песни и ей была заря.
Она царила чутко, приказывала нежно,
Звала, волнуя мысли, любила, как никто…
И, утомясь лениво за день даров небрежных.
Изнегно засыпала на розовом плато.
Но грезила ли долго?.. Но долго ли дарила?..
Она была любимой, но злые грубо вдруг
Разветрили улыбки там, где она царила –
И бедная принцесса теперь идет на юг,
Мох сыро уступает под легкими шагами
И лист вчерашний грязно к ноге ее прилип…
Принцесса, сев устало, над павшими стволами
Вдруг жадно зарыдала, не заглушая всхлип.
<1912>
Весной*
Игорю Северянину
1. Заклятие смехом («О. рассмейтесь, смехачи!..».)
Фиоло колокольчики,
Отрельте-ка весну!
Завейте звуки в кольчики,
Я рифмою плесну.
Подзванивайте, ландыши,
В траве глуши лесной!..
Весна – душа полна души,
Душа полна весной.
Шуми, зеленый листобор!..
Ожурчься, ручеек!..
Ликуйте, все!.. Весенься взор…
Взброди, любви поток…
2
Проснулась жизнь; со всех сторон:
«Весна, весна, весна!»..
И грудь, не зная оборон,
Наплывами тесна!
Весна 1912 г.
Галантерейная поэза*
Сбросил шляпу принц капризник – Вечер,
Небо стало вдруг изсиня – плюшевое
И луна ползет, как глетчер,
Снег муарный серебром опушивая.
Лед не блещет больше перламутром,
Даль задернула завеса тюлевая…
Хорошо проснуться ясным утром,
Видеть солнце в высоте, разгуливая!
Хорошо надеть на ноги лыжи,
Побежать туда, где степь алмазовая…
Но сейчас луна все выше, выше,
Бледным взглядом мне заснуть приказывая.
<1913>
Шепот стальных труб*
Шепчет безумные, безумные песни
Кто-то, забывший, как его зовут;
Стены домов стали отвесней
И одушевленней неподвижных груд.
Кружатся рокочущие толпы под звуки
Среди экипажей; открываются рты дверей;
Тянутся прозрачные, светлые руки
От непрерывного кольца фонарей.
Женщины искусственные лица
Предлагают, их страстью затеня,
Тем, кто сегодня веселится
В улицах, напившихся огня.
Все, что видишь упоенным взором,
Кажется знакомым так давно,
Но непонятным видением, в котором
Бесконечно вдохновения вино.
Я узнаю эти глаза экстазные,
Эти бледные, влюбленные черты –
И в груди моей оживает разное.
Что уронили туда мечты.
<1914>
Да здравствует реклама!*
На улице сквозь ленту рокота
Пронизывается крик, как свет:
– Покупайте поэзы Широкова!
Широков – величайший поэт! –
Да здравствует Реклама! Да здравствует Реклама!
Реклама – двигатель жизни, это знает каждый клерк.
И на земном шаре нет ни дворца, ни храма,
Который бы ее отверг.
Она проникает всюду: попадает в спальни,
Пролезает в карманы, провожает даже гроб,
Нахально оглушая всякого. Будьте же все нахальней
От нее не отстать чтоб!
Вечером в облаках строкою широкою
Буквы из электрического света:
– Покупайте поэзы Широкова,
Великого поэта!
<1914>
Димитрий Крючков*
Димитрий Александрович Крючков вошел в «Интуитивную Ассоциацию Эго-футуризм» и стал членом ее «ареопага» в январе 1913 года. Им были выпущены две книги стихов – «Падун немолчный» (СПб., 1913) и «Цветы ледяные» (СПб., 1914), а также стихотворение-листовка «Прелюдный хорал» ([СПб., 1912]). В 1912–1916 годах множество стихотворений и статей Крючкова появилось на страницах футуристических и нефутуристических альманахов и журналов. Несмотря на ощутимое влияние на его творчество поэзии И. Северянина, он был наиболее «умеренный» из членов «ассоциации». Это позволило И. Эренбургу написать в рецензии на сборник «Падун немолчный»: «Раньше всего следует сказать, что ничего „футуристического“ в этой книге нет, если отбросить несколько неудачных словообразований и обложку, на которой, по заведенному футуристами обычаю, напечатаны стихи. Изредка подражая „резвости“ Игоря Северянина, Крючков скорее питается прошлым, жадно собирая „крохи веры“»[185]. В. Брюсов относил Крючкова к поэтам-«порубежникам» и в книге «Цветы ледяные» увидел «значительные успехи» автора: «От футуристических приемов в его новых стихах мало что осталось <…>. Но в них есть проблески чего-то своего, и если они часто не самостоятельны, то иногда уже звучны и красивы»[186].
После революции Крючков сотрудничал в периодических изданиях в качестве критика и переводчика. В 1923 году был арестован и приговорен к десяти годам заключения; после второго ареста в 1937 году расстрелян.
К. М. Фофанову*
Ликуй, неузнанный предтеча,
Приемли блещущий венец!
Свершится радостная встреча
В дому, где благостен Отец.
Не бойся, загнанное стадо!
Тебе – могущество громов,
Пылает Отчая награда,
Ярем свергается оков.
О славен будь, сверкай предтеча,
Сияй, восторженный гусляр!
Провидел битвы ты пожар –
И пала нам на долю сеча,
Взгляни на радостное вече
И, осенив хитоном чар,
Наш первый освяти удар
Громов грядущего, предтеча!
<1912>
В снегу*
Ослепительная пудреница
Золотой голубокудренницы
Опрокинулась опять!
Снова я, забыв усталости,
В пылких, сумеречных алостях
У подъезда буду ждать.
Надо мной в лугах лазурчатых
Проплывают вдаль ажурчато
Снеговые облака…
В ледяной, холодной прелести
Сколько скрипа, сколько шелеста! –
Звездоносная река.
День как малая жемчужина,
Сердце твердо и остужено,
Сердцу нечего терять.
Ослепительная пудреница
Золотой голубокудренницы
Опрокинулась опять!
24 августа 1913
«Пустыня любит муки…»*
Пустыня любит муки,
Миражит нам глаза,
Рисует там фелуки,
Где желть и бирюза.
И мы кричим устало:
«Гляди – вода, вода!» –
Над нами солнце ало,
И небо, как слюда.
Мы жаждем тьмы и ночи,
Кончины злого дня,
И голос слаб пророчий
От полудня огня.
Идем… В истоме муки
Закрыли мы глаза –
И вот нас мчат фелуки,
Где желть и бирюза.
<1913>
Осенью*
Я твой, опять твой, город осени,
К тебе пришел с полярных скал,
Где смутно-томен запах сосенный,
Где неуемен светлый вал.
Люблю напев твой электрический,
Трамваев жесткую игру
И плеск каналов элегический
И слитный говор ввечеру.
В душе пленительными тундрами
Простерлись яви и мечты,
А в сердце – бой; гремят полундрами
Воспоминания листы.
И до утра готов я алости
И синевы твоих огней
Пить до губительной усталости
В лесу поющих фонарей.
Все мнится сердцу увертюрою
И близок искрящийся снег,
Что кроет нас карикатурою
Звездисто-радующих рек.
<1913>
«Ты одета в ротонду из лучистых снежинок…»*
Ты одета в ротонду из лучистых снежинок.
Пятый час уж минует. Вечер благостно-тих.
И в далекой лазури Кто-то тысячи льдинок
Разбросал так небрежно. Вечер благостно-тих.
Ты подумай, как ночью будет ярко лучиться,
Изумрудами сыпать там вдали океан,
Как над ним будет реять черноокая птица,
Чернокрылая птица – вещедревний баклан.
Ты подумай, как ночью встанет ветхий святитель
Из серебряной раки, как беззвучен и тих
Обойдет он всю тундру, сбережет он обитель
От невидимых ликов, от обиды и лих.
Ты подумай, как ночью, хладноокой громадой,
Льды полярные стынут, чаля к Новой Земле,
Точно сирые дети, голубые номады,
Проплывая, маячат в мерно-зыблемой мгле.
На окне – плач узорный из замерзших слезинок.
Словно я, он капризен, словно стынущий стих.
Ты проходишь в ротонде из лучистых снежинок,
Пятый час уж минует. Вечер благостно-тих.
8/10 – 13
«В радостной хламиде голубого шелка…»*
В радостной хламиде голубого шелка
День подъехал рано к дремлющим полям.
Вкруг него – усмейность, птичий трепет, гам.
Ах, в лучисто-легкой, светлой одноколке
День подъехал рано к дремлющим полям.
И колосья дышат зыбчато и колко,
А над ними веет сень дневного шелка.
День подъехал рано к дремлющим полям.
<1914>
Иван Оредеж*
Оредеж – эгофутуристический псевдоним Ивана Созонтовича Лукаша, впоследствии видного писателя русской эмиграции. Его сотрудничество в футуристических изданиях не было ни продолжительным, ни интенсивным, ни особо плодотворным. Единичные его произведения (в основном – прозаические) были напечатаны в газетах «Дачница» и «Петербургский Глашатай», а также в альманахах «Оранжевая урна» и «Стеклянные цепи» (оба – СПб., 1912). Работал репортером. В 1915 году ушел добровольцем на фронт. В 1918–1919 годах служил офицером в белой Добровольческой армии. С 1920 года в эмиграции, где стал известен как прозаик.
Я славлю!*
Закованные в железо и медь легионы императора Цезаря,
ткань истлевших знамен старой гвардии,
артиллерийский снаряд,
свист пуль, дробящих черепа и вырывающих мясо,
я славлю.
Траурный гимн полунощной заутрени,
тихий звон шага под сводом собора,
запах ладана от риз парчовых,
молитвенно-шумные вздохи органа,
и трепетанье светлых хоругвей с женственным ликом Христа
славлю я.
Нож, с размаха разящий быка в дымном смраде
зал скотобойни – я славлю.
Тореадора, сорвавшего в агонии жемчуговое шитье своей куртки,
груду кровавых, подернутых паром, кишок на арене
и черного, с розовой пеной у рта, быка,
быка, несущего смерть на конце крученого рога –
я славлю.
Землю, брошенную гигантскими пальцами, как мяч в голубой провал вселенной
и грохот движения круглых планет, –
славлю я.
Милую ласточку, мелькнувшую изящной тенью
под белым и сонным в сумерках озером,
Легкий девичий след на снегу, –
славлю я.
Душное дыханье орхидей и нарциссов,
Пламень ароматных желтых свечей черной мессы,
Воспаленные губы, укус
и сцепленный поток тел сплетенных
я славлю.
Тихую Христову рабыню, приносящую каждое утро
полевые маргаритки и мирты к престолу Девы Марии, –
я славлю.
Я славлю Галла, жилистым кулаком разбившего мраморную герму.
Волчью стаю бледных и безумных поджигателей храмов,
музеев и фабрик – я славлю.
Пыльную тишину переулков старого города,
монету старинную,
мертвый шелк бледной робы,
старинную книгу с застежками и
с гравюрами на шершавой бумаге
и пудреную пастораль –
я славлю!
<1912>
Павел Кокорин*
Павел Михайлович Кокорин формально не был членом группы эгофутуристов. Личное знакомство с К. Олимповым и И. Северянином, влияние Северянина (хотя и очень умеренное) на последнюю из четырех выпущенных Кокориным книг – «Музыка рифм: Поэзо-пьесы» (СПб., 1913), публикация одного стихотворения в альманахе «Орлы над пропастью» и нескольких – в газете «Нижегородец» – это едва ли не все, что связывает приехавшего в Санкт-Петербург из Тверской губернии поэта-самоучку со столичными эгофутуристами. О. Мандельштам, рецензируя «Музыку рифм», писал, что в стихах Кокорина «напряженная серьезность мысли и слова странно не гармонирует с наивно футуристической внешностью». «Книжка Кокорина, – пишет далее Мандельштам, – очень народна, без всякой кумачности и в то же время утонченна, несмотря на ряд грубых промахов от неумелости и наивности автора»[187].
После 1914 года Кокорин не публиковался.
Утреннее стихотворение*
Бог утр, Строг-мудр, мил нам свил храм.
<1913>
В путь-дорогу*
Конь
Тих,
Тронь
Лих,
Тронь
Чуть,
Конь –
В путь.
Мои
Друг,
Гой
В луг,
Гой,
В степь
Мой
Вепрь.
В сок
Трав
Скок
Правь,
Скок –
Лет
В сок
Мед.
Там,
Здесь –
Сам
Взвесь;
Сам
Знай:
Там
Рай!
<1913>
Осень*
Бросим
Шутки, –
Осень…
Жутко!
Слышу:
В крышу
Дождик
Божий
Часто
Бьется,
Связь-то
Гнется…
Пляска,
Тряска,
Охи,
Вздохи…
Свищет
Ветер, –
Ищет –
Встретил:
Всхлипы
Липы,
Слезы
Брезы…
Пали
Ивы –
Встали
Кривы…
Пляшет,
Машет,
Кружит,
Крушит…
Тошно,
Пусто,
Страшно,
Грустно!
Осень…
Бросим
Шутки,
Жутко!
<1913>
Василиск Гнедов*
«Личность хмурая и безнадежная, нисколько не эго-поэт, в сущности переодетый Крученых, тайный кубофутурист, бурлюкист, ничем и никак не связанный с традициями эго-поэзии», – так охарактеризовал Василиска (Василия Ивановича) Гнедова К. Чуковский[188]. Действительно, приехавший в Петербург в конце 1912 года молодой поэт мало походил на приверженца северянинской школы. Он принадлежал ко второму этапу эгофутуризма и здесь отличался крайним экспериментаторством.
В 1913 году Гнедов – самый активный и самый известный поэт «Интуитивной Ассоциации Эго-футуризм». Он участник четырех эгофу-туристических альманахов (один из них – «Небокопы» (СПб., 1913) – больше чем наполовину состоял из произведений Гнедова). Тогда же он опубликовал две книги – «Гостинец сентиментам» и «Смерть искусству: пятнадцать (15) поэм» (обе: СПб., 1913). О первой С. Городецкий писал: «Как отдыхает ум и сердце на этой беспритязательной чепухе! Кажется, что погружаешься в сферу чистого идиотизма…»[189] Второй сборник включал самое знаменитое произведение Гнедова, ставшее его своеобразной визитной карточкой, – «Поэму Конца». В следующем году Гнедов выпускает совместную с П. Широковым «Книгу Великих» (СПб., 1914), печатается в «центрифуговском» альманахе «Руконог» (М., 1914). В сборнике «Грамоты и декларации русских футуристов» (СПб., 1914) появляется его трактат «Глас о согласе и злогласе». Наметилась тенденция сближения Гнедова с кубофутуристами. Б. Лившиц вспоминал: «В связи с присоединением к нам Северянина поднялся вопрос о включении в нашу группу и Василиска Гнедова: среди эгофутуристов он был белой вороной и неоднократно выражал желание перейти в наш лагерь»[190]. Однако этого не произошло.
Футуристическая активность Гнедова ненадолго возобновилась в 191?-1918 годах и проявилась в совместных выступлениях с другими футуристами (В. Каменским, В. Маяковским), участии в футуристических изданиях (Временник. № 4. М., 1917; Газета футуристов. 1918. № 1). В это же время он был включен В. Хлебниковым в «Общество Председателей Земного Шара».
Впоследствии Гнедов от литературы отошел, но стихи писать не перестал (образцы его поздней поэзии были опубликованы С. Сигеем в кн.: Гнедов В. Собрание стихотворений. Trento, 1992).
Триолет…*
Для вас, неги южного неба,
Слагаю я гимны при вьюге… –
«…Там ярко пылали колеса у Феба
Для вас – неги южного неба…»
На севере вы для меня эхо неба,
Как были вы небом на юге… –
«…Там ярко пылали колеса у Феба
Для вас, – неги южного неба…»
<1913>
Летана*
И. В. Игнатьеву
Уверха́ю лёто на мура́вой,
Крыло уверхаю по зеленке.
Сторожую Лёто-дом горавый…
Дерзо под рукой каленки…
Лёто-дом сторожкий, ча́сый –
Круговид – не сной глаз –
Пеленит пеленко газой,
Цветой соной Летка нас…
Уверхаю лёто! Крыло уверхаю!..
<1913>
Козий слащ*
Ко́зой вымной молочки
Даровили хозяям луга!
Луга-га!
Луга-га!
Лугой зели стеблочки
Коренили захвато бега!
Бега-га!
Бега-га!
Ко́зый, сладый медик
Кружо выпенил клик!
Клик! О!
Клик!
Скачок тоски – победа Огне-Лавы*
Берет Меня Тоска – несет на выси скал,
Кружит по тьме долин – кладет на дно пустынь.
Люблю Тоску – несуся с Ней – дрожу дыханкой ветра.
Стремлюсь по воле Вниз…
Несусь, бегу в Воронку Смерти – рождаю Нить Забвенья…
И Все Один, и Все Тоска – Клубок равнины Смерти…
Бегун-Тоска, как Свет кипуч;
Родит Тоска Малютку –
Малютка – Он разрыв сердец – невольник Огне-Лавы –
Тоска-Бегун разрыв сердец…
Копайся в Круге Счастья…
Забвенье Все. – Один на дне, кручусь на круче Бездны…
Дохнет Колдун – убьет Тоску – Я стану на Верши –
Взгляну кругом – скреплю Кольцо – закрою Огне-Лаву…
Сверкну Глазком – Бегун бегит – Зайдет под щель Ненастья
Бегу – ищу Я Подвиг Сил – Горю в Ненастьи Счастья –
Долой с Верши, – Конь стоит – грызет удила Вихря –
Копытом бьет помост Один,
Горит огнинно Грива…
Траву спалит – огнем горит и дышет Огнелаво.
Кружись, гонись – бей бубно…
Нашел Коня – Скалу обнял –
Скачи вперед – Глаза закрой –
Несется Вихрь, кружится Рой –
Что было – не вернется…
Скачи на Верх – глаза закрой – пропасти не видеть –
Заткни Мешок – прошло и не вернется…
Трубой Крутой лизнет в Тоске – Забавно засмеется…
Вихри Коня – вперед – в Горах Сияет Голубящий –
Корон толпы кишат Гурьбой – Зазноба там и Счастье…
Конь! Конь! – Златокопыток!
Плыви скорей, неси к Гурьбе – Покройся Голубящим…
Унесть Меня в Чудесный – Конь может без Обмана…
К Святой Горе, к Зазнобе Душ – в толпу Корон поющих…
Корми Коня, попоной крой – внесусь с сияньем в Рой…
И там ли свят владыка голубящий?..
Забуду Я в горах-долах Малютку Огне-Лаву –
Упьюсь Мечтой – слезою Голубою – раскрою Зонт, где Скорбь Страстей…
Скачу, скачу дождем из туч… Златокопытко!
Что дам тебе за Бег святой –
Времен улыбки сладость –
Овес с Горы – Златоконюшни…
К Горе! К Горе! Горю на Ней с Конем своим Летучим…
Огонь в Груди зажжен Горой –
Конь ржет Трубой Последуй…
Открылась Синь – Стою… Мерцаю Славой –
В глуби огонь долин блестит святыми светяками…
Грудь полна – у ног Гора – и Конь еще цветущий…
Как длинен Путь – как мигом промелькнуто…
С Конем таким не страшен –,
Всегда с Горы посмотришь – …
Гора Поет – Зигзаг Гремит – Царящий здесь – у Ног Весь Мир,
Звезда внизу в долине…
Стою – не Мру – Копыта целы – Коня треплю рукою свято…
Вверху Зигзаг – Маяк в Руке…
Стою… стою вверху… Царю!
<1913>
Придорогая думь*
Ах! дуб – белый – белый –
Властник гигантый Верши –
Куст передумки-свирели –
Звон захваткой пляши…
Ли́стник в Голубку закрапан –
Небо в листни́к вполоснуто…
Эх! Дубы́-беляки, ржавленки-дубцы,
Дикие вети-гудцы…
Ах! Дуб – белый – белый
Куст придорогой свирели…
<1913>
Муравая*
Крик…
Блик…
Да двадцать улик…
Тра́вой отравой –
Зеленко-мура́вой…
<1913>
На возле бал*
Слезетеки невеселий заплакучились на Текивой,
Борзо гагали веселям – березячьям охотеи –
Веселочьем сыпало перебродое Грохло
Голоса двоенились на двадцать кричаков –
Засолнкло на развитой листяге –
Обхвачена целовами бьетая ненасыта, –
И Вы понимаете ли в этом что-нибудь:
Слезетеки эта – плакуха – извольте – Крыса…
<1913>
Маршегробая пенька моя на мне*
Крылобрат! Водопад! Разгули звери дно! Раскинжаль на Планеты два Сердца! Сердце в Гробу – Сонячко Сердце на гробе. Я блескаю Гробам! Столоку Виноград! Разрыдавлю Все Горы сквозь полночь… Где полосят ущелье гробое… Я и правдить хочу – и на Стон залетнуть – целовать Бирюзу – крокодилить в Гробу – проглотать Троглодит – пусть не будет Стези – я Стезя – Я свой гроб – Я и марши маршу – на плечах Я свой Гроб и себя уношу. – Я свой Гроб и Себя осклепляю в траве, разношу по кустьям – и обглодки божу… Запишу на скалах белых написей Рок: «Здесь лежит», «Здесь лежит»: «Белый Я» – «Кровь моя». Впалачу: «Сожалей» под людские Сердца… Законю на Скалой полосато Мечо: «Не ходите к Мечу» – на Горе закричу – «Положайте Сердца на Доланах!».. На Долистых Доланах кишинеть станет Мир – поставлять под Мечаку Калину… Как Калина Кровка, – Мечает Мечак… Выклоняются Горы в наклоне – Я мечи золочу над Смеянкой лечу – и мечу хохочу, крик ломчу… Две зверяные клетки висут на руках – Столокнилось ба горе счастье. Два полгоря и счастья расшиблись на клетки, клеть одья побежала в могилу, другая на выши рыдачить. Дерзачай Крапива! – Гром затворчу – усну…
<1913>
Свирельга*
Ги! Поэт белоснегий – раскрыленка неяроча сна,
Распоясаны Лебедь – беззадорка задорка
Крашень… Колеса расцветенная спица, – вертовертаный дно небоклон…
Переезжил на Дачу Зимую – переканчивал лес еляки…
Подводовил ГуашоЧиненки – на встрети губы локал.
Назовлял я тебя дрога-дрога – рукой еловито люблял.
Ты томнялся Синевоче Горой – не чаял – не чаял –
Передольчу к тебе ли на Дачу, – буду ласками лгать…
Переехала Кошка на Дачу – загорелся сыр-бор – пустяки,
Снопы долинато плескали – репейник поджалал камыш.
Кругопляш развинтяли колеса – в небе Белка подвышала картон…
Эва! Милостивые Государи – скажите – в котором ухе у меня звенит камертон…
Грудь верблюдкой твоя застонила.
Стоноем заводил Караван – две Пустыни сошлись в поцелуе.
Лебедовик плескался в диван…
Уверхи златопляшу полую – диван под Горою стонал.
Ты Поэт белоснежий,
Раскрывое жало у Пежи…
Стоноемно тебя целовчал…
<1913>
Хитрая Мораль*
Ну-такънапасмурено-напайсмурено –
доПчелойНевозможни.
ВыросъзелкийЯвронагранитойпроходи…
ЦветыпострекоталиплеснулиЗонты
кудряво-звончалъвечерийсвистунъй…
воротилосьполержи-заперепелила
мохаяпостельплитасвалиласьна
прошло… Звездонеумирало…
ОдномалоеПискалоещебегала-ноги
скороподрезяуяь…
УненастояшныЛицорастаетъ –
мокрыебеглякиуворокнутъгладь…
Причинаизвестна-Ненастоящее…
Негодыйрепейнецарапитъ-ЕстьиглаГрома
иВоронънеперекаркаетъГромъЗавтра…
ПрибегутъЛисицы-умилеются-поклоны
Вашимъ-Нашимъзасуетятъ-хлопни
полысине-заблагодарять-совестьне
рвется-можетесъудобоюрастягивать –
закускаприятая-медякъопозолотый.
УкроваСмертиотъЛисицънесшить –
ОстанешьсъЗолотойНаплеве…иголовыми
ПольмиСнега…
УгрядайЛисицыпочуютъдобытьзаследятьй.
1999 г. по P. X.
<1913>
Первовеликодрама*
действОиль∞
лицОиль∞
времядленьяОиль∞
беляьтавилючиъмохаиодроби
сычякаьяпульсмиляетъьгадай
оснахъповеликайьустыизъосами
одназамотыноодноичепраком
устыеустыпомешасидит
извилоизъдоъмкипооянетяликъ
ивотънасукуположоистукайькосмато
завивайЗавиьвайпроносоияуайайнемоьй
стоьйиспогьнетзалежутънасваяьхдупи
Овотгдерослоьймореплавосива
происходитъ безъ помощи бездарей
Станиславских прочи
38687 г. по Р. X.
<1913>
«Слезжит рябидии труньга сно…»*
Слезжит рябидии труньга сно –
Коневама усмешки подтишок,
Да замолчите же нечисти ругты –
Глазами выкрасил подол мозга,
Зверями ястребло пьяны гага –
Сквозь солнце плещется моя нога.
Съезжает с кручи костыль средины
Нечаят желтый скачков вихры,
За хвост нырнула игры кладбище
Кобылья проседь стучит виски
Гормай у сланца щипцы съедая
И горы руки подняли продн.
Крылошко бытюшка камешек горя –
Ябеда радугу глаза,
Вынырник пальца стального
По морю вскочит в рукав
Ягода стражи не больно
Еду на чёрствых буграх.
<1913>
Смерть искусству*
Поэма 1
Полынчается – Пепелье Душу.
Поэма 2
Бубчиги Козлевая – Сиреня. Скрымь Солнца.
Поэма 3
Разломчено – Просторечевье… Мхи-Звукопас.
Поэма 4
Затумло-Свирельжит. Распростите.
Поэма 5
Пойму – поиму – возьмите Душу.
Поэма 6
Сом! – а – ви – ка. Сомка! – а – виль – до.
Поэма 7
Кудрени – Вышлая Мораль.
Поэма 8
Сереброй Нить – Коромысля. Брови.
Поэма 9
Буба. Буба. Буба.
Поэма 10
Убезкраю.
Поэма 11
У –
Поэма 12
Моему Братцу 8 лет. – Петруша.
Поэма 13
Издеват.
Поэма 14
Ю.
Азбука вступающим*
Посолнцезеленуолешьтоскло
перепелусатошершавит
Осиянноеосипоносит
Красносерпопроткнувшемужаба
Кудролещеберезевеньспойь
переспойулетилосолнцемъ
Нассчитаютъдураками
амыдуракилучшеумныхъ.
1913 г. по P. X.
Поэма начала*
О, меч Ваш сладок, Павел Широков.
Темнота родит звезды,
Звезды родят тишину.
Месяц рождается в сказке,
Сказки – томи любви.
Откуда ж белый ветер родится?
Из сказок? –
Может, из сказок;
Может, из белых ночей;
Может, из белого тела;
Может, из томных очей.
Все так и реет,
Все так и веет,
Все так и сеет,
Белое все:
Белое счастье, белый восторг,
Белое – белое – часто былое…
Радость несу и бело – былого,
Белое лью и белым смотрю –
И душу, и радость свою обеляю.
Мой восторг, радость, мой белый чертог –
Твое белое тело, а я – покрывало;
Приникнем, и белое будет для нас покрывало –
Не саван, а белый покров…
Ивы смотрели – плакали ивы,
Горы взглянули – в счастьи уснули,
Месяц по сказке поплыл.
Я, ненаглядная, радость бескрылую
Тихо на грудь тебе перелью.
О волны мои сарафаном овитые,
Океан полевых маргариток.
Вихревой аромат обнаженной сирени!
А тебя для меня обнажил белый ветер,
Обнажил, положил, аксамитом укрыл.
Ты у меня лежишь на белых березках,
Твой поцелуй растаял над лесом:
Белый медведь целуется с белым ветром.
Мы нитку порвали и сеть вышиваем…
Свяжем нитку,
Как белый ветер вяжет волосы Наши!
<1914>
Ерошино*
Не зная устали
Лишь зная стали
Грибы рогатины в зубах взрастали
Ржавели палубы
Гора коты в ногах
И бор развесисто
Упрямо в поле
На нашем просвисте
Туманов драхма
Ялик зазвякал
Упала птаха
Сколько на нос полагается дроби
Выкушай смерти и сердце попробуй
Вот и гора вот и пригорок
На слюне через рты
Протащился опорок
Швах! швах! ударились о небо тучи
<1914>
«Бросьте мне лапу скорее коготь и вшей увяданье…»*
Бросьте мне лапу скорее коготь и вшей увяданье
Ткнусь как на поле гаданье
Возле на посох долины
Кроме не выжевать сказок
Ты покровитель подвязок
Сломишь бедро поцелуем
Брови подгадишь и всуе
Надо рыбачьи потуги – войлок повесить на шею
Ябеду выгнать на паство
Хворост в руке выше Ноя
Взять поиграть вышиною
Веки лаптями обвешать
Глаз промочить через солнце
Реки меж ног процедить
Белые великий карманщик
Скоро ли зубы украдешь
Мелом намажешь весь череп
Выбежал лес из затылка
Дреколом махал и горбился
Пусть пропадает черствеет
Горе лягнуть не успеет
В горсть прибегают уморы
Из белого синего моря
Карачено осени скачут
Ды – косолапой лягушке
Дольш не сидеть на макушке
<1914>
«Выступают жаворонки ладно…»*
Выступают жаворонки ладно
Обратив коготья пухирядна
Преподав урок чужих законов
Ковылятся лоном кони
Когтем сжимая сонце
Положив язык на грани.
Может был проездом на Уране
А теперь петля кобыле
Были ноги было сердце
Были.
<1918>
«Мезонин поэзии»
Вадим Шершеневич*
Творческий путь Вадима Габриэлевича Шершеневича можно разделить на четыре периода. Первые три поэт сам определил в книге своих воспоминаний «Великолепный очевидец» как «Символизм», «Футуризм» и «Имажинизм», а четвертый, после выхода его книги с характерным названием «Итак итог», вынужденно связан лишь с переводческой деятельностью и написанием мемуаров, которые при жизни автора опубликованы не были.
Первая книга Шершеневича «Весенние проталинки» ([М], 1911) была создана под влиянием «старших» символистов К. Бальмонта и особенно В. Брюсова, которого Шершеневич считал своим учителем. Вторая книга – «Carmina: Лирика. (1911–1912). Кн. 1» (М., 1913) – ориентирована больше на поэзию А. Блока. Н. Гумилев писал о «прекрасном впечатлении» от этой книги и одновременно называл Шершеневича «учеником Александра Блока, иногда более покорным, чем это хотелось бы видеть»[191].
И став футуристом, Шершеневич неоднократно менял свою позицию.
Первоначально он сблизился с петербургскими эгофутуристами. И. Северянин оказал на Шершеневича сильное влияние, а И. Игнатьев привлек его к сотрудничеству в газете «Нижегородец», неофициальном органе эгофутуризма. «Поэзы» Шершеневича печатаются в альманахах «Засахаре кры», «Бей! но выслушай» (оба – СПб., 1913) и других. Эгофутуристическое издательство «Петербургский Глашатай» выпустило третий его стихотворный сборник – «Романтическая пудра» (СПб., 1913).
Летом 1913 года в Москве Шершеневич организовал издательство «Мезонин поэзии», вокруг которого сформировалась одноименная группа. Издательство выпустило три альманаха – «Вернисаж», «Пир во время чумы» и «Крематорий здравомыслия» (все – М., 1913), а также несколько персональных сборников, в том числе книгу Шершеневича «Экстравагантные флаконы» (М., 1913).
Шершеневич в футуризме претендовал на роль лидера и главного теоретика. Он выпустил книжку «Футуризм без маски» (М., 1914), вступал в полемику с другими группами и пытался дать свою трактовку футуризма, выдвигая понятие «слово-образ».
«Мезонин поэзии» просуществовал недолго, до весны 1914 года. В это время произошло кратковременное сближение Шершеневича с кубофутуристами. Он принял участие в «Первом журнале русских футуристов», состоявшем в основном из произведений «гилейцев». Подготавливая, по стечению обстоятельств, журнал к печати, Шершеневич без ведома редакции внес существенные изменения в его состав. Д. Бурлюк писал по этому поводу Б. Лившицу: «Очень жаль, что ты не живешь в Москве. Пришлось печатание поручить Шершеневичу и – мальчишеское самолюбие! – № 1–2 журнала вышел вздор!..»[192]
Сильно отличался Шершеневич от соратников по движению во взгляде на итальянский футуризм. Он перевел манифесты и некоторые стихотворные и прозаические произведения Ф. Т. Маринетти, встречал его в Москве в январе 1914 года и фактически солидаризировался с ним.
Итог футуристическому периоду в творчестве Шершеневича подвела книга «Автомобилья поступь: Лирика. (1913–1915)» (М., 1916). Рецензируя ее, Вл. Ходасевич писал: «Нам <…> кажется, что и в футуризме Шершеневич – только гость, что со временем он будет вспоминать „свой“ футуризм как один из экспериментов – не более»[193].
И действительно, вскоре Шершеневич стал инициатором нового направления в русской поэзии – имажинизма, при этом считая, что создает его «на обломках футуризма». «Футуризм умер потому, – писал он, – что таил в себе нечто более обширное, чем он сам, а именно имажионизм»[194].
«Толпа гудела, как трамвайная проволока…»*
Толпа гудела, как трамвайная проволока,
И небо вогнуто, как абажур…
Луна просвечивала сквозь облако,
Как женская ножка сквозь модный ажур.
И в заплеванном сквере среди фейерверка
Зазывов и фраз, экстазов и поз –
Голая женщина скорбно померкла,
Встав на скамейку в перчатках из роз.
И толпа хихикала, в смехе разменивая
Жестокую боль и упреки – а там
– У ног – копошилась девочка сиреневая
И слезы, как рифмы, текли по щекам.
И когда хотела женщина доверчивая
Из грудей отвислых выжать молоко –
Кровь выступала, на теле расчерчивая
Красный узор в стиле рококо.
<1913>
Руки луна уронила –
Два голубые луча.
(Вечер задумчив и ясен!)
Ах, над моею могилой
Тонкий, игрушечный ясень
Теплится, словно свеча.
Грустно лежу я во мраке,
Замкнут в себе, как сонет…
(Ласкова плесени зелень!)
Черви ползут из расщелин,
Будто с гвоздикой во фраке
Гости на званый обед.
<1913>
И. В. Игнатьеву
Обращайтесь с поэзами, как со светскими дамами,
В них влюбляйтесь, любите, преклоняйтесь с мольбами,
Не смущайте их души безнадежными драмами
Но зажгите остротами в глазах у них пламя.
Нарумяньте им щеки, подведите мечтательно
Темно-синие брови, замерев в комплименте,
Уверяйте их страстно, что они обаятельны
И, на бал выезжая, их в шелка вы оденьте.
Разлучите с обычною одеждою скучною
В jupe-culotte[197] нарядите и как будто в браслеты
Облеките их руки нежно рифмой воздушною
И в прическу искусную воткните эгреты.
Если скучно возиться Вам, друзья, с ритмометрами,
С метрономами глупыми, с корсетами всеми –
На кокотке оставив туфли с белыми гетрами,
Вы бесчинствуйте с нею среди зал Академий.
<1913>
Тост*
<1913>
Москва
Интуитта*
Княгине М. У.
Мы были вдвоем, княгиня гордая!
(Ах, как многоуютно болтать вечерами!)
Следили за нами третий и четвертая
И беспокой овладевал нами.
К вам ужасно подходит Ваш сан сиятельный;
Особенно, когда Вы улыбаетесь строго!
На мне отражалась, как на бумаге промокательной,
Ваша свеженаписанная тревога.
Мне пить захотелось и с гримаскою бальной
Вы мне предложили влажные губы…
И страсть немедленно перешла в атаку нахальную
И забила в барабан, загремела в трубы.
И под эту надменную военную музыку
Я представил, что будет лет через триста.
Я буду в ночь узкую, тусклую
Ваше имя составлять из звездных листьев.
Ах, лимоном не смоете поцелуев гаера!
Никогда не умру! И, как Вечный Жид,
Моя интуитта с огнекрасного аэро
Упадет вам на сердце и в нем задрожит.
<1913>
Москва
«Вы не думайте, что сердцем-кодаком…»*
«Фотографирует сердце».
Вы не думайте, что сердцем-кодаком
Канканирующую секунду запечатлеете!..
Это вечность подстригла свою бороду
И зазывит на поломанной флейте.
Ленты губ в призывчатом далеке…
Мы – вневременные – уйдемте!
У нас гирлянды шарлатаний в руке,
Их ли бросить кричащему в омуте?!
Мы заборы новаторством рубим!
Ах как ласково новую весть нести…
Перед нами памятник-кубик,
Завешенный полотняной неизвестностью.
Но поймите – я верю – мы движемся
По проспектам электронервным.
Вы шуты! Ах, я в рыжем сам!
Ах, мы все равны!
Возвратите объедки памяти!
Я к памятнику хочу!.. Пустите!
Там весть об истеричном Гамлете
(Моем друге) стоит на граните.
Ломайте и рвите, клоуны, завесы,
Если уверены, что под ними принц!..
Топчут душу взъяренные аписы!
Я один… Я маленький… Я мизинец!..
<1913>
«Благовест кувыркнулся басовыми гроздьями…»*
Благовест кувыркнулся басовыми гроздьями;
Будто лунатики, побрели звуки тоненькие.
Небо старое, обрюзгшее, с проседью,
Угрюмо глядело на земные хроники.
Вы меня испугали взглядом растрепанным,
Говорившим: маски и Пасха.
Укушенный взором неистово-злобным,
Я душу вытер от радости насухо.
Ветер взметал с неосторожной улицы
Пыль, как пудру с лица кокотки.
Довольно! Не буду, не хочу прогуливаться!
Тоска подбирается осторожнее жулика…
С небоскребов свисают отсыревшие бородки.
Звуки переполненные падают навзничь, но я
Испуганно держусь за юбку судьбы.
Авто прорывают секунды праздничные,
Трамваи дико встают на дыбы.
<1913>
Москва
Землетрясение*
Небоскребы трясутся и в хохоте валятся
На улицы, прошитые каменными вышивками.
Чьи-то невидимые игривые пальцы
Щекочут землю под мышками.
Набережные протягивают виадуки железные,
Секунды проносятся в сумасшедшем карьере –
Уставшие, взмыленные – и взрывы внезапно обрезанные
Красноречивят о пароксизме истерик.
Раскрываются могилы и, как рвота, вываливаются
Оттуда полусгнившие трупы и кости,
Оживают скелеты под стихийными пальцами,
А небо громами вбивает в асфальты гвозди.
С грозовых монопланов падают на землю,
Перевертываясь в воздухе, молнии и пожары.
Скрестярукий любуется на безобразие,
Угрюмо застыв, Дьявол сухопарый.
<1913>
Москва
«Вы вчера мне вставили луну в петлицу…»*
Вы вчера мне вставили луну в петлицу,
Оборвав предварительно пару увядших лучей,
И несколько лунных ресниц у
Меня зажелтело на плече.
Мысли спрыгнули с мозговых блокнотов.
Кокетничая со страстью, плыву к
Радости, и душа, прорвавшись на верхних нотах
Плеснула в завтра серный звук.
Время прокашляло искренно и хрипло…
Кривляясь, кричала и, крича, с
Отчаяньем чувственность к сердцу прилипла
И, точно пробка, из вечности выскочил час.
Восторг мернобулькавший жадно выпит…
Кутаю душу в меховое пальто.
Как-то пристально бросились Вы под
Пневматические груди авто.
<1913>
Москва
«В рукавицу извощика серебряную каплю пролил…»*
В рукавицу извощика серебряную каплю пролил,
Взлифтился, отпер дверь легко…
В потерянной комнате пахло молью
И полночь скакала в черном трико.
Сквозь глаза пьяной комнаты, игрив и юродив
Втягивался нервный лунный тик,
А на гениальном диване – прямо напротив
Меня – хохотал в белье мой двойник.
И Вы, разбухшая, пухлая, разрыхленная,
Обнимали мой вариант костяной.
Я руками взял Ваше сердце выхоленное,
Исцарапал его ревностью стальной.
И, вместе с двойником, фейерверя тосты,
Вашу любовь до утра грызли мы
Досыта, досыта, досыта
Запивая шипучею мыслью.
А когда солнце на моторе резком
Уверенно выиграло главный приз –
Мой двойник вполз в меня, потрескивая,
И тяжелою массою бухнулся вниз.
<1913>
Москва
Сломанные рифмы*
Пишу и из каждой буквы,
Особенно из экзотичной,
Под странный стук
Вылезает карлик анемичный.
В руке у него фиалки,
А в другой перочинный ножик.
Он смеяться устал,
Кивая зигзагом ножек.
Мне грудь разрежет до сердца,
Захохочет, вложит цветочек
И снова исчезнет в ер,
Цепляясь за округлость точек.
Миленький мой, опрометчивый!
Вы, я знаю, ужасно устали!
Но ведь я поэт –
Чего же Вы ждали?
4. V. 1913.
«Полсумрак вздрагивал…»*
Полсумрак вздрагивал. Фонари световыми топорами
Разрубали городскую тьму на улицы гулкие.
Как щепки, под неслышными ударами
Отлетали маленькие переулки.
Громоздились друг на друга стоэтажные вымыслы.
Город пролил крики, визги, гульные брызги.
Вздыбились моторы и душу вынесли
Пьяную от шума, как от стакана виски.
Электрические черти в черепе развесили
Веселые когда-то суеверия – теперь трупы;
И ко мне, забронированному позой Цезаря,
Подкрадывается город с кинжалом Брута.
25 сентября 1913
Москва
Вьюга*
Улицы декольтированные в снежном балете…
Забеременели огнями животы витрин,
А у меня из ушей выползают дети,
И с крыш слетают ноги балерин.
Все прошлое возвращается на бумеранге,
Дни в шеренге делают на караул; ки –
вая спиной, надеваю мешковатый комод на ноги
И шепотом бегаю в причесывающемся переулке.
Мне тоже хочется надеть необъятное
Пенсне, что на вывеске через улицу тянет вздрог,
Оскалить свой пронзительный взгляд, но я
Флегматично кушаю снежный зевок.
А рекламные пошлости кажут сторожие
С этажей и пассажей, вдруг обезволясь;
Я кричу исключительно, и капают прохожие
Из подъездов на тротуарную скользь.
Так пойдемте же тыкать расплюснутые морды
В шатучую манну и в завтрашнее «нельзя»,
И сыпать глаза за декольте циничного города,
Шальными руками по юбкам железным скользя!
<1914>
«Я не буду Вас компрометировать…»*
Я не буду Вас компрометировать дешевыми объедками цветочными,
А из уличных тротуаров сошью Вам платье,
Перетяну Вашу талью мостами прочными,
А эгретом будет труба на железном накате.
Электричеством вытку Вашу походку и улыбки,
Вверну в Ваши слова лампы в сто двадцать свеч,
А в глазах пусть заплещутся золотые рыбки,
И рекламы скользнут с провалившихся плеч.
А город в зимнем белом трико захохочет
И бросит вам в спину куски ресторанных меню,
И во рту моем закопошатся ломти непрожеванной ночи,
И я каракатицей по вашим губам просеменю.
А вы, нанизывая витрины на пальцы,
Обнаглевших трамваев двухэтажные звонки
Перецелуете, глядя, как валятся, валятся, валятся
Искренние минуты в наксероформленные зрачки.
И когда я, обезумевший, начну прижиматься
К горящим грудям бульварных особняков,
Когда мертвое время с косым глазом китайца
Прожонглирует ножами башенных часов, –
Вы ничего не поймете, коллекционеры жира,
Статисты страсти, в шкатулке корельских душ
Хранящие прогнившую истину хромоногого мира,
А бравурный, бульварный, душный туш!
Так спрячьте ж запеленутые сердца в гардеробы,
Пронафталиньте Ваше хихиканье и увядший стон,
А я Вам брошу с крыш небоскреба
Ваши зашнурованные привычки, как пару дохлых ворон.
<1914>
«Болтливые моторы пробормотали быстро…»*
Болтливые моторы пробормотали быстро и на
Опущенную челюсть трамвая, прогрохотавшую по глянцу торца,
Попался шум несуразный, однобокий, неуклюже выстроенный,
И вечер взглянул хитрее, чем глаз мертвеца.
Раскрывались, как раны, рамы и двери электро, и
Оттуда сочились гнойные массы изабелловых дам;
Разогревали душу газетными сенсациями некоторые,
А другие спрягали любовь по всем падежам и родам.
А когда город начал крениться набок и
Побежал по крышам обваливающихся домов,
Когда фонари сервировали газовые яблоки
Над компотом прокисших зевот и слов,
Когда я увлекся этим бешеным макао, сам
Подтасовывая факты крапленых колод, –
Над чавкающим, переживающим мгновения хаосом,
Вы возникли, проливая из сердца йод.
<1914>
«Вы все грустнеете…»*
Вы все грустнеете,
Бормоча, что становитесь хуже,
Что даже луже
Взглянуть в глаза не смеете.
А когда мимо Вас сквозь литые литавры шума
Тэф-Тэф прорывается, в своем животе стеклянном протаскивая
Бифштекс в модном платье, гарнированный сплетнями,
Вы, ласковая,
Глазами несовершеннолетними
Глядите, как тени пробуют улечься угрюмо
Под скамейки, на чердаки, за заборы,
Испуганные кивком лунного семафора.
Не завидуйте легкому пару,
Над улицей и над полем вздыбившемуся тайком!
Не смотрите, как над зеленым глазом бульвара
Брови тополей изогнулись торчком.
Им скучно, варварски скучно, они при смерти,
Как и пихты, впихнутые в воздух, измятый жарой.
На подстаканнике зубов усмешкой высмейте
Бесковную боль опухоли вечеровой.
А здесь, где по-земному земно,
Где с губ проституток каплями золотого сургуча каплет злоба, –
Всем любовникам известно давно,
Что над поцелуями зыблется тление гроба.
Вдоль тротуаров треплется скок-скок
Прыткой улиткой, нелепо, свирепо
Поток,
Стекающий из потных бань, с задворков, с неба
По слепым кишкам водостоков вбок.
И все стремится обязательно вниз,
Таща корки милосердия и щепы построек;
Бухнет, пухнет, неловок и боек,
Поток, забывший крыши и карниз.
Не грустнейте, что становитесь хуже,
Ввинчивайте улыбку в глаза лужи.
Всякий поток, льющийся вдоль городских желобков,
Над собой, как знамя, несет запах заразного барака;
И должен по наклону в конце концов
Непременно упасть в клоаку.
<1916>
«В обвязанной веревкой переулков столице…»*
В обвязанной веревкой переулков столице,
В столице, покрытой серой оберткой снегов,
Копошатся ночные лица
Над триллионом шагов.
На страницах улицы, переплетенной в каменные зданья,
Где как названья золотели буквы окна,
Вы тихо расслышали смешное рыданье
Мутной души, просветлевшей до дна.
Не верила ни словам, ни моему метроному – сердцу,
Этой скомканной белке, отданной колесу…
– Не верится?!
В хрупкой раковине женщины всего шума радости не унесу!
Конечно, нелепо, что песчаные отмели
Вашей души встормошил ураган,
Который нечаянно, случайно подняли
Заморозки северных, чужих стран.
Июльская женщина, одетая январкой!
На вашем лице монограммой глаза блестят…
Пусть подъезд нам будет триумфальной аркой
А звоном колоколов зазвеневший взгляд!
Как колибри вспорхнул в темноте огонек папиросы,
После января перед июлем нужна вера в май!
…Бессильно обвисло острие вопроса…
Прощай!
<1916>
Константин Большаков*
«Большаков пришел к футуризму сразу, как только открыл поэтические глаза. А глаза были большие, глубокие и искренние. Хорошие были глаза. И сам Костя был горяч, как молодая лошадь, доскакавшая до финиша», – вспоминал о своем соратнике по «Мезонину поэзии» В. Шершеневич[199]. Первая книга Константина Аристарховича Большакова – поэма с показательным названием «Le futur» (M., 1913)[200]. Она была конфискована цензурой (поводом послужили «безнравственные» иллюстрации Н. Гончаровой и М. Ларионова). Эта книга, по воспоминаниям Большакова, поставила его «в лагерь тогдашних футуристов»[201]. Его футуристическую репутацию укрепила вторая поэтическая книга «Сердце в перчатке» (М., 1913), выпущенная издательством «Мезонин поэзии». Большаков имел контакты с кубофутуристами (в частности – с Маяковским), но главная линия творческого развития после распада «Мезонина» вела его к «Центрифуге».
Заметными литературными событиями стали книги Большакова, увидевшие свет в 1916 году (автор находился в это время в действующей армии), – «Солнце на излете: Вторая книга стихов. 1913–1916» (М., 1916) и «Поэма событий» (М., 1916), произведение с сильным антивоенным пафосом.
После революции и Гражданской войны Большаков вернулся к литературе в качестве прозаика. Среди опубликованных книг – роман «Маршал сто пятого дня: Книга 1. Построение фаланги» (М., 1936), где воспроизводятся некоторые эпизоды его литературной молодости.
Репрессирован, реабилитирован посмертно.
Несколько слов к моей памяти*
Я свой пиджак повесил на луну.
По небу звезд струят мои подошвы,
И след их окунулся в тишину.
В тень резкую. Тогда шептали ложь вы?
Я с давних пор мечтательно плевал
Надгрезному полету в розы сердца,
И губ моих рубинящий коралл
Вас покорял в цвету мечты вертеться.
Не страшно вам, не может страшно вам
Быть там, где вянет сад мечты вчерашней,
И наклоняются к алмазящим словам
Ее грудей мечтательные башни,
Ее грудей заутренние башни.
И вечер кружево исткал словам,
И вечер острие тоски нащупал,
Я в этот миг вошел, как в древний храм,
Как на вокзал под стекло-синий купол.
<1913>
Фабрика*
Трубами фабрик из угольной копоти
На моих ресницах грусть черного бархата
Взоры из злобы медленно штопает,
В серое небо сердито харкая.
Пьянеющий пар, прорывая двери пропрелые,
Сжал бело-серые стальные бицепсы.
Ювелиры часы кропотливые делают,
Тысячеговорной фабрики говоры высыпьтесь
Мигая, сконфузилось у ворот электричество,
Усталостью с серым днем прококетничав.
Целые сутки аудиенция у ее величества,
Великолепнейшей из великолепных Медичей.
<1913>
Москва
Городская весна*
Эсмера́ми, вердо́ми труве́рит весна,
Лисиле́я полей элило́й алие́лит.
Визиза́ми виза́ми снует тишина,
Поцелуясь в тише́нные ве́реллоэ трели,
Аксиме́ю, окса́ми зизам изо сна,
Аксиме́ю окса́ми засим изомелит.
Пенясь ласки веле́ми велам велена,
Лилале́т алило́вые ве́леми мели.
Эсмера́ми, вердо́ми труве́рит весна.
Алие́ль! Бескрылатость надкрылий пропели.
Эсмера́ми, вердо́ми труве́рит весна.
<1913>
Посвящение*
По тротуару сердца на тротуары улицы,
В тюль томленья прошедшим вам
Над сенью вечера, стихая над стихов амурницей,
Серп – золоченым словам.
Впетличив в сердце гвоздичной крови,
Синеозерит усталым взором бульвар.
Всем, кого солнце томленьем в постели ловит,
Фрукт изрубинит вазный пожар.
И, вам, о, единственная, мои стихи приготовлены –
Метр д'отель, улыбающий равнодушную люстру,
Разве может заранее ужин условленный
Сымпровизировать в улыбаться искусство,
Чтоб взоры были, скользя коленей, о, нет, не близки,
А вы, как вечер, были ласковая.
Для вас, о, единственная, духи души разбрызгал,
Когда вы роняли улыбки, перчатку с сердца стаскивая.
Август 1913 г.
Аэромечта*
Взмоторить вверх, уснуть на пропеллере,
Уснуть, сюда, сюда закинув голову,
Сюда, сюда, где с серым на севере
Слилось слепительно голубое олово.
На шуме шмеля шутки и шалости
На воздух стынущий в меха одетые
Мы бросим взятой с земли на землю кусочек жалости,
Головокружась в мечтах кометами.
И вновь, как прежде, уснув на пропеллере,
На шуме шмеля шутки и шалости,
Мы спустимся просто на грезном веере
На брошенный нами кусочек жалости.
Август 1913 г.
«Милостивые Государи, сердце разрежьте…»*
Милостивые Государи, сердце разрежьте –
Я не скажу ничего,
Чтобы быть таким, как был прежде,
Чтоб душа ходила в штатской одежде
И, раздевшись, танцевала танго.
Я не скажу ничего,
Если вы бросите сердце, прощупав,
На тротуарное зеркало-камень,
Выбреете голову у сегодня-трупа,
А завтра едва ли зайдет за вами.
Милостивые Государи, в штатском костюме
Заставьте душу ходить на прогулки,
Чтобы целовала в вечернем шуме
Слепое небо в слепом переулке.
Сердца, из-под сардинок пустые коробки,
Свесьте, отправляясь на бульвары,
Волочить вуаль желаний, втыкать взорные пробки
В небесный полог дырявый и старый,
В прозвездные плюньте заплатки.
Хотите ли, чтоб перед вами
Жонглировали словами?
На том же самом бульваре
В таксомоторе сегодня ваши догадки
Бесплатно катаю, Милостивые Государи.
Октябрь 1913 г.
Москва
Осень годов*
Иду сухой, как старинная алгебра,
В гостиной осени, как молочный плафон,
Блудливое солнце на палки бра,
Не электричащих, надевает сиянье, треща в немой телефон.
И осыпаются мысли усталого провода,
Задумчивым звоном целуют огни.
А моих волос бесценное серебро водой
Седой обливают хилые дни.
Хило прокашляли шаги ушедшего шума,
А я иду и иду в венке жестоких секунд.
Понимаете? Довольно видеть вечер в позе только негра-грума,
Слишком черного, чтоб было видно, как утаптывается земной грунт.
Потом времени исщупанный, может, еще не совсем достаточно,
Еще не совсем рассыпавшийся и последний.
Не кажусь ли вам старик – паяцем святочным,
Богоделкой, вяжущей на спицах бредни.
Я века лохмотьями солнечной задумчивости бережно
Укрывал моих любовниц в рассеянную тоску,
И вскисший воздух мне тогу из суеверий шил,
Едва прикрывающий наготу лоскут,
И, упорно споря и хлопая разбухшим глазом, нахально качается,
Доказывая: с кем знаком и незнаком,
А я отвечаю, что я только скромная чайница,
Скромная чайница с невинно-голубым ободком.
<1914>
О ветре*
Звезды задумчиво роздали в воздухе
Небрежные пальчики своих поцелуев,
И ночь, как женщина, кидая роз духи,
Улыбку запахивает шубой голубую.
Кидаются экипажи на сумрак неистово,
Как улыбка пристава, разбухла луна,
Быстрою дрожью рук похоть выстроила
Чудовищный небоскрёб без единого окна
И, обрывая золотистые, свислые волосики
С голого черепа моей тоски,
Высоко и быстро пристальность подбросила,
Близорукости сметая распыленные куски.
Вышитый шелком и старательно свешенный,
Как блоха, скакал по городу ночной восторг,
И секунды добросовестным танцем повешенных,
Отвозя вышедших в тираж в морг.
А меня, заснувшего несколько пристально,
У беременного мглою переулка в утробе торопит сон
Досчитать выигрыш, пока фонари стальной
Ловушкой не захлопнули синего неба поклон.
<1914>
Автопортрет*
Ю. А. Эгерту
Влюбленный юноша с порочно-нежным взором,
Под смокингом легко развинченный брюнет,
С холодным блеском глаз, с изысканным пробором.
И с перекинутой пальто душой поэт.
Улыбки грешной грусть по томности озерам
Порочными без слез глазами глаз рассвет
Мелькнет из глаз для глаз неуловимо-скорым
На миги вспыхнувший и обреченный свет.
Развинченный брюнет с изысканным пробором.
С порочными без слез глазами, глаз рассвет,
Влюбленный юноша с порочно-нежным взором
И с перекинутой пальто душой поэт.
Май 1914 г.
Осень*
Под небом кабаков, хрустальных скрипок в кубке
Растет и движется невидимый туман,
Берилловый ликер в оправе рюмок хрупких,
Телесно розовый, раскрывшийся банан.
Дыханье нежное прозрачного бесшумья
В зеленый шепот трав и визг слепой огня,
Из тени голубой вдруг загрустевшей думе,
Как робкий шепот дней, просить: «возьми меня».
Под небо кабаков старинных башен проседь
Ударом утренних вплетается часов.
Ты спишь, а я живу, и в жилах кровь проносит
Хрустальных скрипок звон из кубка голосов.
25. IX. 1914 г.
«Выпили! Выпили!» – жалобно плачем ли
Мы, в атласных одеждах фигуры карт?
Это мы, как звезды, счастью маячили
В слезящийся оттепелью Март,
Это мы, как крылья, трепыхались и бились
Над лестницей, где ступени шатки,
Когда победно-уверенный вылез
Черный туз из-под спокойной девятки.
А когда заглянуло в сердце отчаянье
Гордыми взорами дам и королей,
Будто колыхнулся забредший случайно
Ветерок с обнажающихся черных полей,
Это мы золотыми дождями выпали
Мешать тревоги и грусть,
А на зеленое поле сыпали и сыпали
Столько радостей, выученных наизусть…
«Выпили! Выпили,» – жалобно плачем ли
Мы, в атласных одеждах фигуры карт?
Это мы, как звезды, счастью маячили
В слезящийся оттепелью Март.
Март 1915 г.
Поэма событий*
Юрию Александровичу Эгерту
Нет здесь не Вам… и бархатный околыш.
Тульи голубоватой желтый кант, и грустный взор,
И тонких пальцев хруст, и хрупкий голос
Фарфоровый, как сон… костер,
Зажженный из сердец, серебряные елки
Нас обступили, ждут, –
Вчера – . . . . ., дремавший по проселку,
Сегодня – маятник минут.
Чуть розоватыми снегами в дали
Уходит грусть полей.
Вам шепоты печали
Моей.
Все в Вас
От удивленности пробора
До глаз,
Похожих на топаз…
Минут моих минуты слишком скоро
Несутся… А у Вас?
У Вас таких томлений названные сестры
Ткут счастья медленную нить,
Но кто так остро
Мог любить?
О, темный шелк кудрей, о, профиль Антиноя,
И грудь, и шея, вы о, пальцы хрупких рук,
О вас, лишь помня вас, сегодня сердце ноет
Одним предчувствием томяще-сладких мук.
Единственный, как свет, бесценно-милый друг,
Вы, чьи глаза, как день, наполненные зноем
Июльской синевы, две чаши сладких мук,
И Вы пройдете в тень, и профиль Антиноя
Забудется, как все, как пальцы хрупких рук.
Май 1915 г.
Как вздох,
Вы, выходя из померкшей были,
Нити жемчужных стихов.
По нервам электричество строчек пролил,
И каждая строчка билась в истерике слов.
Улицы заплаканные нахмурились, –
Слезы, как дождь, на тротуары прокапали,
Будто дрожит в лазури лист
В хрустальной осени Неаполя,
Будто шуршанье торопливых резинок,
Стирающих на улицах лица и глаза,
Среди незаметных дождливых слезинок
Вытекла огромная, как время, слеза.
Пролившее ее глазище
Витринной скуки, где,
Хлопая галошами, разбежалось кладбище
По улицам и лицам избитых площадей,
Сморщилось, и сегодня быть может на подоконнике.
С канарейкой сдружившаяся герань
Вырастила для вас одних, покойники,
Цветочек хилый и простенький, как Рязань.
Быть может, сегодня не тех отыщете,
Кто с газетных объявлений спустился к вам,
Может, не для вас сегодня тысячи те,
Что строились в роты по набранным петитом словам,
И, быть может, мне, нежному с последним ударом,
Башенных часов уже не много с этих пор
Осталось обрызгивать, как росой, тротуары
Хрустальным звяканьем шпор,
А говор часов, как говор фонтана,
И вы узнаете в его серебре меня…
Время, ведь рано!
И в костлявых пальцах времени
Высохла, как цветок, душа.
Не спеша,
Об ней на маленькой свечечке обедню
Выстроить склепом великолепным у Иверской
Шурша,
Пробежали меж пальцев в последний
Раз обо мне все газетные вырезки.
Как некогда Блудному Сыну отчего
Дома непереступаемой казалась ступень,
Сквозь рассвет, мутным сумраком потчевая,
К самому окну просунулся небритый день,
И еще в июле чехлом укрытая люстра,
Как повешенный обездоленный человек,
Замигала глазенками шустро
Сквозь ресницы зубами скрежещущих век.
В изодранных газетах известия штопали,
Толкаясь лезли в последние первыми,
А тоска у прямящегося тополя
Звенит и звенит серебряными нервами.
Кто-то бродит печальный и изменчивый.
У кого-то сердце оказалось не в порядке,
И мертвый покатился удивленно и застенчиво
По скрипучим перилам лестницы шаткой…
В черный вечер прошел господин и вынес
Оттуда измазанный и громадный ком,
А когда спросили: что это? – «Дыня-с», –
Расшаркался, а потом
Мутью бездумья с утра исслюнявил
Закапанную чернилами ручку скуки…
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
И в чем уплыл, как не в кровати ли
В пространство внемирное, прочитав в газете,
Что штыками затопорщились усы у обывателей,
И тяжелую артиллерию выкатывают дети.
Это все об нем: как он простенький и серенький,
Житель равнодушья и потомок городов рода,
Никогда не слыхавший об Иеринге
И об его определении абсолютной свободы,
Вскинулся и затопал,
И его шагами ночь хохотала гулко, –
«Смотрите, смотрите: я землю заштопал
Извилистой ниткой глухого переулка»…
Утро снимало синие кольца
С измученных взоров, одевшихся в бледный свет,
И смотрело, как падали и падали добровольцы
На звоны убитых побед.
А Вы молчали,
Ведь здесь же не Вам, смотря на них,
Потому что жемчужины Вашей печали,
Как капли берилла, падают в стих.
Скажите! Скажете? Улыбкою Цезаря,
Не вынесши этой ночи упорной и беззвездной,
Распустившаяся на Вашем лице заря
Поплыла над качнувшейся бездной.
Рассчитывая удары,
Над сумраком взвился багряный топор.
Ах, не обрызгивать, не обрызгивать больше тротуары,
Как росой, хрустальным звяканьем шпор.
Одеваются в ночную мглу дни,
Перегнувшиеся наподобие Z'a.
Ах, сегодня только пополудни
Вышли утренние газеты.
Снегом выращенный город сутулится,
Закиданный выкриками телеграммных вестей,
И костлявые и тощие улицы
В хрустящем блеске белых костей,
А с экранов кинемо и столбцов набора
Гордо раздулись выкрики о победе,
Орущие в треске разрушенных ветром заборов
Поющей трамвайной меди.
Город в огнях и золоте, белые шляпы
Гордо вздувшихся стеклянных крыш,
Как некий дракон свои черные лапы,
Лениво разбросив, ты спишь,
И ко всему безразличною пастью вести,
Схваченных на лету убитых и побед,
Ты рассасываешь в жилы предместий,
Черные от копоти десятков лет,
Чтобы там над рушащимся гулом
Неустанных фабрик и заводов слез
Чья-то раненая душа уснула
Просто, как дети, без трагизма и поз,
Чтоб она окровавленным следом мостить
Лощеные улицы никогда не смела,
Седое и серое, как «Русские Ведомости»,
Вывешено праздничным флагом небо.
А где-то в лабиринтах косящих предместий
Ветер проносит чей-то неуместный плач
О кем-то когда-то и где-то забытой невесте
В осеннем молчаньи пустеющих дач.
А с экранов кинемо и столбцов набора
Не устало глядеться известье,
Орущее в треске разрушенных ветром заборов
В косящих лабиринтах предместий…
Ах сегодня только пополудни
Вышли утренние газеты.
Что из того, что одеты в ночную мглу дни,
Перегнувшиеся, как изображение Z'a?
Как Прекрасной Даме дни
Посвящали поэты и любовники,
Тебе рожденной в ликующем пламени
В багряных ранах, как куст шиповника,
Тебе одной – газетную истину
Поворачивая, как кули на кранах,
Где-то в южных морях затерянной пристани
Слепящимся глазом на брызжущих ранах
В громаде черной глухой бессонницы
Ты разрубила дыханье артерий
Разящим летом гремящей конницы
Громовым кашлем артиллерии,
Над телом Полый и Бельгии элегию вымыслов
Одела в лохмотья газетных сенсаций
И за земною осью вынесла
Вращенье судеб двенадцати наций…
Шлешь ли умерших в волны лазури
Полк за полком… и сколько?
Ты разбила хрустальное имя «Юрий»
Дымом орудий на тысячу осколков.
Ах, в каждом осколке, как иголка боли,
Жалобные ручонки, из моря просящиеся на сушу,
И не довольно, не довольно, что раскололи
Хрустальное имя, мою бедную душу.
Дышат убитые. В восторге трепетном
Мертвые на полях сражений поднимут головы,
Когда багровое солнце слепит нам
Память из олова темного и тяжелого.
День за днем измученно сгорит Вам
Весь в пене жестоким посылом трясущейся лошади.
Эти простые слова, как молитву,
В губы растрескавшиеся вложите:
Как не касаться кубка пыток[203]
Губами жаждующими губ, –
Простых речей неясный свиток,
Упавший на остывший труп.
Когда никто не потревожит
Истончившийся белый лоб,
Тяжелый вздох к Престолу Божью
Сошел покорно в белый гроб.
Ведь это было, это снилось,
Ведь этим кто-то где-то жил,
И вот Архангел левый клирос
Крылом волнующим прикрыл.
В дрожаньи пенья это ль снится,
Что не вернется, нет? И пусть
В полуопущенных ресницах
Не умерла былая грусть
Лениво бросить взор усталый,
Когда, открыв бескровье ран,
Седое утро умирало,
Вцепившись судоржно в туман.
Казалось: тусклый свет не брызнет
В решетки окон расписных,
А хор о теле бедной жизни
Тянул рассвету бледный стих.
Это Вам в сумраке отходящего поезда
Девушка рыданья повесила, как крестик,
Мне холодно, холодно, и от холода боязно
Умереть теперь с Вами не вместе.
Это кто-то теплое слово, как ласку,
Как ласку, приготовил к зимней стуже
И грустит об одном,
Что сердце всегда попросится в сказку,
Что сердцу захочется холода, холода октябрьской лужи,
Лужи с хрустальным и звонким льдом.
У меня – глаза, как будто в озере
Утопилась девушка, не пожелавшая стать матерью,
Это мои последние козыри
У жизни стелющейся белоснежной скатертью.
Над облитыми горечью тротуарными плитами
Грусть, как в оправу, вложу в истомленный взор
Я, бесстрастно смотревший в тоскою залитые
Глаза, зеркала осенних озер,
Я, прошедший сквозь пламя июлей
Тысячей горящих любовей,
Сегодня никну в рассветном тюле
Бесстрастным током холодной крови.
А где-то рудой раскаленной из горна
Текущий тяжко медный закат,
Запекшийся кровью багряной и черной
Выстроил сотни хрустальных палат,
Залил бриллианты текучего глетчера.
Дробящийся в гранях алмазный свет,
Девятнадцать исполнилось лет вчера,
А сегодня их уже нет.
Над смертью бесстрастные, тонкие стебли,
Как лилии, памяти узкие руки,
А день извиваясь треплет и треплет
Над городом знамя столетнее скуки,
И в шепоте крыльев ее алтарями победе
Души сложили усталые все мы,
Как из своих и заботливо скрытых трагедий
Открытые каждому и миру поэмы.
Вам, мертвому, как живому,
Памяти Ваших тонких изысканных рук
Сложу в печали померкшую днями истому
В тревоге родившихся мук.
Я нашепчу словами нежнейшими
Вам о том, как в вечерней комнате
Тихие шорохи кажутся гейшами
Только вспомните, вспомните.
Вспомните, сложен как
С кожей лепестками полураскрытых роз
Ваш единственный, милый Боженька
В ризе улыбок и слез.
Вспомните, как слова похожие
На глаза грустящих и забытых невест,
Падают и падают, как жемчужины к подножию,
Где воздвигнут грядущих распятий крест.
Вспомните! Вы ведь не умерли!
Каждую ночь, – ведь это же Вы, –
Спускается ангел в снов моих сумерки
С лучистым взором из синевы.
Умру молодой или старый, –
Последнее на земле этот взор.
Ах, не обрызгивать, не обрызгивать больше тротуары
Как росой, хрустальным звяканьем шпор.
Последнее
Солнце, обошедшее миллиард и больше
Раз землю, посмотри, –
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
По минутам, как по ступеням
Сходят молитвы с усталых губ.
Это в них……души весенним
Дыханьем ангелы вложат и сберегут.
А сердцу усталому окунаться в сказки,
Как в невиданный и желанный сон,
Только одно, одно – скорее бы пасха
Такой хрустальный, словно вымытый солнцем звон
И это последнее, последнее, –
Больше уже не мы, а кто?
За весенней . . . . . .
. . . . . . . . . .
Все, все умерли, –
И вот он обходит по голой земле,
Кутаясь в свой – не дьявольский юмор ли? –
Круг обнищавших плодородьем полей,
Ведь сегодня событья железной рукою
Вбросили в пламя миллионы мятущихся душ,
И в плаче печали влюбленные скроют
С кровью смешавшийся пьяный туш.
Завтра, быть может, в ярости ядрам
Земля, открывавшая грудь,
Воздвигнется новых трагедий театром,
Вонзив в свое сердце пронзительно-долгий путь,
Сквозь щели скелетов убитых, сквозь груду
Тлеющих тел, новые племена
Прорастут, . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Памяти купаться весело
В розовой, вечерней влаге всех воспоминаний
Дни прошли, и что настанет
Новое, если по-прежнему нежданные гости
Приходят к поэтам душистые песни,
Кажущиеся им самим чудесней
Краев вечерних и телесно-розовых облаков.
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Может быть, в чьих-нибудь пестрых одеждах фантазий
Души павших пышно отойдут ко сну.
Ныне я в прилежном рассказе
. . . . . вам написал про войну.
Поэты грядущие, которых не похоронят
В памяти строчек, открытых всем,
Вспомните, что Великой войной в таком полку и в таком-то эскадроне
Убита великолепнейшая из великолепных поэм.
XI/914 – I/915
Тверь – Москва
Атлант*
A la memoire glorieuse de St. Mallarme[204]
Громоздкий пот на лысине где сосны
Из града и дождей по бороде
Журчащих рек где в ледяной воде
Купают их задумчивые весны
Черт где угрюмых в каждой борозде
Тысячелетьями веденный осный
Укус вращает тяжести мир косный
И дремлет на качнувшийся труде
Бог лавров шума от тревоги вспышек
Трамваев зорких глаз на полночь до
Фабричным над стоглазым дыма крышек
От доменных печей течет Bordeaux[205]
Мышц волокно пружин несокрушимых
На ночи барельеф кудрявья в дымах.
<1916>
И еще*
В час, когда гаснет закат и к вечеру,
Будто с мольбой протянуты руки дерев,
Для меня расплескаться уж нечему
В этом ручье нерасслышанных слов.
Но ведь это же ты, чей взор ослепительно нужен
Чтоб мой голос над жизнью был поднят,
Чья печаль, ожерелье из слезных жемчужин
На чужом и далеком сегодня.
И чьи губы не будут моими
Никогда, но святей всех святынь,
Ведь твое серебристое имя
Пронизало мечты.
И не все ли равно, кому вновь загорятся
Как свеча перед образом дни.
Светлая, под этот шепот святотатца
Ты усни…
И во сне не встретишь ты меня,
Нежная и радостно тиха
Ты, закутанная в звон серебряного имени,
Как в ласкающие вкрадчиво меха.
Январь 1916 г.
Рюрик Ивнев*
Хотя произведения Рюрика Ивнева (Михаила Александровича Ковалева) публиковались во многих футуристических альманахах, а его книги выпускались издательствами «Мезонин поэзии», «Очарованный странник» и «Центрифуга», вряд ли их автора можно отнести к убежденным и последовательным футуристам – он не меньше печатался и в других издательствах. Эклектичность поэзии Ивнева отмечали современники. Так, К. Чуковский относил его к «приятным писателям», которые «футуристами лишь притворяются»[206]. Позже, в 1922 году, В. Брюсов утверждал, что Ивнев стоит «на полпути от акмеизма к футуризму»[207]. Одна из основных тем Ивнева – тема религиозного переживания, доходящего до экстаза и исступления, – не типична для футуризма, хотя гиперболизация чувства, самобичевание, переходящее в самолюбование, приближают его к футуристической поэтике.
После революции Ивнев вошел в группу имажинистов, основанную В. Шершеневичем. Последний, кстати, высоко оценивал поэзию Ивнева на разных этапах: «Ивнев – только поэт. Он очень слабый романист, еще слабее журналист. Как музыкальный драматург – он просто пародия. Но он, как птица, собирает пищу всюду, где он ее находит. Я даже думаю, что Ивнев не хороший человек, но он хороший поэт. Это важнее»[208].
«Может быть, моя беспомощность Вам нравится…»*
Может быть, моя беспомощность Вам нравится
И на мою безалаберность смотрите снисходительно Вы.
Если Вам мысль внезапная, нежная явится –
Вы не смотрите в глаза мои, обведенные каймой синевы.
Я не знаю ничего. Что было? Что будет далее?
Знаю только, что встретились наши взоры вчера,
А сегодня уже мы держали друг друга за талию
И наши губы распустились, как веера.
Может, я сказал много лишнего и ненужного,
Но сегодня большой праздник (не скрою) для меня.
Неужели Вы не чувствуете дыхания ветра южного
И колебания, содрогания соснового огня?
<1913>
«Пахнет рыбой и палубой мытой…»*
Пахнет рыбой и палубой мытой
И веревками крепко скрученными.
Я в душе своей, как в земле изрытой
Копошусь руками измученными.
Кружевная и нежная кожа
Бурой кровью и слизью измазана.
Не отнимешь ли веру, о, Боже,
Что Тобою негласно указана?
<1913>
Смерть*
Нарядный, вышитый шелками Невский,
Ковер из ног, ушей и быстрых глаз.
Шершавые чуть шевелятся занавески
На окнах от запрятанных гримас.
А белый дым, сгущенный в катафалке,
Несется медленной и ласковой рекой
И если это март, то сонные фиалки
Распродаются сморщенной рукой.
Особенная тишина – в ушах вуаль густая,
Дворец и мост, врачебный кабинет,
И если это март, то снег, нарочно тая,
Вдруг обнажает каменный скелет.
Мгновенье – стук, мгновенье очень страшно
Потом улыбка неприличных губ
И рот, который искренно накрашен
Глотает сердце, копоть, дым и труп.
1913
«Точно из развратного дома вырвавшаяся служительница…»*
Точно из развратного дома вырвавшаяся служительница
Душа забегала по переулкам (без эпитета).
Ноги – как папиросы, ищущие пепельницу;
Ах, об этих признаниях другим не говорите.
Правда, часто глазам, покрасневшим от нёчести,
Какие-то далекие селения бредятся,
И даже иногда плавающая в вечности,
Обстреливаемая поэтами Медведица.
И тогда становится стыдно от мелочей,
Непринимаемых обыкновенно во внимание,
Бейте, бейте железом, за дело. Чей
Удар сильнее – тому поклон, покаяние…
1913
«После ночи, проведенной с сутенерами…»*
После ночи, проведенной с сутенерами,
С проститутками и сыщиками,
Я буду голубеющими взорами
Всматриваться в свою душу нищую.
И раскладывать мысленно на кубики
Свои чувствования (вот огорчение –
Больше грязненьких, чем голубеньких);
Не найти мне успокоения.
Все хорошее в мертвом мизинчике,
На трактирной заре голубеющем.
Сколько боли в отвратительно взвинченном,
В сердце изолгавшемся и грубеющем.
Радио-лечение по новейшей системе
Не изгонит ниточек усталости из телесной ткани;
И лежу вне дум, вне движений, вне времени,
Собственными жестокими мыслями израненный.
1913
«Горькая радость в оскорблении…»*
Горькая радость в оскорблении,
В ударе, в визге, в плаче кнута,
В мучительном пренебрежении.
(Об этом молчат уста.)
Так сладостно одно движенье,
Движенье глаз кричащих и рта:
В нем сладость, и нежность, и пенье,
И отвратительная глиста.
Закрывать рукою глаза и уши,
И улыбнуться на липкий крик.
В улыбке этой – все наши души.
В улыбке этой – сладчайший лик.
1914, февраль
«Господи! Господи! Господи! Темный свод небес…»*
Господи! Господи! Господи! Темный свод небес,
Монастырская душная келья,
Мне в холодное, мертвое сердце
Полоумный и сладкий бес
Льет преступное, сладкое зелье.
Неужели бритвой зарезаться?
Господи! Господи! Господи! Гордый, злой, пустой
Дух пляшет в несчастном теле
И выпячивает свои губы.
Одинокий и холостой –
Я в своей холостой постели
Буду мертвым, колючим, грубым…
1914, весна
Нилова Пустынь
Хрисанф*
Под псевдонимом Хрисанф в альманахах «Мезонина поэзии» печатал свои стихотворения известный впоследствии живописец, сценограф и скульптор Лев (Леон) Васильевич Зак. Названия группы, а также двух из трех ее альманахов – «Вернисаж» и «Пир во время чумы» (оба – М., 1913) принадлежат именно ему. Им же были оформлены обложки. Под псевдонимом М. Россиянский он опубликовал ряд теоретических статей. В. Шершеневич, утверждая, что Зак «тащил» группу к футуристическому «академизму»[209], так характеризовал его поэтические принципы: «В противовес простоте группы Маяковского и Бурлюка эстетный Зак развил на основе большого лингвистического исследования теорию „слов-запахов“ и горячо боролся под фамилией Михаила Россиянского с беспредметностью неологизмов Крученых. <…> В противовес кубофутуристам он не отрицал старую поэзию и хотел построить футуризм на основе преодоления классики»[210].
Анонсированный сборник Хрисанфа «Пиротехнические импровизации» издан не был.
С 1920 года Зак в эмиграции. В 1970 году в Мюнхене вышла его книга «Утро внутри», в которую вошли как ранние, «мезонинского» периода, стихотворения, так и более поздние.
«Не мне золотить канделябром…»*
Не мне золотить канделябром
Небо, где свечи потухли.
Иду с человеческим табором,
Страсть обращая в угли.
Увижу ли урны поправивших
И потолок мой лазурным?
Кто мне сердце разбудит на клавишах
Черным ноктюрном?
Кто зажжет наверху электричество,
Канделябры, и люстры, и лампы?
Сойдет ли ко мне Беатриче
С твоего лица, как с эстампа?
С грустью целуясь, за табором
Иду и гадаю пасьянсы.
За потухшим давно канделябром
Ветер каких то субстанций.
<1913> Paris
«Нынче еще ты не умер…»*
Нынче еще ты не умер,
Однако, не радуйся:
Рока раздумчивый юмор
Параболой сделает радиус.
Не предмыслишь еще никакого ты
Таинственного подарка,
Но вешают снова, как оводы,
Креп траура факельщики на руку.
Убийца-маньяк-парикмахер
Щекочет нас всех одинаково.
Катафалк! Кладбищенский лагерь!
Процессия приведена к вам.
<1913>
Paris
«Скорбью Я скоро убью…»*
Скорбью
Я скоро убью
Адовы кавалькады.
В трупах тропы.
Тропическая труба,
Скорбь моя! Байрон
Перед нею беднее горба –
В мантии гаер он.
Карлик и арлекин
Дьявола и ловеласа
К виселицам
Ввысь лицом
Человеческую расу!
Тошно душе.
Потушу,
Неоплакиваемый палач,
Пламена, и плакаты, и плач –
Кончена гончая.
Варвары! воровать
Будет из сердца отчаянье.
Самому мне самумом
Кто осмелится стать
Чаянно или нечаянно?
Город расколот и дым.
«Демон-убийца!».
Возглас безглазого дня.
Жизни не жалко почти-что.
Братоубийством меня
Демон-убийца, почти же ты!
<1913>
Paris
«Небо усталостью стиснуто…»*
Небо усталостью стиснуто.
Какого декокта
Очарований и бисмута
Выпить мне, доктор?
Смерть – милосердие в чепчике –
Укусит любого.
Дьявольские скептики!
Неврастения любови!
Последнее, что я чувствую –
Эротические комбинации.
Магией не излечусь твоей,
Магний, от галлюцинаций!
<1913>
Paris
«Тарантелла тарантула!..»*
Тарантелла тарантула!
А я полежу
Утомленным вандалом.
Распните меня,
Сердце снесите на тропики,
Хлопните плотные пробки!
Распните меня.
Брызните кровь,
Механики, из насосов!
Я развратник, но не философ.
Брызните кровь.
Тарантелла тарантула!
А я полежу
Утомленным вандалом.
<1913>
Paris
Сергей Третьяков*
«Сергей Третьяков – рассудительный романтик с безумными загибами…» – писал В. Шкловский[211].
Первый этап футуристической деятельности Сергея Михайловича Третьякова связан с группой «Мезонин поэзии», в альманахах которой в 1913 году появились десять его стихотворений. К 1915 году, уже после распада группы, была подготовлена и намечена к выпуску книга Третьякова «Железная пауза». Она не была опубликована в связи с уходом автора на фронт и вышла лишь в 1919 году во Владивостоке. Здесь Третьяков стал одним из активнейших участников литературной группы, сформировавшейся вокруг журнала «Творчество». В 1922 году в Чите, где продолжилась деятельность группы, он выпускает два поэтических сборника – «Ясныш» и «Путевка», работает в окнах ДАЛЬТА (аналог РОСТА).
В 1922 году Третьяков переезжает в Москву, сближается с Маяковским и принимает активное участие в разработке программы Лефа, в частности «литературы факта».
В 1922 году В. Брюсов включил Третьякова в четверку писателей (наряду с Маяковским, Пастернаком и Асеевым), которые находятся «в центре футуризма». Третьяков, по мнению Брюсова, «уже дает законченные образцы того, чего может достичь футуризм на своих путях…»[212].
Писательская деятельность Третьякова разнообразна, кроме стихов он пишет пьесы, самая известная из которых «Рычи, Китай!» (1926), художественную прозу, киносценарии, путевые заметки о поездках в Европу и Азию.
В 1937 году репрессирован.
«Зафонарело слишком скоро…»*
Зафонарело слишком скоро.
Октябрь взошел на календарь.
Иду в чуть-чуть холодный город
И примороженную гарь.
Там у корней восьмиэтажий
Я буду стынуть у витрин
И мелкий стрекот экипажей
Мне отстучит стихи былин.
Я буду схватывать, как ветер,
Мельканья взглядов и ресниц,
А провода спрядутся в сети
Стально-дрожащих верениц.
Мне будут щелкать в глаз рекламы
Свои названья и цвета
И в смене шороха и гама
Родится новая мечта.
И врежется лицо шофера,
И присталь взора без огня,
И дрожь беззвучного опора,
Чуть не задевшая меня.
<1913>
Романс голодного*
Небо оклеено газетами,
Земля обрюзгла.
Фонари над сумерками недопетыми
Светят тускло.
Червячком охры из тюбика
Фонарь на сырую панель.
Из четырехэтажного кубика
Оркестрион и хмель,
Чувствую ребро ворота
У самых ушей.
Храпенье мокрого города
Заглушило писк мышей.
Ветер качает кадилами
Дуговых фонарей вверху,
Озябшему стали немилыми
Дамы с зонтом и в меху,
Лицо слезится ненамеренно.
Куда пойдешь?
Все возможности проверены.
Все – ложь.
<1913>
Москва
«Мы строим клетчатый бетонный остов…»*
Мы строим клетчатый бетонный остов.
С паучьей ловкостью сплетаем рельсы.
Усните, слабые, в земле погостов,
И око сильного взглянуть осмелься!
Мы стекла льдистые отлили окнам,
В земле и в воздухе мы тянем провод.
Здесь дым спиралится девичьим локоном.
Быть островзглядными – наш первый довод.
Нам – день сегодняшний, а вам – вчерашний.
Нам – своеволие, момент момента,
Мы режем лопасти, взвиваем башни,
Под нами нервная стальная лента.
Швыряем на землю былые вычески.
Бугристый череп наш – на гребне мига.
Нам будет музыкой звяк металлический,
А капельмейстером – хотенье сдвига.
В висках обтянутых – толчки артерий…
Инстинкт движения… Скрутились спицы…
Все ритмы вдребезги… И настежь двери…
И настоящее уже лишь снится.
1913
Москва
Лифт*
Вы в темноте читаете, как кошка,
Мельчайший шрифт.
Отвесна наша общая дорожка,
Певун-лифт.
Нас двое здесь в чуланчике подвижном.
Сыграем флирт!
Не бойтесь взглядом обиженным
Венка из мирт.
Ведь, знаете, в любовь играют дети!
Ай, Боже мой!
Совсем забыл, что Ваш этаж – третий
А мой – восьмой.
<1913>
Веер*
Вея | Пестрея,
В крае | Страдая
Пьяных | В павлиньих кружанах,
Маев, | Тепло горностаев
Пойте | Раскройте, закройте,
Явно | Чтоб плавно
Пейте | На флейте
Юно | Разбрызгались луны,
Яд! | Что в окнах плескучих стоят.
1913
«Снег ножами весны распорот…»*
Снег ножами весны распорот.
В белых кляксах земля-горизонт.
Отскочил размоченный город,
Где в музее вздохнул мастодонт.
С линзы неба сливается синька
В лужи, реки, а край их ржав.
Поезд с похотной дрожью сангвиника
Зачервился, в поле заржав.
Я в купе отщелкнул щеколды.
В небо – взмахи взглядных ракет.
Сзади город – там щеки молоды,
Юбки гладки, в цветах жакет,
Пересмех синеватой закалки,
А под сердцем песни бродяг…
На лице твоем две фиалки
Продаются на площадях.
1914
«Отрите слезы! Не надо плакать!..»*
Вадиму Шершеневичу
Отрите слезы! Не надо плакать!..
Мстить смерти смертью – бессмертно весело!
О сердце сердцем прицельно звякать…
Лизать подошвое теплое месиво.
В подушку неба хнычут не звезды ли?..
А вам не страшно – вы зрячи ощупью.
В лесах за Вислой вы Пасху создали,
В степи за Доном я эхо мощи пью.
Не спя недели… Вгрызаясь в глину…
Прилипши к седлам… И все сполагоря.
А ночью небо горбило спину
Крестя палатки гнилого лагеря.
Железо с кровью по-братски сблизились
Подпругу мести вольны рассечь они.
А поздно в ямах собаки грызлись
Над вкусным мясом солдатской печени.
Любви предсмертной не заподозрим.
Ведь, если надо, сдавивши скулы,
Последний бросит себя на дула
И смерть покроет последним козырем.
1915
Рыд матерный*
Эш ты, детина неструганная!
Где твоя харя сворочена?
Али бревнул потолочину,
Душа твоя недоруганная?
По опивкам что ли кабацким
Лазил губами бряклыми?
Где тряс затылком дурацким?
Где елозил зенками наглыми,
Тусклыми, брюзглыми
Да пальцами корузлыми?
Багра на тя нету!
От какого пня родила тя,
Лесная валежина?
Ну тя к лешему!
А зад-то в цветной заплате,
А перед, в крови что-ль, отпетый,
Уплеванный, да заезженный?
Мало лозиной выдран,
Знать рыком тебя гвоздило, щенок.
Ишь ты, ладонь, как выдра,
Пятаками нищими вылощена.
Не я ли скулы обвыла,
Просолила щеки скореженные?
Не я ли тряслась, что кобыла
Разлукою состреноженная?
Садись! Али лопнуло ухо!
Садись, головешка дурья!
Лопай – видишь, краюха!
Лакай – вон тюря!
– Что видел, сказывай!
– Бога видел.
– С ума что ли спятил?
– Бога видел.
– Толкуй дятел!
– Я видел Бога.
– Не Бог ли тебя и обидел,
Что стал ты баской да казовый?
– Видел Бога.
– Спьяна приснилось!
А где видал?
– А где попало: в корчме, у боен,
На паровозах и на базаре.
– Скажи на милость!
Каков собой он?
Небось, на брюхе валялись смерды.
Такой явился немытой харе
Сам Милосердый…
– Матка, слушай:
Бог гудет
Мужицкою погудкой.
Бог идет
Мужицкою походкой,
Землю рвет
Мужичьим сошником,
Бог бьет
Мужицким кулаком.
Бог это – взглянешь – пьяное рыло,
Бог это – щупнешь – мозоль-короста,
Ремень завыл – это Бог-воротила
Пляс – это Бог наработался досыта.
– Чур, окаянный!
Крестная сила.
Сгинь! Брешешь! Пьяный!..
– Я землю видел;
Она, что бомба,
Гляди – взорвется,
Фитиль – в Москве.
– Очнись, паскуда!
Земля – что блюдо…
В кувшине квас,
Глотни покуда
На добрый час.
– Матка, людей глядел я.
Оголтелые.
Голод алые,
Грязнотелые.
Подковами таково-то ковко тявкают.
У каждого в глазе – неба кусок.
У каждого в сердце – березный сок.
Топоры-то по родному рявкают,
А песни песнятся – весенняя вода.
Людина, что льдина – большая.
Села суматошат, пучат города,
Давят мироедов, бьют попрошаек.
И куда идут,
И о чем поют,
Невдомек мне.
Только сердце вскипи и екни.
Братаны, куда?
Аль тесно в наделе?
Тайгой загудели:
– Туда. За года.
На вольные станы.
За море. За горы. За гай.
– Я с вами, братаны.
– Шагай.
– Несешь, блажной, околесину.
Язычина с прикола сбился.
Сволочи ветром нанесено –
С охальниками сблудилея.
Нишкни! От такого блуду
Прощения нет. Замаливай!
Слышишь, велю –
Мать я.
Ишь разалелся мальвой,
Шатия.
– Матка, молиться не буду.
– Будь же ты проклят! Сама замолю:
За хулу
Прости, Милосердый, сына,
Сына прости!
Премудрый,
Не попусти!
Знаю, сын мой – псина;
Кровь моя! Кровь моя!
Мальчонка был белокурый,
Трепокудрый,
Малый.
Пищал у груди, молока просил,
Головенку от вшей притыкал скрести.
Господи Сил,
Прости!
Кровь моя! Кровь моя!
Земля, сударыня, милуй!
Сама, небось, мать.
Муравой муравленная
Древами древними
Городами – деревнями
В ризы резные оправленная.
Воду водишь,
Грязи грузишь,
Рожь рожаешь,
Вьюгами вьючишь,
Озими зимами.
Гробу – бугор,
Глотке – глоток,
Голоду – хлеб.
Милуй, земля, не серчай!
Мне ли свечой не торчать
Обоим – тебе да Богу.
Кровь моя! Кровь моя!
– Матка, сбирай в дорогу!
Чего глаза намокли-то?
– Проклят! Проклят! Проклят!..
– Матка! Целуй, что ли.
Теперь не вернусь ужо.
Матка, а нонче на воле
Людно – поди и свежо.
Ну, сторонись, будя,
Нацеловалась, чай!
Слышишь, шагают люди?
Прощай!
– Кровь моя! Родненький, кровушка, сынушка, сынка – ах!
– Бог гудет
Мужицкой погудкой
Бог идет
Мужицкой походкой.
Землю рвет
Нашим сошником
Бог бьет
Мужицким кулаком.
1919–1921
Владивосток – Тяньцзинь
Борис Лавренев*
Прозаик и драматург Борис Андреевич Лавренев начинал свой творческий путь как поэт. В альманахах «Мезонина поэзии» он опубликовал четыре стихотворения. Анонсируемый персональный сборник в свет не вышел. Позже он вспоминал: «Фильтрующий вирус футуризма быстро проник в самые незаметные щели, поражал самых тихих поэтов. Вирус дробился, меняя очертания, маскировался, принимал вид то „эго“, то „кубо“, то просто футуризма. Вирус сразил и меня. Я нырнул вниз головой в эго-футуристское море»[213]. Футуристический период Лавренева закончился в 1915 году, с уходом его на войну. «На фронт ушел поэт Лавренев, – вспоминал В. Шершеневич. – С фронта вернулся беллетрист и драматург Лавренев. Поэзия от этого не проиграла; литература, драматургия и сам Борис выиграли»[214].
Истерика Большой Медведицы*
Скользкие черти в кровавых очках шныряют в слепых провалах,
Ночь разыграла дурацкую фугу в мажоре на терциях и квартах.
Семеро белых мышей смешных, истеричных и шалых
Звонко прогрызли зубами синий, попорченный молью, бархат.
Кто меня любит, скажите? Сердце духами целованно,
Пляска ночных балерин, вихрь электрических искр,
В диких квадратах углов – перекрестках многоголовно
Воет, прилипнув к стенам небоскребным, игрушечный писк.
Где мы, на груде страстей и гашишных свиваний,
Колются бритые бороды шатучих бульварных ветвей.
Небо, крутись! Огнеплясней, кокотней, бедламней!
Все мы под знаком истерики белых мышей!
Стиснуть ажурным чулком до хрипения нежное,
девичье горло, Бить фонарным столбом в тупость старых поношенных морд –
Все, что было вчера больным – сегодня нормально и здорово,
Целую твой хвост, маленький паж мой, черт.
Драки, скандала, ножей, пунша из жил готтентотов,
Теплого, пряного пунша – утолить звездный садизм…
Женщина-истерика в колье из маринованных шпротов
Встала над миром, обнажив живот-силлогизм.
<1913> Москва
Март*
Загрустили сквозь сумерки золотистого вечера,
Где рассыпал ландыши льстивой боли скрипач.
Девушки, кропившие в ладони слез лень вчера.
А сегодня смех радости, звенящий, как мяч.
Март вышел на улицы, фиалкой надушенный
С оранжевой розой в петлице пальто,
А из окон раскрытых, притихшие, слушали,
Как весна прилетела в туманном авто.
Неожиданно золотом залито повечерие
И в мертвую зелень электрических глаз,
Кто-то брызнул благостью и стал суевернее
У маленькой женщины любовный рассказ.
И сердца утонули в желтой лунной извести ли,
Ночь бульвары выложила коврами мозаик,
А на дальней башенке наивный вальс высвистели
Старые куранты, проспавшие миг.
1917
«Центрифуга» и «Лирень»
Сергей Бобров*
Литературная деятельность Сергея Павловича Боброва отличалась большим разнообразием: он поэт, прозаик, критик, литературовед, переводчик, организатор издательства и глава группы «Центрифуга». Первая книга Боброва «Вертоградари над лозами» (М., 1913), выпущенная издательством «Лирика», не имела прямого отношения к складывавшемуся тогда футуризму, да и в дальнейшем Бобров вряд ли может быть отнесен к последовательным футуристам, скорее можно говорить о его эстетическом эклектизме. Показателен в этом отношении 1917 год когда Бобров опубликовал два других своих поэтических сборника – «Алмазные леса» и «Лира Лир», первый из которых и по содержанию, и по оформлению можно оценить как вполне традиционный (если не старомодный), а второй – как вполне футуристический.
Тем не менее, в истории русского футуризма Бобров – одна из самых заметных фигур. В 1914 году он, уходя из «Лирики», увлек за собой Н. Асеева и Б. Пастернака и организовал футуристическое издательство «Центрифуга». Именно Бобров стал главным идеологом и полемистом группы. «Центрифуга» ознаменовала начало своей деятельности альманахом «Руконог» (М., 1914), в котором была помещена «Грамота» – один из самых воинственных манифестов русского футуризма (см. Приложение). Однако затруднительно говорить о четкой программе группы на протяжении всей ее сравнительно длительной истории. «Центрифугу» отличали широта филологических интересов, внимание к различным, помимо футуризма, явлениям художественной культуры.
Критические и стиховедческие работы Боброва демонстрируют широкую эрудицию автора, его стремление найти новые для того времени пути анализа поэтических текстов, иногда с опорой на математические методы.
Оценки поэзии Боброва современниками – по большей части сдержанные и даже неодобрительные. «Неким бесталанным поэтом» назвал Боброва в своих мемуарах В. Шершеневич[215].
После революции Бобров преимущественно выступал как прозаик и критик. Опубликовал три фантастических романа, две детских книги по математике, автобиографический роман «Мальчик» (М., 1966).
«Легкоизалетный чертит кругозоры…»*
Легкоизалетный чертит кругозоры.
Памятями дышит клокот земей.
Черные круги полей оратай
Над лютой дней.
Но и кто
Игры темной увлечет
В логи тайны громады?
Дам иглы
Глубин моревых.
Ни гнет, ни покоя;
Исчерти путей лесы, закрути
Тьмой исчлы.
Нет, нет, – за этой же заставой
Кто оберет свои гони:
Они сони, они трусы, они блекнут
Поднимай же медленно руки,
Вот волна.
1913
Лира Лир*
Необыкновенная поступь времени
Костьми ложится перед сим летом.
Совершаем над быстрым льдом
Этот лет мы – одни.
Жизнь, как мельница невозможностей,
Собирает тайное зерно:
Цвет и звон усталостей
И несравненный колокол.
Дай же мне, о, золото жизни,
Врата бесконечных смыслов
Ударяя, как луч по линзе –
По трепету мысленных обрывов.
Дай, богиня, воспеть несравненно
Золота текучего прозрачный жир;
Дай мне мою умышленную
Лиру Лир.
По воздушному тротуару
Ниспускается бегучий лимузин,
Прогибаясь в жизненную амбру,
Расточая свои триста тысяч сил.
Радуги возносятся, как дуги,
Круги их – как барабаны динамо,
Плуги кругов – пронзая, легки;
Ввысь опрокинута воздушная яма.
И сие благоприобретенное пространство
Могила призраков и мечт,
Мертвого корсара долгожданство
И неуловимый метр. –
Кругом кружит любовное веселье
(У меня нет времени все описать!),
Гиперболы, эллипсы – взвивают кольца,
Над которыми летучая рать.
Протянуты в дикую бесконечность
Безвоздушные, не-сущие пути:
Их млечность,
Точность, извивчивость, глыбность
Приглашают пить нашу песню и идти.
Гробожизнь нестерпимо пляшет,
Изваянием уведена;
Бросаются в пропасть блеклые тайны,
Сумасшедшие отверзают уста.
Остановись, жизнь, в диком скоке,
Перед тобой – неожиданная волна, –
И кто ее залижет раны,
Кто скажет, что она есть та: –
Неощущаемая.
Несет лимузин синяя радуга,
И радуют рабов редкие взрывы.
Восстаньте на нити повелений,
Дайте снам яду, жизни обрывы.
Любите сердцем разгромленным,
Отбросьте все покрывала –
Чтобы над миром ослепленным
Новая красавица восстала.
Сумасшедших пляс – хороводом
Нас уводит, – шепчет, шипит, горит:
– Воздвигайте новое Замбези,
Новый Берингов пролив,
Новую Атлантиду!
В неразрывные взрывы –
На бегущих марганце и железе,
Новую жизни кариатиду.
Радиоактивное творчество!
Эманировать жизнь – блеск
В блески данцигской водки
В напиток Фауста.
Нам осталось лишь встретить ее
Бег, ее руки, уста, очей чернь и синь
И тонкими лирами отметить
Ее жизнь.
Будь же смарагдовым осиянием,
Будь же золотом непобедимым,
Будь знамением белизны,
Неуследимыми вратами,
Будь светильником на наш пир,
Пребывающая в небытии
Лира Лир.
<1914>
Турбопэан*
Завертелась ЦЕНТРИФУГА
Распустила колеса:
Оглушительные свисты
Блеск парящих сплетных рук!
– Молотилка ЦЕНТРИФУГИ,
Меднолобцев сокруши!
Выспрь вертительные круги
Днесь умчащейся души; –
Блеск лиет, увалов клики,
Высей дымный весен штурм, –
Взвейся непостигновенно
В трюм исторгни кипень шум.
В бесконечном лете вырви
Построительных огней, –
Расступенных небосводей
Распластанный РУКОНОГ!
Но, втекая – стремись птицей,
Улетится наш легкий, легкий зрак! –
И над миром высоко гнездятся
Асеев, Бобров, Пастернак.
О, протки чудесий туго
Беспристрастный любосот,
Преблаженствуй, ЦЕНТРИФУГА,
В освистелый круголет.
<1914>
Памяти И. В. Игнатьева*
Ни тот, ни та тебе, Единый!..
И жизнь взлетает темной рыбой,
Ведя заоблаконную вязь,
Но ты, стремя, выводил узоры
И выползал из гробов свет.
Ах, ты ли, плясун оледенелый!
Краев обидных бродяга!
Ты, построитель, волк, –
Благо брега невеселый – ходок!
Бью заунывно, ною печально,
Верь томительной тучеяси!
Это молодец в кованых железах
Над рекою поломал свой лук.
1914
«Оставь переплеты, друзей узоры…»*
Оставь переплеты, друзей узоры,
Беги, пока застеклянится степь.
Где Лены струи, целуи, берегаи,
Разлетает прах на лепесточке синий.
Занеможет и занеможет рука.
По серым занеможет.
Скалы выходите, режьте оврагов стволы
И лазурьтесь на реках.
Голубей и соек тихое множество
Пели рождество, березиный пев.
Вот и пилы, и залисы, и петрунки:
Как заясит, замаюнит синеворочь!
Ты плеши, сом, по речке –
За ним мои челноки.
Оба рядом, зиним взглядом.
На плеча – мои руки.
Тучевеет запалена
Синяя оборона стрелочьих умысл;
Я покину эти жизни на простор голубых почисл.
1914
Судьбы жесты*
Когда судьба занесена –
На мир презрительным указует перстом
(– На пажити, туманов прорывы –
Там – города, волноречье, взморье.
Глубина караванов, изгибы, люди –
На холоде, на теми,
Крепи, отливы –);
Презрительным перстом,
Низвергая тусклейшие ряды
Борозды, звезды ринутся,
Раздвигая ослеплений бег и пробег,
Тогда начинается, ломается явная пытка –
И леты нервических летунов
Оборвут искрометы,
Землеломы, подводники
С отличноустроенным ревом.
Вы же, громы…
А небесную пажить разломить
Крыльям блиндажа удастся ль!
Но лопнет струной золотой меридиан,
Но, звякнув, иссякнет стран поток:
Нежно опустит руки Рок.
1914
Конец сражения*
Воздушная дрожь – родосский трактор.
О, темь, просветись, лети!
Земля дрожит, как раненый аллигатор,
Ее черное лицо – изрытая рана.
Валятся, расставляя руки, –
Туже и туже гул и пересвист.
Крики ломают брустверы,
Ржанье дыбится к небу.
О, сердце, крепче цепляйся
Маленькими ручками за меня!
Смотри: выбегают цепи
В полосы бризантного огня.
И чиркают пули травою;
Еще минута – и я буду убить.
Вчера контузило троих, сегодня… что такое?
Нечего и вспоминать, это я – просто так.
Но сегодня – какое то странное…
И даже… Однако, позвольте, где же я?
Ведь вниз уносится земли полоса –
В мрак! в мрак!
– Да этого быть не может!
Это просто так.
1914
Кисловодский курьерский*
О, легкая мнимость! о, быстрая улетимость!
Как – гул колес, стук, крик лег;
Разверни хрип, вой мук живых,
И со стрелки соскальзывай – раз, два, три, – еще:
Раз, два, три! – железными зубами
Куснуть стык; зеленому огоньку
Лепетнуть. Семафор –
Язык
Опуская, чтоб вырвать вой, –
И быстрее:
Мчее, левее, милее, живее, нежнее
Змея живого медным голосом –
Хрип звезд, брань столбов,
И: ровно-чудно, словно-бурно,
И: нудно-ёмко, скудно-до домны:
По мосту летивея –
Графиты… черноземы… сланцы…
Станция. 10 минут.
1915
Азовское море*
Вскипает застывший черный шелк.
Спины песков рыжи;
Плетется мясной мухой паровоз.
Прокусывая ленты дымков.
Сеть степей. Молчите же вы
И колес заштатные вопли.
Ив туман. Хижин рябь.
Сутолок устывшая марь.
Четыре шага до шелка,
Шелк несется, скрябает берегом:
– Жестяное Азовское море. – Рычи,
Белоязыкой волны жало.
Скребется простор и хлюпает грузно.
Накален взор и топь;
Звонит, бурчит оцинкованная волна
И жалом жерло желти лижет.
1915
Земляной пэан*
Небо желательно выпить
Плечами, ключицами, ушами:
Чтоб под мышками отроги Медовой,
На голове Змеиный шлем,
И я крикнул бы горе-Кинжалу
– Эй, братик, добро ли живешь.
Мой голос узнаешь ли в шуме и дыме
Бегущих к ногам твоих поездов.
Вот направо безымянные исполины,
Спрятав головы в плечи,
Идут лобызать мантию Каспия.
А за ними Эльбруса вече и темя;
– Твое вече и темя мне нежданно велики,
Ты опоясан вздохами веков, –
Ведь анапский самшит, замирая, дышит
И слышит твой цвет на заре,
И японский мандарин уншиу,
Кругломорщинистое, карликовое солнце,
Развертывая листок мясистый,
Говорит на восточном языке тебе:
– Великана Вулкана панама
Нам сразу ладит цветы –
Нашего слона Фудзияму
Ты, двуглавый отец, любишь ли.
Этот голос мне в ушную раковину
Заткнул весь иной вой,
Я худею, тоскую, бедняк.
Но за теми облаками – он.
16. IX. 1916
Железноводск
Николай Асеев*
Николай Николаевич Асеев был одним из самых активных и заметных участников футуристического движения, хотя футуристом он осознал себя не сразу. После первых публикаций в различных периодических изданиях он вошел в литературную группу «Лирика», выпустившую в 1913 году одноименный альманах. Издательство «Лирика» выпустило и первый, еще во многом эпигонский, сборник Асеева «Ночная флейта» (М., 1913; на титуле – 1914). В начале 1914 года вместе с С. Бобровым и Б. Пастернаком он покинул «Лирику» и стал участником новой, уже футуристической, группы «Центрифуга».
Асеев, однако, тяготился групповой дисциплиной и организовал в Харькове вместе с Г. Петниковым и Божидаром книгоиздательство «Лирень», которое, будучи «дочерним» по отношению к «Центрифуге», обрело достаточную самостоятельность. В этом издательстве Асеев выпустил сборники «Зор» (М. (Харьков], 1914) и «Ой конин дан окейн» (М., [Харьков), 1916). Итоговой для его дореволюционного творчества явилась книга «Оксана» (М., 1916). Б. Пастернак, вспоминая об Асееве периода «Центрифуги», отмечал такие его качества, как «воображенье, яркое в беспорядочности, способность претворять неосновательность в музыку, чувствительность и лукавство подлинной артистической натуры»[216].
Сильное влияние на Асеева оказало знакомство с В. Хлебниковым и В. Маяковским (позже Д. Бурлюк назовет Асеева их «младшим братом»[217]). И если влияние первого, проявившееся в повышенном внимании к слову и тяге к смелому экспериментаторству, ощутимо в харьковских сборниках Асеева, то человеческое и творческое воздействие Маяковского стало во многом решающим для дальнейшей судьбы поэта. В 1962 году Асеев вспоминал: «Маяковский стал самым близким мне поэтом того времени – так же близок он мне и по сей день. Его живой язык заслонил от меня все голоса, которые я слышал раньше»[218].
Футуристическая деятельность Асеева продолжилась на Дальнем Востоке. Во Владивосток он прибыл в октябре 1917 года. Здесь служил в советских учреждениях и активно пропагандировал новейшее искусство. В июне 1920 года вышел первый номер журнала «Творчество», ставшего, по словам Асеева, «культурным центром Дальнего Востока»[219]. Вокруг журнала сложилась группа местных и приезжих литераторов, утверждавших футуризм и придавших ему политическое звучание. Их общественная и литературная деятельность привела к тому, что в 1920 году решением общегородской партийной конференции футуризм, как вспоминал Асеев, «был признан и усыновлен как литературное течение, борющееся на стороне пролетариата»[220]. Во Владивостоке в 1921 году увидела свет книга Асеева «Бомба», которую он сам считал этапной для себя.
В том же году, как и некоторые другие члены группы «Творчество», Асеев оказался в Чите, где было продолжено издание журнала. Среди других мероприятий группы – постановка Асеевым трагедии «Владимир Маяковский» (заглавную роль исполнял С. Третьяков).
Вернувшись в 1922 году в Москву, Асеев активно включается в литературную жизнь, становится ближайшим соратником Маяковского по Лефу.
Позже он написал поэму «Маяковский начинается», в которой воспроизвел некоторые эпизоды истории футуризма и создал поэтические портреты будетлян.
Старинное*
В тихом поле звонница
Точит малый звон,
Все меня сторонятся,
Любил – только он.
Он детина ласковый,
Тихий да простой
Против слова царского
Знался с сиротой.
Вышел царь на красное
Широкое крыльцо,
Потемнело властное,
Ясное лицо.
И махнувши белою
Жестокою рукой
Пустил душу смелую
На вечный покой.
He заплачу, не спокаюсь, грозный царь,
Схороню лихую петлю в красный ларь,
Схороню под сердцем злобу да тоску,
Перейду к реке по влажному песку –
Кину кольца, кину лалы да янтарь;
Не ласкать меня пресветлый государь!
1910
Фантасмагория*
Н. С. Гончаровой
Летаргией бульварного вальса
Усыпленные лица подернув,
В электрическом небе качался
Повернувшийся солнечный жернов;
Покивали, грустя, манекены
Головами на тайные стражи;
Опрокинулись тучами стены,
Звезды стали, стеная, в витражи;
Над тоскующей каменной плотью,
Простремглавив земное круженье,
Магистралью на бесповоротье
Облаками гремело забвенье;
Под бичами крепчающей стужи
Коченел бледный знак Фаренгейта,
И безумную песенку ту же
Выводила полночная флейта.
1913
Заповедная буща*
Триневластная твердыня
Заневоленных сердец
Некуда дремлюге ныне,
Некуда от шумей деться:
Мечутся они во стане,
Ярествуют на груди
А в те дни смеясь предстанет
Везичь везей впереди!
Бунь на поляне Цветляны
Осень взбежала – Олень, –
Только твои не сгубляны
Ясовки яблочный день
Только твои не срубляны
Белые корни небес,
Дивится делу Цветляны
Детская доля живее.
1913 Москва
Песня сотен*
Тулумбасы, бей, бей,
Запороги, гей, гей!
Запороги-вороги –
Головы не дороги.
Доломаны – быстрь, быстрь,
Похолоним Истрь, Истрь,
Харалужье паново
Переметим наново.
Чубовье раскрутим,
Разовьем хоругвь путем,
А тугую сутемь –
Раньше света разметем!
То ли не утеха ли,
Соловейко-солоду,
То ли не порада ли,
Соловейко-солоду –
По грудям их ехали
По живому золоту,
Ехали не падали
По глухому золоту
Соловее, вей, вей
Запороги гей, гей
Запороги вороги –
Головы не дороги!
<1914>
Гремль – 1914 год*
Пламенный пляс скакуна,
Проплескавшего плашменной лапой,
Над душой – вышина
Верхоглавье весны светлошапой.
В этом тихом дождике
Ах какая жалость!
Ехал на извозчике –
Сердце разорвалось.
Не палят сияния
На Иван Великий,
Просят подаяния
Хитрые-калики.
Точат пеню слезную,
А из глоток пламя,
Движут силу грозную,
Машут костылями.
«Пейте, пейте бесиво,
Сучьи перебежки,
Прокатайтесь весело
В чертовой тележке».
«Напивайтесь допьяна
Бешеною сытой,
А князьевы копья на
Попадет упитый!»
Дни и ночи бегая,
Не уйдешь от чуда…
Гей, лошадка пегая,
Увози отсюда!
Двери глухо заперты,
Пожелтели книги,
Никогда на паперти
Не звенят вериги.
Галстучек горошками
Ветриво трепался,
Поднимал над рожками,
Поднимал три пальца.
Там над половодьями
Холодела давечь,
Пало под ободьями
Пало тело навзничь.
Над Иваном растет вышина,
То под небом слезою омытым,
То: огонь острогонь скакуна
Из весны выбивает копытом.
<1914>
Гудошная*
Титлы черные твои
Разберу покорничьим
Ай люли ай люли
Разберу покорничьим
Духом сверком злоем взрой
Убери обрадову
Походи крутой игрой
По накату адову
Опыланью пореки
Радости и почести
Мразовитыя руки
След на милом отчестве
Огремли глухой посул
Племени Баянова
Прослышаем нами гул
Струньенника пьяного
Титлы черные твои
Киноварью теплятся,
Ай люли ай люли
Киноварью теплятся.
Шепоть*
Братец Наян
мало-помалу
выползем к валу
старых времян
Видишь стрекач
Чертит раскосый
Желтополосый
Лук окарячь
Гнутся холмы
с бурного скока
черное око
выцелим мы
Братец Ивашко
Гнутень ослаб
Конский охрап
Тянется тяжко
Млаты в ночи
нехристя очи
плат оболочий
мечет лучи
Братец Наян
Молвлено слово
Племени злова
Сном ты поян
Я на межу
черныя рати
мги наложу
трое печати
Первою мгой
Сердце убрато
Мгою другой
Станет утрата
Отческий стан
третьей дымится
Братец Наян
что тебе снится?
<1914>
Объявление*
Я запретил бы «Продажу овса и сена»…
Ведь это пахнет убийством отца и сына?
А если сердце к тревогам улиц пребудет глухо,
Руби мне, грохот, руби мне глупое, глухое ухо!
Буквы сигают как блохи
Облепили беленькую страничку,
Ум, имеющий привычку
Притянул сухие крохи
Странноприимный дом для ветра,
Или гостинницы весны
Вот, что должно рассыпать щедро
По рынкам выросшей страны.
<1915>
Жалость*
Капкан для ловли блох…
Кто его выдумал?
Может быть «Бог»
Которого я не видывал?
. . . . . . . . . .
Любовники – стройные – длинные – цапли
Главное: – ноги – глаза и талия!
Если же слез наливались капли –
Их сушила неувиденная Италия
Высокая, тоненькая, с усиками,
Очень похожая на букву У
С пальцами узенькими
Лусенька
Ау!
. . . . . . . . . .
Капкан для ловли блох
Бог?
<1915>
Выбито на ветре!*
Совпадение наглядной (начертательной) доказательности корня со звучарью: звук Б, повторенный в корне ЛЫБ, дает зрительное впечатление вздымающихся над строками волн[221]
Днепор! Кипящие пясти
Чарноморец! В темную бороду!
Впутал! И рвешь на части!
Гирло подставив городу!
Слово? – Нет оплыву я
Вечноглубые эти жалобы
Зашиби лыбу большую
Белолобая глыба палубы
Колыбелью улыбок выбит
Сон о пенистом лепете…
Крик ваш хочется выпить,
Ах! С волн полетевшие лебеди
Глухо закован в версты,
Выдан воде и дивени
Вам подражает острый
Клич человечья имени!
1915
«Я знаю: все плечи смело…»*
Я знаю: все плечи смело
Ложатся в волны как в простыни,
А Ваше лицо из мела
Горит и сыплется звездами;
Тогда разорвутся губы
От злой и голодной ругани
И море пойдет на убыль
Задом, как зверь испуганный
И станет коситься глазом
В небо, за помощью, к третьему
Но брошу лопнувший разум
С размаха далеко вслед ему
И буду плевать без страха
В лицо им дары и таинства
За то что твоя рубаха
Одна на песке останется.
Август 1915
Донская ночь*
Когда земное склонит лень,
Выходит легким шагом лань.
С ветвей сорвется мягко лунь,
Плеснет струею черной линь.
И чей-то стан колеблет стон,
То может – Пан, а может – пень,
Из тины – тень, из сини – сон,
Пока на Дон не ляжет день.
<1916>
«За отряд улетевших уток…»*
За отряд улетевших уток
За сквозной поход облаков
Мне хотелось отдать кому-то
Золотые глаза веков…
Так сжимались поля, убегая
Словно осенью старые змеи,
Так за синюю полу гая
Ты схватилась от дали немея,
Что мне стало совсем не страшно:
Ведь какие слова ни выстрой –
– Все равно стоять в рукопашной
За тебя с пролетающей быстрью
А крылами взмахнувших уток
Мне прикрыла осень лишь очи
Но тебя и слепой – зову так
Что изодрано небо в клочья.
<1916>
«Я буду волком или шелком…»*
Я буду волком или шелком
На чьем-то теле незнакомом,
Но без умолку, без умолку
Возникнет память новым громом.
Рассыпься слабостью песка,
Сплывись беспамятностью глины, –
Но станут красные калины
Светиться заревом виска!
И мой язык, как лжи печать,
Сгниет заржавевшим железом,
Но станут иволги кричать,
Печаль схвативши в клюв за лесом.
Они замрут, они замрут,
Последний зубр умолк в стране так,
Но вспыхнет новый изумруд
На где-то мчащихся планетах.
Будет тень моя беситься
Дни вперед, как дни назад,
Ведь у девушки-лисицы
Вечно светятся глаза.
<1916>
«Осмейте…»*
Осмейте
Разговор о смерти,
Пусть жизнь пройдет не по-моему
Под глупое тявканье пушек,
И неба зрачки наполнив помоями,
Зальется дождем из лягушек.
Я знаю, как алчно б
Вы бросились к этой стране,
Где время убито, как вальдшнеп,
И дни все страшней и странней;
И эти стихи стали пачкой летучек,
Которых прочесть никому не посметь,
Где краской сырою ложится на тучах
«Оксана жизнь и Оксана – смерть!»
Чьи губы новы и чьи руки – не Вы,
Чьи косы длиннее и шире Невы,
Как росы упали от туч до травы,
И ветер новых войск: –
Небывших дней толпа
Ведет межмирный поиск,
Где синий сбит колпак
И эту русую росу
И эту красную грозу
Я первый звездам донесу.
<1916>
Стихи сегодняшнего дня*
Выстрелом дважды и трижды
Воздух разорван на клочья…
Пули ответной не выждав.
Скрылся стрелявший за ночью.
И, опираясь об угол,
Раны темнея обновкой,
Жалко смеясь от испуга,
Падал убитый неловко.
Он опускался, опускался
И небо хлынуло в зрачки.
Чего он глупый испугался?
Вон звезд веселые значки,
А вот земля совсем сырая…
Чуть, чуть покалывает бок,
– Но землю с небом, умирая,
– Он все никак связать не мог!
Ах, еще, и еще, и еще нам
Надо видеть как камни красны,
Чтобы взорам – тоской не крещенным
Переснились бы страшные сны,
Чтобы губы – не знавшие крика
Превратились бы в гулкую медь,
Чтоб от мала бы всем до велика
Ни о чем не осталось жалеть.
Этот клич – не упрек, не обида!
Это – волк завывает во тьме,
Под кошмою кошмара завидя
По снегам зашагавшую смерть.
Он всю жизнь по безлюдью кочуя,
Изучал издалека врагов
И опять из-под ветра почуял
Приближенье беззвучных шагов.
Смерть несет через локоть двустволку
Немы сосны и звезды молчат
Как же мне одинокому волку
Не окликнуть далеких волчат!
Тебя расстреляли – меня расстреляли
И выстрелов трели ударились в дали
И даль растерялась – растрелилась даль
Но даже и дали живому не жаль.
Тебя расстреляли – меня расстреляли:
Мы вместе любили, мы вместе дышали
В одном наши щеки горели бреду
Уходишь? И я за тобою иду!
На пасмурном небе затихнувший вечер
Как мертвое тело висит изувечен,
И голубь, летящий изломом, как кречет
И зверь изрыгающий скверные речи.
Тебя расстреляли – меня расстреляли
Мы сердце о сердце как время сверяли
И как же я встану с тобою расстрелян
Пред будущим звонким и свежим апрелем!
Если мир еще нами не занят
(Нас судьба не случайно свела) –
Ведь у самых сердец партизанят
Наши песни и наши дела!
Если кровь напоенной рубахи
Закорузла в заржавленный лед –
Верь восставший! Размерены взмахи,
Продолжается ярый полет!
Пусть таежные тропы кривые
Накаляются нашим огнем…
Верь! Бычачью вселенскую выю
На колене своем перегнем!
Верь! Поэтово слово не сгинет;
Он с тобой – тот же загнанный зверь
Той же служит единой богине
Бесконечных побед и потерь!
1921
Борис Пастернак*
На первый взгляд, Борис Леонидович Пастернак был активным деятелем и ревнителем «Центрифуги»: вместе с С. Бобровым и Н. Асеевым он стоял у истоков группы, подписал «Грамоту» в альманахе «Руконог», им написаны две программные статьи («Вассерманова реакция» – в «Руконоге» и «Черный бокал» – во «Втором сборнике Центрифуги»), в обоих сборниках опубликованы стихотворения Пастернака, издательство «Центрифуга» выпустило вторую его поэтическую книгу «Поверх барьеров» (М., 1916; на титульном листе – 1917).
Однако его футуристическая активность во многом зависела от инициативы Боброва, о чем неоднократно впоследствии вспоминал Пастернак: «Нарожденье „Центрифуги“ сопровождалось всю зиму (1913–1914 годов. – Сост.) нескончаемыми скандалами. Всю зиму я только и знал, что играл в групповую дисциплину, только и делал, что жертвовал ей вкусом и совестью»[222].
Творческое развитие Пастернака включало футуристический этап, но в главном оно определялось собственной логикой. Своеобразие Пастернака среди футуристов раньше других отметил В. Брюсов, который, анализируя «Руконог», писал, что «„футуристичность“ стихов Б. Пастернака – не подчинение теории, а своеобразный склад души»[223]. Особенность позиции Пастернака проявилась и в том, какое решение он для себя принял в связи с глубоким впечатлением, которое произвел на него В. Маяковский: «Время и общность влияний роднили меня с Маяковским. У нас имелись совпаденья. Я их заметил. Я понимал, что если не сделать чего-то с собою, они в будущем участятся. От их пошлости его надо было уберечь. Не умея назвать этого, я решил отказаться от романтической манеры. Так получилась неромантическая поэтика „Поверх барьеров“»[224].
В январе 1917 года, в связи с предполагаемым выпуском «Третьего альманаха Центрифуги», Пастернак писал К. Локсу: «Центрифуги, думаю, я не опозорю, дело ЦФГи считаю я делом родным…», и при этом добавлял, что он становится «в позицию, не зависящую ни в чем от программы футуризма…»[225].
Позже свои отчетливо «футуристические» стихотворения Пастернак не включил в основное Собрание.
Цыгане*
От луча отлынивая смолью,
Не алтыном огруженных кос,
В яровых пруженые удолья
Молдован сбивается обоз.
Обленились чада град загреба,
С молодицей обезроб и смерд:
Твердь обует, обуздает небо,
Твердь стреножит, разнуздает твердь!
Жародею жогу, соподвижцу
Твоего девичья младежа,
Дево, дево, растомленной мышцей
Ты отдашься, долони сложа.
Жглом полуд пьяна напропалую,
Запахнешься ль подлою полой,
Коли он в падучей поцелуя
Сбил сорочку солнцевой скулой.
И на версты. Только с пеклой вышки,
Взлокотяся, крошка за крохой,
Кормит солнце хворую мартышку
Бубенца облетной шелухой.
<1914>
Об Иване Великом*
В тверди «тверда слова рцы»
Заторел дворцовый торец,
Прорывает студенцы
Чернолатый Ратоборец.
С листовых его желез
Дробью растеклась столица,
Ей несет наперерез
«Твердо слово рцы» копытце.
Из желобчатых ложбин,
Из-за захолодей хлеблых
За пол-блином целый блин
Разминает белый облак.
А его обводит кисть,
Шибкой сини птичий причет,
В поцелуях – цвель и чисть
Косит, носит, пишет, кличет.
В небе пестуны-писцы
Засинь во чисте содержат.
Шоры, говор, тор… Но тверже
Твердо, твердо слово рцы.
<1914>
Артиллерист стоит у кормила*
Артиллерист стоит у кормила,
И земля, зачерпывая бортом скорбь,
Несется под давлением в тысячу сил
Озверев со всеми батареями в пучину.
Артиллерист-вольноопределяющийся, скромный и простенький.
Он не видит опасных отрогов,
Он не слышит слов с капитанского мостика,
Хоть и верует этой ночью в Бога;
И не знает, что ночь, дрожа по всей обшивке
Лесов, озер, церковных приходов и школ,
Вот, вот срежется перед кафедрой, спрягая в разбивку
Капитаном заданный неправильный глагол.
Zao[226] – голосом перосохшей гаубицы
И вот, вот провалится голос
Что земля, терпевшая обхаживанья солнца
И ставшая солнце обхаживать потом,
С этой ночи вращается вокруг пушки японской
И что он – вольноопределяющийся – правит винтом.
Что вселенная стонет от головокруженья,
Расквартированная в тех разможженных головах,
Вселенная заметила это впервые,
Они ей незаметны – живые.
И, не боясь за мольбу попасть на гауптвахту,
О разоружении молят, толпясь, облака.
<1914>
«В посаде, куда ни одна нога…»*
В посаде, куда ни одна нога
Не ступала, лишь ворожеи да вьюги
Ступала нога, в бесноватой округе,
Где и то, как убитые, спят снега, –
Постой, в посаде, куда ни одна
Нога не ступала, лишь ворожеи
Да вьюги ступала нога, до окна
Дохлестнулся обрывок шальной шлеи.
Ни зги не видать, а ведь этот посад
Может быть в городе, в Замоскворечьи,
В Замостьи, и прочая (в полночь забредший
гость от меня отшатнулся назад).
Послушай, в посаде, куда ни одна
Нога не ступала, одни душегубы,
Твой вестник – осиновый лист, он безгубый,
Безгласен, как призрак, белей полотна!
Метался, стучался во все ворота,
Кругом озирался, смерчом с мостовой…
– Не тот это город, и полночь не та,
И ты заблудился, ее вестовой!
Но ты мне шепнул, вестовой, неспроста.
В посаде, куда ни один двуногий…
Я тоже какой-то… я сбился с дороги,
– Не тот это город и полночь не та! –
1914
«Я клавишей стаю кормил с руки…»*
Я клавишей стаю кормил с руки
Под хлопанье крыльев, плеск и клекот.
Я вытянул руки, я встал на носки,
Рукав завернулся, ночь терлась о локоть.
И было темно. И это был пруд
И волны. – И птиц из породы люблю вас,
Казалось, скорей умертвят, чем умрут
Крикливые, черные, крепкие клювы.
И это был пруд. И было темно.
Пылали кубышки с полуночным дегтем.
И было волною обглодано дно
У лодки. И грызлися птицы у локтя.
И ночь полоскалась в гортанях запруд,
Казалось, покамест птенец не накормлен,
И самки скорей умертвят, чем умрут
Рулады в крикливом, искривленном горле.
1915
Мельницы*
Над свеже взрытой тишиной
Над вечной памятию лая,
Семь тысяч звезд за упокой.
Как губы бледных свеч, пылают.
Как губы шепчут, как руки вяжут,
Как вздох невнятны, как кисти дряхлы,
И кто узнает, и кто расскажет
Чем, в их минувшем, дело пахло
И кто отважится, и кто осмелится
Звездами связанный, хоть палец высвободить.
Ведь даже мельницы, – о даже мельницы! –
Окоченели на лунной исповеди.
Им ветер был роздан,
А нового нет,
Они, как звезды
Заимствуют свет
У света
И веянье крыл у надкрыльев
Жуков – и головокруженье голов,
От пыли, головокружительной пыли
И от плясовых головешек костров –
Когда же беснуются куры и стружки,
И дым коромыслом, и пыль столбом
И падают капли медяшками в кружки
И резко, и изредка лишь – серебром, –
Тогда просыпаются мельничные тени,
Их мысли, ворочаются, как жернова.
И они огромны, как мысли гениев,
И тяжеловесны, как их слова;
И, как приближенные их, они приближены
Вплотную саженные, к саженным глазам
Плакучими тучами досуха выжженным
Наподобие общих могильных ям.
И мозгами, усталыми от далей пожалованных,
И валами усталых мозгов.
Грозовые громады они перемалывают
И ползучие скалы кучевых облаков –
И они перемалывают царства проглоченные
И, вращая белками, пылят облака –
И в подобные ночи под небом нет вотчины,
Чтоб бездомным глазам их была велика.
1915
«Я понял жизни цель, и чту…»*
Я понял жизни цель, и чту
Ту цель как цель, и эта цель,
Признать, что мне невмоготу,
Мириться с тем, что есть Апрель,
Что дни – кузнечные мехи,
И что растекся полосой
От ели к ели, от ольхи
К ольхе железный и косой
И жидкий, и в снега дорог,
Как уголь в пальцы кузнеца,
С шипеньем впившийся поток
Зари без края и конца.
Что самородком рдеет глушь
В зловонной груде красных туш.
И эти туши – бревна хат
И фартук мясника – закат.
Что в берковец церковный зык,
Что взят звонарь в весовщики.
Что от капели, от слезы
И от поста болят виски.
<1915>
Марбург*
День был резкий, и тон был резкий,
Резки были день и тон –
Ну, так извиняюсь. Были занавески
Желты. Пеньюар был тонок, как хитон.
Ласка июля плескалась в тюле,
Тюль, подымаясь, бил в потолок,
Над головой были руки и стулья,
Под головой подушка для ног.
Вы поздно вставали. Носили лишь модное,
И к вам постучавшись, входил я в танцкласс,
Где страсть, словно балку, кидала мне под ноги
Линолеум в клетку, пустившийся в пляс.
Что сделали вы? Или это по-дружески,
Вы в кружеве вьюжитесь, мой друг в матинэ?
К чему же дивитесь вы, если по мужески –
– мне больно, довольно, есть мера длине,
тяни, но не слишком, не рваться ж струне,
мне больно, довольно –
Стенает во мне
Назревшее сердце, мой друг в матинэ?
Вчера я родился. Себя я не чту
Никем, и еще непривычна мне поступь,
Сейчас, вспоминаю, стоял на мосту
И видел, что видят немногие с мо/сту.
Инстинкт сохраненья, старик подхалим,
Шел рядом, шел следом, бок о бок, особо,
И думал: «Он стоит того, чтоб за ним
Во дни эти злые присматривать в оба».
Шагни, и еще раз, – твердил мне инстинкт
И вел меня мудро, как старый схоластик,
Чрез путаный, древний, сырой лабиринт
Нагретых деревьев, сирени и страсти.
Плитняк раскалялся. И улицы лоб
Был смугл. И на небо глядел исподлобья
Булыжник. И ветер, как лодочник, греб
По липам. И сыпало пылью и дробью.
Лиловою медью блистала плита,
А в зарослях парковых очи хоть выколи,
И лишь насекомые к солнцу с куста
Слетают, как часики спящего тикая.
О, в день тот, как демон, глядела земля,
Грозу пожирая, из трав и кустарника,
И небо, как кровь, затворялось, спалясь
О взгляд тот, тяжелый и желтый, как арника.
В тот день всю тебя от гребенок до ног,
Как трагик в провинции драму Шекспирову,
Носил я с собою и знал назубок,
Шатался по городу и репетировал.
Достаточно, тягостно солнце мне днем,
Что стынет, как сало в тарелке из олова,
Но ночь занимает весь дом соловьем
И дом превращается в арфу Эолову.
По стенам испуганно мечется бой
Часов и несется оседланный маятник,
В саду – ты глядишь с побелевшей губой –
С земли отделяется каменный памятник.
Тот памятник – тополь. И каменный гость
Тот тополь: луна повсеместна и целостна,
И в комнате будут и белая кость
Березы, и прочие окаменелости.
Повсюду портпледы разложит туман,
И в каждую комнату всунут по месяцу.
Приезжие мне предоставят чулан,
Версту коридора да черную лестницу.
По лестнице черной легко босиком
Свершить замечательнейшую экскурсию.
Лишь ужасом белым оплавится дом
Да ужасом черным – трава и настурции.
В экскурсию эту с свечою идут,
Чтоб видели очи фиалок и крокусов,
Как сомкнуты веки бредущего. Тут
Вся соль – в освещенье безокого фокуса.
Чего мне бояться? Я тверже грамматики
Бессонницу знаю. И мне не брести
По голой плите босоногим лунатиком
Средь лип и берез из слоновой кости.
Ведь ночи играть садятся в шахматы
Со мной на лунном паркетном полу.
Акацией пахнет, и окна распахнуты,
И страсть, как свидетель, седеет в углу.
И тополь – король. Королева – бессонница.
И ферзь – соловей. Я тянусь к соловью.
И ночь побеждает, фигуры сторонятся,
Я белое утро в лицо узнаю.
1916
Иван Аксенов*
«Аксенов – фигура по-своему исключительная. В искусстве он был всем!» – писал И. Сельвинский[227]. Действительно, круг интересов Ивана Александровича Аксенова на протяжении всего его творческого пути был очень широк. Он был автором книги «Пикассо и окрестности» (1914; изд. – М., 1917) и других работ о современной живописи; им была издана книга «Елизаветинцы» (М., 1916) – переводы произведений драматургов эпохи Елизаветы Английской; он перевел для постановки В. Мейерхольда «Великолепного рогоносца» бельгийского драматурга Кроммелинка, написал книгу «Сергей Эйзенштейн. Портрет художника» (1933; изд. – М., 1991), серьезно изучал древнюю и современную музыку, математику.
В издательстве «Центрифуга», сотрудничество в котором Аксенов, будучи еще и профессиональным военным, совмещал со службой в армии, были опубликованы две его оригинальные поэтические книги – сборник «Неуважительные основания» (М., 1916) и драма «Коринфяне» на сюжет «Медеи» Еврипида (М., 1918). После революции Аксенов вошел в литературную группу конструктивистов, издал сборник стихов «Серенада» ([М.], 1920), а также несколько переводных книг. Ему принадлежит одна из первых попыток целостного историко-литературного осмысления русского футуризма (К ликвидации футуризма // Печать и революция. 1921. № 3).
(Мюнхен)*
Вырвать слова!
но Неизбежен, непобедим ярлык
совершенно извращенного всеобщим вниманием каучука
№
№
№
Так что 31 = 81.
Случайно ли дополнение чека?
Или это ответ?
Надо бы.
Только
Что же,
Когда каждому шагу ответ – бетон
И откажет родник – фонтан
Может ли,
Согнутый
На своем, на своем поле
Отмахнуть семикожный
Чернофигурный щит?
Еще один свисток и смеркнется
Ноль –
разведи еще перекресток в заострении
(Давний, давний спектр многоафишных щитов:
Падайте, падайте, росказни лоскута).
НЕИЗБЕЖЕН
Коленом
Притиснутый к пальмету,
Растерянный,
Ощеренный,
Разверенный
Эриманфийский страх
И эти апотропические руки
ТАЙ!
Безграалие на горе,
Что до двойной провинциальности
Безграалие на горе
Ci-devant[228] столицы
Безграалие на горе
Все это лопающаяся пластика
Хлопающего зонтика –
Сверлит смрад систематики
Селезенчатых готиков
ОТЧЕго НЕ мЕДнОе оТВОРЯТь?
Где это сердятся турники?
Сколько морщин в этой улыбке!
А башенные пауки
Шевелят робко
Меловой милый лунь для луны
Проявлять ли теперь этот негатив?
НЕИЗБЕЖНО!
потому что только воздух была песня
(Несмотря на совершенно невыносимую манеру отельной
прислуги отворять, в отсутствии, окна в улицу)
Нет! Нет! Нет! Не п о з д н о
И весть еще дрожит.
И не будет тебе никакого сахара
Пока не уберут, не утолкут трут
Растоптанные войной над землей озими
Жалооконное
О горестной доле,
О канифоле,
О каприфоле
Безграалие на горе.
И не видно ни краю, ни отдыха
Ах! не хватило красна вина
Кто, г-спода, видел многоуважаемого архитриклина?
Ясно разваливается голова на апельсинные доли;
То говорун дал отбой:
Под тучей ключ перевинчен
И когда падают деньги –
звонок
Когда падает палка –
стук
Когда падает…
Нет!
Полая поляна
Палево бела
Плакала былая
Плавная пила.
Кириллицей укрыть
Кукуя видел?
НЕИЗБЕЖНО!
И перебросился день.
День?
Так!
Угарали коралловыми сумерки
Вспомните меня
Сумерки умерли
В многоледяный бридж
И
PAL MAL BAL
Увял
Платок
Плакать
Наток
Окол –
до –
вавший УНОСИМЫЙ газ.
Уносись НЕИЗБЕЖНО в ярлык.
Со скоростью
Превосходящей все последние изобретения в этой области.
Благодетели! Зовите пожарных:
Начинается мировая скорбь.
Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?
(Февраль 1914 г.)
Каденца из прошлого*
Прощенью общих мест – луной
Подчеркнутые насажденья
И отнесенные за зной
Влюбленные предубежденья.
Напрасно! – Буйственный уход
Сомнет придуманные клумбы
И только поминальный код
Облыжно истолкует румбы.
Неперевоплотимых снов
Для неосуществимой тризны
О потрясении основ
Безотносительной отчизны.
<1916>
«По несмятой скатерти…»*
По несмятой скатерти
Раскатывались
Мятные ликеры месяца;
Было так сладко, что хотелось повеситься.
Разверчивая путь коленчатый,
Дважды или вшестеро
(Ad libitum[229]) перекрещивала
Лыжи
Разговор искренно-лживый –
От роду ему лет восемь с перерывами…
Вашими молитвами!
От прошлой истерики стеклярус льдинок
Схоронил временно жестянки сардинок
И прочие памятники летние,
Вот отчего перевелись лешие.
Слева – пня тень,
Справа – трещит наст,
Слева – сейчас мель.
Счастье?
Переменим координаты:
Уходи ухабами, сухняк зубчатый.
Не надо бы радоваться
Подобранной раковине
Подобные шалости
Кому диковина;
Да и бросаться оттуда мокрым нечего –
Не остановить ума человеческого –
И мост отупел,
И товар убрел,
И остановил
Город нагорный сорных миганий улей
«Пи –
щит ребеночек:
Косточки хрустят.»
Можно и поговорить
Во всю однолета прыть
В воздухе пяти вечера мая…
Только даром почему столько добра пропадает? –
Ежедневно включают на куполе непонятные рекламы,
Не глядят на них ни мужья, ни их дамы,
Ни обоюдные их поклонники
Воробьи окончательно занялись колокольнями,
А энтропия-то, можно сказать, возрастает.
К чему такая трата мира?
Я ведь не скаред
Но всему есть мера –
Есть она и нашему терпению:
Это ведь не проволочное терние –
То по всем садам
(Виноват Адам)
Произрастает
В изобилии…
Косая птиц стая
Как шприц прямая
Через верхнюю яму.
Не довольно ли одной рекламы –
. . . . . . . . –
Ведь мог бы открыть со своей высоты,
Отчего это собственно
Фоксам рубят хвосты,
А у нас курносится прошлое?
И только антракты полночные
Смолоду маки балкончатые…
И паки и паки
Нотные следы
Уводи…
Ешьте меня – собаки.
<1916>
Диалог*
В бумагу высох, на тебя шуршу.
Я целый день словами порошу,
Что далее, то чаще да сырей
И злей, чем расстригаемый ерей,
Зрачков оберегу колючий лак
И страх, играющий скулою, как…
– Упрека ли боишься по весне?
А если бы и да? – он вовсе не
Острей, чем твой незаменимый шприц. –
– Под вечер остывает щекот птиц,
А только расседаются в ночи
Противные сороки да грачи,
Скрипя, что не даешь себя обуть
И отложить презлющий «добрый путь». –
– Хоть ихний хрип и не совсем неправ,
Не говорю: перемените нрав,
Но… – Этот камень унеси с собой:
В нем трещина, а все он голубой
И что внизу я нацарапал вам
И не на память, и не по глазам,
Которым не навязываю спор. –
– Кармин и пудра невеликий сбор
А времени-то много у тебя. –
– Цените выдержку, не теребя
Прощу: не поцелуете на чай? –
– А оглянуться тоже некогда, поди, –
Прощай!
<1916>
Божидар*
Божидар (Богдан Петрович Гордеев) является автором книги стихотворений «Бубен», изданной дважды (Харьков, 1914 и М., 1916), оригинального исследования «Распевочное единство» (М., 1916), охарактеризованного Р. Якобсоном как «стиховедческие фантазии»[230], а также нескольких поэтических произведений, опубликованных в различных футуристических изданиях. Знакомство и сближение Божидара с поэтами «Центрифуги» произошло в марте 1914 года, а в апреле того же года он вместе с Г. Петниковым и Н. Асеевым организует в Харькове издательство «Лирень». Испытавший в своем творчестве сильное влияние В. Хлебникова, Божидар, в свою очередь, был им высоко ценим: в 1916 году, уже после смерти Божидара, его имя было поставлено Хлебниковым под воззванием «Труба марсиан». Божидар покончил с собой в ночь на 7 сентября 1914 года в лесу около селения Бабки под Харьковом. «Был среди нас юноша, – писал Н. Асеев, – расшибшийся на всем скаку в начале великой битвы со смертью. Сверкающие сабли нашей закаленной ненависти поднялись как волосы от ее близости, когда он уронил свой „Бубен“»[231].
Niti*
И
Я,
И
ON –
Мы:
CON!
Для
Тьмы
У
ДNя,
У
Пик –
Час,
Миг
Для
Nac
Верём.
Поём
Хvаленье
И пенье
Льём!
Хvаля
И тьму,
И cNy
Поя.
О
Ты!
О
Друг!
Мы:
Круг;
Мы:
CNы!
А
ДеNь?
А
Сvет? –
То
ТлеN.
Vзлет
До
Мечты;
Почти
До дNа.
Где пустота
ОдNа
И та:
Лишь v тьме
И сNе
ViдNа.
<1914>
Пиры уединения*
1
На небе закат меланхолический полусмерк.
Вселенной
Горизонт раздвинулся –
Головокружительно… Пылью засверкал фейерверк
Планетный. Дух кинулся
В вожделенный
Метафизический мир – неизведанный верх.
2
Ходули логические, мучившие – я снял. –
Трясины
Заблуждений, мудрости
Силлогистической – пройдены; дух радостно внял
Как таяли трудности…
О долины
Обворожительный – неба простор, вас ли объял?
3. Зверинец («О Сад, Сад!..»)
Вступаю, приплясывая, в приветливые поля,
Печалью
Упоен таинственной…
О, Уединение, нежная богиня, моля,
К тебе, я единственной
Чуть причалю,
Ты принимаешь милостиво в сумрак меня…
4. Журавль («На площади в влагу входящего угла…»)
В озерах Забвения – прохладном хрустале
Купаюсь,
Забывая прежнее.
И высокомерие взрослого меркнет в стекле
Озер. Неизбежнее
Возрождаюсь
Благоговейно молящимся мальчиком Земле.
5. «Конь Пржевальского» («Гонимый кем – почем я знаю?..»)
Окутанный сумраком дымчатой темноты,
Беззвездной,
Улыбаюсь думая:
«Я в небытии… я в прекраснейших полях пустоты.
О, Жизнь угрюмая,
Безвозмездно
Ты прожита!..» И ложусь на душистые цветы.
6. Числа («Я вслушиваюсь в вас, запах числа…»)
Целую цветы – благоуханнейшие уста,
Росою
<1914>
Бодрость*
Волнитесь тинистые,
В – неточные озёра!
Позёра мыслься жест,
Шест высься акробатств
Покинь, душа, тенистые –
Печалины аббатств.
Вы, развалившиеся,
Разветртесь! тлейте мхами!
Мехами мхов озноб
Вогробный – ах, вотще!
Вотще, ах тщит дух, шиляся
В лазоревый расщеп.
Лирьте же вихрем крылья
В пылью вспылившемся флирте
Формы и содержания
Искания задятся кормы,
Но ты
Дух – пило́т,
Зазвездь темно́ты
Темноты́.
7/III – 1914
Москва
Пресс-папье*
Сквозь стекло куклятся
– Так не ты ли – землистый? –
Три – в плясе – паяца,
Листы
И
Травки || буклятся.
Куклы остёклившись,
– Дух паяцнувший в воздух –
Порывничают в высь,
Но стух
У
Кукл дух, поблёклившись.
Стеклянюсь (манекен)
– Пресс-папьиный спит клоун
Троичный, бабушкин –
Зову,
У
Всех прошу: «В земле – плен?»
В воздуха пресс-папье
– Паяцы льют слезины –
Впаян дух в пленение
И сны,
И
Жизнь: || бред на копье
Души
Прободённовоздетой
И
Остеклетой.
Der Studiosus ist toll,
er bildet sich ein in einer
glasernen Flasche zu sitzen.
12/111 – 1914
Москва
Солнцевой хоровод*
Кружись, кружа мчись || мчительница
Земля, ты || четыревзглядная!
Веснолетняя, нарядная,
Смуглая || мучительница!
Осеньзимняя
Кубарь кубариком
Жарким || шариком
В тьме
Вей,
Полигимния,
Сме –
лей!
Ты солнь, солнь, || солнце – золото,
В пляс пойди по пусти трусистой,
Пусть стучит времени долото
Пусть планет поле прополото
Звездодейкой || || бусистой. –
Ты солнь, солнь
Звезды по́солонь,
Небосвод промолнь
Рдяным посохом –
Мчись, мчительница, || кружись,
Четыревзорная земля, –
Нарядная веснись, летнись,
Мучайся || Смугляна.
16/III – 1914
Сердце в лазури*
Дух худой коверкается,
Худеет и сохнет
Бедами, || глохнет
Неизбывного берковца.
Меркнет, меркнет зеркальце
Лопается в солнца
Бронзовый || бонза
Мертвенно коверкается.
Сердце рдеет – церковица
Зеркальцем осолнясь,
Бонзами исполнясь
Избонзенного берковца.
Бедное || дергается
Серебряное сердце –
Купол || отверзся
Вывернулась церковица.
Язвы яви, зеркальце,
Бронзовыя || победы
Бонз изломы || беды
Лазоревого берковца.
29/III – 1914
Уличная*
Скука кукует докучная
И гулкое эхо улица.
Туфельница турчанка тучная
Скучная куколка смуглится
«Не надо ли туфель барину?»
Но в шубу с шуткой || тулится
Цилиндр, глотая испарину.
Углится кровлями улица.
Улица, улица скучная:
Турка торгующая туфлями –
Кукушка смерти послушная,
Рушится, тушится углями.
Улыбаясь над горбатыми
Туркой и юрким барином,
Алыми ударь набатами
Дымным вздыбься маревом!
Вея неведомой мерностью,
Смертью дух мой обуглится
Вздымится верной верностью –
Избудутся будни и улица.
5/IV – 1914
Пляска воинов*
Ропотных шпор приплясный лязг
В пляс танками крутит гумна
Бубны, трубы, смычный визг
Буйно, шумно
Бубны в пляс
Жарный шар в пожаре низк
Одежд зелень, желть, синь, краснь
В буйные, бурные пёстрья
Трубящий плясун, сосвиснь!
Вейте, сёстры,
Трубных баснь
Ярую, кружительную жизнь!
Парами, парами, парами
Ярини, в лад, влево щёлкотью,
Вправо шпорами, бряц || шпорами
Яричи мелкотью
Парами, парами
По под амбарами, по под заборами.
13/IV – <1914>
Воспоминание*
М. М. С<иняковой>
Когда Госпожа || скитается
И в памяти – скверные скверы
И чадный качается плащ –
Два маленьких || || китайца
Взбрасывают чаще и чаще
В просторы || смерклого веера
За тростью || тонкую трость –
Роняясь из древней феерии,
Из колоса помыслов кидается,
Вонзается в мозг мой || ость.
Синеющий веер сползается
Гуденьем || взветренной сферы
Зов памяти странно молящ,
Китайцы в малахаях из зайца
Взвивают круг трубок звенящий,
И вон она верная взвеяла,
Как грудь моя, хрупкая Грусть.
И в сердце склоняется верие,
Но сердце – опять || ломается,
Роняя || грустную хрусть.
22/IV – 1914
Битва*
Вой, вой, в бой
Как буря бросайтесь в брань,
Завывая яркой трубой
Барабаном ширяясь, как вран!
Сиялью стальных штыков
Ударит яркий перун,
Мановеньем бросит бойцов
Лихой воевода ярун
Знаменами мчится месть,
Из дул рокочет ярь –
Взвивайся победный шест,
Пья пороха пряную гарь.
Штыками, штыками в грудь
Креси́, стыкаясь, сталь,
Над грудой рудых || груд
Орудий бубенщик встал.
Могутные духи дул
Взлетлят огнедымный град
Чу! звук глухой подул
Конная накренилась рать
Топотом – в брань, || в брань
Витязи конники
Медно бронники
Скачут и рубятся криками ран.
Ржанье, вперед, || ура!
Прядают ратники
Прочь, прочь, обратники
С тылу и с неба победа на
Ровни рдяной юра.
12/VII – 1914
Слабость*
Запад повапленный теплит || светы
Ветит, вещает обаева слабости
Недугом смутным || мутные сладости
Люлят, баюкают груди болетые
Плавно || блудная земля вернула
Слабого от полымя || Дажбожьего;
Плачущего, никуда || негожего
Нянчила ночью родимая сутулая
Плывные плыли линючие тучи –
Лебеди бледные ветрьего озера
Брызжась, на блазны недужного бзира
Лили, кропили || капли горючие.
Лето 1914
«В шуршании шатких листьев…»*
В шуршании шатких листьев –
Ренаты шлейф || багреца || пламенного.
Коснись || костлявою кистью
Лба жалкой усталостью раненного.
Ах, жилки || жидкою кровью
Устали пульсировать прогнанною;
В глазах: || вслед || нездоровью
Ангел заклубит тенью огненною.
Тогда, || тогда, || Григорий, –
Мечта || взлетит лихорадочная –
И средь брокенских плоскогорий
Запляшет Сарраска || сказочная.
1. IV. 1914
В небесах || прозорных как волен я
С тобой, || ущербное сердце –
Утомился я, утомился от воленья
И ты на меня || не сердься
Видишь, видишь || своды || огляди
В нутренний свились || крутень,
Холодно в моросящей мокряди,
Холодно || в туни буден.
Небесами моросящими выплачусь –
Сжалься, сердце, червонный витязь,
В чащи сильные || синевы влачусь,
Мысли клубчатые, рушьтесь || рвитесь!
Витязь мается алостью истязательной,
Рдяные в зенках зыбля розы,
Побагровевшими доспехами вскройся,
Брызни красной || сутью живительной
В крутоярые стремнины || затени
Затени, || затени губительной.
26. VIII. 1914
Григорий Петников*
Начало литературной (и сразу футуристической) деятельности Григория Николаевича Петникова связано с Харьковом. Именно здесь возник один из провинциальных «филиалов» столичного футуризма, когда в 1914 году Петников с приехавшим из Москвы Н. Асеевым организовал книгоиздательство «Лирень», поддерживающее связи с «Центрифугой». Петников дружил с сестрами Синяковыми, жившими в местечке Красная Поляна недалеко от Харькова; их дом стал своеобразной «резиденцией» футуристов. Первая книга Петникова «Леторей» (совместно с Асеевым) вышла в издательстве «Лирень» в 1915 году. Важным для Петникова стало знакомство в 1916 году с В. Хлебниковым. Они вместе подписывают манифесты «Труба марсиан» (Харьков, 1916) и «Воззвание Председателей земного шара» (Временник. 2. М. [Харьков], 1917). Сильное влияние Хлебникова ощутимо и в поэзии Петникова.
К футуристическому периоду творчества Петникова относятся также три его последующие книги – «Быт побегов» (М.; [Харьков], 1918), «Книга Марии Зажги Снега» (Пг.; [Харьков], 1918), «Поросль солнца» (М.; [Харьков], 1920; 2-е изд. – Пб., 1922). Хлебников писал, что «Петников в „Быте Побегов“ и „Поросли Солнца“ упорно и строго, с сильным нажимом воли ткет свой „узорник ветровых событий“», и отмечал при этом: «Крыло европейского разума парит над его творчеством…»[233]
В первое время после революции Петников совмещал литературную деятельность с государственной службой – был председателем Всеукраинского Литературного комитета Наркомпроса. В позднейших его книгах футуристических элементов практически не осталось, но некоторые ранние произведения Петников включал в свои сборники.
Папоротник*
На страшный верх из вер
Отъятый случай на поклоне
В гаданьи стрел изверг –
Речами глаз – напротив.
Реками в лад ведут
На встреч мольбу о дубы.
И гнездный пир на путике
Встревожный склон задует.
Взоры бежали сами…
Запиханы души слов…
И коло вечора лесами
Навзлёт развивает число…
<1915>
Миросель*
Какой бы сверкалой дюжины
Утешена стая надменника.
Омирщенною клонью разбужены
Позвука зорчии пленники
Так отвечает в гонитве –
Неугодным походом на пропасти
Дышел воздушных на вид вы –
Очертелые дыхи робости
Тутнем ходячим допытан
Ревнующий внятень подъемов.
Кто же вот скажет, копытом
Бьет он за рощей Прове?
Тоже замучил время.
Кунак, добродий удневий.
Может уздетая темень
Отдавает заведомо гневом
Отруба у предмолвия – иночто
Прекословит клоня обоямо –
По привычке все ж дышельным вынужден
Туловом сдать пред брамой.
<1915>
По весне!*
Когда в сухую весен грусть
Днем площадь снится,
Биением не скажет: пусть!
И неба борчатая плащаница.
За вычетом дали останется
На ветер заброшенный призрак,
Числовых строгостей данница
Ношена мной еще в детстве.
Асфальтом пошире, помимо все гнался
Двенадцать усталостей!
Точно как на́дсырь канауса
Измерена верно на чувство
Раздвоенной уст твоих алости…
И зрачок в двух углах усмехался
А ты же все кочевник
Моих обугленных строк,
Светом послушай очей в них
Водопоях гремящий рог.
<1915>
Рубеж весны*
Я принимаю синеглазых
Окраин вешних простоту
И странную вдыхаю ясень
В засеребревшемся листу.
Что это будет – только очерк
Дивеева скита лазурь,
Иль буйный рост, как живопись, как роща,
Поющая и пьющая грозу.
Какой густой овладевает ветер
По заводям зацеловав траву,
И чуется, как цепенеет
От марта смерть в падучем покрову.
1915
Посмертье*
В кору хоронят соки слепо
Раденья вербных тонких вен,
И хладами вскормленный север
Уже заведомо забвен.
А вот когда в весны предсердьях
Встает аорты тяжкой ярь,
Ты володом каких посмертий
Вздыхаешь целины испарь?
1916
Племя звучаное*
Н. Бруни
В побеге ветвистого ветра
Потребой ночною владеть
Ты племя звучаное смерти
Предал опоённой волне.
Цветают искры и умирают
Лётными звездами лета
В копытах небесных коней
И пламя зеленое тая
Рассыпет кочевья огней
И время весняное веять,
Листвой изумленной кипеть…
Хлебнув озерной тишины
Голубопламенной онеги
Первоначальной теневы
То яблони оделись снегом.
Так мотыльковая метель
Кружит в садовых побережьях,
Потоком голубым слетев
На вещую ложится свежесть.
Благовещенье, 1916
«Твоих тишин неуловимый вывод…»*
В. М. Синяковой
Твоих тишин неуловимый вывод –
Как обойти звенящую траву,
Кропя ржавеющее жниво
Росою осени, грустящей поутру.
Напевом взлетающих иволг
поишь земли пьянящий шорох,
раздолий вылившийся вымах
на сталью выгнутых озерах.
И это серпень полевою волей
впрядает в озимое рядно
узоры плахт, родимый голубь,
влетевший в осени окно.
1916
«В такую горячую весень…»*
В. М. Синяковой
В такую горячую весень,
В такую певучую заросль
Вошла – и раскинула песень
Сплошной зацветающий парус.
И стаем лазурного вымысла
За мной чрез кленовую летопись
Неслись на весны коромыслах
Дремучие скрипы и шелесты.
И в этой распевшейся прелести
Апреля – летучее племя –
Молвой дождевою от ветрости
Срываясь, впивалося в землю.
И там насыщаясь от чар ее
Легла в золотистой обнове –
И дней густолистое марево,
Как повесть, как поросль кленовая.
1916
Поросль солнца*
За взрывами весенней воли
По золоту тяжелых крыл
Подробный вылет темной доли
Твой дикий воздух взором взрыл.
И тягу двух таят оплечий
Венцы словямые дивес,
Что грозной полыби полетье
В суровом былье влажный мнтестр.
Приди в предсмертии конечном
В края отрепетных морян
И пламенем, что лавой белой
Ты опылай погул полян.
1917
Петербург
Узор сна на Чусовой*
За желтый и густевший луч,
За голубую лапу пали!
Кружась о заросли морозных туч
Застывшие чужие глади
И поставь общей белизны,
Как сгусток инея возник…
Мороза седь и в отчужденный день
Твой тонок дым – медлительная поступь
И ветер в реях не толкнувши воздух
Остановил свои гряды…
Встает весенний Лей
Тепла лелеемого лепо.
И стает в синей лапе падь
Короткое, быстреющее лето!
1917
Чусовая
«Говорит Подгромок старшему своему брату…»*
Говорит Подгромок старшему своему брату:
Дождя дарь силу листную радует
Дождя жадного руевые струи
Ра собрал за арбою жаркою в гром колесный
И нежно женного дивня трав,
И земле долу череника лесная.
Серый мнев вот листьев зелелея
Изумруды мурома и млавы
Веснеструйна лава!
Да обряды брата скажут в четких каплях!
Будь свежее!
<1918>
Осенний офорт*
И приход сентября без отчёта
По восторгу горюющих мет
Узнаю голубин неизбывьем,
Твой мелькающий мех ясенец.
Это золото встало по бредню
На убаве неметь и робеть,
Перед дующим поверху сретеньем
Колыхать облегчённую ветвь.
И дичая и в чащах роясь
Загораться с рябиновых слов
Из-за морева грающий спас,
По лугам полыхающий лов.
Ловчих десять с потешной капели
В рукопашной сердец сентября
Ветропадом бродяжным напели
Сребропенную сыть соловья.
Потому от осенних потерь,
От пропаж, от полетья куста
Будет холода ранняя тверь
Занемлять радунцами уста.
1916/19
Красная Поляна
Лирический отрывок*
О, как обуглен ночи очерк,
Ракит кивающего кивера,
И на песке тоскует в поручне
Струя весны, сливаясь ивами.
И вот приходит лунный дивень
Сберечь речную тишину,
И напоить ночною гривой
Дерев волхвующую вышину.
А там –
Тяжелый ток летуний золотых,
То полночи немолчно колыханье,
А ты, дичась опальной теневы
Ко мне слетаешь солнечным преданьем.
<1920>
Райна*
Ближе держась к ветру
Райной, повернутой вкось
Знаки печали внедрит
Твой верблюжонок сосновый
Тот же отреянный нордом
Пенный устав на заре,
Мачтовый строится город
Высью, прозрачной сестрою
Воздуха сонная одурь
Долгим серпом высинеет
Свесок небесных морей –
Глотая бортами дремучую воду
И помня обычай проснувшийся давечь
Исчертишь в граверне блеснувшего года
Резцами помолний лазурную затишь,
И за стаей восходов плывущих
С былинного тяжкого моря
В просиневшую пущу
Взмахнувши ветвями зари
Я в цвету, я пою,
Я певчее яблони плесо
В серебряный лес облаков,
Облетевших цветов
Роняю снега марии
То летней грозы наливается жаркий
В высинях поспевающий гром
<1920>
Райна («На корцах краснолесий высоких роса…»)*
На корцах краснолесий высоких роса
Без конца, без прозорья добра,
Значит кипенью снежной кипят
Дорогих первогорий леса –
В отуманы серебряной вязи
Вновь поличие земного пыла
Это мледуга полного спаса
За ой лелю лето поила –
От цветовитого берега сдвинуты
Воины хвойные в торные тали
И на пролетах венчанных первин
За очами посланца исконного тая –
Видишь –
Дебелого ладного быта
У поючего дня и тучного гула
Все – особого бега ясная стая.
И последние истовы
На громаде выгнутой дробных небес
И со дна не одною ли мерою выльется
Серп и первое небо?
И вот тропа, как бора раба
Голубиня дубровые моры,
Закружаяск в подружия пряж –
Белой бор оговорен осени
Богородичной тканью дважды.
<1922>
«Как перебои русой осени…»*
Как перебои русой осени
Заплески поутру ветали с межи,
Твой только в россыпь повойник
Червоных листов и нежин.
Воздух вылит как песня
Которую не успел зачерпнуть вечер,
От этого пьяная свежесть
Тянется в голубой омут,
Ясно знавая – теплынь дивежа
Разошлась светая и сетуя
Ночь. Четко твердеет цветка
По изумрудному выгону лета
И в пламени ль осенних вотчин
Тревожный и тяжелый дух
И полосы твои короче
Порывных дней рдянеющий недуг.
Где нивы смотрят Божьими глазами
Границах тлеющей зари,
Где загораются рощи,
Которые выжелтил, выносил ветер
По устьям августа над тишиною рек –
Зачалит чалмой осока
Полночи серп
За медь поющею становища.
И медленно приходит в шатер
Желто-бурых одружий
Многоочитая златень –
Здравствуй, баюная влада,
Здравствуй, здравствуй деревьев пламень.
<1922>
Федор Платов*
Участие молодого живописца Федора Федоровича Платова в русском футуризме, конкретно в группе «Центрифуга», продолжалось недолго (1915–1916). Его поэтические произведения были опубликованы во «Втором сборнике Центрифуги» (М., 1916) и в изданном им на собственные средства футуристическом альманахе «Пета» (М., 1916). Стихи Платова были практическим подтверждением разрабатываемой им теории «гаммы гласных», согласно которой «правила гармонии и контрапункта действительны и в гамме гласных» вследствие ее равенства «с обыкновенною музыкальною гаммою»[234]. Платов также выпустил три книги своих афоризмов: «Блаженны нищие духом», «Назад, чтобы моя истина не раздавила вас» (обе – М., 1915) и «Третья книга» (М., 1916). Этим литературная деятельность Платова исчерпывается, но продолжилось профессиональное занятие живописью (см.: Выставка работ художника Федора Федоровича Платова. М, 1969).
Dolce*
Ор. 13
Один над брюзгливою чувством
Один вешу пар
Всюду ютят юродиву
Глаголя петь пароль
Плеск уют струйства стуть
Юрок юр мерила
Гуляет в лете гудок
Гулко помирь
Чут юра юродиву ують
Спуск чуля чуток
Чум Гу.
<1916>
Prélude № 2*
Op. 14
Фавном свиру ейя
Мистичность в туман
Шелком адской неги
Шчагу лоруеюе ей
Серка серка.
Ид в лубан дуды.
<1916>
Poème № 1*
Ор. 18
1
Зеленя в зелени
Вечери скачь
Приведеня виденя домвоя
Вою с хвои в вныюм льсо
Леи вычи сизи дуда
Зеления в зельни с качи
2
Сизу пичь в ночи очь.
Вичу ртичь с веша
Веша дуду дида саха
Леша зеленя вечери скачь.
Зеленья, зеленья!
Слехи эхи тичми.
3
Лели рута киша
Палы диды дудам плян
Плясы сёла кружи
Зеления в зелени
Вечеря скачи.
<1916>
Песнопение № 1*
Op. 18
1
Свеце!
Визе преслачэ.
Свец слач
Яче Гозд Свец.
Свети тихи
Свец Гзда.
Слачэ!
2
Виде! Види.
3
Видели, Видели
Лучи Господа!?
Подай, света ради!
4
Свеце ясен
Тихи слач
Свец! Свец!
Гозда! Гозда
Слачэ!
5
Видели свет!
6
Виде свеце.
<1916>
Prélude № 1*
Ор. 18
1
Клян диды.
В зряч оч чл
Голубушка очьми негля в очь.
«Пресньжэ отчи очь» – дида
Клян диды
2
Дивы чл в чзба чла
Дады дыды снежа
Див гзб силы клян.
3
Клян диды.
<1916>
«Всиде кин, очи долу…»*
Op. 20
1
Всиде кин, очи долу,
Мертво-согбен кротом.
Сказ бльну, без ног волеж:
– «По встаянию хождение».
По смертью воскрешении, встав в уход.
2
По приходу рбов, им:
– «Рабы восстанием! не вы ли мать
По воспитанию мне?»
3
– «Смётом, смётом вырдка!»
С дудом на плеч к мру.
4
Прятчь мёртво-согбен кротом,
Всиде кмен, очи длу.
Мечи вздусь мечь.
<1916>
Борис Кушнер*
Литературная деятельность Бориса Анисимовича Кушнера была весьма разнообразна. Он автор двух поэтических книг – «Семафоры: Стихи» (М., 1914) и «Тавро вздохов: Поэма» (М., 1915). Его книги «Самый стойкий с улицы» (Пг., 1917) и «Митинг дворцов» (Пг., 1918) можно охарактеризовать как опыты футуристической прозы. Фрагменты «Митинга…» вошли в «революционную хрестоматию футуристов» «Ржаное слово» (Пг., 1918). Кушнер был одним из организаторов ОПОЯЗа, для книги «Сборники по теории поэтического языка. 1» (Пг., 1916) он написал статью «О звуковой стороне поэтической речи». Ему принадлежит историко-философский трактат о еврействе «Родина и народы» (М., 1915). После революции Кушнер активно выступал за тесное сотрудничество левых художников с новой властью. Он, в частности, подверг резкой критике издателей «Газеты футуристов» (1918. № 1) – Д. Бурлюка, В. Каменского и даже В. Маяковского – за их недостаточную, по его мнению, политическую активность. «Не заблуждайтесь, – писал он, – полагая, что продовольственная разруха дает вам право нести „к обеду грядущих лет“ лежалую мякину былых обильных урожаев»[235]. На страницах газеты «Искусство Коммуны» Кушнером была выдвинута идея создания групп «комфутов» (коммунистов-футуристов). Позже был участником Лефа. Репрессирован.
«Управим заправские полозья времени…»*
Управим заправские полозья времени,
По лосиному следу приспустим скоро:
Очередь завивать на колечках выселки,
Придержать отъезжающим запотевшее стремя.
На подпольи полуночи не бывать укору,
Как начнем подбирать по раскатам проселки,
В переметное сверстывать, да навьючивать племени
Коренастого колкого уходящего волка!
Песьими лапками ободком по оврагу
Обивает голая у потемок пороги –
Да уж больно мала у ноги-то щелка:
Не пробиться ни коршуну, ни черному граку.
А у милой застужены обнаженный ноги!
Как пойдут передергивать, перепрыгивать захлестни
И улезут медведицы под укаты в берлоги,
То-то будут запрашивать на базарах дороги,
То-то станут недороги закоревшие пролежни!
<1916>
«Белые медведи из датского фарфора…»*
Белые медведи из датского фарфора
Пролетают, как диких гусей вереницы,
Задевая крылом золотую гондолу.
И выжженный можжевельник склоняется долу,
Поют серебряные повода зарницы –
Неспокойные струны вечернего простора.
Сердце бойца ли расплющено карнавалом?
Как они бряцали жалящим железом!
Заблудились дороги неразъезженным лесом…
Старый витязь едет по опушке рощи;
Искусала змея его поганым жалом,
Пропал он, старый, попал как кур во щи
За хрустальным пологом, за лазурным обрезом.
Зимние горностаи, как стрелы из колчана ветров,
Как раскаленные добела молнии
Изрешетили многих, долгих лет кровь…
Завязи горла завязали в гордиев узел.
И поют одни лишь травы дальние
С колесницы Фаэтона, с высоких козел.
<1916>
«41°»
Илья Зданевич*
Один из самых радикальных деятелей русского и французского авангарда Илья Михайлович Зданевич на протяжении долгой своей жизни был поэтом и прозаиком, драматургом и живописцем, теоретиком искусства и организатором литературных групп, экспериментатором книжного дела и издателем. В 1911 году вчерашний гимназист Зданевич, приехавший из Тифлиса в Петербург с целью поступления в университет, с головой погрузился в левое искусство. Начав с популяризации идей Ф. Т. Маринетти, он осенью 1913 года уже полемизирует с футуризмом и формулирует (совместно с художником М. Ле-Дантю) идею «всёчества» как нового направления в искусстве. «Всёчество» допускало использование эстетических форм искусства разных эпох. «Эклектизм, возведенный в канон, – такова была Америка, открытая Зданевичем…», – иронически вспоминал Б. Лившиц[236]. Тогда же под псевдонимом Эли Эганбюри Зданевич выпускает книгу «Наталия Гончарова Михаил Ларионов» (М., 1913) – первое исследование творчества этих художников.
В октябре 1917 года Зданевич вернулся в Тифлис. Вместе с А. Крученых он организовал там «Синдикат футуристов», а затем, вместе с Крученых и И. Терентьевым, группу «41°» и возглавил одноименное издательство.
В историю русского футуризма Зданевич вошел, прежде всего, как автор заумных драм, составивших пенталогию «аслааблИчья пИтерка дЕйстф».
В октябре 1920 года Зданевич покидает Тифлис и после одногодичного пребывания в Константинополе приезжает в Париж, где сразу же включается в литературную жизнь. Он сближается с французскими дадаистами А. Бретоном, П. Элюаром, Т. Тзара и другими, пытается пропагандировать русскую авангардистскую поэзию.
В 1923 году постоянным псевдонимом Зданевича становится «Ильязд». Дальнейшая жизнь во Франции не всегда была благополучна для него в литературном отношении, но Зданевичу удалось издать несколько книг, в том числе три романа. Творческие отношения связывали Зданевича с Ж. Браком, М. Шагалом, А. Матиссом, П. Пикассо и другими крупными художниками.
Янко крУль албАнскай*
хазяин
граждани вот действа янко круль албанскай знаминитава албанскава паэта брбр сталпа биржофки пасвиченае оль ги ляшковай здесь ни знают албанскава изыка и бискро внае убийства дает действа па ниволи бис пиривода так как албанскай изык с руским идет ат ывоннава вы наблюдети слава схожыи с рускими как та асел балван галоша и таму падобнае на патаму шта слава албанскии смысл ых ни рускай как та асел значит (па нужэ смыс ла ни приважу) и таму падобнае пачиму ни смучяйтись помнити шта вот изык албанскай
деи
янко ано в брюках с чюжова пличя абута новым времи
ним
княсь пренкбибдада
албаниц брешкабришкофскай
двои разбойникаф из гусыни
немиц ыренталь
блаха
свабодныи шкипидары шкипидарыф ыграют зритили
слушаца клаки
дела в албании па виде
начяла
реф мелких чисоф
разбойники
ривут за сценай
хорам
аб бевегбевиг ге де е
аб бевегбевиг ге де е
жзи какал какал мно
о о о о о о прстуеф
ха чешыщчешыщ щэ ю я
ха чешыщчешыщ щэ ю я
Б Ъь Ъь ы
ыы ы ы ы ы 6
вбигают
хазяин
разбойники из гусыни
первай разбойник
абвг дижзий клмно прсту фхцчш
щтль ы ыюя ижыца аб вгд жзик
фтарой
лмн? оп рст? уф хцчшщ? Б? ъ? ь?
первай
ы ыюя ѳ νабвгд еж зийкл мно
рстуфх цчшщ ыыю яжыцаа
фтарой
бв? гдиж зий клм ноп рстуф?
хцчш щэю яѣъ ьыеиж?
первай
ыцаа бвг дижз ийкл мно прсту
фтарой
ф? хцчш щ ѣъьы ѳэ юя?
ижыца а бвгд е жз и й клмн о прсту
первай – 1
втарой – 2
аркестрам
абв гдежз ийклм ноп рс
хфцч шщэю я ѣ ъьыѳ ижыца
туфх цчшщѣ ъ ьыѳ яижыцааб
абвг дижзи йклмн ап р стуфхц
вгдежзий клмн опрс туфхц
чш щ ю ияѣ ъ ьыѳи жыцаа
ч ш щ э ю я ѣ ъ ь ы
а б в г д е ж з и й
за нажи дируцца
хазяин
пренкбибдада з брешкабришкофским
пренкбибдада – 1
брешкабришкофскай – 2
врываюца разнимают
аркестрам
ливот дувот равот ыкикики
укук выкикжукугзакам ликифликипс
ковот зывот хювот
флукук рыкиканакакиш чикихикичуку
вовот жавот фавот
мракаб бакатакамракас жакатакифс ыкикики
нивот пувот вот
цыкинакаип кижаках выкихакабуку
бязок сизок жозок
утуфпатам нзытимитит витиритифш ытепити
цэзок пызок тузок
вратак фатафлититатап прутукититата
чязок гизок жозок
ститеп рытимижэгуту матамзотол ытепити
хызок кузок зок
цытет дутуничятата чятабататата
хорам
динавзять круля?
пренкбибдада – 1
брешкабришкофскай – 2
разбойники – 3
аркестрам
нитвак ниплак пижак
кикабик ыкузыкакик аякик кируякики
абвгдеж зийклмнопр стуфхцч шщѣъьы юяѳ
нишак дупурапак
кикамкук аихукаяк кофоикикикик
ижыцаабв гдижзий лмнапрстуфхцчкики
ниграк нинак нифлак
кукиканкук кагукикик кудуск ксаика
шщыюяѣъьые иж ыцаабвгдеж зийклмнапр
низдак дупурапак
кикапакик качокакик кофолукикикик
стуфхцчш щыъюяь ѳ и жыц аа
хорам
динавзять круля?
хазяин
блаха с янкой
блаха
вскакьваит
янко
ловит пишит на блахе
собственность янки
пренкбибдада
брешкабришкофскай
разбойники
хватают янку
блаха
улипетваит
хорам
ю бутьрулем
янко
папася мамася
банька какуйка визийка
будютитька васька мамудя
уюля авайка зибитытюшка
аблюся сякавака мукигугуня
бузюбузабзититька дюдибюдя суря
микуйка какая
вискалейка аваляся тискудюня
засюсифатю виядя уюя
банька какуйка муйка
пренкбибдада
харам бажам глам
зыки киу квет
ио ио ио
свабодныи шкипидары
тампус марсис
пузынуза лабируза каватуза узызус
янко банка казыбланка кыпабланка шахматист
пренкбибдада
длинарода галавода ододо
лода жода уиуода
тпрв мкст ншпрс утпр век
клкн клкм пттк пьюк ю
брешкабришкофскай
разбойники
свабодныи шкипидары
хорам
тампус марсис ю
хазяин
речь трунная
янко
цапаит карону
ае бие бае бие бао биу баэ
брун барамур гаратул сабану
манаманул бао измер фанул стук
сглв сгтп цгтв мнбл бн баэ
биу ганар гматер гажатаку
бурун барамур брамер раме
р хох хох галоша на фартипляси
рабанабул дабо кабил тате
матамалур анол абир абале
бач шырет р бач шырет м
авалайтись авалайтись алуби бирала
имун гитара цалет язбо
растат накабаста лакбираю васаалога
пренкбибдада
брешкабришкофскай
раз<б>ойники
свабодныи шкипидары
хорам
ю асел
пренкбибдада
мажыт трон синдитиконам приклейваит янку
янко
нуи праквачец
пренкбибдада
брешкабришкофскай
разбойники
ривут пляшут
хорам
фрам гом хыхыдырот ров гез
хор брем воролест ир ин грей
сун дыгидыхет чи вер мун хос
гор а гор э гори горо гол
буф хеф ушерхик чям хала
цын ту запагавул кос вот выч
сгалижол викшытабли
пал у боун о жавиригол
млеч там мижап апи ризо
таб ри гамгам угве угво
мачтаел азьювапдош
гор а гор а горе гори горо гогоругол
стаят
аркестрам
шэк тук моб – 1
бличик мутикикавута бликутжутара – 2
аб вг де жз ий кл мн апр ст уф – 3
вып глам геп
мизивизидицол авжык каючахавиркуя
хацэ чишэ щэ ѣ ъ ь ыю ия ѳижыца
руж тоц хафхур
чичкавихат хавидихой вуишнач ивадат
абвг деж зийкл мноп с туфхц
бмиМАс бмиМАс боз мдидагуей
чшщ ѣъьы июя ѳ ижыцаа бвгд
вап лыс гун |
лидигуивирол самбо | иЗЕж
(-ча виона |
зийкл мно пр стуфхцчшщ ъ
юф пис жош
лантакижугул бжибжэр чимимаможо
ьы ѣ июяе ижы цаабв гд ежз ий
жог эчь би
цкачтиаа куткут янкачеи маломя
к лмн ап рс туф хц чшщѣ
бмиМАс манол бЖАнавала
ъьы эыя еиж ыцаабв гд
убигают | иЗЕж
янко
ни можыт атклеица
воит
увау уа уи еи уеиеиу
уеи ув ив иеиа аи ивоу
виу эиеяо аув вио авиаеиу
уэвиуао эвевн ву йву увиуу
уа уе и уеоиева вив
яоеои уявуя ов ав авау
яувеи вюивюве ие ууй оой уйой оййо
аувивай увай вово уи ува вауий
еоййойо аеи аиоиа ыу ово уу
уаоа оыуи увау уви уявуа а
хазяин
немиц ыренталь
ыренталь
влитаит
цумкатыр хиди гайгай
янко
гайгай
ыренталь
ботыр вегер ихабе кайны мутыр
клопс латамин ыренталь росфатыр
оин копен дацу вильдит уйбин
ахт гегосин фир илевин драй
витписе ставин татменгер
хунквит зи аунбрюбер дас
цумкатыр дюрер кандуктар
мосин динау брюнфирмалин
хам бранц вал мазоль
янко
вык микват атубир
мытав зазусу
блык бидавидик аватикан
ангей уада
брыфсытаф дуырамзалзош кавиржуза
взатыз
янко – 1
ыренталь – 2
аркестрам
враф гажнат масхляп пляги
грум шакен вырх
враф ырувок мил
гагвик накфуц
малиудеш быдзвол
хоцэлд олд идол
ана ваней двуной
манерин окш
шной князец авул
драюндрайсик
идеп
биди ваДА
ыренталь
пробуит атклеить янку
пренкбибдада
брешкабришкофскай
разбойники
вламваюца
ыренталь
бижыт
хорам
аминазет
янко
махлас
пренкбибдада
брешкабришкофскай
разбойники
хорам
бр вв тх с ж кг
лб чм фп жв шк
шз кц ст бб вм
лсбсксжс
шптврчрхцчмгзж
режут янку
янко
умираит
фью
хазяин
реф сумирчи моря
пренкбибдада
брешкабришкофскай
разбойники
скрываюца ривут
хорам
эрераро рарум риве равора
иииэ над мори паруса
иииэ ихе ихо ихора
ийдувале ийдуваля хира
хатум мавул ке
мистре ватронь та
мика вакой свиж
микла макло клюклу кли
вивер мивро
пидрил вапу нили вале
ставаль митерни
микре вакуи муви съвей
микулавер эреваторо
хазяин
канец
1916
Ослиный бох*
свачай жмец сус свячи
шлячай блец нюс нюхчи
псачай
заличи.
фарь ксам
цукарь лусам
шакадам
схуда
дьячи
дам
дада.
смох шыц пупой здюс
жрюс кой кыц бабох
цыц
ей
юс
ех
какарус
аслинай бох.
1922
Париж
Ослу*
чизалом карыньку арык уряк
лапушом карывьку арык уряк
ашри кийчи
гадавирь кисайчи
ой балавачь
ой скакунога канюшачь
1922
Болтовня*
чакача рукача
яхари качики срахари
теоти нести вести бирести
паганячики вмести
ехчака чока
чока сучока
рачики жачики бачики кока
1922
Париж
ТрупЕрда*
хушок жапарясай
захуху выеючячь
вуЕнит зюнчь
бужачяй сагтЕг
чакит
Епша
сиячая тронть
1922
Париж
Игорь Терентьев*
Игорь Герасимович Терентьев относится к последнему поколению русских футуристов. Весной 1918 года в Тифлисе он присоединился к И. Зданевичу и А. Крученых, и они организовали группу футуристов-заумников «41°». Участие Терентьева в деятельности группы сразу принимает энергичный и разносторонний характер. Он читает секции в «Университете „41°“ (Футур-всеучбище)», участвует в диспутах; в издательстве «41°» вышли его теоретические работы: «17 ерундовых орудий» (Тифлис, 1918; 2-е изд. – Тифлис, 1919), «Трактат о сплошном неприличии» (Тифлис, 1920) и книги, посвященные соратникам по «41°», тоже имеющие теоретическое значение, – «А. Крученых грандиозарь» и «Рекорд нежности: Житие Ильи Зданевича» (обе – Тифлис, 1919).
Терентьев выступает как радикальный и последовательный теоретик заумного языка, единственного приемлемого, по его мнению, для современной поэзии. Он не только полемизирует с литераторами, традиционно относимыми к «прошлякам», но осуждает и тех футуристов, которые остановились в своем развитии, «так и стоят за-я-канные и за-все-канные»[237]. Терентьев писал:
«Наша поэзия отлична как:
1. Упражнение голоса.
2. Материал для языкопытов.
3. Возможность случайного, механического, ошибочного (т. е. творческого) обретения новых слов.
4. Отдых утомленного мудреца, Заумная поэзия чувственна, как все бессловесные.
5. Способ отмежеваться от прошляков.
6. Сгущенный вывод всей новейшей теотики стиха.
7. Удобрение языка (заумь – гниение звука – лучшее условие для произрастания мысля)»[238].
«На заумном языке можно выть, пищать, просить того, о чем не просят, касаться неприступных тем, подходя к ним вплотную, можно творить для самого себя, потому что от сознания автора тайна рождения заумного слова скрыта почти так же глубоко, как от постороннего человека.
Но заумный язык опасен: он убьет всякого, кто, не будучи поэтом, пишет стихи»[239].
Как поэт Терентьев выпустил две книги стихов – «Херувимы свистят» и «Факт» (обе – Тифлис, 1919). Его поэтические произведения печатались также в альманахе «Софии Георгиевне Мельниковой: Фантастический кабачок» (Тифлис, 1919) и книге А. Крученых «Ожирение роз: О стихах Терентьева и других» (Тифлис, 1918). Стихами сопровождались и теоретические работы Терентьева.
После неудачной попытки эмигрировать Терентьев в начале 1923 года приехал в Москву, где установил контакт с Лефом. Однако взгляды лефовцев показались максималисту Терентьеву слишком умеренными. В мае 1923 года он писал И. Зданевичу: «Все кто не в Лефе – сволочь несосветная. Сам же Леф тоже сволочеват. Позиция д<олжна> быть общественно ясной, а потому я в Лефе с Крученых заняли самую левую койку и в изголовье повесили таблицу 41° и притворяемся больными»[240].
После переезда в Петроград в августе 1923 года Терентьев возглавил фонологический отдел ГИНХУКа, руководимого К. Малевичем. Однако в дальнейшем его все более привлекает театр, он пишет пьесы и ставит спектакли. В 1926 году он основал экспериментальный театр Дома Печати, где осуществил скандальную постановку гоголевского «Ревизора». Критика оценила ее как «запоздалый рецидив футуризма в области театра» и «откровенную вылазку художественной реакции»[241].
После первого ареста в 1931 году руководил на строительстве Беломорканала театральной студией. Освобожден в 1933 году. После вторичного ареста (в 1937 году) расстрелян.
Серенький козлик*
Моснял мазами сено
Кутка неизверная
Тена фразам исчерна
Нерно прокатом
Окатом высокотом
Вуста уста стали
Сихи мелбормхаули
Мотма борма смений
Выборма вылисма вымотма
Выбормотался гений
Вот как.
<1918>
……скому*
Ради Бога пишите слишком
Одинаково все будет распродано
Первый купил я вашу книжку
И прочел ее всенародно
В Тифлисе давно все футуристы
Глотают издали метафоры даже
Простой писчебумажный лист
Где великое имя нацарапано
Ангелов стаскивая с облак
Штанов нашейте из пара нам
Ваши стихи каждая вобла
Поет под гитару
<1918>
Хрящ*
Футуризм меня перестал беспокоить
Это будет и с вами на днях
Но потом опять что-нибудь нетакое
Новая западня
С силой как эротобесия
Кто-нибудь закупоренный опять закричит
В мире в мире в мире весь я
Миром из меня сочит
Но чем меньше в бутылке пламени
Тем я пламенней делаюся сам
Бухнет спово тараканье
По носам
В чем же будущее если не в распутстве
Жестов слов и пожаров
Бокс единственное искусство
Хрящ готовящее для ударов
Смерть единственная тема
Никому не рассказанная очевидцем
Поэтому в жизнь можно как в теорему
Совершенно точно влюбиться
Весна в пенсне идет из-под дивана
На терпкий тротуар под зонтиком весны
Туман сырой как мозг эротомана
Блестит прослабленный в пенены.
<1918>
Юсь*
Апухтин над рифмой плакал
А я когда мне скучно
Любую сажаю на кол
И от веселья скрючен
Продолжаю размахивать руками
Дышу отчаянно верчусь
И пока мечусь
Смеюсь у вообще юсь.
<1918>
Алексею Крученых*
Крученых ай кваканье
Ай наплевать мне на сковородке
Футуризма как они
Лица льстят от икотки
Скварятся и футуреют
Лица роз ожирение
Плюньте юньте по юнице
По улице в пуговицы
За угол в забор
Бейте медью с отпрыгом
Рабиндра Нат Тагор
<1918>
К занятию Палестины англичанами*
Сойнека жынэйра
Липитароза куба
Вейда лейдэ
Цюбэ
Тука стука вэй
Ойок кйок Эбь
Хэпцуп
Уп
Пи
<1918>
Мое рождество*
В восторге от моего почерка
критик выйдет из церкви
опечатать мое имущество
А я
ногой пРоткнУ
ПАДУЧУЮ землю
перевернусь в КОРЫТЕ как в могиле
ПОТНЫЙ ОТ СЧАСТЬЯ
весь в ПЕРСИДСКИХ орденах
и золотой ШПРОТЕ Чихну
Бог в ОЧКАХ
уЩипнет меня
и пропиШет
ЖитЬ
<1919>
Демобилизация*
как хорошо поют живые
Топают с вокзала обнявшись водку
льЮт на мостовую ХРЮДЬ
здохни перед фотографическим кабинетом ИЛИ
Заверни заугол
выпей чаю с угольками НА
припомаженной Булке отдохни
СУТЯГА
здравия жлаем
ВЫСОКОБЛАЧИНЫГА
<1919>
Поэма 1919 год*
1
ОСИРОТЕЛ
курю махорку
беден как церковная лектриса
По крохам зябну ЕДУЧИ
ЭКСПЕДИТОРОМ
на популярный полюс
ДА Красиворту старику
остался должен я
За новогодний пиджакет
ПЕРЕДАЙТЕ
мой мятый Выступ во время избрания Позы
ЛОПНУЛ от радиопения
2
в депозите гусинского банка
лежат мною выдуманные схемы
КРЕДИТОРЫ
подождите
ИЗОКНА ВСЕМ ВЫБРОШУ
малиновые Шпоры
3
вособенности Вам
Вы ваС мы же
для кого гнутся
стальнопудовые Маховики
ПРОВАНСКОЙ ДАМЕ
улыбнусь
в экивоке
Батюшки
4
А пока как САНТИМЕТР
Складываю спину в четверо
и черствею Запорог
На дне парализованной ККретЫ
ВИЖУ УНИСОН
носильщиков
поздравления
Вокзальный Бал
и КЛОПА на Шинели
ТАК
Зайцы связанные долгосрочным конрактом
плодятся ежеминутно выжимая
ПУХ
5
ТоропитесЬ
ГЛОтаю ПЯтый заЕЗД
видишЬ
Нет ПЕРЕБЕСТ
это финиш
<1919>
Один*
ПОсадим Ржанье на один сортт
Вжелатьи Форменном
Как исправник объеду селенья
Скорнем уничтожу все Выкаты
Переплачу на каждом утешеньи
В один стакан налью четыре дождя
Сорок Соборов на одну Лизу
Выдержки с карабельной купальни
души КАПЛЮ ниц
<1919>
«НЕ УПУСКАЙТЕ СЛУЧАЯ…»*
НЕ УПУСКАЙТЕ СЛУЧАЯ
СКАЗАТЬ ГЛУПОСТЬ
УСЫПИТЕЛЬНОЙ ПУЛЕЙ УНОСИТСЯ
ВСЯКАЯ ПАКОСТЬ
<1919>
Путеянство*
Побудем сослучные в Тифлисе
Там столица где мы заблудились
Тяни катуху стихов по главным улицам
Поперек провинциозной немочи
Когда лягушка рожает устрицу
В печенке Леонардо да Винчи
Я иду по горе
Ничего не имею против голубого неба
И скоро уеду
Везде встречаются наши противоохи
На каждой станции в гостиной
Слова повернут ко мне пегий профиль
Выдержанней 9-ти месячного карантина
У тебя влюбленный отсырел пиджак
И в глубоком насморке море
Легло на тифозный барак
Около родильного меридиана
Мы речные негры П Л И А В А К И
На мраморе скамьи поросной
Плывет за нами болото в одной рубахе
И с ватой в ушах на горе
Бонза
Набза
Зноба
Зноб
Д а л е к о а т а к а т а л и к о с
Мы аживал кусаем
Кувырнал Оскрофим и Сиролех
Подымайте прохладительные брюки
На подскочивчей скуке
Едет в пальто запор
Проповедует в мягкий рупор:
На небе ничего не растет
Мир останется без сапог
Благодаря задолженности Г. Бога
Мы же в корабельной башке
Проедаем последний Арарат
С маслом и с умыслом
Как пломбированный дуб
<1919>
Спич Лапшина*
Когда в газету завернув землю
Стою около аптеки Земмеля
Юя яякая
Проходит с ног до головы
Окатит меня из ока
Синицы гусеницы девственицы лиственицы
По тротуару отсыревшей ногой чиркая
Пугаю как птицы
На меня смотрите сверху вниз
А когда
Для развлечения корку жуя
Пройду к чертовой матери
Куча живьем спадает
На крупу
Квошек
Что
Напечатал
Из кармана шепотом и не моргая
Я.
<1919>
Крученых*
Вы не проморгали
Когда я натужился
Взять балтийскую ноту
Передернулись ваши брюки
Вот новое льют заворот
Щенок не любит купаться
Кто пишет давнописью
А я делаю на сцене
И то и другое
Срам на экране и
Бегу опропастью кы
Столбовой книге
Обострять отношения с вами
<1919>
«Плохое отличается от хорошего очень мало…»*
Плохое отличается от хорошего очень мало
Немудрено что иногда все кажется ясным
Можно читать Апухтина с удовольствием
Прибавляя щепотку сиролеха
А вокруг палочки дирижера витают бегемоты
<1919>
«Ноге…»*
Ноге
Бегущего
За мной злосчастья
Обернувшись подрежу вытянутую жилу
Часы
Остановлю у постели
Друга
Сяду на падшую кабылу
И до тех пор буду перескакавать
Шпагат
Пока земля не станет кофейной
Гущей
Тогда продам лошадь в цирк
И на престарелой итице
Долечу до гаванских денег
Там спешусь
И под заработанный остров
Повешу
Берцовую кость.
<1919>
Николай Чернявский*
Николай (Колау) Андреевич Чернявский был одним из членов литературной группы «41°». До этого, в середине 1910-х годов, имя Чернявского было известно в литературных кругах, он был знаком с А. Блоком, А. Ремизовым, К. Бальмонтом, его стихотворения публиковались в альманахах и сборниках, например в сборнике «В год войны» (Пг., 1915), наряду с произведениями А. Блока, Ф. Сологуба, А. Ахматовой и других видных литераторов. Тяга к поэтическому эксперименту возникла у Чернявского после сближения в 1919 году с А. Крученых, И. Зданевичем и И. Терентьевым. После распада группы «41°» Чернявский занимался собиранием русского и грузинского фольклора, переводами с грузинского и французского. Единственный стихотворный сборник – «Письма» (Тифлис, 1927) – не несет на себе футуристического воздействия.
«Дюжина бочек…»*
<1919>
«Хмелево зноя…»*
<1919>
Кирпичная труба*
<1919>
«Творчество»
Сергей Алымов*
Сергей Яковлевич Алымов активно сотрудничал с группой «Творчество». На Дальнем Востоке он оказался не по своей воле: в 1911 году за революционную деятельность он был сослан в Сибирь, откуда бежал за границу. Первая его книга – «Киоск нежности» – увидела свет в Харбине в 1920 году. Алымов участвовал во Владивостоке и Чите в «футурконцертах железной когорты футуристов» вместе с Н. Асеевым, Д. Бурлюком, С. Третьяковым. Позже им было опубликовано несколько книг стихов и популярных советских песен. Известность Алымову принесла обработанная им песня П. Парфенова «По долинам и по взгорьям».
Опять*
Звезды – алмазные пряжки женских, мучительных туфель
Дразнят меня и стучатся в келью моей тишины…
Вижу: монашка нагая жадно прижалася к пуфу
Ярко-зеленой кушетки… Очи ее зажжены.
Скинуто черное платье. Брошено на пол, как святость…
Пламя лампадки игриво, как у румына смычок…
Ах, у стеблинных монахинь страсть необычно горбата!..
Ах, у бесстрастных монахинь в красных укусах плечо!..
Но подхожу к кельеспальне… Даже березки в истоме!
Прядями кос изумрудных кожу щекочут ствола…
Даже березка-Печалка молится блуду святому,
Даже березкины грезы об исступлениях зла!..
Ближе… К дрожащему телу прискорпионились четки…
Два каблука, остродлинных бьются поклонами в пол.
«А… каблуки?!.. Куртизанка?! – Нет! не отдамся кокотке…»
И убегаю… А в сердце: «О, почему не вошел?»
<1920>
Лимузин-саркофаг*
Ты была у Поля в Красоты Салоне…
Ароматной Фриной села в лимузин, –
В вазочке кареты цвел пучок бегоний…
Знала: в будуаре мучится грузин.
В улице плакатной пели и стреляли.
В трубочку шоферу крикнула: «скорей!»
Пули и опасность славно окрыляли…
Грезу подтолкнула, шаловливо: «рей!»
Лимузин качнулся, сиротливо млея,
И, смертельно вздрогнув, вкопанно застыл.
Дверца приоткрылась и усач, наглея,
Выйти из кареты грубо попросил.
Ты не растерялась и с лицом маркизы
Вежливо спросила: «А зачем я вам?…»
Вспомнила Ламбаль ты и отчизну Гиза,
Грустно прикоснувшись к платья кружевам…
Затрещали залпы словно кастаньеты,
Кто-то в отдаленьи нажимал курок…
И вблизи бегоний, в шелковой карете
В океане черни ты нашла свой рок.
Маленькая пулька, пчелкою порхая,
Стенку продырявя, юркнула в корсаж.
A на оттоманке, бешено вздыхая,
Грезил о блаженстве исступленный паж.
Ты не разделяла трепета истомы…
Около метались бороды бродяг, –
Щелкали затворы… отдавало ромом…
И авто качался, словно саркофаг.
Вечер истеричный нагибался к шторам;
Аромат бегоний, старчески, вдыхал, –
И в твоих изящных, омертвелых взорах
От людских безумий, мигно отдыхал.
<1920>
Осенник*
Николаю Асееву, чья лирика ладанная заря.
Летают паутинки –
Небесные сединки…
Все дали извопросены:
. . . . . . . .
«Лекарства нет от осени»!..
В душе: седая скука.
У вас – свечинки руки…
Они прозрачно тают.
Вы, вся – святая!
На голове – корона
Из звездных листьев клена.
И сыплют на вас выси
Сосновых игол бисер.
И медленно идем мы
Вдоль стен лесного дома.
А осень, выйдя в сени,
Скликает на осенник.
<1920>
В фойе*
Полюбив, в Декабре я загроздил сирени…
Полюбив, – я из звезд отчеканил колье… –
Сядем здесь на диван… Ходят люди, как тени,
Что нам тени людей и гримасы фойе?!
Ведь никто из толпы не поймет нашу близость!
Ведь мещанам далек пасторальный экстаз. –
Им знакома любовь, как животная низость…
Ах, забудем мещан в наш сиреневый час!
Твои взоры нежней ассонансов Верлена…
Твои плечи дрожат, как березок листва…
Улетев далеко из мещанского плена,
Мы людские черты замечаем, едва…
Есть моменты в любви, когда люди – помеха!.
Есть минуты в любви, когда люди – ничто!.
Наши души – сады ароматного смеха
И вульгарный диван – королевский «шато»…
Тривиальный диван, словно замок в сирени,
Где цветы и любовь только в нас и для нас. –
Не дадим никому белокурых мгновений!.
Никого не введем в наш сиреневый час!..
<1920>
Роща дней*
Всеволоду Иванову с верой, что это будет.
Ростки… Ростки…
И дней побеги.
Тоски
Не надо
У сада
Неги.
В кольце огней
Зевают пушки…
Слышней
Зовут
В уют
Опушки…
Траса в росе…
Речные бульки…
И рады все:
Шмель…
Ель…
Косульки…
Настанет день,
Который не был!..
Везде
Простой,
Святой,
Как небо.
<1920>
Петр Незнамов*
Свою литературную деятельность Петр Васильевич Незнамов (настоящая фамилия – Лежанкин) начал во владивостокском журнале «Творчество». В нем наряду с начинающими дальневосточными литераторами печатались уже маститые поэты-футуристы Д. Бурлюк, Н. Асеев, С. Третьяков, которые и определяли лицо журнала и группы «Творчество».
В. Брюсов, рецензируя первую книгу Незнамова «Пять столетий» (М; Пг., 1923), писал: «Не знаю, относить ли к „левому фронту“ П. Незнамова. Его техника – умеренный футуризм, на нем, несомненно, влияние В. Хлебникова. Но П. Незнамов претворил это во что-то свое и остался в пределах „классических“ форм»[242].
Решающее влияние на литературную судьбу Незнамова оказала встреча с В. Маяковским, которая произошла в Москве в 1923 году. Он становится активным участником Лефа. Асеев, вспоминая о лефовском периоде Незнамова, писал: «Он был даровитый поэт, принципиально преданный существовавшей тогда среди нас „фактографии“, то есть обязательности отражения действительности, в противоположность работе фантазии, выдумки, воображения»[243].
Незнамов погиб на фронте во время Великой Отечественной войны.
Буйное настроение*
В небе веером распластался закат,
Облака зацвели нежно-эмалевые;
Сидеть бы, молчать да умиляться стократ,
А меня будто ужалили!
На душе вздыбилось что-то проклятое
Девятым валом, как у Васьки Буслаева –
И уж тут всех смешал, облаяв,
Безразлично – гений или дегенерат.
Ругался стозевно, высматривал стооко,
О чьих-то мозгах кричал бараньих;
Вспомнился Блок тишайший, а я и Блока
Выкупал в потоке брани.
Летел по саду весь в мыле! Как на крыльях!
Должно быть, эксцентричный был вид;
Задумался о Репине, но чувствую – смердит.
Плюнул – и решил, что меня подменили.
Был господин ничего себе, а стал – дикий,
Был хорошо причесанный, а теперь же – дьявол,
Прибежал к реке да в воду прыг!..
Плескался, фыркал и вообще плавал.
Выскочив на берег, тело себе растирал,
Обсох и снова стал мягкий, осенний
И, буйное похоронив настроение,
Зашагал в город, как в рай.
1918
Маяков стена*
Разве в книгах сердец не оттиснута
Небожителей буйная поступь, –
Почему же сегодня киснут так
Недоеденных блюд апостолы?
Ведь сегодня все – взрывами брошены –
Мимо старых руин и арк текут…
А мои поэмы хорошие
Растопили б любую Арктику!..
Почему же шипят: «маяковщина!
Проходите, нежные, мимо них!»
Ведь огнем цветет маяков стена
И встают частоколами гимны!
Маяки! маяки! маяки везде!..
Так спешите же заново жизнь одеть!.
И –
Эпохи железный почерк
Полюбите любовью рабочих.
1921 г.
Чита
Владимир Силлов*
Владимир Александрович Силлов был футуристом умеренным и совсем недолго. Во Владивостоке, где он учился, вокруг журнала «Творчество» сложилась группа литераторов, образовавших последнее футуристическое объединение (1921–1922 годы). Силлов был участником «Творчества», а также редактировал журналы «Восток» (в 1920 году) и «Юнь» (в 1921-м). Интенсивная литературная жизнь ожидала его и в Москве: он учился, а потом преподавал в Высшем литературно-художественном институте, был ответственным секретарем журнала «Рабочий клуб», печатался в «Лефе» и пролеткультовских изданиях. В 1930 году был репрессирован. Узнав об этом, Б. Пастернак писал Н. Чуковскому 1 марта 1930 года о своем потрясении и выделял Силлова «из Лефовских людей» как «укоряюще-благородный пример <…> нравственной новизны»[244].
Н. Н. Асееву*
У нежности выросли крылья,
Клюв и когти орла.
Ушедшего от де-Лиля
Расстреливала молва.
Взорвавшемуся чуду –
Заката хрусталь и рубин.
Заката поля-покаты
В устьях морозных седин.
Но нет седины той слаще,
Чем гривы морских волов.
У сердца заиненных в чаще
Шапки колоколов.
А если небесное сеево
Взбугрится лик душ озаря
Я знаю: там в замке Асеева
Колокола звенят.
<1921>
«Из мчащих галопом минут…»*
Из мчащих галопом минут
Оставлю я при себе,
Я знаю: скоро придут
Созвездья других легенд.
Никто не вспомнит о бывших,
Никто не посмеет сказать:
«Я выпил вчера полный ковш их,
Кого мне любить опять?»
Придет и закрутит день наш
В спирали любовных лучей,
Чье сердце на колья наденешь
И мозг окровавишь чей?
Эй! Рвите же, рвите струны
Созвездий чужих легенд
И смело покров чугунный
На сердце оденем себе.
<1921>
Венедикт Март*
Венедикт Март (Венедикт Николаевич Матвеев), автор многочисленных книг, изданных во Владивостоке и Харбине, был заметной фигурой в литературной жизни Дальнего Востока, активным участником группы «Творчество». Не все, что написано Мартом, может быть отнесено к футуризму, но, в отличие от некоторых других участников «Творчества», он и после распада группы считал себя футуристом (именно таким Март появится на страницах романа К. Вагинова «Козлиная песнь» под фамилией Сентябрь). С 1927 года Март живет в Подмосковье, затем в Саратове (в ссылке), в Ленинграде, Ему удается выпустить несколько книг прозы. В июне 1937 года был арестован и вскоре расстрелян.
В курильне*
Зорко и пристально взглядом стеклянным
Смотрит курильщик на шкуру тигрицы –
Некогда хищного зверя Амура.
Чтобы отдаться объятиям пьяным,
Женщина с юношей ею прикрылись.
Смотрит курильщик, как движется шкура.
Странны, познавшему опия сладость,
Страсти животные к женщинам низким,
Страсти, мрачащие души – не мудрых.
Тихо в курильне и душно от чада,
Редко шипение лампы при вспышке,
Вздохи… чуть слышится шепот под шкурой.
Тени и блики на желтых циновках.
Дым поднимается темным туманом.
Курят в молчании желтые люди.
Мак, точно маг-чаротворец багровый,
Явь затемняет обманом дурмана,
Чадные грезы тревожит и будит.
1916 г. 4 февраля
Санкт-Петербург
Мой гипсовый череп*
За лишний полтинник
Какой-то китаец
Заставил смеяться
Мой гипсовый череп.
И вечно смеется
Застынувшим смехом
Беззвучно, без дрожи
Мой гипсовый череп.
Средь мертвого хлама
Недвижных вещей
Один лишь смеется
Мой гипсовый череп.
Лампада мерцает
В дрожании жутком,
И свет озаряет
Мой гипсовый череп.
Из впадин глубоких
Бездонных во мраке, –
Глядит в мое сердце
Мой гипсовый череп.
1916 год
Санкт-Петербург
Камень, женщина и падаль кошки, которая за форточкой гниет на подоконнике*
Тебе Светлой Лепок посвящаю из своего исчадья
У заутрени светло причастница сердце свое
Под свечу восковую изгрудила вдруг.
И проплакала возле о смерти неясной
И скорбно-нежданной, как вдруг.
Но из слез ее нет возвеличенных новей!
От слез отвернулось рожденье – иного взамен.
По струне пробежала росинкой слеза
Пока вдруг – просочил ее пышный смычок
В свои пряди, как снег, белотонких волос…
Пока вдруг не заплакал смычок
По натянутым нервам-струнам.
И причастница ниц на колени на камни припала скорбеть…
За спиной в полумгле по струнам простиралась тоска.
И со звуками плыла и таяла в сердце и в сумерках – к мглам.
Простиралась тоска и тянула со струн нескончанную нить.
В хороводы созвездий небес.
Ах, и я за порогом! И я этих звуков участник.
След во мне провела нескончанная нить, протекая к далям.
В моем сердце, как в озере ночью
Пробегают огни отпрокинутых звезд.
По морщинистой глади, на сердце моем
Раздробились созвездья и блестки кокетливых звезд…
Я иду по гробницам – чрез мост моих слов –
Вам удариться в сердце! Стучать! И стучать!..
Достучаться, как Смерть..
– Заметили:
Причастница хихикнула
И слезы на паркет
Стряхнула от ресниц…
Смычок-паук из звуков заузорил окрестные сердца. –
И липнут паутины по дрогнувшим сердцам.
И скачет, скачет сердце под рубашкой!..
Вокруг столбятся чувства роем суетливым
И жалят быстрые глаза…
На ребра налетают
И звонких брызг рассыпанные боли
За эхом гонятся – к мозгу!..
Ах, мысль-ненастница угрюмится в тенях: –
Она, как муха в паутине, сонливо утомилась! –
В зигзагах паутины, как вкопанная боль стоит и выжидает..
…Ах!
Вкруг зной в обломках рыщет и сжигает!..
Мой мозг, вы знаете, – он весь во мху, как камень изнуренный.
А там внизу – под ним к пескам ласкается волна
Титана-океана – титана суеты!..
…Струна втянулась, вделась в щель иглы
Моей змеящейся тоски!
И в мозг иглу вонзили трепетные бреды
И в нем узорят по извивам!..
Заметьте:
Как хихикнула она
И все не может встать с колен
И выпрямить глаза!
Глаза, как в тине липкой, туманятся в тоске…
А я, – смычка участник, – за порогом
Пришел на кошкину кончину –
На белые поминки…
Я падаль кошкину принес –
Она живой еще
Так скорбно мне
Мяукала про тьму
И вызывала выколоть глаза и свету и свои…
– О, кошка, ты усопшая, –
А я?!!
7 н./ст. Август 1918 год
Г. Никольск-Уссурийск
№ 4 Гостин. «Россия»
Белая Земля
Скорбные корни*
Небес извечное сиянье
Звездами грезится во тьме…
Сегодня черное венчанье
Увядших в сумерках теней.
Пустыня душная томится
Песками сонными в бреду…
Сегодня синие седмицы
К венчанью саваны прядут.
Корнями скорбными недрятся
Узоры травные навзрыд…
Сегодня страдные наряды
Невесту скроют у зари.
Семь сонных осеней продрогли
В угрюмьи совьего дупла…
Сегодня скорбною дорогой
Ступать назначено до тла.
<1920>
Вне групп
Анатолий Фиолетов*
Анатолий Васильевич Фиолетов (Шор) входил в одесскую группу поэтов, издавшую четыре альманаха – «Шелковые фонари» (1914, без участия Фиолетова), «Авто в облаках» (1915), «Седьмое покрывало» (1916) и «Чудо в пустыне» (1917). Состав участников менялся, и под одной обложкой оказались произведения авторов разной литературной ориентации (среди них – начинающий Э. Багрицкий). Кроме одесских поэтов, в альманахах печатались столичные «знаменитости» – В. Шершеневич, С. Третьяков и В. Маяковский.
Из местных литераторов наибольшее футуристическое (а точнее – эгофутуристическое) влияние испытал Фиолетов. О его жизненном и творческом пути известно немного. Он автор единственной книги – «Зеленые агаты» (Одесса, 1914). После революции Фиолетов работал в одесском угрозыске и был убит. Известность его как поэта почти не вышла за пределы близкого окружения. Его друг поэт С. Бобович писал о поэзии Фиолетова: «В его наивных, немного детских, немного ироничных стихах такая бездна художественной утонченности, такая гармоничная волна хорошего вкуса и благородного чутья, такая чарующая доброта…»[245]
Переменность*
Лилии стройной и бледной
Быть приказал ярко-черной,
Деве с улыбкой победной
Стать проституткой позорной.
Звездам сказал: «Не сияйте»,
Свет погасите в ночах,
Людям сиянье не дайте –
Будет звездою им Страх…
И изменивши узорность
Этой презренной земли,
Я удалился в Нагорность,
Стал недоступным вдали.
Я себя сделал единым,
Вечным и смелым Царем.
Полные ужасом длинным,
Люди сказали: «Умрем»!..
Я же остался, и буду,
Буду Грядущего страж.
Мир этот мерзкий забуду
Он, как туманный Мираж.
И воссоздавши другое,
Новый невиданный мир,
Солнце Я дам золотое,
Светлый, небесный кумир.
Солнцем поставлю кровавый,
Яркий, загадочный Мак.
Будет он символом Славы,
Тем, кто развеяли Мрак.
<1914>
Клич к совам*
Среди разных принцев и поэтов
Я – Анатолий Фиолетов –
Глашатай Солнечных Рассветов…
Мой гордый знак – Грядущим жить,
Из Ваз Небесных Радость пить.
Придите все ко мне, чтоб видеть,
Чтоб видеть Смысл Красоты.
Я буду звонко ненавидеть
Всех, кто покинул Храм Мечты.
И речь мою услышав, все вы
Поймете, что ведь жизнь Сон,
А вы, а вы замкнуты в хлевы,
Где темнота и нет Окон.
О, знайте, что в Грядущем – Радость.
И ждать Рассвет – вот это сладость.
И оттого Я говорю –
Все поклоняйтесь фонарю,
Горящему в туманных Снах,
В небесных, солнечных Веснах…
. . . . . . . . . .
Грядущим жить Я призываю,
Грядущим, где мерцает Рок.
И вам, Безликим, повторяю –
Я – Фиолетов, Я – Пророк…
<1914>
Осень*
Сегодня стулья глядят странно и печально,
И мозговым полушариям тоже странно –
В них постукивают молоточки нахально,
Как упорная нога часов над диваном.
Но вдруг, вы понимаете, мне стало забавно:
Поверьте, у меня голова ходит кругом!..
Ах, я вспомнил, как совсем недавно
Простился с лучшим незабываемым другом.
Я подарил ему половую тряпку.
Очень польщенный, он протянул мне свой хвостик
И, приподнявши паутиновую шляпку,
Произнес экспромтно миниатюрный тостик.
Он сказал: «Знаешь, мой милый, я уезжаю,
Закономерно, что ты со мной расстаешься»…
Но, тонкий как палец, понял, что я рыдаю
И шепнул нахмуренно: «Чего ты смеешься?»
Ах, бледнеющему сердцу безмерно больно,
И черное небо нависло слишком низко…
Но, знаете, я вспомнил, я вспомнил невольно –
Гляньте на тротуары, как там грязно и слизко.
<1915>
Апрель городской*
Апрель, полупьяный от запахов марта,
Надевши атласный тюльпановый смоконг,
Пришел в драпированный копотью город.
Брюнетки вороны с осанкою лорда
Шептались сурово: «Ах choking, ax choking!
Вульгарен наряд у румяного франта».
Но красное утро смеялось так звонко,
Так шумно Весна танцевала фурлану,
Что хрупкий плевок, побледневший и тонкий,
Внезапно воскликнул: «Я еду в Тоскану»!
И даже у неба глаза засинели,
И солнце, как встарь, целовалось с землею,
А тихие в белых передниках тучки
Бродили, держась благонравно за ручки,
И мирно болтали сестричка с сестрою:
«Весна слишком явно флиртует с Апрелем».
Когда же заря утомленно снимала
Лиловое платье, истомно зевая,
Весна в переулках Апрелю шептала:
«Мой милый, не бойся угрозного мая».
Но дни, умирая от знойного хмеля,
Медлительно таяли в улицах бурых,
Где солнце сверкало клинками из стали…
А в пряные ночи уже зацветали
Гирлянды жасминов – детей белокурых
Весны светлоглазой и франта Апреля.
<1915>
Вадим Баян*
Вадим Баян (Владимир Иванович Сидоров) был организатором и участником 1-й олимпиады российского футуризма. Он финансировал это мероприятие, а также часть турне футуристов по югу России в начале 1914 года, что дало ему возможность выступать вместе с В. Маяковским. Д. Бурлюком и И. Северянином. Последний в своем автобиографическом романе в стихах «Колокола собора чувств» весьма саркастически изобразил «томимого жаждой славы» поэта-дилетанта:
…Один купец-богач.
Имевший дом, сестру и маму
И сто одну для сердца даму,
Пек каждый день, но не калач,
А дюжину стихотворений
И втайне думал, что он гений.
Купец был ультра-модернист
И футурист; вообще был «ультра»,
Приверженец такого культа.
Какому очень шел бы хлыст…[246]
В другой оценке Вадима Баяна Северянин более снисходителен: «Человек добрый, мягкий, глупый, смешливый, мнящий. Выступал на наших крымских вечерах во фраке с голубой муаровой лентой через сорочку („от плеча к аппендициту“)»[247].
В 1914 году вышел сборник стихотворений Баяна «Лирический поток: Лирионетты и баркаролы» (СПб.; М., 1914) с предисловиями И. Ясинского и И. Северянина, влияние которого в книге весьма ощутимо, «футуристическая» активность Баяна на этом закончилась, хотя еще несколько стихотворных и прозаических произведений он позже опубликовал.
Ожерелье из женщин*
Я жестоким презреньем увенчан
Но бессмертен мой жизненный путь!
Я сплету ожерелье из женщин
На свою упоенную грудь!
Я создам величавую чару,
Ожерельем ее обовью;
Я любовь превращу в Ниагару,
Я любовью весь мир оболью!..
На венце светозарном и гордом
Загорится надменный брильянт
И миры мне ответят аккордом
На гремящий каскадный талант.
<1914>
У струй нарзана*
Посвящаю Игорю Северянину
У струй хрустального Нарзана,
В железной урне черных гор,
Очам угрюмого баяна
Явилась ты, как метеор.
В твоих кудрях цвела фиалка,
В глазах тревожились огни,
И опьянила, как русалка,
Ты мне сверкающие дни.
Я утонул в кудесных чарах
Экзальтированной любви,
Душа взмятежилась в пожарах
С тобой, принцесса, визави…
Как сны, умчались дни Кавказа
За рубиконы бытия
И чар безумного экстаза
С тех пор не вспомнил больше я.
И только здесь, в долинах Крыма.
У цветоносных росных гор,
В душе поэта-пилигрима
Ты пронеслась, как метеор!..
Владимир Пруссак*
Владимир Васильевич Пруссак не входил ни в одну футуристическую группу и не связывал свою поэзию с футуризмом. Лишь одной стороной своего поэтического творчества он соприкасался с эгофутуризмом северянинского типа, что было отмечено критиками. Н. Гумилев писал о сборнике Пруссака «Цветы на свалке» (СПб., 1915): «Если вспомнить андреевский рассказ „В тумане“, нам многое прояснится в стихах Владимира Пруссака. Без этого непонятно, почему он ломается, представляя то сноба скверного пошиба a la Игорь Северянин, то опереточного революционера, то доморощенного философа, провозглашающего, что искусство выше жизни, и наполняющего свои стихи именами любимых авторов. <…> Каких-нибудь три, четыре года, как появился эго-футуризм, а каким старым и скучным он уже кажется. Владимиру Пруссаку надо сперва рассеять в своих стихах туман шаблона, чтобы о нем можно было говорить, как о поэте»[248]. Еще более категорично оценил тот же сборник Вс. Рождественский: «Владимир Пруссак прямой тропой пришел к „несравненному Игорю“ и взял от него то, что было по душе: ресторанный чад и лакейскую пошлость. Его „поэтезы“ – родные сестры „Ананасов в шампанском“»[249]. Однако по большей части стихи Пруссака написаны совсем не в северянинской манере: во втором (и последнем) сборнике поэта «Деревянный крест» (Иркутск, 1917) от этой манеры не осталось и следа, а в стихах первой книги любопытна попытка сочетания эгофутуристического стиля с политической темой. Пруссак принимал участие в подпольной деятельности партии эсеров, за что был осужден и сослан в Сибирь.
«Ты в ассонансах – праздный шут…»*
Футуристу
Ты в ассонансах – праздный шут,
Укравший дивное созвездье.
Тебе готовит строгий суд
Нелицемерное возмездье.
Но все же ты – правдивый бог,
Одетый в грязные лохмотья.
Тебе – украшенный чертог;
Хулители – на эшафоте.
Окутай дерзкие мечты
Покровом суеверной ткани
Юродствуй ради красоты,
Кощунствуй в ярких изысканьях.
И поражений и побед
Пребудь как бы сторонний зритель,
Еще непризнанный поэт,
Уже осмеянный мыслитель.
<1915>
«Больше я не фокусник, чинно напомаженный…»*
Больше я не фокусник, чинно напомаженный.
Сразу мы покончили тягучие дела.
Стало ослепительно. Радостно и радужно.
Скинули оковы дерзкие тела.
Светлые поэты! Безрассудно выстроим
Пышными поэзами украшенный сераль,
Чтобы покраснели важные филистеры,
Чтобы растерялась терпкая мораль.
Девушки движеньями гордо грациозными
Сдержанной корректности поставили капкан.
Правила приличия закиданы мимозами!
Пляшет целомудрие безнравственный канкан!
Льются и лепечут легкие мелодии.
Мраморные статуи рассыпали сирень.
Пламенно взвивается воздушное бесплодие,
Стелются томления возжаждавших сирен.
Пиршество за пиршеством! Оргия за оргией!
Томные танцовщицы сменяют Лорелей!
После будем умными, насытившись восторгами,
Будем озадачивать трухлявых королей.
<1915>
«Неужели проиграна жизнеценная ставка?..»*
Неужели проиграна жизнеценная ставка?
Нерасцветший порыв навсегда похоронен?
Повстречалися мы на эсеровской явке:
Я случайно замедлил, объезжая районы.
Я – партийный оратор. Вы – моя оппонентка.
Деловая дискуссия замерла увертюрно.
Мы, конечно, товарищи. Но бывали моменты…
Но бывали моменты ожиданий лазурных.
Вам казались героями все комитетчики;
За стальными партийцами Вы хотели угнаться…
Уставали над шрифтом полудетские плечики,
Вы кидали на улицы грозоклич прокламаций.
Невиданий три года. Судьбосмеха зломессы.
Вы – сестра милосердия в отвоеванном Львове;
Я – забытый премьер в нашумевшем процессе;
Я – пожизненный данник Сибири суровой.
Вы усердно хлопочете в санитарной каретке:
Перевяжете раны, приготовите корпию…
Наша юная песня не была трафареткой:
Лировальсы глушились лейтмотивами скорби.
В плоскопресном Иркутске я картавлю о Бисмарке,
У банкирской конторки заскучав оманжеченно;
Поредели в речах вихрекрылые искорки.
Я какой-то негибкий. Я совсем обесцвеченный.
Ах, как это негаданно! Вы – сестра милосердия!
Вы – бунтарским инстинктом распевавшая гимны.
Душу мне убаюкали, словно музыка Верди,
Ваши милые письма пугливой интимностью.
Вы уехали слушать смертозов пулеметов.
В утомленных траншеях Вы дрожите промозгло.
Кровоболь подбирается неспешащими взлетами,
Вырывая у раненых помертвевшие возгласы.
Я настроен печально. Я молюсь на иконы,
Потому что боюсь: как-то Вы на позициях?
Я прикован к Иркутску статьями закона…
Неужель нам не встретиться? Неужель не проститься?
Вспоминается ласково, вспоминается солнечно:
Я ходульничал глупо, несмешно привередничал.
Помнишь пряные споры? Помнишь, славная Сонечка,
Гектографские пятна на красивом передничке?
<1915>
Георгий Шенгели*
Известный переводчик, стиховед и поэт Георгий Аркадьевич Шенгели не примыкал к футуристическим группам и не печатался в их альманахах. Однако некоторое воздействие И. Северянина (и, возможно, В. Шершеневича) отразилось в ранних произведениях Шенгели. Это касается прежде всего первых трех сборников его «поэз» – «Розы с кладбища» (Керчь, 1914), «Зеркала потускневшие» и «Лебеди закатные» (оба – Пг., 1915).
В 1916–1917 годах Шенгели участвует в турне И. Северянина по югу России. На «поэзоконцертах» выступление метра предварялось докладом Шенгели «Поэт вселенчества», а завершалось чтением молодым поэтом своих стихов.
Однако главная линия творческого развития Шенгели лежала вне футуризма. Вскоре Шенгели переходит к «новоклассическому» направлению, или «пушкинизму» (поэтами этого направления он считает М. Волошина, О. Мандельштама, В. Ходасевича).
В 1922 году Шенгели приезжает в Москву из Харькова, где он учился в университете, и в 1925 году становится председателем Всероссийского союза поэтов. Он много печатается, преподает в Высшем литературно-художественном институте.
Возможно, в писательской судьбе Шенгели отрицательную роль сыграла его книга «Маяковский во весь рост» (М., 1927), оспаривающая многие достижения Маяковского в области русского стихосложения. Как бы то ни было, в 1930-е годы Шенгели удалось выпустить только два сборника своих стихов. Остальные книги – переводные.
Гримасы вечера*
Голубые квадраты стекол в черной массивной раме
придают воздушность далекой в золотом огне панораме.
Куполы грузных соборов улыбкою старой меди
прощаются с солнцем, и взоры говорят о чьей-то победе.
И разом, – как жемчуг синий, – электрических солнц миллионы
извивами огненных линий опоясали зданий бетоны.
Зеленые молньи трамвая, как расплавленные изумруды
вдоль проволок пляшут, бросая искр электрических груды.
Заливают всю ширь тротуаров толпы бескрайней фалангой,
и пляшут демоны кошмаров какой-то безумный фанданго.
Тысячи женщин бледных в этой блестящей клоаке
среди светов, ярких, победных, смотрят взором голодной собаки,
смотрят жалким взглядом паяца… Золото, кровь и железо…
И Город жутко смеяться начинает, как митральеза.
<1915>
Закатные лебеди*
В мягко вздрагивающем лифте
с зеркалами отшлифованными
мы неслись, дрожа в предчувствии,
на двенадцатый этаж,
нам в пролетах небо искрилось,
точно чаша из финифти
с инкрустированными лебедями,
яркий ткущими мираж.
Отрывались от солнца лебеди,
розовым золотом сверкающие лебеди,
плавно плыли в отуманенную
лаской сумеречной даль,
пели медленный тихий реквием
дню, багряно умирающему,
небо трепетно окутывая
в огнецветную вуаль.
Отражаясь в зеркальных плоскостях,
дали сделались тысячегранными,
нас окутала бесконечности
переливная парча,
мы неслись, томясь предчувствиями,
из закатных огней чеканными,
как в те дали аметистовые
два сверкающих луча.
<1915>
Василий Катанян*
Василий Абгарович Катанян известен прежде всего как литературовед, автор фундаментального исследования – хроники жизни и творчества В. Маяковского, выдержавшей пять изданий: первое – «Маяковский: Литературная хроника» (М., 1945), последнее – «Маяковский: Хроника жизни и деятельности» (М., 1985). Однако начинал Катанян свою литературную деятельность как поэт. Он автор двух стихотворных книг – «Синим вечером» (совместно с В. Кара-Мурзой; Тифлис, 1918) и «Убийство на романтической почве» ([Тифлис], 1019). Участвовал он и в коллективном сборнике «Софии Георгиевне Мельниковой: Фантастический кабачок» (Тифлис, 1919), изданном группой «4Г». Позже, уже переехав из Тифлиса в Москву, Катанян входил в литературную группу «Леф».
«Ведь трамваи несутся, ведь грохочут моторы…»*
Ведь трамваи несутся, ведь грохочут моторы,
Ведь стремится в влекущее обезумевший рок,
Почему ж в моей комнате все опущены сторы,
Почему все скрывается мой больной огонек.
Ведь порывистый город в электрический вечер
И в холодные ночи обнажает разврат,
И туманом прикрывши все проспектные встречи,
Он уводит влюбленных в заколдованный сад.
Потому в моей комнате все опущены сторы,
Потому все скрывается мой больной огонек,
Чтоб не слышно мне было, как грохочут моторы,
Как пьянеет грядущим обезумевший рок
«В цветах Июня, в краю олонца…»*
Игорю Северянину
В цветах Июня, в краю олонца,
В мечтах созвездий, огнем дыша,
Сияя Солнцем, влюбляясь в Солнце
Блестела счастьем его душа
Порывно рвалась ловить мгновенье
Момент старалась в ландо запречь…
То остановка, то вдруг движенье…
Как захотелось огонь рассечь!
Как хохотала над беззаконцем
В цветах Июня, вином дыша
В влюбленных грезах, играя Солнцем
В мечтах созвездий его душа.
<1918>
Татьяна Вечорка*
В 1917–1919 годах Татьяна Вечорка (Татьяна Владимировна Толстая, урожденная Ефимова) была видной фигурой в литературной жизни Закавказья. В Тифлисе она основала «Литературное Дружество „Альфа-Лира“», была одним из сопредседателей местного «Цеха поэтов». В Баку сотрудничала в Закавказском Телеграфном агентстве вместе с А. Крученых, В. Хлебниковым, С. Городецким. Если первые поэтические сборники Татьяны Вечорки «Беспомощная нежность» и «Магнолии» (оба – Тифлис, 1918) отмечены влиянием А. Ахматовой, то в третьей книге – «Соблазн афиш» (Баку, 1919) – очевидна тяга автора к футуризму. Стихотворения Вечорки появляются в альманахе «Софии Георгиевне Мельниковой: Фантастический кабачок» (Тифлис, 1919), а также в выпущенных Крученых книгах «Замауль. I» (Баку, 1919) и «Мир и остальное» (Баку, 1920). Последний ее стихотворный сборник «Треть души» (под фамилией Т. Толстая) вышел в Москве в 1927 году. С конца 1920-х годов Т. Вечорка выступает как прозаик, автор беллетризованных биографий.
«Замшей точеных ботинок…»*
Замшей точеных ботинок
Занозив меха Гималайских медведей
Расплещет на диске пуфа
Власяницу дебютного платья.
Дегенератно-ломкими ногтями
Тревожа глазурь кулона
Отразит глицериновым словом
Наступление желтых гусар.
<1919>
«В парчовом обруче…»*
В парчовом обруче
Краткого платья
Пройдет умная
Длинноносая крыса.
Смотрите!
Дымя лиловым фонтаном
Надушенных папирос,
Бегут за уважаемым хвостом
Чугунные фраки
Зализавшие лаком проборы.
Тяжелеют мешки под глазами
От голода:
Урвать из помадного рта
(Пещеры, где звучит эхо мозга) –
Жало поцелуйки.
<1919>
«Барабанщик перебирает лапками лайки…»*
Барабанщик перебирает лапками лайки
Словно встревоженный заяц,
Флейта в припадке астмы
Пищит несуразно тонко.
Но скрипки легко сорвались
И понеслись быстрее качель.
Плюш занавески раздвоен.
В углу лилового куба
Мятный пряник
Вместо луны
Высыхает от жара
Зеленых свеч…
Апаш, с фуляром на горле
Любишь танцовщицу танго – El Oueso?..[250]
<1919>
Георгий Золотухин*
«Золотухин – из второго поколения футуризма», – писал В. Каменский[251]. Место Георгия Ивановича Золотухина в русском футуризме определяется, прежде всего, тем, что он был меценатом (хотя и издал пять своих книг). После знакомства с Д. Бурлюком в 1915 году он стал материально поддерживать кубофутуристов (отец Золотухина был крупным землевладельцем). В организованном им издательстве «К.» вышли роман Каменского «Стенька Разин» (М., 1915; на обложке – 1916) и сборник «Четыре птицы» (М., 1916), в котором Золотухин-поэт соседствует с В. Хлебниковым, Д. Бурлюком и В. Каменским. Квартира Золотухина в Москве стала местом встреч футуристов. Однако к 1917 году он остался без средств. Последняя публикация Золотухина датирована 1924 годом.
Буря внутри…*
Стихи стихийные взмету над блесками
Солнцеполей.
Магниты вийные льют перелесками
Сон соболей.
Зима зеркалится. Кибитка брошена
Креста дорог.
Инеет Индия. У брови брошь видна –
Кристаллов рог.
Иду идейною piano-поступью
Велений вне.
Турнира трубного Дианы тосты пью.
Олень огне.
Зима зеркалится, а кудри вспаханы
И шелестят.
Горячей горности – могучий шаг волны,
А челюсть – яд.
Взмету над блесками стихи стихийные
Солнцеполей.
Льют перелесками магниты вийные
Сон соболей.
<1916>
«Лесбийская любовь лорнировала лиры…»*
Лесбийская любовь лорнировала лиры
Ленивых ласк,
Плыли пальмы, плетя пирамидам Пальмиры
Поклоны Пасх.
Ноги невесты-невольницы Нила –
Ныли на ней.
Полымя пламенных пен полонило
Плечи полей.
Струили сиропы-свирели столицы,
Стонали сосцы.
Под платьем перьев полуночной птицы
Пьянели песцы.
Скоро своры солнц сожгут сильфиду
Солью сомнений.
Пылит под полом пурга панихиды
Палевых пений,
Укусы уса – узлы у трона
Уснувших уст.
Цитра цитирует цирк Цицерона –
Червонностью чувств.
Я – златоуст.
<1916>
«Писки. Человеческих туш близки…»*
Писки.
Человеческих туш близки.
Следят за мной глаза гиен
Из скважин
И щелей,
Ждут, когда я буду убиен,
Загажен
Слизью ущелий…
Повседневное,
Хлевное
Орет на перекрестках
Ртом миллионности,
Лживых блестках
Распространяя сонности.
Под сенью серенького правила
Коронованной неприличности,
Все же мысль расправила
Крылья личности.
Поет душа гения,
Зажигая искры на болоте,
О соединении
Святой крови и святой плоти
Завывайте гробокопатели среди бездорожья…
Ставьте, пахнущую язвами помеху,
Мистическим слезам и смеху.
Я знаю дорогу Божью.
<1916>
Готика*
Сегодня любовь мою
На крестах-устах вешали
И болталась на перекладинах площадей
Она,
В глазных впадинах людей
От звена до звена
Пробегая.
Душа нагая пламенными языками
Лизала звезды – леденцы небесные,
В неба зало вошли с желтыми клыками
Мертвецы и пролились отвесные
Дожди конца.
– Не жди, не жди гонца!
Бескровного моления утешители
Священничали,
То ровного умаления небожители
Мошенничали.
Двери доверий к паперти
Заперты и повешена радуга
Туша
И рада как грешная
Душа.
На колокольне пробило двенадцать..
Не сорваться ль с виселицы и раздольней
Повеселиться?
Или повисеть в коленкоре черном,
Быть рыбой, попавшей в сеть
В разговоре-горе вздорном?
Как лучше жить: быть минутным,
Облака из лучей шить или смутно мутным
Потоком течь под оком человечьих свеч?
Кто скажет?
А тоска жжет
И все чаще, чаще пояски поисков
В гуще чащи теряются;
Лишь думы последними, шалыми
Жалами колоть ухитряются…
Что будет? Смерть ли разбудит
Небытием
Или вина загадочного вина лихорадочного
Еще попьем??
<1922>
Сергей Спасский*
Сергей Дмитриевич Спасский принадлежал к младшему поколению русских футуристов. В 1917 году начинающий поэт выпустил первую книгу стихов «Как снег» (М., 1917). В предисловии к ней К. Большаков, в то время один из виднейших авторитетов футуризма, дал весьма лестную оценку опытам Спасского: «Стихи выше и значительно выше среднего уровня положенного для начинающих Немногое но есть в них и свое а то не свое не списано а по юношески по своему перепето А главное они юны по настоящему юны страшно юны И это уже достоинство Это то что стоит нашей рекомендации что стоит быть прочтенным»[252] (пунктуация в предисловии Большакова, как и в стихотворениях Спасского, отсутствует). Однако футуристом Спасский был недолго. Непродолжительное время он примыкал к группе экспрессионистов. В дальнейшем издал несколько стихотворных и прозаических книг. Им также написана книга воспоминаний «Маяковский и его спутники» (Л., 1940).
Март*
Может не тобой а мартом выкинут
Этот крик расплескавшийся в слепые лужи
И деревья хрупко и робко никнут
Оттого что кусок неба стал им трепетно нужен
Оттого что солнце разрезанное трубами
Как огромное плоское сердце бьется
Будто кто-то вздрогнул и сказал вдруг Аминь
На площади похожей на дно колодца
Не знаю
Я простой и глупый
И разве ник
Когда-нибудь перед веснами танцевавшими прежде
А сейчас я хочу чтоб какой-то праздник
Прошелся по городу в кричащей одежде
И я должен знать в этот первый год теперь
Когда в улицы капли неба влиты
Кто мою душу разбрызгал в оттепель
Март или ты
<1917>
«По гаснущим окнам пройтись и надо ли…»*
В. Маяковскому
По гаснущим окнам пройтись и надо ли
Улыбками в вечер шептать если
Не так как прежде закаты попадали
В разрезы улиц и фонари развесили
Если каждый бульвар о новом вспыхнет
Шелестом листьев где распластана грусть
И вчера были звезды
А сегодня их нет
И по клавишам плит не сыграть наизусть
А диски трамваев как будто монеты
Которыми платишь за душу мне
И это кричишь и тоскуешь во мне ты
В расплесканном взглядами дрожащем огне
И вечно со мной
На дачах ли в поле ли
И в глыбах гор небоскребов уступ
Оттого что кружева копоти пролили
В сердце сирены фабричных труб
Мне имя твое как женщины имя
И разве уйти с булыжных дорог
И только шептать фонарями твоими
На плачущих улицах плачущих строк
<1917>
«Как будто вздрогнув ночь…»*
В. Б.
Как будто вздрогнув ночь к недвижным в небо трубам
Тяжелый вздох шагов неслышно пронесла
И взмахами ресниц о нет не буду грубым
И взмах ресниц как будто взмах весла
И дням не разомкнуть скрестившиеся руки
Проспектов стиснувших прибой ревущих мук
Когда бровей так ломки полукруги
Для пальцев гладящих и изнемогших вдруг
А сердце вскрикнуло
Оденьте же оденьте
Мне в платьице улыбок каждый взлет
И будто в кинемо тоска по длинной ленте
Бегущих дней гримасы разольет
И лишь теперь О нет не буду грубым
И эта ночь так хрупко принесла
Скользящий вздох шагов к недвижным трубам
И взмах ресниц как будто взмах весла
<1917>
«В сердце положишь слова ты…»*
В сердце положишь слова ты
Грусть возьми и распой сам
И небу не снять заката
Схватившего город поясом
Не любишь
И ни слова
И хрупко
Шаг на плитах в последний раз твой
Даже рот телефонной трубки
Не зажать целующим Здравствуй
И молчат вечера
Ведь не о чем
Вставить в крыши куски созвездий
Ведь фонарям как певчим
Не вспыхнуть что где-то есть ты
И ленивых дней вороша ком
Как забыть
Улыбнулась и нет
Милая Шаг за шагом
Душа шурша погрустит тебе вслед
<1917>
Кафе поэтов*
С любовью друзьям поэтам
Д. Бурлюку В. Каменскому В. Маяковскому
Как неуклюжая шкатулка
Тугой работы кустаря
Тьму размываешь переулка
Ручьем лучей из фонаря
И только набухают флаги
Растрепанные вечеров
Мы здесь уверенные маги
Грохочем кандалами слов
И каждый – золотая чаша
И каждый – напряженный лук
И сердце ткет стальную пряжу
Всегда недремлющий паук
Вплотную душ ладьи причальте
Острей врезайте якоря
Пока трепещут на асфальте
Ручьи лучей из фонаря
<1918>
Автопортрет*
Плыть в зеркалах, склонить в стеклянный пруд,
Как будто чашечки из шелка сшитых лилий.
И вот глаза. И вот, грустя, умрут.
Сквозь кружево ресниц грустили и любили.
Старинных мастеров нарисовал овал
Под топот сердца, как копыта конниц –
Портьеры вечеров. И вечер целовал
Тебя, всегда чужой, но милый незнакомец.
И только ты И будто бы родник,
И будто день, когда идет на убыль.
И в зеркалах я вздрогну и на миг
Кладу на кубок губ накрашенные губы.
Дмитрий Петровский*
Как Д. Бурлюк и В. Маяковский, Дмитрий Васильевич Петровский учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Как и они, только позже, за участие в публичных чтениях и диспутах он из училища был исключен. Петровский не нашел определенного места в футуристическом движении. Большую роль в его поэтическом развитии сыграло знакомство в 1916 году с В. Хлебниковым, о котором впоследствии он написал книгу воспоминаний[253]. В том же 1916 году Петровский ушел на фронт и к литературной деятельности смог вернуться только спустя несколько лет. Первая книга – «Пустынная осень» ([Саратов], 1920). В дальнейшем принимал участие в литературных группах «Леф» и «Перевал», выпустил несколько книг поэзии и прозы.
«Песенка»*
Музыка
(Моей матери)
Не свет, не свет
На плече сестры,
В ларце обет
Сердец горит
И Ангел стезе
возобновляет след.
И по скатерти смерти
Скатилось зерно –
То скорбь матерей
На гробике дитяти…
– Идет одна и плачет в пути,
На руках у нее временемертвый сын…
(песня Матерей):
– Мы идем всегда,
Мы поем всегда,
Вайей все пути овевая Ея.
И ветер шумит,
Слышна песня ив
И слышна ей отсель-досель…
– Не свет, не свет
У детских плечей:
Стоит ларец,
Сомкнув веки, спит мальчик…
– Не свет, не свет
Белизне лица –
То скорбь матерей
То печаль отца!..
Март 1916 г.
Москва
Рождественская песня*
Матюшину
В этой избе нет не смерклося.
Елки ветки – (еще азбука – всякий знает) – висят.
Дай Бог всем Дид Ладно счастья:
Яйму Я ему иор! –
Шум шум Шур бревен.
Окрест лег сойрей ветрами; –
Оддайся шурма рес –
Койла, Койма, Холлига, ре!
Дам-муух, Дам-муух…
и долу
и дому – Идолу моему –
Ла!
26 октября 1916 г.
Петроград, Песочная
Мрачное*
Гуси кричат, гуси кричат,
Тише: – Сейчас упадут,
Сейчас упадут, – сейчас прилетят, –
Слезы в корыто слепых галчат.
Щелкают хлестко бичи;
Хлопают, лопаясь, дали;
На солнце когда налетали они, –
Мы ничего не видали.
За пыли столбом и хвостами их стад
Идут и кричат пастухи; –
На восток и на запад
Сам Бог разодрал
Окошко в свой рост руки…
Вот тишина поет волчатам –
Бога молил ли снег молчать
Или старик своим внучатам
Боялся разум завещать,
Но только гуси и галчата…
Но только хлопают бичи
И лишь рассветом ночь разжата
И нависают дни-мечи…
Январь 1918 г.
Ново-Белица
«Вечера»*
Елене Гуро
Вечера:
Это те же самые,
Это те же, те же, те ж,
Идут овцы с бубенцами:
Их пушок, пушок, пушок
На утро срежь!..
Все вьется: их нельзя назвать
Ни словами, ни намеками;
О них можно плескать в ладоши,
Камушки перебрать, –
Никак не назовется…
Над висками пушок, над усками,
Над ушками лесок зашумел;
Загудели леса, – леснопни
«Лес спни»!..
Все блестит
Все в уме ль.
И умеют ли петь и летать (а шуметь) –
Головы ваши, ветки?…
Камень неумека…
Мир рассказан камешками – просыпан…
Сам бы босый ходил бы по полю и пасся… –
Сам Бог дал в ладонь мне счастье…
И кукушка перелетела со всей силы и села там.
И в лозах синели пушки;
У овечек, – у куцых ягняток
молоком задрожали хвостки;
А сосцы их матерей полны,
Сегодня удой будет славный! –
Хлеб пшеничный с медом ешь
От пашни нашей – с молоком; –
От молока моей матери – я, –
ягненок, – голос позаимствовал…
Ушки, пушинки, пушочки;
Лучинки усов и бровей рыльце
– (в глазах поселки) –
И хвостик куцый
идущего вечера…
И душа в нем чуть жива,
Как у всякого маленького животного.
Глотай и чавкай траву и воздух;
Опочивай глушь задумчива – ты, – на пнях!..
На кустах свет звезд сел…
Следят светлячки по дорожкам своим
Вот их пригоршня.
Пахнут березы
И мох, и дымок,
И слезы березы и сок…
Густая роса: у меня подошвы подмокли,
– (лучше ходить босиком)!
И цветок.
И звездок воздушные вербы –
Нанизывают бубенцы: барашки идут, гремя ими.
И в рубашечке вышитой кто-то идет – (шествует).
– И в ресницах Бог (такой темный, темный, темный)!..
И блеянье в вечера очи уткнется –
В грудь матери своей
И слушает, как сердце бьется…
– Ночь там.
Беленький, в рожках, смеется овченок месячек, –
Дрожит на дымке весь…
Лесченок шатается здесь.
Весь воздух в треугольничках;
Лес очень – О – очень – шумит (в уме ль он)?)..
Все несется высоким и недостижимым и сладко – Ах!
Ежик спит, улегся на брюшке, как камушек… –
К иглышкам притронься – побежит…
Слушаю шепот песка; «пески гаснут: – до завтра, до завтра».
Скрозь пальцы сыпучесть хвои.
И сплю здесь 12 часов,
Сплющась как камушек;
Счастлив: Уткнулся, унюхался, – счастлив и спи!
Я с вами. Я здесь. Все бывает: –
Молодость ягняток в вечера те
И все, – что пишу здесь, – правда.
Вечера это –
Те же самые,
Это те же, те же, те ж;
Идут овцы небесами,
А ты ногу в небо свесь!..
30 мая 1918
Москва. Сивцев Вражек
Заклятье вечера*
Зажглась вязанка, кинутая небо за
И дым рассказа выхвачен и стелется…
От хвой далеко, как и песня, тень…
– Как пахнет хорошо – смолой – закат,
Когда утушит ночь и скрип обоза
И собачий лай…
Мои шаги за горизонт спешат, –
Там, где черта небес едва заметна;
А зубы вырезаны в звездном воздухе:
Смеются тихим смехом черта…
– Мне не хватает силы довершить:
– Взять северный казан
И опрокинуть в небо юга…
И, – где цыганский свист и топот, – там
Заметно: – небо подняло оглобли духа
И неба синь;
И ночь жует лишь малую краюху…
– (Страшен рот светил!)…
Мне не хватает рук довесть их, –
Эти дни,
И там их пламенем развесить
Протянутые вкось и вкривь на звезды – ветви…
. . . . . . . . . .
– Висит на телеграфе лапоть:
– Наверно, письма так мои идут досель…
И кто-нибудь свое письмо здесь встретит,
И будет плакать сам, скакать и петь от радости…
. . . . . . . . . .
Клонится к вечеру день; –
Клонится вечер родней;
Мы грустим по умершим дням,
И клонится солнце времян…
В безгранном стакане света песок
Пересыпает котел небес:
В таком-то меридиане столько-то света часов,
И столько-то в склянке дней числ!..
Июнь 1918 года
Москва, Садовая
Гнедову*
А на напев, на напев положите
Гнедова Василиска.
У него ничего и нет, –
За пазухой лоскот лисий…
То сердце, сердце, сердце,
Смеюсь я: – эх, сердце бьется!
Что люди?..
Взгляну еще раз, –
Сердечно взгляну в средмирье:
И мир еще стал приземистей,
И мир, в расширении сердца,
Упал, присмирел – отступился,
Как Савл, когда Свет на пути заступил Галилейский
И голос: «Сей Сын Мой» без сил…
Июнь 1918 г.
Москва, Б<ольшая> Садовая
Утро*
– На серебристые смотрю покровы трав в росе –
Как солнце маленькое крадется,
Под углом в девяносто градусов,
В утренней золотой своей радости, –
В утренней бодрости, младости…
– Ядрен и луг рос и сад рос; –
Девства зачатья мудрость
Слетает, спускается в синесть, –
В чреве качает сына;
А сын ее в зайчики пятен играет, –
Бегает в ветвях, как белка,
В травку укутанный кубарь.
И губы глазам отвечают:
– Я в поцелуе том умер… –
И поняв всю сладкую слабость их, –
Когда пробуждаются сумерки, –
Чтобы скатать великана большого дня
– (Слышного в осени за версту
В чуткую пастушью бересту, –
Коров на траву трубя:
Тру-тру-тру, тру-я, – тру-я!)
Я отвечаю утру:
скоро проснусь и я!..
29 августа 1920 г.
Красная Поляна
Владимир Гольцшмидт*
Владимир Робертович Гольцшмидт – фигура весьма одиозная даже среди футуристов. Он осуществил их идеи «на практике», был «футуристом жизни»: поражал публику экстравагантными номерами, демонстрировал свою физическую силу, ломал доски о собственную голову, соорудил самому себе гипсовый памятник в Москве, всячески пропагандировал здоровый и энергичный образ жизни. В 1917 году он вместе с В. Каменским организовал в Москве «Кафе поэтов». С. Спасский вспоминал о выступлении Гольцшмидта в этом кафе: «Проповедник выходил в яркой шелковой рубахе с глубоким декольте. Шея его действительно была крепкой. Да и весь он выглядел могуче. <…> Долой условности, ближе к природе, загорайте на солнце, освободитесь от воротничков! <…> Тут же на лекции демонстрировал он дыхание, позволявшее сохранять тепло. Совсем ни к селу ни к городу читал стихи, преимущественно Каменского. Впрочем, и одно свое, воспевающее его собственные качества.
Но главный, центральный номер преподносился в конце. Г<ольцшмидт> брал деревянную доску. Публика призывалась к молчанию. Г<ольцшмидт> громко и долго дышал. И вдруг хлопал себя доскою о темя. Все вскрикивали. Доска раскалывалась на две. Аплодисменты. Г<ольцшмидт> стоял гордо. Во всеуслышанье сообщал свой адрес. Желающих поздороветь просил обращаться к нему»[254].
В 1918 году Гольцшмидт уехал на Дальний Восток, где выпустил сборник «Послания Владимира жизни С ПУТИ К ИСТИНЕ» (Камчатка, Петропавловск, 1919). «Самоутверждаясь» в показательно футуристическом духе, он отвергал уже и прежних соратников: «Что мне поэты Маяковский / Давид Бурлюк Каменский с Камы…» («Мой Гимн»).
Моя мираоснова*
Мое Миропонимание.
Довольно славить хилых гимны
И песни улицы больной
С солнцелучом должны идти мы
Под мудротканной пеленой.
С восходом солнца утровстально
Спешите в росные луга
Умыться радостью кристально
И примирить с собой врага.
Тоски людей совсем не знаю
И знать тоски я не хочу
Я утро радостно встречаю
Живу по новому лучу.
Что ваша критика скуленье
Ведь я не общества магнат
Кругом весь мир мое именье
Я мудровольностью богат.
Гранитен я чеканен жизнью
Крещен и солнцем я лучен
И посвящен в миры иные
И каждый мир в меня влюблен.
И вот друзья кому так ценно
Познать иным себя сейчас
Я заявляю всем вселенно
Ваш мир зависит лишь от вас.
Ни философия ни книги
Покоя в жизни не дадут
Пора-же сбросить всем вериги
Мещанских жалких пут.
Лишь ветер вольный волны моря
Стихию сердца создадут
И обыденьщину общественного горя
На лаву солнца перельют.
И мой призыв – призыв спокойный
Я не бунтарь, я не зову
Лишь песни радости раздольной
Я предлагаю как канву.
И пусть в руках в руках эстета
Зальются яркие шелка
И будет жизнь бриллиантами воспета
И радость врежется в века.
И будет новая новиться
Из новых новей новизна
Кругом все яркое весниться
И развесенится весна.
<1919>
Памятник Владимира жизни поставленный собственно ручно в г. Москве 12 апреля 1918 г.*
Свой памятник протест условностям мещанства
Себе гранитный ставлю монумент,
Я славлю вольность смелого скитантства
Не нужен мне признанья документ.
Не буду ждать когда сгнию в могиле
И дети славу будут воспевать,
Ваш тон держать в хорошем стиле
Лишь мертвецов на пьядестал сажать.
Но я мудрец иной покладки
Лишь все живое признаю,
Не жду от общества закладки
При жизни памятник кую.
Стоит он миг, живет веками
Мне все равно, не в этом цель
Сегодня радости о камень
Я разбиваю в карусель.
Когда нибудь, признаете вы также
Что надо славить жизнь в цвету
Ну а пока, глумитеся над Раджей
Вковавшим в век живую красоту.
<1919>
Тихон Чурилин*
«Гениальным поэтом» назвала Тихона Васильевича Чурилина М. Цветаева[255].
Прямые контакты Чурилина с футуристическим движением очевидны: первую книгу его стихов иллюстрировала Н. Гончарова; вторая поэтическая книга и повесть «Конец Кикапу» (М., 1918) вышли в футуристическом издании «Лирень»; он печатался вместе с футуристами в альманахах «Московские мастера» (М., 1916) и «Весенний салон поэтов» (М., 1918); в конце концов, очевидны футуристические свойства поэзии Чурилина (особенно во второй книге), объясняющиеся, помимо прочего, влиянием В. Хлебникова. Однако, в отличие от участников определенных футуристических групп, Чурилин никак не склонен был «стоять на глыбе слова „мы“»[256]; его место в футуризме отдельное и особое.
Чурилин дебютировал в литературе в 1908 году, но первую книгу – «Весна после смерти» – смог выпустить лишь в 1915-ом, после двух лет, проведенных в психиатрической лечебнице. В предисловии к книге автор писал: «Храня целость своей книги – не собрания стихов, а книги – я должен был снять посвящения живым: – моим друзьям, моим учителям в поэзии и знакомым моим. Да и кого может иметь из таковых очнувшийся – воскресший! – весной после смерти, возвратившийся вновь нежданно, негаданно, (нежеланно)?»[257] Книга была замечена критикой. Н. Гумилев писал о Чурилине: «Литературно он связан с Андреем Белым и – отдаленнее с кубофутуристами. Ему часто удается повернуть стихи так, что обыкновенные, даже истертые слова приобретают характер какой-то первоначальной дикости и новизны. Тема его – это человек, вплотную подошедший к сумасшествию, иногда даже сумасшедший. Но в то время, как настоящие сумасшедшие бессвязно описывают птичек и цветочки, в его стихах есть строгая логика безумия и подлинно бредовые образы»[258]. Мнение другого критика: «Кликушество, затаенный и явный страх – от страха бьющиеся друг о друга слова, а меж них, мертвый, пугающий, лик поэта. Т. Чурилин в „Весне после смерти“ заразил свои слова каким-то безумием, в котором он заставляет их биться, даже и в период расцветшей, и расцветающей „Весны“»[259].
«Вторая книга стихов» (М., 1918) более экспериментальна и футуристична по техническим приемам и отношению к языку.
Вышедшая много лет спустя третья книга – «Стихи Тихона Чурилина» (М., 1940) – далека от футуризма.
Песня*
(Из повести: Последнее посещение)
О нежном лице
Ея,
О камне в кольце
Ея,
О низком крыльце
Ея,
Песня моя.
О пепле волос твоих,
Об инее роз твоих,
О капельках слез твоих
Мой стих.
Желто лицо
Мое.
Без камня кольцо
Мое.
Пустынно крыльцо
Мое.
Но вдвоем,
Ты и я,
Товий и Лейя.
Наша песня печальна, как родина наша.
Наша чаша полна и отравлена чаша.
Прикоснемся устами,
И сожжем в ней уста мы,
Ты и я,
Товий – Лейя.
Но печальна не песня, а радость в глазах.
Но светлеет не радость – то снег в волосах.
Но пестреет не луг наш – могила в цветах
Лицо ея.
Кольцо ея.
Крыльцо ея.
Счастлив я.
1912
Ночь*
Нет масла в лампе – тушить огонь.
Сейчас подхватит нас черный конь…
Мрачнее пламя – и чадный дух…
Дыханьем душным тушу я вдруг.
Ах, конь нас черный куда-то мчит…
Копытом в сердце стучит, стучит!
1912
Покой*
Да и шум, да и пляски печальные там.
Но покой по теням там, по хвои цветам,
Какой!
И на лицах и черных старух и девиц молодых,
Седых,
Тени, тени покоя,
Положила зеленая хвоя.
Смерть? Да, да, да – долго, в долг,
Бог дает жизни муки.
Только вдруг – и холодные руки,
Только вдруг – и колеблются силы,
И, милый,
Покой, о какой!
1913
Пьяное утро*
Слабый свет – и колокола гул.
Грустный звон – и вновь громадный гул.
– Воскресенье.
Неудавшееся бденье,
Неудавшийся разгул, –
Крови злой и шумный гул.
Я – как страшный царь Саул,
– Привиденье…
Сухарева башня – как пряник…
И я, как погибший Титаник,
Иду на дно.
Пора, давно… – и легко.
Кикапу! Рококо…
1913
Один*
В форточку, в форточку,
Покажи свою мордочку.
Нет – надень прежде кофточку…
Или, нет, брось в форточку марочку…
Нет, карточку –
Где в кофточке, ты у форточки, как на жердочке.
Карточку!
Нету марочки?
Сел на корточки.
Нету мордочки. Пусто в форточке.
Только попугайчик на жердочке
Прыг, прыг. Сиг, сиг.
Ах, эта рубашка тяжелее вериг
Прежних моих!
1913
Полночь на святках*
Пламя лампы ласковой потухает: полночь.
В каске, в маске, с плясками подступает полночь.
Тихо-тихо-тихонько шла бы полночь, полночь.
Прямо пряно-пьяною приступаешь, полночь.
Вьюгой – ффьюю ты! – вьюгою попеваешь, полночь.
Среброструнной домрою донимаешь, полночь.
Балалайкой, лайкою, лаешь, лаешь полночь.
– И ушла на кладбище – с пляской, в каске, полночь.
Утро. Струны добрые домры – где ты полночь?
Солнце светит, вечное, – где ты, где ты, полночь?
Мёты взмёт, метельные, – засыпают полночь.
О, могила милая, – где ты? где ты, полночь.
1913
В фотоцинкографии*
Светлый свет
Ярко брызнул на бледный
Мой портрет.
Вот теперь я, поэт,
– Победный!
Краски гордо горят.
Маски мертво парят
Вокруг, в темном пару́.
Я, как царь на пиру –
Желтый, синий, красный – как солнце!
Стук-стук в оконце:
Пора – угорите в пару́.
Хлоп – захлопнули ларь.
– Потух царь.
1913
Маленькая мёртвая каморка
Темная, как ад.
Смотрим оба зорко:
В кюветке – яд, туда наш взгляд.
Вот…
На черном радостном фоне – белый урод.
Это я…
– Жалит змея меня.
Это ты.
– Кряхтят в норе кроты.
Как странно… как странно ново.
– Слово:
Ну, всё, – готово.
Ах – угорели? Во тьме – нездорово.
<1915>
Последний путь*
Мой дядя самых честных правил…
Степь, снег, свет
Дневной.
Весь в коре ледяной,
Едет в кибитке поэт
Больной,
Путь последний свершает.
Бледный, бледный,
Безумец наследный.
Кибитку качает…
Свищет, ищет песню свою –
Фффьюю…
Степь, свет, снег белеет.
В небе облак злой зреет
– Буран.
– Кучер пьян, Боже!
Тоже свищет, свищет песню свою:
Фффью, ффью.
– Мой отец богатый выкрест.
Страшный я сынок – антихрист!
– Поэт поет – пьян?
Веет, воет, бьет буран.
На конях, в буран, безумец, едешь ты к отцу,
К своему концу.
1913
Ефремов
Вальс у костра*
Возле древней реки
Догорает ночной костер.
Вкруг поют, поют, поют мужики.
И растет странный хор:
– Подошел музыкант бродячий с мандолой.
Подошел горький пьяница голый.
Подошел мещанинишка кволый.
Из кафе – vis-a-vis[260] – перешел стройный сноб с виолой.
Запела виола. Затрещала сладко мандола.
Хор разлился вослед грустным вальсом: хей – холла…
Завертелись вокруг мещанинишка с пьяницей голым.
– Темп помчался, помчался, помчался.
Закачался
Пьяный пламень во древней реке.
Закачался
Огонечек со спичкой в дрожащей руке.
В вальсе, в вальсе огонь закачался.
Во реке, при руке – здесь и там, в фонарях вдалеке,
– Вдалеке.
1913
М<осква>
Во мнения*
Урод, о урод!
Сказал – прошептал, прокричал мне народ.
Любила вчера.
– Краснея призналась Ра.
Ты нас убил!
– Прорыдали – кого я любил.
Идиот!
Изрек диагноз готтентот.
Ну так я –
– Я!
Я счастье народа.
Я горе народа.
Я – гений убитого рода,
Убитый, убитый!
Всмотрись ты –
В лице Урода
Мерцает, мерцает, Тот, вечный лик.
Мой клик.
– Кикапу!
На свою, на свою я повел бы тропу.
Не бойтесь, не бойтесь – любуйтесь мной
– Моя смерть за спиной.
1914
Конец Кикапу*
Побрили Кикапу – в последний раз.
Помыли Кикапу – в последний раз.
С кровавою водою таз
И волосы, его.
Куда-с?
Ведь Вы сестра?
Побудьте с ним хоть до утра.
А где же Ра?
Побудьте с ним хоть до утра
Вы, обе,
Пока он не в гробе.
Но их уж нет и стерли след прохожие у двери.
Да, да, да, да, – их нет, поэт, – Елены, Ра, и Мери.
Скривился Кикапу: в последний раз
Смеется Кикапу – в последний раз.
Возьмите же кровавый таз
– Ведь настежь обе двери.
1914
В больнице*
В палатах, в халатах, больные безумные.
Думают лбы –
– Гробы.
Душные души, бесструнные,
Бурумные.
Вот ночь.
Вскачь, вскочь, пошли прочь
К койкам-кроватям своим.
Мир им,
Братьям моим.
Спят.
Тихо струится яд,
В жилах их – кровь течет вспять,
От смерти, опять.
Снятся им черти, ад.
Ааааа!!..
– Ды беги, кликни, что ежали…
– Жарежали, жарежали, жарежали!!
Игумнова!..
Полоумнова!..
Пошел, посмотрел, побледнел,
Лоб ороснел:
– Весь пол покраснел.
В подушку-теплушку кладу игрушку – из мыла грушку.
Образ Нины святой…
Мамы портрет, дорогой…
Другой…
Ой –
Артюхин лежит – глаза все видят.
Ночью меня обидят.
Подойдет.
Тихо.
Ножик в живот воткнет.
Спи, Тихон.
Не хочу!
Не хочу – кричу палачу
– Искариот!
Ах – мама другая, рыгая, ругая, в белом халате, несет подушку.
Ногой мне в живот
– Вот!
1914
В провинции*
В чужом красном доме,
В пустом,
Лежу на кровати в поту и в истоме,
Вдвоем.
Привез извозчик девушку, легла со мной на одр.
Бодрила и шутила ты, а я совсем не бодр.
Пили вино
– Портвейн.
– Все холодно́.
Катятся реки: Дон, Висла, Рейн.
Портвейн разлился, тягучий и сладкий,
Липкий.
– Кошмар, кошмар гадкий.
Съесть бы рыбки,
Кваску…
Пьяна ты, пьяна и своими словами нагнала тоску.
Уснула – и платье свалилось со стула.
О – смерть мне на ухо шепнула,
Кивнула,
И свечку задула.
1914
Из Вязьмы
М<осква>
Смерть часового*
У гауптвахты,
Гау, гау, гау – уввв… – ах ты… –
Собака воет глухо, как из шахты.
– Враг ты!
Часовой молодой слушает вой.
Молодой –
Скоро ему домой.
К жене.
А по стене… а по стене… а по стене
Ползет, ползет, как тень ползет во сне,
– Враг.
Б – бабах
– Выстрел – веселый вылетел пламень.
Бах –
Ответ,
Глухой.
Ой –
Светы…
Гаснет, гаснет светлый мой пламень.
Сердце твердо, как камень.
Пламень мой… пламень…
Потух, темно.
Снег скрипит… коня провели – к мертвым
Ноо! но…
1914
Вторая весна*
Прощай, Ра!
– Солнцу.
Прощай, Ра!
– Рахили.
Потемнело крошка-оконце
– Щель в могиле.
Стемнело..
А солнце… о, солнце!.. а жизнь оживела
– В весеннем пуху.
Весна наверху.
Весна…
Я чую: немеет, немеет десная.
Прощайте, Надежда –
Надежде,
(как прежде)
Урод умирающий, нежный невежда,
У которого сгнила вся одежда.
1914
Пьяный*
Бывшим друзьям
Средь ночи, во тьме, я плачу.
Руки в крови…
Волосы, платье – в ёлочных блёстках.
Я болен, я болен – я плачу.
Как много любви!
Как жёстко, холодно, в ёлочных блестках
Шее, телу…
Окно побледнело.
Свет, скажи им – ведь руки в крови –
– Я убил от любви.
Ах – гудок в мозг, в слух мне врезался.
Я пошутил – я обрезался.
<1915>
Первый грех*
Первый грех против марта – мертвею.
О, маца мертвородная, страшно…
Светлый свет позабывчиво вею
Снова, снова, – на новые брашна.
Миртом март, помертвев, покрываю.
Милый мирт мой – ты лавр жестколистный.
Знает сердце: (скрывает) – срываю
Я последний аканф нелучистый.
<1916>
Пустыня*
Монах да мох да холм да хомут.
Тому да в омут уто́мой,
Утонуть, – а то ну ото смут –
Уд о ́морь!
Тому тонуть в песке вблизке.
И с кем говорить? с рыбой?
Вино иное йнеить в виске –
А гол с голубой глыбой?
Обол лобовой, Бог с тобой,
– Волной вольну голубой!
1918
Вывозка воза*
Золотое голодное волокло –
Холодость, младость: благовест, воск.
И вот, тово, – морок: волоком
Около выполз воз.
Заворачивай, старче черт!..
Короче, короче, коростовой: гроба!!
Черен
Воз, как кости там черные города.
А доро́ги, радо́гой родимец: гряяязны.
Алюдищщи! рогаты, грооозны.
А мы сами, кормилец, – тлим же за ны.
И заныло, заскрипело, запело: хорохоррррыы
И воз – и возец – и кости-города́: –
до горы – да гори!!!
Апрель 1918
Орган – хору*
Океан пьяный! трезвые вей сейчас.
Перезвон на тризные скирды, на кики, кикиморы мора.
Ора, народ, органный лад – гармоник гой исчах.
Вой и вой и ваи конца – о́ра, ора, ора!!!
Сахар!! – хор.
Хлеб!! – хор.
Свет!! – вой, вой,
И от дров гром гробный свой.
Саваны шейте, шеи готовь,
Топоты в тину вдавите.
– Это новь
Дети, вдовицы.
А птичьи тики да токи часов,
А сов по ночам лопот…
Готовьте, готовьте святой засов
Чтоб друга и другу не слопать.
Апрель 1918
Приложение. Манифесты и декларации
Кубофутуризм
Пощечина общественному вкусу*
Читающим наше Новое Первое Неожиданное. Только мы – лицо нашего Времени. Рог времени трубит нами в словесном искусстве.
Прошлое тесно. Академия и Пушкин – непонятнее гиероглифов.
Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч., и проч. с Парохода современности.
Кто не забудет своей первой любви, не узнает последней.
Кто же, доверчивый, обратит последнюю Любовь к парфюмерному блуду Бальмонта? В ней ли отражение мужественной души сегодняшнего дня?
Кто же, трусливый, устрашится стащить бумажные латы с черного фрака воина Брюсова? Или на них зори неведомых красот?
Вымойте ваши руки, прикасавшиеся к грязной слизи книг, написанных этими бесчисленными Леонидами Андреевыми.
Всем этим Максимам Горьким, Куприным, Блокам, Сологубам, Ремизовым, Аверченкам, Черным, Кузминым, Буниным и проч., и проч. – нужна лишь дача на реке. Такую награду дает судьба портным. С высоты небоскребов мы взираем на их ничтожество!..
Мы приказываем чтить права поэтов:
1. На увеличение словаря в его объеме произвольными и производными словами. (Слово – новшество).
2. На непреодолимую ненависть к существовавшему до них языку.
3. С ужасом отстранять от гордого чела своего, из банных веников сделанный Вами, Венок грошовой славы.
4. Стоять на глыбе слова «мы» среди моря свиста и негодования.
И если пока еще и в наших строках остались грязные клейма Ваших «Здравого смысла» и «хорошего вкуса», то все же на них уже трепещут впервые Зарницы Новой Грядущей Красоты Самоценного (самовитого) Слова.
Д. Бурлюк
Александр Крученых
В. Маяковский
Виктор Хлебников
Москва. 1912 г. Декабрь.
Пощечина общественному вкусу (листовка)*
В 1908 году вышел «Садок Судей». – В нем гений – великий поэт современности – Велимир Хлебников впервые выступил в печати. Петербургские метры считали Хлебникова «сумасшедшим». Они не напечатали, конечно, ни одной вещи того, кто нес собой Возрождение Русской Литературы. Позор и стыд на их головы!..
Время шло… В. Хлебников, А. Крученых, В. Маяковский, Б. Лившиц, В. Кандинский, Николай Бурлюк и Давид Бурлюк в 1913 году выпустили книгу «Пощечина Общественному Вкусу».
Хлебников теперь был не один. Вокруг него сгруппировалась плеяда писателей, кои, если и шли различными путями, были объединены одним лозунгом: «Долой слово-средство, да здравствует Самовитое, самоценное Слово!» Русские критики, эти торгаши, эти слюнявые недоноски, дующие в свои ежедневные волынки, толстокожие и не понимающие красоты, разразились морем негодования и ярости. Не удивительно! Им ли, воспитанным со школьной скамьи на образцах Описательной поэзии, понять Великие откровения Современности.
Все эти бесчисленные сюсюкающие Измайловы, Homunclus’ы, питающиеся объедками, падающими со столов реализма – разгула Андреевых, Блоков, Сологубов, Волошиных и им подобных, – утверждают (какое грязное обвинение), что мы «декаденты» – последние из них – и что мы не сказали ничего нового – ни в размере, ни в рифме, ни в отношении к слову.
Разве были оправданы в русской литературе наши приказания чтить Права поэтов:
на увеличение словаря в его объеме произвольными и производными словами!
на непреодолимую ненависть к существовавшему языку!
с ужасом отстранять от гордого чела своего из банных веников сделанный вами венок грошовой славы!
стоять на глыбе слова «мы» среди моря свиста и негодования!
1913
<Манифест из сборника «Садок судей II»>*
Находя все нижеизложенные принципы цельновыраженными в первом «Садке судей» и выдвинув ранее пресловутых и богатых, лишь в смысле Метцль и Кº, футуристов, – мы тем не менее считаем этот путь нами пройденным и, оставляя разработку его тем, у кого нет более новых задач, пользуемся некоторой формой правописания, чтобы сосредоточить общее внимание на уже новых открывающихся перед нами заданиях.
Мы выдвинули впервые новые принципы творчества, кои нам ясны, в следующем порядке:
1. Мы перестали рассматривать словопостроение и словопроизношение по грамматическим правилам, став видеть в буквах лишь направляющие речи. Мы расшатали синтаксис.
2. Мы стали придавать содержание словам по их начертательной и фонической характеристике.
3. Нами осознана роль приставок и суффиксов.
4. Во имя свободы личного случая мы отрицаем правописание.
5. Мы характеризуем существительные не только прилагательными (как делали главным образом до нас), но и другими частями речи, также отдельными буквами и числами:
а) Считая частью неотделимой произведения его помарки и виньетки творческого ожидания.
б) В почерке полагая составляющую поэтического импульса.
в) В Москве поэтому нами выпущены книги (автографов) «самописьма».
6. Нами уничтожены знаки препинания, – чем роль словесной массы – выдвинута впервые и осознана.
7. Гласные мы понимаем как время и пространство (характер устремления), согласные – краска, звук, запах.
8. Нами сокрушены ритмы. Хлебников выдвинул поэтический размер – живого разговорного слова. Мы перестали искать размеры в учебниках – всякое движение рождает новый свободный ритм поэту.
9. Передняя рифма – (Давид Бурлюк) средняя, обратная рифмы (Маяковский) разработаны нами.
10. Богатство словаря поэта – его оправдание.
11. Мы считаем слово творцом мифа, слово, умирая, рождает миф и наоборот.
12. Мы во власти новых тем: ненужность, бессмысленность, тайна властной ничтожности – воспеты нами.
13. Мы презираем славу; нам известны чувства, не жившие до нас.
Мы новые люди новой жизни.
Давид Бурлюк, Елена Гуро, Николай Бурлюк, Владимир Маяковский, Екатерина Низен, Виктор Хлебников, Бенедикт Лившиц, А. Крученых
<1913>
На приезд Маринетти в Россию*
Сегодня иные туземцы и итальянский поселок на Неве из личных соображений припадают к ногам Маринетти, предавая первый шаг русского искусства по пути свободы и чести, и склоняют благородную выю Азии под ярмо Европы.
Люди не желающие хомута на шее будут, как и в позорные дни Верхарна и Макса Линдера, спокойными созерцателями темного подвига.
Люди воли остались в стороне. Они помнят закон гостеприимства, но лук их натянут, а чело гневается.
Чужеземец, помни страну, куда ты пришел!
Кружева холопства на баранах гостеприимства.
В. Хлебников,
Б. Лившиц
1914
Идите к черту*
Ваш год прошел со дня выпуска первых наших книг: «Пощечина», «Громокипящий Кубок», «Садок Судей» и др.
Появление Новых поэзий подействовало на еще ползающих старичков русской литературочки, как беломраморный Пушкин, танцующий танго.
Коммерческие старики тупо угадали раньше одурачиваемой ими публики ценность нового и «по привычке» посмотрели на нас карманом.
К. Чуковский (тоже не дурак!) развозил по всем ярмарочным городам ходкий товар: имена Крученых, Бурлюков, Хлебникова…
Ф. Сологуб схватил шапку П. Северянина, чтобы прикрыть свой облысевший талантик.
Василий Брюсов привычно жевал страницами «Русской Мысли» поэзию Маяковского и Лившица.
Брось, Вася, это тебе не пробка!..
Не затем ли старички гладили нас по головке, чтобы из искр нашей вызывающей поэзии наскоро сшить себе электро-пояс для общения с музами?..
Эти субъекты дали повод табуну молодых людей, раньше без определенных занятий, наброситься на литературу и показать свое гримасничающее лицо: обсвистанный ветрами «Мезонин поэзии», «Петербургский глашатай» и др.
А рядом выползала свора адамов с пробором – Гумилев, С. Маковский, С. Городецкий, Пяст, попробовавшая прицепить вывеску акмеизма и аполлонизма на потускневшие песни о тульских самоварах и игрушечных львах, а потом начала кружиться пестрым хороводом вокруг утвердившихся футуристов…
Сегодня мы выплевываем навязшее на наших зубах прошлое, заявляя:
1) Все футуристы объединены только нашей группой.
2) Мы отбросили наши случайные клички эго и кубо и объединились в единую литературную компанию футуристов:
Давид Бурлюк, Алексей Крученых, Бенедикт Лившиц, Владимир Маяковский, Игорь Северянин, Виктор Хлебников.
Капля дегтя*
Милостивые государыни и милостивые государи!
Этот год – год смертей: чуть не каждый день громкою скорбью рыдают газеты по ком-нибудь маститом, до срока ушедшем в лучший мир. Каждый день тягучим плачем голосит петит над множеством имен, вырезанных Марсом. Какие благородные и монашески строгие выходят сегодня газеты. В черных траурных платьях похоронных объявлений, с глазами, блестящими кристальной слезой некролога. Вот почему было как-то особенно неприятно видеть, что эта самая облагороженная горем пресса подняла такое непристойное веселье по поводу одной очень близкой мне смерти.
Когда запряженные цугом критики повезли по грязной дороге, дороге печатного слова, гроб футуризма, недели трубили газеты: «Хо, хо, хо! так его! вези, вези! наконец-то!» (страшное волнение аудитории: «Как умер? футуризм умер? да что вы?»)
Да, умер.
Вот уже год вместо него, огнеслового, еле лавирующего между правдой, красотой и участком, на эстрадах аудиторий пресмыкаются скучнейшие когано-айхенвальдообразные старики. Год уже в аудиториях скучнейшая логика, доказывание каких-то воробьиных истин вместо веселого звона графинов по пустым головам.
Господа! да неужели вам не жалко этого взбалмошного, в рыжих вихрах детины, немного неумного, немного некультурного, но всегда, о! всегда смелого и горящего. Впрочем, как вам понять молодость? Молодые, которым мы дороги, еще не скоро вернутся с поля брани; вы же, оставшиеся здесь для спокойного занятия в газетах и прочих конторах; вы – или неспособные носить оружие рахитики или старые мешки, набитые морщинами и сединами, дело которых думать о наиболее безмятежном переходе в другой мир, а не о судьбах русского искусства.
А знаете, я и сам не очень-то жалею покойника, правда из других соображений.
Оживите в памяти первый гала-выход российского футуризма, ознаменованный такой звонкой «пощечиной общественному вкусу». Из этой лихой свалки особенно запомнились три удара под тремя криками нашего манифеста.
1. Смять мороженницу всяческих канонов, делающую лед из вдохновения.
2. Сломать старый язык, бессильный догнать скач жизни.
3. Сбросить старых великих с парохода современности.
Как видите, ни одного здания, ни одного благоустроенного угла, разрушение, анархизм. Над этим смеялись обыватели как над чудачеством сумасшедших, а это оказалось «дьявольской интуицией», воплощенной в бурном сегодня. Война, расширяя границы государств, и мозг заставляет врываться в границы вчера неведомого.
Художник! тебе ли тоненькой сеточкой контуров поймать несущуюся кавалерию. Репин! Самокиш![1] уберите ведра – краску расплещет.
Поэт! не сажай в качалку ямбов и хореев мощный бой – всю качалку разворотит!
Изламыванье слов, словоновшество! Сколько их, новых во главе с Петроградом, а кондуктрисса! умрите, Северянин! Футуристам ли кричать о забвении старой литературы. Кто за казачьим гиком расслышит трель мандолиниста Брюсова. Сегодня все футуристы. Народ футурист.
Футуризм мертвой хваткой ВЗЯЛ Россию.
Не видя футуризма перед собой и не умея заглянуть в себя, вы закричали о смерти. Да! футуризм умер как особенная группа, но во всех вас он разлит наводнением.
Но раз футуризм умер как идея избранных, он нам не нужен. Первую часть нашей программы – разрушение мы считаем завершенной. Вот почему не удивляйтесь, если сегодня в наших руках увидите вместо погремушки шута чертеж зодчего, и голос футуризма, вчера еще мягкий от сентиментальной мечтательности, сегодня выльется в медь проповеди.
1915
Труба марсиан*
ЛЮДИ!
Мозг людей и доныне скачет на трех ногах (три оси места)! Мы приклеиваем, возделывая мозг человечества, как пахаря, этому щенку четвертую ногу, именно – ОСЬ ВРЕМЕНИ.
Хромой щенок! Ты больше не будешь истязать слух нам своим скверным лаем.
Люди прошлого не умнее себя, полагая, что паруса государства можно строить лишь для осей пространства. Мы, одетые в плащ только побед, приступаем к постройке молодого союза с парусом около оси времени, предупреждая заранее, что наш размер больше Хеопса, а задача храбра, величественна и сурова.
Мы, суровые плотники, снова бросаем себя и наши имена в клокочущие котлы прекрасных задач.
Мы верим в себя и с негодованием отталкиваем порочный шепот людей прошлого, мечтающих уклюнуть нас в пяту. Ведь мы босы. (Ошибка в согласной.) Но мы прекрасны В НЕУКЛОННОЙ ИЗМЕНЕ СВОЕМУ ПРОШЛОМУ, едва только оно вступило в возраст победы, и в неуклонном бешенстве заноса очередного молота над земным шаром, уже начинающим дрожать от нашего топота.
Черные паруса времени, шумите!
Виктор Хлебников, Мария Синякова, Божидар, Григорий Петников, Николай Асеев.
«ПУСТЬ МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ РАСКОЛЕТСЯ НА МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ»
– ВОТ СЛОВА НОВОЙ СВЯЩЕННОЙ ВРАЖДЫ. –
Наши вопросы в пустое пространство, где еще не было человека, – их мы будем властно выжигать и на лбу Млечного Пути, и на круглом божестве купцов, – вопросы, как освободить крылатый двигатель от жирной гусеницы товарного поезда старших возрастов. ПУСТЬ ВОЗРАСТЫ РАЗДЕЛЯТСЯ И ЖИВУТ ОТДЕЛЬНО! Мы вскрыли печати на поезде за нашим паровозом дерзости, – там ничего нет, кроме могил юношей.
Нас семеро. Мы хотим меча и чистого железа юношей. Им, утонувшим в законы семей и законы торга, им, у которых одна речь: «ем», не понять нас, не думающих ни о том, ни о другом, ни о третьем.
Право мировых союзов по возрасту. Развод возрастов, право отдельного бытия и делания. Право на все особо до Млечного Пути. Прочь, шумы возрастов! Да властвует звон прерывных времен, белые и черные дощечки и кисть судьбы. Пусть те, кто ближе к смерти, чем к рождению, сдадутся! Падут на лопатки в борьбе времен под нашим натиском дикарей. А мы – мы, исследовав почву материка времени, нашли, что она плодородна. Но цепкие руки ОТТУДА схватили нас и мешают нам свершить прекрасную измену пространству. Разве было что пьянее этой измены? Вы! чем ответить на опасность родиться мужчиной, как не ПОХИЩЕНИЕМ ВРЕМЕНИ? Мы зовем в страну, где говорят деревья, где научные союзы, похожие на волны, где весенние войска любви, ГДЕ ВРЕМЯ ЦВЕТЕТ, КАК ЧЕРЕМУХА и двигает, как поршень, где зачеловек в переднике плотника пилит времена на доски и, как токарь, обращается с своим завтра. (О, уравнения поцелуев! О, луч смерти, убитый лучом смерти, поставленным на пол волны). Мы идем туда, юноши, и вдруг кто-то мертвый, кто-то костлявый хватает нас и мешает нам вылинять из перьев дурацкого сегодня. Разве это хорошо?
Государство молодежи, ставь крылатые паруса времени; перед тобой второе похищение пламени приобретателей. Смелее! Прочь костлявые руки вчера, перед ударом Балашова пусть будут искромсаны ужасные зрачки. Это – новый удар в глаза грубо пространственного люда. Что больше: «при» или «из»? Приобретатели всегда стадами крались за изобретателями, теперь изобретатели отгоняют от себя лай приобретателей, стаями кравшихся за одиноким изобретателем.
Вся промышленность современного земного шара с точки зрения самих приобретателей есть «кража» (язык и нравы приобретателей) – у первого изобретателя – Гаусса. Он создал учение о молнии. А у него при жизни не было и 150 рублей в год на его ученые работы. Памятниками и хвалебными статьями вы стараетесь освятить радость совершенной кражи и умерить урчание совести, подозрительно находящейся в вашем червеобразном отростке. Якобы ваше знамя – Пушкин и Лермонтов – были вами некогда прикончены, как бешеные собаки за городом, в поле! Лобачевский отсылался вами в приходские учителя. Монгольфьер был в желтом доме. А мы? Боевой отряд изобретателей?
ВОТ ВАШИ ПОДВИГИ! ИМИ МОЖНО ИСПИСАТЬ ТОЛСТЫЕ КНИГИ!
Вот почему изобретатели в полном сознании своей особой породы, других нравов и особого посольства отделяются от приобретателей в независимое государство ВРЕМЕНИ (лишенное пространства) и ставят между собой ними железные прутья. Будущее решит, кто очутился в зверинце, изобретатели или приобретатели? И кто будет грызть кочергу зубами.
В. Хлебников
I. СЛАВНЫЕ УЧАСТНИКИ БУДЕТЛЯНСКИХ ИЗДАНИЙ ПЕРЕВОДЯТСЯ ИЗ РАЗРЯДА ЛЮДЕЙ В РАЗРЯД МАРСИАН.
Подписано: КОРОЛЬ ВРЕМЕНИ ВЕЛИМИР 1-й
II. ПРИГЛАШАЮТСЯ С ПРАВОМ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА, НА ПРАВАХ ГОСТЕЙ, В ДУМУ МАРСИАН
УЭЛЛЬС И МАРИНЕТТИ.
«УЛЛЯ, УЛЛЯ», МАРСИАНЕ!
ПРЕДМЕТЫ ОБСУЖДЕНИЯ.
1) КАК ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ ЗАСИЛЬЯ ЛЮДЕЙ ПРОШЛОГО, сохраняющих еще тень силы в мире пространства, не пачкаясь о их жизнь (мыло словотворчества), предоставив им утопать в заработанной ими судьбе злобных мокриц. Мы осуждены завоевать МЕРОЙ И ВРЕМЕНЕМ наши права на свободу от грязных обычаев людей прежних столетий.
2) Как освободить быстрый паровоз младших возрастов от прицепившегося непрошеным и дерзким образом товарного поезда старших возрастов?
Старшие! Вы задерживаете бег человечества и мешаете клокочущему паровозу юности взять лежащую на ее пути гору. Мы сорвали печати и убедились, что груз – могильные плиты для юности.
Под видом груза, прицепленного к нашей свистящей надменно грозе, заячьим способом провозится грязь донебесных людей!
8 апреля 1916
Манифест Летучей Федерации Футуристов*
Старый строй держался на трех китах.
Рабство политическое, рабство социальное, рабство духовное.
Февральская революция уничтожила рабство политическое. Черными перьями двуглавого орла устлана дорога в Тобольск. Бомбу социальной революции бросил под капитал октябрь. Далеко на горизонте маячат жирные зады убегающих заводчиков. И только стоит неколебимый третий кит – рабство Духа.
По-прежнему извергает он фонтан затхлой воды – именуемый – старое искусство.
Театры по-прежнему ставят: «Иудейских» и прочих «царей» (сочинения Романовых), по-прежнему памятники генералов, князей – царских любовниц и царицыных любовников тяжкой, грязной ногой стоят на горлах молодых улиц. В мелочных лавочках, называемых высокопарно выставками торгуют чистой мазней барских дочек и дачек в стиле Рококо и прочих Людовиков.
И наконец, на светлых праздниках наших поем не наши гимны, а седовласую одолженную у французов марсельезу.
Довольно.
Мы пролетарии искусства – зовем пролетариев фабрик и земель к третьей бескровной, но жестокой революции, революции духа.
Требуем признать:
I. Отделение искусства от государства.
Уничтожение покровительства привилегий и контроля в области искусства. Долой дипломы, званий, официальные посты и чины.
II. Передачу всех материальных средств искусства: театров, капелл, выставочных помещений и зданий академии и художественных школ – в руки самих мастеров искусства для равноправного пользования ими всего народа искусства.
III. Всеобщее художественное образование ибо мы верим, что основы грядущего свободного искусства могут выйти только из недр демократической России, до сего времени лишь алкавшей хлеба искусства.
IV. Немедленная, наряду с продовольственными, реквизиция всех под спудом лежащих эстетических запасов для справедливого и равномерного пользования всей России.
Да здравствует третья Революция, Революция Духа!
Д. Бурлюк, В. Каменский, В. Маяковский
Дан Москве 1918 года, Март.
Эгофутуризм
Академия Эгопоэзии (Вселенский Футуризм)*
Предтечи:
К. М. Фофанов и Мирра Лохвицкая.
Скрижали:
I. Восславление Эгоизма:
1. Единица – Эгоизм.
2. Божество – Единица.
3. Человек – дробь Бога.
4. Рождение – отдробление от Вечности.
5. Жизнь – дробь вне Вечности.
6. Смерть – воздробление.
7. Человек – Эгоист.
II. Интуиция. Теософия.
III. Мысль до безумия. Безумие индивидуально.
IV. Призма стиля, реставрация спектра мысли.
V. Душа – истина.
Ректориат:
Игорь Северянин,
Константин Олимпов (К. М. Фофанов),
Георгий Иванов,
Грааль-Арельский.
Интуитивная школа. «Вселенский Эго-футуризм»*
Основана Игорем-Северянином в ноябре 1911 г., изданием его пролога «Эго-Футуризм».
Доктрины:
Признание Эгобога (Объединение двух контрастов), Обрет вселенской души. (Всеоправдание, Восславление Эгоизма, как своей индивидуальной сущности.
Беспредельность искусствовых и духовных изысканий. Каждый искусствовик или мыслитель, солидарный в доктринах с основателем, есть Эго-Футурист.
Эго-Футуризм не имеет ничего общего с футуризмом Итало-Французским: 1) иностранные футуристы осмертили местоимение «я», 2) они не знают всеоправдания.
Игорь-Северянин
1912
Грамата Интуивной Ассоциации Эго-футуризм*
I. Эгофутуризм – непрестанное устремление каждого эгоиста к достижению возможностей будущего в настоящем.
II. Эгоизм – индивидуализация, осознание, преклонение и восхваление «Я».
III. Человек – сущность. Божество – тень человека в зеркале Вселенной. Бог – природа. Природа – Гипноз. Эгоист – Интуит. Интуит – Медиум.
IV. Созидание Ритма и Слова.
Ареопаг:
Иван Игнатьев.
Павел Широков.
Василиск Гнедов.
Дмитрий Крючков.
Официоз Эго-футуризма – «Петербургский Глашатай».
Планета Земля. La planete la Terra.
Россия. Russie.
27. 6-я Рождественская.
1913 I. 9. (22).
«Центрифуга»
Грамота*
Мы, меньше всего желавшие междуусобий в Русской Поэзии, отвечавшие молчанием на неоднократные заигрыванья пассеистов, не желая больше поощрять наглость зарвавшейся банды, присвоившей себе имя Русских футуристов, заявляем им в лицо, дабы вывести общество из заблуждения, коим они пользуются для личных своих расчетов, следующее:
1. Вы предатели и ренегаты, ибо осмеливаетесь глумиться над делом первого Русского Футуриста покойного И. В. Игнатьева (стр. 130 «Первого Журнала Русских Футуристов»).
2. Вы самозванцы ибо А) Вас и именно Вас назвал пассеистами главнокомандующий армиями футуристов Ф. Т. Маринетти в бытность свою в Москве; Вы тщетно старались представить ему фальшивые паспорта, собственноручно вами сфабрикованные под футуристические; он не захотел проверять их подлинности, настолько наивна была подделка; b) Старший русский Футурист И. Северянин публично (в газетах) указал Ваше место в пределах родины, ибо Вы со своей деятельностью давно подошли под нормы некоего кодекса, действующего в Империи.
3. Организовав трест российских Бездарей*, Вы со злобой и бесстыдством забываете о порядочности и распространяете клеветнические сплетни о поэтах инакомыслящих с Вами (стр. 141 «Перв. Жур. Русск. Футуристов»).
4. Вы трусы, ибо, ратуя за подъятое забрало и клеймя псевдоним = анониму, Вы прикрываете инсинуаторов своего лагеря вымышленными именами. (Стр. 131, 141, 142).
5. Вы трусы и еще раз, так как, желая во что бы то в глазах будущников, – Вы умышленно пропускаете все наиболее для Вас компрометантное (Стр. 130, «Ж. Р. Ф.»).
Вновь повторяя все эпитеты, характеризующие Вас в грамоте этой мы, подписываясь полными именами, говорим Вам в лицо: если у Вас есть средства оправдания, мы готовы отвечать за свои слова. Если эти оправдания будут лишь новыми сплетнями и инсинуациями анонимов и псевдонимов, то Вы, ложно именующие себя «Русскими Футуристами» будете поставлены в необходимость получить в руки свой истинный послужный список ПАССЕИСТОВ
Николай Асеев
Сергей Бобров
Илья Зданевич
Борис Пастернак
* Мы не имеем в виду Хлебникова и Маяковского, поэтов, очевидно, по молодости лет, не отвечающих за своих товарищей.
<1914>
<Манифест компании «41°»>*
Компания 41° объединяет левобережный футуризм, и утверждает заумь как обязательную форму воплощения искусства.
Задача 4Г – использовать все великие открытия сотрудников и надеть мир на новую ось.
Газета будет пристанью событий из жизни компаний и причиной постоянных беспокойств.
Засучиваем рукава.
<1919>
Комментарии
Настоящее издание впервые представляет под одной обложкой произведения практически всех поэтов, входивших в футуристические группы, а также некоторых поэтов, работавших в русле футуризма. Большинство текстов, опубликованных в малотиражных и труднодоступных изданиях, впервые вводится в научный обиход. Естественно, при составлении и подготовке текстов возник ряд сложных проблем, обусловленных характером материала. Русский литературный футуризм – явление чрезвычайно разнородное в идейно-эстетическом плане. Кроме наличия в футуризме нескольких групп, весьма существенно отличавшихся друг от друга, внутри самих этих групп в большинстве случаев не наблюдалось единства, а совместная деятельность поэтов часто носила случайный характер.
В книгу включены произведения, опубликованные в 1910–1922 годах, – именно этими датами можно определить период существования русского литературного футуризма (в 1910 году вышли первые футуристические альманахи «Студия импрессионистов» и «Садок судей», 1922-й – год смерти В. Хлебникова, прекращения существования последней футуристической группы «Центрифуга» и рождения Лефа). Исключением являются некоторые стихотворения И. Северянина, поэта, первым из футуристов вошедшего в большую литературу, первым употребившего в русской литературной практике термин «футуризм» и чье раннее творчество уже обладает ярко выраженными чертами футуризма северянинского типа, а также несколько произведений В. Хлебникова и и. Зданевича. датированных 1922 годом, но опубликованных в 1923 году.
Главный вопрос, который пришлось решать при подготовке текстов к публикации, – вопрос текстологический.
Составители сборника руководствовались стремлением представить русскую футуристическую поэзию в первозданном виде, такой, какой ее знали читатели-современники. Произведения даются по первой публикации, без позднейшей правки (для большинства произведений, ввиду отсутствия переизданий, первая публикация и является каноническим текстом). Однако, учитывая специфику многих футуристических изданий, приходится признать, что в полной мере задача воспроизвести «живой» футуризм невыполнима и ряд существенных потерь неизбежен. Так, литографические книги, где тексты давались в рукописном виде и поэзия сочеталась с живописью, адекватному переводу на типографский шрифт, естественно, не поддаются. Поэтому пришлось отказаться от включения в настоящий том некоторых произведений или в некоторых, исключительных, случаях, давать вторые публикации (большинство стихотворений Божидара, отдельные произведения Н. Асеева).
Орфография текстов приближена к современным нормам (учтены реформы алфавита и грамматики), но разрешить проблему орфографии в полной мере не предоставляется возможным. Кубофутуристы и поэты группы «41°» декларировали нарушение грамматических норм как один из творческих принципов. Случалось, что они приветствовали и типографские опечатки. В произведениях «крайних» (А. Крученых, И. Терентьев) отказ от правил имеет такой очевидный и демонстративный характер, что любая редакторская правка оборачивается нарушением авторского текста. Но и во многих других случаях (В. Хлебников, Д. Бурлюк и др.) практически невозможно дифференцировать намеренные и случайные ошибки, уверенно исправить опечатки. Поэтому за исключением правки, обусловленной реформами последующего времени, орфография в произведениях кубофутуристов и поэтов группы «41°» сохраняется в авторском (издательском) варианте. Очевидные орфографические ошибки и опечатки исправляются, за отдельными исключениями, в текстах поэтов других групп, не выдвигавших принципа «разрушения грамматики».
Что касается пунктуации, то она во всех случаях сохраняется без правок, соответствует принятым в настоящем издании принципам воспроизведения текстов.
«Ночь в Галиции» В. Хлебникова, «Владимир Маяковский» В. Маяковского, «Пропевень о проросли мировой» П. Филонова и произведения Н. Чернявского ввиду особой важности изобразительной стороны их издания или практической невозможности привести их в соответствие с современными грамматическими нормами воспроизведения даются в настоящем томе репринтным способом.
Настоящее издание состоит из следующих разделов: вступительная статья, «Кубофутуристы», «Эгофутуристы», «Мезонин поэзии», «„Центрифуга“ и „Лирень“», «Творчество». «41°», «Вне групп», «Приложение», «Примечания». Порядок расположения шести разделов, представляющих творчество футуристических групп, обусловлен хронологической последовательностью образования групп и их выступления в печати. При расположении авторов внутри этих разделов неизбежна некоторая субъективность: учитывались место, занимаемое поэтом в группе, его вклад в футуристическое движение, организаторская деятельность. В случае, если поэт участвовал в деятельности нескольких групп (А. Крученых, Н. Асеев, С. Третьяков, К. Большаков и др.), его произведения включены в раздел группы, где состоялся его футуристический дебют. Исключение сделано для С. Боброва, В. Шершеневича и Р. Ивнева, опубликовавших свои произведения в эгофутуристическом издательстве «Петербургский Глашатай», но сыгравших определяющую роль в «Центрифуге» (Бобров) и «Мезонине поэзии» (Шершеневич).
Произведения каждого автора расположены в хронологическом порядке по авторскому указанию даты. При отсутствии авторской датировки дата указывается по первой публикации – в этом случае она дается в угловых скобках, обозначающих, что произведение написано не позже указанного срока.
Подборке произведений каждого автора предпослана справка-портрет, целью которой является не столько изложение биографических сведений, сколько освещение участия данного поэта в футуристическом движении. Тем более не входит в задачи издания изложение жизненного пути авторов, чье поэтическое творчество либо имело эпизодический характер (В. Шкловский, Р. Якобсон и др.). либо в главных своих чертах определилось вне футуризма (Б. Пастернак, Г. Шенгели и др.).
В раздел «Вне групп» включены произведения авторов, не примыкавших к конкретным футуристическим группам, но считавших себя футуристами, либо поэтов, чье творчество близко поэтике футуризма. Раздел не исчерпывает списка авторов, которых можно в него включить.
В раздел «Приложение» вошли основные манифесты и декларации футуристических групп. Порядок расположения текстов соответствует поэтическому разделу.
Примечаниям к текстам предшествует список условных сокращений названий индивидуальных и коллективных футуристических сборников и других изданий, в которых принимали участие футуристы, а также критических работ и мемуарных книг, выдержки из которых приводятся в примечаниях.
Примечание к отдельному произведению начинается со сведений о его первой публикации; затем, после тире, указаны последующие издания, отразившие эволюцию текста; указание лишь одного источника означает, что в дальнейшем текст не публиковался или не подвергался изменениям. В случае, если текст печатается не по первой публикации, указание на источник публикации предваряется пометой: «Печ. по». В историко-литературном комментарии даются сведения о творческой истории произведения, приводятся отзывы критиков и мемуаристов. Завершает примечание реальный комментарий, раскрывающий значение отдельных понятий и слов, а также имен собственных, встречающихся в тексте.
В примечаниях учтены и частично использованы комментарии к разным изданиям поэтов-футуристов, выполненные Р. Вальбе, В. Григорьевым, Т. Грицем, Р. Дугановым, Е. Ковтуном, В. Марковым, М. Марцадури, П. Нерлером, Т. Никольской, А. Парнисом, Е. Пастернаком, К. Поливановым, С. Сигеем, Н. Степановым, А. Урбаном, Н. Харджиевым, Б. Янгфельдтом.
Список условных сокращений, принятых в примечаниях
АвО – Авто в облаках. Одесса, 1915
АвШ – Северянин И. Ананасы в шампанском: Поэзы. М.: Наши дни, 1915
Академия – Олимпов К. Академия Эгопоэзии Вселенского Футуризма: Стихи. Рига, 1914
Анафема – Олимпов К. Анафема Родителя Мироздания. Пг., 1922
АП – Шершеневич В. Автомобилья поступь: Лирика. (1913–1915). М.: Плеяды, 1916
АПН – Олимпов К. Аэропланные поэзы: Нервник 1. Кровь первая. СПб.: Ego, 1912
Асеев – Асеев Н. Собр. соч.: В 5 т. М.: Художественная литература, 1963-1964
Асеев 1928 – Асеев Н. Собрание стихотворений: В 3 т. М.: ГИЗ, 1928
Асеев 1957-Асеев Н. Стихи: 1912–1955. М.: Гослитиздат, 1957
БМ – Без муз: Художественное периодическое издание. 1. Нижний Новгород, 1918
БнВ – Бей! но выслушай: VI альманах эго-футуристов. СПб.: Петербургский Глашатай, 1913
Бомба – Асеев Н. Бомба: Стихи. Владивосток: Дальневосточная трибуна, 1921
БПР – Бурлюк пожимает руку Вульдворт Бильдингу: К 25-летию художественно-литературной деятельности: Стихи. Картины. Автобиография. Нью-Йорк: Издание Кооператива газеты «Русский Голос», 1924
Брюсов – Брюсов В. Среди стихов: 1894–1924: Манифесты, статьи, рецензии. М.: Советский писатель, 1990
Бубен – Божидар. Бубен: Стихи. 2-е изд. М.; [Харьков]: Лирень, 1916
Булань-Булань. М., 1920
Бурлюк – Бурлюк Д. Фрагменты из воспоминаний футуриста. Письма. Стихотворения. СПб.: Пушкинский фонд, 1994
Бухов – Бухов А. Похвальное слово // Бич. 1917. № 2
Вернисаж – Вернисаж: Вып.1. М.: Мезонин поэзии, 1913
Взорваль – Крученых А. Взорваль. СПб.: ЕУЫ, 1913
Взорваль-2 – Крученых А. Взорваль. 2-е изд. доп. СПб., [ЕУЫ, 1913]
Взял – Взял: Барабан футуристов. Пг., 1915
ВКМ – Весеннее контрагентство муз. Сборник. М.: Издание Студии Д. Бурлюка и Сам. Вермель. 1915
ВКС – Чурилин Т. Вторая книга стихов. М.: Лирень, 1918
ВМ – Маяковский В. Владимир Маяковский: Трагедия в 2 д., с прологом и эпилогом. М.: Издание 1-го журнала русских футуристов, 1915
ВпС – Чурилин Т. Весна после смерти: Стихи. М.: Альциона, 1915
Временник-1 – Временник: 1-ый лист из 317. М.; [Харьков]: Лирень, 1917 [1916]
Временник-2 – Временник: 2. М.; [Харьков]: Лирень, 1917
ВС – Лившиц Б. Волчье солнце: Книга стихов вторая. М.; [Херсон): Гилея, 1914
ВСВМ – Все сочиненное Владимиром Маяковским. 1909–1919. Пг.: ИМО, 1920
Всегдай – Всегдай: Эгофутуристы. VII. СПб.: Петербургский Глашатай, 1913
ВСП – Весенний салон поэтов. М.: Зерна, 1918
ГК – Северянин И. Громокипящий кубок: Поэзы. М.: Гриф, 1913
Глагол – Олимпов К. Глагол Родителя Мироздания. Пг., 1916
Гнедов – Гнедов В. Собрание стихотворений. Gnedov V. I. Poesie / Под ред. Н. Харджиева и М. Марцадури; Вступ. статья и коммент. С. Сигея. Trento: Департамент Истории Европейской Цивилизации, Университет Тренто, 1992
Голодняк – Крученых А. Голодняк. М., 1922
ГС – Гнедов В. Гостинец сентиментам. СПб.: Петербургский Глашатай, 1913
Гусман – Гусман Б. 100 поэтов: Литературные портреты. Тверь: Октябрь, 1923
ГФ – Газета футуристов. 1918. № 1
ДА – Дары Адонису: Эдиции Ассоциации Эго-футуристов. IV. СПб.: Петербургский Глашатай, 1913
Дачница – Дачница: Еженедельная литературно-художественная газета. СПб., 1912
ДБ – Каменский В. Девушки босиком: Стихи. Тифлис, 1917 [1916]
ДЛ – Дохлая луна: Сборник единственных футуристов мира поэтов «Гилея»: Стихи, проза, рисунки, офорты. М.; [Каховка): Гилея, 1913
ЕМБ – Каменский В. Его-моя биография Великого футуриста. М.: Китоврас, 1918
ЖН – Олимпов К. Жонглеры-нервы. СПб.: Петербургский Глашатай, 1912
ЖП – Третьяков С. Железная пауза. Владивосток, 1919
ЗА – Фиолетов А. Зеленые агаты: Поэзы. Одесса: Издательство С. Силвер, 1914
Заветы – Заветы: Ежемесячный журнал. СПб., 1912–1914
Закржевский – Закржевский А. Рыцари безумия: (Футуристы). Киев, 1914
Замауль – Крученых А. Замауль. III. [Баку]: 41°, [1920]
Затычка – Затычка. М.: Гилея, 1914
Заумники – Крученых А., Петников Г., Хлебников В. Заумники. М., 1922
ЗВ – Каменский В. Звучаль Веснеянки: Стихи. М.: Китоврас, 1918
ЗГ – Крученых, Алягров. Заумная гнига. [М.], 1916 [1915]
ЗК – Засахаре кры: Эго-футуристы: V. СПб.: Петербургский Глашатай, 1913
ЗКн – Петников Г. Заветная книга. Симферополь: Крымиздат, 1961
Златолира – Северянин И. Златолира: Поэзы: Книга 2. М.: Гриф, 1914
Зор – Асеев Н. Зор. М. [Харьков], 1914
ЗП – Шенгели Г. Зеркала потускневшие: Поэзы, книга И. Пг.: L'oiseau bleu, 1915
ЗС – Ивнев Р. Золото смерти. М.: Центрифуга, 1916
ЗСИЛ – Игорь-Северянин. За струнной изгородью лиры: Стихи. СПб., 1909
ЗУ – Шершеневич В. Зеленая улица: Статьи и заметки об искусстве. М.: Плеяды, 1916
Зудесник – Крученых А. Зудесник. Зудутные зудеса: Книга 119-ая. М., 1922
ИБС – Из батареи сердца. Севастополь: Таран, 1922
ИвА – Крученых А., Хлебников В. Игра в аду: Поэма. М., 1912
ИвА-2 – Крученых А., Хлебников В. Игра в аду. 2-е изд., доп. СПб.: ЕУЫ. 1914
Иванов-Разумник – Иванов-Разумник. Творчество и критика: Критические статьи: 1908–1922. Пб.: Колос, 1922
Изборник – Хлебников В. Изборник стихов: 1907–1914 гг. Пг.: ЕУЫ, 1914
Избранное – Пастернак Б. Избранное. М.: Советский писатель, 1948
Избраны – Асеев Н. Избраны Стихи: 1912–1922. М.; Пг.: Круг, 1923
ИК – Игорь-Северянин. Интуитивные краски: Немного стихов. СПб., 1909
ИС – Каменский В. Избранные стихи. М.: ГИХЛ, 1934
Искусство – Искусство: Вестник Отдела изобразительных искусств Народного комиссариата по просвещению. М., 1919
ИСт – Пастернак Б. Избранные стихи. М.: Узел, 1926
ИТБ – Лившиц Б. Из топи блат: Стихи о Петрограде. [Киев): Изд. И. М. Слуцкого, 1922
Каменский – Каменский В. Путь энтузиаста // Каменский В. Танго с коровами; Степан Разин; Звучаль Веснеянки; Путь энтузиаста. М.: Книга, 1990
Каменский 1945 – Каменский В. Избранное. Молотов; ОГИЗ, 1945
Каменский 1948 – Каменский В. Избранное. [М.): Советский писатель, 1948
KB – Гнедов В., Широков П. Книга Великих. СПб.: Бета, 1914
КГ – Игорь-Северянин. Качалка грёзерки: Поэзы: Том IV – Сады футуриста: Книга 1: Брошюра 33-я. СПб.: Ego, 1912
КЗ – Крематорий здравомыслия: Вып. 3–4. М.: Мезонин поэзии, 1913
КИРА – Харджиев Н., Малевич К., Матюшин М. К истории русского авангарда. Stockholm: Hylea, 1976
КИС – Петников Г. Книга избранных стихотворений. Харьков: Государственное Издательство Украины, 1930
КМЗС – Петников Г. Книга Марии Зажги Снега. Пб.,[Харьков]: Лирень, 1920
КН – Алымов С. Киоск нежности: Стихи. Харбин: Окно, 1920
КП – Лившиц Б. Кротонский полдень. М.: Узел, 1928
КПр – Игорь-Северянин. Колье принцессы: Первая тетрадь третьего тома стихов. Брошюра двадцать седьмая. СПб., 1910
Крученых – Крученых А. Наш выход: К истории русского футуризма. М: RA,1996
КС – Спасский С. Как снег. М.: Изд. журнала «Млечный путь», 1917
Левидов – Левидов М. Сборник «Стрелец» // Наши дни. 1915. № 4
Леторей – Асеев Н., Петников Г. Леторей: Книга стихов. М.; (Харьков): Лирень, 1915
ЛЗ – Шенгели Г. Лебеди закатные: Поэзы, книга № 1. Пг.: L'oiseau bleu, 1915
Лившиц – Лившиц Б. Полутораглазый стрелец: Стихотворения. Переводы. Воспоминания. Л.: Советский писатель, 1989
Лирика – Петников Г. Лирика. Симферополь: Крым, 1968
ЛЛ – Бобров С. Лира Лир: Третья книга стихов. М.: Центрифуга, 1917
Львов-Рогачевский – Львов-Рогачевский. Имажинизм и его образоносцы: Есенин. Кусиков. Мариенгоф. Шершеневич. М.: Орднас, 1921
ЛП – Баян В. Лирический поток: Лирионетты и баркаролы. СПб.; М.: Издательство товарищества М. О. Вольф, 1914
Маяковский – Маяковский В. Полн. собр. соч.: В 13 т. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1955-1961
Мгебров – Мгебров А. Жизнь в театре. М.-Л.: Academia,1932. Т. II
Миллиорк – Крученых А. Миллиорк. Тифлис: 41°, 1919
МК – Молоко кобылиц: Сборник, М. Каховка: Гилея, 1914
ММ – Московские мастера: Журнал искусств. М.: Московские мастера, 1916
ММира – Петников Г. Молодость мира. [Харьков): Aim, 1934
МП – Московский Парнас: Сборник второй. М., 1922
MP – Кокорин П. Музыка рифм: Поэзо-пьесы. 1909–1913. Четвертый сборник. СПб., 1913
НВ – Гуро Е. Небесные верблюжата. [СПб.): Журавль, 1914
Небокопы – Небокопы: VIII. СПб.: Петербургский Глашатай. 1913
Нижегородец – Нижегородец: Ежедневная вечерняя коммерческая, литературная, театральная и спортивная газета. Нижний Новгород, 1911–1914
НМ – Петников Г. Ночные молнии: 4-ая книга стихов. Л.: Academia, 1928
НО – Аксенов И. Неуважительные основания. М.: Центрифуга. 1916
НФ – Асеев Н. Ночная флейта: Стихи. М.: Лирика, 1914 [1913]
ОвШ – Маяковский В. Облако в штанах: Тетраптих. [Пг, 1915]
ОвШ-2 – Маяковский В. Облако в штанах: Тетраптих. 2-е изд. [М.): АСИС, 1918
Ожигов – Ожигов Ал. О книге словесного пустозвонства // Современный мир. 1915. № 3
ОКДО – Асеев Н. Ой конин дан окейн: Четвертая книга стихов. М. (Харьков): Лирень, 1916
Оксана – Асеев Н. Оксана. М.: Центрифуга, 1916
ОнОЦ – Иванов Г. Отплытие на о. Цитеру: Поэзы. Книга первая. СПб.: Ego,1912 [1911]
ОнП – Орлы над пропастью. СПб.: Петербургский Глашатай, 1912
ОР – Крученых А. Ожирение роз: О стихах Терентьева и других. [Тифлис: 41°, 1918)
ОС-3 – Очарованный странник: Альманах интуитивной критики и поэзии. Выпуск третий. СПб.: Очарованный странник, [1913]
ОС-4 – Очарованный странник: Альманах интуитивной критики и поэзии. Выпуск четвертый. Пг.: Очарованный странник, 1914
ОС-7 – Очарованный странник: Альманах весенний. [7]. Пг.: Очарованный странник, 1915
ОС-9 – Очарованный странник: Альманах зимний. [9]. Пг.: Очарованный странник, 1915
ОСон – Гуро Е. Осенний сон: Пьеса в четырех картинах. СПб., 1912
ОУ – Оранжевая урна: Альманах памяти Фофанова. СПб.: Петербургский Глашатай, 1912
Пастернак – Пастернак Б. Собр. соч.: В 5 т. М.: Художественная литература, 1989-1992
ПБ-17 – Пастернак Б. Поверх барьеров: Вторая книга стихов. М: Центрифуга. 1917 [1916]
ПБ-29 – Пастернак Б. Поверх барьеров: Стихи разных лет. М.-Л.: ГИЗ, 1929
ПвВЧ – Пир во время чумы: Вып. 2. М: Мезонин поэзии, 1913
ПВЖ – Гольцшмидт В. Послания Владимира жизни С ПУТИ К ИСТИНЕ: Издание первое. Камчатка Петропавловск, 1919
ПГ – Петербургский Глашатай: Чрезнедельная газета жизни, театра, литературы, художества. СПб., 1912
Песенцы – Март В. Песенцы. Владивосток. 1917
Пета – Пета: Первый сборник. М.: Пета, 1916
ПЖРФ – Первый журнал русских футуристов. 1914. № 1/2
ПкМ – Маяковский В. Простое как мычание. Пг.: Парус, 1916
ПнС – Победа над солнцем: Опера А. Крученых. Музыка М. Матюшина. СПб., [1914]
ПО – Петровский (Селегинский) Дм. Пустынная осень: Стихи. Саратов: Верблюжонок, 1920
ПОВ – Пощечина общественному вкусу: В защиту Свободного Искусства: Стихи. Проза. Статьи. М.: изд. Г. Л. Кузьмина и С. Д. Долинского, 1913 [1912]
ПОВ (листовка) – Пощечина общественному вкусу: [Листовка]. М.: изд. Г. Л. Кузьмина и С. Д. Долинского, 1913
Полонский – Полонский В. Литература и жизнь // Новая жизнь. 1914. Январь
Помада – Крученых А. Помада. [М.): изд. Г. Л. Кузьмина и С. Д. Долинского, [1913]
Поэма – Большаков К. Поэма событий. М.: Пета, 1916
Поросята – Зина В. и Крученых А. Поросята. СПб.: [ЕУЫ], 1913
Поросята-2 – Зина В. и Крученых А. Поросята. Издание 2, дополнительное. Пг.: [ЕУЫ, 1914]
ПП – Ивнев Р. Пламя пышет. М.: Мезонин поэзии, 1913
Предгрозье – Игорь-Северянин. Предгрозье: Третья тетрадь третьего тома стихов. Брошюра двадцать девятая. СПб., 1910
Пролог – Северянин И. Пролог «Эго-Фугуризм»: Поэза-грандиоз. Апофеозная тетрадь третьего тома. Брошюра тридцать вторая. СПб.: Ego, 1911
ПС – Петников Г. Поросль солнца: 3-я книга стихов. М. [Харьков]: Лирень, 1918
ПС-2 – Петников Г. Поросль солнца: Второе издание. Пб.: Лирень, 1922
ПТ – Пути творчества: Литературно-художественный ежемесячник. Харьков, 1919-1920
ПТС – Петников Г. Пусть трудятся стихи: Избранное. Симферополь: Таврия, 1972
15 лет – Крученых А. 15 лет русского футуризма: 1912–1927 гг.: Материалы и комментарии: Продукция № 151. М.: Изд. Всероссийского Союза Поэтов, 1928
РвВ – Широков П. Розы в вине. 1. СПб.: Петербургский Глашатай, 1912
Редько – Редько А. Литературно-художественные искания в конце
XIX – начале XX в. Л.: Сеятель, 1924
РП – Рыкающий Парнас. СПб.: Журавль, 1914
РПудра – Шершеневич В. Романтическая пудра: Поэзы. Opus 8-й.
СПб.: Петербургский Глашатай, 1913
Рубанович – Рубенович С. Поэт эксцессер // Критика о творчестве
Игоря Северянина. М: Издание В. В. Пашуканиса, 1916
Руконог – Руконог. М.: Центрифуга, 1914
РЧ – Развороченные черепа: Эгофутуристы: IX. СПб.: Петербургский Глашатай, 1913
Ряв! – Хлебников В. Ряв! Перчатки: 1908–1914 гг. СПб.: ЕУЫ, 1914
СВ – Кара-Мурза В., Катанян В. Синим вечером: Сборник стихов. Тифлис: Издание Ученического Клуба, 1918
СвП – Большаков К. Сердце в перчатке. М.: Мезонин поэзии, 1913
СГМ – Софии Георгиевне Мельниковой: Фантастический кабачок. Тифлис: 41°, 1919
СИ – Студия импрессионистов: Кн. 1. СПб.: изд. Н. И. Бутковской, 1910
СКТ – Крученых А., Хлебников В. Слово как таковое. [М, 1913]
СМ – «„Союз молодежи“ при участии поэтов „Гилея“». № 3. СПб.: Союз молодежи, 1913
Смерть искусству – Гнедов В. Смерть искусству: пятнадцать (15) поэм. СПб.: Петербургский Глашатай, 1913
СнИ – Большаков К. Солнце на излете: Вторая книга стихов: 1913–1916. М.: Центрифуга, 1916
СП – Седьмое покрывало: Стихи. Одесса, 1916
СС-1 – Садок судей. СПб.: Журавль, 1910
СС-2 – Садок судей И. СПб.: Журавль, 1913
Стихотворения – Петников Г. Стихотворения. Киев: Державне лiтературне видавництво, 1935
Стрелец – Стрелец: Сборник первый. Пг.: Стрелец, 1915
СЦ – Стеклянные цепи: Альманах эго-футуристов. СПб.: Петербургский Глашатай, 1912
Творения – Хлебников В. Творения. Том 1: 1906–1908 г. М. [Херсон]: изд. «Первого журнала русских футуристов», 1914
Творчество – Творчество: Журнал культуры, искусства и социалистического строительства. Владивосток; Чита, 1920-1921
Терентьев – Терентьев И. Собрание сочинений – Opere / Сост., подгот. текста, биогр. справка, вступ. статьи и коммент. Марио Марцадури и Татьяны Никольской. Bologna: Francesco, 1988
TP – Олимпов К. ТРЕТЬЕ РОЖДЕСТВО ВЕЛИКОГО МИРОВОГО ПОЭТА Титанизма Великой Социальной Революции Константина Олимпова РОДИТЕЛЯ МИРОЗДАНИЯ. Пг.: Издание «Руины неба», [1922]
Трое – Хлебников В., Крученых А., Гуро Е. Трое. СПб.: Журавль, 1913
ТТ – Требник троих: Сборник стихов и рисунков. М.: изд. Г. Л. Кузьмина и С. Д. Долинского, 1913
Тэ ли лэ – Крученых А., Хлебников В. Тэ ли лэ. СПб., 1914
УГДС – Крученых А. Утиное гнездышко… дурных слов… [СПб.], 1913
УХ – Крученых А. Учитесь худоги. Тифлис, 1917
Фаин – Март В., Эльф Г. Фаин. Владивосток, 1919
Факт – Терентьев. Факт: Стихи. Тифлис: 41°, 1919
ФбМ – Шершеневич В. Футуризм без маски: Компилятивная интродукция. М.: Искусство, 1914
Флоренский – Флоренский П. У водоразделов мысли. М.: Правда, 1990. Т. 2
ФС – Крученых А. Фактура слова: Декларация. (Книга 120-ая). М.:
МАФ, 1923 [1922] ФТ – Крученых А. Фонетика театра: Книга 123. М.: 41°, 1923
Хлебников НП – Хлебников В. Неизданные произведения. М.: Гослитиздат, 1940
Хлебников СП – Собрание произведений Велимира Хлебникова: В 5 т. Л.: Издательство писателей в Ленинграде. 1928-1933
Хлебников 1923 – Хлебников В. Стихи. М., 1923
Ходасевич СС – Ходасевич В. Собр. соч.: В 4 т. М.: Согласие, 1996-1997
Ходасевич КТ – Ходасевич В. Колеблемый треножник: Избранное. М., Советский писатель, 1991
ХС – Терентьев. Херувимы свистят. Тифлис: Куранты, 1919
Ц2 – Второй сборник Центрифуги. М.: Центрифуга, 1916
ЦЛ – Крючков Д. Цветы ледяные: Вторая книга стихов. СПб.: Очарованный странник, 1914
ЦнС – Пруссак В. Цветы на свалке: Стихи. Пг.: Издание автора, 1915
ЦТ – Крученых А. Цветистые торцы. [Баку]: 41°, [1921]
ЧвП – Чудо в пустыне. Одесса, 1917 ЧП – Четыре птицы: Стихи. М.: Изд-во К, 1916
Чуковский 1914 – Чуковский К. Лица и маски. СПб.: Шиповник, 1914
Чуковский 1922 – Чуковский К. Футуристы. Пб.: Полярная звезда, 1922
Шемшурин – Шемшурин А. Футуризм в стихах В. Брюсова. М., 1913
Шершеневич – Шершеневич В. Великолепный очевидец: Поэтические воспоминания 1910–1925 гг. // Мой век, мои друзья и подруги: Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова: Сборник. М.: Московский рабочий, 1990
Шиповник – Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник». СПб., Шиповник, 1914. Книга 22
Энтелохизм – Бурлюк Д. Энтелехизм: Теория. Критика. Стихи. Картины. (1907–1930). New York: Издание М. Н. Бурлюк. 1930
Эпилог – Северянин И. Эпилог «Эго-футуризм». СПб., 1912
ЭФ – Шершеневич В. Экстравагантные флаконы. М.: Мезонин поэзии, 1913
Эшафот – Игнатьев И. Эшафот: Эго-футуры. СПб.: Петербургский Глашатай, 1914 [1913]
ЮМ – Каменский В. Юность Маяковского. Тифлис: Заккнига, 1931
ЮК – Юкь: Литературно-художественный ежемесячник. Владивосток, 1921
Якобсон – Якобсон-будетлянин: Сборник материалов / Сост., под-гот, текста, предисловие и коммент. Б. Янгфельдта. Stockholm, 1992
Byben – Божидар. Byben. М, [Харьков), 1914
VR – Северянин И. Victoria Regia: Четвертая книга поэз. М.: Наши дни, 1915
Велимир Хлебников*
1. СИ. В. Маяковский, считавший, что с «Заклятия смехом» началась новая поэтическая эра, в статье «В. В. Хлебников» (1922) так интерпретировал это ст-ние: «Здесь одним словом дается и „смейево“, страна смеха, и хитрые „смеюнчики“, и „смехачи“ – силачи» (Маяковский. Т. 12. С. 25). Д. Бурлюк, называвший это ст-ние «ударным, историческим по значимости» (Бурлюк. С. 53), раньше Маяковского оценивал его в том же ключе: «Отныне задачей поэта может быть не только рифмовать „луна и она“, „розы и морозы“, „изгнанья и воспоминанья“, но, взяв трепещущую жизнью ткань одного корня, соткать из него ряд образов.
В своих „Смехачах“, варьируя корень смеха. Хлебников дал гигантов смеха, веселья – смехачей; дал страну смеха – Смеево; и показал, что в ней рядом с богатырями живут маленькие гадкие смеюнчики, карлики смеха» (Бурлюк Д. От лаборатории к улице: (Эволюция футуризма) // Творчество. 1920. № 2. С. 24). Критик В. Львов-Рогачевский писал: «Это стихотворение хорошо известно публике, как идеал звонко-звучной бессмыслицы <…>.
Конечно, в этом наборе „смеяльных“ слов – никакого смысла! „Поэт забавляется безумно, безмерно“. Но эта безмерная болтовня превращается в своеобразный манифест: „Заклятье смехом“ горит на знамени „молодежи“» (Львов-Рогачевский В. Без темы и без героя // Современный мир. 19)3. № 1. С. 100). «Смехачи, действительно, смеялись, – писал К. Чуковский, – но, помню, я читал и хвалил. И ведь, действительно, прелесть. Как щедра и чарующе-сладостна наша славянская речь! Только тупица-педант может, прочитав эти строки, допытываться, какое же в них содержание, что же они, в сущности, значат. Тем-то они и прельстительны, что они не значат ничего. А что, по-вашему, значит изумрудно-золотой узор на изумительном павлиньем хвосте? Или звенение лесного ручья? И ведь сколько раз наши поэтики из себя выходили, божились, что смысл в поэзии будто – ничто, а главное будто бы – словесная магия, обаяние напевов и звуков, однако ведь никто не додумался до вот таких смехачей и смехунчиков! О, иссмейся рассмеяльно смех надсмейных смеячей. – ведь это революция, хартия вольности, ведь за одну за эту строку, за единственную я бы автору сейчас поставил памятник и на памятнике приказал бы начертать:
Виктору Хлебникову.
Первому Освободителю Стиха.
В самом деле вы только подумайте, сколько лет, сколько веков, тысячелетий поэзия была в плену у разума, у психологии, у логики, слово было в рабстве у мысли, и вот явился рыцарь, меченосец, герой, и без всякого Крестового Похода, мирно и даже с улыбочкой, разрушил эти вековые оковы, прогнал от красавицы-Поэзии ее пленителя-Кащея – Разум. О. рассмейтесь надсмеяльно смехом сменных смехачей! ведь слово отныне свободно, можете с ним делать, что хотите, хоть венки из него сплетайте, словесные гирлянды, букеты <…>. Но смехунчики еще и тем хороши, что не стесняемый оковами разума, я могу по капризу окрашивать их в какую хочу окраску. Я могу читать их зловеще, и тогда они внушают мне жуть, я могу читать их лихо-весело, и тогда мне чудится, что пасха, весна и что мне четырнадцать лет. Тогда смехунчики, смешики – как весенние воробушки, как бегущие малые тучки. Нет, действительно, без logos'a легче, да здравствует же заумный язык, автономное, свободное слово!» (Чуковский 1914. С. 126–128). С Чуковским не соглашался В. Полонский: «Да пусть тысячу раз не будет иметь смысла хвост павлиний, разве от этого хлебниковские „смеюнчики“ перестанут быть только звонкой чепухой, которой место где угодно, но не в литературе, не в искусстве, не в храме Логоса! <…> „Футуристы“ – это злодеи, насильники, они издеваются над Словом, оскопляют его, вытравляют из него душу…» (Полонский. С. 176). В. Каменский считал, что это «знаменитое хлебниковское сопряженье корней <…> показывает, как научно сознательно шла работа над словом, создавая новую культуру языка» (Каменский. С. 490). А. Крученых писал о ст-нии: «Хлебников показал здесь большое чутье языка, прекрасное знание приставок и суффиксов, ритмическую виртуозность.
„Смехачи“ так поразили, что некоторые критики еще в 1913 г. предлагали за одну эту вещь поставить памятник Велимиру Хлебникову – „освободителю стиха“, а в наше время (в 1927-28 гг.) существовал даже юмористический журнал под хлебниковским названием „Смехач“» (Крученых. С. 25). В 1916 г. В. Шершеневич утверждал, что «лет через сорок будет странно:
– Неужели до двадцатого века не было слов: смейво, смеюнчики, смехачи и др.» (ЗУ. С. 33). П. Флоренский охарактеризовал «Заклятие смехом» как «стихию улыбки, переходящей в смех» (Флоренский. С. 180). Иванов-Разумник вспоминал: «„О засмейтесь, смехачи!“ – для него (Хлебникова. – Сост.) это пресловутое стихотворение было уже победою. Издеваться над этим было легко; труднее было – почувствовать в тягостном косноязычии новую силу и правду вечно рождающегося Слова» (Иванов-Разумник. С. 228). В статье «Вели-мир Хлебников» (1922) С. Третьяков писал: «Хлебников был как никто зорок к той „одежде“ слова как живого действенного организма, которая создается приставками, суффиксами и др. Он умел делать затвердевший корень снова текущим, как ручьевая вода, и под его пером росли слова, родные по корню, – то жестокие, то нежные, то широкие, то отточенные, злые или радостные. Он пишет свое „Заклинание смехом“, весь сюжет и все движение которого заключалось именно в движении возможных оттенков и значений, несомых одним и тем же речением <…>.
Хлебников родил русской поэзии выразительное и звучащее слово, он первый потребовал, чтобы к слову подходили с большим вниманием и во всеоружии знаний природы слова, не боясь нарушить чье-либо спокойствие хирургической работой над закоснелым словом. <…> В этом стихотворении – весь Хлебников с его почти жертвенной любовью к слову и действительно гениальным проникновением в существо слова как вещи, как живого организма, который надо уметь создать для того, чтобы слово на потребу людскую жглось, ласкалось, царапалось и высверливало в заплывшем сознании четкие ходы» (Третьяков С. Страна-перекресток: Документальная проза. М., 1991. С. 525–526). Одним из первых подверг ст-ние научному анализу Ю. Тынянов: «Здесь, конечно, можно говорить и об интенсивации общего значения, и об очень сильной семантической роли отдельных слов, таких как: смехачи, смешики и т. д. При этом, ввиду важности синтактической рамки, в этой дифференциации слов с одной вещественной частью, поставленных друг к другу в отношения членов предложения, – приобретают важность формальные элементы слов, семантика которых тем ярче выступает, чем более вещественная часть слов совпадает: это совпадение – обрекает индивидуальную вещественную часть каждого слова на сравнительную бледность: ее значение поглощается общим значением, – ярко выступают только варианты вещественной части; тем сильнее значение суффиксов; так что в результате у нас получается 1) значение общей вещественной части. 2) индивидуальная и яркая формальная характеристика каждого отдельного слова» (Тынянов Ю. Проблема стихотворного языка. Л… 1924. С. 106).
2. ПОВ – Изборник, начальное слово вынесено в заглавие Хлебников позже так комментировал это ст-ние: «Б или ярко-красный цвет, а потому губы бобэоби, вээоми – синий и потому глаза синие, пииэо – черное» (Хлебников СП. Т. V. С. 276). А. Крученых, подчеркивая важную роль этого ст-ния в истории русского футуризма, в киносценарий «Жизнь и смерть Лефа» ввел следующий эпизод: «Четырехлетний ребенок в желтой кофте с надписью: „Футуризм“ отбарахтывается, улыбается, растет на глазах изумленной толпы. Пищит (надпись): „Бо-бэ-оби“. Потом рычит (надпись): „Дыр-бул-щыл“» (Крученых А. Говорящее кино. М., 1928. С. 52). В. Брюсов приводил это ст-ние в качестве примера «бессмысленных сочетаний звуков» (Брюсов. С. 388). Иначе оценивал ст-ние К. Чуковский: «Оно написано размером „Калевалы“ или „Гайаваты“ Лонгфелло. Если нам так сладко читать у Лонгфелло:
Шли Чоктосы и Команчи,
Шли Шошоны и Омоги,
Шли Гуроны и Мендэны,
Делавэры и Могоки,
то почему же мы смеемся над Бобэобами и Вээомами? Чем Чоктосы лучше Бобэоби? И там, и здесь гурманское смакование экзотических, заумно звучащих слов. Для русского уха бобэоби так же „заумны“, как и чоктосы; шошоны – как и пиээо!» (Чуковский 1922. С. 44). Иванов-Разумник писал о ст-нии: «Так усложненнейшим и истонченнейшим путем приходит язык к кажущейся пустоте звука, приходит от физиологии к эстетике, от слова-разума к звуку-чувству, от слово-логики к слово-эстетике, от слово-смысла к слово-звуку. И в утверждении этого права – внешняя правда футуризма» (Иванов-Разумник. С. 223).
3. СС-1 – Ряв! сокр. вар. – Хлебников НП, с вар. Из письма Хлебникова к Вяч. Иванову от 10 июня 1909 г.: «Я был в Зоолог<ическом> саду, и мне странно бросилась в глаза какая-то связь верблюда с буддизмом, а тигра с Исламом. После короткого размышления я пришел к формуле, что виды – дети вер и что веры – младенческие виды. Один и тот же камень разбил на две струи человечество, дав буддизм и Ислам, и непрерывный стержень животного бытия, родив тигра и ладью пустыни.
Я в спокойном лице верблюда читал развернутую буддийскую книгу. На лице тигра какие-то резы гласили закон Магомета. Отсюда недалеко до утверждения: виды потому виды, что их звери умели по-разному видеть божество (лик). Волнующие нас веры суть лишь более бледный отпечаток древле действовавших сил, создавших некогда виды. Вот моя несколько величественная точка зрения. Я думаю, к ней может присоединиться только тот, кто совершал восхождения на гору и ее вершину» (Хлебников НП. С. 356). А. Крученых характеризовал «Зверинец» как «непревзойденную, насквозь музыкальную прозу» (Крученых. С. 50). Иванов Вячеслав Иванович (1866–1949) – поэт-символист, философ, филолог, Баскущие (от обл. «баской») – красивые, нарядные. Павдинский камень – возвышенность северной части Среднего Урала. Полдневный пушечный выстрел – традиционный ежедневный артиллерийский выстрел из пушки Петропавловской крепости. Косматовласый «Иванов». Имеется в виду лев. Ср.: в повести «Ка2» Хлебников называет Вяч. Иванова «Львиным Сердцем» (Хлебников СП. Т. V. С. 128). Часослов – сборник молитв на определенный час церковной службы.
4. СС-1 (1-я часть); Творения (2-я часть под загл. «Восстание вещей»), Д. Бурлюк писал, что «идея вещи и „Восстание вещей“ – отрывок „Журавль“ Ор. 3 (СПб. 1909-10, декабрь-январь) вполне предвосхищается, заранее выявлено полностью у Хлебникова, все это послужило отправной базой для эпатировавших публику первых вещей тогда буйно-апашистого Володи Маяковского» (Бурлюк. С. 56). Ср. одно из рабочих загл. трагедии «Владимир Маяковский» – «Бунт вещей». Где златом сияющая игла / Покрыла кладбище царей. Имеется в виду Петропавловский собор в Санкт-Петербурге, являющийся усыпальницей русских царей. Неясыть и Детинец – пороги на Днепре. Тучков – мост в Санкт-Петербурге, соединяющий Васильевский остров и Петроградскую сторону. Глашатай полдня – традиционный пушечный выстрел, производимый ежедневно в двенадцать часов со стены Петропавловский крепости. Душка – грудная кость у птиц. Лосий (Лосиный) остров – старое название Васильевского острова, крупнейшего острова в дельте Невы. Гиератический (иератический) (греч. hieratikos) – священный. Геростратическое желание – по имени грека Герострата, сжегшего в 356 г. до н. э. храм Артемиды Эфесской, чтобы обессмертить свое имя. Сколько мелких глаз в глазе стрекозы. Стрекозы обладают фасеточными глазами, образованными многочисленными отдельными глазками – омматидиями. Лал – драгоценный камень. Сколот – скиф. Гольче – по-видимому, от «големый» (славный).
5. ПОВ. Входило в число восьми произведений, объединенных загл. «Конь Пржевальского», принадлежащим, по-видимому, Д. Бурлюку. Румынкой, дочерью Дуная. Имеется в виду румынская баронесса Мария Вецера, возлюбленная эрцгерцога Рудольфа, покончившая вместе с ним жизнь самоубийством в 1888 году. Про прелесть польки. Подразумевается Марина Мнишек (ок. 1588 –ок. 1614) – жена Лжедмитрия I и Лжедмитрия II.
6. ДЛ – Изборник, с вар. Коромысло (обл.) – стрекоза. Вещеообразно развезршися зеницы. Ср. в ст-нии А. С. Пушкина «Пророк»: «Отверзлись вещие зеницы…»
7. Помада. В примечании к этому и еще двум ст-ниям А. Крученых отмечал, что они «написаны совместно с Е. Луневым» (псевдоним Хлебникова. – Сост.), возможно, позже «Игры в аду» (см. примеч. 8).
8. ИвА – ИвА-2. Второе издание поэмы (с иллюстрациями К. Малевича и О. Розановой) отличается от первого (иллюстрированного Н. Гончаровой) большим объемом, иным расположением строф и отсутствием пунктуации. Позже Крученых включил составленный Хлебниковым план поэмы и ее «новые сцены» в выпущенный им стеклографированный сборник «Неизданный Хлебников. Вып. XVIII» (М., 1930). Он вспоминал об истории создания поэмы: «В одну из следующих встреч, кажется, в неряшливой и студенчески-голой комнате Хлебникова, я вытащил из коленкоровой тетрадки (зампортфеля) два листка – наброски, строк 40–50, своей первой поэмы „Игра в аду“. Скромно показал ему. Вдруг, к моему удивлению, Велимир уселся и принялся приписывать к моим строчкам сверху, снизу и вокруг – собственные. Это было характерной чертой Хлебникова: он творчески вспыхивал от малейшей искры. Показал мне испещренные его бисерным почерком странички. Вместе прочли, поспорили, еще поправили. Так неожиданно и непроизвольно мы стали соавторами. <…> Эта ироническая, сделанная под лубок, издевка над архаическим чертом быстро разошлась» (Крученых. С. 49–50).
B. Шершеневич, считавший нежелательным совместное поэтическое творчество, писал по поводу поэмы: «Едва ли это прием допустимый в поэзии. Ведь мы прежде всего требуем от поэта оригинального лица, а уж какая тут оригинальность, если двое могут совместно написать поэму и так, что нельзя узнать: где начинается один и где кончается другой» (ФбМ. С. 81–82). О своем впечатлении от прочтения поэмы много лет спустя вспоминал Р. Якобсон: «Она меня поразила – поразила тем, что я себе тогда совершенно не так представлял новаторский стих. Меня это тут же захватило. Я тогда не знал ничего о Хлебникове, не слыхал, что за Крученых. Но в нашем небольшом кругу начались в то время разговоры о появлении русского футуризма» (Якобсон. С. 14).
9. РП – ПЖРФ, с вар., с подзаг.: «Лесное утро». А. Крученых относил это ст-ние, наряду с поэмами «Зверинец» и «Вила и леший», к «образцовым поэмам лесной и звериной жизни» (Крученых. С. 104).
10. Изборник. При первой публикации текст «Ночи в Галиции» был соединен с текстом ст-ния «Перуну». Оба текста литографированы П. Филоновым. В ст-нии использованы материалы из книги И. П. Сахарова «Сказания русского народа» (СПб., 1841. Т. 1, Кн. 2. C. 46–47), с которыми Хлебникова познакомил Р. Якобсон (см.: Якобсон. С. 19). В частности, Хлебников использовал в ст-нии приведенные в этой книге «Песню Ведьм на Лысой горе»:
Кумара
Них, них, запалам, бада.
Эшохомо, лаваса, шиббода.
Кумара.
А. а. а. – о. о. о. – и. и. и. – э. э. э. – у. у. у. е. е. е.
Ла, ла, соб, ли, ли, соб, лу, лу, соб!
Жунжан.
Вихада, ксара, гуятун, гуятун.
Лиффа, пррадда, гуятун, гуятун.
Наппалим, вашиба, бухтара.
Мазитан, руахан, гуятун.
Жунжан.
Яндра, кулайнеми, яндра,
Яндра.
и «Чародейскую песню Русалок»:
Шивда, винза, каланда, миногама!
Ийда, ийда, якуталима, батама!
Нуффаша, зинзама, охуто, ми!
Копоцо, копоцам, копоцама!
Ябудала, викгаза. мейда!
Ио, иа, о – ио, иа цок! ио, иа, паццо! ио, иа, пипаццо!
Зоокатама. зоосцома, никам, никам, шолда!
Пац, пац, иац, пац, пац, пац, пац, пац!
Пинцо, пинцо, пинцо, дынза!
Щоно, пинцо, пинцо, дынза!
Шоно, чиходам, викгаза, мейда!
Боцопо, хондыремо, боцопо, галемо!
Руахадо, рындо, рындо, галемо!
Ио, иа, о! ио, иа, цолк! ио иа цолк! ио, иа цолк!
Ниппуда, боалтамо, гилтовека, шолда!
Коффудамо, шираффо, сцохалемо, шолда!
Шоно, шоно, шоно!
Пинцо. пинцо, пинцо!
Галиция – историческое название части западноукраииских и польских земель. Оран (обл.) – от «орать» (пахать). Сахаров Иван Петрович (1807–1863) – собиратель и исследователь фольклора, этнограф. Опришки – участники народно-освободительной борьбы в Галичине с XVI в. Легини (укр.) – парни. Мешка (мава) – образ украинского фольклора, злой дух.
11. ММ. Дщери (церк. – слав.) – дочери. Последняя вечеря. Имеется в виду «тайная вечеря», то есть последний ужин, проведенный Иисусом Христом со своими учениками.
12. Взял. Падают брянские, растут у Манташева. Имеются в виду акции Брянского машиностроительного завода и нефтепромышленного общества «А. И. Манташев и Кº».
13. Временник-1. Поводом для написания ст-ния послужил факт призыва Хлебникова на военную службу в апреле 1916 г. О милом государстве 22-летних. Ср. в поэме В. Маяковского «Облако в штанах» (1915): «…Иду – красивый, / двадцатидвухлетний». Развитие темы – в ст-нии Хлебникова «Табун шагов, чугун слонов!..» (<1917>): «От старцев глупых вещие юноши уйдут / И оснуют мировое государство / Граждан одного возраста». Умножение 365 на 317 дает результат, соответствующий, по Хлебникову, числу сокращений человеческого сердца в сутки. Король государства времен – титул, присвоенный Хлебникову группой друзей в декабре 1915 г. Шаг небольшой, только ик, / И упавшее О. Описывается преобразование слова «король» в слово «кролик».
14. Временник-2. Тексты 12–14 вошли позднее в «сверхповесть» «Война в мышеловке» (Неизданный Хлебников. М., 1928. Вып. V).
15. ПТ. 1919. № 5. Моряна (устар.) – ветер, дующий с моря.
16. Хлебников 1923. Ст-ние обращено к художнице Ю. С. Самородовой (1901 – после 1929).
17. Хлебников 1923. Моток волшебницы разматывая ~ Курчавое чело / Подземного быка в пещерах темных ~ И бычью голову я снял с могучих мяс и кости. Аллюзия на греческий миф об Ариадне, Тесее и Минотавре. Как сонный труп влачился по пустыне. Ср. у А. С. Пушкина в ст-нии «Пророк»: «Духовной жаждою томим, / В пустыне мрачной я влачился… Как труп в пустыне я лежал…»
18. Хлебников 1923.
Давид Бурлюк*
19. СС-2.
20. СС-2. Авторское примеч. к ст-ниям, вошедшим в СС-2: «Лейт-слова: подчеркнуты величиной».
21. СС-2. В тезисах В. Маяковского к «Первой олимпиаде российского футуризма» отмечалось: «Если есть Давид Бурлюк, значит „стальные грузные чудовища“ нужнее Онегина…» (Маяковский. Т. 1. С. 368).
22. СС-2. Трирем (трирема) (лат. triremis) – древнеримское боевое гребное судно с тремя рядами весел.
23. СС-2.
24. СС-2.
25. СИ.
26. СИ.
27. СС-1.
28. СС-1.
29. СС-1.
30. СС-1.
31. СС-2.
32. СС-2.
33. ПЖРФ – Энтелехизм, без третьей строки. Примеч. автора к ст-нию: «Л = нежность, ласка, плавность, лето, блеск, плеск и т. д.» Лягун – по-видимому, растение «лягушник». Лопари – устаревшее наименование народа саами. Ливан (церк.) – ладан.
34. ПОВ.
35. ПОВ.
36. ВКМ – БПР, под загл. «В вагоне», с вар., датировано 1916 г.
37. ПЖРФ – Энтелехизм, без 2–4 строк.
38. ПОВ (листовка) – РП, с восстановленными начальными словами («Отхожих мест…»).
39. ДЛ. Миолы (греч. myops) – близорукие. Вервь (устар.) – веревка.
40. ДА. Ной – согласно Библии, праведник, спасенный во время всемирного потопа и спасший мир зверей и птиц (Быт.; 5–9).
41. ДА.
42. ДА. А. Р. – из Артюра Рембо. Ст-ние представляет собой вольный перевод, или, скорее, интерпретацию, ст-ния французского поэта-символиста Жана-Артюра Рембо (1854–1891) «Праздник голода». В. Шершеневич считал, что из всех написанных Д. Бурлюком стихотворений «только одно можно считать недурным, и то главным образом потому, что оно – перевод Рембо» (Шершеневич. С. 516).
43. ТТ.
44. РП. ДОИТЕЛЬ ИЗНУРЕННЫХ ЖАБ. «Доители изнуренных жаб» – название доклада Д. Бурлюка, с которым 13 октября 1913 г. в зале Общества любителей художеств выступил его брат Николай. А. Крученых вспоминал, что строку «ДОИТЕЛЬ ИЗНУРЕННЫХ ЖАБ» «очень любил В. Хлебников и часто ее цитировал, особенно в применении к простачкам-меценатам: Они нас интересуют только в смысле „доения изнуренных жаб“» (Крученых. С. 83).
45. РП.
46. РП.
47. РП.
48. РП.
49. РП.
50. ПЖРФ.
51. ПЖРФ.
52. ПЖРФ. Ст-ние сопровождается авторским примеч.: «(на звуке Р концентрировано ощущение жестокой суРовости:) Д и Т – ощущение твердости, стойкости». Аналой (от греч. analogeion – подставка для книг) – в православных церквях высокая подставка, на которую при богослужении кладут для чтения книги, ставят иконы и крест.
53. ПЖРФ.
54. ПЖРФ.
55. Затычка.
56. Затычка.
57. ВКМ – Энтелехизм, с датой – 1915.
58. Стрелец – ГФ, с вар., под загл. «Утверждение вкуса». Критик Ал. Ожигов (Н. П. Ашешов) писал по поводу этого ст-ния: «Было бы бесполезным искать здесь здравый смысл, содержание, логику. Футуризм свободен не только от всех предрассудков, он свободен и от законов человеческого бытия. Понятное и ясное – для него величайший враг, или, как говорит г. Кульбин, – „слишком большая ясность неуместна“» (Ожигов. С. 167). В 1923 г. тема ст-ния отразилась в поэме Б. Несмелова «Родить мужчинам»:
От патриарха Авраама,
и до Давида Бурлюка
алчба мужчин равно упряма,
неутолима и тяжка.
<…>
Монополистам станет скверно,
сломают пальцы тонких рук.
А развлекать меня наверно
приедет выдумщик Бурлюк.
Гадать с беременным мужчиной:
родится сын? родится дочь?
Читать поэмы. Или чинно
беседовать всю ночь.
(Несмелое Б. Родить мужчинам: Поэма. М., 1923. С. 12, 15).
59. Стрелец.
60. ВКМ. Шемшурин Андрей Акимович (1872–1937) – литературовед и искусствовед. Ромул – легендарный основатель и первый царь Рима. Татиус (Тит Таций) – легендарный царь сабин (8 в. до н. э.). Сабиняне (сабины) – италийское племя, жившее в центральной части Италии севернее Рима. Янус (римск. миф.) – божество дверей, входа и выхода, затем – всякого начала; изображался двуликим. «Мы двери Януса кровавые откроем»! Ворота Януса в храме-арке в Древнем Риме закрывались только в мирное время. Январской стужи близится чело. Название месяца января образовано от имени Януса. Калложак (1592 или 1593–1635) – французский график. Отверзты входа черные зеницы… Ср. в ст-нии А. С. Пушкина «Пророк»: «Отверзлись вещие зеницы…»
61. ВКМ.
62. ВКМ. Б. Гусман писал, что в этом ст-нии «Давид Бурлюк, покончивши с „лимонадными этикетками“, наклеенными на животрепещущую красоту мира, обращается к звуку, которому он придает не только „цвет“ (Артюр Рембо), но и „качество“» (Гусман. С. 49).
63. ММ.
64. ЧП. Поклонялись любовно козлу. Козлоногие сатиры были спутниками Диониса (Вакха), греческого бога растительности, виноградарства и виноделия; с именем Диониса связаны различные религиозно-культовые обряды, в том числе и так называемые вакханалии. Козел в мифологии также символизировал плодородие.
65. ЧП.
Владимир Маяковский*
66. ПОВ (листовка) – ТТ, под загл. «Разговариваю с солнцем у Сухаревой башни» – ПкМ, под загл. «Из улицы в улицу».
67. ТТ – ПкМ, под загл. «А вы могли бы?», с перестановкой четверостиший, с вар. Н. Асеев позже вспоминал о своем впечатлении от прочтения этого ст-ния: «Сразу было непонятно – про что. Но потом, вчитываясь, начинаешь ясно видеть. Ведь студень-то похож в действительности на океанскую воду, мутно-зеленую и колеблющуюся. А „косые скулы“ – опоясавшее горизонт бесконечное пространство воды и неба! Значит, он хочет сказать, что, и не видя океана, можно его представить себе над тарелкой студня в дешевой харчевне! Значит, не только богатым путешественникам доступно его видение! Мир доступен для всех, – было бы лишь желание его увидеть. Это было открытием.
И „смазанная карта будня“ вдруг засверкала новыми красками – красками молодой фантазии. В самом деле, разве кто прислушивался к мелодиям дождя, звенящего по водосточным трубам? А ведь это самая близкая музыка для не имеющих приюта людей, которым не приходилось ходить в концертные залы того времени. И флейты водосточных труб, и струны телеграфных проводов имеют своих слушателей, бредущих под дождем по дорогам и мостовым, не знающих, где преклонить голову на ночь. Вот о них-то и говорил Маяковский. Говорил резко, громко, без обиняков и сочувственных вздохов, потому что сам он умел слышать все то, что слышали они» (Асеев Н. Владимир Владимирович Маяковский. М., 1943. С. 8–9).
68. ВМ (рисунки Давида и Владимира Бурлюков) – ПкМ, с вар. – ВСВМ, с вар. В постановлении «Первого всероссийского съезда баячей будущего (поэтов-футуристов)», состоявшегося 18 и 19 июля 1913 года в Уусикиркко (Финляндия), среди прочих решений значилось: «5) Устремиться на оплот художественной чахлости – на Русский театр и решительно преобразовать его.
Художественным, Коршевским, Александрийским, Большим и Малым нет места в сегодня! – с этой целью учреждается новый театр „Будетлянин“.
6) И в нем будет устроено несколько представлений (Москва и Петроград). Будут поставлены Дейма: Крученых „Победа над Солнцем“ (опера), Маяковского „Железная дорога“, Хлебникова „Рождественская сказка“ и др.
Постановкой руководят сами речетворцы, художники: К. Малевич, Д. Бурлюк и музыкант М. Матюшин» (цит. по: Малевич К. Собр. соч.: В 5 т. М., 1995. Т. 1. С. 23–24). Трагедия (кроме «Железной дороги», другое рабочее название – «Бунт вещей») была написана летом 1913 г. Два спектакля (2 и 4 декабря 1913 г.) состоялись на сцене петербургского театра «Луна-парк». Режиссером и исполнителем заглавной роли был В. Маяковский, декорации написали П. Филонов и И. Школьник. О работе Маяковского над трагедией вспоминал В. Каменский: «Писал он ее на моих глазах.
Собственно, не писал, как обыкновенно пишут за письменным столом (у него стола не было), а работал своим оригинальным способом.
Метод его работы заключался в том, что задуманную тему он разрабатывал до точности в голове и строил строки мысленно почти вслух, воображая себя читающим, исполняющим.
При этом он не нуждался в уединении, а напротив – непременно работал при нас и новые сделанные строки сейчас же переводил на голос, как бы проверяя их значимость.
И даже справлялся:
– Интересно?
И получал неизменный ответ:
– Гениально!
Маяковский улыбался, как ребенок, шагал по комнате, нервно сморкался, глотал чай, рассеянно смотрел на нас и продолжал работу.
И когда кончал – при первом же выступлении читал с явным удовольствием и уверенностью крупного мастера.
А этих выступлений и чтений было без пределов» (ЮМ. С. 24–25). А. Крученых вспоминал: «Когда Маяковский привез в Питер написанную им пьесу, она оказалась убийственно коротенькой – всего одно действие, – на 15 минут читки!
Этим никак нельзя было занять вечер. Тогда он срочно написал еще одно действие. И все же (забегая вперед) надо отметить, что вещь была так мала (четыреста строк!), что спектакль окончился около 10 час. вечера (начавшись в 9).
Публика была окончательно возмущена!
Маяковский до того спешно писал пьесу, что даже не успел дать ей название, и в цензуру его рукопись пошла под заголовком: „Владимир Маяковский. Трагедия“. Когда выпускалась афиша, то полицмейстер никакого нового названия уже не разрешал, а Маяковский даже обрадовался:
– Ну, пусть трагедия так и называется: „Владимир Маяковский“. <…> Итак – первым вышел на растерзание публики В. Маяковский. Материалы об его спектакле собраны достаточно исчерпывающе <…>, я же добавлю, что в этой пьесе Маяковский так же прекрасно читал, как и в следующие годы, когда публика рвалась и ломилась на его выступления и восторженно его приветствовала.
Но на спектакле, вместо бурных восторгов, Маяковский вызвал недоумение и порой протесты.
А Маяковский читал не только поразительно, но и поражающе… <…> В его „Трагедии“ изображены поэт-футурист, с одной стороны, и всяческие обыватели, „бедные крысы“, напуганные бурными городскими темпами – „восстанием вещей“, с другой. <…> Вместе с восстанием вещей близится и иной, более грозный социальный мятеж – изменение всего лица земли, любви и быта.
Испуганные людишки несут свои слезы, слезинки поэту, взывая о помощи. Тот собирает их и укладывает в мешок.
До этого момента публика, пораженная ярчайшими декорациями (по краскам – Гоген и Матисс), изображавшими город в смятении, необыкновенными костюмами и по-новому гремевшими словами, – сидела сравнительно спокойно.
Когда же Маяковский стал укладывать слезки и немного растянул здесь паузу (чтоб удлинить спектакль!) – в зрительном зале раздались единичные протестующие возгласы. Вот и весь „страшный скандал“ на спектакле Маяковского. Правда, когда уже был опущен занавес, раздавались среди аплодисментов и свистки, и всевозможные крики, как то обычно бывает на премьерах, новых, идущих вразрез с привычными постановками…
Публика спектакля в основном была та же, что и на наших вечерах и диспутах (интеллигенция и учащаяся молодежь), а диспуты проходили нисколько не скандальнее, чем, скажем, позднейшие вечера Маяковского 1920-30 гг. <…> Кажется, не было тогда листка, который как-нибудь по-своему не откликнулся бы на наш спектакль. Это была беспросветная ругань, дикая, чуть ли не площадная, обнаружившая все убожество ее авторов» (Крученых. С. 63, 66, 68, 70). Реакция критики действительно носила преимущественно резко отрицательный характер. Так, рецензент «Петербургского листка» писал: «Такого публичного осквернения театра мы не помним. Такого дикого представления не было и не будет! Больные психически люди говорят минутами как нормальные люди, но то, что говорили вчера на сцене режиссер умственно искалеченных футуристов – автор идиотской пьесы (?!) и его достойные сподвижники – этосплош-ная грубая бессмыслица, бред больных белой горячкой людей, это – сумбурное сплетение слов без всякого логического порядка и смысла. <…> Можно дать премию в миллион рублей тому, кто объяснит, в чем „суть“ небывалой по глупости пьесы.<…> Нужно ли говорить, что декорации изображали яичницу с луком, смесь улиц с домами и вывесками; а костюмы действующих лиц пьесы-ахинеи – это соединение костюмов индейцев с туалетом балаганного деда… Нечто ужасное, аляповатое, вызывающее чувство отвращения у эстетов и, вообще, у нормальных людей. <…> Надо прекратить спектакли футуристов» (Россовский Н. Спектакль душевнобольных // Петербургский листок. 1913. 3 декабря. С. 4). В том же духе высказывался на страницах «Биржевых ведомостей» А. Измайлов: «Бред куриной души назывался трагедиею в двух действиях. <…> Наглое шарлатанство никого не дурачило, и публика, конечно, шла заведомо посмотреть рыцарей зеленого осла и лично убедиться, до какого предела может идти неостанавливаемая наглость. И видеть сценическую постановку галиматьи несравнимо легче, чем прочитать три страницы футуристического альманаха.
Вместо декораций, были два плаката, пестро размалеванные и напоминавшие вскрытую внутренность пьяницы, как ее изображают на лубочных картинах в поучение алкоголикам. Какое-то пестрое месиво рук, ног, лиц, детских игрушек.
Развязный молодой человек актерского типа, в скоморошьей рубахе полосками, долго нес несусветную чепуху о своей душе, которую он несет на блюде, о мостах, заломивших железные руки, о переулках, засучивших рукава для драки, о трубах, выкидывающих ногами 44, о своих ногах, распухших от исканий, о штанах, сбежавших от портного и гуляющих без человеческих ляжек, о женских чулках, игриво щурящихся, как кокотки, обещал коснуться головы зрителей и создать им губы для огромных поцелуев. Потом он заявил, что его выдоили и что он пойдет успокоить свою душу на ложе из мягкого навоза. В добрый час! Всякий рано или поздно попадает на свою полочку.
Какие-то святочные хари выносили кренделя, пряники и огромную рыбу в человеческий рост. Поэт предъявлял женские губы, истрепанные поцелуями, и бросал их о пол. Выдвинули и повалили безвкусное чучело карнавальной бабы. Словом, проделали все, что дает полное право на заключение человека в смирительную рубашку. <…> Первый вечер футуристов явился полной распиской в бездарности» (Измайлов А. Рыцари зеленого осла: (1-й вечер футуристов) // Биржевые ведомости: Вечерний вып. 1913, 3 декабря. С. 4–5). «Просвистели ее до дырок», – писал позже о постановке трагедии сам Маяковский (Маяковский. Т. 1. С. 22). Сдержанно оценивал пьесу М. Матюшин: «Трагедия Маяковского представляет огромное выявление импрессионизма в символике слова. Но он нигде не отрывает слово от смысла, не пользуется самоценным звуком слова. Я нахожу выявление его пьесы очень важным и значительным, но не ставящим новые последние грани или кладущим камни в трясины будущего для дороги будетлянского искусства.
Тем самым нисколько не умаляя значения его пьесы, считаю постановку его вещи – много ниже его творчества» (ПЖРФ. С. 157). О спектакле вспоминал В. Шкловский: «Маяковский стремился к театру.
В трагедии „Владимир Маяковский“ – поэт один. Вокруг него ходят люди, но они не круглые. Они – загородки, раскрашенные щиты, из-за которых раздаются слова. Вот они.
Его знакомая (он – Владимир Маяковский). Ее характеристика: сажени две-три. Не разговаривает.
Старик с черными сухими кошками (несколько тысяч лет). Дальше идут Маяковские.
Человек без глаза и ноги, человек без уха. человек без головы, человек с растянутым лицом, человек с двумя поцелуями и обыкновенный молодой человек, который любит свою семью. А дальше женщины, все – со слезами. Слезы они приносят поэту.
Поэт сам – тема своей поэзии.
Поэт разложил себя на сцене, держит себя в руке, как игрок держит карты. Это Маяковский – двойка, тройка, валет, король. Игра идет на любовь. Игра проиграна.
Человек с растянутым лицом говорит:
А из моей души
тоже можно сшить
такие нарядные юбки!
Это – тема Маяковского.
Маяковскому уйти некуда. Кругом свои, несчастливые Маяковские и поцелуи.
Неизвестно, что делать с поцелуями. Поэт даже искал рамку для них.
А с главной женщиной было так:
Маяковский сорвал покрывало, под покрывалом была кукла, огромная женщина, потом ее унесли на плечах. Этот случай нам знаком.
Была вещь Блока – „Балаганчик“. <…> Пьеро и Арлекин влюблены в одну женщину.
Кругом куклы этнографического музея. Коломбина картонная. <…> То, что подруга картонная, указано во всех ремарках, и даль оказывается нарисованной. Люди – сам Пьеро – истекают клюквенным соком.
Мир поэмы „Владимир Маяковский“, несмотря на сходство с миром „Балаганчика“, совсем другой.
У Блока, который тогда все еще был символистом, люди, то есть герои-вещи, – шахматные фигуры, условные контуры ролей, мерцающие подобно живым.
Они то становятся реальными, то перестают быть реальными. Содержание вещи в том, что мир сквозит, что он дематериализован, что все повторяется: девушка становится смертью, коса смерти становится косой девушки; а у Маяковского в его драме он сам, Маяковский, чрезвычайно реален. У него сапоги с дырками, и дырки очень реальные, овальцы дырок.
Владимир Владимирович очень хорошо знал, как снашиваются сапоги. И даже лавровый венок поэта реален. Маяковский хотел иметь настоящий лавровый венок на голове.
Еще стоит реальная женщина. Он только не прорвался к ней. Поэт пробует мир, и опрокидывает его, и уходит на улицу, на площадь, которую он так настойчиво называет „бубном“.
Мир сам годен стать инструментом для издавания басистых звуков.
Даже слава реальна, и ее надо добиться.
Эту поэму или драму играли в Петербурге, на Офицерской улице. Блок жил недалеко, он пришел на представление, смотрел очень серьезно.
На дверях театральный механик написал: „Футуристы“. Маяковский не стер надписи. Дело было не в этом, – во всяком случае, и это втягивалось в трагедию.
Декорации писал Филонов. Филонов – художник, пошедший от отреченной русской иконописи, от тех же росписей Ферапонтова монастыря. На декорациях были плотно изображены изогнутые люди, сделанные из превосходной краски, и большой, очень красивый петух, которого несколько раз перерисовывал Филонов. Маяковский радовался спектаклю.
Тысячелетний старик был нарисован и обклеен пухом. Женщина была на самом деле двух саженей.
А поэт тешился тем, что эти вещи и люди существуют вне его, что на них можно смотреть.
Другие Маяковские, скромные ученики-актеры, говорили робкими голосами.
Публика то веселилась, то подчинялась поэту.
Публика думала, что она играет поэтом, что вообще дело идет в шутку, а потом она пойдет домой и все будет по-старому» (Шкловский В. О Маяковском // Шкловский В. Собр. соч.: В 3 т. М., 1974. Т. 3. С. 40–42). Из воспоминаний Б. Лившица: «Центром драматического спектакля был, конечно, автор пьесы, превративший свою вещь в монодраму. К этому приводила не только литературная концепция трагедии, но и форма ее воплощения на сцене: единственным подлинно действующим лицом следовало признать самого Маяковского. Остальные персонажи – старик с кошками, человек без глаза и ноги, человек без уха, человек с двумя поцелуями – были вполне картонны: не потому, что укрывались за картонажными аксессуарами и казались существами двух измерений, а потому, что, по замыслу автора, являлись только облеченными в зрительные образы интонациями его собственного голоса. Маяковский дробился, плодился и множился в демиургическом исступлении,
Себя собою составляя,
Собою из себя сияя.
При таком подходе, естественно, ни о какой коллизии не могло быть и речи. Это был сплошной монолог, искусственно разбитый на отдельные части, еле отличавшиеся друг от друга интонационными оттенками. Прояви Маяковский большее понимание сущности драматического спектакля или больший режиссерский талант, он как-нибудь постарался бы индивидуализировать своих картонажных партнеров, безликие порождения собственной фантазии. Но наивный эгоцентризм становился поперек его поэтического замысла. На сцене двигался, танцевал, декламировал только сам Маяковский, не желавший поступиться ни одним выигрышным жестом, затушевать хотя бы одну ноту в своем роскошном голосе: он, как Кронос, поглощал свои малокровные детища.
Впрочем, именно в этом заключалась „футуристичность“ спектакля, стиравшего – пускай бессознательно! – грань между двумя жанрами, между лирикой и драмой, оставлявшего далеко позади робкое новаторство „Балаганчика“ и „Незнакомки“. Играя самого себя, вешая на гвоздь гороховое пальто, оправляя на себе полосатую кофту, закуривая папиросу, читая свои стихи, Маяковский перебрасывал незримый мост от одного вида искусства к другому и делал это в единственно мыслимой форме, на глазах у публики, не догадывавшейся ни о чем.
Театр был полон: в ложах, в проходах, за кулисами набилось множество народа. Литераторы, художники, актеры, журналисты, адвокаты, члены Государственной думы – все постарались попасть на премьеру. Помню сосредоточенное лицо Блока, неотрывно смотревшего на сцену и потом, в антракте, оживленно беседовавшего с Кульбиным. Ждали скандала, пытались даже искусственно вызвать его, но ничего не вышло: оскорбительные выкрики, раздававшиеся в разных концах зала, повисали в воздухе без ответа.
„Просвистели до дырок“, – отмечал впоследствии Маяковский в своей лаконической автобиографии. Это – преувеличение, подсказанное, быть может, не столько скромностью, сколько изменившейся точкой зрения самого Маяковского на сущность и внешние признаки успеха: по тому времени прием, встреченный у публики первой футуристической пьесой, не давал никаких оснований говорить о провале.
Так называемое „художественное оформление“ принадлежало Школьнику (на самом деле решающая роль в оформлении спектакля принадлежала Филонову. – Сост.) и было ниже самого спектакля. Все, что в тексте неприятно поражало поверхностным импрессионизмом, рыхлостью ткани, отсутствием крепкого стержня, как будто нарочно было выпячено художником, подчеркнуто с какой-то необъяснимой старательностью. Один Маяковский, кажется, не замечал этого, хотя вмешивался во все детали постановки.
Двухсаженная кукла из папье-маше, с румянцем во всю щеку, облаченная в какие-то лохмотья и, несмотря на женское платье, смахивавшая на елочного деда-мороза, искренно нравилась ему, так же как и все эти сверкавшие фольгой, похожие на огромные рыбьи пузыри, слезинки, слезы и слезищи.
Он, словно ребенок, тешился несуразными игрушками, и, когда я попытался иронически отнестись к нелепой, на мой взгляд, бутафории, его лицо омрачилось. Лишь позднее я понял, что было нечто гофмановское в этой встрече лирического поэта с собственными образами, воплотившимися в осязаемые предметы» (Лившиц. С. 446–448). Иванов-Разумник вспоминал: «Трагедия В. Маяковского „Владимир Маяковский“ была даже поставлена на сцене года за два до войны, и я хорошо помню это тягостное зрелище издевающейся, улюлюкающей галерки и от этого сияющей самодовольством кучки „желтых кофт“ на своей дешевой Голгофе. А между тем „трагедия“ В. Маяковского была уже не „словами с чужими брюхами“, а подлинным литературным произведением, была уже не „деймом“, а подлинным действом» (Иванов-Разумник. С. 226). Актер и режиссер А. Мгебров, присутствовавший на спектакле в качестве зрителя, писал в своих мемуарах: «Погас свет, и вот поднялся занавес. Началось представление. Полумистический свет слабо освещает затянутую сукном или коленкором сцену и высокий задник из черного картона, который, в сущности, один и составляет всю декорацию. Весь картон причудливо разрисован. Понять, что на нем написано, я не могу, да и не пытаюсь: какие-то трубы, перевернутые снизу вверх, дома, надписи – прямые и косые, яркие листья и краски. Что этот картон должен изображать? – я так же, как и другие, не понимаю, но странное дело, – он производит впечатление; в нем много крови, движения. Он хаотичен… он отталкивает и притягивает, он непонятен и все же близок. Там, кажется, есть какие-то кренделя, бутылки и все словно падает, и весь он точно крутится в своей пестроте. Он – движение, жизнь, не фокус ли жизни? <…> Быть может то, что я увидел тогда, на этом картоне, – самое реальное изображение города, какое когда-либо я видел. Да, этот картон произвел на меня впечатление. Я почувствовал движение в самом себе, я почувствовал движение города в вечности, всю жуть его, как часть хаоса. Но перейду к действию.
Из-за кулис медленно дефилировали, одни за другими, действующие лица: картонные, живые куклы. Публика пробовала смеяться, но смех обрывался. Почему? Да потому, что это вовсе не было смешно, – это было жутко. Мало кто из сидящих в зале мог бы осознать и объяснить это. Если я пришел требовать зрелища, непременно забавного, непременно смешного, если я пришел издеваться над паяцем, и вдруг этот паяц серьезно заговорит обо мне, – смех застынет на устах. И когда с первого мгновения замолк смех, – сразу почувствовалась настороженность зрительного зала и настороженность неприятная. Ему еще хотелось смеяться: – ведь для этого все пришли сюда. И зал ждал, зал жадно глядел на сцену…
Вышел Маяковский. Он взошел на трибуну, без грима, в своем собственном костюме. <…> Потом он сел на картон, изображающий полено. Потом стал говорить тысячелетний старик: все картонные куклы – это его сны, сны человеческой души, одинокой, забытой, затравленной в хаосе движений.
Маяковский был в своей собственной желтой кофте; Маяковский ходил и курил, как ходят и курят все люди. А вокруг двигались куклы, и в их причудливых движениях, в их странных словах было много и непонятного и жуткого оттого, что и вся жизнь непонятна и в ней – много жути. И зал, вслушивавшийся в трагедию Маяковского, зал со своим смехом и дешевыми остротами был также непонятен. И было непонятно и жутко, когда со сцены неслись слова, подобные тем, какие говорил Маяковский. Он же действительно говорил так: „Вы – крысы…“ И в ответ люди хохотали, их хохот напоминал тогда боязливое царапанье крыс в открытые двери. „Не уходите, Маяковский“, – кричала насмешливо публика, когда он растерянный, взволнованно собирал в большой мешок и слезы, и газетные листочки, и свои картонные игрушки, и насмешки зала – в большой холщовый мешок; он собирал их с тем, чтобы уйти в вечность, в бесконечно широкие пространства и к морю…
Ничего нельзя было понять… Маяковский – плохой режиссер, плохой актер, а футуристическая труппа – это молодежь, только лепечущая. Разумеется, они плохо играли, плохо и непонятно про-зносили слова, но все же у них было, мне кажется, что-то от всей души. Зал же слушал слишком грубо для того, чтобы хоть что-нибудь могло долететь со сцены. Однако, за время представления мои глаза дважды наполнялись слезами. Я был тронут и взволнован.
Мне сделалось невыразимо грустно, когда я пришел домой; грустно не от спектакля, не от дурного представления, но лишь от того, что я как бы соприкоснулся в тот вечер со скорбью, соприкоснулся с вечно затравленной человеческой душой, которая, как принц в лохмотьях нищего, нашла исход своим слезам в бунте футуристов» (Мгебров. С. 276–280). В «Охранной грамоте» Б. Пастернак писал о впечатлении, которое произвело на него чтение Маяковским своей трагедии во время их встречи в мае 1914 г.: «Я слушал, не помня себя, всем перехваченным сердцем, затая дыхание. Ничего подобного я раньше никогда не слыхал.
Здесь было все. Бульвар, собаки, тополя и бабочки. Парикмахеры, булочники, портные и паровозы. <…> Вдали белугой ревели локомотивы. В горловом краю его творчества была та же безусловная даль, что на земле. Тут была та бездонная одухотворенность, без которой не бывает оригинальности, та бесконечность, открывающаяся с любой точки жизни, в любом направленьи, без которой поэзия – одно недоразуменье, временно не разъясненное.
И как просто было это все. Искусство называлось трагедией. Так и следует ему называться. Трагедия называлась „Владимир Маяковский“. Заглавье скрывало гениально простое открытье, что поэт не автор, но – предмет лирики, от первого лица обращающейся к миру. Заглавье было не именем сочинителя, а фамилией содержанья» (Пастернак. Т. 4. С. 219). Гладьте сухих и черных кошек. В статье «Без белых флагов» (<1914>) Маяковский писал: «Ведь когда египтяне или греки гладили черных и сухих кошек, они тоже могли добыть электрическую искру, но не им возносим мы песню славы, а тем, кто блестящие глаза дал повешенным головам фонарей и силу тысячи рук влил в гудящие дуги трамваев» (Маяковский. Т. 1. С. 324). Домино (франц. и итал. domino) – маскарадный костюм в виде широкого плаща с рукавами и капюшоном. Фигаро и Матэн – французские газеты («Le Figaro» и «Се Matin»).
69. ПЖРФ – ПкМ, под загл. «Послушайте!».
70. Газ. «Новь». 1914, 20 ноября, в составленной Маяковским подборке антивоенных ст-ний «Траурное ура!». Ковно – название литовского города Каунас до 1917 г.
71. ОвШ – ПкМ. с меньшими цензурными купюрами – ОвЩ-2, без купюр. До первого издания отрывки поэмы печатались в сборнике «Стрелец» и «Журнале журналов» в статье «О разных Маяковских» (1915. Август). Первоначальное, не пропущенное цензурой название поэмы – «Тринадцатый апостол». В статье «О разных Маяковских», определяя поэму как «вторую трагедию поэта Маяковского», автор писал о себе: «Разве он не только для того позволяет назвать себя Заратустрой, чтоб непреложнее были слова, возвеличивающие человека?» (Маяковский. Т. 1. С. 346–347). «Облако вышло перистое. – вспоминал Маяковский в автобиографии „Я сам“. – Цензура в него дула. Страниц шесть сплошных точек.
С тех пор у меня ненависть к точкам. К запятым тоже» (Маяковский. Т. 1.С. 24). Выступая на вечере, посвященном двадцатилетию творческой деятельности, состоявшемся 25 марта 1930 г. в Доме комсомола Красной Пресни, Маяковский вспоминал: «„Облако в штанах“. Оно начато письмом в 1913/14 году, закончено в 1915 году и сначала называлось „Тринадцатый апостол“. Когда я пришел с этим произведением в цензуру, то меня спросили: „Что вы, на каторгу захотели?“ Я сказал, что ни в каком случае, что ни в коем случае меня не устраивает. Тогда мне вычеркнули шесть страниц, в том числе и заглавие. <…> Меня спросили – как я могу соединить лирику и большую грубость. Тогда я сказал: „Хорошо, я буду, если хоти-то, как бешеный, если хотите, буду самым нежным, не мужчина, а облако в штанах“. Эта книжка касалась тогдашней литературы, тогдашних писателей, тогдашней религии, и она вышла под таким заглавием. Люди почти не покупали ее, потому что главные потребители стихов были барышни и барыни, а они не могли покупать из-за заглавия. Если спрашивали „Облако“, у них спрашивали „в штанах?“. При этом они бежали, потому что нехорошее название» (Маяковский. Т. 12. С. 436). В предисловии ко второму изданию поэмы Маяковский писал: «„Облако в штанах“ (первое имя „Тринадцатый Апостол“ зачеркнуто цензурой. Не восстанавливаю. Свыкся.) считаю катехизисом сегодняшнего искусства.
„Долой вашу любовь“, „долой ваше искусство“, „долой ваш строй“, „долой вашу религию“ – четыре крика четырех частей» (ОвШ-2. С. 3). Выход в свет поэмы был восторженно воспринят футуристами и близкими к футуристическим кругам литераторами. «Из книги вырезано почти все, что являлось политическим credo русского футуризма, – писал В. Шкловский, – остались любовь, гнев, прославленная улица и новое мастерство формы.
К форме поэмы Маяковского можно применить те слова которые он говорит про себя.
У меня в душе ни одного седого волоска
И старческой нежности нет в ней
Мир огромив мощью голоса
Иду красивый двадцатидвухлетний.
В поэме тоже нет ни седых волос – старых рифм и размеров, ни старческой нежности прежней русской литературы – литературы бессильных людей» (Шкловский В. Вышла книга Маяковского «Облако в штанах» // Взял. С. 10). Издавший поэму О. Брик призывал читателей: «Радуйтеся, кричите громче: у нас опять есть хлеб! Не доверяйте прислуге, пойдите сами, встаньте в очередь и купите книгу Маяковского „Облако в штанах“. Бережней разрезайте страницы, чтобы как голодный не теряет ни одной крошки, вы ни одной буквы не потеряли бы из этой книги-хлеба» (Б<рик> О. Хлеба! // Взял. С. 12). «Ведь в самом деле. – писал в рецензии на поэму К. Большаков, – что же другое, как не „Облако в штанах“ может быть названо самою современною по своей остроте и самою острою по своей современности книгой, в чем другом, как не в ней, так ярко и так самоуверенно в своей победной мощи предстал лик зарождающейся новой эры земли» (Ц2. С. 85). Н. Асеев упрекал критиков, сознательно, по его мнению, замалчивающих появление поэмы: «Но появляется уже вторая (первая – „Владимир Маяковский“. – Сост.) большая трагедия В. В. Маяковского, а критики потеряли язык (или стерли кожу с него, подлизываясь к пиршеству госпожи Войны). <…> Итак, вот оно, средство от бессилья! Это сильнее вашей Амриты – Вечной Женственности. Это дешевле („Облако в штанах“. Ц. 1 р.). И это единственное средство ликвидировать грехи вашей молодости. Испробуйте! Не бойтесь! Здесь нет обмана!» (Асеев Н. Владимир Маяковский и его поэма «Облако в штанах» // Асеев. Т. 5. С. 505–506). Так отзывался о поэме В. Ховин: «„Облако в штанах“ – блестящая книга блестящих, великолепных неожиданностей.
Недостатки?
О, их много, без конца, но не о них говорить.
Ибо самое главное в этой книге – угроза ее, – угроза стать частью нашего взыскующего духа, так как поистине она – кровавые лоскутки сердца современности» (Ховин В. Великолепные неожиданности // ОС-9. С. 16). Лиля – Брик Лиля Юрьевна (1891–1978), подруга жизни Маяковского. ЭТОБЫЛО / БЫЛО В ОДЕССЕ. О случившемся в Одессе в январе 1914 г. во время турне футуристов вспоминал В. Каменский: «Нам надо было ехать в Кишинев, но Маяковский задерживал отъезд.
Мы волновались.
Дело в том, что Маяковский влюбился здесь в красавицу Марию Александровну и по этому неожиданному случаю „сходил с ума“.
Он „рвал и метал“ и вообще не знал, как быть, что предпринять, куда деться с этой нахлынувшей любовью.
Семнадцатилетняя Мария Александровна принадлежала к числу тех избранных девушек того времени, в которых сочетались высокие качества пленительной внешности и интеллектуальная устремленность ко всему новому, современному, революционному.
Стройная, обаятельная, „с глазами южной ночи“ – это она сразу же представилась воображению поэта:
А я только видел
Вы Джиоконда,
Которую надо украсть.
Двадцатилетний Маяковский, еще не знавший любви, впервые изведал это громадное чувство, с которым не мог справиться.
Взволнованный, взметенный вихрем любовных переживаний, после первых свиданий с Марией он влетал к нам в гостиницу этаким праздничным весенним морским ветром и восторженно повторял: „Вот это девушка, вот это девушка“.
Или вдруг, обвеянный мрачными предчувствиями возможной неудачи, он нервно, задумчиво шагал по комнате, чтобы вскоре же сказать:
Меня сейчас узнать не могли бы:
Жилистая громадина стонет, корчится.
Что может хотеться этакой глыбе?
А глыбе многое хочется.
И мы действительно в эти дни не могли узнать прежнего беспечного Володю, который теперь рвал и метал, бегал по комнате из угла в угол, как лев в клетке, и вопрошающе твердил: „Что делать? Как быть?“
Бурлюк, в лорнет наблюдая за влюбленным другом, развалившись на диване, тихонько и нежно подсказывал:
– Напрасно страдаете. Ничего не выйдет. Из первой любви никогда ничего не выходит.
Маяковский рычал:
– У всех ничего не выходит, а у меня выйдет. Бурлюк стоял на своем:
– Напрасно страдаете, Владим Владимыч.
И вот с глыбой-Маяковским началась тропическая малярия любви. <…> Маяковский потерял покой. Первая праздничность встреч сменилась острой болью тревоги.
Мама!
Ваш сын прекрасно болен.
Мама!
У него пожар сердца.
Скажите сестрам Люде и Оле
Ему уже некуда деться.
И мы это видели. И посоветовали Маяковскому ускорить объяснение с Марией Александровной, так как выступления наши в Одессе кончились и нам надо было торопиться в Кишинев.
Развязка пришла.
Двери вдруг заляскали,
Будто в гостинице
Не попадает зуб на зуб.
Вошла ты
Резкая как нате.
Муча перчатки замш,
Сказала:
„Знаете,
Я выхожу замуж“.
Ошеломленный Маяковский в этот же вечер решительно заявил: „едем“, и курьерским поездом мы помчались в Кишинев. <…> Через несколько дней, направляясь из Кишинева в Николаев, а потом в Киев, Маяковский, сидя в купе и поглядывая в окно, напевал:
Это было,
Было в Одессе…» (ЮМ. С. 43–46). Химеры – скульптурные изображения чудовищ в средневековом искусстве, в частности на Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), памятнике ранней готики. Лондон Джек (наст. имя Джон Гриффит) (1876–1916) – американский писатель. Джиоконда («Портрет Моны Лизы») – картина Леонардо да Винчи; в 1911 г. была украдена из Лувра. ПОГИБЛА ПОМПЕЯ / КОГДА РАЗДРАЗНИЛ ИВЕЗУВИЙ. Античный город Помпеи в 79 г. н. э. был засыпан пеплом при извержении вулкана Везувий. Люда и Оля – сестры В. Маяковского Людмила Владимировна (1884–1976) и Ольга Владимировна (1890–1949). Клирос (греч. kleros – возвышение по обеим сторонам алтаря, предназначенное для певчих во время богослужения. Лузитания – английский пассажирский пароход, сгоревший в результате торпедирования его в мае 1915 г. германской подводной лодкой. Вавилонская башня – сооружение, которое, согласно ветхозаветному преданию, возводилось в Сеннаарской долине; Бог, разгневанный дерзостью людей, решивших построить башню до небес, «смешал их языки», в результате чего люди перестали понимать друг друга, что привело к так называемому «вавилонскому столпотворению» (Быт.; И, 4–9). Круппы – владельцы названного их фамилией (Krupp) одного из крупнейших металлургических и военно-промышленных концернов Германии. Лепрозорий (от лат. leprosus – прокаженный) – лечебное учреждение для больных лепрой (проказой). Дредноут – (от англ. dreadnought – неустрашимый) – тип броненосца. ПЕЙТЕ КАКАО ВАНГУТЕНА! Имеется в виду реальный факт, когда приговоренный к смертной казни согласился за вознаграждение семье крикнуть эту фразу. Бисмарк Отто фон Шёнхаузен (1815–1898) – первый рейхсканцлер германской империи в 1871–1890 гг. Галифе Гастон (1830–1909) – французский генерал, возглавлявший подавление Парижской Коммуны в 1871 г. Мамай (?-1380) – фактический правитель Золотой Орды, организатор походов на русские земли; на самом деле свою победу при битве на Калке (1223 г.) праздновали, сидя на досках, положенных на тела пленных, полководцы Чингисхана. Азеф Евно Фишелевич (1869–1918) – один из руководителей партии эсеров, провокатор. Пресня – район Москвы. Тиана – персонаж одноименного ст-ния И. Северянина (см. № 204). Иродиада – жена Ирода Филиппа 1, а потом Ирода Антипы. правителя Галилеи и Переи. ОПЛЯШЕТ ИРОДИАДОЮ. Плясала не Иродиада, а ее дочь Саломея, которая за свой танец на празднике по случаю дня рождения царя потребовала голову Иоанна Крестителя (Предтечи), предрекшего пришествие Иисуса Христа и крестившего Его (Мк.; 6, 17–29).
72. ВСВМ.
73. ВСП. В тексте очевидная опечатка: вместо «любовницу» следует читать «любовищу», как во всех последующих изданиях. А. Крученых, называя ст-ние «необычайно напряженной вещью», писал: «В „Себе любимому“ дан последний крик надорвавшегося великана, дана предсмертная тоска человека, не желающего примириться не то чтобы с „морковным кофе“ или другим суррогатом, но даже и с Петраркой» (Крученых. С. 120). «Кесарево кесарю – Богу богово» – выражение, приписываемое Иисусу Христу (Мф.; 22, 21). Калифорния – штат на западе США, известный своими запасами золота. Голиаф – в ветхозаветном предании великан-филистимлянин, побежденный в единоборстве будущим царем Израильско-Иудейского государства Давидом (Царств; 17).
74. ГФ. Н. К. Крупская вспоминала о реакции В. И. Ленина на чтение этого ст-ния актрисой О. Гзовской: «Однажды нас позвали в Кремле на концерт, устроенный для красноармейцев. Ильича провели в первые ряды. Артистка Гзовская декламировала Маяковского: „Наш бог – бег, сердце – наш барабан“ и наступала прямо на Ильича, а он сидел, немного растерянный от неожиданности, недоумевающий, и облегченно вздохнул, когда Гзовскую сменил какой-то артист, читавший „Злоумышленника“ Чехова» (цит. по: В. И. Ленин о литературе и искусстве. М., 1967. С. 629).
Алексей Крученых*
75-77. Помада. 75. Автор в дальнейшем неоднократно обращался к этому ст-нию, считая его показательным примером использования в поэзии заумного языка, «из которого рождается новое заумное искусство и всякое иное вплоть до скрежещущей рожи Маяковского» (Крученых А. Предисловие // Чачиков А. Крепкий гром. М., 1919. С. 5). Время написания ст-ния – декабрь 1912 г. – Крученых называл «временем возникновения ЗАУМНОГО ЯЗЫКА, как явления, (т. е. языка, имеющего не подсобное значение), на котором пишутся целые самостоятельные произведения, а не только отдельные части таковых (в виде припева, звукового украшения и пр.)» (ФТ. С. 38). В зависимости от направления теоретических исследований ст-ние приводилось автором как пример стиха «подобного лихой рубке» (Крученых А. Сонные свистуны // Крученых А., Клюн И., Малевич К. Тайные пороки академиков. М., 1916. С. 16) или «тяжелой и грубой» звуковой фактуры слов (ФС. С. [3]). В СКТ полемически утверждалось, что «в этом пятистишии больше русского национального, чем во всей поэзии Пушкина» (СКТ. С. 9). Инициатива создания ст-ния, по воспоминаниям Крученых, принадлежала Д. Бурлюку: «В конце 1912 г. Д. Бурлюк как-то сказал мне: „Напишите целое стихотворение из „неведомых слов““. Я и написал „Дыр бул щыл“, пятистрочие. которое и поместил в готовящейся тогда моей книжке „Помада“» (цит. по: Харджиев Н. Полемичное имя // Памир. 1987. № 2. С. 164). Сам же Д. Бурлюк в своих мемуарах дает вполне рационалистическую дешифровку ст-ния: «„Дыр Бул щол“ – „Дырой будет уродное лицо счастливых олухов“ (сказано пророчески о всей буржуазии дворянской русской, задолго до революции, и потому так визжали дамы на поээо-концертах, и так запало в душу просвещенным стихотворение Крученых „Дырбулщол“, ибо чуяли пророчество себе произнесенное)» (Бурлюк. С. 43). О нежелательности «умной» интерпретации «безумной или заумной поэзии „дырбул“» в 1916 г. писал К. Малевич: «Поэт (Крученых. – Сост.) оправдывался ссылками на хлыста Шишкова, на нервную систему, религиозный экстаз (см., например: Трое. С. 27. – Сост.) и этим хотел доказать правоту существования „дыр бул“. Но эти ссылки уводили поэта в тупик, сбивая его к тому же моз1у, к той же точке, что и раньше» (Малевич К. Письма к М. Ф. Матюшину // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1974 год. Л., 1976. С. 190). О словах ст-ния, «орущих, как хлысты на радении», писал В. Маяковский (Маяковский. Т. I. С. 314). Из негативных оценок ст-ния характерно мнение В. Брюсова. считавшего, что «эти сочетания букв кроме того, что они абсолютно „не выразительны“, еще и крайне неприятны для слуха» (Брюсов. С. 389). С. Городецкий писал, что это ст-ние знаменует собой «доведение до абсурда <…> музыкальных принципов» в поэзии: «Тупик полнейший: явление изжито до последней степени» (Городецкий С. Музыка и архитектура в поэзии // Речь, 1913. 17 июня. С. 3). В своей полемической «Перчатке кубофутуристам» М. Россиянский (Лев Зак) писал: «Ку-бофутуристов, сочиняющих „стихотворения“ на „собственном языке, слова которого не имеют определенного значения“, <…> можно уподобить тому музыканту, который, вскричав: „истинная музыка есть сочетание звуков: да здравствует самовитый звук!“ для подтверждения своей теории стал бы играть на немой клавиатуре. Кубофутуристы творят не сочетания слов, но сочетание звуков, потому что их неологизмы не слова, а только один элемент слова. Кубофутуристы, выступающие в защиту „слова как такового“, в действительности, прогоняют его из поэзии, превращая тем самым поэзию в ничто» (Вернисаж. С. 23–24). В. Хлебников писал Крученых в августе 1913 г.: «Дыр бул щыл точно успокаивает страсти самые расходившиеся» (Хлебников НП. С. 367). «Красота поработила весь мир, – писал К. Чуковский, – и Крученых – первый поэт, спасший нас от ее вековечного гнета. Оттого-то корявость, шершавость, слюнявость, кривоножие, косноязычие, смрад так для него притягательны <…>. Ему и смехунчики (имеется в виду ст-ние Хлебникова „Заклятие смехом“. – Сост.) гадки, ведь и в них еще осталась красота. Смехунчики есть бунт лишь против разума, а дыр бул щыл зю шо э спрум есть бунт и против разума, и против красоты! Здесь высшее освобождение искусства» (Чуковский 1914. С. 128). Мнение о ст-нии П. Флоренского: «Крученых уверяет, что в его, ныне прославленном, дыр бул щыл и т. д. „больше национального, русского, чем во всей поэзии Пушкина“. Может быть, но именно, только „может быть“, но может быть – и наоборот. Мне лично это „дыр бул щыл“ нравится: что-то лесное, коричневое, корявое, всклокоченное, выскочило и скрипучим голосом „р л эз“ выводит, как немазаная дверь. Что-то вроде фигур Коненкова. Но скажете вы: „А нам не нравится“, – и я отказываюсь от защиты. По-моему, это подлинное. Вы говорите: „Выходка“, – и я опять молчу, вынужден молчать» (Флоренский. С. 183–184). Спустя десятилетие после создания ст-ния критик А. Горнфельд писал: «…Когда Крученых обратился к прошлому, застывшему миру с своим пламенным и могучим „будетлянским“ призывом: „Дыр бул щур“, – то и он, конечно, не предполагал обогатить словарь; он был вне этого мелкого желания, он провозглашал новое Слово, а не бросал новые словечки» (Горнфельд А. Новые словечки и старые слова. Пб., 1922. С. 43–44). Примерно тогда же свое мнение о ст-нии выразил В. Львов-Рогачевский, утверждавший, что «бездарный кривляка Крученых дальше своего дыр-бул-шыл не пошел, весьма ловко, прикрывая свою бесталантность гениальным набором звуков» (Львов-Рогачевский. С. 24). В 1924 г. И. Терентьев, называя ст-ние «азбукой футуризма», утверждал: «„Дыр бул щил“ – загадка, задача, непонятная 10 лет тому назад, а теперь уже не трудно – именно по звуку – догадаться, что это есть дыра в будущее!» (Терентьев. Кто Леф, кто Праф // Красный студент. 1924. № 1. С. 11). В. Ходасевич в статье «О формализме и формалистах» (1927) писал: «Знаменитое дыр бул щыл было исчерпывающим воплощением этого течения (футуризма. – Сост.), его началом и концом, первым криком и лебединой песней. Дальше идти было некуда, да и ненужно, ибо все прочее в том же роде было бы простым „перепевом“» (Ходасевич СС. Т. 2. С. 153). Эту мысль Ходасевич развил в статье «Декольтированная лошадь» (1927): «После того как было написано классическое „дыр бул щыл“ – писать уже было, в сущности, не к чему и нечего: все дальнейшее было бы лишь перепевом, повторением, вариантом. Надо было или заменить поэзию музыкой, или замолчать. Так и сделали» (Ходасевич СС. Т. 2. С. 160–161). О том, что ст-ние Крученых обладает гораздо большей известностью, чем «прекрасные стихи Хлебникова», писал, хотя и не без сожаления, Н. Асеев (Асеев Н. Дневник поэта. Л., 1929. С. 10). Вяч. Нечаев в своих воспоминаниях о встречах с Крученых в 1960-х гг. приводит его устную характеристику ст-ния: «„Оно написано для того, чтобы подчеркнуть фонетическую сторону русского языка. Это характерно только для русского. Французы пробовали перевести на свой язык, да ничего не получилось. В русском языке это от русско-татарской стороны. Не надо в нем искать описания вещей и предметов звуками. Здесь более подчеркнута фонетика звучания слов. Вот у Некрасова:
То заорет: „го-го-го! – ту! ту!! ту!!!“ Вот и нашли – залились на следу.
(Крученых привел еще один пример из поэзии Некрасова, но, к сожалению, я не помню, какой).
Это есть в поэзии негров и в народной поэзии. Часто в детских считалках.
– Да, и у Гильена: „Майомбэ-бомбэ-майомбэ! сенсемайя, змея…“ – добавил я. – Или у детей: „Эники-беники…“
– Пусть попробуют перевести или объяснить“, – закончил Алексей Елисеевич» (Минувшее: Исторический альманах. 12. СПб., 1993. С. 383–384).
78. СМ – Поросята-2, с вар. Автор в совместной с В. Хлебниковым брошюре СКТ приводил это ст-ние как пример, когда «стихом управляет первая ярко выраженная согласная (р. – Сост.): она окрашивает стих и дает повышение стиха, замедление, конец» (СКТ. С. 7). Поэт А. Тиняков отзывался об авторе ст-ния: «Ал. Крученых ненавидит город, но чувства его тоже типично городские, повышенно-нервные, и его стишки о том, как он лежит и греется „на теплой глине близ свиньи“, рождены чисто городским отчаяньем» (Тиняков А. «Комплименты» // Дневники писателей. 1914. № 3/4. С. 25). В. Полонский высказывал мнение, что это ст-ние «не нигилизм, и уж, конечно, не нечаевщина, и совсем не бунт, – это, попросту говоря, – маленькое свинство, от которого, право, совсем не стоит приходить в большой ужас» (Полонский. С. 178). Профессор А. Редько писал по поводу этого ст-ния: «Да, „красота“ есть во всем: есть в африканском идоле, есть и в свиньях с „очервленною щетиной“, стоящих, „хвост завив“. Но если так, то отчего же не превратиться в соседа одной из них? Сказано и мысленно сделано. Поэт Алексей (Александр) Крученых удалился в „покои неги“, лег, стал наслаждаться испарью свинины и запахом псины и „подобрел на аршины“.
При таких условиях понятно, что поэты отрицают сладкозвучие классической поэзии, бранятся словами: „ваш Пушкин“. Они грубы, но откровенны и по-своему „искренни“» (Редько. С. 114). «В будетлянском муравейнике, – писал позже Б. Лившиц, – хозяйственно организованном Давидом Бурлюком, всякая вещь имела определенное назначение. Красовавшаяся перед вратами в становище речет-ворцев навозная куча, на вершине которой, вдыхая запах псины, нежился автор „дыр-бул-щела“, высилась неспроста. Это было первое испытание для всех, кого привлекали шум и гам, доносившиеся из нашего лагеря. Кто только не спотыкался об эту кучу, заграждавшую подступ к хлебниковским грезогам и лебедивам!» (Лившиц. С. 441). «Свиньи, рвота, навоз, ослы – такова его жестокая эстетика». – писал о Крученых К. Чуковский (Шиповник. С. 115). Мясопуст – день, в который, согласно церковному уставу, запрещается принимать мясную пищу.
79. СМ.
80. СМ – Взорваль, без предваряющего ст-ние примеч. А. Редько писал: «Здесь нет, как видите, на самом деле, ни одного слова „захватанного“ и „изнасилованного“; все свежие – все такие же восстановленные в первоначальной чистоте, как слово „еуы“. И этот язык оказывается по А. Крученых целесообразным. Если он не пригоден для обычного разумения, то очень пригоден для „религиозного“ разумения. Он – обличение вещей невидимых. Кроме того, он вообще очень хорош для раскрытия „алогичности жизни“ и ее „тайны“, недоступной логическому мышлению» (Редько. С. 121).
81. Взорваль.
82. Взорваль – Взорваль 2, с тремя добавленными строками.
83. Поросята. К. Чуковский писал, что Крученых заповедует Руси, «чтоб она и впредь, Свинья-Матушка, не вылезала из своей свято-спасительной грязи, – этакий. ей-Богу, свинофил!» (Чуковский 1914. С. 113).
84. Поросята. В 1921 г. Иванов-Разумник, характеризовавший ст-ние как «собственное curriculum vitae[261] <…> одного из былых футуристических мучителей слова», писал: «Это – откровенно, но ведь это же и несомненно. Ибо таков был путь „футуризма“ в России. В своих немногих талантах – он преодолел „nihil“ и вступил в преемственные ряды творчества и жизни; в своих бесчисленных бездарностях – он прошумел восьмьюдесятью миллиардами „квадратных слов“, пустой и старой душой „привыкнул ко всем безобразьям“, а когда „все износились проказы“, то бесшумно погрузился с головой в воды Леты: „мордой уткнулся в Обводный канал“» (Иванов-Разумник. С. 229). Обводный канал – канал в Санкт-Петербурге.
85. Трое.
86. УГАС.
87. Взорваль.
88. ПнС. Постановка оперы была осуществлена на сцене петербургского театра «Луна-парк» во исполнение постановлений Первого всероссийского съезда баячей будущего (см. примеч. 67). Спектакли состоялись 3 и 5 декабря 1913 г. Музыку написал М. Матюшин, декорации и эскизы костюмов создал К. Малевич. Пролог Хлебникова предназначался не только для оперы, но и для других футуристических спектаклей; примеры разрабатываемой им новой театральной терминологии Хлебников приводит в письмах к Крученых (август 1913 г.) (см.: Хлебников СП. Т. V. С. 299–300). Примеры «новых зерцожных слов» приведены и в СКТ:
«обликмен, ликомен. ликарь = актер
особы = действующие липа
людияк = труппа
застенчий = суфлер
деймо, сно, зно = действие, акт
деюга = драма
и т. п.» (СКТ. С. 13). Позже Крученых вспоминал: «Одно дело – писать книги, другое – читать доклады и доводить до ушей публики стихи, а совсем иное – создать театральное зрелище, мятеж красок и звуков, „будетлянский зерцог“, где разгораются страсти и зритель сам готов лезть в драку!
Показать новое зрелище – об этом мечтали я и мои товарищи. И мне представлялась большая сцена в свете прожекторов (не впервые ли?), действующие лица в защитных масках и напружиненных костюмах – машинообразные люди. Движение, звук – все должно было идти по новому руслу, дерзко отбиваясь от кисло-сладенького трафарета, который тогда пожирал все.
Общество „Союз молодежи“, видя засилье театральных старичков и учитывая необычайный эффект наших вечеров, решило поставить дело на широкую ногу, показать миру „первый футуристический театр“. Летом 1913 г. мне и Маяковскому были заказаны пьесы. Надо было их сдать к осени. <…> У меня от спешки <…> получились некоторые недоразумения. В цензуру был послан только текст оперы (музыка тогда не подвергалась предварительной цензуре), и потому на афише пришлось написать:
М. Матюшин, написавший к ней музыку, ходил и все недовольно фыркал:
– Ишь ты, подумаешь, композитор тоже – оперу написал!
Художник Малевич много работал над костюмами и декорациями к моей опере. Хотя в ней и значилась по афише одна женская роль, но, в процессе режиссерской работы, и она была выброшена. Это, кажется, единственная опера в мире, где нет ни одной женской роли! Все делалось с целью подготовить мужественную эпоху, на смену женоподобным Аполлонам и замызганным Афродитам. <…> И вот, в атмосфере, уже подготовленной <…> прессой, вслед за спектаклем Маяковского, 3 и 5 декабря шла моя опера.
Сцена была „оформлена“ так, как я ожидал и хотел. Ослепительный свет прожекторов. Декорации Малевича состояли из больших плоскостей – треугольники, круги, части машин. Действующие лица – в масках, напоминавших современные противогазы. „Ликари“ (актеры) напоминали движущиеся машины. Костюмы по рисункам Малевича же, были построены кубистически: картон и проволока. Это меняло анатомию человека – артисты двигались, скрепленные и направляемые ритмом художника и режиссера.
В пьесе особенно поразили слушателей песни Испуганного (на легких звуках) и Авиатора (из одних согласных) – цели опытные актеры. Публика требовала повторения, но актеры сробели и не вышли.
Хор похоронщиков, построенный на неожиданных срывах и диссонансах, шел под сплошной, могучий рев публики. Это был момент наибольшего „скандала“ на наших спектаклях!
В „Победе“ я исполнял „пролог“, написанный для оперы В. Хлебниковым.
Основная тема пьесы – защита техники, в частности – авиации. Победа техники над космическими силами и над биологизмом.
Солнце…
Заколотим в бетонный дом!
Эти и подобные строчки страшным басом ревели Будетлянские силачи. <…> Впечатление от оперы было настолько ошеломляющим, что когда после „Победы“ начали вызывать автора, главный администратор Фокин, воспользовавшись всеобщей суматохой, заявил публике из ложи:
– Его увезли в сумасшедший дом!
Все же я протискался сквозь кулисы, закивал и раскланялся. Тот же Фокин и его „опричники“ шептали мне:
– Не выходите! Это провокация, публика устроит вам гадость! Но я не послушался, гадости не было. Впереди рукоплещущих я увидал Илью Зданевича, художника Ле-Дантю и студенческую молодежь, – в ее среде были наши горячие поклонники» (Крученых. С. 63–64, 71–72). «В „Победе над солнцем“ мы указывали на выдохшийся эстетизм искусства», – писал Матюшин (КИРА. С. 150). Он же вспоминал о работе над постановкой: «Я объяснил (актерам. – Сост.), что опера имеет глубокое внутреннее содержание, что Нерон и Калигула в одном лице – фигура вечного эстета, не видящего „живое“, а ищущего везде „красивое“ (искусство для искусства), что путешественник по всем векам – это смелый искатель, поэт, художник-прозорливец, и что вся „Победа над солнцем“ есть победа над старым романтизмом, над привычным понятием о солнце как „красоте“. <…> Репетиций было всего две, наспех, кое-как.
Малевич написал великолепные декорации, изображающие сложные машины» (Там же. С. 152). Постановка оперы вызвала многочисленные отклики в прессе, в основном резко отрицательные. Например, обозреватель газеты «Свет» писал: «На сцене разгуливали какие-то чучела в костюмах, похожих на одежду средневековых палачей, и говорили разные нелепости, явно рассчитанные на скандал… <…> Почти после каждой реплики в публике раздавалось какое-нибудь остроумное словечко, и скоро в театре сделалось, вместо одного, два представления: одно на сцене, другое – в публике.
Редкую „музыку“ заменил свист, кстати сказать, очень гармонировавший с сумасшедшими декорациями и тем бредом, который раздавался со сцены. <…> „Победа над солнцем“ кончилась полным поражением футуристов-актеров.
Шиканье и свист превратились в целую бурю» (Опера футуристов // Свет. 1913, 5 декабря. С. 2). О восприятии публикой спектакля писала в «Русских ведомостях» Л. Гуревич: «В том, что они (действующие лица оперы. – Сост.) говорили, минутами можно было уловить какие-то мысли, – о железном веке, о бессилии сильных, о слабости насильников; какие-то фантазии и мечты, – о том, что солнце железного века будет разбито, мы освободимся от закона тяготения и, странно, невыносимо для многих будет это чувство освобождения от связующего мир закона…
И публика минутами, – только минутами, – затихала, словно стараясь пробиться сквозь бред несвязных слов и образов к самому существу „будетлянских душ“, уловить смысл их буйно-анархических фантазий, заглянуть в тайну их человеческого разума, который сумел только громче, чем когда-либо, провозгласить уже далеко не новую, атеистическую догму „Все позволено!“, и вслед затем бессильно закрутился в вихре отрывочных впечатлений, беспокойных, оборванных мыслей, буйных, разрушительных стремлений. <…> Идет какая-то взаимная провокация. Свистки, грубые остроты и издевательские возгласы раздаются с галереи и из партера. В антракте – шумный скандал; требуют городового. С каким-то сладострастием отдаются беснованию, и чувствуется, что для него только, для этого скандала и беснования, многие пришли в театр.
А по окончании пьесы без конца вызывают автора. Все стоят, ждут его: нарядные дамы и величавые старухи в ложах, военные, интеллигенты. Молодые девушки с раскрасневшимися лицами восторженно аплодируют. Неистовствуют студенты. Но громче всех кричат те, которые скандалили во время представления: если автор выйдет, они будут свистеть. Но на этот раз автор, – он же и режиссер пьесы, – не вышел» (Гуревич Л. Театр футуристов // Русские ведомости. 1913, 13 декабря. С. 6). О реакции зрителей писал и М. Матюшин: «В день спектакля оперы, был такой громадный подъем сочувствия и интереса в одной половине публики и такое отчаянно выраженное отвращение в другой, – что за всю мою жизнь в Петербурге, я ни на одной премьере не слыхал и не видал такого возмущения сторон и такого циклопического скандала: Благой мат с одной стороны, – „Вон, – долой футуристов!“ – с другой – „Браво! не мешайте, долой скандалистов!“ Но даже и такой шум и скандал – не мог уничтожить сильного впечатления от оперы. Так сильны были слова своей внутренней силой – так властно и мощно-грозно выявлялись декорации и будетлянские люди, еще никогда нигде невиданные, так нежно и упруго обвивалась музыка вокруг слов, картин и будетлянских людей-силачей, победивших солнце дешевых видимостей и зажегших свой свет, внутри себя.
В этом было столько волшебно неожиданного, что непонятно странным казался этот громадный скандал в зрительном зале… Хотелось крикнуть: Слушайте, радуйтесь явившемуся долгожданному, оно родилось и все равно, как Геркулес уже в люльке задавило вас, возмутившихся против него» (Матюшин М. Футуризм в Петербурге // ПЖРФ. С. 156–157). Театральный деятель А. Мгебров вспоминал о своих впечатлениях от спектакля: «Теперь висел в воздухе настоящий скандал. Занавес взвился и зритель очутился перед вторым из белого коленкора, на котором тремя разнообразными иероглифами изображался сам автор, композитор и художник. Раздался первый аккорд музыки, и второй занавес открылся надвое. Появился глашатай и трубадур – или я не знаю кто – с кровавыми руками, с большим папирусом. Он стал читать пролог. „Довольно!“ – кричала публика. „Скучно… уходите!“
Пролог кончился. Раздались странно воинственные окрики, и следующий занавес снова разодрался надвое. Публика захохотала. Но со сцены зазвучал эффектный и красивый вызов. С высоты спустился картон, который был весь проникнут воинственными красками; на нем, как живые, были нарисованы две воинственные фигуры: два рыцаря. Все это – в кроваво-красном цвете. Вызов был брошен. Теперь началось действие. Самые разнообразные маски приходили и уходили. Менялись задники и менялись настроения. Звучали рожки, гремели выстрелы. Среди действующих картонных и коленкоровых фигур я различил петуха в символическом петушином костюме…
Тут уже окончательно никто ничего не понял; но недоумения было много. Были споры, крики, возбуждение. Вызов был брошен, борьба началась. Кто же с кем? – Неведомо. Где и зачем? – Скажет будущее. Быть может, на смену нынешним футуристам придут иные, более талантливые, более яркие и сильные. Будут ли это футуристы или другие. – не все ли равно… Но эти, наши, теперешние, все же что-то почувствовали; они были более чутки, чем мы; они не постыдились, не убоялись бросить себя на растерзание грубой, дикой, варварской толпе, во имя овладевшего ими творчества. Вот их заслуга, вот их ценность в настоящем» (Мгебров. С. 282–283). Б. Лившиц, считавший самой сильной стороной спектакля сценографическую работу К. Малевича, писал: «…Светящийся фокус „Победы над Солнцем“ вспыхнул совсем в неожиданном месте, в стороне от ее музыкального текста и, разумеется, в астрономическом удалении от либретто.
Как только после хлебниковского пролога („Чернотворские вестучки“), награжденного несмолкаемым хохотом зала, белый коленкоровый занавес разорвали пополам два человека в треуголках, внимание публики сразу было поглощено зрелищем, представшим ей со сцены. <…> То, что сделал К. С. Малевич в „Победе над Солнцем“, не могло не поразить зрителей, переставших ощущать себя слушателями с той минуты, как перед ними разверзлась черная пучина „созерцога“.
Из первозданной ночи щупальцы прожекторов выхватывали по частям то один, то другой предмет и, насыщая его цветом, сообщали ему жизнь. С „феерическими эффектами“, практиковавшимися на тогдашних сценах, это было никак не сравнимо. Новизна и своеобразие приема Малевича заключались прежде всего в использовании света как начала, творящего форму, узаконяющего бытие вещи в пространстве. Принципы, утвердившиеся в живописи еще со времени импрессионизма, впервые переносились в сферу трех измерений. Но импрессионизмом работа Малевича и не пахла. Если с чем и соседила она, то, пожалуй, со скульптурным динамизмом Боччони.
В пределах сценической коробки впервые рождалась живописная стереометрия, устанавливалась строгая система объемов, сводившая до минимума элементы случайности, навязываемой ей извне движениями человеческих фигур. Самые эти фигуры кромсались лезвиями фаров, попеременно лишались рук, ног, головы, ибо для Малевича они были лишь геометрическими телами, подлежавшими не только разложению на составные части, но и совершенному растворению в живописном пространстве.
Единственной реальностью была абстрактная форма, поглощавшая в себе без остатка всю люциферическую суету мира. Вместо квадрата, вместо круга, к которым Малевич уже тогда пытался свести свою живопись, он получил возможность оперировать их объемными коррелятами, кубом и шаром, и, дорвавшись до них, с беспощадностью Савонаролы принялся истреблять все, что ложилось мимо намеченных им осей.
Это была живописная заумь, предварявшая исступленную беспредметность супрематизма, но как разительно отличалась она от той зауми, которую декламировали и пели люди в треуголках и панцирях! Здесь-высокая организованность материала, напряжение, воля, ничего случайного, там – хаос, расхлябанность, произвол, эпилептические судороги…» (Лившиц. С. 448–450). В 1921 г. К. Малевич осуществил постановку оперы в Витебске (декорации и костюмы В. Ермолаевой). В 1920–1921 гг. над проектом электромеханического представления «Победа над Солнцем» работал художник Эль Лисицкий. В предисловии к альбому эскизов, изданному в Ганновере в 1923 г., он так определял идею оперы: «Солнце как выразитель старой Всемирной энергии изгоняется с неба современными людьми, ибо сила их технического господства изобретает новый источник энергии» (цит. по: Эль Лисицкий. 1890–1941. К выставке в залах Государственной Третьяковской галереи. М., 1991. С. 79). Нерон (37–68) – римский император с 54 г., Калигула (12–41) – римский император с 37 г.; оба из династии Юлиев-Клавдиев. Порт-Артур (ныне – Люйшунь) – бывшая русская военно-морская крепость в Китае, во время русско-японской войны 1904–1905 гг., после героической обороны, была сдана противнику. Разбитое солнце… Здравствует тьма! Ср. в ст-нии А. С. Пушкина «Вакхическая песня»: «Да здравствует солнце, да скроется тьма!». мир погибнет а нам нет / конца! Ср. концовку ст-ния Крученых «мир гибнет…» (№ 79).
89. РП. Е. Гуро скончалась 6 мая (23 апреля н. ст.) 1913 г. «Осенний сон» – пьеса Е. Гуро. «…И нежданное и нетерпеливо – ясное было небо между четких вечерних стволов…» – цитата из миниатюры Гуро «Порыв» (Гуро Е. Шарманка: Пьесы, стихи, проза. [СПб., 1909]. С. 85).
90. Тэ ли лэ.
91. Стрелец. Критик Ал. Ожигов (Н. П. Ашешов) писал о ст-нии: «Вы скажете – сумасшествие? Да. Отчего же сумасшедшие не могут говорить с нормальными людьми, если нормальные люди часто глупее сумасшедших? А безумие стоит на границе с гениальностью, – давно это сказано и указано.
Правда, г. Крученых оговаривается, что его „гвоздь в голову“ относится к ощущениям „на Удельной“, т. е. в больнице для психически больных» (Ожигов. С. 168). М. Левидов отзывался о ст-нии следующим образом: «Неистово мрачный А. Крученых озаглавил свой opus: „На Удельной“, – что-то вроде опыта юмористической исповеди сумасшедшего. Стихотворение цельно, выдержанно, но навряд ли талантливо: образы скудны, слова бесцветны <…>. Как видно, футуризм, насколько он выражался в знаменитом „Дыр… Бул… Щур…“ для Крученых уже пройденный этап» (Левидов. С. 11). Удельная – железнодорожная станция в пригороде Санкт-Петербурга, возле которой находился Дом призрения душевнобольных, ныне – психиатрическая больница им. И. И. Скворцова-Степанова.
92. УХ.
93. УХ.
94. СГМ – Миллиорк, без трех последних строк. Дредноут – см. примеч. 71. Канкан (франц. cancan), французский танец, первоначально бальный, с середины XIX в. эстрадный. Пепсин (от греч. pepsis – пищеварение) – пищеварительный фермент, расщепляющий белки. Мандрил – обезьяна рода павианов.
95. СГМ – Миллиорк, с вар. Терпентин (греч. terebinthinos) – смолистая жидкость, выделяющаяся при ранении хвойных деревьев, используемая в качестве сырья для получения канифоли, скипидара, бальзамов. Кубелик Ян (1880–1940) – чешский композитор и скрипач-виртуоз; с 1901 г. неоднократно гастролировал в России.
96. О Р.
97. Замауль. Индиговый – покрашенный индиго, кубовым красителем синего цвета.
98. Замауль.
99. ЦТ.
100. ЦТ.
101. ЦТ.
102. ЦТ.
103. ЦТ.
104. ЦТ.
105. ЦТ.
106. ЦТ.
107. Голодняк – ФС, без загл.
108. Зудесник. Би-ба-бо – кукла, надеваемая на руку.
109. Зудесник.
Василий Каменский*
110. СС-1 – Каменский 1948, под загл. «Жить чудесно!».
111. СС-1 – Каменский 1948, под загл. «Скука старой девы». К. Чуковский писал: «Нигилизм отчаянной удали всегда есть нигилизм отчаянной устали, и прислушайтесь: за всеми их (футуристов. – Сост.) бунтарскими рёвами вы услышите тихие, старые, вечные русские жалобы <…>.
Это (ст-ние. – Сост.) напечатано в первом же футуристическом сборнике, в знаменитом Садке Судей, и, не правда ли, это – коренное, родное, решительно ни у кого не заимствованное!» (Чуковский 1914. С. 133).
112. СС-1 – ЗВ, с вар.
113. ДБ – ИС, с вар., под загл. «Анния». А. Бухов иронически отмечал: «Здесь сердце калям-балям подсказывает поэту целую географию, которую он в сутолоках футуристической жизни не успел основательно пройти в двухклассном приходском училище. Основы географии страшно просты: страны Абиссиния, Апельсиния, Ананасия, Афанасия, Лимония, Хиония, Ватерлиния. Мандариния» (Бухов. С. 13).
114. ПЖРФ – ДБ, с вар., с посв. А. Я. Таирову – ЗВ, с посв.: «Вс. Эм. Мейерхольду – Твоему раздольному темпераменту». Таиров Александр Яковлевич (1885–1950), Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874–1940) – театральные режиссеры.
115. РП.
116. РП. Башня вавилонская – см. примеч. 71.
117-118. Стрелец. Ст-ния, обладая определенной самостоятельностью (первое из них автор неоднократно включал в свои сборники), стали фрагментами романа «Стенька Разин», изданного в Москве в 1915 г. (на обложке – 1916). Позже вошли в поэму «Сердце народное – Стенька Разин» (М., 1918); вторая редакция – «Степан Разин» (Тифлис, 1929). Включены автором в «коллективное представление в 9-ти картинах» «Стенька Разин» (Пг.; М., 1919; переиздание– Харьков, 1923), первое ст-ние как «песня Степана», второе-как «песня Черноярца».
1. Стрелец – ДБ, с посв. В. Хлебникову – ИС, с вар, под загл. «Сарынь на кичку!» Позже Каменский утверждал, что ст-ние было написано еще в 1909–1910 гг., и уже тогда он, «раскаленный молодежью», публично читал его «с огнем в зубах» (Каменский. С. 446). М. Левидов писал о ст-нии: «Вольным волжским простором веет от этой песни, делами давно минувших дней, романтическими страстями 30-х годов, словом это великолепное по подбору сильных, лаконических слов, по выдержанности ритма стихотворение футуриста В. Каменского, автора „железобетонной поэмы“, – скорее из пассе изма, нежели футуризма. Ибо футуризма формы, в смысле ли новых словообразований или особого ритма, а также футуризма содержания тут и помина нет. Ведь помимо всего, стихотворение это написано терцинами – одним из простейших и в то же время классичиейших ритмов русской поэзии» (Левидов. С. 10). «Вввва, – писал А. Бухов, – это звучит пророчески…» (Бухов. С. 15). Сарынь на кичку! – клич волжских разбойников, захвативших судно. Сарынь – толпа людей низкого сословия. Кичка – нос судна. В. Каменский вспоминал: «…Публика горячо аплодировала мне всюду, где я произносил:
Сарынь на кичку!
Однако никто не знал значения этих слов, и никто не спрашивал о смысле, но здоровый инстинкт в данном случае приветствовал заумные слова, созданные понизовой вольницей Разина» (Каменский. С. 486–487).
119. ЧП – ДБ, с посв.: «Давиду Бурлюку» – ЗВ, с посв.: «Вл. Королевичу – с сердечной чарой», без подзаг. – Каменский 1945, без посв. Королевич (наст. фамилия Королев) Владимир Владимирович (1894–1969) – прозаик, поэт, драматург.
120. ЧП – ДБ, с вар., с посв. Е. П. К. (адресат не установлен). Золотухин Георгий Иванович (1886 – не ранее 1942) – издатель и поэт (см. №№ 464–467).
121. ДБ.
122. ДБ.
123. ДБ.
124. ДБ.
125. ДБ – ЗВ, с посв.: «Лидии Ивановне приветно весеннице-вечернице». Адресат не установлен. Симеиз и Алупка – курортные места в Крыму.
126. ДБ.
127. ЕМБ – ИС, с вар., под загл. «Иронический памятник». Я нарочно приехал с Каменки. У реки Каменки, в 40 километрах от Перми, в 1912 г. Каменский купил участок и построил дом. Здесь он до 1932 г. почти ежегодно проводил лето.
128. ЗВ. Ст-ние перекликается с «Декретом о демократизации искусств», опубликованным в ГФ. По воспоминаниям Каменского, свой «декрет» он расклеил «по всей Москве»: «Густые тучи толпились у моего декрета и с удивлением читали неслыханные предложения мастерам искусства.
Я предлагал мастерам, засучив рукава, взяться за роспись всех пустых заборов, крыш, фасадов, стен, тротуаров.
Убежден был в том, что любой город и селенье каждое возможно превратить в изумительную картину красочного торжества, чтобы таким способом украсить, возвеселить улицы новой жизни и тем самым приблизить массы к достижениям художественного мастерства, которое до сих пор тихо хоронилось в музеях, как на кладбищах.
А все эти музеи и выставки очень утомительны от чрезмерного скопленья картин, и туда надо ходить специально в известные часы, будто во храм божий, а тут вышел на улицу – и шагай, и любуйся во все сочные глаза.
Впрочем, музеи и выставки – сами собой, а улицы, наряженные в роспись, оформленные художественно до учета строгой дисциплины, – совсем иное.
Сюда же, разумеется, должны относиться новшества архитектуры. <…> Книги со стихами читают избранные, слово поэтов доходит до массы в жалком количестве, и книгу надо найти, выбрать, заплатить деньги (в библиотеках по одному экземпляру), а тут – на особых уличных щитах постоянно расклеиваются стихи поэтов.
И не в одних стихах суть, но и в коротких рассказах, в статьях, в цитатах из отдельных произведений, в научных сведениях.
Я даже представлял, что на фронтонах домов будут выделаны отдельные цитаты поэтов, как выкованные мысли.
О, непромокаемый энтузиаст, я вообще представлял очень многое в направлении моего декрета.
Мне даже пришлось быть свидетелем частичного осуществления предложений.
На другой день после обнародования моего декрета я шел по Кузнецкому и на углу Неглинной увидел колоссальную толпу и скопление остановившихся трамваев.
Что такое?
Оказалось:
Давид Бурлюк, стоя на громадной пожарной лестнице, приставленной к полукруглому углу дома, прибивал несколько своих картин.
Ему помогала сама толпа, высказывая поощрительные восторги.
Когда я, тронутый вниманием, пробился к другу, стоявшему на лестнице с молотком, гвоздями, картинами и с „риском для жизни“, и крикнул:
– Браво!
Бурлюк мне сердито ответил:
– Не мешайте работать!
Прибитие картин кончилось взрывом аплодисментов толпы по адресу художника.
Тут же к нам подошли люди и сообщили, что сейчас на Пречистенке кто-то вывесил на стенах громадные плакаты с нашими стихами» (Каменский. С. 523–524). А. Крученых охарактеризовал ст-ние как «неслыханный для буржуазного, кабинетно-эстетствующего искусства призыв» (Крученых. С. 99).
129. ЗВ.
Елена Гуро*
130. РП.
131. ОСон. В. В. Иотенберг – см. биографическую заметку о Е. Гуро.
132. ОСон. Жил на свете рыцарь бедный – начальная строка ст-ния А. С. Пушкина. Ср. название неоконченной повести Гуро «Бедный рыцарь» (опубликована в книге: Guro Е. Selected Prose and Poetry. Stockholm. 1988).
133. ОСон.
134. ОСон. В письме к Е. Гуро от 12 января 1913 г. В. Хлебников отмечал: «В „Кузнечиках“ звучит легкая насмешка над другой мелькающей жизнью, но тут же дается ключ к пониманию ее и прощение ошибок и упрямства» (Хлебников НП. С. 364).
135. СС-2.
136. СС-2.
137. СС-2.
138. СС-2.
139. СС-2.
140. СС-2.
141. Трое. В. Шкловский интерпретировал это ст-ние как заумное и, сопоставляя его со ст-нием А. Крученых «Дыр бул щыл…», писал: «Эти стихи и вся теория заумного языка произвели большое впечатление и даже были очередным литературным скандалом. Публика, которая считает себя обязанной следить за тем, чтобы искусство не потерпело какого-нибудь ущерба от руки художников, встретила эти стихи проклятиями, а критика, рассмотрев их с точки зрения науки и демократии, отвергла, скорбя о той дыре, о том Nihil, к которому пришла русская словесность. Говорили много и о шарлатанстве» (Шкловский В. О поэзии и заумном языке // Сборники по теории поэтического языка. Пг., 1916. Вып. 1. С. 2). В СКТ А. Крученых и В. Хлебников писали: «(именно шуят! лиственные деревья шумят, а хвойные шуят)» (СКТ. С. 5). П. Флоренский так отзывался об этом ст-нии: «Это убедительно. Ну, конечно, хвои „шуят“, а не делают при ветре что-либо другое; звук их непрерывен, а шуметь может только прерывистый, прерывающийся колебаниями звук листьев: м в слове „шум“ – есть задержка и разрыв звука. В словах, даже поверхостно разбираемых, часто находится сторона звукоподражательная; тут же она усиливается или дифференцируется» (Флоренский. С. 181).
142. Трое.
143. Трое.
144. Трое.
145. Трое.
146. Трое.
147. Трое.
148. РП.
149. НВ.
150. НВ.
Николай Бурлюк*
151. СС-1.
152. СС-1.
153. СМ – ТТ. без загл.
154. СМ. Эдем – синоним рая.
155. ПЖРФ.
156. ПЖРФ.
157. МК. Нарым – река на Алтае, приток Иртыша. Скудель – глиняный сосуд; в переносном смысле – все преходящее, непостоянное.
158. МК.
159. Затычка.
160. Затычка. Еврейская рубка – вероятно, имеется в виду еврейский погром. Расположенный на берегах Днепра Киев, по воспоминаниям Б. Лившица, «в ту пору был оплотом русского мракобесия, цитаделью махрового черносотенства», где «шовинистическая зараза была особенно сильна» (Лившиц. С. 349, 351).
161. Затычка. Репица – не покрытый шерстью хвост.
162. ВКМ.
163. ВКМ.
164. ВКМ.
Бенедикт Лившиц*
165. ПОВ – Лившиц, под загл. «Пьянитель рая».
166. ДЛ. Позже автор вспоминал: «Приступая к этим вещам (сгнию „Тепло“ и ст-нию в прозе „Люди в пейзаже“. – Сост.), я уже знал, что мне дано перенести в них из опыта смежного искусства: отношения и взаимную функциональную зависимость элементов. Это было довольно общо, но все-таки позволяло ориентироваться» (Лившиц. С. 338). Далее Лившиц воспроизводит процесс создания ст-ния «Тепло»: «Вооруженный каноном сдвинутой конструкции и своими композиционными навыками, я принялся за inlcneur[262].
В левом верхнем углу картины – коричневый комод с выдвинутым ящиком, в котором роется склоненная женская фигура. Правее – желтый четырехугольник распахнутой двери, ведущей в освещенную лампой комнату. В левом нижнем углу – ночное окно, за которым метет буран. Таковы элементы „Тепла“, какими их мог увидеть всякий, став на пороге спальни Людмилы Иосифовны (матери Бурлюков. – Сост.).
Все это надо было „сдвинуть“ метафорой, гиперболой, эпитетом, не нарушив, однако, основных отношений между элементами. Образ анекдотического армянина, красящего селедку в зеленый цвет, „чтобы не узнали“, был для меня в ту пору грозным предостережением. Как „сдвинуть“ картину, не принизив ее до уровня ребуса, не делая из нее шарады, разгадываемой по частям?
Нетрудно было представить себе комод бушменом, во вспоротом животе которого копается медлительный палач – перебирающая что-то в ящике экономка, – „аберрация первой степени“, по моей тогдашней терминологии. Нетрудно было, остановив вращающийся за окном диск снежного вихря, разложить его на семь цветов радуги и превратить в павлиний хвост – „аберрация второй степени“. Гораздо труднее было, раздвигая полюсы в противоположные стороны, увеличивая расстояние между элементами тепла и холода (желтым прямоугольником двери и черно-синим окном), не разомкнуть цепи, не уничтожить контакта.
Необходимо было игру центробежных сил умерить игрою сил центростремительных; вводя, скажем, в окне образ ночного кургана с черепом, уравновешивать его в прямоугольнике двери образом колыбели с задранной кверху пяткой ребенка и таким способом удерживать целое в рамках намеченной композиции. Иными словами: создавая вторую семантическую систему, я стремился во что бы то ни стало сделать ее коррелятом первой, взятой в качестве основы. Так лавировал я между Сциллой армянского анекдота и Харибдой маллармистской символики.
Эта задача до такой степени поглощала все мое внимание, что об остальных элементах стихотворной речи я совершенно забыл: слово, подойдя вплотную к живописи, перестало для меня звучать» (Лившиц. С. 338–339). Бушмен (голл. bosjesman) – представитель коренного населения Южной и Восточной Африки.
167. ДЛ – ВС, под загл. «Ночной вокзал» – КП. без посв. Ст-ние было написано во время поездки Лившица с Д Бурлюком в село Чернянка Таврической губернии, где жила семья Бурлюков. Позже автор вспоминал: «Ночью мы приехали в Николаев. Поезд на Херсон отходил через несколько часов. Надо было ждать на вокзале.
Спать не хотелось. Мир был разворошен и все еще принадлежал мне. Моей на заиндевевшем стекле была подвижная паукообразная тень четверорукого фонаря за окном, отброшенная с перрона освещенным вагоном; моими были блеклые бумажные розы на молочно-белой, залитой пивом, клеенке буфетной стойки; моим был спящий винодел в распахнувшейся хорьковой шубе с хвостами, вздрагивающими при каждом вдохе и выдохе; моим был швейцар в тупоносых суворовских сапогах, переминавшийся в дверях и с вожделением посматривавший на бутерброды под сетчатым колпаком. Все это в тускло-янтарном свете засиженных мухами угольных лампочек, в ржавом громыхании железнодорожной ночи подступало ко мне, и я это брал голыми руками.
Нет, даже не подступало, и я ничего не брал. Это было мной, и надо было просто записать все.
Так, сам собой, возник „Ночной вокзал“» (Лившиц. С. 318–319). В. Каменский писал, что в этом ст-нии автор «ассоциирует мрак бытия с „Ночным вокзалом“» (Каменский. С. 488). Мизерикордия (от лат. misericordia – милосердие) – тонкий кинжал у средневековых рыцарей, которым они убивали смертельно раненных.
168. ПОВ. Андрогин (греч. миф.) – существо, соединяющее в себе черты мужчины и женщины и давшее жизнь человеческому роду. Кратер (греч. krater) – в Древней Греции большая глубокая чаша на ножке с двумя ручками, предназначенная для смешивания вина с водой.
169. ПОВ.
170. СМ – ВС, без посв. Ей же. Ст-ние, как и предыдущее (в СМ), посвящено Вере Александровне Вертер (наст, фамилия – Жукова; 1881–1963) – поэтессе, переводчице, актрисе, жене Лившица с 1915-го по 1921 г.
171. ПОВ.
172. ПОВ. Часы (церк.) – вид службы у православных (заутреня, всенощная и др). Вайя (церк. – слав.) – ветвь; на неделю ваи или вай приходится вербное воскресенье. Клир (от греч. kleros – жребий) – в христианской церкви совокупность священно- и церковнослужителей.
173. РП. Тук (устар.) – одно из значений: сало, жир; отсюда – «тучный» (скот, земля); в библейских текстах часто служит для обозначения жертвоприношения животных. Овен – жертвенный баран.
174. ВС. Акростих (греч. akrostichis) – ст-ние, в котором начальные буквы стихов образуют слово или фразу. Марина – древнегреческий город. Кизил Геракла – возможно, дубина Геракла (из ясеня). Крины (местн.) – лилии. Гоноболь – голубика. Цветущий жезл. По ветхозаветному преданию, расцветший жезл Аарона, старшего брата пророка Моисея, подтвердил его право быть главою колена Левиина (Числ.; 17). Гилея – древнегреческое название области в Скифии. В 1907–1914 гг. в этой местности проживала семья Бурлюков. «Гилея» – одно из наименований группы кубофутуристов (см.: Лившиц. Глава «Гилея»).
175. ММ – ИТБ, с посв. В. Н. Маккавейскому. Маккавейский Владимир Николаевич (1893 или 1891–1920) – поэт, переводчик. Копыта в воздухе. Имеется в виду колесница Славы на триумфальной арке здания Главного штаба (арх. К. Росси, скульпторы С. С. Пименов и В. И. Демут-Малиновский) на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Из царства багреца / Извергнутые чужестранцы. Имеется в виду Зимний дворец (арх. В. В. Растрелли), который до революции был выкрашен в красный цвет, и украшающие его скульптуры, расположенные на крыше. Не цвет медузиной груди… Образ медузы символизировал в поэзии Лившица Санкт-Петербург. Неопубликованная книга стихов о Петербурге носила название «Болотная медуза» (вошла в КП). Да не осудят участь вдовью! В книге воспоминаний «Полутораглазый стрелец» в главе «Лето четырнадцатого года» Лившиц писал: «В то лето мне впервые открылся Петербург: не только в аспекте его едва ли не единственных в мире архитектурных ансамблей, не столько даже в его сущности „болотной медузы“, то есть стихии, все еще не смирившейся перед волей человека и на каждом шагу протестующей против гениальной ошибки Петра. Открылся он мне в своей отрешенности от моря, в своем неполном господстве над Балтикой, которое я тогда воспринимал как лейтмотив „вдовства“, проходящий через весь петербургский период русской истории» (Лившиц. С. 531). Столпа державный взлет – Александровская колонна (арх. О. Монферран). Златой адмиралтейский ирис – шпиль здания Главного Адмиралтейства с корабликом на острие (арх. А. Д. Захаров).
176. Булань. Новая Голландия – небольшой остров, образованный рекой Мойкой и каналами Адмиралтейским и Крюковым. На острове расположен комплекс складских сооружений (арх. С. И. Чевакинский и Ж.-Б. Валлен-Деламот), соединенных аркой над внутренним каналом. Ламотов – от Валлен-Деламот.
Павел Филонов*
177-178. Филонов. Пропевень о проросли мировой. [Пг]: Журавль, |1915]. А. Крученых писал, что «Песня о Ваньке Ключнике» и «Пропевень про красивую преставленицу» написаны «ритмованной сдвиговой прозой (в духе рисунков автора) и сильно напоминают раннюю прозу В. Хлебникова» (Крученых. С. 77). Сам же Хлебников в письме к М. Матюшину (апрель 1915 г.) так отзывался о книге: «От Филонова, как писателя, я жду хороших вещей; и в этой книге есть строчки, которые относятся к лучшему, что написано о войне.
Словом, книжка меня порадовала отсутствием торгашеского начала» (Хлебников НП. С. 378). Сюжет о любви и гибели княгини и ее ключника был распространен в русском песенном фольклоре. Согласно этому сюжету, Ванька-ключник был казнен по приказу князя, княгиня же умерла от горя (см., например: Собрание народных песен П. В. Киреевского. Л., 1983. Т. 1. С. 83, 119, 144 и др.).
177. Явой под деревом знанья… Согласно библейскому сказанию, первые люди – Адам и Ева – были изгнаны из рая за то, что вкусили запретный плод с древа познания добра и зла. Икс-лучи – рентгеновские лучи. Единорог– мифическое животное с телом быка, лошади или козла и длинным прямым рогом на лбу. Командор – персонаж трагедии А. С. Пушкина «Каменный гость». Микола Можайский – Никольский собор (нач. XIX в.) в городе Можайске Московской области. Ченстоховская Богородица – икона «Ченстоховская богоматерь» (XIV в.), находящаяся в костеле монастыря паули-нов в польском городе Ченстохове. Баварский король. Земля Бавария была королевством с 1806-го по 1918 г. Сеяли под бороны медные зубню драконскую… В греческой мифологии посеянные зубы дракона прорастают воинами, которые побивают друг друга. Ивангород – город в тогдашней Люблинской губернии.
178. Сирин – в средневековой мифологии райская птица. Георгий Победоносец – в христианских и мусульманских преданиях воин-мученик.
Ольга Розанова*
179. Искусство. 1919, 22 февраля. Черта, отделяющая пять последних строк текста, порождает предположение, что они образуют автономное ст-ние, тем более что и оно, и следующее за ним в нашей подборке ст-ние также заканчиваются аналогичной чертой. Тарантелла (итал. tarantella) – итальянский народный танец в быстром темпе, сопровождаемый игрой на гитаре, ударами тамбурина и кастаньет. Рантье (франц. rentier) – лицо, живущие на проценты с отдаваемого в ссуду капитала или с ценных бумаг.
180. Искусство. 1919, 22 февраля.
Виктор Шкловский*
181. Взял. И в воинский поезд с другими сажают меня. Осенью 1914 г. Шкловский добровольцем ушел на фронт. Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1859) – русский писатель, автор известных автобиографических книг «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука». Кроме того, написал ряд произведений об охоте. Брем Альфред Эдмунд (1829–1884) – немецкий зоолог, автор «Жизни животных».
182. Взял.
Роман Якобсон*
183. ЗГ.
184. ЗГ. «Позже Якобсон обнаружил опечатку, которая была для него весьма досадной: он написал заумное слово китаяки (в третьей строке стихотворения), которое было напечатано как существующее слово китаянки» (Vallier D. Intimations of a Lingvist: Jakobson as Poet // Language, Poetry and Poetics: The Generation of the 1890s: Jakobson, Trubetzkoy, Majakovskij. Berlin; New York; Amsterdam, 1987. P. 303).
Игорь Северянин*
185. ЗСИЛ. Интродукция (от лат. introductio – введение) – здесь: вступительное стихотворение. Триолет (франц. triolet) – восьмистишие, в котором последние два стиха повторяют первые два, а четвертый стих – первый.
186. ИК – Златолира. пол загл. «Хабанера II». В книге мемуаров «Уснувшие весны» Северянин писал: «Но когда в 1909 г. Ив. Наживим свез мою брошюру „Интуитивные краски“ в Ясную Поляну и прочитал ее Льву Толстому, разразившемуся потоком возмущения по поводу явно иронической „Хабанеры И“, об этом мгновенно всех оповестили московские газетчики… после чего всероссийская пресса подняла вой и дикое улюлюканье, чем и сделала меня сразу известным на всю страну!.. С тех пор каждая моя новая брошюра тщательно комментировалась критикой на все лады, и с легкой руки Толстого… меня стали бранить все. кому не было лень. Журналы стали печатать охотно мои стихи, устроители благотворительных вечеров усиленно приглашали принять в них – в вечерах, а может быть, и в благотворителях – участие…» (цит. по: Северянин И. Стихотворения и поэмы: 1918–1941. М., 1990. С. 382–383). См. также ст-ние «Поэза возмездия» (№ 203). Хабанера (исп. habanera) – кубинский народный танец и песня.
187. КПр, с примеч. Северянина: «Читано автором в концерте О-ва „Труд и Культура“,25-i.п реля 1910 г., в зале Заславского» – ГК, с вар., без примеч. Поэма-миньонет – стихотворная форма, придуманная Северянином.
188. Предгрозье. Ясинский Иероним Иеронимович (1850–1931) – писатель, журналист.
189. ГК.
190. ГК. Шалэ (франц. chalet) – небольшой загородный дом, дача.
191. ГК. Квадрат квадратов – экспериментальная поэтическая форма Северянина: ст-ние, написанное четырехстопным анапестом, состоит из четырех четверостиший, при этом строфы отличаются друг от друга положением стоп в стихах, четырежды меняющимся по определенному принципу. В. Шершеневич писал по поводу этого ст-ния: «Овладев размером, Северянин доводит свою исхищренную технику до поразительной виртуозности. <…> Замечательно не только то, что каждое слово первой строки рифмуется с соответственным словом третьей (то же во II и IV строках), но и то, что в четырех куплетах сделаны все возможные перестановки, что каждая строка читается справа налево и обратно» (ФбМ. С. 91).
192. Пролог – ГК, под загл. «Пролог». Эпиграф из ст-ния М. Лохвицкой «Вы ликуете шумной толпой…» Лохвицкая Мирра Александровна (1869–1905) – поэтесса. Ее Северянин считал предтечей эгофутуризма; «памяти почившей Королевы Поэзии» посвящены его сборники «А сад весной благоухает!..» (СПб., 1909) и «Певица лилий полей Сарона» (СПб., 1910). Фофанов Константин Михайлович (1862–1911) – поэт, также высоко чтимый Северянином, посвятившим ему сборник «Лунные тени: Часть первая» (СПб… 1908). Ассонанс (от франц. assonance – созвучие) – неточная рифма. Иассонансы, точно сабли, / Рубнули рифму сгоряча! Ср. у А. К. Толстого в ст-нии «Коль любить, так без рассудку…»: «Коль ругнуть, так сгоряча. / Коль рубнуть, так уж сплеча!» Рокфор (франц. roquefort) – сорт сыра с плесневым грибком, имеющий острый вкус и запах. Трирема – см. примеч. 22. В пустыне чахлой и пустой. Ср. у А. С. Пушкина в ст-нии «Анчар»: «В пустыне чахлой и скупой…» Тиара (греч. tiara) – головной убор Папы Римского.
193. ПГ. 1912, 12 февраля. – КГ. с поcв. Константину Олимпову. Критик А. Шемшурин, специально занимавшийся выявлением языковых «ошибок» в поэзии Северянина, писал по поводу этого ст-ния: «Если какая ошибка выдает всего более незнание г. Северяниным русского языка, то, именно, это „на струнке“ – вместо „в струнке“. Да, по-русски так и говорят, вытянулся в струнку, держится в струнке. Это страшно грубая ошибка. Ее нельзя спасти никакими ссылками на футуризм, на новое словообразование, на тонкость ощущений и т. п.» (Шемшурин. С. 200). Кок Поль Шарль де (1793–1871) – французский писатель, известный фривольностью своих произведений. Серсо (франц. cerceau) – игра, при которой участники поочередно ловят на палку бросаемые соперниками обручи. Шницлер Артур (1862–1931) – австрийский прозаик и драматург. Кок-тэбль (англ. cook-table) – застольная беседа. Констэбль (англ. constable) – полицейский чин в Великобритании. «Блерио» – марка самолета, названная именем ее изобретателя Луи Блерио. Гауптман Герхарт (1862–1946) – немецкий писатель.
194. Нижегородец. 1912, 9 октября.
195. ГК. Эпиграф из ст-ния М. Лохвицкой «Сопернице». Газэлла (газель) (араб.) – вид монорифмического ст-ния, распространенный в поэзии народов Востока. Пахитоса (исп. pajita) – тонкая папироса.
196. ГК. Кензель – во французской поэзии особая форма стихотворения, состоящего из трех пятистиший. Галыиа – длинная накидка.
197. ГК. В. Ходасевич писал об этом ст-нии: «Эти слова – прекраснейшее оправдание всей поэзии Игоря Северянина. Ими он связывает себя с величайшими заветами русской литературы, являясь в ней не отщепенцем, а лишь новатором» (Ходасевич КТ. С. 492).
198. СЦ. К. Чуковский в связи с этим ст-нием писал о Северянине: «Все, что увидит, почувствует, у него претворяется в музыку, и даже эти коляски, кареты, ведь каждая в его стихе звучит по-своему, имеет свой собственный ритм, свой темп, и мне кажется, если б иностранец, не знающий ни слова по-русски, услышал, например, эти томные звуки:
Я в комфортабельной карете на эллипсических рессорах
Люблю заехать в златополдень на чашку чаю в женоклуб, –
он в самом кадансе стиха почувствовал бы ленивое баюкание эластичных резиновых шин» (Чуковский 1914. С. 96).
199. ОнП. С. Рубенович в своем докладе, прочитанном на «вечере поэз» Северянина, состоявшемся в Политехническом музее в Москве 31 января 1915 г., говорил: «Публика будет смеяться и лакомиться, но если среди нее – не дай Бог, встретится глубокомысленный литературный критик, он послушает, важно покачает головой и скажет: „уж не говоря о том, что многого я здесь не понимаю, должен заметить, что стиль не выдержан: где это слыхано, чтобы мороженник говорил такие слова, как эмблема, популярить, изыски“. Увы, господин критик, вы не многого не понимаете здесь, а лавного; не понимаете, что автор этими словами нарочно как бы показывает из-под костюма мороженника сюртук от петроградского – несомненно, петроградского портного и из-под маски мужика-мороженника выглядывает недвижное холодное лицо поэта денди, космополита и эксцессера, и слышатся слова, намекающие на то, что это просто прихоть, маскарад, грезофарс, chanson russe[263]…» (Рубенович. С. 72–73). Критик В. Шмидт считал, что «едва ли удавалось кому-нибудь с большей удалью и с большим изяществом передать <…> выкрики уличных разносчиков, нахальные, то звонко-переливчатые, то дробно-рассыпчатые» (Шмидт В. Игорь Северянин // Северные записки. 1913. Декабрь. С. 138). Вирелэ (франц. virelai) – шестистрочная строфа в средневековой французской поэзии.
200. Эпилог – ГК, под загл. «Эпилог», с вар. Баязет – город на северо-востоке Турции, в котором русский гарнизон выдержал 23-дневную осаду во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Порт-Артур – см. примеч. 88. Я зрил в Олимпове Иуду. Разрыв Северянина с эгофутуристами осенью 1912 г. был во многом вызван его конфликтом с поэтом Константином Олимповым (Константином Константиновичем Фофановым; 1889–1940), претендовавшим на звание родоначальника эгофутуризма (см. №№ 207–215). Нас стало четверо. Имеется в виду образование в октябре 1911 г. кружка «Едо» (И. Северянин, К. Олимпов, Г. Иванов, Грааль-Арельский), преобразованного в январе 1912 г. в «Академию Эгопоэзии». Бежали двое в тлень болот. Имеется в виду переход весной 1912 г. Г. Иванова и Грааль-Арельского в «Цех поэтов». Зоне (устар.) – ибо, так как.
201. ГК. Фиал (греч. phiale) – древнегреческая чаша для пиров и возлияний богам. Кабриолет (франц. cabriolet) – легкий двухколесный одноконный экипаж на высоком ходу. Колет (от франц. collet – воротник) – широкий отложной воротник в средневековой одежде.
202. МК. С. Рубенович считал, что «эти стихи идут не из самой глубины творчества И. С<еверянина>, они случайны, как результат непонимания, возникшего между поэтом и слушателем» и что «стоит поэту отвернуться от слушателя, побыть с собой и опять горячие волны ощущений сладких, нежных, десертных укачивают его» (Рубанович. С. 71). Ассонанс – см. примеч. 192.
203. РП. Моя вторая «Хабанера» / Взорвалась, точно динамит… То было в девятьсот девятом… – см. примеч. 186. Возгрянул год Наполеона / (Век Эхо громогласных дел!)… – соотносятся даты: 1812 г. (начало Отечественной войны) и 1912 г. Гениальный корсиканец. Наполеон Бонапарт (1769–1821) был уроженцем Корсики. Но острова святой Елены / Мне не угрозен небосклон. Последние годы жизни Наполеон провел в ссылке на острове Св. Елены. Карл Смелый (1433–1477) – герцог Бургундии, возглавивший мятеж против короля Людовика XI.
204. ОС-7.
205. Газ. «Утро России». 1914, 8 марта. С редакторским примеч.:VR, без подзаг. и примеч. «„Поэзу Истребления“ Игоря Северянина следует считать манифестом короля русских футуристов, которым он, с одной стороны, сметает с парнаса своих лже-последователей, а с другой – утверждает свое родство с русской литературой» – Ст-ние написано под влиянием конфликта, произошедшего между кубофутуристами и Северянином во время их совместного турне по югу России в начале 1914 г. Да, Пушкин стар для современья… Пушкин неоднократно был объектом нападок футуристов (см., например, оба манифеста «Пощечина общественному вкусу»). Ср. также у Северянина в «Прологе „Эго-Футуризм“»: «Для нас Державиным стал Пушкин…» Мадлена – персонаж нескольких ст-ний Северянина. Хам Пришедший. Ср. название книги статей Д. Мережковского «Грядущий хам» (СПб., 1906). В 1913 г. В. Маяковский выступал на диспуте в Троицком театре с докладом «Пришедший сам». Ослы на лбах. пьерокостюмы… Во время публичных выступлений футуристы часто эпатировали публику нанесенными на лица рисунками и вызывающей одеждой. И стихотомы… без стихов! По-видимому, подразумеваются некоторые книги А. Крученых (напр. УГДС), книга Василиска Гнедова «Смерть искусству» (см. №№ 263–277) и др. издания. Призывы в смерть! в свинью! в навоз! См. в наст, издании №№ 68 (пролог). 78.83. НеЛермонтова – «с парохода»… Ср. в «Пощечине общественному вкусу»: «Бросить Пушкина. Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода современности».
206. АвШ.
Константин Олимпов*
207. АПН. Ниобея (греч. миф.) – супруга фиванского царя Амфи-она, чрезмерно гордившаяся своими детьми, что привело к их гибели (были поражены стрелами Аполлона и Артемиды). Догаресса (итал. dogaressa) – супруга дожа, высшего правителя в Генуэзской и Венецианской республиках.
208. АПН. Интерлюдия (лат. inter – между и ludus – игра) – небольшой промежуточный эпизод между частями музыкального произведения. Эмпирей (от греч. empyros – огненный) – в античной натурфилософии верхняя часть неба, наполненная огнем; в «Божественной комедии» Данте – место пребывания душ блаженных; в переносном смысле – высь, высота. Феургия. Имеется в виду теургия (греч. theurgia – божественное действие) – вид магии, посредством которой считалось возможным воздействовать на богов и духов, через них – на природу. Культ поэта-теурга, стремящегося реализовать мистические идеи, присущ поэзии символизма. Вальпургия – католическая святая, день памяти которой (с 30 апреля на 1 мая) совпадал с временем ежегодного шабаша ведьм на горе Броккен, так называемой Вальпургиевой ночью. Хоругвь (от монг. оронго – знамя) – полотнище с изображением Христа или святых, укрепленное на древке и носимое при крестных ходах.
209. ЖН. А. Закржевский писал, что в этих стихах Олимпова «замечается уклон в область пророчественного безумия» (Закржевский. С. 113). Заем – см. примеч. 154.
210. ЖН. Хиромантия (греч. cheir – рука и manteia – гадание) – гадание по линиям и бугоркам руки.
211. Ц2. Маринетти Филиппе Томмазо (1876–1944) – итальянский писатель, родоначальник итальянского футуризма.
212. Академия. Эон (от греч. aion – век, эпоха) – отрезок времени геологической истории, объединяющий несколько эр. Орион – экваториальное созвездие. Я На земле Явился В Нервах. Ср. названия двух первых изданий К. Олимпова: «Аэропланные поэзы: Нервник 1. Кровь первая» и «Жонглеры-нервы» (оба – СПб., 1912). «Пенаты» – название усадьбы в поселке Куоккала (ныне Репино), где в 1899–1930 гг. жил художник И. Е. Репин (1844–1930). Тогда Меня Великий Репин / Пером Великим Начертал. Портрет Олимпова работы Репина был помещен на обложке РЧ с подписью под ним: «Константин Олимпов читает свои поэзы в „Пенатах“».
213. Глагол. В верхнем углу листовки – помета: «Цена: одна тысяча рублей за прочтение».
214. ТР. Благовест – звон в один колокол, извещающий о начале службы в церкви.
215. Анафема.
Георгий Иванов*
216. ОнОЦ. Кираса (франц. cuirasse) – защитное вооружение из двух металлических пластин, выгнутых по форме спины и груди и соединенных пряжками на плечах и боках, предмет парадного снаряжения гвардейской кавалерии. Диана (римск. миф.) – богиня охоты и живой природы, олицетворение луны. Скерцо (тал. scherzo) – инструментальное произведение (у Шопена – скерцо для фортепиано).
217. ПГ. 1912, 12 февраля. В следующем выпуске газеты (от 11 марта) 5 и 7 строки ст-ния исправлены на: «Посинел золотистый вечер…» и «За дворцовыми окнами зажглись свечи…». Куртина (франц. courtine) – клумба.
Грааль-Арельский*
218. ПГ. 1912, 12 февраля. Феб (греч. миф.) – второе имя бога Аполлона, покровителя искусства.
219. Дачница. 1912, 22 июня. Куртина – см. примеч. 217.
Иван Игнатьев*
220. ДД – Эшафот, с вар. В. Брюсов отмечал, что это ст-ние трудно «принять», однако признавал, что «все же в известной экспрессивности ему нельзя отказать» (Брюсов. С. 390). Гнедов Василиск (Василий Иванович; 1890–1978) – поэт-эгофутурист (см. №№ 251–282). Вечный Гид – аллюзия на Вечного Жида (Агасфера), еврея-скитальца, согласно легенде, осужденного Богом на вечную жизнь и скитания за то, что не дал Иисусу Христу отдохнуть (или даже ударил Его) на пути на Голгофу.
221. ДА – Эшафот, без загл. и посв. В. Брюсов писал, что в этом ст-нии Игнатьев, «несмотря на несколько темное слово „узой“, <…> далеко не достигает энергии прекрасного стихотворения на ту же тему Ф. Сологуба: „Я Бог таинственного мира…“» (Брюсов. С. 387). Бухов Аркадий Сергеевич (1889–1937) – писатель-юморист и сатирик. Ходим путьми василисковыми. Ср. псевдоним Гнедова – Василиск; также василиск (лат. basiliscus) – мифический чудовищный змей, «царь змей».
222. БнВ. В. Шершеневич вспоминал: «Шум вокруг имени Игнатьева поднялся совершенно неожиданно. В одной из поэм Игнатьев одобрительно отозвался о библейском Онане и об его занятиях. Критика возмутилась и протащила по страницам всех заметок имя Игнатьева. С этого момента Игнатьева узнала широкая публика» (Шершеневич. С. 496). Критик Львов-Рогачевский считал, что появление произведения, воспевающего «прелести так называемого тайного порока», «было в русской поэзии ново, но и… омерзительно» (Львов-Рогачевский. С. 30). Онан – библейский персонаж, умерщвленный Богом за отказ дать свое семя жене умершего брата («изливал… на землю») (Бытие; 38. 4-10); от его имени образовано слово «онанизм».
223. Всегдай.
224. РЧ.
225. РЧ.
226. РЧ – Эшафот, с авторским примеч.: «Р. S. Opus: – 45 написан исключительно для взирания, слушать и говорить его нельзя».
227. Эшафот.
228. Эшафот.
229. Эшафот. Мейерхольд В. Э. – см. примеч. 114.
230. Руконог.
231. Руконог.
232. Руконог. Иисус Навин – согласно Ветхому Завету, помощник и преемник Моисея; с его именем связывается ряд чудес, в том числе остановка солнца и луны.
233. БнВ.
234. Руконог. Ст-ниям, опубликованным в «Руконоге» (№№ 230–232, 234), было предпослано следующее редакторское примеч.: «Печатаемые ниже четыре стихотворения – пока все, что нам удалось добыть из наследия покойного Игнатьева. Первые два были нам присланы д\я этого сборника самим поэтом в ноябре месяце прошлого года, два других извлечены из бумаг покойного П. Широковым. Последнее стихотворение, быть может, несколько разъяснит, что заставило И. В. Игнатьева покинуть нас так неожиданно. – В начале января нам пришлось получить от него письмо, где он выражал надежду, что в будущем „Петербургский Глашатай“ окрепнет и разовьется, однако дело его явно падало. Это и, вероятно, чисто личные причины сделали невозможной жизнь. Мы ждали от Игнатьева очень многого, мы верим, что если бы он продолжал свою деятельность, мы были бы избавлены от многих нелепостей, процветших теперь на покинутой им ниве. – Мы можем лишь пожелать, чтобы другой мир принес поэту меньше горя и обиды; чтобы, алчущий правды поэзии, там обрел бы он животворный ее источник» (Руконог. С. 4).
Павел Широков*
235. Дачница. 1912, 12 июня. Трэн (англ. train – поезд) – здесь, по-видимому, в значении: свадебный поезд.
236. ОнП.
237. РвВ.
238. ДА. «Цех поэтов» – петербургский литературный кружок, существовавший в 1911–1914 гг., в котором формировался акмеизм. В «Цех поэтов» входили Н. Гумилев, С. Городецкий, О. Мандельштам, А. Ахматова и др. Глетчер (нем. Gletscher) – то же, что ледник.
239. КВ. И. Полозов в предисловии к книге писал: «Шевелятся железные губы, нашептывая необычные грезы, тянугся, приникают поцелуем, и ты – безумец… Ты любишь, ты любишь Город, ты не уйдешь от него!..» (КВ. С. II]).
240. КВ. В предисловии к сборнику И. Полозов писал: «П. Широков – поэт Города. Он понимает Город, потому что любит его. Разве не возвещает поэма „Да здравствует Реклама!“ о том, что городская жизнь-нечто новое, что Город даже гения заставляет рекламироваться?» (КВ. С. [I]). Иное мнение было у критика журнала «Златоцвет», считавшего это ст-ние характерным «для психологии русского псевдо-футуризма» и отмечавшего, что автор «пишет о себе так, как будто бы речь идет о патентованном средстве против запора» (Нео. Патентованное средство // Златоцвет. 1914. № 5. С. 15).
Димитрий Крючков*
241. ОУ. Фофанов К. М. – см. примеч. 192. Хитон (греч. chiton) – нижняя одежда древних греков.
242. ЦЛ.
243. БнВ. Фелука (фелюка) (итал. feluca) – небольшое парусное или моторное промысловое судно на южных морях.
244. РЧ. Полундра (от голл. van onder – снизу) – окрик моряков, докеров, пожарных, означающий: «берегись!»
245. ОС-2. Ротонда (итал. rotonda) – длинная женская накидка. Рака (от лат. arca – гроб) – гробница, в которой хранятся останки христианских святых. Номады (греч.) – древнегреческое название кочевников.
246. Руконог. Хламида – мантия, накидка.
Иван Оредеж*
247. ОУ. По поводу этого ст-ния В. Брюсов писал: «Но что же такое эти стихи, как не пересказ „своими словами“ одной из поэм Уота Уитмана?» (Брюсов. С. 388). Ср., например, произведения Уитмена «Песня о себе» и др. Заутреня – утренняя церковная служба. Риза – верхнее церковное облачение священнослужителей. Хоругвь – см. примеч. 208. Галл – римское название представителя кельтов, населявших территорию Галлии. Герма (от греч. herma – подпора) – четырехгранный столб, увенчанный скульптурной головой или бюстом.
Павел Кокорин*
248. MP.
249. MP.
250. MP.
Василиск Гнедов*
251. Нижегородец. 1913, 15 января. Триолет – см. примеч. 185. Феб – см. примеч. 218.
252. ГС. Сам Гнедов так комментировал это ст-ние: «„Уверхаю“ обозначает „улетаю вверх“, а „крыло“ – „крылато“. Нельзя так сказать? А я утверждаю, что можно. И сказал» (комментарий, предоставленный Н. Харджиевым. был опубликован С. Сигеем: Гнедов. С. 140).
253. ГС.
254. ГС.
255. ГС.
256. ГС.
257. ЗК.
258. ЗК.
259. ЗК.
260. Небокопы.
261. Небокопы. По поводу этого и подобных ему ст-ний критик А. Закржевский писал: «Этот язык представляет одну непроглядную темь иероглифов, стихи, написанные на этом языке первобытных людей и сумасшедших, не подлежат пониманию, и может быть, вся их прелесть в том, что никакой венгеров не сможет никогда их расшифровать… Их можно читать нараспев, и тогда получается впечатленье, будто нет ни двадцати веков культуры, ни человеческих понятий и тяжелой логичности, с ними связанной, будто мы вернулись снова к темному звериному раю, и язык наш звериный, и еще царит в слабом сознании бредовое очарование хаоса…» (Закржевский. С. 98–99).
262. РЧ.
263-277. Смерть искусству. И. Игнатьев писал в «пресловии» к книге: «Нарочито ускоряя будущие возможности, некоторые пере-дунчики нашей Литературы торопились свести предложения к словам, слогам и, даже, буквам.
– Дальше нас идти нельзя! – говорили Они. А оказалось льзя.
В последней поэме этой книги Василиск Гнедов Ничем говорит целое Что.
Ему доводилось оголосивать неоднократно все свои поэмы. Последнюю же он читал ритмо-движением. Рука чертила линии: направо слева и наоборот (второю уничтожалась первая, как плюс и минус результатят минус). „Поэма Конца“ и есть „Поэма Ничего“, нуль, как изображается графически. <…>
– Смерть Искусству!..
Тон Автора? Угроза? Нет. Ужас? Вряд ли. Возможно. – Радость? Да. При констатировании конца медлительного кризиса Радость творит Поэму. В Конце Ничто, но сей конец есть предначалие Начала Радости, как Радость Созидателя – Поэта Будущего, Поэта Эгофутуриста, коим я и считаю Василиска Гнедова» (Смерть искусству. С. 2). Обозреватель газеты «Речь» писал: «Доставленный мне „для отзыва“ последний образчик футуристического творчества озаглавлен: „Смерть искусству“ (это напомнило мне объявления о снадобьях: „Смерть мухам, тараканам“ и проч.), и содержит пятнадцать (чтобы не было ошибки, в скобках число означено цифрами – 15) поэм Василиска Гнедова. <…> Поэмы написаны на неизвестном языке, который по звуковому содержанию будет, вероятно, отнесен исследователями к славянской ветви языков.
Есть, впрочем, одна поэма из пятнадцати – на русском языке: это – последняя, пятнадцатая, состоящая из двух слов: „Поэма конца“. Я думаю, что даже г. Брюсов, который написал некогда знаменитое, лирическое стихотворение: „О, закрой свои бледные ноги!“ – найдет, что вдохновение Василиска Гнедова несколько скудно, особенно для эпической поэзии» (Левин Д. Наброски // Речь. 1913, 11 апреля. С. 2). О связи экспериментов Гнедова с моностихом Брюсова писал и А. Шемшурин: «Эти стихотворения называются „поэмами“. Сочинить их через 19 лет после брюсовской строчки, не упоминая о всем памятном еще происшествии на русском Парнасе, – просто неблагодарно. Этою неблагодарностью уничтожается даже вся эволюция „поэм“, они, как известно, постепенно теряют количество слов: есть „поэмы“ в одно слово, как, например: „Издеват.“, есть „поэмы“ в одну букву, напр., „Ю.“, есть „поэма“ даже без букв. Повторяю, что зависимость подобного рода произведений от г. Брюсова для меня вне сомнений» (Шемшурин. С. 21). Сам же Брюсов упоминал об «одном из „крайних“», который «весьма последовательно уже объявил „смерть искусству“ и свою последнюю поэму „читал ритмо-движением“, т. е. движением руки, безо всяких слов» (Брюсов. С. 435). Иронически отозвался о книге К. Чуковский: «Но к чему же сочинять стихи, ежели я – Эго-Бог? И к чему вообще слова, если я во всем мире один? – рассуждает эго-футурист Василиск Гнедов. – Слова нужны лишь „коллективцам“, „общежителям“. И он создает знаменитую поэму без слов: белый, как снег, лист бумаги, на котором ничего не написано» (Шиповник. С. 108). «Чтение» самим Гнедовым его «Поэмы конца» нашло отражение в воспоминаниях очевидцев. Так, В. Пяст писал, что оно состояло «только из одного жеста руки, быстро поднимаемой перед волосами, и резко опускаемой вниз, а затем вправо вбок» (Пяст В. Встречи. М., 1929. С. 263). Другой вариант «чтения» поэмы описывал обозреватель газеты «Свет»: «Подбоченившись, автор-чтец принял воинственную позу.
Затем, став на носок левой ноги и откинув левую руку назад, он правой рукой сделал молча какой-то жест вверх и сошел с эстрады.
Публика смеялась, а автор утверждал, что это самая гениальная поэма» (Футуристы // Свет. 1913, 3 ноября. С. 2). Г. Адамович вспоминал: «На литературных вечерах ему кричали: „Гнедов, поэму конца!.. Василиск, Василиск!“ Он выходил мрачный, с каменным лицом, „именно под Хлебникова“, долго молчал, потом медленно поднимал тяжелый кулак – и вполголоса говорил: „все!“» (Адамович Г. Невозможность поэзии // Опыты. 1958. № 9. С. 50). Из воспоминаний В. Шкловского: «Был еще в полотняной куртке Василиск Гнедов, написавший собрание сочинений страницы в четыре. Там была поэма „Буба-буба“.
На этом она и кончалась.
Была у него еще поэма конца, – она состояла из жеста рукой крест-накрест.
Стихи Гнедова – стихи талантливого человека» (Шкловский В. Случай на производстве // Стройка. 1931. № 11. С. 6). Упоминал в своих мемуарах «Поэму конца» и В. Шершеневич: «Наиболее „левым“ (среди эгофутуристов. – Сост.) был некий молодой человек Василиск Гнедов, которому не давали спать лавры Крученых. Ему показалось недостаточным все словотворчество Крученых, и Гнедов в своей книжке, на последней странице, под названием „Поэма конца“ оставил чистый лист, утверждая, что чистая бумага более выразительна, чем любые слова. После этого трюка Гнедов ждал славы. Слава не пришла. Гнедов зачах» (Шершеневич. С. 495). П. Флоренский писал о концептуальной закономерности появления книги Гнедова: «…Был естественен в истории футуризма и переход к „Поэме“ Василиска Гнедова, где на чистом листе написано одно только слово: „шиш“ (такой „поэмы“ у Гнедова нет; слово „шиш“ написано на последней странице книги А. Крученых „Взорваль“ – Сост.). и, далее, тоже, с позволения сказать, к „поэме“-Чистому листу, где нет ни букв, ни даже знаков. И опять: никто не смеет (– методологически отстраняю все подозрения –), никто не смеет, не залезая в совесть автора, сказать о субъективной его неискренности или об его мистификаторских наклонностях. Нет, в момент такого творчества Василиск Гнедов или А. Крученых мог быть (опять держусь методологического доверия), мог быть очень углубленно живущим и очень подлинно творящим.
Да, творил, но не сотворил. Ему лист бумаги казался, спьяну, дивной поэмой, читатель же держит в руках – лист и только лист. Такой лист может быть самым глубоким из заумных неизреченных глаголов; но их „не леть человеку глаголати“: и заумный язык нуждается в Логосе. Это подобно тому, как бесовское золото, полученное в исступлении магического заклятия, оказывается при свете дня только калом. Когда начисто сглаживается антиномичность языка, то тем самым уничтожается и самый язык» (Флоренский. С. 185–186).
278. Небокопы.
279. КВ. На экземпляре, принадлежавшем А. Крученых, Гнедов зачеркнул эпиграф и написал: «не мой эпиграф» (Гнедов. С. 161). В предисловии к сборнику И. Полозов писал: «Зарождение миров из первичной Тьмы: звезды, тишина… сказки… Разве не мировая сказка эта „Поэма Начала“? Белая, ясная, спокойная сказка о тихом, созерцательном восторге, о радостной, белой грусти, о первой любви человека, порывающего этим нитку благополучия и начинающего вязать сеть своей жизни. Вяжи, Человек!
Василиск Гнедов прошел путь от „начала“ до „конца“. Его знаменитая „поэма конца“ – абсолютное ничто – известная по его книге „Смерть искусству“, промежуточные поэмы и „поэма начала“ показывают его громадную, чуткую воспринимаемость и интуицию» (КВ. С. [1]). Аксамит – вид старинного плотного узорчатого бархата.
280. Руконог. Драхма (греч. drachme) – денежная единица Древней Греции.
281. Руконог.
282. ГФ.
Вадим Шершеневич*
283. Всегдай. Рококо (франц. rococo) – стилевое направление в европейском искусстве первой половины XVIII в.
284. Всегдай.
285. РПудра. В. Львов-Рогачевский, называя «L'art podtique» «программным принципиальным стихотворением» и считая его «подражанием известному стихотворению Верлена на ту же тему», писал, что его «так и хочется петь по-северянински» (Львов-Рогачевский. С. 22). Эгрет (франц. aigrette) – торчащие вверх перо или пучок перьев, украшающие спереди женский головной убор или прическу.
286. ПвВЧ – АП, без загл. В книге воспоминаний «Великолепный очевидец» Шершеневич писал: «Брюсов любил цитировать из Авсония стихотворение в двенадцать строк, в котором каждому императору посвящено по одной строке, полностью исчерпывающей характеристику данного императора. <…> Я как-то послал Брюсову стихотворение, подобное авсоньевскому. <…> В словах, не разбитых интервалами, можно прочесть: „Валерию Брюсову“ – по диагонали и: „Or автора“ – по вертикали.
Брюсов немедленно ответил неопубликованным таким же стихотворением, в котором по двум диагоналям можно было прочесть: „Подражать Авсонию уже мастерство“, а по вертикалям: „Вадиму Шершеневичу – от Валерия Брюсова“.
К сожалению, все письма и стихи (нигде не напечатанные) Брюсова у меня пропали» (Шершеневич. С. 457). Клипер (англ. clipper) – быстроходное морское парусное судно.
287. ПвВЧ – АП, без загл., без посв. Вечный Жид – см. примеч. 221.
288. ПвВЧ. Эпиграф – из ст-ния Хрисанфа «Мне страшно, как будто я медиум…». Кодак – марка фотоаппарата. Апис (егип. миф.) – священный бык. почитавшийся как земное воплощение бога Пта.
289. КЗ. Благовест – см. примеч. 214.
290. КЗ – АП, без загл. Моноплан (от греч. monos – один и лат. planum – плоскость) – самолет, имеющий одно крыло, расположенное по обе стороны фюзеляжа.
291. КЗ.
292. КЗ.
293. ЭФ – АЛ., без загл., с вар.; рифмующиеся слоги из начала четвертых стихов каждого четверостишия перенесены в конец третьих. Например:
Стучу, и из каждой буквы.
Особенно из неприличной.
Под странный стук вы –
лезает карлик анемичный.
В руке у него фиалки,
В другой – перочинный ножик.
Он смеяться устал, ки –
вая зигзагом ножек.
и т. д.
294. ОС-3 – ПЖРФ, с вар.
295. ПЖРФ.
296. ПЖРФ. Позже вошло в «монологическую драму» Шершеневича «Быстрь» ([М], 1916). Эгрет – см. примеч. 285.
297. ПЖРФ. Изабелловые – бледно-соломенного цвета. Макао (порт. macao) – род карточной игры.
298. СП. Тэф Тэф – по-видимому, автомобиль (ср. нем. toff-toff).
299. СП.
Константин Большаков*
300. СвП.
301. КЗ.
302. СвП. В. Шершеневич считал «Городскую весну» «отличным примером стихотворения, неологизмы которого воспринимаются образно, через звук» (ЗУ. С. 32). Позже он вспоминал: «Читал он (Большаков. – Сост.) ее мурлыкающим голосом, слегка грассируя.
„Весна“ начиналась так: „Эсмерами вердоми трувёрит весна“, следующие строки были не более понятны слушателю. Никто не думал о том, что „эсмерами“. „вердоми“ – это просто творительные падежи каких-то весенних слов, нашедших свое заключение в рефрене:
Алиель! Бескрылатость надкрылий пропели.
Эсмерами вердоми трувёрит весна.
Но Большаков так изумительно мурлыкал эти строки, что стихи убеждали без филологических пояснений. В печати оно много потеряло, но оно уже было боевым кличем, вроде „дыр бул щур“ Крученых» (Шершеневич. С. 528–529).
303. СвП.
304. СвП.
305. КЗ, с вар. – СнИ, без строфы 3.
306. ПЖРФ – СнИ, без. загл., с вар.
307. ПЖРФ – СнИ, без загл.
308. Ц2. Эгерт Юрий Александрович – поэт и критик, друг Большакова.
309. Ц2 – СнИ, с посв. Михаилу Кузмину. Берилловый – от берилл (греч. beryllos), минерал подкласса кольцевых селикатов; благородные бериллы (аквамарин и изумруд) являются драгоценными камнями.
310. Пета – СнИ, с посв. Л. Ю. Брик. Chemin de fer – род карточной игры.
311. Поэма. Глава 4 была опубликована в «Новом журнале для всех» (1915, № 12); глава 5 – в альманахе «Студенчество жертвам войны» (М., 1916). Публикуется с цензурными купюрами. Восстановленный текст см.: Большаков К. Бегство пленных, или История страданий и гибели поручика Тенгинского пехотного полка Михаила Лермонтова: Роман; Стихотворения. М., 1991. С. 270–278. Рецензент (Д. Выгодский) писал, что в поэме «есть места, согретые подлинным творческим жаром, таким редким в „военной“ поэзии наших дней» (Летопись. 1916. Сентябрь. С. 312). В. Ходасевич так оценивал поэму: «Беда г. Большакова в том, что он футурист. Справедливость требует упомянуть, что он был одним из начинателей этого движения в России и, так сказать, родился футуристом, а не сделался им. Никто не сможет упрекнуть г. Большакова в том, что он примкнул к футуризму ради моды (а мода была: что греха таить?) и стал писать по общедоступному футуристическому шаблону. Нет, он сам был одним из создателей этого шаблона. Но, конечно, стихи его отгого не хуже и не лучше, чем они суть. Футуристская „noblesse“[264] обязывает молодого автора то без всякой нужды так запутать фразу, что не скоро отыщешь в ней подлежащее и сказуемое, то написать целую строку ради головоломной рифмы, то среди самых простых признаний спохватиться, что ведь он урбанист, и начать громоздить небоскребы на трубы, моторы на тротуары и т. д. Но за всеми футуристскими ненужностями г. Большакова угадывается то, что не дано другим его товарищам по „школе“: поэтический склад души и неподдельный лиризм, который откроется тому, кто не поленится разгадать футуристический шифр этой книжечки. Г. Большаков сумел сделать так, что в смутных стихах „Поэмы событий“, лирически отражающей один эпизод текущей войны, звучат настоящее горе и настоящая нежность. Хотелось бы надеяться, что со временем он будет писать не футуристические, а просто хорошие стихи. Но столько надежд не сбылось в последние годы, что я с крайней робостью высказываю и эту» (Ходасевич КТ. С. 506). Эгерт Ю. А. – см. примеч. 308. Тулья – часть шапки, покрывающая голову сверху. Антиной (?-130) – греческий юноша, любимец римского императора Адриана, обожествленный после смерти; считался идеалом красоты. «Сердце в перчатке» – см. СвП. Строились в роты понабранным петитом словам. Петитом печатались в газетах списки имен погибших на войне. Ср. у В. Маяковского в поэме «Война и мир» (<1915–1916>): «…Пока не оплачут твои глаза / под рубрикой / „убитые“ / набранного петитом». Выстроить склепом великолепным у Иверской. В 90-х гг. XVIII в. около Воскресенских (Иверских) ворот в Москве была сооружена каменная часовня для иконы Иверской богоматери (список с иконы Афонского монастыря). Иеринг Рудольф фон (1818–1892) – немецкий юрист, теоретик права. Берилл – см. примеч. 309. «Русские ведомости» – одна из крупнейших русских газет, выходившая в Москве в 1863–1918 гт. Прекрасная Дама – образ, воспеваемый в средневековой рыцарской поэзии; в русской литературе – один из главных образов поэзии А. Блока. Клирос – см. примеч. 71. Глетчер – см. примеч. 238.
312. Пета. Атлант (греч. миф.) – титан, держащий на своих плечах небесный свод в наказание за участие в борьбе титанов против олимпийских богов. Малларме Стефан (1842–1898) – французский поэт-символист. Бордо – сорт вина.
313. СнИ. Загл. ст-ния связано с загл. предшествующих ст-ний сборника: «Молитва любимой» и «Еще молитва».
Рюрик Ивнев*
314. ПП.
315. ПП.
316. ОС-4 –ЗС, без загл., с вар.
317. Руконог.
318. Ц2.
319. ПП.
320. ММ.
Хрисанф*
321. ПвВЧ. Беатриче – женский образ, воспетый Данте Алигьери, явившийся в его произведениях «Новая Жизнь» и «Божественная комедия» олицетворением любви, чистоты и божественной мудрости.
322. КЗ.
323. КЗ. Самум (араб.) – название сухого горячего ветра в пустынях Северной Африки и Аравийского полуострова.
324. КЗ. Декокт (лат. decoctum) – отвар из лекарственных растений.
325. КЗ. Тарантелла – см. примеч. 179.
Сергей Третьяков*
326. ПвВЧ.
327. Нижегородец. 1914, 21 августа.
328. КЗ.
329. КЗ.
330. ЖП.
331. ЖП. Мастодонт (от греч. mastos – грудь и odus – зуб) – вымершее млекопитающее семейства хоботных.
332. АвО – ЖП, без посв. Сполагоря – легко, вольно.
333. Творчество. 1921. № 7. В. Брюсов назвал «Рыд матерный» «прекрасной диалогической поэмой» (Брюсов. С. 596). Зенки (устар.) – глаза. Баской – см. примеч. 3. Гай (укр.) – небольшая роща.
Борис Лавренев*
334. КЗ. Фуга (итал. fuga) – музыкальное произведение имитационно-полифонического склада. Терция (от лат. tertia – третья) и кварта (от лат. quarta – четвертая) – названия музыкальных интервалов. Семеро белых мышей. Так называемый большой ковш созвездия Большая медведица образован семью звездами. Готтентоты – коренное население Южной Африки.
335. БМ.
Сергей Бобров*
336. лл.
337. Руконог – ЛЛ. с посв. Борису Пастернаку, с эпиграфом «О, правьте же путь в страну Гипербореев!» (неточная цитата из ст-ния Ив. Коневского «Море житейское»). Дай, богиня, воспеть несравненно… Ср. начало «Илиады» Гомера: «Гнев, богиня, воспой…» Амбра (франц. ambre) – вещество, образующееся в пищевом тракте кашалота, применяемое для придания стойкости запаху духов. Эманировать (от позднелат. emanatio – истечение) – одно из значений: выделять радиоактивные изотопы родона из твердых веществ, содержащих изотопы радия. Догнцигская водка – от Данциг (бывшее немецкое название польского города Гданьск).
338. Руконог. Ст-ние является своего рода поэтической декларацией группы «Центрифуга».
339. Руконог. Эпиграф – начальная строка четверостишия И. Игнатьева, опубликованного на обложке сборника «Небокопы».
340. Руконог. Подпись – «Мар Иолэн» (один из псевдонимов Боброва) – ЛЛ, с посв.: «Памяти Божидара». Божидар (Богдан Петрович Гордеев; 1894–1914) – поэт, стиховед (см. №№ 377–389). Лена – река в Сибири.
341. Ц2.
342. Ц2 – ЛЛ, с вар. Родосский – от Родос (остров в Эгейском море). Бруствер (от нем. Brustwehr – защита груди) – насыпь впереди окопа или траншеи для защиты бойцов от неприятельского огня. Бризантный (от франц. brisant – дробящий) – разрывной.
343. Ц2 – ЛЛ, с вар. и посв. И. А. Аксенову. Аксенов Иван Александрович (1884–1935) – поэт, драматург, искусствовед (см. №№ 373–376).
344. Пета.
345. МП. Пэан (от греч. paiant – гимн) – первоначально заклина-тельная песнь, обращенная к богу Аполлону; позднее – стихотворное восхваление. Самшит (перс.) – род вечнозеленых кустарников или деревьев. Уншиу – наиболее распространенный вид мандарина.
Николай Асеев*
346. Заветы. 1913. № 12. – НФ, в вар., с посв. Юлиану Анисимову. Анисимов Юлиан Павлович (1886–1940) – поэт, переводчик, искусствовед; вместе с Асеевым и Бобровым был членом группы «Лирика» и участником одноименного альманаха (М., 1913). Лал – см. примеч. 4.
347. НФ. Гончарова Наталия Сергеевна (1881–1962) – художница. Фаренгейт Габриэль Даниель (1686–1736) – немецкий физик, предложивший температурную шкалу, названную его именем.
348. Леторей. Ясовка – сорт яблонь.
349. Зор, под загл. «Звенчаль конная, пенная немецкой стали» – Оксана, с вар., под загл. «Песня сотен» – Асеев 1957, под загл. «Песня запорожцев». Печ. по: Оксана. Тулумбас – старинный музыкальный инструмент, род литавр. Доломан (венг. dolmany) – гусарский мундир. расшитый шнурами. Истрь – древнее название Дуная. Харалужье – неологизм от «харалуг» (сталь, булат). Сутемь – сумерки.
350. Зор, под загл. «Гремль II» – Оксана, под загл. «Гремль – 1914 год» – Асеев 1928. Т. 1, под загл. «Кремль – 1914 год» – Асеев 1957, под загл. «Кремль начала века» – Асеев. Т. 1, под загл. «Гремль». Печ. по: Оксана. Позже Асеев писал: «Почему „проплескавшего“, почему „плашменной“ лапой? И, наконец, что это за „светлошапая весна“? Так спрашивали, должно быть, меня тогда. А потому, что цокот копыт по булыжной мостовой в самом деле был похож на плеск весла по воде, а то, что копыто ложится плашмя, – широкое копыто рысака, это и подчеркивает его плеск о камень. А „светлошапая“, по-моему, уж совсем понятно всякому. Ведь облака, белые как пуховая шапка, плывут весной так высоко; вот и светлошапая весна! Ощущение весны над Кремлем и контраста от столпившихся у Иверской калек, нищих, уродов было настолько резко, что об этом нельзя было не написать» (Асеев Н. Моя жизнь // Советские писатели: Автобиографии в двух томах. М., 1959. Т. I. С. 94). Иван Великий – колокольня московского кремля. Калики – нищие. Сыта – медовый напиток. Вериги – цепи, оковы, носимые на теле для смирения плоти.
351. Руконог. Гудошная – от устаревшего «гудок» (род скрипки). Титло (от греч. titlos – надпись) – надстрочный знак, указывающий на сокращенное написание слова в средневековых латинских, греческих и славянских рукописях. Баян – поэт, певец, упоминаемый в «Слове о полку Игореве».
352. Руконог – Асеев 1928. Т. 1, под загл. «Щепоть». Поян – захвачен, взят. Мга – сырой холодный туман.
353. Леторей – Оксана, без строфы 2. Асеев вспоминал: «Помню, как шел однажды по улице и в глаза мне бросилась вывеска над сенной лавкой: „Продажа овса и сена“. Близость звучания ее и похожесть на надоевший церковный возглас „Во имя отца и сына“ – создало в воображении пародийную строку из этих двух близкоcзвучащих обиходных словесных групп.<…> Радовала меня, помню, стройность звуковых волн, впервые улегшихся в интонационно-ритмическую последовательность, не скованную никакими правилами метра. Ирония взаимно перекликающихся звучаний в первых двух строках противопоставила себе пафос двух следующих:
улиц – глухо
руби – грохот
глупое –
глухое
ухо.
Эти вздохи и уханье уличной жизни казались соответствующими и смысловому содержанию стихотворения» (Асеев Н. Работа над стихом. Л., 1929. С. 54–55).
354. Леторей. Ст-ние послужило поводом для временной конфискации цензурой тиража сборника. Капкан для ловли блох… Ср. в трагедии «Владимир Маяковский»: «У меня есть знакомый / он двадцать пять лет / работает / над капканом для ловли блох».
355. Леторей. Рецензент писал, что в этом ст-нии «любовь к настоящему слову заставляет поэта „выбивать на ветре“ действительно сильные слова» (ММ. С. 95). Гирло – местное название рукавов или проток в дельтах рек, впадающих в Черное и Азовское моря.
356. Взял – Избрань, под загл. «Я знаю».
357. ММ – ОКДО, с дабавлением двух строк. Пан (греч. миф.) – первоначально бог стад, покровитель пастухов, затем всей природы.
358. Пета – Избрань, под. загл. «За отряд улетевших уток». Асеев вспоминал: «В молодости мной написано было стихотворение, буквальный смысл которого я сам, признаться, понимал плохо, но оно мне казалось правдивым. Стихи были об отлетающих к югу птицах. <…> И лишь позже, старым человеком, я понял, что эти стихи были об отлетающем времени, ощущение которого реализовалось через стаи птиц, летящих к югу. Это были предвестники осени, предвестники старости, ощущавшейся вместе с осенью» (Асеев. Т. 5. С. 426).
359. Оксана – Бомба, с вар., под загл. «Гляжу вперед».
360. Оксана – Избрань, под загл. «Осмейте». Оксана – Асеева (Синякова) Ксения Михайловна (1893–1985), жена Н. Асеева.
361-364. Газ. «Дальневосточное обозрение». 1918, 18 декабря, под загл. «Тайга». Печ. по: Бомба.
Борис Пастернак*
365. Руконог. Алтын (от татар, алтын – золото) – старинная русская монета. Загреб – город в Хорватии.
366. Руконог. Иван Великий – см. примеч. 350. Твердо, слово, рцы – старославянское название букв Т, С и Р.
367. Газ. «Новь». 1914, 20 ноября, включено в подборку антивоенных ст-ний «Траурное ура!» – ПБ-17, с вар. и цензурными купюрами. Начальная строка ст-ния послужила эпиграфом к 5-й главе первой части поэмы Пастернака «Лейтенант Шмидт» при ее первой публикации (в дальнейшем эпиграф был снят); глава посвящена царскому манифесту 17 октября 1905 г. Ряд деталей ст-ния (кормило, капитанский мостик и др.), а также характер его использования в «Лейтенанте Шмидте» дают основание предполагать, что в заглавном образе ст-ния, помимо заявки Пастернака на изображение варианта судьбы интеллигента («вольноопределяющегося»), содержится и другой план – намек на царя (Николая II). Кормило – руль. Гаубица (нем. Haubitze) – артиллерийское орудие для навесной стрельбы по скрытым целям.
368. ВКМ – ПБ-17, под загл. «Метель» – ПБ-29, объединено со ст-нием «Сочельник» под загл. «Метель».
369. ВКМ – ПБ-17, под загл. «Импровизация» – Избранное, с вар. Рулада (франц. roulade) – быстрый, виртуозный пассаж в пении.
370. ПБ-17 – Новый мир. 1928. № 12, другая редакция, с посвящением В. Маяковскому. …К саженным глазам… / Наподобие общих могильных ям. Ср. у В. Маяковского в поэме «Флейта-позвоночник» (<1915>): «Ямами двух могил / вырылись в лице твоем глаза».
371. ПБ-17 – ПБ-29, без четвертой строфы. Я понял жизни цель… Перефразируется строка из ст-ния А. С. Пушкина «К вельможе»; «Ты понял жизни цель: счастливый человек…» Берковец – мера веса (10 пудов).
372. ПБ-17 –ВСП, с вар. – ИСт, с вар. – Звезда. 1928. № 9, другая редакция. Марбург (Марбург-ан-дер-Лан) – город в Германии; летом 1912 г. Пастернак занимался философией в Марбургском университете у Г. Когена и П. Наторпа; в Марбурге он пережил любовную драму, описанную позже во второй части автобиографической книги «Охранная грамота». Пеньюар (франц. peignoir) – утреннее женское платье. Хитон (греч. chiton) – род широкой падающей одежды у древних греков или одежда танцовщицы. Матинэ (от франц. matin – утро) – утренний женский халат…Мне больно, довольно… и далее. Ср. ст-ние И. Северянина «Тиана» (№ 204). Арника – растение семейства сложноцветных. Каменный памятник и каменный гость – аллюзия на трагедию А. С. Пушкина «Каменный гость». Портплед (от франц. porter носить и англ. plaid – плед) – дорожная сумка (для пледа). Лишь ужасом белым оплавится дом… Ср. в поэме В. Маяковского «Флейта-позвоночник» (<1915>): «…Морда комнаты выкосилась ужасом».
Иван Аксенов*
373. НО. Эриманфийский страх. Согласно греческому мифу, живший в Эриманфе (горном кряже в Пелопоннесе) вепрь до того, как был пойман Гераклом, наводил ужас на местных жителей. Апотропические – от греч. корней аро (из, от, без) и tropos (поворот, направление). Гай – народ в Южном Китае. Безграалие – неологизм, образованный от слова «Грааль», – так называлась чаша, которая, по преданию, служила Христу и апостолам во время Тайной вечери и в которую Иосиф Аримафейский собрал кровь распятого Христа. ОТЧЕго НЕ мЕДнОе оТВОРЯТь? Ср. слова распятого Христа: «Отче! прости им. ибо не ведают, что творят» (Лк.: 23, 34). Каприфоль (от лат. caprifolium – козлиный лист) – вьющийся кустарник семейства жимолостных. Кукуй – здесь, по-видимому, немецкая слобода. Что, сынку, помогли тебе твои ляхи? – цитата из повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба».
374. НО. Каденца (итал. cadenza) – гармонический или мелодический оборот, завершающий музыкальное построение. Кенотаф (греч. kenotaphion) – могильный холм или каменная гробница, не содержащие погребения, создаваемые в случаях, когда умершего на чужбине нельзя было похоронить. Тризна – часть погребального обряда, поминовение усопшего.
375. НО. Энтропия (от греч. en – внутри и thrope – превращение) – мера внутренней неупорядоченности системы; возрастание энтропии характеризует необратимость процесса. Паки (устар.) – опять, еще.
376. НО. Кармин (франц. carmin) – красный краситель, используемый в пищевой и парфюмерной промышленностях.
Божидар*
377. Руконог. С пометой: «читается: В = Б; V = В, Е = ЙЕ; И = Й; N = Н».
378. Временник-1.
379-387 – Byben. Печ. по: Бубен. В редакционном примеч. авторские знаки, встречающиеся в ст-ниях, объяснялись следующим образом: «знак || = пауза в стихе <…>; – = метрическая стопа».
379. Byben – Бубен. В примеч. к ст-нию указано, что оно написано в Москве.
380. Byben – Бубен. Ст-ние сопровождено цитатой из сказочной повести Э. Т. А. Гофмана «Золотой горшок». С. Бобров писал, что в этом ст-нии «поэт для изложения и описания своего душевного состояния воспользовался прекрасным образом Т. Гофмана, образом студента Ансельма. заключенного в стекло» (Ц2. С. 93). В примечании к ст-нию указано, что оно написано в Москве и что «в рукописи каждая вторая строка строфы заключена в тире (–)».
381. Byben – Бубен. Первоначальное название ст-ния «Солнцевая Хородиа». Полигимния (греч. миф.) – муза, покровительница гимнической поэзии.
382. Byben – Бубен. В примеч. к ст-нию сообщается, что «по первоначальному замыслу название стихотворения должно было послужить для названия всей книги стихов». Берковец – см. примеч. 371. Бонза (франц. bonze) – буддийский монах в странах Азии; в переносном смысле – надменный, чванный человек.
383. Byben, под загл. «Скука» – Бубен.
384. Byben – Бубен.
385. Byben – Бубен. Синякова (Синякова-Уречина) Мария Михайловна (1898–1984) – художница, одна из пяти сестер Синяковых, близких к футуристическим кругам; оформляла футуристические издания; ее подпись стоит под воззванием «Труба марсиан». Ость – острие, острога.
386. Byben – Бубен. Перун (слав, миф.) – бог грозы. Ярун – здесь, по-видимому, от имени Ярилы (слав, миф.), бога весеннего плодородия; в широком смысле – яростный человек.
387. Byben – Бубен. Дажбожий – от имени Дажьбога (вост. – слав. миф.), бога солнца.
388-389. Бубен. С редакторским примечанием. «Следующие два стихотворения печ. впервые. Из материалов собранных Божидаром для второго издания „Бубна“» Петников Григорий Николаевич (1894–1971) – поэт, один из организаторов футуристического издательства «Лирень» (см. №№ 390–405). 1. Рената; Ангел заклубит тенью огненною; Запляшет Сарраска… – аллюзии на роман В. Брюсова «Огненный ангел». Брокенское плоскогорье – гора Броккен в Германии, на которой, по народным поверьям, в ночь на 1 мая (так наз. Вальпургиеву ночь) на великий шабаш слетаются ведьмы. 2. Бубен – Ц2, с двумя добавленными строфами. Зенки – см. примеч. 333.
Григорий Петников*
390. Леторей. Вера – трава. Путик – подорожник. Коло – колесо.
391. Леторей. Гонитва – конская скачка. Дышло – одиночная оглобля. Дыхи – ноздри лошади. Тутень – конский топот. Прове (балт, – слав. миф.) – бог, связанный со священными дубами, лесами и рощами. Кунак (от тюрк, кунак) – друг иноплеменного происхождения. Добродий (укр. добродш) – благодетель. Обоямо (устар.) – с обеих сторон. Брама – городские ворота.
392. Леторей.
393. ПС-2 – НМ, без загл. – ПТС, под загл. «Я принимаю синеглазых». Дивеев скит – возможно, имееется в виду Дивеевский-Серафимов монастырь в Нижегородской губернии.
394. ПС.
395. КМЗС. Бруни Николай Александрович (1891–1938) – поэт, прозаик, входил в «Цех поэтов». Гай – см. примеч. 333.
396. ПТ. 1920. № 6/7. – КМЗС, под загл. «Твоих тишин» – НМ, под загл. «Август» – КИС, под загл. «Твоих тишин» и указанием места и иной даты написания: «Кр(асная) Поляна, 1915». Синякова Вера Михайловна (1985–1973) – одна из сестер Синяковых, близких к футуристическим кругам. Серпень (укр.) – август. Рядно – мешок из грубой материи. Плахта – головной платок.
397. КМЗС – КИС, под загл. «Лицом к весне», без посв. – Лирика, под. загл. «Апрель», с вар. Синякова – см. примеч. 396.
398. ПС – ММира, с вар. – Стихотворения, с вар., с датой: «1915». Моряна – см. примеч. 15.
399. ПС – ПС-2, под загл. «Узор сна» – Стихотворения, с вар., под загл. «Чусовая», с указанием места написания: «Пермь». Чусовая – река на Урале, левый приток Камы. Лей (места.) – ливень.
400. ПС – ПТ. 1919. № 5, без первой строки – ПС-2, с вар. Ра (др. – егип. миф.) – бог солнца, почитавшийся как царь и отец богов. Муром – город во Владимирской губернии. Млава – город в Польше.
401. КМЗС – Стихотворения, с вар. – ЗКн, с вар. Ясенец – первый бесснежный лед. Сретенье – один из наиболее значительных праздников православной церкви, отмечаемый 15 февраля.
402. КМЗС. Кивер (польск. kiwior) – военный высокий головной убор.
403. Булань. Райна (устар.; совр. – рей) – брус, горизонтально присоединенный к мачте судна, предназначенный для прикрепления парусов и управления ими. Роняю снега марии. День памяти св. Марии Египетской (I апреля) назывался в русском народе днем Марии-зажги-снега. Ср. загл. сборника Петникова КМЗС.
404. Заумники.
405. Заумники.
Федор Платов*
406. Ц2.
407. Ц2. Фавн (римск. миф.) – бог плодородия, покровитель скотоводства, полей и лесов.
408. Ц2.
409. Ц2.
410. Ц2.
411. Ц2.
Борис Кушнер*
412. Ц2.
413. Ц2. Гордиев узел – согласно древнегреческой легенде, запутанный узел, которым фригийский царь Гордий привязал ярмо к дышлу телеги и который был разрублен мечом Александром Македонским. Фаэтон (греч. миф.) – сын бога солнца Гелиоса; был поражен молнией Зевса за то, что, управляя колесницей отца, не смог сдержать коней, которые едва не спалили землю.
Илья Зданевич*
414. Зданевич И. Янко крУль албАнскай. [Тифлис]: «Синдикат», [1918). Заумная «дра» «Янко крУль албАнскай» открывает собой пенталогию (по Зданевичу, «питЕрку дЕйстф») «аслааблИчья»; остальные части – «асЁл напракАт» ([Тифлис|, 1918), «Остраф пАсхи» (Тифлис, 1919), «згА Якабы» (Тифлис, 1920). «лидантЮ фАрам» (Париж, 1923). Пьеса была создана на основе «Албанского выпуска» (1916) журнала «Бескровное убийство», детища одноименной петроградской группы (М. Ле-Дантю, В. Ермолаева, О. Лешкова и др.). Данный выпуск был создан «по мотивам» книги Янко Лаврина «В стране вечной войны: Албанские эскизы» (Пг., 1916). Постановка была осуществлена 3 декабря 1916 г. в мастерской художника М. Бернштей-на. Декорации и эскизы костюмов были созданы Н. Лапшиным и В. Ермолаевой. В письме к М. Ле-Дантю от 8 декабря 1916 г. О. Лешкова так описывает историю создания пьесы и постановку спектакля: «В тот вечер он (Зданевич. – Сост.) прочитал только Янкин номер и впечатление было совершенно неожиданное: он хохотал до слез, т. е. они у него действительно лились по щекам. Этот неожиданный эффект был первым ценным гонораром моего юмора <…> но когда окончилось чтение, начался целый поток порицаний: это-де не литература, это-мол не юмор, не то сделано, что надо, не так сделано, как надо и т. д. <…>. Можете себе представить мое изумление, когда в субботу 3-го дек<абря> утром мне сообщили по телефону, что на назначенный на этот день вечерник в мастерской Бернштейна будет исполняться Янко I. король албанский, трагедия на албанском языке 28.000 метров с уч<-астием> австрийского премьера министра, 10.000 блох, Брешко-Бреш-ковского и прочей дряни. Зданевич же был у нас в среду, пьеса была написана в 1 1/2 дня, оказалась забавной инсценировкой эпизода албанского царствования Янки с введением нескольких добавочных ролей. <…> Мы поехали в мастерскую, где я застала деятельные приготовления к трагедии. Так как вечеринка должна была быть торжественной, то стены были обтянуты золоченым холстом с широким по верху стены фризом, изображающим неистовые, исступленные рожи, оставшиеся от какого-нибудь предыдущего торжества. Вдоль стены, где входная дверь из коридора, была развешена декорация Албании, футуристического характера – работы Коли Лапшина, Веры Мих<ай-ловны Ермолаевой> и Ильюши (Зданевича. – Сост.). Костюмы были сделаны так: на целые квадратные куски картона были наклеены и частью разрисованы куски цветной яркой бумаги, вплотную, плоско, и такой лист надевался посредством веревочной петли на одном из узких концов, – на шею актеру. Актеры должны были быть все время фасом к публике и только высовывать руки с картонными же мечами, короной и проч. в сторону и действовать всем этим в плоскости. Не знаю, представляете ли вы себе эту комбинацию? Когда собралось много публики, – началась трагедия: Зданевич – замечательный конферансье – заявил публике, что-мол организуется замечательное, самое передовое артистическое предприятие под названием „Бескровное убийство“, первую театральную постановку которого он сейчас представит публике. Пьеса, правда, пойдет на албанском языке, но он по первому требованию публики будет переводить ее на русский, с которым албанский имеет много созвучных разнозначных слов; например, когда народ кричит албанскому королю „Осел, осел, осел“ – это обозначает в переводе: „Ave, Caesar, morituri te salutant!“[265] <…> Так как у нас не хватало актеров и постановка по словам Ильюши была экстренно-спешная, то он помимо исполнения роли короля Янко, обещал играть роль за отсутствующих и вообще все объяснять публике. За неимением статистов публике было предложено исполнять роль „толпы албанских свободных шкипидаров“, на что публика с восторгом согласилась и началось действие. Два албанских разбойника – они же избиратели, увидев в горах Янко и сообразив по костюму, что убивать его не стоит за маловыгодностью этого предприятия, – решают выбрать его королем. Янку схватывают, приносят трубу синдетикона в 1 1/2 аршина длины и привлекают его к трону. Перед приклеиванием он произносит тронную речь на специальном Зданевичьем Волапюк, состоящем вначале из одних гласных, и потом из одних согласных; музыка в лице приглашенного специально для этой цели гармониста-латыша <…> с гармонией играет в высшей степени комическую чухонскую музыку – албанский коронационный марш. Затем король – Ильюша – исполняет албанский коронационный танец с одной из во всех отношениях декольтированной натурщицей, – танец оказывается чистейшей 7-й фигурой кадрили, т. е. подлинным резвым канканом. Потом появляется австрийский премьер-министр, граф Эдинбург, одобряющий все это предприятие – Коля Лапшин с картонкой из-под фуражки с разрисованным мордой дном, что замечательно гармонировало с „плоским“ костюмом, страшно забавный и объясняющийся на немецком Волапюк и наконец Брешко, записывающий всю эту комбинацию для корреспонденции. Вся пьеса состояла из сплошного общения публики с действующими лицами, особенно много комментариев из публики вызвало появление Брешко. Зданевич великолепно парировал все реплики публики. Наконец появилась огромная блоха, которую Янко поймало и начало на ней выводить „собственность“, что заставило австрийского министра прислушаться и предсказать революцию в стране. Так как конца пьесы Зданевич написать не успел, то публике было предложено самой закончить ее и публика решила кончить ее большим албанским дивертисментом с танцами, что исполнялось более чем добросовестно до 9 1/2 час. утра, когда временная хозяйка и фактотум мастерской некая латышская девица Эссен насилу выгнала из мастерской албанских свободных шкипидаров» (цит. по: Марцадури М. Создание и первая постановка драмы «Янко круль албанскай» И. М. Зданевича // Русский литературный авангард: Материалы и исследования. Trento, 1990. С. 26–29). Позднее И. Терентьев так объяснял сюжет пьесы: «Сюжет простой: проходимец янко набрел на каких-то разбойников, которые в это время ссорились. Как человек совершенно посторонний и безличный. – янко приневолен быть королем. Он боится. Его приклеивают к трону синдетиконом, янко пробует оторваться, ему помогает в этом какой-то немец ыренталь: оба кричат „вада“, но воды нет и янко падает под ножом разбойников, испуская „фью“. Вот и все. Это сюжет для вертепа, или театра марионеток. Можно видеть тут 19 век России. Гадчино, дубовый буфет и Серафима Саровского» (Терентьев. Рекорд нежности: Житие Ильи Зданевича. Тифлис, 1919. С. 8). Рецензент (Ю. Ливнев) писал в связи с выходом в свет книги Зданевича: «Трудно говорить о книге, доступной только посвященным в тайны заумного языка, однако, ввиду исключительности ее места в истории русской литературы, хочется отметить ее появление, почему-то замалчиваемое местной (тифлисской. – Сост.) публикой.
Группы буквенных комбинаций, которыми передается трагедия „Янко Круль Албанской“ – есть особый шифр, являющийся богатым материалом для ряда филологических исследований» (Куранты. 1918. № 1. С. 23–24). В печатном варианте автор использует фонетическую транскрипцию текстов; кроме того, в словах выделены жирным шрифтом ударная гласная с опорной согласной; изредка встречаются другие варианты. Биржофка – газета «Биржевые ведомости», выходившая в Петербурге в 1880–1917 гг. Лешкова Ольга Ивановна (?-1942) – композитор. Брешкабришкофскай. «Прототипом» этого персонажа послужил писатель и журналист Николай Николаевич Брешко-Брешковский (1874–1943), публиковавшийся во многих периодических изданиях, в том числе газете «Биржевые ведомости», и резко критиковавший деятельность русских футуристов. В. Каменский вспоминал: «Брешко-брешковские с возрастающим озлоблением издевались в своих обывательских газетах над „бурлюками“ И „сумасшедшими врачами“ (имеется в виду Н. Кульбин. – Сост.), пороли всякую несусветную чушь о новом искусстве, лишь бы гуще затмить мозги несчастных читателей, лишь бы обильнее напакостить в будущее, лишь бы этим глумленьем развлечь буржуазное петербургское общество» (Каменский. С. 441).
415. ФТ.
416. ФТ.
417. ФТ.
418. ФТ.
Игорь Терентьев*
419. ОР.
420. ОР. Ст-ние адресовано В. Маяковскому. Штанов нашейте из пара нам. Аллюзия на ст-ние В. Маяковского «Кофта фата» (1914) и его поэму «Облако в штанах» (см. № 71).
421. ОР – ХС, под загл. «ХРЯЩ». А. Крученых считал последнюю строфу ст-ния «лучшими стихами о весне». Он писал: «Почему в пенсне? Потому: – городская, современная, нелепая.
Тут все скользит „по окраинам души, почти в полях“» (ОР. С. 3).
422. ОР. Апухтин Алексей Николаевич (1840–1893) – русский поэт.
423. ОР. Тагор Рабиндранат (1861–1941) – индийский писатель и общественный деятель.
424. ОР – ФТ, под загл. «Англичане в Палестине». Палестина была захвачена Великобританией во время Первой мировой войны.
425. ХС.
426. ХС.
427. ХС. Депозит (от лат. depositum – вещь, отданная на хранение) – банковский вклад. Прованская Дама – объект воспевания провансальских поэтов-трубадуров XI–XII вв.
428. ХС.
429. ХС.
430. Факт.
431. Факт. Лапшин Николай Федорович (1888–1942) – художник. Квошка – курица.
432. Факт.
433. Факт. Апухтин – см. примеч. 423.
434. Факт.
Николай Чернявский*
435. СГМ.
436. СГМ.
437. СГМ.
Сергей Алымов*
438. КН.
439. КН. Ламбаль (Ламбалль) Мария-Тереза-Луиза де (1749–1792) – приближенная королевы Марии-Антуанетты; была жестоко убита. Гиз – по-видимому, имеется в виду Генрих I Гиз (1550–1588), герцог, один из зачинщиков Варфоломеевской ночи.
440. КН.
441. КН. Ассонанс – см. примеч. 192. Верлен Поль (1844–1896) – французский поэт-символист. Шато – от франц. chateau (замок).
442. КН. Иванов Всеволод Вячеславович (1895–1963) – прозаик и драматург.
Петр Незнамов*
443. Творчество. 1921. № 7. Васька Буслаев – герой былин новгородского цикла (XIV–XV вв.).
444. Творчество. 1921. № 7. Ст-ние, по-видимому, полемизирует со статьей критика Л. Сосновского «Довольно маяковщины» (Правда. 1921, 8 сентября).
Владимир Силлов*
445. Юнь. 1921. № 1. ае-Ииль (Делиль) – по-видимому, имеется в виду Клод Жозеф Руже де Лиль (1760–1836), поэт и композитор, участник Великой французской революции, автор «Марсельезы».
446. Юнь. 1921. № 1.
Венедикт Март*
447. Песенцы.
448. Песенцы.
449. Фаин.
450. Творчество. 1920. № 2. Седмица – неделя.
Анатолий Фиолетов*
451. ЗА. Нагорность – неологизм, образованный от названия проповеди Иисуса Христа («Нагорная»).
452. ЗА.
453. АвО.
454. АвО. Choking (англ.) – задыхающийся, прерывающийся; по-видимому, ошибочно употреблено вместо слова «shoking» (потрясающий, возмутительный, неприличный). Фурлона (итал. forlana) – итальянский народный танец в быстром темпе. Тоскана – область в Италии.
Вадим Баян*
455. ЛП. И. Северянин в автобиографическом романе в стихах «Колокола собора чувств» (Юрьев-Tartu, 1925) иронизировал над этим ст-нием:
Нелепость образа смешна:
Каким же нужно быть колоссом,
Чтоб жемчугам длинноволосым
Дать место на груди? одна
На нём повиснувшая дева
Его склонила б до земли,
А несколько – кишки из чрева
С успехом выдавить могли…
(С. 24).
456. ЛП.
Владимир Пруссак*
457. ЦнС. Ассонанс – см. примеч. 192.
458. ЦнС. Сераль (франц. serail) – европейское название султанского дворца, включая гарем. Канкан – см. примеч. 94. Лорелея (герм, миф.) – нимфа Рейна.
459. ЦнС. Эсеровский – от названия партии эсеров (социалистов-революционеров), крупнейшей в России партии в 1901–1923 гг. Бисмарк – см. примеч. 71. Гектографские пятна. Гектограф (греч. hekaton – сто и grapho – пишу) – прибор для размножения текстов и иллюстраций, широко использовавшийся в начале XX в. в революционной нелегальной печати.
Георгий Шенгели*
460. ЗП. Фанданго (исп. fandango) – испанский народный танец, исполняемый под аккомпанемент гитары и кастаньет. Митральеза (франц. mitrailleuse) – французское название станкового пулемета.
461. ЛЗ. Финифть – древнерусское название эмали.
Василий Катанян*
462. СВ.
463. СВ. Олонец – по названию города (Олонец), бывшего тогда губернским центром.
Татьяна Вечорка*
464. СГМ.
465. СГМ.
466. СГМ. Фуляр (франц. foulard) – платок из тонкой шелковой ткани.
Георгий Золотухин*
467. ЧП. Диана – см. примеч. 216.
468. ЧП. Пальмира – древний город в Сирии. Сильфида (кельт, и герм, миф.) – существо, олицетворяющее стихию воздуха; дух воздуха. Цитра (нем. Zither) – струнный щипковый музыкальный инструмент.
469. ЧП.
470. ИБС.
Сергей Спасский*
471. КС.
472. КС.
473. КС. Адресат не установлен.
474. КС.
475. ГФ.
476. БМ.
Дмитрий Петровский*
477. ПО. Ст-ние тематически связано со смертью брата Дм. Петровского Ивана. Вайа – см. примеч. 172.
478. ПО. Матюшин Михаил Васильевич (1861–1934) – музыкант, композитор, художник, теоретик искусства; был мужем Е. Гуро; они проживали Санкт-Петербурге в доме № 10 по Песочной ул.
479. ПО.
480. ПО.
481. ПО.
482. ПО. Савл – имя апостола Павла до его обращения в христианство. Галилейский – от Галилея (область в Северной Палестине); в Галилее Иисус Христос провел детство и отрочество, здесь же он встретил своих апостолов; в Галилее он явился апостолам воскресшим из мертвых. «Сей Сын Мой». В Новом Завете – глас Божий, услышанный апостолами при Преображении Иисуса Христа (Лк.; 9, 35). Возможно, у Петровского этот эпизод соединился с явлением Христа Савлу (Деян.; 9, 3–7).
483. ПО. Кубарь – волчок, юла. 24 Зак.3168
Владимир Гольцшмидт*
484. ПВЖ. Вериги – см. примеч. 350.
485. ПВЖ. Из воспоминаний И. Эренбурга: «Однажды „футурист жизни“ решил поставить себе памятник на Театральной площади; статуя была гипсовая, не очень большая и отнюдь не футуристическая – стоял голый Гольцшмидт. Прохожие возмущались, но не решались посягнуть на загадочный монумент. Потом статую все же разбили» (Эренбург И. Люди, годы, жизнь: Воспоминания. М., 1990. Т. 1. С. 260). Раджа (санскр.) – княжеский титул в Индии.
Тихон Чурилин*
486. ВпС.
487. ВпС.
488. ВпС.
489. ВпС. Я – как страшный царь Саул, / – Приведенье… Саул – первый царь израильско-иудейского государства (конец XI в. до н. э). Возможно, аллюзия на эпизод из Ветхого Завета, описывающий встречу царя Саула с усопшим пророком Самуилом (Царств 1; 28). Сухарева башня – башня, сооруженная в Москве по инициативе Петра I (архитектор М. Чоглоков). Титаник – крупнейшее пассажирское судно начала XX в., затонувшее в 1912 г. в результате столкновения с айсбергом. Кикапу – представитель одноименного племени североамериканских индейцев; у Чурилина – имя персонажа (по-видимому, автобиографического) нескольких ст-ний, а также повести «Конец Кикапу» (М., 1918). Рококо – см. примеч. 283.
490. ВпС.
491. ВпС. Святки – период между Рождеством и Крещеньем.
492-493. ВпС. Кюветка (франц. cuvette) – плоская прямоугольная ванночка, применяемая в фотографии для проявления и обработки негативов и диапозитивов.
494. ВпС. Эпиграф – начальная строка первой главы романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Выкрест – обращенный в православную веру иноверец.
495. ВпС.
496. ВпС. Ра (егип. миф.) – бог солнца; одновременно Ра – женский персонаж в поэзии Чурилина автобиографического или библейского содержания (см. №№ 497, 502). Готтентот – см. примеч. 334. Кикапу – см. примеч. 489.
497. ВпС. В своих воспоминаниях Т. Лещенко-Сухомлина называла прототипов ст-ния: «Елена – это Бронислава Иосифовна Корвин-Круковская – жена Тихона Чурилина.
Ра – бог Ра – это сам Тихон.
Мэри – это Марина Ивановна Цветаева, которая в ту пору совместной ранней их молодости очень была влюблена в Тихона. „Версты“ посвящены ему – он в стихах о разбойнике» (Лещенко-Сухомлина Т. Долгое будущее. М., 1991. С. 69). Кикапу – см. примеч. 489. Ра – см. примеч. 496.
498-499. ВпС. 2. Нина – святая, просветительница Грузии.
500. ВпС.
501. ВпС.
502. ВпС. Ра – см. примеч. 496. Рахиль – в ветхозаветной Книге Бытия вторая жена патриарха Иакова, мать Иосифа (Быт.; 29).
503. ВпС.
504. ММ. Маца (др. – евр.) – тонкие сухие лепешки из пресного теста, которые иудаизм предписывает есть верующим в дни Пасхи. Брашно – пища. Мирт (греч. mirtos), лавр (лат. laurus), аканф (греч. akantha) – растения, имеющие культовое значение.
505. ВКС. Утома – усталость. Уд (устар.) – удочка или часть тела (рука, нога, половой член). Инеить – покрываться инеем. Обол (греч. obolos) – монета в Древней Греции; по представлениям древних греков, обол служил платой за переправу через реку в загробном царстве.
506. ВКС.
507. ВКС. Кикимора (вост. – слав. миф.) – злой дух дома.
Пощечина общественному вкусу*
ПОВ. Д. Бурлюк вспоминал: «Это был сезон 1912-13 годов.
В „Романовке“ был написан манифест к „Пощечине“.
В этом манифесте Вите Хлебникову принадлежат несколько строк. Манифест был написан мной, а потом В. В. Маяковский, А. Е. Крученых и В. В. Хлебников полировали его совместно…
А. М. Горького не трогали – свой (в действительности Горький в манифесте упомянут. – Сост.)» (Бурлюк. С. 48). Иную версию создания манифеста приводит в своих воспоминаниях А. Крученых: «Я помню только один случай, когда В. Хлебников, В. Маяковский, Д. Бурлюк и я писали вместе одну вещь – этот самый манифест к „Пощечине общественному вкусу“.
Москва. Декабрь 1912 г. Собрались, кажется, у Бурлюка на квартире, писали долго, спорили из-за каждой фразы, слова, буквы.
Помню, я предложил: „Выбросить Толстого, Достоевского, Пушкина“.
Маяковский добавил: „С парохода современности“. Кто-то: „Сбросить с парохода“.
Маяковский: „Сбросить – это как будто они там были, нет, надо, бросить с парохода“… Помню фразу: „Парфюмерный блуд Бальмонта“.
Исправление В. Хлебникова: „Душистый блуд Бальмонта“ не прошло.
Еще мое: „Кто не забудет своей первой любви – не узнает последней“.
Это вставлено в пику Тютчеву, который сказал о Пушкине: „Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет“.
Строчки Хлебникова: „Стоим на глыбе слова мы“.
„С высоты небоскребов мы взираем на их ничтожество“ (Л. Андреева, Куприна, Кузмина и пр.).
Хлебников, по выработке манифеста, заявил:
– Я не подпишу это… Надо вычеркнуть Кузмина – он нежный.
Сошлись на том, что Хлебников пока подпишет, а потом отправит письмо в редакцию о своем особом мнении. Такого письма мир, конечно, не увидел! <…> Помню, при создании „Пощечины“ Маяковский упорно сопротивлялся попыткам Велимира отяготить манифест сложными и вычурными образами, вроде: „Мы будем тащить Пушкина за обледенелые усы“. Маяковский боролся за краткость и ударность» (Крученых. С. 46–47, 52). Из воспоминаний Б. Лившица: «Главным же козырем (в ПОВ. – Сост.) был манифест. Из семи участников сборника манифест подписали лишь четверо: Давид Бурлюк, Крученых, Маяковский и Хлебников. Кандинский был в нашей группе человеком случайным, что же касается Николая Бурлюка и меня, нас обоих не было в Москве. Давид <…> не решился присоединить наши подписи заочно. И хорошо сделал.
Я и без того был недоволен тем, что мне не прислали материала в Медведь, хотя бы в корректуре, текст же манифеста был для меня совершенно неприемлем. Я спал с Пушкиным под подушкой – да я ли один? Не продолжал ли он и во сне тревожить тех, кто объявлял его непонятнее гиероглифов? – и сбрасывать его, вкупе с Достоевским и Толстым, с „парохода современности“ мне представлялось лицемерием.
Особенно возмущал меня стиль манифеста, вернее, отсутствие всякого стиля: наряду с предельно „индустриальной“ семантикой „парохода современности“ и „высоты небоскребов“ (не хватало только „нашего века пара и электричества“!) – вынырнувшие из захолустно-провинциальных глубин „зори неведомых красот“ и „зарницы новой грядущей красоты“.
Кто составлял пресловутый манифест, мне так и не удалось выпытать у Давида: знаю лишь, что Хлебников не принимал в этом участия (его, кажется, и в Москве в ту пору не было). С удивлением наткнулся я в общей мешанине на фразу о „бумажных латах брюсовского воина“, оброненную мною в ночной беседе с Маяковским и почему-то запомнившуюся ему, так как только он мог нанизать ее рядом с явно принадлежавшими ему выражениями вроде „парфюмерного блуда Бальмонта“, „грязной слизи книг, написанных бесчисленными Леонидами Андреевыми“, „сделанного из банных веников венка грошовой славы“, и уже типичным для него призывом „стоять на глыбе слова мы среди моря свиста и негодования“» (Лившиц. С. 403–404). В своих мемуарах В. Шершеневич приводит следующее свидетельство: «Однажды на рассвете я наблюдал, как Маяковский долго и пристально смотрел в лицо чугунному Пушкину, словно стараясь пытливо понять эти глаза. Маяковский меня не видел. Он простоял почти полчаса и потом пошел домой.
А в это время он писал манифест, в котором требовал, чтоб Пушкин был „выброшен за борт современности“» (Шершеневич. С. 510). «Пощечина, – вспоминал Крученых, – оказалась достаточно звонкой: перепуганная обывательская критика завопила о „хулиганах в желтых кофтах“ и т. п. А „хулиганы“ проходили мимо критики и делали русскую литературу» (15 лет. С. 8). Соллогуб – правильно: Сологуб (Тетерников Ф. К). Кузьмин – правильно: Кузмин М. А. Александр Крученых – псевдоним Алексея Крученых.
Пощечина общественному вкусу (листовка)*
ПОВ (листовка). А. Крученых вспоминал: «Не давая опомниться публике, мы, одновременно с книгой „Пощечина общественному вкусу“, выпустили листовку под тем же названием.
Хлебников особенно ее любил и, помню, расклеивал в вегетарианской столовой (в Газетном пер.) среди всяческих толстовских объявлений, хитро улыбаясь, раскладывал на пустых столах, как меню» (Крученых. С. 47). В 1908 году вышел «Садок Судей». «Садок судей» увидел свет в 1910 г. Для кубофутуристов, в частности для Д. Бурлюка, было характерно указание более ранних дат создания произведений и выпуска в свет книг, чем это было на самом деле, с целью утверждения приоритета русского футуризма по отношению к итало-французскому и независимости от него. Кандинский Василий Васильевич (1866–1944) – живописец и график, один из основоположников и теоретиков абстрактного искусства. В ПОВ были напечатаны в переводе с немецкого четыре прозаических миниатюры Кандинского, постоянно жившего в Германии, из его книги «Klange» («Звуки») (Munich, [1912–1913]), что вызвало протест художника. Измайлов Александр Алексеевич (1873–1921) – писатель и литературный критик, резко выступавший против футуристов (см. примеч. 68). Homunculus – по представлениям средневековых алхимиков, некое существо, подобное человеку, которое можно получить искусственно; также Homunculus – псевдоним нескольких литературных критиков. Соллогуб – см. примеч. к манифесту ПОВ.
<Манифест из сборника «Садок судей II»>*
СС-2. Метцль и Кº – рекламная контора «Л. и Э. Метцль и Кº». Низен (Гуро) Екатерина Генриховна (1874–1972) – писательница, участница обоих «Садков судей», сестра Е. Гуро.
На приезд Маринетти в Россию*
Печ. по: Хлебников СП. Т. V. Приезд Ф. Т. Маринетти в Россию в январе 1914 г. вызвал неоднозначную реакцию среди русских футуристов. Наиболее непримиримую позицию по отношению к родоначальнику итальянского футуризма заняли М. Ларионов, В. Хлебников и Б. Лившиц. Последний вспоминал: «Не сговариваясь друг с другом (с Хлебниковым. – Сост.), мы пришли к убеждению, что Маринетти смотрит на свое путешествие в Россию как на посещение главою организации одного из ее филиалов.
Этому следовало дать решительный отпор: мы не только не считали себя ответвлением западного футуризма, но и не без оснований полагали, что во многом опередили наших итальянских собратьев.
В самом деле, ознакомившись с дюжиной манифестов, присланных Маринетти еще из Милана, мы не нашли ничего нового для себя, особенно в тех трех, которые касались непосредственно литературы. Большинство положений, выдвинутых итальянскими футуристами, были для нас либо уже пройденным этапом, либо половинчатым решением стоявших перед всеми нами задач.
Эти задачи, разумеется, не выходили за пределы „технологии“ искусства, ибо „философские“ предпосылки итальянского футуризма представляли для нас только теоретический интерес: слишком различны были причины, вызвавшие одноименное течение в двух странах, чтобы можно было говорить без натяжки о какой-то общей программе.
Приезд Маринетти и порожденные этим событием толки укрепили меня в моем давнишнем намерении выступить перед широкой аудиторией с лекцией на тему о взаимоотношении русского и итальянского футуризма. Покамест же я считал необходимым выпустить хотя бы манифест, которым будетляне отмежевались бы от группы Маринетти.
Такого же мнения придерживался и Хлебников. Все остальные (присутствовавшие на „совещании“ у Н. Кульбина накануне прибытия Маринетти из Москвы в Петербург. – Сост.) – Николай Бурлюк, Матюшин, Лурье – согласились с Кульбиным, доказывавшим с пеной у рта несвоевременность подобной декларации, в которой „наш дорогой гость“ несомненно усмотрит для себя обиду. Кульбин даже сыграл на местном патриотизме присутствующих, напирая на то, что петербуржцы – не москвичи и что нам надо исправить ошибки наших московских товарищей, проявив себя настоящими европейцами.
В азиатах остались мы вдвоем: Хлебников и я.
На следующее утро он ни свет ни заря пришел ко мне, и мы в четверть часа составили воззвание, которое он немедленно повез в типографию, чтобы к вечеру иметь возможность распространять его на лекции Маринетти.
Зал Калашниковской биржи был уже полон, а Хлебников, с которым мы условились встретиться за полчаса до начала лекции, все не приходил. Кульбин откуда-то узнал о нашем манифесте и так же, как и я, не сводил глаз с дверей.
Наконец, в последнюю минуту, когда на кафедре уже появился Маринетти, в зал ворвался бледный, запыхавшийся Хлебников, прижимая к груди кипу воззваний. Ткнув мне половину, он принялся быстро обходить ряды, раздавая листовку направо и налево. Уже в типографии он внес в текст некоторые поправки, смягчив выражения, показавшиеся ему слишком резкими. <…> Не успел я распространить и десяток экземпляров, как ко мне подскочил Кульбин. С проворством, неожиданным в пожилом человеке, он выхватил у меня из рук всю пачку и, яростно разрывая на части свою добычу, кинулся догонять Хлебникова, орудовавшего уже в задних рядах. В первый раз в жизни я видел Кульбина остервенелым: он не помнил себя и одним своим взором, казалось, был способен испепелить меня и Хлебникова» (Лившиц. С. 473–475). В результате конфликта, по сообщениям газет, Хлебников вызвал Кульбина на дуэль. Тогда же (2 февраля) Хлебников в знак протеста против приема Маринетти объявил о своем выходе из «Гилей» (см.: Хлебников НП. С. 368–369), хотя главные «гилейцы» (Д. Бурлюк, Маяковский, Каменский) в петербургском приеме не участвовали. Свое отрицательное или весьма сдержанное отношение к итальянскому футуризму кубофутуристы выразили в открытых письмах, опубликованных в газете «Новь» 5 и 15 февраля 1914 г., а также во время лекции Маринетти в Обществе свободной эстетики в Москве 13 февраля. В. Шершеневич, бывший основным переводчиком произведений Маринетти в России, позже утверждал, что «идеология Маринетти в корне расходилась с социальной установкой русских футуристов, что с самого начала было отмечено и критикой, и нами» (Шершеневич. С. 500) Иные туземцы и итальянский поселок на Неве. По-видимому, имеются в виду петербуржец Н. Кульбин, а также организаторы выступлений Маринетти в кабаре «Бродячая собака», находившемся на углу Итальянской ул. и Михайловской пл. Верхарн Эмиль (1855–1916) – бельгийский поэт-символист, драматург, критик; в ноябре 1913 г. посетил Россию. Линдер Макс (наст. имя и фамилия Габриель Лёвьель) (1883–1925) – популярный французский киноактер, посетивший Россию с гастролями в ноябре 1913 г. Кружева холопства на баранах гостеприимства – аллюзия на поэму Н. В. Гоголя «Мертвые души». На экземпляре листовки, принадлежащем А. Крученых, Хлебников в конце декабря 1921 г. написал: «(Чичиков, провоз кружев из-за границы)» (Хлебников НП. С. 476).
Идите к черту*
РП. Б. Лившиц вспоминал: «Составили мы этот манифест вшестером, на квартире у четы Пуни, взявших на себя расходы по изданию сборника. Николай Бурлюк отказался присоединить свою подпись, резонно заявив, что нельзя даже метафорически посылать к черту людей, которым через час будешь пожимать руку. Действительно, ни одна из наших деклараций еще не вызывала в литературной среде такого возмущения, как этот плод нашего совместного творчества. Каждое слово в нем как будто было рассчитано на то, чтобы кого-нибудь оскорбить. <…> Больше всего вознегодовал Сологуб – на Северянина, которого он „вывел в люди“, и Гумилев – на нас всех: особенно задело его выражение „свора Адамов“.
Из текста манифеста ясно, что, вступая в блок с Северянином, мы и не думали включать в свою „литературную компанию“ ни „Петербургский Глашатай“, ни „Мезонин Поэзии“» (Лившиц. С. 459–460). Крученых утверждал, что Северянина пригласили к сотрудничеству «с целью разделить и поссорить эго-футуристов, что и было достигнуто, а затем его „ушли“ и из компании „кубо“» (15 лет. С. 15). Чуковский Корней Иванович (Корнейчуков Николай Васильевич) (1882–1969) – писатель, литературовед, критик. О его взаимоотношениях с кубофутуристами писал в своих мемуарах Б. Лившиц: «Октябрь и ноябрь тринадцатого года отмечены в будетлянском календаре целой серией выступлений, среди которых не последнее место занимали лекции Корнея Чуковского о футуризме, прочитанные им в Петербурге и в Москве. Это была вода на нашу мельницу. Приличия ради мы валили Чуковского в общую кучу бесновавшихся вокруг нас Измайловых, Львов-Рогачевских, Неведомских, Осоргиных, Накатовых, Адамовых, Философовых, Берендеевых и пр., пригвождали к позорному столбу, обзывали и паяцем, и копрофагом, и еще бог весть как, но все это было не очень серьезно, не более серьезно, чем его собственное отношение к футуризму.
Чуковский разбирался в футуризме лишь немного лучше других наших критиков, подходил даже к тому, что в его глазах имело цену, довольно поверхностно и легкомысленно, но все же он был и добросовестней, и несравненно талантливей своих товарищей по профессии, а главное – по-своему как-то любил и Маяковского, и Хлебникова, и Северянина. Любовь – первая ступень к пониманию, и за эту любовь мы прощали Чуковскому все его промахи.
В наших нескончаемых перебранках было больше веселья, чем злобы. Однажды сцепившись с ним, мы, казалось, уже не могли расцепиться и собачьей свадьбой носились с эстрады на эстраду, из одной аудитории в другую, из Тенишевки в Соляной Городок, из Соляного Городка в психоневрологический институт, из Петербурга в Москву, из Москвы в Петербург и даже наезжали доругиваться в Куоккалу, где он жил отшельником круглый год.
О чем нам никак не удавалось договориться, это о том, кто же кому обязан деньгами и известностью. Чуковский считал, что он своими лекциями и статьями создает нам рекламу, мы же утверждали, что без нас он протянул бы ноги с голоду, так как футуроедство стало его основной профессией. Это был настоящий порочный круг, и определить, что в замкнувшейся цепи наших отношений является причиной и что следствием, представлялось совершенно невозможным.
Блестящий журналист, Чуковский и в лекции перенес свои фельетонные навыки, постаравшись выхватить из футуризма то, на чем легче всего можно было заострить внимание публики, вызвать „шампанский“ эффект, сорвать аплодисменты. Успех был ему дороже истины, и мы, живые объекты его критических изысканий, сидевшие тут же на эстраде, где он размахивал своими конечностями осьминога, корчились от смеха, когда, мимоходом воздав должное гениальности Хлебникова, Чуковский делал неожиданный выверт и объявлял центральной фигурой русского футуризма… Алексея Крученых» (Лившиц. С. 439, 441). Ф. Сологуб схватил шапку И. Северянина. Сологуб и его жена А. Чеботаревская способствовали признанию Северянина в литературных кругах, в частности Сологубом было написано предисловие к сборнику Северянина ГК. Василий Брюсов привычно жевал <…> Брось, Вася, этотебе не пробка!.. «Василий – не опечатка, а озорство: поэт любил свое имя, вводил его в стихи, злоупотреблял его благозвучием <…>. Ладно – назовем его в таком случае Василием! Пробка – тоже неспроста; это – намек на принадлежащий Валерию Яковлевичу, а может быть, и никогда не существовавший, пробковый завод» (Лившиц. С. 459–460). «Русская Мысль» – ежемесячный научный, литературный и политический журнал, в котором в 1910–1912 гт. Брюсов заведовал литературно-критическим отделом. Свора адамов. Другое название акмеизма, предложенное С. Городецким, – «адамизм». Гумилев Николай Степанович (1886–1921) – поэт-акмеист, переводчик, литературный критик. Маковский Сергей Константинович (1877–1962) – поэт, художественный критик, организатор и редактор журнала «Аполлон». Городецкий Сергей Митрофанович (1884–1967) – поэт-акмеист. Пяст (Пестовский) Владимир Алексеевич (1886–1940) – поэт, переводчик. Песни о тульских самоварах и игрушечных львах. Подразумеваются ориентация поэзии Городецкого на русский фольклор и интерес Гумилева к африканской экзотике.
Капля дегтя*
Взял. Каждый день тягучим плачем голосит петит над множеством имен вырезанных Марсом. Имеются в виду списки погибших на фронтах Первой мировой войны списки, печатавшиеся петитом. Когано-эйхенвальдообразые старики. Коган Петр Семенович (1872–1932) – литературный критик, историк литературы, переводчик. Айхенвальд Юлий Исаевич (1872–1928) – литературный критик. В. Шершеневич вспоминал: «В том же злополучном Политехническом после стихов Маяковского выступает с отрицательной критикой Айхенвальд. Айхенвальда сменяет не менее ругательно Коган.
После всех ораторов слово берет Маяковский. Он развязно говорит:
– Вот этот Коган (жест в сторону Когана) сказал, что я бездарен, а вот этот Коган (жест в сторону Айхенвальда) сказал…
Председатель останавливает Маяковского:
– Владимир Владимирович! Вы ошиблись. Это не Коган, это же Айхенвальд!
Маяковский, нисколько не смущаясь, под веселый хохот аудитории, парирует эту поправку заранее приготовленной остротой.
– Все равно! Все они Коганы!» (Шершеневич. С. 542). Самокиш Николай Семенович (1860–1944) – художник-баталист, академик.
Труба марсиан*
В виде свитка (М. [Харьков], 1916). В автобиографической заметке В. Хлебников утверждал, что декларация была написана им. Подпись Божидара, умершего в 1914 г., условна. В письме к Н. Асееву и Г. Петникову от 19 сентября 1916 г. Хлебников писал, что «„Труба Марсиан“ очень удачна в смысле быстроты» (Хлебников СП. Т. V. С. 307). Мозг людей и доныне скачет на 3 ногах (3 оси места)! Манифест отражает хлебниковскую концепцию четырехмерного времени-пространства. Размер больше Хеопса. Здесь подразумевается пирамида египетского фараона Хеопса (27 в. до н. э.), крупнейшая в Египте. Ведь мы босы. По свидетельству Г. Петникова, правильно: «Ведь мы боги» (Хлебников НП. С. 17), Синякова – см. примеч. 385. Кроме могил юношей. По-видимому, подразумеваются покончившие с собой И. Игнатьев и Божидар. Нас семеро. По-видимому, имеются в виду подписавшие вступительную часть манифеста Хлебников, Синякова, Божидар, Петников, Асеев, а также приглашенные «с правом совещательного голоса, на правах гостей, в думу марсиан: Уэлльс и Маринетти». Балашов Абрам Абрамович – душевнобольной, изрезавший в январе 1913 г. в Третьяковской галерее картину И. Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Б. Лившиц вспоминал: «Когда <…> сумасшедший Балашов изрезал в Третьяковке репинское полотно, <…> борзописцы не стеснялись кивать на Бурлюков, недвусмысленно намекая, что действительными виновникам дикого поступка, его подлинными вдохновителями являются глашатаи „левого“ искусства» (Лившиц. С. 471). Гаусс Карл Фридрих (1777–1855) – немецкий ученый-математик и физик. Лобачевский Николай Иванович (1792–1856) – русский математик, создатель неевклидовой геометрии. Монгольфьеры (Монгольфье) Жозеф Мишель (1740–1810) и Жак Этьен (1745–1799) – французские изобретатели воздушного шара. КОРОЛЬ ВРЕМЕНИ ВЕЛИМИР 1-ый. По утверждению Хлебникова, он «20 декабря 1915 был избран королем времени» (Хлебников СП. Т. V. С. 333). Уэлльс (Уэллс) Герберт Джорж (1866–1946) – английский писатель-фантаст. Маринетти – см. примеч. 211. «Улля, улля» – возглас из романа Г. Уэллса «Война миров».
Манифест Летучей Федерации Футуристов*
ГФ. Черными перьями двуглавого орла устлана дорога в Тобольск. Имеется в виду ссылка по решению Временного правительства царя Николая II и его семьи в Тобольск. «Иудейских» и прочих «царей» (сочинения Романовых). Подразумевается пьеса Константина Романова (К.Р.) «Царь Иудейский» (1912). Рококо – см. примеч. 283. Людовики – имена нескольких французских королей.
Академия Эгопоэзии (Вселенский Футуризм)*
Листовка. Печ. по: Казанский. Первый год Эго-Футуризма // ОнП. Б. Лившиц в своих мемуарах утверждал, что, «когда и эгофутуристам пришлось как-то формулировать свою программу, они оказались неспособны на это: во всех выпущенных ими маловразумительных декларациях, „скрижалях“, „хартиях“, „грамотах“, „прологах“ и „эпилогах“ нельзя было при всем желании нащупать хотя бы одну четкую, до конца продуманную мысль» и «их теоретические высказывания отличались такой беспомощностью и механическим соединением с бору по сосенке нахватанных идеек (не идеек даже, а просто модных словечек), что при самом внимательном к ним отношении невозможно было догадаться, чего же они, собственно, хотят, с кем и во имя чего собираются воевать» (Лившиц. С. 367–368). Фофанов и Лохвицкая – см. примеч. 192.
Интуитивная школа. «Вселенский Эго-футуризм»*
Листовка. Печ. по: Ховин [В.] Они не знают всеоправдания… // Воскресная вечерняя газета. 1912, 16 сентября.
Грамата Интуивной Ассоциации Эго-футуризм*
Листовка. Приложение к газ. «Нижегородец» № 206. 1913, 25 января.
Грамота*
Руконог. «Грамота» направлена против издателей ПЖРФ, содержащего выпады в адрес участников «Центрифуги». Так, в рецензии на книги «Близнец в тучах» Б. Пастернака и «Вертоградари над лозами» С. Боброва рецензент, скрывшийся за псевдонимом Едух, писал: «В номере гостиницы русской литературы, который только что покинула „тяжкая армада старших русских символистов“, остановилась переночевать компания каких-то молодых людей. И вот они уже собирают разбросанные их предшественниками окурки, скучно сосут выжатый и спитый лимон и грызут крошечные кусочки сахара. Больше ничего и не осталось, и от этого в номере такая тоска и уныние, что зеленеют от скуки видавшие и пышный пир русской поэзии обои. Читатель, вы, наверное, уже догадались, что я говорю о „лириках“, т. е. молодых людях, выпускающих все чаще и чаще никому не нужные книжки, на которых неумело-незатейливо написано: книгоиздательство „Лирика“» (ПЖРФ. С. 140). В рецензии на книгу Н. Асеева НФ за подписью «Георгий Гаер» (псевдоним В. Шершеневича) утверждалось, что у ее автора «много скрытых талантов, но совершенно ясно, что к поэзии они не имеют ни малейшего отношения» (ПЖРФ. С. 141). Полемика с Шершеневичем была продолжена в статье Пастернака «Вассерманова реакция», также опубликованной в «Руконоге». Согласие отсутствовавшего в Москве И. Зданевича подписать «Грамоту» было передано членам «Центрифуги» его братом художником Кириллом Зданевичем. Мы не имеем в виду Хлебникова и Маяковского… Ср. в статье Пастернака «Вассерманова реакция»: «Истинный футуризм существует. Мы назовем Хлебникова, с некоторыми оговорками Маяковского, только отчасти – Большакова, и поэтов из группы „Петербургского Глашатая“» (Пастернак. Т. 4. С. 351). На стр. 130 ПЖРФ об эгофутуристах было лишь написано, что у них «развороченные черепа» (ср. название одноименного эгофутуристического альманаха). На стр. 141 о Боброве сообщалось, что «конечно, на то он и Бобров, на то он и «предостерегает дружески» Северянина:
Тебя не захлестнула б скверна
Оптово розничной мечты…
на то он и с Брюсовым имел дела, о которых довольно прозрачно сообщает в стихах:
Своею влагою целительной
Ты указуешь грани бед…»
На стр. 131 ПЖРФ псевдонимов нет (единственная фамилия на этой стр. – Д. Бурлюк). На стр. 141 рецензия на книги Пастернака и Боброва подписана псевдонимом Едух. На стр. 142 рецензия на книгу НФ Н. Асеева подписана: «Георгий Гаер» (псевдоним В. Шершеневича). Статьи, якобы реабилитирующие Вашу истинность в глазах будущников. Имеется в виду подборка отрицательных отзывов о кубофутуристах, опубликованная Д. Бурлюком и Б. Лившицем под заголовком «Позорный столб российской критики. (Материал для истории русск. литературных нравов)» в ПЖРФ.
<Манифест компании «41°»>*
Газ. «4Г». Печ. по: Заумники. Авторами манифеста, по свидетельству А. Крученых, являются он сам, И. Зданевич, И. Терентьев и Н. Чернявский (Заумники. С. 23).
Список иллюстраций
1. Велимир Хлебников. Автопортрет.
2. Елена Гуро. Автопортрет.
3. Е. Гуро. Рисунок к кн. «Бедный рыцарь».
4. Василий Каменский. Портрет работы Д. Бурлюка.
5. Давид Бурлюк. Портрет работы В. Бурлюка.
6. Николай Бурлюк. Портрет работы Д. Бурлюка.
7. Владимир Маяковский. Портрет работы Д. Бурлюка.
8. Ольга Розанова. Автопортрет.
9. Бенедикт Лившиц. Портрет работы Д. Бурлюка.
10. Алексей Крученых. Портрет работы М. Ларионова.
11. В. Каменский. Железобетонная поэма.
12. Павел Филонов. Автопортрет.
13. Работы К. Малевича на выставке «0.10».
14. К. Малевич. Спинка обложки 2-го издания поэмы В. Хлебникова и А. Крученых «Игра в аду».
15. Игорь Северянин. Портрет работы М. Синяковой.
16. Иван Игнатьев и Василиск Гнедов.
17. Константин Олимпов.
18. Вадим Шершеневич.
19. Сергей Третьяков. Портрет работы М. Синяковой.
20. Сергей Бобров.
21. Константин Большаков.
22. Борис Пастернак. Портрет работы Ю. Анненкова.
23. Николай Асеев. Портрет работы М. Синяковой.
24. Божидар.
25. Григорий Петников. Портрет работы Н. Альтмана.
26. Илья Зданевич. Портрет работы Н. Пиросманашвили.
27. Игорь Терентьев. Автопортрет.
Выходные данные
НОВАЯ БИБЛИОТЕКА ПОЭТА
Гуманитарное агентство «Академический проект»
ПОЭЗИЯ РУССКОГО ФУТУРИЗМА
Редакционная коллегия
А. С. Кушнер (главный редактор). К. М. Азадовский, В. Э. Вацуро, М. Л. Гаспаров, А. Л. Зорин, А. В. Лавров, Д. С. Лихачев, А. М. Панченко. И. Н. Сухих, Е. Г. Эткинд
Вступительная статья B. Н. Альфонсова
Составление и подготовка текста В. Н. Альфонсова и С. Р. Красицкого
Персональные справки-портреты и примечания C. Р. Красицкого
Гуманитарное агентство «Академический проект» благодарит Комитет по печати мэрии Санкт-Петербурга и Российское авторское общество за содействие в осуществлении издания.
Художник В. В. Еремин
Редактор В. Н. Сажин
Художественный редактор В. Г. Бахтин
Корректор О. Э. Карпеева
Технический редактор Е. Ф. Шараева
ЛР № 066191 от 27.11.98 Подписано в печать 22.03.99.
Формат 84 × 108 1/32 Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Балтика.
Усл. п. л. 47. Тираж 3000 экз. Заказ № 3168
Гуманитарное агентство «Академический проект»
199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 4
Отпечатано с готовых диапозитивов в Академической типографии «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12
Примечания
(1) Каменский В. Путь энтузиаста//Каменский В. Танго с коровами; Степан Разин; Звучаль Веснеянки; Путь энтузиаста. М., 1990. С. 444.
(2) Мережковский Д. Еще шаг Грядущего Хама // Русское слово. 1914. № 149. 29 июня.
(3) Брюсов В. Год русской поэзии: (Апрель 1913 – апрель 1914) // Брюсов В. Среди стихов: 1894–1924: Манифесты, статьи, рецензии. М., 1990. С. 436. В дальнейшем ссылки: Брюсов В. Среди стихов.
(4) Брюсов В. Новые течения в русской поэзии: III. Эклектики // Брюсов В. Среди стихов. С. 412.
(5) Пощечина общественному вкусу: В защиту Свободного Искусства: Стихи. Проза. Статьи. М.: Изд. Г. Л. Кузьмина и С. Д. Долинского, 1913 [1912]. В наст. изд.: Приложение. С. 617. В дальнейшем ссылки: Приложение.
(6) Маяковский В. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1955. Т. 1. С. 365–366.
(7) Приложение. С. 619.
(8) Маяковский В. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 300.
(9) Шкловский В. Воскрешение слова//Шкловский В. Гамбургский счет: Статьи – воспоминания – эссе. М., 1990. С. 42.
(10) См.: Поспелов Г. Бубновый валет: Примитив и городской фольклор в московской живописи 1910-х годов. М., 1990.
(11) См.: Ковтун Е. Русская футуристическая книга. М., 1989.
(12) См.: Левая Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. М., 1991.
(13) Об эгофутуризме см.: Крусанов А. Дороги и тропы русского литературного авангарда: эго-футуризм (1911–1922 гг.) // Русский разъезд. 1993. № I. С. 109–148.
(14) Приложение. С. 629.
(15) Приложение. С. 630.
(16) Приложение. С. 630.
(17) Шершеневич В Футуризм без маски: Компилятивная интродукция. М., 1914. С. 59.
(18) Декларация // Поэты-имажинисты. М.; СПб., 1997. С. 7–8.
(19) Иванов Г. Рецензия // Альманах Цеха Поэтов. Кн. 2. Пг., 1921. С. 77.
(20) Брюсов В. Год русской поэзии // Брюсов В. Среди стихов. С. 441.
(21) Брюсов В. Вчера, сегодня и завтра русской поэзии // Брюсов В. Среди стихов. С. 598.
(22) Пастернак Б. Николай Асеев. «Оксана»: Стихи 1912–1916 годов // Пастернак Б. Собр. соч.: В 5 т. М., 1991. Т. 4. С. 361–363.
(23) Приложение. С. 623.
(24) См.: Крусанов А. Русский авангард: 1907–1932. Т. 1: Боевое десятилетие. СПб., 1996. С. 189–195.
(25) Приложение. С. 634.
(26) Разумеется, это не лишает интереса последующие опыты самого А. крученых, а также И. Зданевича или И. Терентьева (см. соответствующие разделы). О «41» см.: Циглер Р. Группа «41» // Russian Literature. XVII.I. 1985. С. 71–86.
(27) Пастернак Б. Люди и положения // Пастернак Б. Собр. соч. Т. 4. С. 334.
(28) Хлебников В. О расширении пределов русской словесности // Хлебников В. Творения. М., 1986. С 593.
(29) Пастернак Б. Люди и положения // Пастернак Б. Собр. соч. Т. 4. С. 334.
(30) Лившиц Б. Полутораглазый стрелец: Стихотворения. Переводы. Воспоминания. Л., 1989. С. 312.
(31) Там же. С. 488.
(32) Гарбуз А. «Групповой портрет» будетлян в свете фольклорно-мифологической традиции // Хлебниковские чтения. СПб., 1991. С 112.
(33) Бурлюк Д. Ядополный // Бука русской литературы. М., 1923. С.18.
(34) [Б. п.] Вечер футуристов // Русское слово. 1913. № 237, 15 окт.
(35) Пастернак Б. Вместо предисловия//Пастернак Б. Собр. соч. Т. 4. С. 373.
(36) Пастернак Б. Крученых // Там же. С. 372.
(37) Пастернак Б. Вместо предисловия //Там же. С. 374.
(38) Цит. по: Перцов В. Маяковский: Жизнь и творчество. Т. I. М., 1957, С. 328.
(39) Переписка А. М. Горького с И. А. Груздевым. М., 1966. С. 227. Архив А. М. Горького: Т. XI.
(40) Пастернак Б. Охранная грамота // Пастернак Б. Собр. соч. Т. 4. С. 224.
(41) Цит. по: Кошелев В., Сапогов В. «Музей моей весны» // Северянин И. Стихотворения. Поэмы. Архангельск, 1988. С 13.
(42) См.: Урбан А. Добрый ироник // Звезда. 1987. № 5. С. 164–173
(43) Ахматова А. Проза о поэме // Ахматова А. Соч.: В 2 т. М., 1986. Т. 2. С. 222.
(44) Там же. С. 226.
(45) Пастернак Б. Доктор Живаго//Пастернак Б. Собр. соч. М., 1990 Т. 3. С. 160.
(46) Маяковский В. Полн. собр. соч. Т. 1. С 308–309.
(47) Собрание произведений Велимира Хлебникова: В 5 т. Л., [1930]. Т. 4 С 51.
(48) Хлебников В. Неизданные произведения. М., 1940. С. 378.
(49) См.: Кандинский В. В.: 1902–1917: <Текст художниках> М., 1918
(50) См.: Шкловский В. Ход коня. М; Берлин, 1923. С. 36.
(51) Цит. по: Ланн Ж. К. Русский футуризм // История русской литературы: XX век. Серебряный век / Под ред. Ж. Нива, И Германа, В. Страды и Е. Эткинда. М., 1995. С. 533.
(52) Маяковский В. Открытое письмо рабочим // Маяковский B. Полн. собр. соч. М., 1959. Т.12. С. 9.
(53) Бердяев Н. Кризис искусства. М., 1918. С. 38.
(54) Там же. С. 30–31.
(55) Марков В. О Хлебникове: (попытка апологии и сопротивления) // Марков В. О свободе в поэзии: Статьи. Эссе. Разное. СПб., 1994. С. 200.
(56) Собрание произведений Велимира Хлебникова: В 5 т. Л., |1930 |. Т. 4. С. 116.
(57) Цитаты из трагедии даются по ее второму изданию в сб. В. Маяковского «Простое как мычание» (Пг., 1916).
(58) Пастернак Б. Люди и положения//Пастернак Б. Собр. соч. Т. 4. С. 335.
(59) Крученых А. Об опере «Победа над солнцем» // Встречи с прошлым: Вып. 7. М., 1990. С. 512.
(60) Гуро Е. Бедный рыцарь. Цит. по: Ковтун Е. Елена Гуро: Поэт и художник // Памятники культуры. Новые открытия: Ежегодник. 1976. М., 1977. С. 320.
(61) Дуганов Р. Велимир Хлебников: Природа творчества. М., 1990. С. 121–122.
(62) Чиковани С. Мысли. Впечатления. Воспоминания. М., 1968. С 77.
(63) Эфрос А. К. Малевич: (Ретроспективная выставка) // Художественная жизнь. 1920. № 2. С. 40.
(64) Дугано в Р. Велимир Хлебников: Природа творчества. М., 1990. С. 125.
(65) Там же. С. 124.
(66) Там же. С 125.
(67) Пастернак Б. Доктор Живаго // Пастернак Б. Собр. соч. Т. 3. C. 69.
(68) Калитин Н. Слово и время. М., 1967. С. 51.
(69) См.: Хан А. Реализованное сравнение в поэтике авангарда: (на материале поэмы В. Хлебникова «Журавль») // Russian Literature. XXVI. 1989. С. 69–92.
(70) Пастернак Б. Вассерманова реакция // Пастернак Б. Собр. соч. Т. 4. С. 353.
(71) Крученых А. Фактура слова: Декларация: (Книга 120-ая). М., 1923. |1922 |. С. 28.
(72) Хлебников В. Наша основа // Хлебников В. Творения. М., 1986. С. 628.
(73) Там же. С. 628.
(74) Крученых А. Ожирение роз: О стихах Терентьева и других. [Тифлис: «41°», 1918]. С. 14.
(75) Хлебников В. Наша основа // Хлебников В. Творения. С. 624.
(76) Там же. С. 628.
(77) Крученых А. Фактура слова. М., 1923. [1922]. С. II.
(78) Хлебников В. <О стихах> // Хлебников В. Творения. С. 634.
(79) Марков В. Трактат о трехгласии//Марков В. О свободе в поэзии: Статьи. Эссе. Разное. СПб., 1994. С. 334.
(80) Якобсон-будетлянин: Сборник материалов / Сост., подг. текста, предисловие и комментарии Бенгта Янгфельдта. Stockholm, 1992. С. 73.
(81) Флоренский П. Антиномия языка//Флоренский П. А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 155. В дальнейшем ссылки на это изд. в тексте.
(82) См.: Бирюков С. Заумь: краткий курс истории и теории // Хлебниковские чтения. СПб., 1991.
(83) Речь. 1916. № 8, 7 янв.
(84) Цит. по: Ковтун Е. Начало супрематизма // Малевич: Художник и теоретик: Альбом. М., 1990. С. 105.
(85) Хлебников В. Неизданные произведения. М., 1940. С. 334.
(86) Лившиц Б. Полутораглазый стрелец: Стихотворения. Переводы. Воспоминания. Л., 1989. С. 339.
(87) Основополагающее значение для разработки проблемы имела статья Н. Харджиева «Маяковский и живопись» (Маяковский: Материалы и исследования. М., 1940. С. 337–400).
(88) Пощечина общественному вкусу. [Листовка]. М., 1913. С. 1.
(89) Каменский В. О Хлебникове // Хлебников В. Творения. Том 1: 1906–1908 г. М. [Херсон], 1914. С. [VI].
(90) Шкловский В. Предисловие // Петровский Д. Повесть о Хлебникове. М., 1926. С. 4.
(91) Тынянов Ю. О Хлебникове // Собрание произведений Велимира Хлебникова. Л., 1928. Т. I. С. 22.
(92) Маяковский В. В. В. Хлебников // Маяковский В. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1959. Т. 12. С. 23.
(93) Кузмин М. Условности: Статьи об искусстве. Пг., 1923. С. 164.
(94) Мандельштам О. Буря и натиск // Мандельштам О. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 289–290.
(95) Шкловский В. Случай на производстве // Стройка. 1931. № 11. С. 6.
(96) Шершеневич В. Великолепный очевидец: Поэтические воспоминания 1910–1925 гг. // Мой век, мои друзья и подруги: Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова: Сборник. М., 1990. С. 517.
(97) Маяковский В. Я сам // Маяковский В. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1955. Т. 1. С. 20.
(98) Технический термин (лат.)
(99) Евреинов Н. Оригинал о портретистах. М., 1922. С. 74.
(100) См.: Лившиц Б. Полутораглазый стрелец: Стихотворения. Переводы. Воспоминания. Л., 1989. С. 451.
(101) Лентулов А. О В. В. Маяковском и других. // Искусство. 1940, № 3. С. 38.
(102) Там же. С. 38.
(103) Лившиц Б. Указ. соч. С. 325.
(104) Маяковский В. Я сам // Маяковский В. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1955. Т. 1. С. 20.
(105) Цветаева М. Эпос и лирика современной России: Владимир Маяковский и Борис Пастернак // Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. М., 1994. Т. 5. С. 377.
(106) Тынянов Ю. О Маяковском: Памяти поэта // Тынянов Ю. Поэтика. Теория литературы. Кино. М., 1977. С. 196.
(107) Левидов М. Сборник «Стрелец» // Наши дни. 1915. № 4. С. 11.
(108) Опять футуристы: (Вместо передовой) // Актер. 1913. № 4. С. 1.
(109) Крученых А. Стихи В. Маяковского: Выпыт. СПб., 1914. С. 11, 13.
(110) Чуковский К. Эго-футуристы и кубо-футуристы // Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник». СПб., 1914. Кн. 22. С. 124.
(111) Там же. С. 123.
(112) Чуковский К. Образцы футуристической литературы // Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник». СПб., 1914. Кн. 22. С. 147.
(113) Пастернак Б. Охранная грамота // Пастернак Б. Собр. соч.: В 5 т. М., 1991. Т. 4. С. 215.
(114) Газета футуристов. 1918. № 1. С. 1.
(115) Третьяков С. Бука русской литературы (об Алексее Крученых) // Бука русской литературы. М., 1923. С. 3.
(116) «Ужасное дитя» (фр.). – Сост.
(117) Чеботаревская А. Зеленый бум//Небокопы. СПб., 1913. С. 8; Ховин В. На одну тему. Пб., 1921. С. 94.
(118) Кречетов С. Заметки о текущей русской литературе // Утро России.1912, 6 октября. С. 5.
(119) Терентьев И. А Крученых грандиозарь. Тифлис. 1919. С. 1.
(120) Мандельштам О Литературная Москва // Мандельштам О. Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 276.
(121) Евреинов Н. О Василье Каменском // Мой журнал – Василия Каменского. 1922. № 1. С. 9.
(122) Шершеневич В. Великолепный очевидец: Поэтические воспоминания 1910–1925 гг. // Мой век, мои друзья и подруги: Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова: Сборник. М., 1990. С. 519.
(123) Каменский В. Путь энтузиаста // Каменский В. Танго с коровами; Степан Разин; Звучаль Веснеянки; Путь энтузиаста. М., 1990. С. 443.
(124) Брюсов В. Новые сборники стихов//Брюсов В. Среди стихов: 1894–1924: Манифесты, статьи, рецензии. М., 1990. С. 336.
(125) Гумилев Н. Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 120.
(126) Каменский В. Указ. соч. С. 450.
(127) Шершеневич В. Поэтессы // Современная женщина. 1914. № 4. С. 74–75.
(128) См. например: Лившиц Б. Полутораглазый стрелец: Стихотворения. Переводы. Воспоминания. Л., 1989. С. 406–407; Каменский В. Путь энтузиаста // Каменский В. Танго с коровами; Степан Разин; Звучаль Веснеянки; Путь энтузиаста. М., 1990. С. 447.
(129) Чуковский К. Образцы футуристической литературы // Литературно-художественные альмахи издательства «Шиповник». СПб., 1914. Кн. 22. С. 145–146, 150.
(130) Бурлюк Д. Фрагменты из воспоминаний футуриста. Письма. Стихотворения. СПб., 1994. С. 62.
(131) Иванов Вяч. Marginalia // Труды и дни. 1912. № 4/5. С. 45.
(132) От издателей // Хлебников В., Крученых А., Гуро Е. Трое. СПб., 1913. С. 4.
(133) Брюсов В. Год русской поэзии. Апрель 1913 – апрель 1914 г. // Брюсов В. Среди стихов: 1894–1924: Манифесты, статьи, рецензии. М., 1990. С. 437.
(134) Якобсон Р. Вместо послесловия // Харджиев Н., Малевич К., Матюшин М. К истории русского авангарда. Stockholm, 1976. С. 188.
(135) Брюсов В. Новые сборники стихов // Брюсов В. Среди стихов: 1894–1924: Манифесты, статьи, рецензии. М., 1990. С. 336.
(136) Гумилев Н. Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 169.
(137) Лившиц Б. Полутораглазый стрелец: Стихотворения. Переводы. Воспоминания. Л., 1989. С. 324.
(138) Там же. С. 365.
(139) Чуковский К. Образцы футуристической литературы // Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник». СПб., 1914. Книга 22. С. 146–147.
(140) Лившиц Б. Указ. соч. С. 459.
(141) Лившиц Б. Автобиография // Лившиц Б. Полутораглазый стрелец: Стихотворения. Переводы. Воспоминания. Л., 1989. С. 550.
(142) Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Л., 1989. С. 403–404.
(143) Брюсов В. Новые течения в русской поэзии: Футуристы // Брюсов В. Среди стихов: 1894–1924: Манифесты, статьи, рецензии. М, 1990. С. 389.
(144) Гумилев Н. Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 169.
(145) Чуковский К. Образцы футуристической литературы // Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник». СПб., 1914. Кн. 22. С. 147.
(146) Лившиц Б. Автобиография. С. 550.
(147) Там же. С. 551.
(148) Хлебников В. Неизданные произведения. М., 1940. С. 378.
(149) Цит. по: Мислер Н., Боулт Дж. Э. Филонов: Аналитическое искусство. М., 1990. С. 60.
(150) Эфрос А. Профили. М., 1930. С. 229.
(151) Лившиц Б. Полутораглазый стрелец: Стихотворения. Переводы. Воспоминания. Л., 1989. С. 412.
(152) Крученых А. Фактура слова. М., 1923 [1922]. С. [19].
(153) Шкловский В. Случай на производстве // Стройка. 1931. № 11. С. 6.
(154) См.: Парнис А. Тименчик Р. Программы «Бродячей собаки» // Памятники культуры. Новые открытия. 1983. Л., 1985. С. 221–222.
(155) Пяст В. Встречи. М, 1929. С. 277.
(156) Там же. С. 250.
(157) Сборники по теории поэтического языка. Пг., 1916. Вып. 1. С. 1–15.
(158) Лившиц Б. Полутораглазый стрелец.: Стихотворения. Переводы. Воспоминания. Л., 1989. С. 463–464.
(159) Шкловский В. О Маяковском. М., 1940. С. 96.
(160) Цит. по: Шкловский В. Гамбургский счет: Статьи – воспоминания – эссе. М., 1990. С. 519.
(161) Северянин И. Лазоревые дали: Стихотворения. СПб., 1908. На обороте обложки.
(162) Цит. по: Игнатьев И. Эго-футуризм // Засахаре кры: Эго-Футуристы: V. СПб., 1913. С. 6.
(163) Брюсов В. Игорь Северянин // Брюсов В. Среди стихов: 1894–1924: Манифесты, статьи, рецензии. М., 1990. С. 496.
(164) Критика о творчестве Игоря Северянина. М., 1916.
(165) «Фиалковый ликер» (франц.). – Сост.
(166) Иванов Г. Петербургские зимы // Иванов Г. Собр. соч.: В 3 т. М, 1994. Т. 3. С. 28.
(167) Чуковский К. Образцы футуристической литературы // Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник». СПб., 1914. Кн. 22. С. 154.
(168) Бурлюк Д. Фрагменты из воспоминаний футуриста. Письма. Стихотворения. СПб., 1994. С. 71.
(169) Олимпов К. Теоман: Феноменальная гениальная поэма. Пг., 1915. Обложка.
(170) Пяст В. Встречи. М., 1929. С. 264.
(171) Стеклянные цепи: Альманах эго-футуристов. СПб., 1912. С. 4.
(172) Дачница. 1912, 29 августа. С. 3.
(173) Олимпов К. Указ. соч. На обороте обложки.
(174) Шкловский В. Случай на производстве // Стройка. 1931. № 11. С. 6.
(175) Гиперборей. 1912. № 2. С. 30.
(176) Иванов Г. Петербургские зимы // Иванов Г. Собр. соч.: В 3 т. М. 1994. Т. 3. С. 23.
(177) Гумилев Н. Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 131.
(178) Брюсов В. Сегодняшний день русской поэзии: (50 сборников стихов 1911–1912 гг.) // Брюсов В. Среди стихов: 1894–1924: Манифесты, статьи, рецензии. М., 1990. С. 368.
(179) Блок А. Полн. собр. соч.: В 8 т. М; Л., 1963. Т. 8. С. 380.
(180) Г<рааль>-А<рельский>. Эгопоэзия в поэзии // Оранжевая урна: Альманах памяти Фофанова. СПб., 1912. С. 2–3.
(181) Шершеневич В. Великолепный очевидец: Поэтические воспоминания 1910–1925 гг. // Мой век, мои друзья и подруги: Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова: Сборник. М., 1990. С. 496.
(182) Игнатьев И. В. Эго-Футуризм // Засахаре кры. СПб., 1913. С. 8.
(183) Шершеневич В. Указ. соч. С. 496.
(184) Брюсов В. Новые течения в русской поэзии: Футуристы // Брюсов В. Среди стихов: 1894–1924: Манифесты, статьи, рецензии. М, 1990. С. 390.
(185) Гелиос. 1913. № 2. С. 46.
(186) Брюсов В. Год русской поэзии. Апрель 1913 – апрель 1914 г. // Брюсов В. Среди стихов: 1894–1924: Манифесты, статьи, рецензии. М., 1990. С. 443.
(187) День. 1913. 21 октября. (Приложение «Литература. Искусство. Наука». Выпуск 3. С. 3).
(188) Чуковский К. Эго-футуристы и кубо-футуристы // Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник». М., 1914. Кн. 22. С. 120.
(189) Городецкий С. Пучина стиховая// Речь. 1913, 18 февраля. С. 3.
(190) Лившиц Б. Полутораглазый стрелец: Стихотворения. Переводы. Воспоминания. Л., 1989. С. 461.
(191) Гумилев Н. Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 168.
(192) Цит. по: Лившиц Б. Полутораглазый стрелец: Стихотворения. Переводы. Воспоминания. Л., 1989. С. 460.
(193) Ходасевич В. О новых стихах // Ходасевич В. Колеблемый треножник. М., 1991. С. 504.
(194) Георгий Гаер [Шершеневич В.] У края «прелестной бездны» // Без муз. 1. Нижний Новгород, 1918. С. 43.
(195) Новая жизнь (лат.). – Сост.
(196) Поэтическое искусство (франц.). – Сост.
(197) Юбка-брюки (франц.). – Сост.
(198) Живая природа (франц.). – Сост.
(199) Шершеневич В. Великолепный очевидец: Поэтические воспоминания 1910–1925 гг. // Мой век, мои друзья и подруги: Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича и Грузинова: Сборник. М., 1990. С. 529.
(200) Приписываемая Большакову книга стихов и прозы «Мозаика» (М., 1911), по-видимому, принадлежит не ему (см.: Богомолов Н. Предисловие // Большаков К. Бегство пленных, или История страданий и гибели поручика Тенгинского пехотного полка Михаила Лермонтова: Роман; Стихотворения. М., 1991. С. 6).
(201) Писатели: Автобиографии и портреты современных русских прозаиков. Изд. 2-е. М., 1928. С. 61.
(202) Железная дорога (франц.). – Сост.
(203) Стихи Ю. А. Эгерта. (Прим. авт.)
(204) Доброй памяти Ст. Малларме (франц.). – Сост.
(205) Бордо (франц.). – Сост.
(206) Чуковский К. Эго-футуристы и кубо-футуристы // Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник». СПб., 1914. Кн. 22. С. 119.
(207) Брюсов В. Вчера, сегодня и завтра русской поэзии // Брюсов В. Среди стихов: 1894–1924: Манифесты, статьи, рецензии. М., 1990. С. 597.
(208) Шершеневич В. Великолепный очевидец: Поэтические воспоминания 1910–1925 гг. // Мой век, мои друзья и подруги: Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова: Сборник. М., 1990. С. 527.
(209) Шершеневич В. Великолепный очевидец: Поэтические воспоминания 1910–1925 гг. // Мой век, мои друзья и подруги: Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова: Сборник. М., 1990. С. 489.
(210) Там же. С. 522–523.
(211) Шкловский В. Крутая лестница // Воспоминания о Николае Асееве. М., 1980. С. 85.
(212) Брюсов В. Вчера, сегодня и завтра русской поэзии // Брюсов В. Среди стихов: 1894–1924: Манифесты, статьи, рецензии. М., 1990. С. 596.
(213) Советские писатели: Автобиографии в двух томах. М., 1959. Т. I. С. 617.
(214) Шершеневич В. Великолепный очевидец: Поэтические воспоминания 1910–1925 гг. // Мой век, мои друзья и подруги: Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова: Сборник. М., 1990. С. 528.
(215) Шершеневич В. Великолепный очевидец: Поэтические воспоминания 1910–1925 гг. // Мой век, мои друзья и подруги: Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова: Сборник. М., 1990. С. 532.
(216) Пастернак Б. Охранная грамота // Пастернак Б. Собр. соч.: В 5 т. М., 1991. Т. 4. С. 220.
(217) Бурлюк Д. Фрагменты из воспоминаний футуриста. Письма. Стихотворения. СПб., 1994. С. 41.
(218) Асеев Н. Родословная поэзии: Статьи. Воспоминания. Письма. М., 1990. С. 364.
(219) Асеев Н. Дневник поэта. Л., 1929. С. 53.
(220) Там же. С. 52.
(221) Не смешивать с ходячим понятием «инструментовки» стиха, радующим только актера. (Прим. авт.).
(222) Пастернак Б. Охранная грамота // Пастернак Б. Собр. соч.: В 5 т. М., 1991. Т. 4. С. 215.
(223) Брюсов В. Год русской поэзии: Апрель 1913 – апрель 1914 г. // Брюсов В. Среди стихов: 1894–1924: Манифесты, статьи, рецензии. М., 1990. С. 443.
(224) Пастернак Б. Указ. соч. С. 227.
(225) Минувшее: Исторический альманах. М.; СПб., 1993. Т. 13. С. 188.
(226) Правильно: Zaw (греч.) – жить. – Сост.
(227) Сельвинский И. Я буду говорить о стихах. М., 1973. С. 285.
(228) Раньше, прежде, до (франц.). – Сост.
(229) Как угодно, на выбор (лат.). – Сост.
(230) Якобсон Р. Избранные работы. М., 1985. С. 250.
(231) Асеев Н. Послесловие // Божидар. Бубен. 2-е изд. М.; [Харьков], 1916. С. 23–29.
(232) Студент сошел с ума, он воображает, что сидит в стеклянной бутылке.
Э. Т. А. Гофман (нем.) – Сост.
(233) Хлебников В. О современной поэзии // Хлебников В. Творения. М, 1986. С. 633.
(234) Платов Ф. Гамма гласных // Второй сборник Центрифуги. М., 1916. С. 68.
(235) Кушнер Б. Рукопожатие // Наш путь. 1918. № 2. С. 186.
(236) Лившиц Б. Полутораглазый стрелец: Стихотворения. Переводы. Воспоминания. Л., 1989. С. 452.
(237) Терентьев. 17 ерундовых орудий. Тифлис, 1919. С. 12.
(238) Там же. С. 8.
(239) Терентьев И. А. Крученых грандиозарь. Тифлис, 1919. С. 13.
(240) Терентьев И. Собр. соч. Bologna, 1988. С. 398.
(241) Данилов С. Гоголь и театр. Л., 1936. С. 261–262.
(242) Брюсов В. Среди стихов // Брюсов В. Среди стихов: 1894–1924: Манифесты, статьи, рецензии. М., 1990. С. 646.
(243) Асеев Н. «Артель Лефа» // Асеев Н. Родословная поэзии. М., 1990. С. 334.
(244) Пастернак Б. Собр. соч.: В 5 т. М., 1992. Т. 5. С. 298.
(245) Цит. по: Александров Р., Голубовский Е. Поэт Анатолий Фиолетов // Альманах библиофила. М., 1980. Вып. 9. С. 239.
(246) Цит. по: Северянин И. Стихотворения. М., 1988. С. 417.
(247) Северянин И. Заметки о Маяковском // Таллин, 1988. № 5. С. 110.
(248) Гумилев Н. Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 195–196.
(249) Новый журнал для всех. 1916. № 2/3. С. 75.
(250) Сыр (исп.). – Сост.
(251) Каменский В. Путь энтузиаста // Каменский В. Танго с коровами; Степан Разин; Звучаль Веснеянки; Путь энтузиаста. М., 1990. С. 504.
(252) Большаков К. Предисловие // Спасский С. Как снег. М., 1917. С. 3.
(253) Петровский Д. Повесть о Хлебникове. М., 1926.
(254) Спасский С. Маяковский и его спутники. Л., 1940. С. 93–94.
(255) Цветаева М. Наталья Гончарова // Цветаева М. Соч.: В 2 т. М., 1988. Т. 2. С. 44.
(256) Пощечина общественному вкусу (см. Приложение).
(257) Чурилин Т. Весна после смерти. М., 1915. С. 5.
(258) Гумилев Н. Письма о русской поэзии. М, 1990. С. 193.
(259) Челионатти [Вермель С] Лирики // Московские мастера: Журнал искусств. М., 1916. С. 82.
(260) Напротив (франц.). – Сост.
(261) Жизнеописание (лат.). – Сост.
(262) Интерьер (франц.). – Сост.
(263) Русская песня (франц.) – Сост.
(264) Положение (франц.). – Сост.
(265) Здравствуй, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя! (лат.) – Сост.
