
Издание представляет одну из лучших книг Вс. Иванова «Тайное тайных». Впервые после 1927 г. рассказы, составившие книгу, печатаются по первому изданию, без поздних редакторских и цензурных искажений текста. В раздел «Дополнения» включены рассказы Вс. Иванова 1916-1921 гг., подготовившие появление книги «Тайное тайных», большинство из них публикуется впервые; рассказы и повести второй половины 1920-х годов, написанные в ключе «Тайное тайных»; без купюр представлена переписка Вс. Иванова и A.M. Горького 1924-1928 гг. Издание иллюстрировано редкими фотографиями.
Для широкого круга читателей.
Всеволод Вячеславович Иванов
Тайное тайных

Тайное тайных
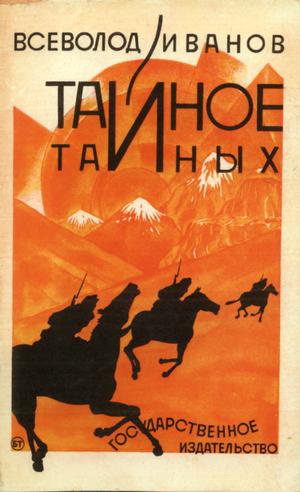
Жизнь Смокотинина*
Когда, впервые после долгих войн, пришли в деревню плотники рубить богатому мужику Анфиногенову вместо сгоревшей новую избу, – насмешек над ними было много. То кричали, что топоры за революцию иступились – голов много порубили ими; то – осины им теперь, разучившись, не отличить от сосны; то – просто необъяснимый солдатский мат. Но все ж было приятно сознавать наступившее стоящее время, когда можно и построиться и поработать не зря. И все подолгу ходили подле накиданных холмом желтых бревен и щупали хорошие златоустовские топоры1.
Подрядчик2, рубивший избу, был свой, деревенский, Евграф Смокотинин, низенький широконогий старичок. Евграф был запуган войной, голодом, непонятными налогами3, а еще больше его запугали, когда вновь, после долгого перерыва, он начал подрядничать. Срубил в волости, на совесть, лавку для кооператива4, деньги назавтра получать, а кооператив возьми и лопни! Суд да дело, и не поймешь, кто виноват, и взыскивать не с кого. После этого он окончательно никому не верил и сам платил и себе требовал платить за работу вперед. Накануне рубки избы ему занедужилось, или он притворился, чтоб приучать детей, но он направил смотреть за работой младшего сына своего Тимофея.
Румяному, ясному и звонкоголосому Тимофею смотреть за работой и понукать плотников было скучно. Он схватил топор, выбрал потяжелее лесину и – ударил! Топор зазвенел, охнуло дерево… Утро выдалось прохладное; на исподе листьев еще не обсохла роса; подле амбара ворковали голуби – и голоса у них были деловые, как и все в это утро. Плотники, видя, как старается их хозяин, тоже крепко ухватились за топорища. Они были со стороны, не любили эту сытую деревню, и им хотелось показать, как по-настоящему должно работать. А хозяин словно желал с ними потягаться.
Здесь из-за амбара вышла Катерина Шепелова, вдова: мужа у ней убили на войне, она осталась с одним ребенком. Кто знает, чем она жила, – говорили, будто бы волостной кооператив заказывает ей для продажи вязать варежки. Да и велик ли от варежек доход. И часто, ночью, в открытое окно протягивалась из тьмы неизвестная рука, ставившая на подоконник узелок с пищей: тайная милостыня5. Собой она была высокая, здоровая, молчаливая, голову держала несколько наискось, и казалось – мели землю длинные каштановые ее ресницы… Обойдя холм сутунков6, сильно пахнущих смолой, она поравнялась с плотниками и медленно, словно стыдясь, взяла большую, аршина в полтора длиной щепу7. Поклонилась им низко. Плотник взглянули на хозяина – тот горел над лесиной; думал он вырубить из нее матицу8, а попался громадный сук, значит, опозорился: в матице сучков не полагается.
– Баба-то будто окно, раму бы ей подходявую: тут тебе и тепло и светло будет, – сказал один из плотников, глядя вслед Катерине.
Тимофей поднял голову и тут только заметил Катерину.
– Кто ей щепу дал?
– Сама взяла, – с неудовольствием ответил тот же плотник: хозяин, молодой и глупый, не знал, видно, обычая, по которому плотники могут давать щепы кому захотят.
Из-за неудавшейся матицы, из-за того, что по голосу плотников можно было понять, что он спорол какую-то глупость, – Тимофей рассердился, догнал уже ушедшую за амбар Катерину, схватил ее за рукав синей кофты и раздраженно крикнул:
– Кто тебе позволил щепы таскать?
Катерина плавно качнула плечами, – кофта у ней была старая, заплатанная, плохо застегнутая на груди и, должно быть, надетая на голое тело, потому-то она и прижала щепу к груди, словно ребенка, – и от этого ее движения словно что-то зарябило внутри Тимофея. Он протянул руку – с бабами он был боек – и вместо щепы, через незастегивавшуюся прореху, схватил ее за грудь. Катерина, – не так, как иные бабы: не завизжала, не заерзала, и ноги ее остались твердыми, она даже будто и не спешила его оттолкнуть, – Катерина только сказала:
– Полно, – и выпустила щепу.
Щепа медленно скользнула, ткнулась концом в землю и, прежде чем свалиться, легонько качнулась, словно вздыхая. Катерина подобрала под платок руки, повернулась, и вдруг Тимофею показалось, что вместе со щепой скользнуло так же его сердце, так же торчком, так же качнулось…
– Иди ты, задавалка, – прокричал он и, похлопывая себя отнятой щепой по сапогу, вернулся к работе. А щепа-то была тяжелая, и казалось – похлопывает он себя поленом.
– Грош на разживу да щепочку на растопку, – насмешливо поддразнил его все тот же плотник.
Но Тимофей не огрызнулся.
Попробовал он было выбрать новую лесину для матицы, но вдруг оказалось, что лес-то сплошь мяндач9 – сучковатый и сырой; что место для избы выбрано покатое, надо скапывать, выпрямлять; да и плотники лодыри, много курят и смеются. Захотелось домой – выпить чаю; пойти на реку, что ли – выкупаться.
– Канительте папаши получится10, – сказал ему вслед насмешливый плотник: – жоха11 вырастет для нашего сословия.
И все плотники согласились с его мыслью.
Отец лежал на голбце12, и когда сын вошел, он заохал, застонал, – Тимофею было противно видеть его притворство. Отец начал выспрашивать, как идет рубка. Кипящий самовар стоял на столе, сестра налила Тимофею чашку и придвинула сахар в стеклянной сахарнице, похожей на подойник. Тимофей не ответил отцу и выругал сестру:
– Только и знайте чай жрать, а он два цалковых13 кирпич!
Вышел на реку. На противоположном берегу в зарослях перекликались бабы, сбиравшие смородину. Он и на это рассердился. Стянул было сапог – выкупаться, – онучи14 были горячие и свернулись трубочкой, отдаленно напоминая форму его ноги. Он хлопнул кулаком по онуче.
Лето выдалось тихое, запашистое. К вечеру выпадал легкий дождь, выбирая каплями в пыли тонкую сетку; росы были тяжелы и теплы; майки – ароматные жуки, носившиеся по вечерам, – тыкались, словно играя, в волосы: поздравляли с урожаем. Работать бы, рубить бы в это лето, все перепахать, все застроить, всю округу!
А Тимофей с того утра так и не заглядывал к срубу. Отец поругался, поругался и пришел сам вести дело. И на пашню не хотелось Тимофею, а с пашни все приезжали усталые, выпить было не с кем, и даже варка самогона уменьшилась. Вдумалось Тимофею погулять по реке с броднем15, а как сунул ногу в воду, так чуть было не вытошнило.
– Поди ты, – смущенно сказал он, опуская бродень на теплый песок, – болесть какую что ли прилепили?
Вечером знахарная бабка вспрыснула его с уголька, дали выпить крещенской воды, но и от этого не стало легче. Даже спать стал плохо. Той же знахарке обещал шерстяную юбку, если ночью приведет на сеновал Катерину. Бабка всполошилась.
– Я тебе лучше Лизавету приведу, та и не так сухопара и соглашается. Катерина никак не ляжет. Перед мужем, грит, в обете и ни замуж, ни под мужика не пойду. Разве гостинец обещать настоящий, вроде ботинок, что ли…
Но и бабке Катерина ответила тем же темным словом: «Полно», и бабка, пристально взглянув на ее ресницы, вдруг зашикала, замахала руками.
Жара началась в небе, жара была в душе. Зрел колос, и зори были пьяны своей сытостью, весельем, как и поля.
Тогда Тимофей упросил отца справить ему подводу и уехал в город извозничать. Но извозчик из него выдался на редкость плохой. Хоть и стоял он на самых бойких перекрестках вроде того, что подле зеленой церквушки, похожей на лукошко с грибами; хоть и лошадь была сытая и тележка новая, окрашенная в голубую краску; хоть и парень будто бравый, – а пойдет седок – пьяный, дурак – посмотрит на ямщика и направится к следующему. Тимофей никогда не зазывал; подсобрав выручку, приворачивал к пивной и, облокотившись на стол, торопливо пил пиво; молча, как на перекрестке – не видя никого – глядел на столики. Однажды в праздник довелось ему выручить семь рублей; пошел, с приятелями по квартирному углу, в трактир. Один из них, гундосый и прыщеватый, рассказывал, как он вчера испортил девчонку, как она орала и царапала стену. Слушавшие долго хохотали над каждым словом.
– Пересплю разика два еще, да и ну ее… плаксива больно… – закончил гундосый.
– А не зажалеешь? – вдруг спросил Тимофей.
– Чего? – удивился гундосый.
Тимофей тряхнул головой – и потребовал стакан водки… Приятели тоже, за компанию, выпили по стакану. Тогда Тимофей сказал:
– А я одну… вдову загубил, жениться не хотел, она мне и говорит: на ком этот вздох, тот бы в щепку иссох…
Водки осталось лишь полстакана. Стали обсуждать, что пить дальше – пиво или водку. Все давно забыли о словах Тимофея, а ему хотелось досказать, почему он не женился и как ее слова оказались брехней и только после ее слов началось ему настоящее везенье: зарабатывает он уйму, коляску скоро себе заведет на дутых… Многое хотелось ему рассказать, но так и не пришлось.
Утром он опохмелился в том же трактире, голова сразу необычайно прояснилась, и ему стало так весело, как не бывало давно. Стоял он опять на том же шумном перекрестке подле зеленой церковки, похожей на лукошко с грибами. Он бойко посматривал по сторонам, и какой-то старик в длиннополом сюртуке, умиленно указывая на него, сказал шедшей рядом с ним молодке: «Купец, Гаврылов, тысячами когда-то ворочал, а теперь до чего довели, – извозчик». И Тимофею было приятно, что его приняли за купца. Но вдруг направо от человека с лотком – пирожника – отошла женщина в синем платье. Легкие руки ее таким знакомым, единственным, движением скрылись у нее под платком, походка ее была единственная, тоскливая… Сразу та ясность, что порхала в Тимофее, слетала, как цвет ветром с шиповника; защипало в глазах… Крикнуть он было хотел, подхватил вожжи, и лошадь словно узнала ее, – смирная была всегда, а тут понесла в толпу! Мальчишку с сумкой сшибли, посыпались книжонки, пирожник упал, подвернулась какая-то бабка в длинной серой шали… А Тимофей кричал, нахлестывая лошадь: «Останови ее, останови!..» Румяный милиционер засвистал, сам забавляясь и суматохой, и свистом, и непонятным происшествием.
Тимофея забрали в часть. Просидел он неделю, выпустили: решили – больной. Лошадь за эту неделю исхудала, словно и она стыдилась. Тимофей продал лошадь, пропил деньги и в опорках вернулся в село. Отец уже подрядился за этот год строить четвертую избу, а был все так же запуган. На нивах в жнивье гуляли жирные гуси; по утрам вдоль реки появлялась наледь, и крепко пожелтели осины. Катерина и думой не бывала в городе, все в том же синем латаном платье проходила она селом, и казалось – дали ей чужую жизнь жить, она и живет. Вскоре после приезда Тимофея волк задрал у них в поле жеребенка. С жеребенка сняли шкуру, а тушу оттащили в овраг, в кусты. Отец дал Тимофею дробовик, заряженный картечью, и приказал сидеть в кустах: кто знает, волки осенью злы, голодны, авось и придут на мясо. И верно, на рассвете в кустах таволжника вверху оврага показалась пара волков, – никогда не предполагал Тимофей, что у них такие громадные головы. Тимофей выстрелил, волки прыгнули, и один из них захромал. А Тимофею было скучно и хотелось спать. «Завтра найду», – подумал он и отправился домой. В деревне еще спали, но когда он вошел в улицу, уже показался из труб дым, и оранжево заблестели отсветами от печей маленькие окна. В окне избушки Катерины тоже мелькнуло оранжевое пламя. Тимофей заглянул. Катерина стояла к нему боком и тянула с печи лучины. Печка, видимо, слабо разгоралась, и она хотела добавить лучины. И опять Тимофей увидал ее руки: легкие, белые и пушистые, чем-то напоминавшие лен. Когда она касалась ими груди, то словно мелькали зарницы: не освещая, а наводя трепет и на ее лицо и на чужое. Ее, стоявшую неподвижно со щепами… даже какое-то умиление почувствовал Тимофей. Но едва она двинулась и руки опустились к бедрам, едва показалась линия грудей, словно крутой берег выступил из тумана, – Тимофею стало стыдно, мерзко – и того, что он даже думал на ней жениться и не было сил сказать о женитьбе и отцу и ей; и того, что он ждал опять этого слова «полно», и того, что он, здоровый, казалось, смелый человек стоит, как попрошайка, под окном, не смея не только войти, но и подумать об этом.
Тимофей, дабы освободиться от таких мыслей, жирно сплюнул и, сплюнув, почувствовал на плече тяжесть ружья. Достал патрон и не мог припомнить – с картечью он или с дробью. «Все равно – три шага», – подумал он, и та необычайная ясность – что приходила однажды на перекрестке подле зеленой церквушки – опять нахлынула на него.
Он не убил ее, заряд угодил ей в плечо. Она пролежала полтора месяца на лавке под тулупом, присланным отцом Тимофея, – на суд она не явилась. Тимофей ничего не смог объяснить суду – о колдовстве ему было стыдно говорить, хотя и хотелось. «Как щепа за сердцем», – сказал он и развел руками. Суд дал Тимофею год. Отсидев положенный срок, он уже не вернулся в свою деревню. В тюрьме он завел много знакомств, начал шляться с новыми знакомыми по ярмаркам, с цыганами сидеть в трактире. Жизнь казалась легкой, невсамделишной, все думалось: надо прийти к отцу, поклониться в ноги и сказать, а что сказать – он и сам еще не знал. А пойти к отцу все не было времени, да и одежонка поистрепалась.
Опять была осень, заморозки, небо словно в инее. На одну из ярмарок привели откуда-то из-под Оренбурга необыкновенных аргамаков16. Мужики за последнее время полюбили кровных лошадей, – цыгане предложили Тимофею дело. Но пригнавшие аргамаков тоже были коновалы опытные, хитрее цыган. Аргамаки стояли в сарае, одна стена сарая выходила в темный переулок. Цыгане выпилили доску. «Полезай» – сказал ему нетерпеливо самый молодой. Тимофей прыгнул: невиданная боль ударила ему в колени, – коновалы поставили вдоль стены волчьи капканы. Он закричал. Замелькали фонари, кто-то выстрелил. Тимофея долго били кулаками, плетью, допытывались – где цыгане. Он сказал. Тогда его ударили в бок поленом – и кинули в овраг, за селом. У него вытек глаз, он начал хромать – и пошла о нем тяжкая слава. Теперь и пьяный даже он не думал возвращаться к отцу. Цыгане его гнали от себя, он совсем обносился, голодал, и однажды парни из соседней деревни предложили ему убить какого-то человека. За убийство они обещали валенки, полушубок и соглашались отвезти в город.
– Да, братишки, довела меня, подлюка! Идет, согласен непременно! – закричал он. Услышал свой голос – и попросил водки. Ему дали полстакана, и в санях, лежа среди парней, он врал им о своей любви к поповской дочери: как гонял его поп, как подговаривал деревню выселить его… Парни, неизвестно чему, хохотали, пока не доехали до угла большой пятистенной избы. Они предложили ему постучать в окно, крикнуть Игната и, когда тот выйдет, сунуть ему нож в живот. Тимофей так и сделал. Вышел Игнат, высокий мужик в длинном тулупе, похожий на попа. Был высокий спокойный месяц, и лицо у Игната было тоже спокойное, и шуба его казалось синей, а воротник походил на облака.
– Не мешай жить, – крикнул Тимофей, ударяя его ножом.
Однако нож скользнул, и вдруг все перемешалось в теле Тимофея. Он ясно почувствовал – горький снег во рту, шатающийся сугроб – и месяц скользнул у него между рук…
Утром Тимофея нашли за овинами, подле проруби на речке, мертвого. Голова у него была проломлена в трех местах, а десны – совершенно голые, как у ребенка. Родное село его было в тридцати верстах, думали – отец не приедет, а он приехал, на паре саврасых… Посмотрел сыну в лицо, перекрестил и, прикрыв его скатертью, велел положить в сани.
И вот Тимофей последний раз лежал дома, под образами, в горнице. Лысый дьячок читал псалтырь, кошка играла бахромой скатерти, сестра Тимофея пекла поминальный обед. Все было спокойно: без рева, без хлопот.
В сенях плотники стругали гроб, и насмешливый плотник, когда-то вместе с Тимофеем рубивший избу Анфиногенову, подтрунивал над недавно женившимся товарищем. Многие приходили проститься с покойником. Плотники, чтоб идти было легче, отодвигали в угол рассыпавшиеся по всем сеням, медовые запахом стружки. Пришла и Катерина. Перекрестилась, оправила медяки, сползавшие с глаз Тимофея, поцеловала его в лоб. Медяки делали его лицо испуганным и робким. «Полно», – сказала шепотом Катерина – и еще раз перекрестилась. В сенях она посмотрела на гроб. Плотники отдыхали, курили. Крепко пахло махоркой. Она туго, чтоб не скользил с плеч, затянула платок узлом на груди – склонилась к полу. И никто теперь не помешал бы ей набрать щеп.
Полынья*
Жизнь, как слово – слаще и горче всего1.
Богдан Шестаков очень изменился за последний год. Когда он напивался – в голову приходили тягучие мысли о смерти, а подумав, он начинал драку. В деревне его стали бояться и хвалили только за то, что он дерется не ножом, а постоянно палкой. Девки приставали меньше, и кто-то пустил по нем славу – порченый. И верно – всякий раз после пьянки его долго тошнило синей слизью, и если выскакивал из горла темный сгусток крови, то становилось легче дышать… Кожа на его огромном скуластом лице казалась какой-то гнилой, а маленькие глазки смотрели с такой злобой, словно дано было ему видеть мир в последний раз.
Был конец масляной2, деревня много дней уже пила, дралась и, путаясь в огромных сугробах, орала матерные песни. Накануне прощеного воскресенья3 девки не пришли на вечерку4, и Богдану хоть и скучно было драться без девок, но опять заныло сердце, опять в голове стало так, словно он стоял, наклонившись над бездонным оврагом – и Богдан разогнал вечерку, выбил в избе окна и даже ударил любимого своего друга Степку Бережнова. Ударил в ухо, в кровь, а Степка парень был гордый, удара не простит – и думал утром Богдан: теперь или Степку придется зарезать или Степка зарежет его. Стало необычно тоскливо. Плохо растапливалась печь. Мать, перекладывая поленья, сказала ему:
– Хоть бы ты долги за бочки собрал, кончат тебя скоро. Степка по селу ходит – не миновать, говорит, тебе ножа.
В свободное от хозяйства время Степан бондарничал5. Деньги за работу сбирать не умел, и часто надо бы сказать заказчику ласковое слово, а у него получалась брань. И то, что мать не пожалела его, а думала больше о деньгах, тоже как-то расслабило Богдана. Вяло и нехотя натянув щегольские, с узкими голенищами сапоги, взял обеденный нож со стола, вытер его два раза о подошву и сунул за голенище. Мать только громыхнула ухватом. Размахивая сучковатым своим батожком, Богдан вразвалку, лихо играя плечами и удало посматривая по сторонам, шел по улице. В первый раз за всю его жизнь лежал у него за голенищем нож, и было непонятно чего стыдно и даже страшно. Казалось – выбеги сейчас из-за угла Степка, едва ли Богдан выхватил бы нож и даже едва ли поднял бы палку. Деревня после вчерашней гулянки еще спала. Выйдет разве за ворота посмотреть погоду какой старик. Тупо стоит, распахнув тулуп и подставив солнцу сивую бороду. Снег тает у него подле валенок, валенки темнеют, и не видит ничего старик. Даже собаки не лаяли, словно и они страдали с похмелья. Казалось Богдану – разбежалась, перепряталась по сугробам деревня, словно вспорол он своим ножом мешок с пшеницей. Так Богдан дошел до выгона, там уж кое-где посерел снег: словно протерлась материя и выступила подкладка. Ночью, надо думать, выпадала пушная кидь6 – самый крупный снег, и обледенелая дорога казалась исковерканной долотом. И опять мысли, тяжелее горы, упали на него. Один он стоял у поля. Повернуть же в деревню было страшно, до поту. Вправо от выгона белело кладбище, и пришло ему в голову, как трудно будет долбить ломами могилу, а копать ему могилу будут парни-сверстники (есть такой обычай: зарезанному приятелю сверстники копают могилу, чтобы подольше поговорить о покойнике). Степка первым пойдет по деревне… И тогда он подумал: «Надо обрат идти. Говорят так, поди – от Степкина ножа утек». И все ж не было сил обернуться к родным избам. Здесь он припомнил, что в Данилове – соседней деревне, верстах в пяти – сегодня престол7 и вечерки. В Данилове так же, как и в родной его деревне, резались и пили. Но кто знает, если зарежут в Данилове, может, тот же Степка пойдет отплачивать за Богдана и падает от ножа или кола подле даниловской околицы.
Богдан выпустил чуб из-под шапки, подтянул выше голенища, страх будто прошел, и Богдан направился по обширной снеговине в Данилово.
С легким хрустом скользили его каблуки по ледку дороги. Хруст льда был рыхлый, весенний, и рыхлые шелковисто-белые облака были в огромном небе. Конец снеговины был занят легким синеватым леском. Дорога, словно утомившись прямо бежать по снеговине, начинала вилять и в лесок брела, как пьяная. Лесок-ельничек был весь в снегу, в искрах, в фарфоровом блеске, поднимался он на холм бодрый, веселый, словно бы с пеньем. За холмом поляна, а с краю ее – Данилово. Перед самым леском текла речка, занесенная пухлым снегом, убродная8, словно стянула она со всей равнины на себя снега, будто нужно ей было прятать что-то драгоценное. Ничего-то в ней не водилось, даже пескари, и те давно передохли, запутавшись и устав жить в неимоверно густых лопухах и водорослях. Через речушку лежал мостик, тоже занесенный снегом, торчали от него два столбика, а направо от этих столбиков виднелся сруб, – года два назад хотел даниловский кооператив устроить здесь мельницу, да так, неизвестно почему, ничего не получилось. Летом в этот сруб парни водили девок, водил и Богдан; раз даже, по торопливости, не запалил спичку и свалил девку на ребячью шалость. Парни позже хохотали над девкой целый месяц: и кожура, мол, и нутро перепорчены.
И вдруг влево от столбиков, в двух саженях, не более, увидал Богдан громадную, как большой двор, полынью.
Не меньше как в неделю раз ездил Богдан по этой дороге за сеном на луга, а заметил эту полынью впервые. Вода была неподвижна, смарагдово-зеленая по краям, а снег, окружавший полынью, казался необычайно рыхлым, злым. Да и полынья не казалась радостной, будто речушка вынесла в ней всю свою злобу, накопленную в долгие годы.
А по ту сторону полыньи увидал Богдан большого сизоголового селезня9.
Кому дано знать, как он попал, когда он попал на эту полынью! То ли затосковал он в солнечной стране по родным лугам? То ли на самом деле должна через несколько дней хлынуть весна? И селезень, словно смеясь над смущенно остановившимся человеком, весело поныривая, плыл вдоль полыньи. И казалось, когда он выныривал, – вода расцветала. Селезень крякнул, ударил крылом и подплыл ближе к человеку. И то, что он ударил крылом, словно по сердцу, непередаваемо разозлило Богдана. Он отпрыгнул, схватил глызу10 и метнул ею в селезня. Птица нырнула, семь темно-серебристых кругов, похожих на круглые перья, пошли от нее. И Богдан уныло подумал – не завести, видно, ему никогда дробовика. Он быстро начал сбирать глызки, и ему было стыдно: большой парень, ухобака11, а, словно мальчишка, гоняется за селезнем. Но тут ему захотелось принести на вечерку в Данилово дикого селезня.
– Замучаю, курва! – закричал он, продолжая сбирать глызки.
Селезень крякал, тревожно смотрел вверх. Рыхлые облака, словно пряди седых волос на молодом лице, продолжали скользить по небу. Желтый клюв селезня, подобный уцелевшему осеннему лепестку, тонул в воде. Богдан, весь потный, увязая в снегу по пояс, бегал с одного берега на другой и все не мог отыскать такого места, с которого он мог бы попасть в селезня. Подле кустика он ткнулся в настыль: промерзшую толстую кору снега. Богдан наломал куски этой настыли и долго кидал их в прорубь. Он скоро устал – и от злости на такую глупую охоту и от мысли, что селезень может улететь. А селезень продолжал все нырять и нырять, и казалось – с каждым разом он остается в воде все дольше и дольше. И вот когда он нырнул особенно надолго, Богдан, внимательно рассматривавший полынью и гадавший, где бы мог быть вынырнувший селезень, как-то невзначай взглянул на сугробы. По сугробам переметывался с тревожным шипеньем снег. Богдан поднял голову, и в небо, словно с сугробов, перекинулась волокушка12. От солнца в мятущихся снегах осталось только пятно огненно-красной киновари. Края земли походили на завороты сугроба. Деревни не было видно.
Тогда Богдан поспешно отыскал свою палку, переломил ее, долго целился и так кинул ее, что палка завизжала. Селезень взлетнул на сажень. Богдану показалось, что он попал ему в крыло. Да и селезень теперь не нырял, а, чуть волоча крыло, плыл вдоль снежного берега. В воду с надутых, как капризные губы, сугробов сыпался в воду снег. Стало тускло, как в сумерки. Очень ясно обозначились талые места дороги, и тут только Богдан понял, что, даже убив селезня, он не смог бы достать его из полыньи. Разве лесиной, но едва ли подыщешь такую тонкую лесину, которая могла бы достать до середины полыньи. Он почувствовал иней на шее, замотал крепче шарф, перетянул опояску, вдруг стало почему-то обидно, что на полушубке недостает трех пуговиц. И опять с непонятным страхом подумал о родной деревне, о Степке, опять тяжелые, как горы, мысли подступили к сердцу… От ножа ноге стало холодно, он достал нож и сунул его за пазуху. Посмотрел на полынью, – селезня за снегом не было видно. Богдан постоял, подумал и все-таки пошел в Данилово.
А ветер все усиливался, и не успел Богдан отойти десяти шагов от столбиков моста, как снег – мелкий, пылистый, «блеска» – так ударил ему в лицо, что словно забил горло. Богдан долго протирал глаза и, протирая, не заметил, как очутился в уброде. Потерялась лиловая тень мельничного сруба, да и ельник куда-то исчез – и дороги под собой не нашел Богдан. И когда он, поддерживая для чего-то шарф на шее, кинулся вперед, – вдруг темная вода полыньи открылась у его ног. Снег медленно уходил в воду, так медленно, что казалось – прежде чем уйти, он скользит поверху, отыскивая нору, куда бы мог скрыться от разъяренного ветра, от бесконечных однообразных полей, и, уходя, не верит, что можно скрыться. Богдан, неотступно глядя на полынью, медленно шел вдоль берега и вскоре наткнулся опять на столбики. Он яростно сбил с одного из них снег. Он потоптался перед столбиком, даже как-то неумело припляснул, – сразу стало веселей, и он вновь направился в Данилово.
И вновь, не успев отойти десятка шагов, сбился с ледка дороги (хотя вначале, прежде чем ступить, нащупывал впереди себя ледок, но ему быстро надоело нащупывать, сразу поверилось в удачу) и опять попал в уброд, глубокий теперь почти по пояс. Идти вперед по уброду было до обиды страшно, – каждый шаг, казалось, обваливался и катился в полынью. Мчалась округ него шипящая светлая темнота. Богдан остановился. «Господи!» – прокричал он приказывающе, повел палкой, и вправо палка его наткнулась на бревна мельничного сруба. Он хотел было войти туда, но вдруг зачем-то вспомнилось, как воняло в срубе, когда он водил туда девок, и как вонь эту замечали только тогда, когда шли обратно. И стало ему до слез обидно за Степку, пригнавшего Богдана на такую обидную смерть к срубу. «Господи», – опять приказал он. А поносуха все сильнее и сильнее крутила снега, словно ситец притискивая к его телу кожух. «На дорогу от сруба надо брать влево», – припомнил Богдан. А на дороге ветер был еще сильнее, поднялся, видно, последний зимний занос. Столбик вновь был занесен снегом, полынья исчезла: «Тоже, должно быть, занесло», – подумал Богдан, и ему стало легче. Он присел на столбик, скрутил папиросу и, когда между колен в полушубке зажигал спичку, ветер дернул, вырвал кисет, обидно помахал им в воздухе и швырнул его к полынье, в снега. Богдану стало так тяжело, что он даже не обрадовался тому – на таком сильном ветру, закуривая папиросу, не испортил ни одной спички. «Затянулся напоследки», – подумал он и здесь вспомнил опять Степку, свою трусость, и селезень в проруби чем-то напомнил ему венчик, что надевают на лоб покойнику. Он уже и сам понимал, что не дойти ему теперь ни до Данилова, ни до дому, сблудит, сдохнет, – и все-таки пошел в Данилово. И верно – сразу же он спутался, упал, сразу очутился в убродах, и вот снова перед ним – полынья. Она лежала такая же неподвижная и темная, как и раньше, так же неподвижно били в ней подземные родники, и так же нехотя принимала она в себя снега. Не колышась, плыла она спокойно среди этих взбесившихся снегов, плыла настолько неподвижно, что даже не отражала ничего, как глаз мертвого.
Сердце у Богдана вдруг прокололи насквозь, он даже от такой боли перекрестился. И затем сразу понашло на него такое чувство, словно он засыпал после большого усталого дня. Вода на мгновение просветлела – и он неистово ринулся прочь. Но сразу же до истомы стало ясно: куда бы он ни кидался, как бы ни бежал по сугробам, – везде под ногами обрушивались глыбы рыхлого снега, и вода открывалась ему. Попробовал было он закричать, – сразу от сильного ветра заныли зубы, и стало чего-то стыдно. Шарф стал влажный, и скоро обмокрела спина. «Добро – у сапог узкие голенища, а то бы снегу-то сколько набилось», – подумал он, не замечая, что и узкие голенища были наполнены снегом и теплые капли пробирались вдоль икр.
Он устал думать о дороге, – в голове у него остались только какие-то коротенькие мысли о столбиках. Ему казалось – ухватись он за столбик, и он не скатится в воду. Виски были словно зажжены, а чуб лез на глаза, холодный и чужой. Несколько раз отскакивая от полыньи, наткнулся он, наконец, на столбики, упал и прижался лбом к обледенелому дереву, и на мгновенье вернулась храбрость, он полез было в карман за табаком. Скверно и долго выругался. Брань шла легче, чем крик, и он длинными солдатскими матюками долго звал на помощь. Показалось, что чем-то и кому-то он отплатил за свои муки. А веселый и свистоголосый ветер все так же несся над снеговиной, все так же блестящей пылью звенел на обледеневшей коре-чире, колол ресницы. Богдан отполз немного от столбика, от дороги: он ясно заслышал понуканье ямщика, храп утомленной лошади, ему показалось, что его могут растоптать, но тут лошади словно свернули в сторону. Он даже разглядел, как блеснули длинные оглобли, хотя и знал, что иной дороги, кроме той, на которой он лежит, – нету. Но он отполз еще два шага.
И опять темное жерло полыньи всплыло перед ним. Обледенелый скат, спускающийся в воду, как бы дрогнул, в плечах Богдана словно что-то хрустнуло, и он торопливо поджал под себя ноги. И было время, – каблук уперся в какую-то ледышку, не коряжку, а в полуаршине далее лежала вода, пахнущая почему-то тиной. Эта пахнущая тиной вода словно всосала все его мысли. Он долго, сгорбившись, сидел и неотступно смотрел в воду. А затем, как родник, со дна его души ударила в тело и смятенно пронеслась мысль, что сейчас каблук соскользнет с коряжки, кости и мясо – все то, из чего составлен Богдан, покатится по льду, ветер, дующий в плечи, еще сильнее ударит в полы полушубка, и шесть огромных кругов, похожих на круглые перья, захлопнут его жизнь. Он стал тереть ноги, а пальцы без толку путались, и казалось – трет он сапог о сапог, как безрукий чеботарь13. И когда подумал – «безрукий», все как-то вдруг рухнуло в его голове: дорога, ожидание саней, удаль его, и он хорошо понял, словно пропели ему конец.
Тогда вправо, совсем против столбиков, подле большой, нависшей над водой глыбы снега (с глыбы тусклой струйкой сыпался в воду снег); Богдан увидел селезня. Птица, уткнув под крыло голову, тихо покачивалась на воде. Сверху она была вся засыпана снегом и как бы походила на свою белую тень. Богдан изумленно потрогал веки – снег словно посинел.
– Цыпа… цыпа… – позвал он вдруг и сам удивился своему писклявому голосу. Не успел он позвать птицу и трех раз, как селезень встрепенулся, снег с него скатился, и он медленно поплыл прочь. Богдану стало обидно, зло, он даже почувствовал жар в веках, – так напряженно вглядывался он в крутящуюся синеву. А более всего ему было обидно то, что он мог вспомнить сразу, как кличут цыплят, а как кличут утят – он не мог вспомнить. Селезень давно уже уплыл в снега, а Богдан все покрикивал: «Цыпа, цыпа», и когда совсем обмерзли десны и ему пришлось замолчать, он вдруг почувствовал, что катиться в полынью не так страшно. Он убрал с коряжки затекшую ногу. И оказалось – скат не так уж скользок. Опять усилилась метель, и вскоре он начал думать, что селезень почудился ему и что нет такого селезня совсем, а было ему виденье перед смертью.
Снег пожелтел на минуту, – надо думать, закатывалось солнце. А потом зашипело еще сильнее; казалось, снег был теперь с мелкими градинками, – очень больно колол за ушами. Долго так сидел Богдан. Снегу намело вровень с плечами, перекатывался он по груди. Спине стало теплее, и Богдану не хотелось вставать, уходить. Он всунул пальцы в рукава, надвинул шапку на уши и полузакрыл глаза. И тогда ему показалось, что коряжка выскакивает из-под его ног. Он шевельнул ступней; что-то похожее на льдину качнулось подле его сапога. Он наклонился – было уже совсем темно – и неподвижной холодной рукой он скорее почувствовал, чем ощупал перья селезня. Птица отошла от его руки и поползла, скользнула вдоль сапога к сгибу ноги, – видно, ей хотелось выбрать где теплее. И Богдан вспомнил, как раньше сизое перо селезня чем-то напомнило ему венчик на лбу покойника. И огромная злость потрясла Богдана, он сунул руку за пазуху к ножу, но тут грудь его наполнилась каким-то кипящим теплом, тепло это хлынуло по рукам. В голенищах снег уже не таял, и не было ощущения, что портянки с ног разматывают по ниточке. Сугроб за его спиной почудился шире, тверже и чем-то напомнил баню. Небывалая доброта овладела всем Богданом.
– Ишь, черт, – сказал он шепотом и заботливо погладил селезня по крылу. Затем рука его спустилась к животу; живот у селезня был мокрый. Тогда только Богдан заметил, что селезень мелко дрожит и шея его бессильно падает на тыл Богдановой руки. – Полезай дальше, – прошептал Богдан и долго не убирал руки, пока селезень не согрелся и не взял голову под крыло.
Так человек и птица просидели все ночь у полыньи. Вначале, когда Богдан перебирал затекающими ногами, селезень шарахался, а потом привык и только легонько крякал, и это смешило Богдана. Под конец даже Богдан решил, что селезень выведен при птичнике из яиц дикой утки; может быть, даже и улетел из птичника. Под утро Богдан вздремнул и, засыпая, подумал уверенно и весело: «Не замерзну». И он, точно, не замерз. К утру из-за лесочка из-за холма, словно он там спал всю ночь, хлынул в снеговину теплый весенний ветер. Ветер тронул Богдановы ресницы. Богдан вскочил и начал оттирать снегом руки. Три пальца не действовали, посинели слегка и стали необычно гладки. «Придется обрубить, – подумал он с непонятной радостью, – и на ногах, поди, придется обрубить». И все с той же радостью разглядел он, что больше, выше всего снег на дороге, да и всегда весной, если идет крупный снег, больше всего наметает его на дорогу. Что ж тут позорного, если и заблудился. Тихий плеск послышался рядом – это селезень нырнул в полынью. Но он вскоре вынырнул, точно ему жалко было оставлять тепло и солнце, взглянул изумленно на человека и с громким криком уверенно и быстро поднялся вверх, прошелестел над леском и понесся на холм, навстречу весеннему ветру.
– Ишь, черт, – сказал любовно, глядя ему вслед, Богдан. Отмороженные пальцы начинали ныть, но Богдану было легко переносить эту боль. Идя вдоль каймы занесенной снегом дороги, он думал уверенно, что если уже теперь резаться, так конец-то теперь Степке будет, а не ему, Богдану. И было непонятно, как он мог бояться своего села, – оно лежало в снегах такое теплое, пахнущее хлебным дымом, – как он мог думать о смерти, бежать куда-то, кого-то зря, точно свою смерть, бить… Он не знал еще, что будет делать теперь, но веселая уверенность наполняла его все крепче и крепче. Так, улыбаясь неумелой улыбкой, прошел он вдоль села, стукнул в окно и тихо крикнул:
– Мамка, неси топор да рукотерку14!
Положил руку на бревно, на котором кололи дрова, отрубил три пальца и, перетягивая полотенцем руку, сказал ласково матери:
– Теперь, если со Степкой резаться, – обязательно ему конец, мамка.
А матери было страшно слышать его ласковый голос, тошнота подступила к сердцу от снега, залитого кровью, слезы текли у ней из глаз, а вытереть она их боялась почему-то. И так же ласково, в голос сыну, она спросила:
– Ливорвер, что ли, купил?
И опять улыбаясь неумелой улыбкой, ответил ей ласково Богдан:
– А то как же… Не со слова же быть мне такому храброму.
Ночь*
Любовь да тоска на крови стоят1.
У Афоньки Петрова умер старший брат Филипп. Умер в первый день своей женитьбы, на свадебной кровати. А к свадьбе Филипп готовился долго, тесть его был состоятельным мельником, зятя брал к себе в дом и на хозяйство требовал много денег. Филипп мотался по волости, но волость была бедная, деньги не шли, и к тому же Глафира, его невеста, была близко – у самого сердца, – и тогда он ушел в город. Жил он там год с лишним, а когда вернулся, то ничего не мог рассказать, кроме того, что вывески там черные, с золотыми буквами, – может быть, потому, что у Глафиры под соломенными волосами цвели ржаные глаза. Пожалуй, так. Оттого и в те немногие часы, что приходились ему на сон в городе, его ноющее тело видело эти ржаные глаза. И вот накануне свадьбы добро свое он привез к тестю на собственной тройке с золоченой дугой и с бубенцами. Народ сбежал смотреть на Филиппа, мельник обнял его на крыльце, растроганный, со слезами на огромных, близко поставленных глазах – и немного пьяный. Позже приехали на таратайке Филипповы старики: Александр Ильич и Мария Егоровна, тоже пьяные и разговорчивые; приехал и Афонька – младший сын конопатый, с растерянной походкой, в синем новом картузе и толстых пуховых перчатках. Все они сидели за столом обнявшись и неустанно хвастались. Старики Петровы говорили, что сын их Филипп упрямый и своего места в жизни добьется, а мельник хвастался своей красавицей дочерью и гулко на всю пятистенную избу кричал, что у Глафиры глаза – что твой колодец, и что в молодости и он своими глазами десятки баб завораживал. А глаза у Глафиры действительно были как в ружье смертное дуплище, и она не подымала их на жениха. Филипп же сидел рядом, прямой, крепкий и немного бледный, но спокойный, и только в сердце у него словно летала пчела, и редко-редко чувствовалась игольчатая боль.
Запрягли опять тройку и поехали в совет2, хотя ходу было до совета одна улица. Записались быстро, и председатель, тоже веселый и без шапки даже, сел с мельником рядом, и тогда весь поезд направился в церковь. А было начало весны, – ленты, которыми были убраны лошади, сыро мотались под ветром, через гривы коней ямщику виднелось ясное небо, и ямщик прогнал тройку по всем улицам села. Воробьи, выбиравшие из завалинок чистые соломинки, любовались на мчащийся поезд, мальчишки гнались за синими комьями грязи, летящими, как облака, из-под копыт и из-под колес. Мальчишки быстро устали, лица их стали напряженными, но они не могли отстать от поезда, от гремящих весенних бубенцов – и от пьяных лошадиных и человеческих глаз.
Свадьба, вернувшись на мельницу, опять стала пить, кричать песни и хвастаться. Председатель орал, что, если б ему волю, он бы перекричал любого попа, – и действительно, голос у него был необычайно дикий и пронзительный. Филипп сидел так же прямо и строго, он только под скатертью схватил невесту за руку и мял руку так, словно хотел выжать всю свою силу, накопленную за полтора года, – и не умел. Глафире было больно и приятно, рука немела, и немота переходила на сердце – и никак она не могла поднять ржаных глаз. Затем молодых проводили до кровати, и мельник долго и неумело плясал перед дочерью, неустанно подмигивая огромными и близко поставленными глазами. Гости совсем было расходились, но как-то замешкались у стола, и вдруг опять начали пить и плясать. Уснувший было гармонист ударил по ладам, а после вышло и солнце и тоже ударило в пальцы гармониста, и гости свалились кто куда мог. Матушка Филиппа, Марья Егоровна, пила мало, но ей было веселей и радостней всех, и особенно она была довольна, когда гости все свалились; тогда она, крестясь, обошла всех и накрыла шубами кого могла. Афонька уснул во дворе, на телеге: она накрыла его двумя тулупами и еще пологом и с радостью подумала, что старость ее будет добрая и легкая и что младшему сыну – а был он пожиже Филиппа и не такой строгий – невесту надо выбрать веселей и свадьбу устроить еще лучше Филипповой, чтобы любовь была крепче. Потом Марья Егоровна вернулась в избу, но спать ей не хотелось, – и вздумала она подоить коров. Она взяла подойник и вышла было в сени, но опять радость охватила ее, и она вернулась. Тихо, дабы не греметь, поставила она подойник среди объедков и разбитых тарелок на полу, подошла к дверям горницы, где спали молодые, и медленно перекрестила двери – и прослезилась и, прослезившись, опять перекрестила. Глухой стон послышался в это время за дверьми, и Марья Егоровна таким же голосом, каким она увещевала рожавших коров, проговорила:
– Ничего, милая, ничего… потерпи, – и медленно, подхватив подойник, пошла. А на крыльце уже услышала она дикий вопль, и подойник задребезжал по ступенькам.
Выбежала в одной исподней растрепанная Глафира, упала старухе на плечо.
– Плоха, с Филиппом-то плоха! – крикнула она.
Старуха оглядела ее всю – и ласково прикрыла ее бедра своей шалью и затем ласково же сказала:
– Ничего, милая, пройдет, это у ево от заботы.
Она взяла ковш воды, перекрестила его и пошла в горницу. А Филипп, такой же прямой и строгий, как всегда, лежал на кровати, и только лицо у него было такое, словно он удивился, что за все его муки и терпение он смог получить все-таки свою награду.
А после его хоронили, и с кладбища уже шли другими. Началось с того, что мельнику показалось – могила будто не так глубока, как нужно, что его и здесь хотят надуть. Он слазил и сам смерил могилу. А идя с кладбища по самым грязным местам, бормотал:
– Девку-то как охаял. Теперь по всей волости смех пойдет, разломана жись у девки…
А старику Петрову, шедшему рядом с ним, хотелось утешить его, и он не знал как – и стыдно было врать, что Филипп не дотронулся до жены.
– Ноне все быстро заживает, – сказал он – и сам испугался своих слов. А по лицу Глафиры нельзя было понять, что она думает и даже знает ли, отчего умер Филипп, и только один Афонька, нечаянно встретивший ее в сенях, когда в избу вносили крышку гроба, увидал ее глаза и матовый влажный рот. Она остановилась у косяка и так провела рукой по глазам и рту, словно замыкала в себе на всю жизнь ту радость, которую получила в одну ночь. Холодная роса упала на сердце Афоньки, и неожиданно, вбежав в избу, он закричал со слезливой завистью:
– Лучша б мне подохнуть!
Марья Егоровна посмотрела на него удивленно и раздельно, будто на весь мир, сказала:
– О, господи, жисть-то как переклубилась. И ты туда же.
На поминках, за блинами, отец Филиппа повел разговор, что тройку-то надо вернуть. Тогда мельник, как будто ожидавший такого разговора, закричал и даже ложкой стукнул:
– Что ж, позор на мою дочь трех лошадей не стоит?!. На всю волость смех теперь пойдет, – колдун, мол, мельник и дочь колдунья. Кто ее теперь возьмет? Вековушей сдохнет, а то солдаты измусолят…
И неожиданно Глафира тряхнула головой и, обведя всех своими огромными ржаными, так же, как у отца, близко поставленными глазами, протяжно сказала:
– Видно, от бога так мне… – и не докончила, что ей суждено, и никто ее не переспросил.
Все же старик Петров, подпив, осмелел и начал торговаться и под конец выторговал у мельника одну лошадь из тройки, с упряжью, а деньги, внесенные Филиппом, мельник наотрез отказался вернуть. Выторгованную лошадь привязали к оглобле, она бочилась, не шла, а глаза у нее были такие все веселые, как и в день свадьбы.
В эти несколько дней в поле многое изменилось. На пригорках выступила зелень, земля пахла травой, и только в оврагах кое-где лежал конопатый, изгрызанный ветрами снег. Чуть заметный туман стоял над оврагами.
Сразу же старик Петров заговорил о посевах, что весна, надо думать, будет теплая. Слова у него были такие же, как и в прошлую весну, но теперь Афонька им не верил, и ему тяжело было их слушать.
В двух верстах от деревни дорога разветвлялась, – одна, поуже, шла в родное Афонькино село, другая, пошире и погрязней, вела к станции. Несколько подвод, груженных бревнами, уныло брели, лошади увязали по животы, и тощий мужичонка, необыкновенно искусно свистя кнутом, кружился подле обоза. Рыжая собака визжала – кто знает на что.
Афонька посмотрел на них, сердце его защемило еще больше, вспомнилась опять Филиппова смерть и нездешней наполненные радостью и удовлетворением глаза Глафиры. Он спрыгнул с таратайки и сказал, что приедет домой по чугунке. И хотя до родного села железной дорогой было верст сорок, а проселками – все шестьдесят, а то и больше, – всегда удивлялись, если кто ехал чугункой. Удивился и теперь старик Петров, но ничего не сказал, а только покрепче натянул вожжи и бочившего Филиппова коня вытянул хворостиной.
Афонька так спешил на станцию, словно там его ждал поезд, а прибежал – и вдруг оказалось, что и спешить-то не стоило, да и, пожалуй, не стоило ехать чугункой. На станции курили мужики, привезшие бревна; два солдата, возвращавшиеся с побывки в казарму, читали вслух «Крестьянскую газету»3 и непрестанно прерывали чтение разными деревенскими новостями. Афоньку в солдаты не брали, грудью как-то не выходил, хотя с лица и был ловок – рот лишь был очень пухлый и длинный. Афонька позавидовал веселым солдатам, попросил у них кусок газеты, но разговориться не мог. Окна, грязные и холодные, еле пропускали свет – и скоро стало смеркаться; до поезда оставалось четыре часа. Сторож, гремя зажатыми в одной руке ключами, стал подметать пол.
– Подбери ноги-то! – неожиданно сердито закричал он Афоньке.
И тогда Афонька, махая газетой, тоже закричал и потребовал составления протокола. Сначала мужики и красноармейцы поглядели на него с интересом: думали – или пьяный или будет драться, а потом отвернулись как-то обидно и заговорили о своем. Ссора несколько ободрила его, но вскоре стало опять скучно, и начало казаться, что сторож, стоявший у печки в грязном тулупе и с грязной метлой в руке, выдумывает такую каверзу, которая позволит ему на всю жизнь опозорить Афоньку. И когда сторож вдруг во все горло, так, что газета выпала из рук красноармейца, заорал, что поезд опаздывает на три часа, – Афоньке стало непереносно муторно, и он вышел, сильно прихлопнув громадную дверь. Дул сырой ветер, мелкими каплями неумелого дождя брызгая в косой фонарь подле станционного колокола. Особенная, пахнущая керосином станционная скользящая слизь блестела под ногами, и словно отражалась в ней вся мерзость сегодняшнего дня, – весь этот хриплый шум дождя, простуженный храп железа на крыше, чахоточный свист проволок. Сразу же за станцией, по обе стороны полотна, начинался лес – сосновый, высокий, но теперь тоже какой-то чужой, без гула и запаха, словно укутанный тиной. Афонька повернул обратно. И тогда-то к станции, медленно и со скрипом, подкатил товарный поезд. Впереди шли теплушки, а в конце темнели широким треугольником две платформы, груженные каменным углем. И то, что уголь везли, как песок, не прикрывая и без стенок, – очень удивило Афоньку. Тот же ругательный сторож, теперь уже в башлыке и рукавицах, прошел мимо всех теплушек, освещая все площадки фонарем. Платформы с углем он не стал осматривать. Афонька обежал кругом паровоза, лысый машинист быстро тянул папироску за папироской, словно воровал огонь. Афонька, ухватившись за плаху, подставленную на ребро и служившую стенкой, прыгнул на уголь. Папироска машиниста, до этого мелькавшая у него в глазах, вдруг потухла. Он вспомнил, что на нем новая стеженая, крытая бобриком серая тужурка, а уголь пачкается. Поезд качнул его плечи вперед. Уголь заскрипел под плахой, за которую он держался. Оказалось, что сидеть очень неловко, доска шаталась, тело скатывалось, а уголь, мелкий и сырой, лез в рукава, за голенища, в носу щекотало, и никак не удавалось нащупать большую глыбу угля, чтобы ухватиться. Вскоре уголь стал подкатываться под него, и казалось, что Афонька будет сидеть сейчас выше плахи, платформа как-нибудь шатнется по-особому… Афонька со всей силой ухватился за плаху.
Золотая кукла искр прыгала в темном небе, – выпрыгнет и погаснет. Колеса с грохотом и шипом гнались за куклой, откосы отвечали свистом вдруг проснувшихся сосен, и когда однажды Афонька наклонился, – рельсы блеснули, как рога. А доска шаталась все больше и больше, холодела и скользила из рук. Попробовал было Афонька обнять ногами доску, но она совсем скренилась, и тогда он, не помня себя, рукой и ногой начал разгребать уголь. Попалась острая, чем-то напоминавшая льдину, глыба угля. Но здесь золотую куклу искр остановил разъезд – и начальник разъезда попросил у машиниста папироску. Афонька хотел было спрыгнуть, но вспомнил свою выпачканную углем тужурку – засмеют, и здесь ему пришлось в голову, что наверху, на угле ему будет легче держаться. Он полез. Машинист кинул докуренную папироску, колеса подхватили ее, буфера им одобрительно подлязгнули, и теплушки опять понеслись вперед.
Вскоре Афонька разглядел, что на угле, в аршине от него, сидит еще человек. Когда Афонька, рассматривая его, наклонился, человек сказал что-то. Афонька не разобрал – что, но понял – какую-то тоскливую жалобу. Афонька, прикрывая ладонью, зажег спичку и поднес ее к лицу человечка. Он увидел большие добрые глаза, костлявое старушечье лицо и боязливо сжатый рот. Афонька с веселой тоской крикнул:
– Бабка, куда едешь?
И от его крика старуха боязливо оправила за плечьми котомку. Она сидела, охватив валенками большой кусок угля. Места наверху было мало, к тому же под тяжестью двух человек начал сыпаться мелкий уголь, и скоро Афоньке пришлось притиснуться плечом к старухе. Она легонько, варежкой, должно быть, тронула его за бок, а затем осмелела и тронула сильней. Афонька хотел было выбраниться, но в это время свистнул паровоз, а после свистка браниться не хотелось, да и старуха затихла, а вскоре котомкой своей легонько прислонилась к Афоньке. Котомка была жесткая, как будто деревянная, наверное, с сухарями, – и Афонька вспомнил, что словно бы, на поминках брата он видал эту старуху4. И снова и зависть и непонятное томление охватили его – и он спросил:
– Много на Филипповых поминках-то наскребла? – Опять старуха пробурчала что-то непонятное и жалобное.
Вскоре спина у Афоньки заныла, сидеть вдвоем было очень неудобно, и когда поезд задержался на разъезде, Афонька подумал было перебежать на другую платформу, но ведь и там могли сидеть люди – в темноте соседняя платформа походила на развороченный стог сена. К тому же с фонарями прошли мимо кондуктора, разговаривавшие о непромокаемых плащах. Один из них нехотя сказал что-то о сыплющемся с платформы угле, и тогда из тьмы вдруг раздался злой и басистый голос: «Складывают тоже, лодыри!» В голосе было такое презрение и такая власть, что давно и кондуктора прошли, давно уже двинулся поезд, – Афонька же все вздрагивал и недовольно сопел.
– Тебе не здесь слазить, бабка? – спросил он шепотом.
Старуха шатнулась вся, и виски его вдруг похолодели. Так с похолодевшими и тяжелыми висками он сидел долго, пока не понял, что поезд идет очень быстро, что все время он думал о старухе. «Вот, – думал Афонька, – если толкнуть ее слегка в спину, в ее жесткий горб, а затем поддать еще в шею, – старуха метнется под откос, и ее место освободится. А то может и она поддать». Но он хорошо понимал, что старуха его не тронет, но все же думать об этом было приятно, и не было мыслей о гордой Филипповой смерти. И старуха, словно понимая его, зашевелилась, и рука ее в легкой варежке тихо дотронулась до локтя Афоньки. Афонька оттолкнул ее, и горб ее затрясся подле его плеча. Засосало сердце – и он стал считать до десяти. Но стук колес перебил его счет и томление, и тут сосущая сердце злоба нахлынула на него. Синяя широкая туча вдруг обозначилась в небе. Он снова поймал свой ненужный счет. «Шесть, семь», – пробормотал он и стал шарить ногой такое место, чтоб оттуда упершись, можно было возможно ловче – ударить старуху. На мгновение стук колес опять раздавил его мысли, но вскоре шумящая теплота злости опять убрала этот стук. Нога его уже было вытянулась, кулак сжался, но тут он почувствовал, что ноги его, слегка замерзшие у колен, были охвачены варежками – и горб старухи очутился у его груди. Старуха, взвизгивая, терлась лицом о бобриковую его тужурку.
– Бабка, ты что ж, спятила, что ли?.. – сказал он, и голос его был такой, что он сам испугался. Он вспомнил, что тужурка будет выпачкана, и стал оттягивать руки старухи, но они с бешеной силой охватывали его, и одна из них зацепилась за карман, и ее-то трудней всего было оторвать, к тому же (стороной) подумалось, что старуха испортит карман. И он начал ругаться, и тогда злость скоро схлынула с него; но старуха все не выпускала кармана, и теперь он уже не стал думать о том, почему нужно свалить под откос старуху, он стал думать – как бы ее свалить, чтоб вместе с ней не упасть самому. И еще уверенность, что, если он выпустит старуху, она его столкнет, – эта уверенность охватывала его все более и более. А старуха становилась все ловчее и ловчее, и уже руки ее ворочали теперь его тело, как квашню. И тут-то он вспомнил, что последние ночи он почти не спал – все утешал мать, да и за отцом нужно было следить, и самого умучали непонятные мысли. И вчера и сегодня он почти не ел, – у него закружилась голова, ослабли ноги, и он упал всем телом на старуху. Теперь она вся очутилась под ним, он лежал грудью на ее горбу, но все же ее рука по-прежнему крепко держала его карман. И внезапно он припомнил одну деревенскую девку Марфу, дикое желание накалило его живот (позже только он догадался, почему пришло это желание: отдаваясь ему впервые, девка так же рвала его карман), и то, что желание могло прийти на эту старуху, – разозлило его до слез.
– Пусти руку, карга! – закричал он.
– Не пущу, – вдруг хрипло и раздельно проговорила старуха.
И тогда с матерками – в бога и мать – стал он плевать ей на горб и на шаль, и чем больше он плевался, тем харчки его растягивались все больше и больше – словно полз из его рта сплошной сладковато-горький ревень. Наконец, рукам стало больно, шарф сполз на рот, да и дышать было тяжело. Но тут мелькнул семафор, поезд подошел к станции, тускло заскрипели двери. Старуха опустила руки и скатилась вниз. Афонька растер тело, сказал что-то очень скабрезное и обидное про старуху, спрыгнул. Это была та станция, куда он должен был доехать, – до его села оставалось еще верст пять. У станционного фонаря осмотрел тужурку; уголь не так выпачкал ее, как он предполагал, – он легко отчистил ее снегом. Афонька, чтобы не встретиться со старухой, не зашел на станцию, а, обойдя здание кругом, направился в свое село.
На другой день было воскресенье – и опять поминки. Собрались родственники, долго жалели Филиппа и говорили, что все это порча от войны, что на войне у всех солдат снарядами сердца отбиты. И никто ни слова не сказал о Глафире, а когда все ушли, отец снял с деревянного крючка зачем-то узду и, держа ее в руке, как подарок, сказал Афоньке:
– Как доехал-то?
– Хорошо доехал, – ответил Афонька раздраженно.
По голосу отца можно было понять, что он придумал какую-то ловкую мысль и что, ответив раздраженно, Афонька тем самым согласился с отцом. Так оно и было. Отец хлопнул его уздой по плечу и сказал:
– Вот это я и говорю. Можно и без суда обойтись. Скажем, што Филипп-то с бабой вовсе и не спал, не тронувши ее, значит. Законы нонче, что редька, – всякий за хвост держит. Стал, значит, Филипп раздеваться – ну, тут с ним и случилось. Ее ведь раздетой-то никто, окромя нашей старухи, и не видал… выходит, какая она ему жена?.. Однако по волости может пойти – ведьма и всякие разговоры… Позору сколь мельнику. Вот я и говорю, возьмет он тебя, Афонька, в зятья. Старику жить недолго, все на ноги жалуется, а домище-то пятистенный, да к нему мельница о скольких поставах…
– Уж и мельница, – льстиво сказала мать. Ей казалось, что, может, наладится прежняя жизнь, и если Афонька уйдет к Глафире, то Филипп словно бы вернется. Афонька же молча взял уздечку из рук отца – и повесил ее на крюк.
Отец подождал, думая, что сын скажет что-нибудь, но Афонька молчал, и отец подумал, что всегда-то Афонька хоть и был шальной, но послушный.
Подумав так, он решил, что с лошадьми Филиппа улажено. Ушел. Мать прошла к окну, на лавку, и, перебирая руками подвернувшееся полотенце и, видимо, стараясь загладить не ясную еще ей самой вину, стала что-то рассказывать. Афонька все еще стоял у крюка и не слушал, что говорит ему мать. Ему было обидно, что так скоро ушел отец, не сомневаясь в согласии сына. Афонька и сам знал, что не откажется, и не мог понять – почему. Знал, что ляжет в кровать рядом с пустыми, выпитыми Филиппом глазами и будет виться голодным псом вокруг ее тела всю свою жизнь, и на долгую жизнь хватит Афонькина сердца. Сердце у Афоньки не то, что у брата… «Выдержит», – презрительно мелькнуло у него в голове. И Глафире уйти некуда, так и она останется подле Афоньки, – с ним и без него, – будет терпеть и ругань, и побои, и темные осенние ночи…
– Ты ето про кого? – спросил он вдруг, вслушиваясь.
– А тут, Афонюшка, нищая на нашем краю показалась, жись свою всю нам со дня рожденья рассказывала… такая жись – все утро просидели, и отойти от нищей нельзя. Глаза-то у ней хоть и старые, а большие да добрые. Страдаю, грит, страдаю, а тут, откуда ни возьмись, добрый человек появится и добрым поступком пригреет. Так и тебе Глафиру пригреть надо. Нонче, сказывает, едет она на углях, на площадке, значит, а кондуктор мимо шел, позвал с углей, в свое помещенье провел, чаем угостил и еще полтинник на дорогу дал. Думала, грит, земляк, а он совсем из других краев, просто ласковая душа.
– Ласковая, говоришь, душа? С горбом она?
– Кто с горбом?
– Ну, старуха-то.
– Известно, котомка, либо што в той котомке…
Афонька расхохотался, сразу стало веселей, и мир словно полегчал, словно оперился. Афонька похлопал ладонью по уздечке, переобулся, – походка будто изменилась. Тут пришли парни и стали звать Афоньку на вечерку. До ночи было еще далеко, но надо было успеть достать водки, с гармонистом сговориться и с девками. Водки достали быстро, слегка выпили. Пришел гармонист с новой, необычайно звонкой гармошкой. Афоньке захотелось в улицу. Парни, обнявшись и долго толкаясь в сенях, вышли.
День был яркий, козырьки фуражек горели, словно зеркала. Село их стояло на пригорке и было такое веселое и светлое, словно нарадоваться не могло, что забралось на такую вышину, откуда столько земли видно, что во всю жизнь пахать – не перепахать, сеять – не пересеять.
Подле амбаров парнишки играли в бабки, и бабки блестели в воздухе, словно прыгающие рыбы.
– Женюсь, ребята, угощаю! – вдруг закричал Афонька, и тогда развеселились еще больше.
Парни загудели и, предвидя выпивку, начали угадывать невесту, льстиво выбирая самых лучших девок в волости. И никто опять ни слова не сказал о Глафире. И то, что никто не сказал ни слова о Глафире, наполнило душу Афоньки страшной и непередаваемо веселой тревогой. Он подождал, когда назвали самую красивую и богатую невесту – Аннушку Боленькову. Тогда он вскрикнул:
– А может, ее!.. Ставлю четверть! – и парни пошли к шинкарке. Переступая порог шинка, Афонька запнулся, и вновь ему стало непередаваемо страшно и весело. Шинкарки Любки не застали дома; был ее племянник, тощий Митя, прозванный Архангелом5. Говорили, что шинкарка жила с ним, делая над ним городские любовные фокусы, которым она научилась, когда служила кухаркой. Митя имел сухие, словно высосанные глаза и говорил сильно шепелявя. Он дал парням только бутылку водки и деньги спрятал, как баба, в голенище, за чулок. Другую бутылку он не посмел выдать без шинкарки и на вопросы парней ответил, что Любка ушла к школьной сторожихе, а у той сидит какая-то нищая. «Афонские истории рассказывает»6, – добавил он и как-то нехорошо облизнулся. Парни говорили, что надо обождать, а от выпитой водки у Афоньки еще больше заныло сердце, и он позвал парней к школьной сторожихе. И вот парни, звеня гармошкой, шли за Афонькой, и солнце за это время, казалось, стало еще больше и низко висело над домами, занимая почти все небо. Сторожиха же, шинкарка Любка и неизвестная нищая уже перешли в другой дом – к вдове Параскевье. Афонька постучал в окно и поманил пальцем – и он знал, кто выйдет. И верно – вышла вчерашняя нищая. Она зевнула, ласково посмотрела на парней. Десна у ней были розовые и в мягких хлебных крошках. Афонька подумал, что она на него не посмотрит, но она взглянула – и не узнала.
– Шинкарку Любку нам подавай! – закричал Афонька. Но и теперь старуха не узнала его голоса; она молча, все так же ласково улыбаясь, щелкнула щеколдой и ушла.
Вскоре появилась шинкарка Любка – грудастая, толстогубая – и, так как люди все были свои, она стала говорить, что водки в городе достать трудно, она устала от такой тяжелой работы; видимо, она хотела надбавки или просто ломалась перед парнями. И опять Афонька закричал:
– Угощаю, плачу, бери все, што хочешь!
И на последние его слова из сеней показалась нищая. Она зорко посмотрела на широко расставленные ноги Афоньки – щедрость была во всей его фигуре – и, локтем поправляя за плечьми несуществующую суму, спустилась с крыльца. Она рядом стояла с ним и все еще не могла узнать. Тогда Афонька наклонился к ней и выкрикнул ей в лицо:
– Че-ем, бабка, живешь?
И вдруг ласковые глаза старухи слиплись, она отшатнулась, и рука ее сделала такой жест, словно она хватала Афоньку за карман. Она открыла было ввалившиеся губы, но здесь Афонька, неожиданно для себя, ударил ее со всего размаха в рот. Старуха качнулась головой легонько влево, но Афонька ударил ее слева, в затылок, а когда она упала на землю, он пхнул ее в висок каблуком и отошел. Самый пьяный из парней взвизгнул, хватил кулаком старуху в бок, но потом отскочил и бессмысленно уставился на Афоньку. Парни закричали было: «Так ей и надо!» – хотя никто не знал, почему ей так и надо, но немного спустя парни вгляделись в старуху. Она быстро-быстро сучила ногами. Парни кинулись на Афоньку. Он не отбивался, а только протяжно мычал и, когда его начали бить, защищал руками лицо. Били его долго, неумело и как-то растерянно. Сбежалось много мужиков, и никто не хотел вступиться за него, да никто и не подзуживал парней. Когда пришел старик Петров, Афоньку отпустили; он лежал окровавленный и грязный неподалеку от старухи, сразу ставшей какой-то чистой, – ей уже кто-то сложил крестом руки. Старик Петров постоял, погладил тонкую бороду, хотел что-то сказать – и не мог. Попробовал поднять сына за руки – и тоже не мог. Тогда мужики не спеша молча взяли Афоньку и повели в холодную.
Утром его увезли в город. Там, до суда, он сидел, сколько нужно, в тюрьме, а на суде, когда судья – бойкий и самоуверенный человек, сразу почему-то решивший, что Афонька конокрад, картежник и пьяница, сказал: «Подсудимый, ваше последнее слово», – Афонька встал, хотел было рассказать, как он ехал с похорон брата на угле, но не мог вспомнить название той длинной телеги, на которой везли уголь. Он растерялся, и многие слова перепутались в его голове. Он начал и долго говорил про каких-то кондукторов и врал неумело и зря. Афонька оглядывался, топтался. Никто, кроме старика Петрова, не приехал на суд, да и старику хотелось пожаловаться, что старуха все хворает, хозяйство сыплется, даже Филиппова лошадь, возвращенная мельником, хромает. Сам мельник пьет, Глафира ходит худая, оборванная и богомольная… Старик глядел на него укоризненными глазами. Судья морщился и думал, что Афонька, видимо, убил старуху, дабы скрыть кое-какие грешки, которые она могла знать.
– Ничего больше не имеете сказать? – спросил судья бесстрастно и сам остался доволен своим голосом.
– Ничего, – ответил Афонька, и тогда-то только пришло ему в голову, что он людям понятного сказать ничего не может, – и он визгливо, по-ребячески, заплакал. Отец тоже заплакал, а суд ушел совещаться. Суд вернулся быстро. У Афоньки были опять сухие и тусклые глаза, он долго и пристально смотрел на отца, а поклонился судье – низко, как отцу не кланялся во всю жизнь, косо ухмыльнулся, и его увели в тюрьму отсиживать положенный ему срок.
Поле*
Отпустили Милехина на четыре часа.
– Опоздаешь – не в очередь в наряд отправлю, – сказал ротный командир, со стуком прикладывая штемпель на пропуск.
Да Милехину и часу было достаточно. Ротному он сказал, что приехали родные из деревни, и, сказавши так, соврал. Хотелось проветриться. В казарме особенно казалось темно от мартовского солнца, от грязных окурков на полу, от стен, серых от грязи. На классной доске (раньше здесь была школа) кто-то белой глиной написал нехорошее слово, а рядом на стене хлебным мякишем был прилеплен плакат: «Колчак несет колбасу, Советы – свободу»1. И когда Милехин захлопнул обитую рогожей дверь и пошел через большой двор на площадь, – ему было темно, сытно и радостно.
Станция железной дороги была от города верстах в четырех, и через каждые полчаса в город ходила ветка. Милехину не хотелось дожидаться ветки, и он пошел пешком через огромную площадь к станции.
Сверху пекло солнце, а снизу морозило. Площадь уже оттаяла, и только бугор дороги лежал грязновато-желтоватой лентой на черной разбухшей земле. За тальниками – прямо на западе – мерзло синел Иртыш, и видны были на нем разорванные кусочки дороги, как клочки бумаги.
– Тронулся ночью, должно, – сказал Милехин.
Но шипящего шума тронувшегося льда еще не было слышно. «Скоро пойдет».
Милехин улыбнулся и почувствовал радость, словно лед принадлежал ему. Он, шумно бухая мокрыми английскими бутсами, шел по краю дороги, и снег ломался под его ногами. И треск этот доставлял ему удовольствие. Зеленоватая английская шинель, похожая на пальто, и голубые французские обмотки на икрах так не шли к огромной заячьей шапке с ушами и плохой рыженькой бороденке.
Над тальником мелькнула белым крылом чайка.
«Скоро пойдет», – подумал опять Милехин.
На вокзале толпились люди с мешками, большинство женщин; солдаты с жестяными звездочками на шапках; три китайца продавали сигареты и семечки. С крыши капала вода, и часто с тихим звоном падали длинные ледяные сосульки.
Милехин постоял у двери третьего класса. Какой-то комиссар с желтым портфелем под мышкой, проходя, толкнул его и тихо проговорил:
– Извините.
Милехин, чтобы не мешаться, отошел и сел на подоконник. Бегали мимо с фонарями и какими-то черными ящичками железнодорожники, свистели на разные голоса паровозы, стучали буфера вагонов. Сверху, тихо и не спеша, грело и станцию, и грязные вагоны, и набухающую влагой землю большое чистое солнце.
Рядом упала сосулька. Милехин наклонился и поднял ее, – она была без пустоты внутри. Упала вторая, третья – все такие же.
«К урожаю, – подумал Милехин, – налив будет полон и умолот богатый. Штука-а».
И ему вспомнилось, что снег тает не от солнца, а больше ночью, от земли. И тает дружно.
– К урожаю, – сказал вслух Милехин и, сказавши этак, подумал о деревне.
Подумал, что скотина у него вся ко двору – чалая и бурая, хозяйство идет хорошо. В прошлом году плох был урожай, а нонче должен быть хорош – март весь сухой, да вот коли апрель будет в сырости – благодать. А теперь – в такое святое время2 – винтовку чисти, а то на часах у какого-нибудь склада стой. Ему стало нехорошо на душе, он поднялся, прошел три раза по перрону и решил идти в роту. В это время его окликнули:
– Кольша!
Милехин обернулся и узнал одного из товарищей по роте, Федьку Никитина. Он месяц назад заболел тифом, и его увезли в больницу. Милехин подошел к нему, и они подержали друг у друга руки.
– Как живешь-то? – спросил Милехин.
– Ничо. В поправку на два месяца в деревню пустили. Поеду сейчас.
– Ты какого уезда-то?
– Татарского, – ответил Никитин с удовольствием. – Через полдня, брат, дома буду. А ты?
Милехин нехотя ответил:
– Ново-Николаевского… Двое суток надо ехать. Ноне поезда-то беда как ходют, а коли с «Максимом»3, так и всю неделю.
– С «Максимом», верна, – подтвердил Никитин и звонким радостным голосом сказал: – Айда ко мне чаи пить.
Милехин согласился. Когда они шли, Милехин заметил, что Никитина пошатывает от слабости, а с лица он был такой, будто под венец шел. Милехин ему позавидовал.
За чаем Никитин, как и все послетифозные, ел много и угощал Милехина. А Милехин не слышал, что рассказывал ему Никитин про больницу, докторов, а думал о своей деревне.
И когда он вышел из вагона, распрощавшись с товарищем, то решил уехать домой с этим же поездом. Прошло три вагона, хотелось сесть в самом хвосте поезда, но не вытерпел, вошел в вагон, прошел одно купе и в следующем полез под лавку.
В купе сидело пятеро солдат. Один из них с расщепленным носом спросил:
– Куда ты?
– Домой, – ответил Милехин.
– А-а… – сказал солдат, а другой, макая сухарь в стакан с чаем, спросил:
– Далеко тебе?
– До Ново-Николаевска. Одну станцию не доехать.
– Далеко. Документов нету?
– Нету.
– И хлеба нет?
Милехин ответил со злостью:
– Ну, нет, а тебе чо?
– Лежи уж, – сказал солдат. – Как-нибудь доедешь.
Два дня пролежал, не вылезая, под лавкой Милехин и на третьи сутки ночью слез на Грачевой. От Грачевой до Крутого осталось пятнадцать верст, и утром Милехин был дома.
Милка завизжала и кинулась под ноги. Гусь испуганно бросился в сторону, под опрокинутые розвальни; на конском черепе, воткнутом на заборный кол, как и год назад, сидел воробей и чистил под крылышками. Сенька выглянул в двери и заорал в избу:
– Мамка, батя приехал.
Баба поставила самовар, принесла молока, нарезала калачей и, утирая в кути4 подолом глаза, спросила:
– Надолго те пустили?
– На двое месяцев, – степенно сказал Милехин, и ему самому поверилось сказанному.
– Война кончилась, што ли?
– Где кончать? По болезни пустили.
– Какая болесть то?
– А черт ее знат. Докторам известно.
– Конечно, докторам известно, – всхлипывая, сказала Марья, – уморили человека-то, да еще и не говорят – чем.
– Ладно, не лопшись5. Буде. В деревне спрашивали:
– В кумынию не записался6? Милехин отвечал:
– Брюхом не вышел, говорят.
– Ишь, ты… – удивлялись мужики. – А у нас тут бают – в Омске-то усех в кумынию пишут, а кто не хочет, тому затылок бреют и к немцам шлют. Не видал таких?
– Не приходилось, – отвечал Милехин.
– Набродь7 мутить народ, добра не жди. Милехин подтвердил:
– Не жди.
Но расспросы скоро кончились. Начался взмет земли, и все пошли на пашню. Весна шла тихая, апрель сырел – падали недолгие, но хрушкие8 дожди.
– Благодать, – не в голос говорил Милехин, чтоб не сглазить. – Оглобля за ночь травой зарастат.
– Дивеса! – охала баба.
Плуг упруго и бойко буравил черную землю. Бурко потел, и от хомута пахло остро и сладко. Поблескивал лемех, поблескивала влажная шерсть на Бурке, и Милехину казалось, что сама отваливается земля – надоело ей лежать. С озер пахло камышами, распускались деревья, а где на них мокрели еще не распустившиеся почки, похожие на больших жуков.
И как-то не думал Милехин, что в Омске, на 2-м взводе, лежит у его нар винтовка № 45.728 и что он совсем не дядя Коля, а Николай Милехин, солдат Красной армии.
Куры сходили с насеста поздно. Баба улыбалась и тихо ночью говорила на ухо Милехину:
– Урожай будет.
– Ладно, – сонным голосом отвечал Милехин, и у него слегка щипало краешек сердца. Он притискивал к себе бабу и засыпал.
Когда расцвела черемуха, начали сеять9. Утром с востока дул легкий ветерок – хорошо, зерна несло к западу, к покою; потом к полудню ветер совсем прекратился – еще лучше. Солнце стояло в теплом красном круге – смотрело, как ровно и грузно падают в землю большие желтые зерна.
Потом Милехин пошел в поле и увидал густой зеленый подъем. С вглава – прозорного места, на котором он стоял, пашня походила на зеленую коломенскую скатерть. А по краям – акорье – черные, обгорелые лесины, как стаканы с кирпичным чаем.
– Видал ты… – с уважением к себе сказал Милехин и, вспомнив, что дома не поена скотина, пошел домой.
За воротами его встретил Сенька:
– Батя, там стражник. – Где?
– В горнице… Шапка большая-я… Я боюсь.
– Не укусит, – сказал Милехин, подымаясь на крыльцо.
Милиционер повез Милехина в волость, а оттуда в уездный воинский комиссариат. Из уезда его отправили в губернию, и губвоентрибунал постановил10: за самовольную отлучку из Красной армии в момент напряженной борьбы с врагами социалистического отечества конфисковать в пользу государства половину его движимого и недвижимого имущества.
Плодородие*
Феде Богомильскому1
Прибежал сынишка Алешка. Весело тряся недоуздком2, радостно крикнул, что Серко разорвал путы о камень и ускакал в гольцы3. Смеяться было нечему. Мартын4 со строгим лицом повернулся к сыну и нехотя вытянул его по потной спине недоуздком. И когда ударил, стало так тоскливо и жалко – то ли сына, то ли затерявшуюся в горах лошадь. Он перекрестился на видневшийся через заборы крест молельни и сказал кротко жене:
– Ты уж обедать не жди… Дегтем бы смазана была, тогды бы не угнала, а то теперь овод, поди, ее к лёдову5 затурил. Вот гнилота: путы – на что волос, а и то сгнил. Скоро и пригоны6 порушит… Работаешь, работаешь…
Жена его, маленькая, болезненная и тощая, словно недосиженный цыпленок, зная, что напрасно говорит и напрасно сердится, далеко брызгая жидкой слюной, крикнула ему:
– Заработался, леший!.. Мотри – толстый, как церква… Ишшо дите беззащитное бьешь… Ты бы себе за свою леность по мусалу7 съездил! Ох, пропасть бы мне скорее.
Чтоб подняться к гольцам, нужно было пройти через все село, через кладбище и сосновую рощу; оттуда начинался березняк, затем Святой Овражек, и дальше – гольцы. Мартын достал единственную новую ситцевую – в большой цветок – рубаху. Пелагея даже побледнела от злости, прижалась к голбчику, рот у ней пересох, – и ей самой стало страшно своего гнева. Она ткнула ему вслед тощим пальцем, точно пронизая что, разглядела свой палец – и тонко, словно с большой высоты, завыла.
Улица шла по берегу озера, где по необычайно зеленой траве вверх днищами были раскиданы лодки. Над берегом и озером тлелся легкий, как дремота, туман. Отдаленные горы, как снежный обруч висевшие над долиной, тоже были в синевато-розовом тумане.
Один лишь бот8, принадлежавший Мартыну, валялся ближе всех к воде, боком; днище было треснутое, пакля вылезла, и – обиднее всего – кто-то нагрешил под лодку. Ребятишки, наверное.
Мартын хотел поругаться, но вспомнил, что не только бот, но и сети его давно сгнили. Было жарко. Собаки, высунув ровные розовые языки, лениво глядели на него, словно приглашая проходить и не мешать сну. Мартын бодро дернул плечом, оправил рубаху.
– Направлю вот, с понедельника али со вторника начну…
Ему неизвестно с чего стало весело. Он любил уходить в горы. Там легко думалось о кладах, редко встречались сельчане, при первом же слове упрекавшие его в лености. Сельчане были староверы – кержаки9 по-алтайскому, любили с благочестием помогать друг другу, любили, чтоб упоминали часто о такой помощи. А Мартын все забывал, и благочестием его наполнить было так же трудно, как бочку плевками.
Когда он начал подыматься проулком к кладбищу, навстречу ему попалась Елена, жена начетчика10 Скороходова. Она была высокая, полная; льняные косы выбивались из-под длинного платка на синий старинный сарафан. Мартыну понравилось какое-то раздолье, несущееся от нее. Пухлые белые руки ее тихо потрогали маленькой подбородок, когда над ней низко пролетела сонная ворона.
– Здравствуйте, Мартын Андреич, – протяжно сказала она, проходя плавно мимо него. И белые руки ее, казалось, неистово как-то улыбнулись.
– И-ех… касатка, – сказал ей Мартын вслед. – И-ех… Поповски дочери, што голубые лошади: либо добры, либо дики.
И вдруг у него громко – будто в реве – заныло сердце. Сначала он как будто сдержал себя, но мотанулось, словно щука на крючке, сорвалось – и понесло. Мартын глядел в радужные от древности стекла окон, и какие-то мелкие рыбешки дрожали в них. Солнце поднялось высоко; басом, точно бы, прокричал петух; мальчишка с псалтырем в обеих руках торжественно пробежал мимо Мартына.
На кладбище он посмотрел, как над могилами, старинными голубцами11 в виде маленьких домиков, опушались березы. Вспомнил почему-то, что если в радуге выделяется зеленый цвет – к урожаю, и посмотрел на небо. В Святом Овраге он послушал, не ржет ли Серко, хотя помнил, что путал его версты за три от Оврага на березовой елани – поляне. Подле одного пня, почему-то похожего на сига, он посбирал перезревшую, почти темную землянику. Ягоды были темные и приторно-сладкие. Он выплюнул их с омерзением и пошел по березняку выше. Затем вспомнил про разрушенный бот и решил, что тут в чем-то виновата Елена.
– Краля толстопузая, – уныло сказал Мартын, – тоже лезет…
И опять заныло сердце, и трава под ногами казалась жесткой, словно солома.
– Я те мурсало-то расквашу, попади на меня! И он закричал так, что даже сам вздрогнул:
– Серко-о!.. Сер-ко!.. Ну-у!..
Эхо отчетливо, без перекатов повторило его крик. Рассыпчато покатился камень. И это и тилилиньканье камней указывали на близость гольцов. Мартыну надо было взять вправо, а он полез влево по самой крутой тропе. Облепиха путалась в коленях, громадная паутина с жирным пауком посередине села ему на лицо. Жизнь свою, казалось ему, знал он, знал все свои нужды, знал все, что ему нужно делать… и все ж долго бежал в гору, пока по крыльцам за ошкур12 штанов густо не потек липкий и словно связывающий ноги пот.
Теперь вокруг него были матерые лиственницы, кое-где с них пластами была снята кора (для покрытия хлевов), ярко-желтая смола походила на ледяные сосульки. Подосинники синели в траве, дятел говорил где-то о кладах. Мартын огляделся – и опять рассердился не то на лошадь, не то на Елену. Прохлада охватила его, он лег полежать – ко сну он был падок, но в боку вновь словно хлестнулась заноза. Он ударил по стволу лиственницы так, что на недоуздке осталась сера.
– Я те мурло-то расквашу! Краса, подумаешь! Алёна, тридцать три года…
Осиновые листья лежали кверху изнанкой. Осинник и попавшийся овражек густо заросли пучками13. Мартын, как дети, любил пучки. Сломал одну, есть не мог и, даже не думая о ней, полез влево. На самом дне овражка Мартын выронил пучку – и поскользнулся на ней. Упав, он вдруг ощутил мокрый холод в колене, наклонился ниже; прозрачный до того, что паутинка, упавшая вместе с сучочком, виднелась на донышке его, маленький ручеек пробирался у него под ногами. Овражек показался ему незнакомым. Жужжали пчелы, должно быть, недалеко пасека. Он поймал пчелу, она ласково зашипела у него в ладони, будто торопя его выпустить, – и не укусила. Он последил за ее полетом и пошел по ручью дальше.
То, что тут тек ручей, казалось ему большим непорядком, и это даже заглушило его сердце и то, что он выпачкал штаны. Откуда ручей? Озеро в долине Кок-Таш наполнялось весной тающими снегами со склонов гор, осенью оно сильно мелело – и тогда легко было ловить карасей и линей.
«Родник, видно, забил, – придется проследить. Да и Серко, небось к воде вышел. Где ж, коли не у воды искать коня».
Овраг скоро кончился, ручеек тек уже из березняка. Был он теперь шириной не больше пол-аршина, тек он медленно, – упавшие березовые листья долго цеплялись друг за друга, словно играя, а потом, качаясь, плыли дальше. А местами вода была столь прозрачна, что ее можно было заметить только по журчанию.
«Не иначе, родник».
И вдруг, выходя из березняка, он увидал болото, самое настоящее болото с мелкими кочками, поросшими остро пахнущей осокой. Это было уже совершенно чудно, – никогда по склонам гор, окружавших долину Кок-Таш, не слышно было про болота.
«Да заплутал я, што ли?» – и Мартын встревоженно поднялся на высокую безлесую скалу. И тогда сразу, поверх запахов хвои, снизу, из долины пахнуло на него цветущими хлебами. От волнения у него словно колос прошел по горлу. Ему казалось, что сквозь синеватую пленку тумана, закрывавшую озеро и долину, он видит поля, плотно затканные колосьями. Звенят усики, подмигивает игривый овес, просо лохмато, будто староверческие бороды… Много телег едут осматривать поля, голоса звенят ясно, значит будет вёдро14, будут закрома подперты кедровыми слегами15, чтоб не развалились…
«Соберу зерно, ружье обязательно куплю, на горностая уйду в камни… а там видно будет».
И вновь вспомнил Елену – и кинулся к ручью.
Болотом идти было трудней, осинник перегнил, часто нога вязла в кислой няше – болотной глине. Перед самым концом болота из осинника выскочил журавль. Нелепо расставляя ноги, он разбежался, оглянулся со страхом – и медленно полетел. Поднявшись над скалой, на которой был Мартын, журавль тоскливо курлыкнул. И журавль, и болото, и тоска – все было зряшное, пустое. Мартын обрадовался гольцам, обширному серому полю, голым скалам вдали и твердому, с каменным запахом лишаев ветру.
А ручей уже был величиной с шаг и встречал его грохотаньем влекомых им галек.
«Чисто наважденье… и Серко не могу найти»…
Он поднялся совсем высоко – едва ль уйдет сюда конь. Болотце, через которое он проходил далеко внизу, закрыл туман. Показались впереди холодные, крытые рыжими лишаями, обдерганные словно, скалы. Сверху хлынул ледяной ветер, знобким коробом натянул за плечьми рубаху. Мартын, вправляя рубаху в штаны, упрямо потряс недоузком:
– Я-то узнаю, в чем тут запалошная события…
Солнце поднялось высоко, но было холодно; шаг становился все легче и легче, но было такое чувство, словно он идти-то шел, а словно часы – не сходил с места. Закопошилась знакомая всем долинная тягость, все же Мартын не повернул назад.
Слева из гольцов вышла темно-бурая гряда холмов. Ручей уперся им в бока. С самого высокого холма Мартын разглядел внизу, еще левее, начало пустынной каменистой долины, соседней с Кок-Ташем, называемой Талас. Она была необитаема, гола; холодные потоки вод с ледников устремлялись туда, чтоб, соединившись в реку, направиться в Нор-Зайсан. На холме было еще холоднее, он вновь спустился на гольцы.
Наконец он увидал Тиляшские неприступные скалы. Они подымались в густое синее небо высотою в пять наивеликих сосен, вершины их походили на поставленные дыбом челноки; огромный беркут, словно часовой, нехотя и злобно кружил над ними. За скалами начинались ледники, незнаемое ледово, вечные холода, смерть.
И здесь Мартын увидал: огромная, с часовню, глыба, выпавшая из скалы, открывала что-то похожее на окно или погреб. Там, похожие на синие нити в ткацком станке, блестели тускло льды, и оттуда-то хлестал на волю неизвестный ручей. Выше и по бокам ледяного погреба шли широкие, в ладонь, трещины, осыпался щебень.
– Дивеса!.. – сказал со смехом Мартын. Он был доволен, что знает, откуда течет ручей. Он наклонился с розового, похожего видом на паука камня напиться к крошечному запрудчику. Коршун отразился в воде, и ему показалось, что коршун летает над ним.
– Брысь! – весело сказал он.
Но вода была столь холодна, что словно камнем ударило его в зубы. Спокойствие охватило его, он свистнул, подмигнул неизвестно кому и побежал вниз. На одной из еланей он встретил Серко, стоявшего по голову в траве и яростно отмахивающегося тощим хвостом от оводов. Конь, увидав хозяина, заржал; в редких зубах его торчали листья таволжника. Таволжник цвел, значит, хорошо пойдет в сети карась.
Утром он почистил Серко, и баба долго дивовалась на это. Дальше ему захотелось на озеро. Он вычерпал бот, кое-как затыкал щели куделью16, Алешка сел за лопашные17 весла. В курье18 – узком протяжении озера, заросшем камышом, встретились рыбаки-сельчане, сытые, здоровые. В ботах у них стояли большие корзины, наполненные рыбой – золотисто-серыми карасями и темно-янтарными линями. Похвалили Мартына:
– Надо, надо! Клев на уду.
Мартын смазал морду19 внутри пресным хлебом; вода, казалось, гнула прутья, когда он опускал морду, долго расходились круги по воде. Утро было крепкое, как холст; кудерочки20 облаков ходили стайками. Жить бы, поживать да посмеиваться в такое утро да в таких местах.
Ресницы от теплоты слипались, словно березовые почки. Мартын начал смазывать вторую морду, но вдруг опять защемило сердце, он отодвинул горшок с тестом и посмотрел на горы.
– Парит, Алешка.
– Но, парит! – возразил ему Алешка. – Я вижу – на сеновал хошь. Сичас ветер с ледова подует, жара-то и схлынет. Я самолов поставлю.
– На поле надо сходить… поворачивай-ка, Алешка. Алешка обиделся.
– Дай, хоть морду спущу.
Он ловчее и быстрее отца поднял широкую плетеную, похожую на корчагу морду. Мартын удивился на его сноровку, но было обидно, что сын не почитает его, гляди, лет через восемь прогонит отца на подати и возьмется за хозяйство. Мартын сказал ему об этом.
– И будет… – уверенно ответил Алешка. – Лежи. Мартын рассердился, выругал его.
Вытащив бот на берег, Алешка взял нож и пошел в березняки за вениками, а Мартын направился на пашню. Погонка хлебная, – концы колосьев, образующих равную земле плоскость, – блестела словно начищенная; изредка над ней выныривали от легкого ветра князьки – более высокие и крупные колосья. Все было как нужно: в цветенье дул легкий ветер, погода ясная, в колосе завязывалось доброе зерно. Пахло теплой соломой и сухой землей, в пыли играли воробьи, перепел выстукивал: «Вот идет, вот идет»…
Мошки вились табуном, бабочек-белянок было много – все к урожаю, к ясности, а сердце у Мартына захолонуло еще больше. От жары, что ли, или устал, много пробыв над водой. Он вернулся домой, влез на сеновал, – баба только что привезла накошенной травы. Трава была мелкая, точно волос, и пахла медом. Он тупо выслушал бабью воркотню, даже не обругал. Угрюмо смотрел он на ветхую крышу сеновала и так мотал головой, словно крыша могла сейчас упасть и раздавить его. Так он пролежал до вечера, а вечером поел картошки с луком, переложил топор под лавкой лезвием к стене и вернулся вновь на сеновал.
И весь следующий день пролежал Мартын. Баба начала беспокоиться.
– Болит где, што ли?
«Разве к доктору съездить», – подумал Мартын. Но доктор жил далеко, за двадцать верст, к тому же Мартын думал, что доктора могут помогать только в животе, до всего остального они еще не дошли.
– Чего ж лежишь ты тут, будто ледово!..
При этих словах жены Мартын вспомнил синюю стену льда, выдавившего дно скал, холодный ручей, бьющий с рокотом из-под льдов.
– Ты мне на завтра хлеба отложи. Мне надо в камни сходить. Утром он, верно, ушел в камни.
«Выкупаться, гляди – поможет», – думал он, идя Святым Овражком к болотцу.
На болотце была уже довольно глубокая топь, кое-где по открытым местам ветер, прорывавшийся через осинник, колыхал по воде осоку. Крякали утки, легкий пар подымался от затопленных пней. Мартын обеспокоился, что придется далеко обходить болотце – не раздалось ли оно еще в ширину. Поток за болотцем стал еще шире, он увлекал с собой камни величиной с гусиное яйцо, с шипеньем рыл в гольцах свое логово. Камушек, где еще недавно Мартын стоял и пил воду из потока, был под водой и, казалось, вырос. Лед под скалами словно сел ниже, и отверстие погреба расширилось. Мартын сунул в поток руку, ее захватило словно петлей и повлекло…
А тоска оседала на душе все ниже и ниже, как эти льды. Мартын вышел из тени скал, и ему сразу стало теплее, хотя с ледников через скалы несло холодом.
«Жара-то какая… лёдово-то тает как, поди, там… Ишь, ведь камень проело, чисто крот»…
И он подумал, что сейчас начало самой жары, льды начнут таять по-настоящему недели через две…
Солнце упало в погреб, и льды ощерились словно клыки. С металлическим звоном откололась глыба величиной с бочку и, качаясь, выкатилась по потоку на гольцы.
«Вот потечет-то… Ведь этак-то»…
Он хотел пошутить, что теперь им не надо набивать на лето погреба свои льдом, но вдруг мучительная мысль опалила его сверху донизу, так, что заныли икры.
«Ведь этак-то в долину река пойдет»…
Он еще не мог понять, как это пойдет река в долину, – через матерую черную землю, через эти нивы и покосы, где колос тяжестью в человечью руку, а сено на вилах словно бобровая шапка.
Он, не оглядываясь, кинулся вниз по гольцам.
Пробежав сосновый лес, он выскочил на дорогу. Здесь догнал он Турукая-Табуна, Микиту, веселого мужика. Турукай был мужик никчемный, пустой, и если б не тесть да не отец, он бы всегда сидел подле озера с удочкой, рассказывал сказки да ловил окуней. Собой он был какой-то мочалистый, постоянно кашлял и много врал. Турукай сидел на возу березовых жердей; увидав Мартына, он заулюлюкал, заорал; лошадь, привыкшая к его выходкам, только повела ушами.
– Мартын, друг сердешной, таракан запешной, откедова? А я как раз сотой воз жердей в этой неделе везу, да едва под пропасть не попал, – медведь, сукин сын, лезет из черни… ладно, лошадь ученая. Садись, подвезу.
Мартын сел. Нежная белая кожица на жердях во многих местах облезла, показалась другая, зеленая. Мартыну, кто знает почему, стало жаль березки, да и брехняка Турукая тоже было жаль.
– Река идет в долину-то, – сказал он тихо, – из лёдова идет. Сейчас сам видал.
– Ну, река! Плоты, значит, будем плавить. Я, брат, мастер по плотам… раньше, до революции меня купцы нарасхват на плоты звали, невест-то сколько давали, с приданым… тыщи.
Он уперся руками в бока и долго хохотал.
– Али мельницу открою на шастнадцать поставов, с аликтрическим освещеньем. Брать буду по копейке с пуду, всем мельникам по округу конец. Еще убьют, пожалуй.
– Да ты не болтай, Микита. Я те всурьез говорю – река. – Взаболь?21 Ишь, лошадь под тобой вспотела… как сел, так вся потом изошла… к сердешному делу, выходит.
– К сердешному? – переспросил Мартын. Но Турукаю, видимо, стало скучно.
– Ко мне девка пришла ноне за яйцами, занять. Я ведь кур новых купил… голанских… десять рублей пара, каждая весом по полпуда, небось. Я говорю девке-то – пойди на поветь22, там куры свежих яиц нанесли, собери сама… я оглобли строгал. Да правей бери – там они и несутся. А правей-то жерди разошлись, в повети-то яма. Она и бу-ух… только руками полснулась. И застряла, трафи ее, посредь жердей, юбка на голову, орет. А я скорей в пригон, скорей беру прут да снизу-то и давай ее щекотать. Ногами машет, вертит, дрыгат в конец-то… в дождь ударило… едва со смеху не сдох.
Он долго катался по жердям, хлопал себя по ляжкам, визжал.
– Да у тебя, Мартын, мурло-то – чисто ты погань какую съел… Али идет вот попадья с работником, и встречаются им две собачки…
Но когда Мартын и этой сказке не рассмеялся, Турукай обиделся.
– Зболтанный ты какой-то, Мартын, скушно с тобой чисто в туесе23.
Он стегнул лошадь, жерди затрепетали, защелкали. Турукай запел песню. Кому тут говорить о мутном своем сердце?
Мартыну не спалось. А когда поднялся над озером месяц и погасил в воде лениво мигавшие звезды, стало так тоскливо, что заныли пальцы. Он пошел по селу. Подле изб, как и везде у сибиряков, лежали напоказ богатства все: плуги, косилки и жнейки. Они портились от погоды, месяц блестел тускло и кроваво на ржавчине. Ворота высокие, как у крепостей, с железом крытыми кровлями. На бревенчатых заплотах24 сидели кошки, сытые, толстые.
Ночь шла под Ивана-Купальника. Девки в эту ночь сбирают двенадцать разных трав, кладут под подушку – завечают свою судьбу25. Девки шли в обнимку с парнями, с полными горстями трав, тихо, без голоса, словно скотина с водопоя. Кое-где в палисадниках тихонько, истошно охали, и тогда сразу тяжелел живот у Мартына. В одной избе проснулась баба, вспомнила, что завтра Иван-Купальник, и, голая, на месяце, вышла к окну, поставила на подоконник под Иванову росу пустые крынки, – от Ивановой росы снимок-сметана делается толще26. Груди у ней не вместились бы и в крынку, она сонно, медленно качалась и не замечала стоявшего под окном Мартына. Окна везде были настежь, и казалось – в вековечном сне храпят кержацкие избы.
Спокойно дышала скотина во дворах; тоже, если не идет в хлев, – к добру, к ясности. В одной избенке мельтешил жировик27, там вдова шинковала, но пили там тоже тихо, будто больше для сна. В окне Мартын увидал мужа Елены, начетчика Скороходова; он уговаривал соседа идти домой. Мартыну захотелось выпить, но кто ему поверит в долг. И тогда он озлился, выругался и пошел к скороходовской избе. Он перелез палисадник, черемуха хлестнула его по горячему лицу, он поднялся на завалинку. Плахи завалинки качались (землю, чтобы не прели бревна, выкинули от плах и стен), пазы пахли мхом, а изба, вся наполненная месяцем, пахла хлебом и человеком. Елена лежала на кровати, и пухлые руки ее свешивались до полу, словно ловя косы. Ребенок, посвистывая носом, спал на голбце. Месяц ушел за облако, и Мартыну было приятно видеть темное жерло избы. Только еще сильнее пахнуло оттуда человеком.
– Экая сыть28, – уныло сказал про себя Мартын, плюнул в выставленную на росу крынку и пошел обратно.
Парни и девки расходились по домам. Девки зыбались29 чреслами, шел от них плотный запах кислого хлеба, а парни словно спали.
Мартын остановился перед молельней; прямой раскольничий крест скосился от древности. Мартын в бога не верил, и ему казалось, что все верующие притворяются, но сейчас он обидчиво сказал:
– Видно, и бог-то тоже спит. У одного меня, што ли, сердце-то ныть обязано…
Безгромовые зарницы мелькали над белками30, беззвучно качались камыши, и выпрыгнувшая из воды рыба словно растаяла в воздухе.
Мартын сидел на заплоте, он веревкой перехватывал матицу, чтобы потом попытаться с лошадью вместе потянуть и выпрямить покосившиеся ворота. Мимо прошел Антип Скороходов; он был сильный плечистый мужик, в проседь, картуз низко сидел над длинными, словно огурец, ушами. Отойдя несколько шагов, Антип остановился, подумал и одернув пиджак вернулся к Мартыновым воротам.
– Мартын, я ведь тебя, как птицу, могу с заплота стряхнуть, – сказал он, положив крепкие волосатые руки на бревна.
– А стряхни, – нехотя сказал Мартын, – может, ворота выпрямишь. Мышь скирдой не задавишь.
Скороходов повернулся к нему спиной и сказал, глядя на озеро:
– Колдуешь все… деревню обещаешь затопить…
Мартын озлился и закричал:
– Кабы да мне грамоту да обученье, я бы вас, толстопузых чертей, всех превзошел. Ты вот начетчик, писанье наизусть выучил, почему ты понять не можешь, что деревню-то зальет. Вот к брюху бабищи твоей подойдет, тогда и засикильдите31.
– Ну! А ты, Мартын, старайся, старайся.
Он наклонился к нему, огляделся по сторонам, и на висках у него покатился пот.
– Ты вот по горам стал похаживать, а я тебя понимаю… На воде-то ты глаза отводишь, а главная мысль твоя – метал. Я тебе без хитрости: бери меня в пай на золото. Работников наймем, брата пошлю, сам все дела буду вести, как по ниточке.
В горах там вокруг прииска. Были когда-то прииска и в пустынной соседней долине Талас, куда бежали потоки с ледников. Из таких сел, вроде Ильинского, на прииска народ больше уходил зряшный, пустой, у которого с хозяйством ничего не выходило. «В метал пошел» – было вроде ругани. По правде сказать, богатеями с приисков и стараний не возвращались.
– О золоте не спишь, а того, леший, не поймешь, что скоро, месяц, два али раньше, деревню затопит.
Антип погрозил толстым волосатым пальцем:
– Мартын, не хитри. Говорят тебе: в пай пойду.
Глядя ему вслед, трудно было понять – поп ли это, купец или знахарь. Пиджак длинный, волосы тоже длинные, в одной руке пук травы и кореньев, а в другой кнут.
Мартын разозлился на ненужные мысли и на то, что подумал: «Хорошо бы с ним в пай. Елену будешь каждый день видеть». Он кинул нагретую солнцем веревку на землю, погрозил кулаком воротам:
– Вешаться на такой махине только! Поглядел на горы.
«Сам уплыву, тони все барахло, а не пойду». Но через день он взял лопату – и пошел.
В Святом Овражке пучки уже подсохли; ему захотелось есть. Он остановился, подумал, не вернуться ли ему домой за хлебом. В кустах рядом треснул сучок, кто-то фыркнул. Мартын раздвинул кусты и увидал обвитое паутиной лицо Антипа Скороходова. Скороходов был тоже с лопатой, руки его беспокойно перебирали черень32, а фигура была строгая, и голову он держал немного набок, словно читал молитвы.
– Дай, думаю, посмотрю, где это ты метал, Мартын, роешь.
И он осторожно вздохнул.
– Пойдем, чего тебе за мной следить, – сказал Мартын. – Хлеба ты не захватил?
Антип указал на оттопыренную пазуху, Мартын кивнул и пошел вперед.
Болотце было сплошь залито водой. Вода, видимо, не успевала испаряться и, несколькими струйками теряясь в траве, искала выхода в долину.
– Видишь, – указал Мартын. – Ну?..
И по губам Антипа Мартын понял, что думает он совсем иное и едва ль видит воду и думает о ней. Из кармана у него торчал завернутый в тряпку нож, и нож-то особенно разозлил Мартына.
– Долго мне еще с вами, дураками, возиться! Понимаешь?
Антип не обиделся на его ругань, он как-то не по характеру торопливо поддернул штаны и ласково заглянул Мартыну в глаза.
– Это тебе, начетная твоя дурь, должно быть дороже метала. Ручей-то течет в долину, а долина-то как блюдечко – ни вытека, ни втока. Ты вот попробуй капать в блюдечко по капле… капай да капай…
– Здесь, што ль, Мартынушка, россыпь-то…
Мартын яростно плюнул.
– Дурак!
– Где ж?
– Выше.
Мартын и не повел его к Тиляшским скалам: все равно – метла метлой, а не человек. На самом низком холме, из цепи закрывавших проток в долину Талас, Мартын ткнул перстом в землю и сказал:
– Здесь. Рой, да глубже.
Он сел рядом на камень и тоскливо глядел, как моталась в руках Антипа лопата. Прорыл тот не больше аршина, лопата зазвенела и сломалась.
– На породу наткнулся, – с недоумением сказал Антип. – В другом месте разве порыть, а то пласт-то тонок больно.
– Не надо. Не прорыть, значит.
Долина Талас лежала перед ними – пустынная, бурая и тихая. Сколько воды может принять, а поди ты!
Антип тем временем схватил лопату земли и побежал к потоку. Там он пустил землю по шапке, долго рылся в ворсе и, вернувшись, потряс черенком перед лицом Мартына.
– Нету метала-то ведь, нету.
– И не было, – сказал Мартын, вставая. – Пойдем домой. Я своей силой думал отвести, а теперь не иначе – взрывать… Со стариками бы ты поговорил.
Антип вдруг задрожал, побледнел:
– Ты у меня не хитри, ты у меня глаза-то не отводи… Ты указывай, коли сговорился.
– Укажу-ка я тебе одно место, – сказал тихо Мартын и тоже начал дрожать: – откуда мысль твоя пошла… да небось, сам знаешь. Иди, я на тебя да на твою бабу… не работник.
Скороходов вдруг заругался громко, всеми матами, – он, видимо, и сдержать-то себе не мог, да и не хотел. Так он шел за Мартыном до самой колесной дороги через весь сосновый бор, ругался, пока Мартын не удивился:
– Ну, и жаден же ты, Антип! Как суслик. Благословись, огарком очертись.
Пашни начинались сразу за поскотиной33. У ворот поскотины часто любил сидеть Турукай: можно было остановить каждый воз, въезжавший и выезжавший из села, поговорить и соврать что-нибудь. Турукая все любили за сказки и за то, что он многому верил. А не верил он только в смерть и такие сказки, где говорилось, как и где помер, он не рассказывал и говорил, что их бабы-старухи выдумали.
– Я, – говорил он полной верой, – не помру. Пробогохульствую и в лешие или водяные предназначу себя – только меня и видали.
Поскотину караулили всегда мальчишки. Турукай рассказывал им сказки и подговаривал обворовывать огороды и маковые поля. Мальчишек часто ловили; кто знает, может, Турукай же и предавал их. Пороли их мокрой крапивой. Турукай долго потом издевался над выпоротыми.
Когда Мартын подошел к поскотине, Турукай широко распахнул ему ворота, поклонился в пояс и вдруг захохотал:
– Баба сейчас Скороходова на пашне лупила, только что прошел вперед тебя, весь-то будто каменный. А ты все, Мартын, метал ищешь. В прошлом году попал я в Таласскую долину, смотрю – на дороге самородок лежит, никак не меньше куриного яйца. Я его бац в карман, а карман-то с дырой. Прихожу домой, а там ветер в кармане. Слез-то пролил сколько, жалко!
Мартыну после Антипа как-то весело стало от турукаевской брехни. Глаза у Турукая были веселые, ясные, сам он весь словно на гору вспрыгнуть хотел.
– А ты, Мартын, разрыв-траву такую поищи. Все тебе клады раскроет, от болезней излечишься и любую бабу приворожишь.
– Нет такой травы, чтоб приворожить. Я бы поискал.
– Я тебе говорю – есть. Я одного старика видел, купец-скопец, в городе. Листок дал один махонький, – клад, грит, можешь достать, любую бабу али болезни. А у меня страх тогда живот болел! Мне бы про клад надо сказать, а потом на эти денежки из Питера докторов выписать, а я брякни: брюхо, мол, хочу залечить, понос несусветный. Листка-то как не бывало, а и болезнь-то как теленок языком слизнул. Да…
Мартын потрогал его за плечо и сказал:
– А ты, Турукай, в партию не хошь?34
Турукай даже зажмурился от радости.
– В партию, Мартын, хорошо-о… Волостным председателем… А мне тот же скопец говорил: Ленина-то, говорят в склепе-то нет, заместо его какой-то солдат лежит, а сам Ленин сейчас по России ходит, надежных людей выбирает, чтоб всему миру войну объявить. Тыщу, грит, начальников набирает, а набрал только пятьсот. Ведь, очень просто, может и в наше село зайти, скажет: а пошто Турукаю не быть у меня главкамандущим, если он у меня в партии. Надевай на Турукая ордена и давай ему коня арапской породы, а…35
– Обожди, главкамандущий, – прервал его Мартын. – Я те на самом деле говорю: давай по селу-то партию устроим, зажмем им гасники-то36.
Турукай заморгал, посмотрел в сторону, подергал локтями.
– Давай. Однако и чудно! Сколь лет жили без партии, а сёдни только оказалось – нельзя без нее жить. Я в ней кем буду? Я ведь тоже грамоту-то хоть и проходил, да все церковнославянскую, да все за заботами-то из головы выскочило.
– Научишься.
– Это я могу. Учиться я могу здорово. В три дня до всего дойду. Он яростно сплюнул, засучил рукава.
– Мы им, сукиным детям, покажем. В шелковых рубаха скоро ходить будут, а там страдают. Да-а…
Вечером было тихо и пасмурно. Турукай обегал всю деревню, наврал, что из города едут на трех подводах инструктора, что Турукай послал главному по партии пакет, а что там написал, добавлял он угрожающе, – потом разберутся. Старики, вышедшие из молельни, сгрудились и стали говорить о погоде, что пора перепахивать во второй раз пары, а под пшеницу троить кислые залоги – новые земли. Поговорили и о прежней жизни, и о том, что теперь так дорога мануфактура37: рубль двадцать аршин. В это время проходили мимо бабы, сговаривавшиеся назавтра идти по клубнику и по красильные травы. Среди них была и жена Мартына. Высокий старик с тупым и упрямым лицом, Митрий Савин, поманил ее пальцем.
– Ну, как Мартын-то? – спросил он ее строго.
– Не знаю, Митрий Василич. Все тосковал, по ком – не знаю, а теперь гневается, а пошто гневается, и ума не приложу. Вам, старикам, разбирать.
– Дурит он у тебя. Скажи, что, мол, в гости придем.
Идти им к Мартыну было до мучения тяжко. Они долго еще говорили о погоде и об урожае, наконец оправили сзади старомодные кафтаны и пошли. Мартын согрел в чугунке чай, старики поблагодарили, но попросили налить им вместо чаю кипятку. Но и кипяток они пить не стали. Спросили, много ли Мартын наберег на зиму сена; за него ответила баба. Тогда высокий старик, Митрий Савин, протяжно сказал:
– Мартын Андреич, ты бы эту штуку, што Турукай болтает, оставил. На чем свет, на том и позор, а на наши места тысчи народу зарятся. Наша земля-то клином впереди всех земель идет. Сколь лет без партий жили, а тут на тебе. Вон в Артемовке младший у Глафировых в город ушел, в камсамольцы записался да и женился на жидовке. Пошел второй – на водке сгорел. Третьему только счастье38: жена тихая, работящая, сам дома сидит – пимокатное рукомесло39 изучил. Тебе и помощь устраивали, и хлеба давали, и еще дадим, коли надо… скотину для работы можно определить… А коли сознаешь ты, што не можешь хрушкую лямку тянуть, шел бы в метал. Семью-то твою не забудем…
Старикам не хотелось говорить с Мартыном, но времена дикие: если не партия, сожжет еще, а потом такие законы отыщет, погорельцев же судить и будут.
– Не хочу металу! – вдруг, подбочившись, закричал Мартын.
И кричать-то ему не хотелось, да и подбачиваться-то, сам знал, смешно, по-турукаевски выходило, а вот понесло как-то.
– Не хочу. Разговор буду с вами иметь.
Он вспотел даже, но локти задрал еще выше. Старики, все так же легко вздыхая, смотрели в сторону.
– Имею я желание ехать с вами, старики, в горы. Для полного маршрута. Ледово на долину идет.
– Веками ледово в Таласскую долину шло, – осторожно сказал Василий Тюменец, толстый, со слезящими алыми веками, старик, – а теперь што ему запритчилось к нам поворачивать…
– Прошу встать! – закричал вдруг Мартын. – Алешка, собери к завтраму телегу.
Старики пожевали губами и попросили выехать пораньше, до жары. Когда они ушли и баба, вздыхая протяжно, стала убирать со стола, Мартыну стало стыдно, что он так кричал на стариков, которые ничего не сделали ему плохого, ломался, словно пьяница, и себя показал дураком. «Завтра, – решил он, – буду степеннее». Но утром он опять задурил: надел новую рубаху, занял у соседа ременный пояс с блестящей пряжкой, по деревне ехал и громко кричал, упрекая стариков. Ехал он тихо, и ему хотелось, чтоб его видела Елена, – он даже остановился против ее окон, будто бы поправляя шлею. Окна были раскрыты настежь, но Елена не обернулась; она садила хлебы в печь, и мелькала перед темным жерлом печи круглая, посыпанная мукой лопата. И тут Мартын не вытерпел; указывая на ее зад, он подтолкнул самого молчаливого старика, богомольного Сидора Лабашкина:
– Цело-то40, цело-то како, мотри! Тебе бы такое цело. Не уцелел бы, дядя!
– Отвяжись, лихоманка, креста-то на тебе нету, – строго сказал ему Митрий Савин.
– И не будет! – закричал Мартын. – Всю деревню переверну, легче. Мне ради такого дела… никто не жалко! У меня душа горит! Я на все согласен!
Но и тут Елена не обернулась.
За поскотиной поехали быстрее. Черная пыль огромным хвостом, словно тень, волоклась за телегой. Старики глядели на поля и говорили: цветы пахнут сильнее с каждым днем, значит, колос наливается полней, тяжелей; что коготки рано развернули венчики – овсы будут питательны; к теплу – мышь оставляет траву – пищу снаружи, а не тащит внутрь норы; что кошки крепко спят – тоже к теплой зиме. Трещали звонко кузнечики, высоко выпрыгивая промеж колей дороги. Небо было душное, хотя и раннее, и почти желтое.
Но вдруг громадная лужа воды преградила им дорогу.
– Объезжать, что ли?! – закричал вдруг обрадованно Мартын. – Дождались! Выбирайте теперь имя реке, крестить ее надо, старые черти!
Старики охнули. Прямо через поле богомольного Сидора Лабашкина несся с шипеньем и пеной ручей.
Тогда Мартын указал на небо и начал по пальцам пересчитывать приметы:
– Горы-то в ясности – жара, кошки-то спят долго – к теплу, мышь-то сено снаружи держит – к теплу… А лед-то тает, лёдово-то идет, конец вам подходит, а… Буде с бабами валяться, буде… дай другим, а?
Старики молчали, а старик Лабашкин слез с телеги, ухватился руками за смятые, подмытые водой колосья и тихонько, по-ребячьи завыл.
К ручью сбежались мальчишки, сразу появился подле ручья мусор, – пашню, чтоб не пропадала, наскоро скосили и стали сушить пшеницу для корма на поветях. Рев быстро прекратился, и никто не верил, что вода в озере может подняться. Тогда Мартын воткнул в воду размоченную вешку, вода в сутки поднялась на полвершка. Ему не поверили, и старик Митрий Савин сам воткнул вешку и весь день сидел подле нее, не спуская глаз. Вода поднялась по его вешке на вершок.
Турукай-Табун, согнув палец, помчался по деревне с криком:
– Братцы, на вершок! А с завтрава будет по пол-аршины подниматься, там еще камни обрушились, я сам видел.
Турукаю не поверили, но старики съездили в горы, посмотрели поток.
– Што, назвище какое будет? – сказал им ехидно Мартын. – Назовем ручей-то Бабьим, а?
Антип Скороходов закричал ему:
– Колдун, сукин сын, наколдовал, а теперь смеешься! Цена зайцу две деньги, а бежать за тобой – сто рублей.
– Одна пора в году – страда, – вздохнул Митрий Савин. – Мы к тебе, Мартын Андреич, опять вечерком-то заглянем.
– Загляните, угощеньем не обидим.
Елена как-то встретилась; попробовал Мартын сказать ей что-то, да получилось очень обидно. Она оправила платок, шевельнула плечом и, сказав с отвращением:
– Пела бы жнея, да горлышко пересохло, – пошла прочь.
Позже Мартын подобрал нужные слова, но не было случая переговорить, да и нужно ли было с ней говорить – он не мог понять.
Старики опять, как и прошлый раз, сели по росту – низкий ближе к божнице. Опять отказались от чая, и Митрий Савин сказал:
– В город, што ли, тебя послать…
А молчаливый Лабашкин, наконец, вымолвил:
– По вершку в день – так вот и смерть человечья.
– Что в город! – возразил Тюменец со злостью. – Богатеи, скажут, кулаки – тоните, ни дна вам, ни покрышки. В городе народ обнищал, на достатки зарится, за ситец вон по рупь двадцать дерет.
Тогда Митрий Савин тряхнул большой головой и сказал резко:
– Што там с души-то кажуху сдирать, надо дело… Придется тебе, Мартын, как ране говорил, партию по селу доспеть.
– И на самом деле, Мартын, партию.
– Партейному, бают, сплошь вера и помощь.
Тут постучали в окошко, и внучек Лабашкина прокричал, что вода поднялась еще на полвершка. По всем приметам выходила длительная засуха, для хлебов хорошо, а для льдов…
– В волость, разве, в камитет…
– Во-олость… Соберут савет, таких же талегай41, как мы, писарь реза-люцию напишет, а она месяц до города пройдет, а через месяц-то вода будет на улках. А то из города приедут, инструктара какая там, заездят по страде лошадей, обожрут, да и видал их42.
– Своими надо силами.
– Своими… – длинно вздохнул Лабашкин. Тут опять строго заговорил Митрий Савин.
– Однако можно в городе и помощь кому деньгами там али чем оказать. Найти наших, которы на метал ушли, выменять у них пузырек металу, все равно в Китае дороже не дадут. И не монета, а лестно. Кто откажется.
– Да што они в лёдове понимают, што они могут доспеть, коли там сам бог больше… Надо такого человека, штоб с леригией подступиться мог.
И Лабашкин опять надолго умолк.
– Допоручить Мартыну, – сказал решительно Савин, – составить партию. Надо выбрать кого.
– Турукая я взял, – сказал Мартын.
– Турукая можно в пугало, а не в партию. Турукая ты для нашего веселья оставь. Окушков Егор победней всех.
Тюменец замахал руками.
– Не пойдет Егор, рыбалку и самогон любит. Ему бы воды побольше, он на воде и спать будет.
– Мир заставит, – пойдет.
– Разве мир.
Митрий Савин загнул палец, – пальцы у него были длинные и сухие, как щепы.
– Значит, один есть, с Мартыном двое. Надо бы с металу, которы победнее, привести.
– Метал сейчас не бросят. Сейчас с гор вода двинулась, для промывки золота самое время.
– Тогда Семенова, он все советску власть хвалит.
– Семенов гундосый и храпит, скажут – пьяница, а то еще что похуже… Не допустят.
– Монополку-то сами ж открыли43.
– Так это не для пьянства, а для апетиту.
– Оно и верно, – сказал Тюменец: – апетит, пока с ног мордой в канаву не летит.
Сидор Лабашкин неожиданно оказался смешливым, – долго, держась за живот, хохотал он. Наконец осел, вспотел и стал креститься.
– Прости ты, господи, грехи наши… Тилиграму послать в Москву, кто у них там главный, ему… так, мол, и так, тонем.
– Покедова проверят, все ледово стает.
Мартыну надоело слушать, он стукнул кулаком по столу.
– Да што ж эта вы никому не верите! Я вам бабьи слова говорю, что ли? Я о бабах вам?..
Митрий Савин посмотрел на него спокойно и спокойно же ответил:
– Мы стогам верим да скирдам, да богу.
Потом все же решили послать в город делегацию. Выбрали четырех, которые побородатей да похудее. Долго смотрели на Мартына и, наконец, сказали, что может и он поехать, только чтоб был посмирнее. Пиджаки надели погрязней, долго разучивали, как вначале нужно хвалить советскую власть, как благодарить за благодеяния, за агрономов, за школы, за свободу религий, а позже добавить, что агрономы-то почти не заезжают, урожаи совсем плохи, а то ведь многое можно сделать при урожаях-то… И про тракторы, мол, слышали. А всему, мол, этому мешает наша темень, наступают на нас льды с белков, топят селение. Налогу не сможем заплатить, не говоря уже о тракторах. Нельзя ли помочь взорвать Оленью гряду, отвести поток в пустынную долину Талас.
На постоялом дворе в городе было грязно, прокурено, клопы не давали спать, а днем ходили какие-то слепые и продавали пакеты – по двадцать копеек пакет. Слепые были навязчивы, ругали мужиков буржуями. Потом пристал какой-то тощий человек в солдатской шинели и татарской шапке, в треснутых очках. Он пообещал, что если в совете ничего не получится, у него имеются нужные люди. Все ж нашли в совете необходимого человека. Сказали ему так, как решили в селе. Необходимый человек долго думал, послал к другому, тот думал не меньше, и оба, видимо, ничего не могли придумать. Первый спросил, порывшись в каких-то бумагах:
– Работников много имеете?
– Какие ж та работники, все сродственники, семьи опять большие.
– Но есть? Обсудим… – и велел прийти через неделю. «Взятку бы дать, – подумали мужики, – да страшно».
Пришлось ждать неделю, а там еще пять дней – через пять дней обязательно. Тем временем тощий человек в солдатской шинели привел другого тощего человека, армянина должно быть. Они написали за трешку два прошения и добыли откуда-то двух подрядчиков по подрывному делу. Подрядчики с карандашами в руках сели за стол, вынули из-за пазухи узкую книжку, разграфленную красными чернилами, и долго прикидывали на уме. Поговорили в соседней комнате, еще посчитали и запросили за взрыв Оленьей гряды и вообще за «урегулировку» всего вопроса – три тысячи. Пятьсот сейчас, тысячу на месте, полторы тысячи после благополучного окончания работ. Старики крякнули и дали сто рублей. Подрядчики заявили, что обсерватория предсказывает грозы и бури, что на дворе уже падера – дождь и что другие и за пять тысяч не возьмутся.
А вечером прискакал из Ильинского Егор Окушков и привез два пузырька намытого подле болотца, за которым начинались гольцы, самого лучшего крупного красного золота.
В совете, перед двумя необходимыми людьми, Егор Окушков, тряся пахнущей рыбой шапкой, рассказал подробно, как его односельчанин Антип Скороходов нашел подле болота россыпь, как они вдвоем начали промывать и в первый же день намыли два пузырька. Пузырьки эти они решили подарить народной власти и ей же заявить об открытии новых приисков. Необходимые люди взволновались, из соседних комнат выскочили стриженые барышнешки. Тряся кудельками, они щупали пузырьки и взвизгивали. У Мартына от этого шума и оттого, что не он, а Антип Скороходов нашел золото, разболелась голова, поднялась изжога. Тут прибежали фотографы и сначала сняли Егора Окушкова, а потом и всех ильинских мужиков. Мужики кланялись, благодарили – и в тот же день поехали обратно.
А в городе после их отъезда стали рассказывать легенды о новых приисках – что будто бы какой-то поп намыл в два дня золота на сорок тысяч, что сельский писарь вымыл самородок чуть ли не с лошадиную голову. В газете появилось объявление, приглашающее не верить вздорным слухам, и оттого им поверили еще больше. Заскрипели телеги, направляющиеся к селу Ильинскому; беззаботные мечтатели, соорудив котомки, бросали службу и пешком направлялись в горы. По дорогам ночью горели костры, было несколько лесных пожаров.
Пришедшие на прииска останавливались подле поскотины, здесь их встречал Турукай. Он рассказывал необыкновенные события, был каждый день пьян. Хлеб и молоко в селе стали продавать втрое дороже, и бабы завели себе шелковые московские платки.
Затем приехали три молодых инженера, и в первый же день напились, собрали девок со всего села и неумело плясали русскую. Девки визжали, парни лезли обниматься с инженерами, жена Скороходова, Елена, не отходила от самого старого инженера в синих брюках и белой шелковой рубахе. Мартын прошел мимо гулянки раз-другой, никто не позвал его. Турукай блевал, нехорошо ругаясь, руки у него были почему-то в сметане. Инженер со Скороходовым и его женой (ехидно, как показалось Мартыну, виляющей бедрами), – ушел в избу.
Мартын дома застал полный порядок, – казалось, жена без него лучше управлялась с хозяйством. О партии никто с ним не говорил, не говорили и о золоте, один раз только жена упрекнула его:
– Как же так, Мартын Андреич, ходил ты, ходил, а метал-то нашли другие. – Нету никакого металу, – закричал уныло Мартын, – врут они все! И себе врут. Бабьи разговоры, брехня…
А это походило на правду. Из Ильинского на приисках никто не работал, изредка старики ездили в город – будто бы продавать накрытое золото, а на само деле гоняли скот. Да и прибылью воды в озере никто не интересовался. Попробовал Мартын поставить измерительную вешку, подошел Митрий Савин и, тихо сказав:
– Не гневи бога, Мартынка, – вырвал вешку. Потом строго посмотрел на него и спросил:
– У тебя… как ее… эта, партия-то сбирается?
«Сбирается!» – хотел крикнуть Мартын, а не мог. Он подергал только реденькими своими бровенками.
– Ты ужо, Мартынка, живи один, а то тоже – партия сбирается… Ботоло!44
Отошел подальше, отвернулся и начал расстегивать штаны. Вода в озере была прозрачная, холодная. Мартыну тоже хотелось искупаться, но казалось, что Митрий Савин занял своим телом всю воду, что это озеро, а не Митрий Савин, крякает.
К белкам, к лёдову, на прииска ему не хотелось идти, да и ему ли верилось теперь в свое счастье. Попробовал походить с броднем по озеру и вытащил мертвого карася. От карася нехорошо пахло, и грязная чешуя осталась на ладони, как перчатка. Долго держал его в руке Мартын, даже не заметил, как выдавил глаза. Кинул его в озеро – и заплакал.
На Флора и Лавра45 почти совсем закончилась уборка и кладка хлеба, загородили остожья46 вокруг хлебных кладей и загородов сена. Глянцовитые березовые жерди остожий, казалось, дрожали, как опояска на туловище тучного человека, полевые мыши отъелись так, что с потом влазили в свои норы. Разгородили поскотину, и на Флора и Лавра скот весь день отдыхал. Сделали очистку скотных дворов, поправили постройки. Мужики начали осматривать сани, пошевни, плести короба и пестери47 для возки мякины.
Ничего словно и не случилось в Ильинском. Вода из озера вышла почти на улицу, приходилось, как в весеннюю грязь, идти вдоль завалинок. Колеса уходили кое-где по спицы в воду.
– Тепла ж, – говорили мужики нехотя, – тепла ж, хоть и из лёдова идет…
А Мартын так и на поле не заглядывал. Нехотя пришли мужики на устроенную бабой помочь, отработав – не остались даже на паужин48. Мартын, когда увидал пришедших мужиков, их походку, тихие злые голоса, – даже Турукай-Табун, и тот отворачивался, – опять заманило его в горы. Баба справилась почти одна со всем полем. Один раз только Мартын нарубил ей сухостойных дров для сушки снопов в овине. Баба остригла овец, выбила луком шерсть и начала катать потники49. Кисло запахло в избе…
– Заели вы меня, – сказал Мартын, а баба ничего не ответила.
Широкая отводная канава по ту и по эту стороны высокого холма, загораживающего сток вод в долину Талас, была готова, и на воскресенье приисковые люди назначили взрыв середины холма, заграждающего соединение канав, взрыв тех пород, которые было трудно и долго бить киркой.
Как и тогда, когда он впервые увидал вытекавший из ледника поток, Мартын надел лучшую цветную рубаху, взял за пазуху ломоть хлеба и направился в горы. Главную улицу, затопленную озером, нужно было обходить, да и никто не встретился Мартыну: с раннего утра почти вся деревня, кроме самых ветхих стариков, ушла в горы, к холмам.
Как и тогда, шумели на кладбище березы, легкая дымка стояла над горами, и только, словно вспарывая долину серебристо-синим ножом, несся через Святой Овраг, через поля неизвестный ледяной поток. А когда Мартын обогнул болото и вспомнил, что сегодня потока не будет, завтра и послезавтра вода в озере пойдет на убыль, озеро встанет в свои берега, на токах загремят цепы, и громадные телеги, кованные железом, повезут зерно в город, – засосало у него опять сердце. А поток по гольцам, казалось, понимая свои последние часы, несся с тоскливым грохотом, фыркал пеной и голосисто ржал в березняках. Мартын постоял, посмотрел. Юркая синичка дрожала на камышке. И тогда Мартын с ясностью до боли припомнил эти месяцы, свою короткую славу и власть и то, что он ничего не мог сделать из этого, – получилась только одна мужицкая злоба к нему да вконец разоренное хозяйство. Опять чувство тоски до слез охватило его сердце.
Зачем ему идти к холмам? Мужики посмотрят на сбегающий в долину Талас ледяной поток, меж собой одними хитрыми глазами рассмеются над глупым городским людом и разойдутся. Позже и городские уйдут, останутся одни Тиляшские неприступные скалы, за ними – ледники, готовящие к осени метели…
Мартын вернулся к опушке болота. Сонно трепетали осины листьями, пьяной сыростью пахло из болота. Мартын сел на поваленную осину, спустил ноги к потоку. Зеленая ящерица осоловело заметалась между камешков, среди его ног. Он злобно каблуком отдавил ей хвост. Хвост остался трепетать, а ящерица скрылась. А деревья в болоте все хлопали и хлопали, словно уходящие-входящие в комнату дверью. Мартын сидел и думал все о том же. Он зажмурил глаза, – поток булькал водой, будто наливался в бутылку. И Мартын вспомнил, что за все это время он ни разу не напился пьяным… Надо бы уйти, лечь спать дома, что ли, но где-то внутри была еще надежда, что спускающиеся с гор мужики остановятся подле него и кто-нибудь скажет: «Ну, спасибо тебе, Мартын, все ж много ты доспел для общества»…
Зеленые тени листьев были у его ног, затем поползли по лицу за спину и, наконец, совсем скрылись. Небось, уже давно за полдень, обедать пора. И в это время маслянистый какой-то гул донесся с ледников. Поток словно колыхнулся, а затем зажурчал еще сильнее.
– Черта взорвете! – сказал Мартын со злостью. – Смыло бы вас лучше, как щепки, небо коптите только…
Что-то темное и высокое мелькало среди осин. Мартын пригляделся. К нему, выбирая места посуше, спешил какой-то человек. Позади, быстро махая ручонками, бежал мальчишка.
Мартын вытянул шею, мотнул головой и грубо выругался. Это была Елена. Должно быть, она давно не бывала в горах или же радовалась, что пятилетний сынишка, как большой, не отстает от нее. Лицо ее пылало румяным удовольствием, платок она держала в руке, и льняные, былинные косы были страшны, как ледники. Как шиповник-колюка на вилах, а одета в багрянец.
– Чего сидишь там?! – крикнула она издали еще Мартыну. – Домовничать осталась, да в деревне-то, будто в колоде – тихо. Мотька зовет: пойдем, мамка, да пойдем, – ну, и пошла… Верно я иду-то?
– Верно, – хмуро ответил Мартын, отворачиваясь. Туда и дойдешь, иди. Ждут тебя.
– Ты что ж на бревне-то уселся? Я думала – водяной или горовой50. Колдуешь все…
– Нога подвернулась, – соврал Мартын. – Да все равно у них ничего не выйдет.
– Не выйдет? А сколь хлопотов убухали да металу.
– Металу?! – удивленно спросил Мартын.
Елена поняла, должно быть, что сказала лишнее. Она ни с того, ни с сего наклонилась к его ноге.
– Я ведь кое-что в костоправстве мерекую… Дай, пощупаю, кость-то цела…
Мартын увидал ее пухлый, розовый, слегка влажный затылок, крутые плечи. Складки сарафана показались ему мокрыми; башмак у ней со щеголеватым высоким каблуком поднялся над землей. Притихло как-то все внутри Мартына, и он тогда взглянул на поток. Вода журчала тише, синие мокрые гальки на пол-аршина обнажились вдоль берега. Более крупные уже обсыхали.
Взрыв, значит, удался! Поток, значит, повернул в долину Талас.
И Мартыну почудилось, что он закричал – и испуганно и насмешливо. Он было и руку протянул ко рту – прекратить этот крик, – но рука и волосы были словно из металла… И вдруг он вспомнил, как мужики шептались с неизвестными шатунами из приисков; как однажды он встретил трех стариков, ехавших на трашпанке51 в горы – лица у стариков были жадные и потные, руки их крепко охватывали шкатулку, прикрытую половиком.
Соленый пот злости наполнил его глаза. Он зажмурился.
– Отвели? Из-за баб отвели, кобылье! А кто указал? А?..
Захотелось пить. Ноги были тяжелые. Крутая шея и затылок с жирной складкой, склонившиеся к его ногам, словно взывали о жалости, а о какой и к кому – он и думать не мог… И он, понимая, что думать так нехорошо, глупо, – все ж подумал, что теперь только Елена поняла, сколько она горя причинила ему, как испортила жизнь, какие принесла обиды, – и готова всячески наградить его. Ее широко расставленные ноги лениво и в то же время торопливо шевелились, выбирая место помягче. Казалось, дотронься до нее пальцем – и она упадет, но дотронуться не хватало сил, и было проще и легче пхнуть ее, дабы под сапогом почувствовать испуганное поганое мясо бедер!
Мартын взглянул на ладонь, и то, что она была грязная и сухая – это даже обрадовало его. Он плюнул в пальцы и, весь трепеща от испуга и от какой-то непонятной радости, со всего размаху ударил кулаком Елену в розовый ее затылок. Кулак скользнул на шитье сарафана. Елена охнула, опрокинулась. Мальчонка завыл: «Ма-амка!..». Мартын наотмашь левой рукой ударил ее по лицу, а правой изо всей силы пхнул мальчишку за пень в траву. Елена привстала было, горло ее напряглось. Мартын схватил ее за косу, обернул вокруг шеи и притянул косы к березовому суку. Глаза у ней закатились, она захрипела.
– А, будешь, будешь!.. – визжал Мартын, увивая косами сук. – Будешь перед каждым вилять? Я тебе колода? А?
Холодная и какая-то тяжелая влага выступила у него на груди, сухой жар хлынул в ноги, и, путаясь в тряпках, захватив зубами косы, обвитые вокруг сука, Мартын, дернул ее за ворот сарафана. Ситец казался необычайно крепким, а в пальцах расходился, словно вода.
Мальчонка визжал в кустах: «Ма-амка!» Тряпки пахли нехорошим потом, и странно было видеть на лице у этой красивой сильной бабы испуг и трепет и его, Мартынову слюну.
Потом баба, неприятно расставив ноги, долго ползала вокруг березы, распутывая с ее сучьев свои косы. Большой клок волос, потемневший от слюны, остался на коре. Баба, схватив разорванный сарафан, как в мешок, уталкивала в рубаху огромные белые груди. Медленно локтем стерла с лица слюну и тогда завыла:
– Ой, матушки, ой!., да што это-о!.. ой!..
Мальчишка визжал гуще ее и как-то жалобнее. Кончик носа у него был красный, и тут только заметил Мартын, как он походит на мать.
– У, падаль! Лезет, тоже, – сказал Мартын и пошел к потоку умыться.
В ложе потока, во впадинах остались лишь редкие лужицы. Вода показалась ему удивительно теплой.
Баба, нелепо тряся задом и путаясь в юбках, бежала вверх. Мальчишка, смешно приседая, спешил за ней.
Мартын опять сел на бревно. Жар остался в пальцах, ему ничего не думалось, и только почему-то жалко было, что он умылся. Он все соображал – и было такое чувство, будто он истратил последнюю воду. Пить к тому же хотелось, а тут нахлынула такая слабость и дрожь, какой он не испытывал никогда.
Огромная тишина повисла над пустым ложем потока. Казалось еще, что по невысохшим галькам скользит багровый осиновый лист, попрыгивает, лепечет, но все бесшумно и все зря. Мартын закрыл глаза, и многое в этом мире качнулось перед ним.
Протяжно прокричала иволга, и Мартын подумал: «Похоже, мужики спускаются»…
Мужики действительно, молча, держа руки за опоясками, спускались по гольцам.
Они остановились в нескольких шагах от Мартына плотной толпой. Кто-то из них дышал тяжело, со свистом и часто сплевывал. Мартын тупо открыл глаза и положил почему-то правую руку в карман. Вышел вперед Скороходов, скинул кафтан, обшитый по борту и по вороту треугольниками.
– Ну, бей, – пробормотал Мартын: – Бабы жалко? Бей.
Скороходов побледнел, поднял руку словно для приветствия и нехотя проговорил:
– Што ж тебя бить… за што тебя бить…
Мартын зажмурился, качнулся. Так же, будто нехотя, Скороходов прошел мимо него и вдруг, быстро обернувшись, ударил Мартына в переносицу. Желтый, как смола, свет лизнул Мартына в затылок, он схватился за грудь.
– Не надо, – сказал какой-то лысый, изъеденный оспой старик. Из толпы спокойно отозвались:
– Проучить не мешает, из-за него металу сколь потратили… Ты ему, Семен, за метал-то…
– А, за метал! – взвизгнул вдруг Скороходов. – Калдун. Сколько денег из-за тебя… Животины сколь погибло…
Мартын только жадно хватал ртом, будто не мог напиться. Скороходов наклонился, схватил в руку гальку. Жидкая как будто кровь брызнула из щеки Мартына.
– Та-ак его! – крикнул лысый старик и, подпрыгнув, с разбега ударил Мартына в грудь.
Мартын заревел каким-то телячьим ревом и так не переставал реветь он, пока его били сначала кулаками, затем подхватили и, подкидывая в воздух, бросали спиной на гальки. Голова мокро стучала, руки мотались – белые и слишком сухие. Лысый старик начал топтать ему руки, а затем крякнул и прыгнул на живот. В животе тоже нехорошо крякнуло, грязная жижа потекла из рта Мартына, а он все еще ревел нелепым своим телячьим ревом. Лысый старик топтался уже по голове, скользил с нее, словно с мокрого камня, а рев еще не прекращался. И здесь молодой курчавый парень, до того стоявший в стороне и больше всего оравший: «В морду ему, в морду!», взял продолговатый камень, оттолкнул старика и, прищурив глаза, ударил камнем Мартына в висок.
Когда Мартын стих и перестал даже подергиваться, лысый старик вытер пот, оправил рубаху, перекрестился:
– Миром согрешили, миром и отвечать.
– Миром, – качнул головой курчавый парень.
Елена ж все время сидела на бревне, где недавно еще сидел Мартын. Мальчонка прятал у нее в подоле плачущее лицо. Волосы у нее были плотно убраны под платок, глаза сухие и ожидающие, и смотрела она поверх мужиков. Когда Мартын выпрямился и курчавый парень вынул из рта искусанные им пальцы и руки сделал ему крест-накрест, Скороходов подошел к ней, покачал головой и вдруг со всего размаха ударил ее в глаза. Она опрокинулась за бревно и долго лежала там, пока не ушли мужики и пока мальчонка не переревел весь свой голос. Тогда она оправила платок, взяла мальчонку за руку и стала спускаться в долину.
Долина опять наполнилась плодородной тишиной; опять на жнивье гоготали сытые гуси, и опять месяц в озере был тепел и походил на каравай, только что вынутый из печи.
Смерть Сапеги*
Степь весной – как толчея: стучит, бренчит, вертится. Ковыль на каждом пригорке шипит по-своему. Солончаковые озера звенят, как тарелки в веселом оркестре, и над ними журавли и утки поддерживают халцедоновое1, с яшмовыми прожилками небо. А вечером небо походило на вишню, и штыки наших винтовок были цвета черного шерла2.
О штыках наших винтовок я думал с угнетающим волнением.
Я отстал от полка.
Наш полк, состоявший большей частью из мадьяр и сербов3, шел югом Барабинской степи. Мне было скучно в нем. Мадьяры были наполнены какой-то непонятной мне заботливой храбростью. На разведку в неизвестную им местность они шли, как голодный на обед. Возвращались словно с головокружениями – такие у них были глаза. Мне казалось: так поступают они из презрения к нам, к русским, у себя на родине они не были б столь храбры. Все то время казалось мне их бесстрашие мимовольным…
И вот опять в вишневом небе я нашел черный шерл наших русских штыков.
Подле крохотной речушки Усяцкой встретил я Омский батальон профсоюзов. Командовал батальоном Вася Колесников – щеголь, бабник, весельчак; позже он погиб в памятное восстание на Куломзине4. Раньше, до революции мне пришлось работать с ним в типографии, – он был метранпажем5. Помню, было испытание: новый метранпаж должен выпить двадцать семь рюмок водки, и если на двадцать седьмой отличит нонпарель6 от корпуса7, значит годен. Васька не отличил – и точно, плохой выдался из него метранпаж. Позже мне довелось сменить его, а его перевели на афиши, – и афишером он был плохим.
Зато комиссар из Васьки вышел великолепный – веселый, находчивый; батальон свой он вел по степени и на бивуаки ставил, словно коробку папирос откупоривал, – чистые, опрятные, свежие. Так вот, секретарем у этого Васьки Колесникова был Аника Сапега8.
Где он ухитрился захватить столь удалое имя и еще более – великого гетмана – фамилию, мне так и не удалось узнать. Сказал я ему как-то о гетмане, Аника быстро пощупал голову (так – я заметил – щупают голову боящиеся себя люди) и спокойно сказал:
– Ежли по характеру судить – родственник, хотя папаша мой и не упоминал о родстве. Папаша-то мой похвастаться любил. Говорил же, вон, твой папаша, что отец-то его – туркестанский генерал-губернатор.
Дня через три возобновил он разговор о гетмане. Аника был назначен командиром третьей роты, и меня перевели туда – заведовать продовольствием. Я думаю – настоял о моем переводе Колесников: человек он был самолюбивый, трудно было ему примириться, что рядом с ним идет лучший метранпаж, хотя никто во всем полку и не слышал никогда слова «метранпаж». Заведовать продовольствием казалось мне унизительным долгом, и я сказал Анике, что по матери предки мои – польские конфедераты9.
– Человек – как топор, друг: в лес идет – назад глядит, из лесу идет – в лес глядит. Потому я всех этих притчей о прошлом-то и не люблю. Мне, друг, на предков твоих да и на своих, по пути, плевать…
Сапега вытянул по кошме костлявое и какое-то плоское свое тело, спокойно посмотрел на озеро, спокойно налил чаю из медного котелка. А я чаю не мог пить: когда мы подъехали к озеру и сухие, залоснившиеся от травы ободья колес, казалось, зашипели в солонцах, лошади отказались пить. Подумали – вода очень соленая, попробовали – нет. Озеро мелкое, начали искать палками – и нашли пять трупов с камнями на шее и на коленях. По черному волосу и по усам можно было узнать мадьяр. Невдалеке находилось богатое село; отстали, вроде меня, зашли выведать дорогу, а их мужички и направили туда, куда казалось мужичкам выгоднее.
Вишневая весенняя рябь была на озере, черный шерл наших винтовок отражался в ней и похож был на камыш, солончаковая полынь цвела вишневым небом.
– Плевать мне на всех предков вплоть до седьмого колена – дальше мне не доплюнуть. Я сам хочу предком быть, и очень просто – не придется. Вче-рась меня Колесников вызывает и говорит: «Дошли до меня проверенные слухи, Аника Сапега, что ты буржуазных женщин валишь и насилуешь при первом подходявом случае». Я ему отвечаю, что никаких насилий нету, они сами согласны со мной при первом и подходявом случае. «Смотри, – отвечает мне Колесников, – смотри, Аника Сапега! Ты несмотря на мою дружбу и что назначили тебя по моему настоянию командиром третьей почетной роты, я очень просто могу тебе в башку пулю всадить». И сади, отвечаю я ему, только в морду не бей, крой в затылок.
…На том разговор и закончился. А теперь слухи пойдут непроверенные, что я по мере врывания в буржуазную заимку10 начинаю немедленно баб искать. Сволочи!..
…Тут вот в стороне заимка Козловских есть, верстах, небось в ста отсюда. Я под ихней заимкой родился и рос, а позже батраком на ту заимку попал. Парень я был взрослый, в восемнадцать лет горел и сох, а тепло-то внутри, как в избе, – не видно. К концу лета на страду в заимке народу много нанимали. Съехались бабы, девки. Груди у баб в этих местах, как стога – и запах и мягкость. Ну, и замучили эти запахи. Валяются ночью по соломе, по колодцам, по телегам, – скрип и гам не меньше, чем днем. Днем лошади в хомутах ходят до седьмого поту, а ночью бабы. Не нравилась мне эта прилюдия, и не нравилась по той простой причине, что на меня ни одна баба не смотрела!
…Парень я был здоровый, да застенчивой, што ли. Необразованность наша и забитость. Запустил бы это руки, думаешь, а дальше своего носа, смотришь, и не уйдешь. Схвачу иную бабу, два часа подхожу, бывало, а она наотмашь – и прямо в рыло. И так обидно, что даже живот заноет.
…Стряпуха там водилась, Параскевья-Понедельник11 по прозвищу. Такая грязная и конопатая, чисто свиное корыто… никто на нее и не зарился. Шел это я по кухне как-то, она в печь чугуны ставит. Посмотрел я на масляницу-то ее… эх, думаю, да что там рожа, не с рожей жить, а с человеком! Заиграл во мне весь инвентарь, что восемнадцать лет хранился. То ли она рассердилась, что не вовремя полез к ней, то ли даже и ей, корыту свиному, не понравился… как она обернется да как хватит ухватом меня в живот, в ту ли самую мою бабью боль. Ну, тут и, значит, не вытерпел уже, тут я полный кулак грязных ее волос надрал.
…А она о том происшествии моем всем и расскажи. Обедали все в сарае, столище на пятьдесят человек, так от смеху словно шарф трясется. Девки, может, со временем бы и привыкли ко мне и, как никак, сжалившись, удостоили бы… ну, а после такого случая – хи да ха, да изголянье… У меня от того случая судороги начались, и на теле рябь выступила. На бабу посмотрю, и вдруг вид из себя стану такой иметь – ну, хоть в тулупе ходи. И сны замучили, и чудные все сны: голые бабы все и все зря, никакого поражения им не было… И кончались те сны таким образом, что быдто я бревно, и везут меня в жару по тряской дороге. Мученье страшное! Я в одну ночь чуть было передок телеги зубами не перегрыз, ладно – в рот деготь попал.
…А стряпуха за мной все следит. Хитрая, стерва, была и всё непонятно зачем за мной ходила. А у меня совсем, должно быть, помутнение головы получилось. Одним словом, идет мимо току стряпуха Параскевья-Понедельник, я на току задержался, лошадей из молотильного круга выпрягал, и пришло мне в голову…
…Одним словом, посмотрела она на меня – и к барину. «Так, мол, и так, иду, мол, мимо току, а Аника бог весть что приспосабливает». «Что же он приспосабливает?» – спрашивает барин. «Да, – отвечает стряпуха, – и язык не поворачивается. Выпряг кобылу Флору, скамеечку подставил и лезет по той скамеечке»… Ну, барин, естественно, закричал, усами зашевелил, схватил со стены мушкет какой-то старинный. А на дворе уже стемнело. Впереди идет лакей с фонарем, за ним стряпуха, а позади стряпухи с мушкетом наперевес сам барин Козловский.
…Приходят на ток, а преступник, я-то, выходит, услыхавши те крики и беготню да и огни в неурочное время, одним словом, скрылся. Валяется на току скамеечка, да хлопает ушами Флора. Посмотрел на эту беззащитную Флору барин, заорал что-то непонятное по-французски и хлоп ее из мушкета в ухо.
…Искали меня, искали – все бесполезно. Под утро случайно парни наткнулись. Сижу я это у яра и в реку смотрю без веселья. Они подойти боятся, издали кричат: «Конец твоей жизни, Аника! Одно остается – кидайся с яру в реку и топись немедленно». – «Ну, – отвечаю я им, – коли уж я не утопился до этого, то теперь, поняв смысл жизни и ее запретные наслаждения, я не утоплюсь, а буду я»…
.. И сам не знаю, кем я могу быть. В разбойники уйти? Да где тут разбойники – степь кругом голая, как пятак, каждый кустик у стражников на учете, да и инструменту у меня – палка да моргалка. Одним коротким словом, пошел я в город, претерпевая мученья бегства, оттуда вскорости пришлось на войну попасть, а оттуда…
Аника выпрямился, сделал грудь колесом, зашевелил бровями, – и я понял, что сейчас он начнет хвастать.
– Наврал ты мне, Аника, – сказал и рассмеялся.
Аника раздраженно вырвал пук полыни, размельчил на ладони землю и вдруг выронил землю прямо на кошму.
– Куды, друг, наврал… Кабы наврал, самому бы хохоту на три дня хватило. Правда все сплошь, как полынь вот тут подле озера…
Он посмотрел пристально на меня и хрипло сказал:
– Убьет меня скоро Колесников, и за дело убьет, не в затылок, а в морду. У меня предчувствие есть. На меня как забота найдет, так и получается предчувствие. У Васьки-то характер разнообразный… и судить меня нельзя, придется убить без товарищеского суда, единолично.
Он собрал землю в костлявую и тонкую ладонь и веером раскинул ее по полыни.
– Соленая земля, а вот, поди ты, для полыни и благодать. Я это когда при первом подходявом случае доберусь до барского нутра, лежу с барыней, и голова-то, мне кажется, как пузырь, раздуется от крови, и мысли-то перепутаются, растут, как трава в тундре… и какие-то багровые, друг. Лежу и чуть не ору прямо: «Смотри, Аника, куда ты заехал, на какую высоту!..» И от такой моей крови и гордости барыню-то от меня потом хоть на носилках убирай. И не жалуются, знаешь.
Он быстро тронул меня в голову, отшатнулся и захохотал.
– Ей-богу, не жалуются. Может, даже довольны. А как я могу на суде товарищам смысл первого подходявого случая объяснить, если надо по долгой мысли и по тайне объяснять. Убьет меня Васька Колесников.
– Пожалуй, убьет, – согласился я.
Аника задумчиво выбивал пальцем из кошмы травинки.
– И помирать-то неохота. Главное, зря вся эта болтовня, непроверенные слухи, а поделать ничего нельзя.
Тут к кошме подбежал вестовой, подал записку Анике. Аника лежал на животе, долго читал ее, а затем передал мне. Колесников – пером «рондо»12 (слово «распоряжение» было выведено под готический шрифт) – отдавал распоряжение: что, ввиду поступивших сведений и приближения чехов «в лоб» нашему отряду, собираться и двигаться в северо-западном направлении к долине реки Уймона и к озеру Сарыкуль.
Аника тщательно сложил бумажку и некоторое время думал – положить ли ее в правый или левый карман френча. Устало повертел ее в руках и положил в левый.
– Я тебе говорил али нет про заботу-то свою с предчувствием?.. Вот и выходит: идти нам прямо на заимку того проклятого барина Козловского, с которого и началось мое сотрясенье. Барин там живет, а при нем офицерская жена за сыном. Сын-то Козловского у белых… Тут мне и конец. Ну, одним словом, надо сбор трубить.
Через двое суток кончились солончаки, и мы вступили в березовые колки13, а дальше начали встречаться нам матерые дубровы, где березы были в два обхвата, у подножий их росли густо опенки, а в дуплах гудели шмели. Помню, поймав такого бархатного шмеля, Аника сказал, что через трое суток будет заимка Козловского, и положил шмеля в кисет. В деревнях мужики встречали нас неприветливо и, если спрашивали: «За какую вы власть?» – отвечали: «Властей теперь много ходит, у нас теперь власть покосная»14. И точно – пора бы и косить. И вот в полдень так увидали мы среди березовой рощи на увале барский дом: розовый с нелепыми бронзовыми завитушками над окнами. Низкая кирпичная ограда почти вся ушла в крапиву, а над чугунными воротами развевалось бело-зеленое сибирское знамя15. Увидали мы неумелые окопы; пятеро каких-то необыкновенно низеньких людей выскочили из них и, подпрыгивая, побежали к воротам.
– Это и есть Козловского? – спросил я у Аники.
– Козловского дальше, у Козловского мы завтра будем, а это есть заимка генерала Стрепетова.
Красногвардейцы привели пойманного в коноплях за рощей парнишку. Парнишка сбирал землянику и больше всего боялся, как бы ее не отняли.
– Генерал-то здесь? – спросил Аника.
– Здесь, – ответил торопливо мальчишка.
– Семья тоже?
– Чо?
– Бабы есть?
Парнишка поправил лопух, прикрывавший ягоды, и сочувственно улыбнулся.
– Баб тут сколь хошь. Вы на подмогу им, чо ли, генералу?.. А-а!..
И тогда-то в речевую дорогу Аники ворвались нечленораздельные вопли и крики. Его плоский и широкий рот, подернутый мутной слюной, почти не закрывался. Фразы и слова, прорывающиеся через вихрь воплей, были наполнены неистовой бранью; дыханье смешалось, и густой пот выступил на висках.
Нашей роте суждено было идти первой, и Аника вел ее бесстрашно и дико. Многие бы мадьяры – мелькнуло у меня в голове – позавидовали б его храбрости.
Я не люблю сражений и боюсь, но есть какая-то прелесть бежать с винтовкой по полю. Незрелая пшеница вьется в ногах, влажная земля прилипает к ладоням. Матерые стволы березовой дубровы виднеются вдали, и кажется – пуля летит в тонкий крест колоколенки. Если помирать, так помирать, приложившись ко кресту не по-отцовски!
Ружейные залпы бело-зеленого знамени скоро прекратились, и только с крыши усадьбы неистовствовали два пулемета. Мы винтовками выбили ворота – не по нужде, так как достаточно было сшибить замок, а для большего страху. Во дворе среди телег, нагруженных разным хламом (готовились к бегству), метались куры, неистово лаяли собаки; на свежих тесинах, привезенных, по-видимому, для починки погреба, у самых дверей лежало бело-зеленое знамя, и какой-то длинноволосый человек в очках стоял подле него, высоко подняв вверх руки. Рукава пиджака были необыкновенно коротки, и стало вдруг почему-то необычайно жаль его. Помню, я крикнул, пробегая вслед за Аникой: «Опустите руки», – и он не опустил. Аника, потрясая наганом, спросил что-то у толпы сдавшихся людей и вдруг самого упитанного, в капитанских погонах, ударил кулаком в зубы. Капитан упал больше со страху, чем от боли. Толпа, словно одной рукой, указала Анике на веранду. Он запахнул полы шинели, качнулся, отхаркнулся и медленно, словно вспоминая затерянные слова, приказал мне переписывать пленных:
– А с хозяевами я сам. Сам… поговорю…
И опять беспорядочно понеслись над его телом беспокойные его руки. Я поспешил за ним. Завизжали половицы веранды. Там встретил нас высокий старик в длинном генеральском сюртуке с сорванными эполетами, рядом заплаканная старушка мяла шаль, несколько впереди нее дочь – смуглая девушка лет девятнадцати, востроглазая, хохотунья, должно быть. Она была в сереньком ситцевом платьице и в крошечном шелковом передничке, – может быть, перед самым нашим приездом разливала чай. Аника схватил старика – его плоская рука как бы заменила сорванный эполет – и толчками повел его в кабинет. За ним кинулись мать и дочь. Вытирая потный лоб и дергающиеся веки, Аника оттолкнул меня от дверей кабинета – и через полминуты вышел оттуда. Девушка, чуть вздрагивая головой, направилась вперед по коридору. Окна были большие, и солнце было большое, – шаги ее казались какими-то прозрачными. Он вдруг обернулся ко мне, мотнул револьвером и завопил:
– Ты што здесь, ты што?!
Он весь трясся, губа его над далеко выдающимися передними зубами (в народе так называемый «собачий прикус») взметнулась. Едва ли он узнавал меня.
– Пойдем обратно, Аника, – сказал я, весь тоже дрожа.
– Не смей, стерва, командовать!.. Ваську поди зови, Ваську… А ты кто такой?
Девушка обернулась, ровная спичка бровей зажглась над ее лицом. Аника кинулся в распахнутую дверь. Белая пушистая кровать, коричневый ночной столик и развернутая книга на нем – мелькнули у меня перед глазами. Щелкнул замок – и белая солнечная тишина на мгновенье нахлынула в дом.
Ручка двери была круглая, из синего стекла, и очень неловко было за нее дергать – казалось, словно дергаешь за трость. Я ударил каблуком в дверь, – рев донесся из спальни. Я начал стучать кулаками, – раздался выстрел, женский визг, очень короткий и очень спокойный какой-то. Пуля вышла на четверть выше моей головы.
И тогда я решился на последнее.
– Аника! – закричал я. – Аника, зачем ее обманываешь?.. Генерала бьют… ребята генерала бьют…
И чем я больше кричал, тем темнее становилось в коридоре. Мне казалось – крик мой доносился издалека, но вскоре к нему присоединился неистовый женский визг. Но вот – топот прекратил мой крик. – Казалось, шли одни винтовки.
Я разглядел красноармейцев и впереди их Ваську Колесникова; он был в новой кожаной куртке, ремешок бинокля висел у него через плечо. Щеголевато, одним пальцем указал он на дверь спальни, красногвардейцы ударили в дверь столом, и мы увидали посреди девичьей кровати лежащего на спине Анику. Он был мерзко расстегнут. Угловатые его колени поросли рыжими волосами, а на груди с левой стороны гимнастерка медленно тонула в крови. Подле опрокинутого ночного столика лежал окровавленный бронзовый нож нелепой формы, похожий на огурец. Аника был мертв, убит. Не доехал Аника до своего предчувствия, не видал он заимки Козловского!
Женщина, завернувшись до горла в пикейное синее одеяло, лежала комочком в огромном кресле. Складки полотняного чехла поднялись вверх, и можно было разглядеть муаровую розовую обивку, расшитую почему-то серебряными нитями.
А Колесников, держа одну руку в кармане, говорил женщине:
– Пролетарское правосудие знает, кого карает, и оно умеет щадить, гражданка. Напрасно вы пошли на его вымогательство и на обещание сохранить жизнь вашим родственникам, которое есть сплошной блеф. Идите к родителям, они там ревут, думают – убили вас тут.
Она, все так же завернутая по горло в одеяло, встала и пошла. Походка и лицо ее были иными. Мы отодвинули к стене наши винтовки, чтоб дать дорогу – матери.
Вдвоем с Колесниковым отвезли мы в степь тело Аники и зарыли на пригорке. Колесников не сказал ни слова, я крепко пожал ему руку, и он понял – за что. Батальон пошел дальше, генерала Стрепетова и его помощников по защите заимки отвезли в город. Опять пошли травы, солончаки, полынь, степь.
А несколько лет, спустя наткнулся я на Любинском проспекте города Омска на женщину. Было у ней строгое лицо, прямая, словно в смертельной тоске сотворенная фигура, одета она была очень скромно, а впереди, вырываясь из тонких рук ее, несся вперед мальчик. Он был плоский, костлявый, с далеко выдающимися вперед зубами, что в народе у нас зовут «собачий прикус», и была у него походка Аники.
Она не узнала меня, и я не остановил ее. Да и зачем?..
Яицкие притчи*
Про двух аргамаков*
С крутых яров смотрелись в сытые воды Яика ветхие казацкие колоколенки. Орлы на берегах караулили рыбу. Утром, когда у орлов цвели, словно розы, алые клювы, впереди парохода хорек переплывал реку. Воссожалел я о ружье, низко склонившись к перилам и разглядывая его злобную рожу. А он, фыркнув на пароход, осторожно встряхивая с лапок капли воды, юркнул в лопушник.
Великое ли диво – пароход? А в этом году впервые за всю свою жизнь видит славный Яик гремучие лопасти. А тянется этот Яик от Гурьева до Оренбурга – больше чем тысячу верст, и до сего лета не допускали казаки на свою реку парохода: рыбу, говорят, перепугают. И довелось мне видеть, как целые поселки, покинув работу, бежали смотреть на пароход.
Старуху одну в зеленом казакине1 полной семьей вели на пароход под руки. Надо было старухе ехать в Уральск лечиться. Крепко боялась старуха парохода, истово крестилась при гудках и с великой верой взирала на ветхие колоколенки.
Долго не хотела говорить со мною старуха. А потом, когда рассказал я ей, какие у нас на Иртыше переметы2, стала она меня учить, как правильно рыбачить и какая должна быть «кошка» у перемета. Попутно выбранила сибирских казаков и к вечеру уже, когда и колоколенки и яры скрылись в лиловом, пахнущем полынью и богородской травой сумраке, поведала мне Аграфена Петровна семейную свою притчу.
Ты ведь, поди, нашего хозяйства не знаешь? А наше хозяйство, по фамилии Железновское, известно по всему Яику. Иль-бо от Разина, сказывают – великий он колдун был, иль-бо от чего другого, прадед наш, Евграф Железное, развел аргамаков. Таких аргамаков развел, что из Хивы приезжали и многие тысячи платили за породу. Табуны наши были в скольку сот голов – уж не помню. Мать моя, царство небесное, сарафан обшивала по вороту индицким зерном-жемчугом, а дом у нас кирпичный, двуетажный и под железной крышей.
Детей? Детей у меня много было, все больше девки, а парня уродилось два – Егор да Митьша. Егор-то русой был, на солнце, бывало, отцветет, что солома, а Митьша – черный, чисто – кыргыз кыргызом. Разница меж ними в двух годах была, а учиться довелось им вместе. И по хозяйству все тоже вместе держались. Вот перед тем как Егорше в лагеря идти, «сам»-то и подарил им по жеребку наилучших ног. Он, царство небесное, в ногах беда как понимал – лучше самого хитрого цыгана. Егору дал Серко, а Митьше – Игреньку.
И выросли те жеребята, как сказ. На войне, говорили, на смотру герой Радко-Дмитриев3 оглядел наших аргамаков и Егорку спросил: «Каким, дескать, овсом кормлена такая чудесная лошадь?» – «Нашим, грит, яицким». И велел генерал записать адъютанту про тот овес, чтоб кормили им любимого генеральского коня.
Сколько раз казацкую жизнь спасали кони – я уж и запамятовала, а только раз на том коне Митьша полковую казну вывез из немецкого плена и получил за этот подвиг два Георгия4.
Осенью пустили их иль-бо самоволей приехали – не знаю уж. Подойти к ним тогда было – чисто сердце открывалось. Ходят по двору, один – вправо, а другой – влево. А как сойдутся, так Митьша крестами на груди трясет и кричит: «Царя, мол, отдаю, а веру мою не тревожь! В церквах, грит, не позволю конюшни доспевать. Имущество, грит, с кыргызами да с другими собаками делить не хочу».
И почнут кричать, будто не братья, а бог знает кто. Я поплачу, поплачу, свечку перед образом зажгу: «Утиши, господи, их сердца» – молю. А самой все-то непонятно, все непонятно: как? из-за чего? Шире-боле – я уж говорю Митьше: «Разделить вас иль-бо што?» А тот: «Не хочу, грит, добра зорить». А Егор, тот кричит: «Все народу отдам!» И в кого он уродился такой заполошный – весь поселок понять не мог.
Тут еще одна беда, – Егорова молодуха собою красавица была: лицо – чисто молоко, сама – высокая, с любою лошадью управлялась лучше мужика. Приглянулись ей Митыпины кресты, што ли – только начала с ним шушукаться. Я уж ее однаж огрела помелом, а она белки выкатила да на меня: «Ты, грит, старая чертовка, за сыном бы Егором лучше смотрела: несет он раззор всему казачьему роду, в бальшовики пошел». Мы толды бальшовиков-то не знали, все больше с молоканами путали: тоже ведь веру свою из Ермании привезли5.
Казаки-отпускники ездят из поселка в поселок, кричат, что офицерское добро делить надо, что пришла намеднись воля. Только однажды приходит станичный атаман, говорит Митьше: «Собирайтесь, грит, герои, в станичное правление, – по городу ходят, на манер пугачевского бунта, солдаты. Надо, грит, ихних главарей переловить».
Егор-то в ту пору в городе находился. Надел все кресты Митьша и отправился, на меня не взглянув.
Только не вышло у них, што ли – не знаю. Вернулся Митьша и – прямо на полати в валенках залез. А тут, немного погодя, и другой сыночек. С порога прямо кричит: «Митрий Железное, слаз с полатей! Я тебя за бунт против народной власти арестую!».
Тот молчком спускается. А на чувале6 у нас всегда дрова сохнут. Поставил это Митьша ногу на поленницу, а потом как прыгнет, схватит полену и брата-то – господи, родного брата! – по голове, и бежать! Ладно – у того киргизский треух был. Охнул Егор и пал наземь, а потом через минуту, што ли, поднялся и говорит: «Никуда, грит, от наказания не уйдешь! Я, грит, на замок коней запер».
У нас конюшни-то на железных болтах были. Я его было за руки, а он отвел меня и говорит ласково: «Не тревожься, матушка. Буду я народным героем и спасителем сицилизму».
И за дверь – тихонечко.
Я как только очнулась немного – за ним. А он на дворе, слышу, кричит: «Кто смел открыть ему конюшню, когда один ключ у меня, а другой – у моей жены?».
Посмотрел он на молодуху, покрутил усы. «Выпустила, грит, ты убивцу и предателя. Прощай!». А пуще его озлило, полагаю, что отдала молодуха Митрию Егорова Серка. А был этот аргамак из лучших лучший – где было тягаться с ним Игреньке, хоть и получил на нем Митьша два креста! Вывел Егор оставшегося Игреньку, потрепал по шее, оседлал тихонько и уехал, не взглянув на жену.
Сказывали, что в ту ночь в нашем городе переворот доспелся. Одолела в том деле Егорова сила. Отступили за реку казачки, что за генералов были. Вот в погоню и отрядили под началом Егора сколько ни на есть народу. Месяц-то ноябрь был, убродный да лютый. По снегу – след так и видно, куда поскакали казаки. Догнал их Егор под Лужьим Логом. «Сдавайтесь, грит, а то всех перепалю из пулеметов». А казачки-то шашки наголо, да – на них. Ну, оседать начали Егоровы силы. Казачки-то так и косят, так и строчат. Егору глаза снегом запорошило – ничего не видит. Хотел было приказ отдать отступить, потому видит – не одолеть ему генеральских казаков.
Только заржал в ту пору под ним конь, Игренька. А из супротивников другая ему лошадь откликнулась. Узнали, вишь, конь коня, Серко – Игреньку.
Закинул Егор голову да и спросил громко: «Брат, Митьша, – ты?..» – «Я, – отвечает тот, – я!».
Через всех казаков проскакал Егор к брату.
«Эх, грит, Митьша, прощай». И вдарил его шашкой в самые глаза.
Потом-то? Напугались казаки такого злодейства, сдались. А Егор револьвер вынул, подошел к Серку: «Будет, грит, повозил ты меня, повозил и брата. Прощай!».
Как ни уговаривали его, – он и сам-то в слезах был, – а убил коня… Сердце-то у меня с того времени будто полынью обросло… Все-то времечко на нем горечь, все-то времечко на нем слеза не высыхает…
Про казачку Марфу*
У ворона вон гнездо куда какое крепкое, хоть и сдеяно из прутиков. От Каспия, когда подует ветер, камни несет в голову, столетнюю вершину ломит, как соломинку, а вороново гнездо серым цветом цветет, смеется быдто – цело.
Только ведь и так бывает: подрастут воронята, перо сизым налетом покроется – раздерутся. С чего раздерутся – никому неизвестно; может, из-за какой ни на есть насекомой. Глядишь ты – в драке-то развалится тое гнездо – чисто скорлупа.
Я к тебе с гнездом не к примеру, а вот даве видела – нищая одна под ветлой плакала. Обличьем мне та нищая показалась знакома, а присмотрелась и – подумала: все нищие на одно лицо и на одну суму. А над ней писк, и в гнезде воронята дерутся, – выходит, конец лету… Вот и плачет нищая, что теплу – конец, что сума снегом скоро покроется, сгниет: нонче и сума денег стоит… А до воронят ей – что? Воронят ей и в сказку вставить нельзя, – ноне в сказках-то ароплан подавай, в кавер-то самолет не верят…1
В нашем поселке Лещинском (это его в прошлом году – для смеха, должно – хоть и назвали городом, так ты не верь) строй глинобитный, деревянное только одно – пожарный сарай. Крыши одни только казачью удаль выдают – тесовые, а у богатых – крашеные.
Вот из-за крыши такой богатеем прослыл у нас Климентий Федосеев. А и было у него всей богаческой силы – что сыны покрасили ему крышу. Произошло их у него шесть человек, один другого на голову обгоняет – красавцы.
И только успели доспеть ему крышу, – даже скворешник не воздвигнули, – в тот же час как раз пришла ерманская война2. Муторно стало смотреть Федосею на крышу, взглянет и слезами, бывало, зальется: «Лучше, грит, я, как расейский, вшивая губа, сидел бы под соломенной покрышкой»…
Судьба – не баба, слезой не возьмешь. А получилось так, что целехоньки пришли с фронта казаки. Как сказали Климентью, что видно сыновью пыль за ярмарочными балаганами, – силы в ногах ушли. Отправился он в избу, лег на скамью. «Я, грит, маленько вздохну». Да так с таким словом и помер.
Подъезжают сыны, смотрят на крышу – покоробилась та, облупилась. Думают – надо перекрасить.
Встречает их мать у ворот.
– Мир тебе, мамаша! – говорят казаки. – Что ж ты стоишь и думаешь и плачешь?..
– А вот стою, – отвечает мать их Марфа, – думаю: помер счас от радости по вашим лицам отец. Неужто станете вы теперь, как у всех, делиться и рушить хозяйство в такую тяжелую жись?
Казаки и говорят ей:
– Вот тебе перед отцом и богом слово: будем жить по-прежнему сообща и тихо… Покой свою жись!..
Ну, а дни тогда, что торопкий да далекий путь: и лошади вспотели, и телеги заскрипели. А ямщик-то гонит да гонит…
Ты и сам знаешь, да и повторить не грех: наши-то степи уральские – еройские степи. Разин тут и Пугач гуляли, Маринка, жена Гришки жила3, тут Цапаев4 с атаманом Толстовым сражался и в Яике потонул5.
Слово, что ли, дали, что не делиться, али так уж вышло – только довелось всем шести братьям Федосеевым попасть в отряды к тому царскому генералу Толстову, которого большевики, сказывают, анафеме предали…6
В бога, гришь, не верют? А как же они всех победили, коли в бога не верют? Может, вера в него другая – не наша, может, и скрытая какая – бог-то один: он знает, кому помогать. Знает.
Ну, и разбил тот ерой Цапай толстовскую армию, казаков дивно перерубил и начал над всеми суды судить.
Забрал он всех шестерых братов (тоже ведь к горю, видно, их в бою-то пощадило), выстроил, посмотрел на них и приказал судить – истреблять их без пощады7, как комара.
Суд-то тогда был короче вздоха.
Спрашивают их судьи:
– Вы ли с нами воевали так, что от вас дух гнилой по земле прошел8?
– Так точно, – отвечают те шестеро в голос, – воевали!
Прочитали им присужденную бумагу: так, мол, и так, за то, что воевали вы с нами до гнилого духа, дается вам смерть к расстрелу.
Надели казаки разом шапки. Самый молодой, так тот даже набекрень и чуб не забыл выпустить.
– Господи, благослови! – говорят.
Я беду свою тебе сказывала, а что моя беда перед такой смертью? Мошка! На ногах-то у камандера опорки9 иль-бо что еще хуже, а пала Марфа к тем опоркам, щекой прижалась, воет:
– Простите, христиане, хоть одну смерть, хоть одну жизнь-то оставьте. Буду служить за ту смерть всей своей кровью Советской власти… хоть самого малого простите…
Сняли свои шапки перед Советской властью пятеро казаков и в голос сказали:
– Просим!
Посмотрели красные камандеры на малого, на бабу Марфу, значит, посмотрели, а той хоть без нескольких пятьдесят, а на тело и тридцатилетней не дойти.
– Ладно, – говорят, – прощаем одного: посмотрим на твою службу…
И верно: малого-то пустили, а остальных пришлось засыпать в одной могилке.
Пошел полк тот али дивизия – дальше, а за полком отправилась Марфа. Остался младший дома хозяйничать, женился вскоре, – хозяин из него вышел ладный. Одно: к деньге был жаден.
Марфа-то сперва около полковых казанов ходила, а далее, – позорище для казачки-то невиданный, – и на лошадь вскарабкалась. Смеху-то, поди, много над ней было: как-никак – парень, а волос – седой. Шире-дале – ружье да шинель она себе обнаружила. И пошла с того дня об ней слава.
Бают у нас поселком: «Баба Марфа ротой командует и к советским отличиям представлена большевицкой партией». Командовала ли она ротой – бог знает: слов ведь тогда много говорили, а еще более того – им не верили. Коли деньги без цены ходили, то слова – что?
Так, значит, с ветошним10 снегом и перестали об Марфе говорить. Женато Василия Федосеева – невестка, значит, Марфы – даже в церкви панихиду отслужила.
Вот и вышло, что поторопилась. Война кончилась. Народ про семена начал думать. Выйду это я за поселок, а мужики стоят да на землю смотрят. И дивно было – страшная какая-то земля была: багровым бурьяном заросла, корни какие-то в ней ползут, толще руки. Вот и вышел так однажды казак Абрам Новопольцев на пашню посмотреть, а видит – по тракту тройка мчится, аж от лошадей пена клочьями летит. Комиссарам-то раньше не радовались – вот и захотел Абрам посмотреть, кого это леший к нам несет. Заглянул в кошевку11 что, а там Марфа. В солдатской шинели с наличниками комиссарскими, вся грудь в орденах, рука на черной перевязи, и – постарела.
– Как, – спрашивает, – сын мой Васенька живет?..
А у самой руки трясутся от нетерпения, и больным локтем ямщика в спину торопит.
Ошалел Абрам. Еройски, видно, отплатила Советской власти Марфа. Шапка у него аж свалилась, ничего ответить не мог, так и промчалась трашпанка мимо. Только через полсотни сажен услышала Марфа, как орет Абрам «ура», – а не обернулась.
Греха, по-моему, в хорошем хозяйстве нету, а только нельзя, коли мать приехала, первым делом в трашпанку заглядывать, много ли добра привезла, и спрашивать: «Пенсию-то тебе, мамаша, большую назначили?»
Отвечает ему Марфа:
– Я, грит, не за пенсию, а долг платила…
Видно, такая горькая дорога вышла Марфе. Жаловаться она не жаловалась, выйдет на яр, подберет больную руку и в Яик смотрит. А разве казачке в Яик смотреть? Казачке надо робить. А тут невестка ее до самого худого горшка не допускала, а далее – лишним куском стала попрекать, расчеты стали вести на Марфину жизнь. Сын тоже посмотрит за обедом в сторону, скажет сурово так:
– Коли, – грит, – воевать, так надо, чтобы до победного конца. Зря, – грит, – домой калеки не приходят – в такую жизнь людей объедать…
У Марфы-то ложка тяжелей топора станет. Сказали ей как-то старухи:
– Тижелова сына ты оставила, Марфа…
А она так выпрямилась, быдто поленницу уронила:
– Кому он и тяжел, а мне – легче его нету… Так и присеклись все.
Дале-то совсем замолкла Марфа. Вид делает, чтоб про сына не болтали чего: будто и кормят ее мясом каждый день, будто белый хлеб ей из города заказывают, а от платьев, от обновок будто отказывается. А сама все худеть да худеть, под конец одни глаза остались.
Земля (я тебе говорила) в тот год тяжелая была. Вот и соблазнился Василий на легкую работу: начал самогон варить. Граммофон купил на те самогонные деньги, двухлетку хороших аргамаковских пород, тарантас с крытым верхом. Как привел он тарантас да как устроил гулянку, так Марфа пришла в поселковое правление, попросила пакет, положила туда ордена свои и велела отправить в город самому главному комиссару.
Не знаю, что у них еще было. Сказывают, будто ударил свою мать Василий, а может, она его ударила, – только видал вечером в тот день шляющий Абрам Новопольцев, что подле кладбища развязала Марфа какой-то платок, достала суму, сломала с ветлы палку и ушла по тракту. За поселком суму-то надела, чтоб сына не позорить (а может, и врет Абрам), только где она теперь – никому не знаемо, разве что в новую войну объявится…
…Месяц плакал в синевато-розовой тишине Яика. Был первый рейс парохода по Яику. По ночам тушили машину, и поэтому слышно было как со звенящим, серебряным плеском прыгнула на месяц рыба.
Месяц блестел, как слеза.
Пустыня Тууб-Коя*
Экая гайдучья трава! Не только конь – камень не в силах раздавить, разжевать такой травы. И не потому ль в горах скалы – обсыпавшиеся, обкусанные, словно зубы коней, что бессильно крошатся о травы Тууб-Коя.
И над всем, вплоть до ледников, такое же желтое, как пески Тууб-Коя, – небо.
Звезды на нем, словно шаянье сухого помета аргалов1.
Да и то так ли? Поэтому что никто не знает, есть ли на этом мутно-желтом, гнилой соломы, алтынном жалком цвете неба – есть ли на нем звезды.
И все же через гайдучьи травы, через пески, откуда-то от Тюмени, сквозь уральские и иные степи пробрался в партизанский отряд товарища Омехина агитатор, демонстратор и вообще говорун Евдоким Петрович Глушков.
Удивительнее его словес, которые, правда, стоили пятидесяти газет, – алебастровый, девичий цвет его лица. Никакие солнца никаких пустынь не смогли потревожить его нежнейшей кожи, а он, нимало не млея, гордился своими словесами и особенно – способом своей агитации.
На трех ослах пригнал он свое имущество. На первом – «Командир» по кличке – имел Глушков «вполне исправный», по списку, пулемет. На остальных – кинематографический аппарат «Кок»2 и в туркменском пестром мешке – круглые ящики лент.
Ноги у Глушкова были босы, потрескавшиеся, в цыпках, а брюки он почему-то не подбирал, и густая желтая пыль была в отворотах – точно он нарочно насыпал туда песку.
Вытянувшись, стоял он пред товарищем Омехиным, и было у него такое розовое лицо, будто явился он с ледников.
– Удивительный способ моего воздействия на массы3 заключается в объяснении событий предыдущего строя, демонстрируя вышеуказанные события и любовные драмы на мелком экране, посредством домашнего электричества, машиной, приводимой в действие человеческой рукой, именуемой «Кок», что по-русски значит: победа.
– Победа? – спросил Омехин и поглядел в горы Тууб-Коя, в ледники, что одни прорезали небо и куда бесследно ушли отряды белых.
– Несомненно, победа, – ответил Глушков, и зубы его показались белее алебастрового его лица.
– Тоды что ж, – сказал Омехин. – Мы не против буржуазной культуры, если она со смыслом… Показывай.
Больше года уже носился омехинский отряд по барханам Монголии, больше десятка месяцев жевали кони гайдучные травы пустыни, и многое стал забывать товарищ Омехин.
Так, пройдя несколько шагов, остановился он и поглядел на тех трех заморенных осликов, на жирных оводов, носящихся вокруг них, и на Глушкова, раскладывавшего по кошме аппарат «Кок».
– Поди так, про любовь?
– Преимущественно про любовь, товарищ.
– Зря. Тут надо про смерть.
– А мы подведем соответствующую структуру.
Одни сверкающие ненавистью к зною ледники, одни они прорезают небо. Высоки и звонки горы Тууб-Коя.
И отходя к своей палатке, хрипло сказал Омехин:
– Разве что – подведем.
В средине ленты, когда гладкий и ровный «трутень» объяснился в любви длинношлейфой даме4, а соперник его – трухлявый лысый злодей – подслушивал за портьерой, когда Глушков совсем приготовил в памяти одну из удивительных своих речей, такую, что после десятка подобных совсем к черту бы развалился старый мир, – в отряд, пробравшись незнаемыми тропами, примчалось подкрепление – уфимские татары.
Экран потух, партизаны заорали «ура», и косым ножом семиреченский казак Лумакша перехватил горло кобылице. Казаны для гостей мыли так, будто собирались варить в них лекарство, и, по степному обычаю, сам Омехин первый кусок сваренной казы5 пальцами положил в рот командиру отряда татар Максиму Семеновичу Палейка.
– Вступаю под непосредственное ваше командование, – сказал Палейка, быстро глотая кусок.
– Кушайте на здоровье, – ответил Омехин, придвигая блюдо. – По поводу же картины замечу: с точки зрения человеческой целесообразности любовь вызывает жалость к себе.
– Зачем же… Жизнь любить не мешает, особенно – рожать. Не рожая – какая жизнь. По-моему, женщина у меня должна быть единственная. Чтобы сказать фигурально или в пример аллегорией, – присосаться к шее на всю жизнь и пить.
– Не одобряю, – возразил Омехин.
Он хотел быстро спросить о буржуазном происхождении Палейка, но здесь тонко, словно испаряясь в сухом, как пламень, воздухе, пропел горнист.
Всадники вспрыгнули на коней.
Казак Лумакша, резавший кобылу, привел двух киргиз. От страха стараясь прямо, по-русски, держаться в седлах, сказали они, что ак-рус – белые люди с ледников пошли в обход омехинскому отряду, по дороге берут киргизские стада, и бии6 – старшины собираются резать джаташников.
– Мы сами джатак, – сказали они. Пусти нас, мы по вольной тропе пришли.
«Джатак – значит бедняк, – самому себе перевел Глушков. – Необходимо отметить и употребить в речи, как окончу картину демонстрировать»…
Дни здесь сухие, как ветер, тоска здешней жизни суше и проще ветра, и ветер желтым и крупным песком заносит конец ее.
Вот поехали утром еще трое партизан сбирать кизяки – топливо – и не вернулись.
В долине Кайги остались сторожа подле запасных табунов, пустые палатки, три пасущихся подле саксаулов ослика и агитатор Глушков, спящий со скуки на камне, подле смотанных лент.
Сторожа рассказывали сказки о попадьях и работниках. Неутолимая тоска по бабьему телу капала у них с губ, и Глушков проснулся от вопроса:
– Неужель такая баба растет, как на картине? Надо полагать, перерезали таких баб всех, а не порезали – мы докончим. Зачем ты, сука, виляешь, когда мы тут страдаем, а?
Проснулся Глушков, тесно и жарко показалось ему в грязной своей одежде, пощупал горячий и потный свой живот, подумал – разве можно, действительно, показывать в пустыне такие бедра. И с необычайным для него матерком добавил:
– …Вырежу прочь вышеуказанный кусок из ленты.
Тогда же.
На одной из темных троп шарахнулись в сторону копыта коней.
Темно-вишневый цвет смолистой щепы осветил узловатый подбородок Омехина, кровь на копытах коня и грудь человека, разрезанную в виде звезды. По челку утонула в груди человека конская нога.
Это был один из троих, ушедших утром сбирать кизяки.
Крупным песком заносится конец здешней жизни.
Палейка оправил ремни револьвера и тихо сказал Омехину:
– Предлагаю: труп в сторону. Пленных не брать.
От гривы к гриве, от папахи к папахе пронеслось с неясным шумом, словно вставляли патрон в обойму:
– Пленных не брать.
– Так точно, – прошептал задний в отряде, оглядываясь в тесную темноту, – так точно: пленных не брать.
В битве подле аула Тачи, как известно вам, был убит полковник Канашвилли, зарублено семьдесят три атамановца и взят в плен брат Канашвилли.
Горный поток тоже не брал пленных. Вода мутнеет от крови только в песнях7, а пасмы8 туманов в горах были такие же, как в прошлый день.
– Расстрелять, – сказал, не глядя не пленного, Палейка. Он разыскивал тщетно спички, он не курил всю ночь, и, конечно, приятнее держать в руках папироску, чем шашку.
– Товарищ…
Омехин зажег ему спичку. Такая любезность удивила Палейка, и он даже поклонился:
– Благодарю вас, товарищ Омехин.
Омехин зажег еще спичку и так, с горящей крохотной лучинкой в руке, проговорил:
– Но, товарищ, поскольку она женщина, а не брат… Палейка опять зашарил спички.
– Предлагаю: расстреляем через полчаса. Я ее сам допрошу. Выходит, не брат, а жена? – спросил он почему-то Омехина.
Тот тряхнул головой, и Палейка тоже наклонил голову.
– И жену… тоже можно расстрелять9.
– Можно, – подтвердил Омехин. И тогда сразу Палейка почувствовал, что папироса его курится.
Был рассвет. Пятница. Татары умело кололи кобылиц, и так же уверенно, словно блеском своим сами себе создавали счастье, так же смело блистали ледники Тууб-Коя.
– Допросили. Чего ее караулить, мазанка у ней такой крепости: развалится, крышей придавит, и в расход не успеешь пулей ее вывести. Тоже строют дома: горшок тверже. Знает свое дело.
Палейка любил говорить о великой войне. Он рассказывал, как при взятии Львова за его храбрость полюбила его черноволосая мадьярка, и как он на ней хотел жениться. Свадьба не состоялась: войска оставили Львов, но на память она дала ему дюжину шелковых платков песенного синего цвета.
Он вынимал тогда один из платков и, если приходила нужда, нос туда вкладывал, словно перстень.
Так и тут – он потянул палец за платком, галифе его заняли весь камень.
– Допросили, Максим Семеныч?
Палейка поднял платок. Пятеро татар, лениво переминаясь с ноги на ногу, ждали позади Омехина.
– Допросить-то я допросил. Однако должен предупредить вас, Алексей Петрович, что указанная вами грузинка есть не жена, а сестра Канашвилли. Зовут Еленой и, между прочим, девица. Она согласилась дать исчерпывающие сведения о состоянии бандитских шаек в горах, указать пути обхода и все связи бандитов с городом.
И по тому, как Палейка твердо выговорил последнюю фразу, Омехин понял – врет. Тянущий жар у него прошел от губ к ушам, упал на шею, и ему показалось, что он пятится.
– Я согласен на отсрочку расстрела. Я ее сам допрошу, товарищ Палейка.
– Очень рад. Вы, как твердо знающий политическое руководство, за долгое пребывание в степи изучивший ее… У вас связи с городом не имеется, если туда препроводить?..
Связь тут – красное знамя, да и то источили ветры и дожди. Чудак Палейка, весенняя синяя твоя душа!
Омехин подошел к ветхой, словно истолченной киргизской мазанке. Несколько партизан заглядывали в просверленные круглые отверстия задней стенки мазанки, перебивали очередь, переругивались, с силой рвали рукава друг другу.
– Черт, гляди, отмахнул на круговую от плеча! Зашивай теперь.
– А ты воткнулся головой, что клоп в пазуху. Ишь, весь накраснелся, кровью налился. Надо и другим…
Испитой, бледный, как его старая, потертая шинель, мужик тщетно проталкивался между двумя крепкотелыми татарами. Бока его шинели, нависающие на туго перетянутую поясом талию, совсем закрывали широкий, заворотившийся с обеих сторон ремень, и локтями он упирался в стоящих рядом татар.
– Я совсем немного, братишки, одним глазком, – умолял хилый парень. – Дай-ка, ну-у…
Другой, тонкий, вертлявый, в короткой шинели, ухитрившийся придать ей вид щеголеватого кафтана, босой, угрем проскользнул между гладких круглых спин и отверстие отыскал совсем под локтем мужика. Сухие ноги кафтанника совсем неслышно упирались в тяжелые сапоги татар. Он взвизгнул от удовольствия:
– Ай, что за женчин… Все только пундрится и мундрится… Столпившиеся захохотали:
– Неужели еще пундрится?! Вот стерва, уж третий день. Другая бы глаз не осушила, доведись до нашей русской бабы, а этой хошь бы што…
– Полька она.
– Может, и еврейка, только белая.
– А муж генерал, говорят. Его не поймали.
– Ха, что ей муж? Его и не было в отряде, она сама орудовала, как командир. Вот черт баба – в штанах, с ножом, а рожа крашеная…
Новая гурьба желающих взглянуть на пленницу толкалась к просверленным отверстиям, хватая друг друга за локти. У одного старая, пробитая пулями шинель треснула, и фалда повисла до земли. Он, не оглядываясь, попал кулаком обидчику в голову. Фуражка у того надвинулась на глаза. Он, рассвирепев, принялся лупить напиравших по чем попало. Серые шинели слились в один матерно мечущийся, растрепанный ворох.
Омехин, давно недовольно наблюдавший за солдатами, придерживая тяжелый наган, двинулся к ним.
– Обожди, не муха! Чего ползешь? Где караул? Ну, отойди, говорят. Мужики шарахнулись, словно разлепились, и едкий пот нанесло на Омехина.
– Сплошь пундрит, – сипло продохнул кто-то позади.
Омехин обошел партизан и поискал отверстие в стене на уровне своего роста.
Такого высокого отверстия не оказалось. Он оглянулся.
– Куда вы смотрите-то?
– А ты пониже, пониже, брат.
Омехин недовольно примял немного фуражку на голове и, согнувшись перед отверстием чуть не вдвое, заглянул. Сначала ничего не видел: узкие стекла у самого потолка мало давали света. Мазанка совсем пустая. Пахнет в ней золой. Две грязные полосы сосновых нар, скорее – длинная узкая скамья, и на ней, теперь сразу стало видно, сидит женщина в белой черкеске. Две тугие косы прямой линией – по спине. Косы будто зеленые. Лица не видно: оно к свету от окна. На коленях – белая папаха. В мягкой расчесанной мерлушке совсем утонуло круглое зеркальце. Рядом на плахе – круглая плоская голубая коробочка. В руках у женщины пуховка. Она водит ею по лицу, поворачивает голову перед зеркалом. Лицо все более отходит от Омехина. Он оперся, видимо, тяжело: из ветхого глиняного кирпича стенки выдавился сухой треск. Женщина быстро подобрала под плахи ноги в черных лакированных сапогах и оглянулась. Еще сильнее запахло мокрой золой. Серые глаза ее с ненавистью забегали по стенке. Брови совсем нависли на глаза или ресницы хватали до бровей.
– Ссс…скоты… – скорее свистнула, чем произнесла она.
Лицо бледное, выжженное, неживое, какое-то внутреннее, а не наружное. Глаза наездничьи, разбежистые.
Омехин отвернулся от щели и вздрогнул, словно по его груди проскользнуло это стремительное, молниеносное насекомое.
На его плечо по-дружески, но крепко легла рука Палейка.
Пальцы у него растрепанные и грязные, словно испаренные веники.
– Допросили?
– Собираюсь, – ответил Омехин.
– Может, препроводить ее при письме. Часть нежелательно возбуждена. Вы заметили, Алексей Петрович?
Омехин, уменьшая свой широкий рот, быстро спросил:
– Вы, кажется, товарищ Палейка, больше о ней заботитесь, чем… Да тут лавочка у ней, дальше коробки с пудрой не двинется. Да… Разговаривать с ней нечего, я ее допрошу. Допрошу… – повторил Омехин.
Голоса негромкие, не дальше сжатых губ, короткого дыханья, но ухо пленной чутко. Она всем телом прижалась к стене мазанки. И так горячо, так охвачено пламенем ее тело. Серая шершавая стена принимает, впитывает ее жар – она совсем теплая. Очень теплая. Совершенно неудивительно будет, если переданное ею тепло коснется, дойдет до лиц близко стоящих мужчин. Щеки одного вспыхнули, за ними пылают уши.
– Я вам не сочувствую, хотя как руководителю военной части все сообщенные ею сведения мне необходимо было бы знать первому…
Палейка вдруг круто, по-военному повернулся, козырнул молча и пошел вдоль палаток.
Омехин крикнул уже вслед ему.
– Обождите, Максим! Надо выяснить, чего недоразуметь. Верите ли… Последние слова он бормотал на ходу, далеко откидывая коленями длинные полы шинели.
– В лесу надо поговорить, – через плечо сказал ему Палейка.
– В лесу?
– В лесу. Здесь неудобно.
Шинель Омехин сбросил на куст саксаула. Голубая нездешняя птичка выскочила из-под его куста.
«Хорошее место для могилы», – подумал он.
Палейка, не по-солдатски широко размахивая руками, шел далеко впереди.
…Ведь надумает еще пойти не до саксаулов, а до гор. Не до гор, а до скал Каги, до них пять верст по меньшей мере. Собачий перегон – так называются пять верст…
Костры чадили в долине. Партизанские кони рвали траву, как сучья. Горы – как палатки, в которых спит смерть. Одни ледники разорвали желтое небо. Ледники холодом своим смеются над пустыней… К горам, что ли, он идет?…Не дойдешь, брат, в такой тоске.
…Все мы не доходим. Было другое лето в Петербурге, где нет гор и где море за ровными скалами, построенными людьми. Все же и там дует ветер пустыни, свивает наши полы и сушит, без того сухие, губы. Птица у меня на родине, в Лебяжье, выводила из камышей к чистой воде желтых птенцов. Я не видал их. Об этом напомнили мне книги. Петербургские тропы ровные и прямые, и я все-таки недалеко ушел со своей тоской…
Палейка, обессиленный, повалился грудью на землю.
Саксаул острыми спицами впился в тонкое сукно, разрезая приникшее к земле тело. Теплый дождь – подумал с неудовольствием кустарник.
Запыхавшийся Омехин остановился подле. Губы у него твердые, как дресва саксаула. Будто всю жизнь Омехин ест корки.
«Вы, я вижу, Максим, на самом деле, а?..» – хотел было сказать он и, как всегда при речах, потер он оземь и согнул правую ступню.
– Бывает, – промолвил он.
И так стало тихо, что от соседнего кустарника, вершка четыре от ствола, отскочила вдруг голубенькая мышка. Юхтач называется она, что значит-жадный. Задумчив и величав ее чуть загнутый нос.
Палейка приподнялся на локтях, вынул неслышно наган. Рот у него открылся: один зуб у него, оказывается, перерос другие. И главное – желтее всех.
Он повернул потную голову к Омехину и сказал:
– Пали!
Омехин хотел отступить, но Палейка приподнял на глаз мушку, и Омехин прошептал:
– Бог с тобой, Максим Семеныч, с чего я в тебя палить буду?
– Не в меня, в мышь. Кто попадет, тому она и достанется. Пали, ради бога.
– Спятил! Да никогда я в мышей не стрелял из револьвера.
– Пали! Считаю до двух. Кто убьет – тому. Система у нас разная. Пали, тебе говорят.
Мышь насторожилась, хвост у нее поднялся, она вздохнула, собралась бежать… и вдруг, не чуя себя, Омехин шепнул:
– Считай!
Женщина лежала на лавке, подложив папаху под голову. Когда Палейка вскочил в теплушку и поспешно задвинул за собой дверь, она быстро поднялась и села, держась обеими руками за кромку плахи.
– Я закричу. Что вам?
Не отвечая, Палейка чиркнул спичку и зажег небольшой огарок, оглянулся – куда бы его поставить. Она прищурилась, словно приберегая глаза для разбега, быстро согнула в локте его руку и сказала:
– Стойте так!
Осторожно достала из кармана кофточки круглое зеркальце и пудреницу из бокового кармана юбки и, открыв голубую коробочку, не глядя на Палейка, неподвижно светившего ей, стала пудриться.
Когда нос стал белее лица, она губной помадой тронула чуть-чуть губы. Улыбнулась тягостно-легко.
– Теперь хорошо.
Спрятав пудру и помаду, взглянула на Палейка. Зеркальце осталось у ней в руках. Вытянулась и, еще притянув к носу зеркальце, тронула рукой грудь Палейка.
– Отойдите дальше.
Палейка, повинуясь совсем не ее руке, задевшей словно пчела, отступил назад.
В зеркале брызнулась отсветом свеча, ему захотелось загасить – но губы ссохлись.
Она опять села и положила зеркальце на колени.
– Что же, вы опять молчать будете, как прошлый раз? Вам чего, собственно, от меня нужно? Я ведь знаю, куда вы меня утром отправите, и ничего вам не скажу. Я и ничего не знаю.
Она ненадолго задумалась. Опять словно водяной паучок скользнул на ее щеки. У паучка смешное имя – «мзя».
– Я хотела после себя оставить… – Мне?
– Совсем не вам, а вообще. Я думаю, что мои косы на это годятся. Пускай они останутся жить… я их люблю.
Она сложила на груди обе косы вместе, играя пушистыми концами. «Хитра», – со злостью подумал Палейка, ощущая теснящуюся в носу влагу растроганности. И он сказал басом:
– Серьезнее вы ни о чем не попросите? Может, какие другие вещи есть?
– Вот смешно! Это очень серьезно…
– Неужели на меня нельзя рассчитывать в смысле легкой, предположим, помощи. Мы, в крайнем случае, где-нибудь и понаскребем.
– Помощь… фи! И притом… надо же понимать. Кто служит, вообще как-то действует в жизни вместе с хамами, сам теряет благородство. А у лишенных этого достоинства я услуг не принимаю. Уйдите. Вы мне больше не нужны. Спасибо за огарок. Да, вот еще что: разрешите мне причесаться к завтраму, а то завтра я не успею. Подержите еще огарок.
Женщина спокойно, таким же заученным жестом, как ее слова, стала распускать волосы.
Палейка быстро поставил огарок прямо на пол. Его большая неуклюжая тень метнулась по стене, сломляясь у потолка. Голова на потолке превратилась в чурбан. Он сел рядом с женщиной и, не давая ей опомниться, поймал ее руки.
– В помощи? Да? Фу, гадость какая, только подумать… Уходите. И вы еще прикоснулись ко мне: у вас руки грязные, смотрите, ногти обломанные, короткие, желтые… как окурки…
Она с отвращением вытерла свои пухлые руки о низ черкески. Вдруг зеркальце соскользнуло с ее колен, упало на пол и разбилось пополам.
Женщина испуганно посмотрела на осколки, подняла их, словно не веря глазам, посмотрелась и заплакала, затопала ногами, пронзительно крича:
– От вас только несчастье, горе, потеря! Ненавижу, ненавижу! Убирайтесь! Знаю, что завтра расстреляете, знаю… и незачем зеркало бить!
Она бросилась на нары, подогнув под себя колени, и, уткнувшись головой в папаху, зарыдала. Косы, свисая до полу, бились, трепетали, увертливо развивались.
– Ишь, черт! – сказал тихо Палейка. Горло у него было сухое, словно из папье-маше. – Ишь, черт, зеркало пожалела. Сплошь тяготение к суеверию.
Он слегка помолчал. Пальцы его нащупали в кармане платок. Мадьярский платок был последний. По бокам он обтрепался. Не будет больше таких платков у Палейка. И любви такой песенной больше не будет. Капут.
– Я его оставлю. Женщина молчала.
– Я его тут рядом положу. Мне его невеста подарила. Теперь она, несомненно, померла. Я к вам даже не в смысле любви, а так, если что сможете почувствовать, то предлагаю вывесить на видном месте. Думаю: долго придется вам жить, так как по некоторым соображениям предполагаю отложить ваш расстрел.
– Я хоть в сапогах, а портянок не ношу. Уберите платок.
Палейка упрямо подошел к скамье, аккуратно разложил платок и, плотно захлопнув дверь, строго сказал двум часовым татарам:
– Смотрите в оба, потому что – стерва. Татарин только сплюнул через уголок губ.
– Знам.
Он поднял винтовку и сплюнул еще.
– Все знам, солай10.
Увидав входящего, Омехин приподнялся с койки.
– Какова?
– Ничего.
– Говорили?
Палейка, высоко взметая пушистые брови, захохотал.
– Везет вам, товарищ Палейка, с бабами. И-и, везет. Я ведь как стреляю, а и то промахнулся на ваше счастье. И в чего – в мышь. Она добровольно.
– Конечно.
– Сволочь бабы. Брата ухлопали, многих перебили, а тут на четвертый день… Вот и женись тут. Возни нам теперь с ней будет.
– Какая ж возня? Отправим по месту назначения.
– А вы как, товарищ Палейка?
– Побаловался – и будет.
– Да… будто и хорошо, будто и плохо. Везет вам с бабами, товарищ Палейка.
– Да, везет, – вздохнул Палейка.
Пески не стынут за ночь – как сердце. Пески разбредаются по всей пустыне, как кровь по телу. Кто убережет саксаулы от вихрей? Тученосно увиваются пески вокруг саксаулов.
Деревянная койка была жестче седла. У постланной шинели прямо невозможные швы. Не швы, а канаты. Завтра, наверное, пойдут по всему телу красные рубцы, отпечатки этих толстых, грубых портновских швов. Положил бы он спать на эту шинель самым нежным местом самого портного. Посмотрел бы, как стал этот портной ворочаться, кряхтеть и почесываться. И почесываться приходилось не от одних швов. Омехин, ворочаясь, бормотал:
– Швы… вши…
Портного все-таки не мешало бы притянуть к ответственности, чтобы шил аккуратнее. Надо сообщить, но…
– Лешак те дери таку жись! Сидишь, как вошь на сковороде – и жирно и жрать нечего. Бабу бы по такой жизни.
«Военком рядом за стенкой, спит уже. Как боров, храпит, наверное»…
Омехин прислушался.
«И дыханья совсем нет. Значит, доволен».
– А ну его, сдался он мне!
Он достал махорку, выкурил трубку. Опять лег, накрывшись одной полой шинели. Духота – как в мелочной лавке. Промчался мимо патруль. Годы спал на шинели, не жала, а тут… И вспомнил он вдруг запах богородской травы. Пятикратное заклятье читать от такого запаха, если он почудится во сне девице… А тут патруль. Думай лучше о пахоте. Вот жарким весенним утром пахота. Пахота… пауза… похоть… пахтанье… похоть…
Со скуки читал он словарик иностранных слов, среди которых все были русские…11 «Иностранные» напечатано, чтоб больше покупали. Смешно.
…Совсем какая-то куличная ночь. Пахнет словно на Пасху. Луна, наверное, и чужие горы. Луна здесь – словно каждый день Пасха…
Он отбросил шинель. Пуговицы четко ударились о стенку. Омехин достал из-под изголовья сапоги.
– Пойду, посмотрю караул.
Он, стараясь не звенеть шпорами, стал натягивать сапоги.
Но здесь он явственно расслышал женский визг, рев нескольких голосов, и затем упал выстрел и, странно, не отдался в горах. Точно во сне – там никогда не узнаешь эхо.
Омехин запнулся о порог.
Мелькал фонарь подле мазанки, партизан задевал о его стекло наспех привязанной шашкой. Небывалый клекающий гогот слышался там. В кустарниках за лагерем выли приставшие собаки.
– Тише! Ну-у…
Кафтанистый партизан схватил его за руку и, со смехом указывая на троих татар, громко прокричал над ухом, словно выстрелы продолжались:
– Ты на них посмотри… ты на эти рожи. Хотел ка-а…
– Чего тут, парни, а?
В углу мазанки, держа в одной руке нож, а в другой папаху, плакала женщина. Ей, наверное, было стыдно видеть себя плачущей, и поэтому она визжала непереносно-высоким голоском:
– Изверги, палачи! Сегодня комиссар кидался, а теперь стаей хотят… Расстреляйте меня, не мучайте! Сейчас же сию минуту! Гадины!
Омехин, отстегнув кобуру револьвера, взглянул на сутулого татарина, одного из часовых:
– Ну?..
Татарин сделал руки по швам. Лицо у него вдруг вспотело, веки как-то опухли. Он оглянулся на остальных.
– Баба нету. Четыре месяца терпел, как Уфа уехал, нету баба. Завтра стрелять все равно, комиссар щупал, надо нам мало-мало прижимать. Он…
Татарин жалобно указал на жидкую бороденку, по которой ползла кровь.
– Он нож – пщак сюда, начал меня резать. Пошто нам нету баб?! Кафтаносец даже взвизгнул:
– Эта рожа, браток, смотри, это рожа! Бабы ему надо! Терпи, курва, терпи так, как революция тебя терпит, а?
И он в совершенном восторге хлопнул себя по сапогам ружьем.
– Они для страха в воздух уф… Припереть ее чтоб.
– Запереть ее, – сказал Омехин с раздражением. – Запереть наглухо и… Ты покарауль пока, – указал он кафтаносцу.
Тот для чего-то обнажил шашку и застыл, только зубы его смеялись в темноте, и видно было их, казалось, за десять саженей от мазанки, куда отошел Омехин, татары и Палейка.
Фонари стояли на теплых и словно вспотевших камнях. Трухлявый ветер чуть шевелил полы шинелей.
– Поскольку… – сказал Омехин, глядя на камень.
Свеча нагорела, и не находилось дурака снять нагар, и поэтому Омехин чувствовал все увеличивающееся раздражение.
– Поскольку командная сила нашего славного партизанского отряда допустила попустительство, не кончив ее сразу, а дальнейшее ее пребывание заклеймит позором наш отряд, – я нахожу необходимым провести без промедления революционный приговор. Во избежание аккредитивов на анархические выходки – часовых: Гадеина, Алим Каши и Закия Кызымбаева приговорить к высшей мере наказания, но, принимая во внимание их несознательность, приговор считать условным. До исполнения дежурить над гражданкой… чем и загладить свою вину. Иначе – к черту. Понял? Есть возражения? Возражения имеются?
– Нет, – ответил Палейка.
Все так же глядя в камень, Омехин сказал татарам:
– Приговорены условно к расстрелу. Ступай по местам и караул веди теперь безо всяких. Понял?!
Татары вдруг взялись за руки и отступили.
– Ну?!
– Э, понял, Лексе Петрович, э…
И сутулый татарин низко, почти до земли, поклонился.
– Э…
– Осмелюсь доложить, – сказал Палейка, – могли не понять. Может, разъяснить им?
– Какие там разъяснения, если о пощаде не просят. Ясно.
Утром от мазанки нашли следы, направляющиеся к горам. Скакали четыре лошади, а на самой легкой, на карем иноходце Палейка мчалась сбоку трех, видимо, она – Елена Канашвилли.
Всякие бывают события в жизни, как всякая вода в реках, но очень муторно было в это утро Омехину. Сидел он в седле, вытащив длинные сухие ноги по кошме12, и глядел с раздражением, как Палейка выбирал в табуне лошадь.
– Какие события предпринимаешь?! – крикнул он ему. – Плохо, видно, с бабой спал, раз утекла. Плохо, видно, присосался.
Палейка с криком ударил укрючиной в табун. Кони метнулись, из-за палатки послышался топот копыт, и Палейка выехал на неоседланной лошади.
– Ка-амандер… Без седла ехать хочешь?! Не овод. Дать ему седло! Татары подхватили Палейка.
– Дарю тебе на счастье свое седло, – сказал Омехин. – А коня не дам, прозеваешь.
Вслед за Палейкой помчалось еще шесть всадников.
Палейка метался один, без дороги, натыкаясь на кусты, камни, рытвины. Дергал за уздцы коня, – тот часто вставал на дыбы, крутился на одном месте, пытался даже сбросить непонятного ему, по желаниям, всадника.
Он словно бежал в догоню за скрывшимися и в то же время словно скакал от Омехина.
Но все-таки на крутой горной тропе, подле горы Ай оль, Омехин догнал его. Оборачиваясь на топот, Палейка крикнул:
– Они уж, Алексей Петрович, убьют нас, как тараканов. Четверо их.
Омехин в седле сидел так же уверенно, как за книгой, за словарем иностранных слов, который он небывало презирал. Ноги его плотно сжимали бока и были четыреугольные, тупые и скучные.
На шестой версте от лагеря, в нескольких шагах от тропы они увидели труп бежавшего часового Алим Каши. Череп его был разрублен саблей. Скользнувший дальше клинок рассек гимнастерку и обнажил впалую, чахоточную грудь.
– Тоже баба понадобилась, – не слезая с лошади, сказал Омехин. – Я думаю, отказался с ними в горы дальше идти. Не захотел быть предателем рабочего класса. Потому закопать его, а то волки сожрут.
Чернели вдали сухие, выветренные скалы. Очень сильно, до кровавых ссадин надо было сжимать бока коня, чтобы еще и еще сбирал он растраченные силы.
И вот у Агатовой скалы еще распростертое тело партизанского коня и всадника – часового Гадеина. Это был красавец саженного роста, веселый и хохотун. Скрюченные руки его запутались в поводу. Обезображенная голова коня – рядом.
Гадеин еще жив. Он поднимает омертвевшие веки и чуть слышно, словно веками, спрашивает Омехина:
– Стрелять пришел? Зря я от твоей пули бежал. Лучше от своей пули азрак – азрак капут. Он говорит: – бежим, убьет, все равно расстрел. Каши говорит – бежим, Закия говорит – бежим, все равно расстрелят. Ха, куда свой полки убежит татарин?.. Ха… Закия баба нет. Закия баран. Закия мне в башку расстрелял, как баба просил. Не стреляй, Алексей Петрович, в морду, стреляй прямо в сердце.
– Да, – сказал Омехин, подбирая свои повода, – кончится скоро. И верно – не понял, что значит «условно». Что значит условно? – обернулся он назад.
Бойкий пензенский паренек выпрямился в седле.
– Условно – значит, товарищ комиссар, которых убить бы надо, да пожалели оттого, что хорошие ребятишки.
Ближайшая гора прикрыта до пояса кустарником, словно юбкой, а дольше голая, скалистая. В кустах паслась лошадь. Высоко подымая пухлые губы, она весело щипала колючую траву. Появление людей ее не встревожило.
Она отдохнула, освежилась и радостно заржала. Далеко от лошади, впереди, на каменистой тропке лежал вниз лицом труп. Он врылся в расщелину камня грязными пальцами.
В него было всажено – в спину, в шею и в голову – четыре револьверных пули. Совершенно бессмысленно, тщеславно.
– Это баба стреляла, – сказал Омехин.
Дальше уже шел след одного коня.
Омехин посмотрел в горы. Куст окончился, и обнажился голый камень. Высоко, где-то в снегах серел аул. Дымок виднелся среди скал. Вечная жара веяла от камней.
Омехин натянул левый повод, а сам откачнулся вправо.
– Будя! Дальше нас самих пристрелят. Вертай, товарищ, обрать. Лошадь забери. Жалко мне твоего иноходца, Максим Семеныч, но, бог даст, поймам когда-нибудь ее.
Позади его в спину он услышал шепот Палейка:
– Товарищ, вы заметили – у последнего-то в руках волосы ее… – Ну?
– Он ведь был самый некрасивый. Закия, который всех убил. Он ее за волосы успел схватить…
Омехин осадил коня, поравнялся с Палейка и наклонился к нему так, что почувствовал запах кумыса и курта.
– Ну, а если даже и за волосы… За волосы таких баб бить надо, а не помирать.
До потока, что проходил у самого стана, они ехали молча. И когда копыта разбудили деревянный самодельный мостик и вода словно забурлила еще быстрее, Палейка догнал Омехина. Держась за луку его седла, он забормотал:
– Я ведь вам все наврал, Алексей Петрович, как есть наврал. Может, она ему жена, может, сестра… или польский шпион. Не спал я с ней, и ничего не было, и зря вы в мышь промахнулись. Лучше бы мне промахнуться. Я ей только синий платок подарил.
– Ну?!
– Чтобы она показала в руке, если захочет вообще с симпатией, а она…
Омехин вдруг тяжело повернулся в седле и огорченно будто крикнул:
– Увезла?!
Сухие скулы Палейка вспотели, повод скользнул, и он соврал:
– Сожгла. Пепел мне показывала потом, после татар. Пепел. От шелку сколько пепла? как от папиросы.
Вязкая теплота наполнила жилы Омехина. Ему захотелось спать, стремя отяжелело и словно стопталось в сторону.
– А ну ее, – сказал он лениво. – Надо протокол для отчета составить. Я еще хочу днем мазанку осмотреть, как они удрали. Татар жалко…
К двери мазанки, там, где скоба, был прибит тоненьким гвоздиком синий шелковый платок Палейка.
– Так, – проговорил Омехин задумчиво, глядя, как Палейка торопливо, даже не спрыгнув с лошади, сорвал платок, – так, посмеялась паскудная баба. Увижу – шесть пуль всажу.
Отъехав немного, он остановился, посмотрел на Палейка, покачал головой и вдруг, спрыгнув с лошади, пошел пешком к палатке. Какой-то проходивший партизан подхватил повод его коня.
Вечером Омехин взял винтовку, переменил обойму и почему-то снял с сапог шпоры, хотя он очень любил ходить в шпорах.
Ружье ему показалось очень тяжелым, ночь – непереносно душной, и только было хорошо то, что не видно было во тьме гор.
Он сел недалеко от мостика через поток. Воды словно убавилось. Пахла она цветливыми горными запахами. Омехин не спал вторую ночь, и потому все ему казалось почему-то соленым. Виски тучнели, и тьма ночи была непереносно тягучей.
Под ногами, казалось, сыпались-сыпались мелкие острые, как иглы, камушки. Костры в лагере потухли, и скоро вернулся через мост патруль. Мужики громко хохотали, и один из них скинул в поток горсть горных орехов.
Так Омехин сидел долго. Ноги свела тесная боль в жилах. Ружье он отложил в сторону. Где-то на небе мелькнуло пятнышко зеленого с желтым рассвета, и здесь он услышал заглушённый топот.
Всадник медленно, со стороны лагеря, приблизился к мосту. Постоял немного и громким шепотом понукнул лошадь. Лошадь четко ударила копытами.
– Палейка, ты? – окликнул его Омехин.
Всадник дрогнул и неестественно громко выкрикнул:
– Я!
– Подними голову выше. Я тебе покажу, куда надо бегать. Омехин плотно, согласно уставу, прижал к плечу ложе винтовки. Лошадь шарахнулась от выстрела, прыгнула два раза и с пустым седлом помчалась обратно в лагерь.
Омехин перевернул труп, из бокового кармана гимнастерки достал пакет, завернутый в синий мадьярский платок. Там было немного денек и документы Палейка. И документы и деньги он кинул в воду вслед за трупом, а платок сунул в карман.
Затем он, неизвестно для чего, разжег костер из саксаула. Закурил и разложил перед собою платок. Достал веточку с горящим концом и проткнул платок посредине. Запахло гарью, и палочкой же Омехин швырнул платок в костер. Подошедшему же секретарю штаба сказал:
– Надо мне сегодня картину ту досмотреть, что татары помешали. Какая, интересно, мораль получилась из ихней любви.
– Нельзя ее досмотреть, товарищ комиссар, – ответил ему секретарь.
– Пошто же я не могу ее досмотреть?
– Оттого, что две недели назад уже как демонстратор, товарищ Глушков, отъехал в другую сторону, с вашего же разрешения переменив ослов на лошадей, потому что ослы, как известно, были задраны волками за отсутствием стадности и наблюдения.
– Две недели?
– Так точно.
– Ишь, ты, жизнь-то как идет. Жизнь идет прямо… – но не докончил, как именно идет у него жизнь, так и не докончил товарищ Омехин. Только ухмыльнулся.
Камень в горах тугой и броский. Веселая и зеленая под ним земля. Солнечный пламень в горах потух, и облака, как пепел на костре человека, закрыли камни.
Под руку попалась трава. Экая гайдучья трава: не разжевать ее, не раздавить.
И все же через гайдучьи травы, через пески, откуда-то от Тюмени, через уральские и иные степи, через партизанский отряд товарища Омехина пробирается дальше агитатор, демонстратор и вообще говорун Евдоким Петрович Глушков.
Бегствующий остров*
– Спасибо, так сказать, заранее, – визгливо сказал мне вдруг пассажир, сидевший напротив. – Сары1 медной не имеете? Медной мелочи, так сказать. Разменить мне необходимо полтинник.
Мне трудно было его рассмотреть: бурая горячая пыль закавказской степи плотно, как ставнем, прикрывала окна. Были сумерки. Пассажир, заметив мой взгляд, тщетно попытался протереть окно. Я разглядел юркие и большие его глаза и частую улыбочку.
– Откройте…
Тогда пассажир поспешно взглянул на своих соседей. Первый – сонно белобрысый красавец, стриженный в скобку, дремал, облокотившись о столик, а баба – молчаливая, широкогрудая, с огромными, щекочущими сердце ресницами, внимательно разглядывала мои очки. Она уже, как я успел заметить, много спала и во сне капризно приподымала верхнюю губу, обнажая белые и ровные, как березы, зубы.
– Открой, не украдут, – сказала она лениво, даже не взглянув на большеглазого. Тот, пристально и тоскливо глядя на бабу, поспешно – словно окно было в душу – дернул за ремни. Стеклянно-резкий ветер опалил наши гортани.
Поезд на минуту задержался на полустанке. Возгласы беспризорных раздались под окном2.
– Што ж, не серебро же вам! – крикнул им огорченно мой сосед.
– А ты серебро, – раздался спокойный голос бабы. – Плодить умеете… Соседи мои все время пути питались булками и чаем, о деньгах говорили с завистью и нежностью.
Но тут юркий сосед вдруг быстро бросил в окно сначала двугривенный, а позже – полтинник. «Ну, тут неспроста», – подумал я и стал присматриваться. Я уже лег на верхнюю полку, и, дабы говорить со мной, Галкин3, Павел Петрович (как узнал я позже) поднимал лицо свое кверху, вровень с полкой. Я узнал припухшие веки сладострастника, тонкий длинный рот завистника и болтуна, а в нем исчерна-желтые зубы пьяницы и курильщика, а выше нагло мокли бледные десна кокаиниста. А вместе с тем было в нем пленительное тление мечтательности и какое-то бродячее страдание, какое бывает у старых собак, покинутых хозяином.
– Смеются… Они, братец Иванушка и сестрица Аленушка4, смеются надо мной…
Он нежно улыбнулся им. Братец Иванушка, проснувшийся от толчка поезда, сурово взглянул на меня – и опять задремал.
– Если рассуждать по существу – то они, беспризорные, отца убьют и мать спалят, если надо. Однако пятака не подать – стыдно. И подаю, хоть мы и бедностью своей слывущие… Правда, в Мугани водопровод ведут на тысячу верст?5
– Канал. Не на тысячу, а на тридцать семь.
Галкин сначала как-то поспешно моргнул, а дальше вдруг широко открыл глаза и визгливо вскрикнул:
– Канал! Скажи, пожалуйста, а все говорят: водопровод. А канал, по-моему, лучше. Птица осенью полетит на зимовку, тоже сядет, отдохнет, а то через такое пыльное пламя лететь – перо сгорит, охотнику гольем достанется. Вот эти, допризорные, тоже на зимовку, как птицы… У птицы хоть перья, а у них что – хмельная, путаная судьба…
Галкин вздохнул. Кондуктор зажег свечу. Кожа на лице Галкина как-то тоскливо пожелтела, сморщилась. «У тебя-то тоже, видно, хмельная судьба», – подумал я.
Сумерки были черные, как печное цело. Вагон качало. От горячего ветра волосы мне чудились перьями. Я задремал. Сквозь сон слышался мне визгливый шепоток Галкина:
– А тебе, Аленушка, позагорблю слещить…6 последний раз, ей-богу… Лещ, жирный и мягкий, вспомнился мне, Сибирь, – и уже во сне, кажется, я понял, что значит «слещить» на тюремном жаргоне. Я, кажется, потрогал карман брюк и перевернулся на другой бок. Словно шапка – простой, круглый и мудрый сон овладел мною. Мельком, где-то позади сознания, помню: в окне вагона огромное багряное, похожее на шиповник солнце, на рамах, покрытых росой, необычайный шиповный блеск, а надо мной склоняется Галкин. Он улыбается, спрыгивает и, высунувшись в окно, любуется на восход. Голова у него мокрая и розовая…
Я проснулся поздно. Соседи мои пили чай из чайника, похожего на утюг.
– Долго, – весело взвизгнул Галкин, – долго вы спите!
Но тут началась ерунда. Услышав голос, я вспомнил восходное мое видение. Сунулся, а затем, как все обокраденные, стал перешаривать другие карманы. Два месяца кавказских мечтаний, Казбек, романтические волны Черного моря, одним словом – мои сорок восемь червонцев были вырезаны. Вагон переполошился, и больше всех суетился Галкин. Он нашел начальника поезда. Тот сразу почему-то обиделся на меня. Меня ж оскорбили его выкрашенные хной усы.
– Надо в Чека, – сказал он злобно и ушел.
На станции я не нашел Чека (он прибежал после второго звонка, в руке его мотался ломоть недоеденной дыни, – он хотел поехать со мной, но быстро раздумал). В Гандже Чека спросило:
– Кого подозреваете? – и меланхолично добавило: – Обыскать мы Галкина можем, да гдэ найдэшь… Пэрэпрятал давно. В Гандже он слазит, говорит… Послэдим, послэдим… А обыскать – только вам нэприятности.
Чека был русский, акцент у него, видимо, был от скуки.
Чека лениво пососал кончик карандаша. Я отказался от обыска.
А Галкин, оказалось, ехал дальше. У ног его уже качалась высокая корзина гранат и винограду.
– Вина не хотите, гражданин? Вино здесь дешевле картошки. Я с кувшином вместе купил за полтинник.
Днем верхние полки опускаются. Мы, мужчины, трое сидели на нижней скамейке. От толчков вагона груди спящей против нас женщины мерно колыхались – казалось, догоняя друг друга. Галкин любовно рассматривал заморские ее ресницы и тихонько вздыхал. На остановках, чтоб ее не будить, он выходил на площадку и раздавал перед окном медные деньги.
– Поправитесь, – сказал он, быстро разрывая гранат. – Судьба кроет всех без обхода – и старого и молодого. У меня вот тоже судьба…
Но тут Аленушка лениво подняла розовые свои веки. Братец ее, до того неподвижно и прямо сидевший, словно его телу была отведена какая-то грань, вздрогнул и, тряхнув кудрями, не без грации вопросительно склонился к ней. «Выпадет же такая любовь человеку», – подумал я со злостью.
– Поись бы, – проворковала Аленушка.
И тогда Галкин крикнул проводника. Как и весь вагон, проводник злобился на моих соседей и на Чека. Галкин дал ему на чай три рубля – и проводник улыбнулся милостиво. Из вагона-ресторана принесли закуски: свиная котлета с зеленым горошком, беф-строганов и водка. Покушав (мне и теперь страшно вспомнить, с какой злобой смотрел я, как они поедают мой Казбек, романтические волны Черного моря, тифлисские окрестности), покушав, они вздумали попеть (у Аленушки оказался медовый такой контральто), и вагон слушал их долго. Пели они разбойничьи песни. Опять вспомнил я Сибирь, подумал – чего мне на этом Кавказе и чем наша Белуха7 хуже Казбека. Злость моя схлынула. Попев, Аленушка стала разговорчивее и уступила мне место у окна.
– А передал бы ты сказку что ли, Петрович.
Галкин даже руками взмахнул, – он, видимо, умел и любил передавать.
– Мы, знаете, – сказал он не без гордости, – люди семейные, в Тифлис решили к родным заехать, а оттуда вернуться в Мугань, к этим самым водопроводам, точную жизнь устраивать.
Он сказал обычную фразу, что сказки мужицкие – грубые, не побрезгую ли я. Галкин поломался еще немного.
– Может, и откушать теперь, гражданин, хотите? А за закуской и расскажу. У меня остался рубль. Да простят мне все, страдавшие от карманников, – я откушал.
Галкин рубанул рюмку, крякнул:
– Хороша она, леший ее дери, кавказская, на виноградном спирту…
– Возможно, читая газеты, доводилось вам встречать вести о комиссаре таком – Ваське Запусе?..8
«Эк, куда занесло твою славушку, Васька», – подумал я и все-таки спросил:
– Из Тюмени?
– Так точно. Возможно, доводилось вам бывать в тех местах, гражданин?
– Бывал и там…
– И слава богу. Места обильнейшие: кисы да шишки (чемоданы и портмонэ)[1] финашками, будто землей, набиты. В таких местах для проясненного жизнью человека – житье, лучше не надо… Так вот… в революцию Васька прославился.
В долгом зевке Аленушка опять показала нам березовую рощицу своих зубов и кончик языка, словно мокренький теленок из-за перегородки… Галкин так и замер.
– Ты бы, – наконец проклокотала она, – рассмехнулся хоть… про кота бессмертного рассказал9. Про эту самую революцию – все страшно да скушно… будто болесть…
– Все будет там, Аленушка, все. Революция в происшедшем случаю тоже вроде кота бессмертного, чудная… Я, гражданин, сам из тамошних засильников10. Душа моя по природе хозяйственная, а мне приходится претерпевать бог знает что, пока… детей вот…
Но тут Аленушка вдруг рассердилась и даже невнятно пробормотала резко так слово вроде «роппакимать»… Галкин, не закурив папироски, кинул ее в угол. Достал другую и – тоже не закурил. Пальцы у него дрожали. Наконец Аленушка проворковала:
– Скоро ты сказку-то?..
И Галкин встрепенулся, обрадовался.
…Я сам из раскольников произрастаю. Начинается потому сказка моя от тысяча шестьсот восемьдесят пятого – проклятого – года…11 Царские законы против раскольников в том году пущены. Мучали их по этим законам почесть до самой революции… В Драновитой палате при царевне-паскуде Софье-беспятой пришлось им закричать: «Победим, перепрехом!»12 – так и жили под таким зыком долгие века. Вы, гражданин, в обиду не впадайте: говорю непонятно, да по «музыке»13.
«Стрелял сам саватеек», хоть и мелкозвонов «на кистях» не носил14. Богат оттого-то тюремной «музыкой»…
С Петра Первеликого настоящее им мученье пришло. Напечатал Петр против них духовный пергамент15, после пергамента того – народ в ямки жечься полез.
Жил в пору того духовного пергамента в Питере книжный юный мудрец под названием Семен Выпорков16. Дух исступлен, из себя красив, как черемуха. Главным виновником смуты Петра почитал, называл всегласно его Антихристом. Царя ругать – жизнь, как игра без козырей. Сходило ему это все как-то с рук – оттого себя считал богом избранным. Умер Петр от сифилиса. Выпорков возьми и напиши ему вслед проклятие: «Антихристу, спустившемуся в ад, всероссийского царства бесу, попущением божьем Петру, препас-кудно-поганому императору». Вышло ли б что из того письма, кто знает… на подоконник обсохнуть его положил. Зашел в ту пору в келью протодиакон Иерофей, письмо увидал – донес.
Довелось вытерпеть Выпоркову каменные мешки, застенки – немшоные бани, «четок монастырских» на железном стуле покушал…17 Не ходил по дворам боярским с гостинцем-кистенем, а у заставы, при команде гвардейских солдат мудрую голову его нещадно звякнули. Страдал он много, плоть дрогнула – дыба не мамка – сознался: в пустыни начетчиком его ждали тем летом, находится та пустынь под Ярославлем, хутор купца Федорова18. Пошли туда солдаты.
Раскольники, обычным манером, удумали в ямки. Ждала на хуторе там мужа жена Выпоркова, тихая Александра. Вкруг келий костры наложили, поют по крюкам отходные псалмы. Вдруг паренек, работник, по прозванию Оглобля, выскакивает вперед, кричит:
– Я сам со Строгановских заводов три раза бегал, знаю все ходы и выходы – от Зауральского камня до Калым-реки… Есть дальше крепости Тюмень да ближе крепости Тобольск, середь топей, середь болот – Белый Остров19, от старых дубрав так названный. Топи те незамерзаемые, тундра называется масленая… Проход туда три недели в году по редким кочкам, да зимой по снежным вершинам кедров, ибо снега там зимой по десятку сажен наметаются. Люди вы добрые, согласные, жалко мне вас, лучше уведу я вас на тот Белый Остров…
Сказал – и начались среди раскольников споры. Жена Выпоркова беременна была: кому охота с ребенком гореть. А работники возы сена подвозят, гореть легче, вокруг келий складывают. Кричит купец Федоров Аввакумовы слова20:
– Дерзай, плюнь на пещь ту, не бойсь!
…До пещи дойти – страх, а как вошел, так и забыл все!.. Жена Александра ему говорит: «пойду в Сибирь». Купец ее – за волосы, она его ножом. Вступились которые, – и драка великая произошла. Залезла наименьшая часть с купцом вместе в костер, а другая с работником Оглоблей, им ведомая, в пустыню пошла. Поется в песне даже:
Как от Камы-реки на Иртыш – великие версты.
Уж и были эти версты, стерли у рук персты…
Долго, выходит, шли. У молодой жены Выпоркова дочь родилась, назвали, как и мать, Александрой. На Белый Остров когда пришли, избывая муки все, – десять лет девчонке стукнуло.
Вера, как тесто, – без рук, без ног, а ползет. Разговоры да мысли, молитва да пост – а оказывается: епископа истинно православного нигде нету, не фартит. Без передачи апостольского благословения тоже не фарт. Не фарт и то, – все епископы остались с Антихристовыми слугами. Осталась одна надёжа: второе пришествие Христово… со дня на день ждали…21 Ну, и решили – какие надобно таинства делать пока самим. Мудрец такой великий на поморьи жил, Денисов22, поддержал тоже: «Мол, крепитесь, а самое великое таинство – брак – да будет пока сходным»… Запутались в мыслях, будто перекати-поле в самом себе.
На холм высокий, зелененьким мохом обросший, вышли. Видная такая чернь – тайга, и «горбач»23 беглый здесь не бывал, на что он пронырливее всякого зверя. А на восток видно через речушку безназванную – топи, кочки, камыши, болота да скалы. Растут на холме том три маленьких сосенки.
– Отсюль, – машет работник через речку, – начинается та дальняя тропка на Белый Остров. Надо только осени глубокой подождать, пока в болотах кочка промерзнет, стоять будет твердо. К тому времени я всю тропу вспомню наизусть, как утреннюю молитву.
Сел работник меж трех сосенок на мшистом камушке, голову рукой подпер, смотрит через реку на топи и думает. Сидел так он целыми днями, аж камушек, словно монета, стал блестеть, – все вспоминал. Пал снег, валенки его начало заметать. И уже застыл тот снег вокруг валенок, лисица по тому насту вкруг валенок наследила, – думает все еще работник Оглобля. «Жив ли?» – раскольники беспокоятся, а боязно потревожить: лишиться может совсем ума от сотрясения вопроса. Третьи сутки так в снегу сидит, не пьет, не ест. Поднялось солнце на четвертые сутки, мороз ударил – аж затрещал лес. И тогда работник Оглобля поднялся.
– Вспомнил, – говорит, – все тверже утреннего начала…24
Молитву, какую полагается, спели, тронулся обоз. Подле трех сосен, у самого Работничьего камня тихая жена Александра стояла. Проходили мимо нее возы. Триста их насчитала жена Александра. Затем самым молодым раскольникам и говорит:
– Пойдите вы позади всех и будете вы ровнять снег, чтоб не было ни следов, ни колей, ни памяти людей, не было ни дороги, ни троп, один снеговой сугроб! Замкните ворота таежные. Спустите засовы болотные, – и заклятье положу я на ту дорогу.
Так и сделали.
Пришли обозы к Бело-Острову на пятые сутки. Поляны снежные выше за березовыми дубравами, чьи стволы белее снега. Виднеется гора. Пещеры в ней темнеют жорлами, борются в пещерах тех медведи – перед спячкой. Воздвижение еще, значит, не было…25 Камни вниз швыряют с горы – забавляются, летят те камни, чисто птицы. Людей медведи увидели, заревели в голос, свой срок жизни на острове поняв, обнялись и попарно так остров и покинули.
Боялись сначала раскольники все царевой волны вслед, а потом поняли: на недоступные холодные воды вышли. Вывели кельи, молельный дом срубили из кедрового дерева. Устроили собор, и на соборе том киновиархом26 мирную жену Александру избрали. Дале, по наказу поморского мудреца Денисова, разделились: «могшие вместить» ушли на гору, прозванную Благодать, в пещеры, схимниками-пустынниками, наставниками-начетчиками… Живи, дескать, в пещерном мешке, понимай, дескать, что жизнь эта есть мелкая ступень к будущей жизни, что есть нескончаемая лестница27. Хо-олодная лоза!.. А кто не мог вместить, поселились ниже, на полянах. Срубили дома, пашни подняли, бить птицу и зверя стали. В домах жизнь тоже не лучше пустынников: ни смеха чтоб, ни возгласа. Тишина, сумрак да ладан. Унынь. Чуть что провинился, – пропишет наставница несколько лестовок28, а в каждой лестовке сто поклонов. Считай богов в молельной бане…
Вышел еще обычай. Сначала из-за волков: замучали волки. Ружья и порох понадобились. Собор сбирался в декабре, избирал трех охотников да пятерых глупцов-силачей наместо лошадей: дураков от пустынной жизни много рожалось. Шли те охотники-лыжники да глупцы-таскуны-кочерыжники29 к Трем соснам. Зыряне30-промышленники, воры-купцы встречали их там. Меняли порох да ружья, железо да старые иконы на меха и мамонтов клык. Зырянин, стерва, дуванщик, из огня одетый выйдет: жили-существовали на ту раскольничью мену целым селом Черно-Ореховым. Избы себе кирпичные под железной крышей сбахали, завели граммофоны – и молчат. Дрожали носы не одного десятка приставов: собака чует – неладно, трясет погоном, а взять не может. Дивовался народ всей Тобольской округи, до чего в охоте везет черноореховским зырянам. И соболь, и бобер, и рысь, и мамонтов клык, а белка дешевле мыша. «Черт помогает», – решили.
Волчье гнездо это, пустынь белоостровская растянулась на три версты. Вверху, подле еланей, в пещерах схимников-пустынников не счесть сколь живет; спускаются вниз избранные на соборы только. Киновиархом, из жизни в жизнь, избирают род Выпорковых, от жены мученика начатый. Вели они жизнь суровую, пустынникам в науку, больше одного дитяти не имели, если сын – Александр, Александра – дочь. Как исполнится три года дитяти, мужик-отец в пещеры уходит, а жена киновиархом и хозяином остается.
Да-а, не знаю, ели ли они шаньги, булки такие есть со сметанной намазкой, – а я люблю… Я на них не сержусь, думаю – по праздникам разрешали…
Что и говорить, народ чудной. Родилась однажды у Выпорковых дочь. В день рождения, по обычаю, полагалось – вкопать на полторы сажени бадью меда. Первый выкоп бадьи – в свадьбу, второй – в похороны нареченного. Александрой, как водилось, нарекли. Опускают пятидесятиведерную бадью в яму, – на ней обруч и лопни. Делали обручи для случая, бадьи-то долбленые были. Обруч лопнул (кузнец-то слабый был и шатун-лодырь). Затрясся отец, блажной был, вроде провидца, Платоном звали.
– Худо ли, худо ли, худобушка!.. Не вынимать ей бадьи ни в свадьбу, ни в похороны… Сгниет бадья, пропадет бадья, не пускать туда ни ковша, ни ведра… Худо ли, худо ли!..
Не выждав положенных трех лет, в пещеры к схимникам-пустынникам в ту же ночь ушел. Думал – грех сделал: с бабой поспал. Виденье ему в юности такое было – не спать бы с бабой. Красавица была – польстился.
Молился Платон в пещерах неустанно. Большим почетом пользовался, ходили многие за советами, – сам он двадцатый год в поляны не спускался. В день съедал сухарь, малую чашку воды выпивал.
На двадцатый год его подвигов – хоть вокруг острова топи да гнилое дерево, лихоманочный комарь, тяжей грабителя – уродилась небывалая рожь: в закрома не влазит, стоит в скирдах необмолоченная, да и молотить некому. Руки и цепы поотбили. Собрался в декабре собор. Старуха, тихая жена Александра-киновиарх в стуле сидит, на котором лохматые собачки вырезаны. В горнице тишина, благолепь, прокажено ладаном. Старики на лавках, в бородах у них от старости плесень да паучки бегают. Говорит им благочестивая старица Александра-киновиарх.
– Допреж чем послать охотников-лыжников да Марешку-охальника к Трем Соснам, хочу сказать я вам немудреные слова, старики и схимники-пустынники… Глупые мои слова, бабьи, может, и слушать их не будете…
– Говори, матушка, говори, кроткая…
Александра-киновиарх строго всех оглядела, Марешку особо. Марешка – главный зверолов – «маз» был. Знал тверже всех тесь к Трем Соснам, окаянным его прозвали: в кои-то веки, тридцать лет назад, соблазнился понюхать у зырянина-купца табаку31. Марешке теперь лет семьдесят, а стоит в дверях – чин блюдет. Забормотал и он вслед за пустынниками:
– Говори, матушка…
Тряхнули бородами старики: такой не поперечишь. На што дочь – зверюга, а трясется подле двери соседней горницы. Старики все ж говорят для близира:
– Конечно, надо обсудить… Надумали что? Кто знат…
– Надумала, – отвечает им тихая старица Александра-киновиарх, – для продолжения киновиархского роду дочь свою Сашу за Гавриила – юношу Котельникова к сводной молитве подвести… Твердый и святой крепости он человек, и душа благоуханная и чиста, яко черемуха…
Потрясли старики бородами, друг к другу чинно наклоняясь. Святость святостью, а Гавриилу-юноше Котельникову доход от этого брака, как самовар – беззаботный.
Не устояла на стреме Саша. Звериным воем изошла. Порвала перины, карточное одеяло на полу, пух перинный, в слезах плавает. Тверд был, верно, в вере Гавриил-юноша Котельников. Молитву клал усердно, а на пещеры не очень заглядывался. Может, поспав с молодой женой, позже и в пещеры сбежал бы: крепок был душой, как кремень, а телом – как веник. А может, тисками да щипками умучил…
Идет коли Саша по деревне к изголовью острова, где мель и бывает такой разбой: вода речная разделяется на два рукава и перед изголовью, перед желтым песком синее волнение блещет, – идет посидеть на коряжине – в деревне будто парад. Глядит она в землю, а ресницами будто тень на душу кладет… Кому вдруг середь лета сани понадобятся, бежит к соседу – ее встречает, кто потерял кнут, кто и в молельню захотел. Взглянут на грудь, на сарафан – руками разведут. Не спят трое суток потом… Не девка, а яруха32.
Старики пошевелили языками, как гряды в затопленном огороде. Повела бровью Александра-киновиарх, как коршун крылом, старики в один голос говорят:
– Делай молитвы на сводный брак, будет роду твоему благочестивое продолжение…
Отпустили Марешке и лыжникам сколь полагается соболей, рысей и прочих шкур. Старица Александра-киновиарх наставление напутственное прочитала. Каждогодный наказ Марешке – к табашникам близко не подходить. Отвечал ей Марешка, поясно кланяясь:
– Победим диавола, матушка наставница, перепрехом…
Вышли тихонько сборчатые кафтаны за дверь, еще тише в избе стало. Слышит шорохи и стоны старуха… Дочь вся в, пуху лежит, не знают, как и помочь ей, гостиничные девки. Саша на мать глаза подняла: сразу прошло желанье сказать, что – не хочу за Гавриила-юношу Котельникова.
– Голова недужит?
– Ой, недужит, матушка, сильно недужит.
– Пройдет. На перинах не спи, положи две лестовки, пройдет. Да порадуйся: собор разрешил выдать тебя за Гавриила-юношу Котельникова. Спорить мне с собором где? На масляной свадьбу сыграем – надо мне наследника: видения смертные вижу, умирать пора… Женихом довольна?
– Довольна, матушка.
Посмотрела старуха на разорванную перину, клеть до свадьбы велела убрать, Саше на кошме спать. Старуха за скрепы, а у девки опять зенки в слезах. Пащенок33, а не дите, – воет, кошму ногтями царапает. Никуда не уйти, в воду не броситься, а как вспомнит ноги жидкие Гавриила-юноши, – под мышками вода холодная потечет.
«Юрцованили»34 охотники-лыжники с Марешкой много раз к Трем Соснам – все надивоваться не могут. Маленький такой, черныш да загорыш35, как чугун, стучит клюкой по деревьям, белкам подмигивает, смотрит все в пол, «маршрут» – бурак с припасами плечиками поправляет, и нипочем ему тайга и чернь, скалы и топи. Ближе в Трем Соснам – Марешка все веселей. Знакомо кругом, будто в табакерке.
Марешка зырян не любил: нажили на нем не одну «косулю сары»36, подушки себе в санях завели для мягкости. И то ведь – горносталей нипочем хватают, как белье на чердаке. А отойти в сторонку, согрешить, табачку понюхать, щепотку в сапог всунуть, побусить чайку – с зырянами любо.
– Дяденька, табак нюхать будем… – хохочут по дороге над ним глупыши-тянульщики.
Марешка брови нагнет, строгости – прямо старица сама.
– Вот заставлю лестовку считать…
Прошли они топи, камыши, положенные перед Тремя Соснами, на реку, так и до сих дней не названную, выкатились. На холме, словно из заморского чудесного камня, три дерева корой блестят, посредине работников раздумный каменный стул, и на нем сорока перья чистит.
Лежит по всей поляне снег нетоптаный – одни сорочьи следы. Бывало, раньше костров сколько зыряне нажгут: жадный народ, приедут раньше срока дня за три, боятся – барыши б кто не перехватил. По ту сторону полянки стояла избушонка такая, вроде баньки. Мену кончат, натопят баньку, попарятся. Охладится банька, на тех же полках – спи.
Баню протопили, пересказал Марешка свои непотребные сказки, – артельный чудак был. Сказки грешные, да ведь в походе и раскольникам многое спускалось. Зырян всё нету. Хоть бы на сердце для легкости метель. А то – тишина. Белка по ветвям скачет, как по струнам, – такая голосянка. За пять верст слышно как медведь в берлоге дышит.
Вот говорят – не играют трусы в карты. Марешка был трусишка, всей его жизни назначение – собачий нюх, а довелось ему в большой игре участвовать.
Стоит Марешка, с легкой «раструской» душевной, медвежье дыханье слушает. Взяла и его под конец оторопь, хоть и знает тайгу, как свою рубаху.
– Господи, спаси и помилуй, пронеси такой прислучай мимо моего двора…
Еще три дня обождали, а чтоб идти дальше, за Три Сосны, в помысел никому не пришло.
– Чума. За грехи на мир чума пришла. Пошто иначе зырянам не притти. Чудом мы сохранились…
Вытесал он, на случай, на сосновой коре раскольничий – дескать, были – крест… Еще немного обождали. Вздохнули, большой начал положили и пошли обратно.
Вот в Тобольске и находился тогда губпродкомиссаром этот самый Васька Запус. Претерпевал он многие штуки от своего сердца: любовь ведь, как темная карта – рубашкой вверх, кто знает, что она сулит. Тут не поможет и шулерство. И мешает опять-таки: ученому в занятиях, партийному в революциях, жулику – бестюремную жизнь вести. Одно понятие об ней – темная карта, и каюк… Вот, возьмите мое существование, гражданин…
Ну, эти всякие разговоры – хрящи, а не мясо. Значит, так.
Распоряжение вождя Ильича об нэпе еще не произошло37. Я не вдаюсь в рассуждение различных действий: мало знаком. Я отношусь к жизни фактически, а по моему фактическому воззрению – «тырба»38 на добычи была и «слима» – дележечка. Из верхних и нижних карманов брали. Так и надо, не зевай.
Вот, значит, сидит в тобольском своем кабинете Васька Запус. Конечно, в валенках, рукавицы, для случая, рядом на столе. Вместо колец на руках телефоны. Собой: «моргай»39 голубые, «сапай»40, как спичка, тонок, «хватай»41 красный, а на «острове-кивале»42 – золотая трава. Прямо хоть в песню.
Шофер снизу ему по телефону: кто-то бензин последний спер, надо шоферу для сварки лопнувшей части бутылку спирту. В хорошей шубе комиссару ходить не полагалось: скажут – спёр. Поедала тогда шубы моль, ворам и то воровать их было стыдно – вроде мертвеца. Запусу в полушубке козлином на санях в заседание ехать – застынешь. Появляется тут секретарь, услышавший злые разговоры. Секретарю что? Чин большой, сам беспартийный, – он тулуп носил и к тому же пуховую фуфайку.
– Вас там, – докладывает, – зыряне, по кулацкому сознанию от разверстки43 отвиливающие, желают для длительного разговора иметь.
Воззрился в его стекла Запус, пуховую фуфайку потряс.
– Гони их шире. Пускай разверстку платят, приму тогда.
– Никак невозможно. Дело, говорят, первосортное. Примите, пожалуйста, вне очереди, как международных делегатов.
– Да ты взятку упнул!
Замахался секретарь, негодуйно покраснел. В такое-то великое да расстрельное время – взятки. Сказал Запус грустно так:
– Вокруг советской чашки, будто вокруг волчьей ямы с булавами. Видно, пристрелю я тебя как-нибудь на досуге, любимый мой секретарь… Эх, разволновался я, давай сюда зырян-кулаков.
Зыряне все в барнаульских длиннеющих тулупах, красными кумачовыми опоясками перетянуты, шапки с плисовым верхом.
– Эх, вы, щетки-гребенки, граждане, что ж вы налогу не вносите?! Знаете – идет борьба не на живот, а на смерть на всех фронтах за социальное отечество… а с вас надо «старабачить»44 каких-нибудь пять тысяч белок. За такие дела-то… да со мной «не картавь»45, я по «херам» говорить могу.
И понес он, завяжи горе веревочкой…
Прерывает его самый красивый старик. Руками развел плавно, повел наикрасивейшую речь. До красоты Запус страдание всегда имел.
– Гражданин комиссар, белка – птица хитрая, а соболь среди всего зверя – как козырный туз. Сколько мук азартного игрока потерпишь ты, допреж ему в глаза попадешь, чтоб не портить шкурку. Мы тебе соболей в козках добудем: это значит – шкурку снимем без продольного разреза, будто рукавицу. Мы тебе соболя в пластинах принесем: это значит – с боковым разрезом, брюшко и хребет цельный мех.
Мы тебе… А только на войне наши души поизносились, дрожат наши руки, будто у картежника барина-угнетателя, проигрывающего свое именье… Трудно теперь соболю в глаз бить, много тратим усилий и пороху. Обнищали, захудали, посуда у нас чуман46 из березовый коры – где теперь чугунок достанешь? Жировики жгём с салом. Вот и надо нам для сбора такого налога в пользу комиссаров и отечества никак не меньше восьми чистых пудов пороху…
Отвечает, до слез пробитый теми красивыми словами Васька Запус.
– Дорогие граждане, вы мне рыжики – золотые слова не подкатывайте, я сам на колесах хожу47. Как же это восемь пудов пороху, когда по всей губернии, что размером с Францию и Германию, вместе взятых, всего девять пудов охотничьего пороху, не считая мильёнов патронов, которы мы всегда рады направить против врагов советской власти и всего… да… Надо вам столько пороху для поднятия восстания и наглого кулацкого бунта.
– Гражданин комиссар… – возражает ему старик. Но тут прервал его Запус громким голосом:
– Я тоже ел миноги и баклажаны, а вы идите, красивый старик, к матеровой матери. Устал я от автомобилей и спецов-секретарей… Беру я непродолжительный отпуск, беру свой верный отряд матросов и еду в ваши кулацкие селения мощными словами выяснить обстоятельства порохового дела.
«Ну, – думают зыряне, – спознались с корюшкой (палачом), не миновать нам кряковки»48. Ведь сотни лет лежали они на полатях, ляжки у баб щупали. Ружьишками, для близиру, больше на уток промышляли. Перед глазами все сизая утиная цель в воде. А вдруг вздумает веселый комиссар экзамен – как, мол, стреляют. Черт ее, белку-то, на вершине найдет. Кабы собака, а собаки все на уток учены. А коли веселый комиссар произведет учет ружей – их на все село три. Скажет – попрятали ружья. «Амба», конец зырянским полатям.
Собрали зыряне наикрасивейших баб и девок. Застольные песни велели вспоминать. Заготовить три мешка пельменей и Запуса у поскотины – у околицы «зенить, стремить». Пошли сами в лес, в землянки, самогон варить и придумывать такие красивые слова, чтоб наездить Запуса в своей любви к советской власти и губпродкому.
Вернулись лыжники от Трех Сосен тощие да бледные, как лен. Взад-назад сами на себе ведь сани тащили с мехами: лошадей в те походы не полагалось, считали – выдать может неразумная скотина заколебавшегося в древлей вере. Марешка трясется: мантов (плетей), а то и в бугры49 (пещеры) угодишь, спасайся там. Не помогало и «перепрехом» слово.
Как увидали Марешку раскольники, узнали про исчезнувших зырян, – буза поднялась по деревне. Прут, у выпорковского крыльца все стропила пообломали. Голосянками заходили по своей «музыке»:
– Без пороху, братие, будто без стомика.
А стомиком называется брус такой деревянный, его в углу печи приделывают. Верят, что без стомика печь развалится, а по-моему – брешут.
– Не всегда ж на рыбе жить.
– Богохульство брось! Мясо не нужно – чугунки, железа нет. Сено косить нечем…
– Брат, во что порох ценишь! Про волков забыл, про видмедя?
– Нужен тебе видмедь, коли сам всегда на бабе виснешь. Соболью опушку на кафтан захотел для прельщения.
– Сам ты плисовый кафтан во сне видишь, кикимора!
– Пес поганый!
– Ирод!
Началась тут трескотня. В эту пору из-за угла выходит Дионисий – схимник, начетчик и наставник, обходительный человек. За ним идут другие, спустившиеся с горы пустынники. Собор внеочередной. Положил схимник на смутьянов-спорщиков большой крест.
– Дьявол смущает вас, жгет будто пал-траву. Положите подите перед иконами по лестовке, – пройдет. Какое пороховое зелье человеку, для чего оно ему?.. Огнь адский и так тяжек, – для чего прибавлять грехов. Без пороха надобно жить, кротостью да тишиною, да молитвой. Плюнь на мир Антихристов, плюнь да забудь…
Вот опять собор сидит, трясет бородой.
– Кто тебе, Марешка, про чуму сказал? – спросила тихая старица-наставница Александра.
Марешка со страху будто гриб-дождевик склизкий.
– Следы… следы…
Видят – до грани струсил мужичок, глазами водит из угла в другой. «Звонка»50 нету, чтоб подсказать.
Понимает собор – дуга51, справочка-то52 хворая.
А другого подходящего лыжника-водителя нет, кроме Марешки.
– Поди домой, Марешка, неделю бей пять раз в день начал по семь поклонов…
Вздохнула.
– Днесь благодать святого духа нас собра, днесь надо направить к Трем Соснам…
Но тут пришлось ей повыше голову-то, платком темным укутанную, повыше поднять. Тряхнул веригами53, а вериги те от одного схимника-пустынника к другому по наследству переходили.
– Плюнь на мир Антихристов, матушка-наставница, не посылай туда никого. Прикажи птицу ловить кротко, силками, волка – ямами да самострелами, как деют то язычники-самоядь54. Пошли Марешку срубить Три Сосны, а потом в пещеры под начал ко мне пусть идет, грехи замаливает. Забыть надо грешный мир… чадо Антихристово рождается каждый день и час: грех и блуд прозываемый – треязычный Аполонзий…55
Подтянули ему в голосе против киновиарха другие пустынники, Митрофан-Голодун по прозвищу, Стефаний-Радостный, Петр-Благовестник. Да где ихним легким ковыльным голосом побороть поднявшуюся с лавки тихую старицу Александру.
– Полно, отцы святые, как муха-баба, в горницу влетевшая, крылья о потолок ломать. В пещеры-то вам хоть и малый, а запас нужен. Запасы-то селяне внизу добывают. Воды-то здесь студеные, работа тяжелая, – как при такой работе без железа обойтись? Землю суком ковырять не будешь. От волка ямами не спасешься. Окаянный блудник Марешка ничего доподлинно не узнал. Зыряне, небось, у Трех Сосен ждут… А коли не ждут – послать к ним, в мир.
За спинами старцев кедровые стены даже колыхнулись.
– В мир?..
– Узнавать про мир и что там доспелось – пойдет Гавриил-юноша. Сосуд сей хоть и юн, но мудрости полн, тверд и древлекнижие, яко губа заморская воду, в себя впитал. Так ли?
Церковь не сеть – плетена в сто узлов, а – в тысячу сердец. Однако ж будто сеть тряхнуть может ее пастырь мудрый.
Схимники только робостно веригами звякнули на те слова.
Преклонил тощую выю перед собором Гавриил-юноша. Марешка скорбно стоял у крыльца и думал: как ему с таким хлябал ем идти.
Саша-то, дочка киновиаршая, поспать, покушать да попрыгать любила. В горницах-то тишина всегда, ладан да унынь. Собор хоть и старики, а все веселее – хоть шаги слышно. Хорошо она угощала соборы.
Гавриилу-юноше говорит перед отходом:
– Ты там хорошенько смотри, в миру-то, подробно рассказать все чтобы…
Долго смотрела вслед. И нет метели, а кажется ей – метель подымается. И жалко и радостно. Постыл, леший, а кого еще? – все они на одно лицо. Лица синие да гнилые какие-то, будто дряблая береза. А тоже в мир понеслись, как желтые листья на-шарап…56
Галкин вдруг вспрыгнул. Братец Иванушка давно спал, сестрица Аленушка тоже, видно, устала и вздремнула. Сны, как видно, по бесстыдным ее глазам – беспокойные, горячие. Такой же сон и сейчас, должно быть, ей привиделся. Метнулась она яро бедрами – и вскинутая юбка освободила крепкое розовое тело. Галкин исступленно посмотрел на меня – заметил ли я, не дрогнул ли. До этого я все ждал, не проговорится ли Галкин, какая ж специальность и какие термины из всех, которые он при мне употреблял, ближе его ловким рукам. А тут увидал я, как глотает он слюну, в платок харкает, словно выхаркать хочет свою душу. «Сгоришь ты подле такой церкви, Галкин», – подумал я. Жалко мне его стало.
– Человек из-за любви в игре козырей забудет или с руками, полными козырей, колоду возьмет да и пересдаст.
– Так ведь вот со мной-то и бывало это! – воскликнул Галкин. «Шулер», – узнал я. Узнал, и еще жалче мне стало его.
– Здоровой девке много ли для успокоения надо, – сказал я.
– Меня девка и не интересует, гражданин. Девка, Сашенька, скажем, много что, с тела сойдет, если ничего не выйдет. А герой может и жизнь, и счастье потерять. Я вам сейчас о Запусе буду рассказывать.
Въезжает Запус со своим матросским отрядом в зырянское село. Баба наикрасивейшая с ведрами навстречу идет, смотрит на него от всего нижайшего почтения. Шубейка распахнута, качаются под кофтой телеса, как ведра с водой. Аж лошадь под Запусом подпрыгнула.
– Какие бабы-то на воле бродят, – говорит он.
Лошадь к ней повернул, а она вдруг в сторону шарахнулась, ведра на пол. Из-за сугроба рядом вылазит прямо на нее жидкий да большеголовый, как безмен, человечек в подряснике. Увидал церковь, сначала перекрестился двуперстно, а затем, разглядевши, сплюнул.
Запус с коня, маузер – к уху.
– Кто ты, слепыш, и откуда ты, контрреволюционное отродье?
А того больше маузера сапоги щегольские лаковые. (Запус их перед самым селом надел, а то все в валенках ехал.) Глаз не спускает.
– Свят, свят… табашники, никониане…57
– Или долгов много или дурак. Кудрявку-бабу испугал. Забрать его, товарищи! Такая харя только и может руководителем кулацкого восстания быть.
Зыряне как увидали раскольничьего начетчика, и на кудрявку-бабу с персидскими бровями надеяться перестали. Пробрало их с дробью. Раскольничьи доходы жалко терять, да и перед страхом – то ли согласились бы потерять. Страх хоть не тело, не дух – с крыльями, а и на нем к Бело-Ост-рову не улетишь. Ждать, чтоб начетчик-вертун дорогу показал… знали они раскольничью твердость.
Занял Запус ту избу, куда красивая баба ведра понесла. Оставил ее с собой для ведения хозяйства, караулы пустил вокруг. Поманного – с собой рядом: узел восстания, дескать, в нем, и начал вести красивыми словами допрос. Тот только дыхалом: «Господи, поми, гос-поми…» А когда Васька закурил – грянул псалом.
– Ты мне вола не крути, я белогвардейскую хитрость с мясом прошел насквозь. Объясни, пожалуйста, что ты за талыгай58 и где могла, от какого паука такая рожа родиться? Смотреть на тебя жохомно59.
А начетник, знай, псалмы тянет.
– Хорошо, что я в следователи не угодил, зря б паек жрал.
Плюнул Запус, пельмени начал есть, хозяйку, как бумажник свой, прощупывать. Безменный человечек в подряснике смотрит на пельмени жадно, голоден, курва. Отворачивается от Запусовых щипальных шуток – и никак не ест. «Экая, будто окорок, красивая твердость, – подумал Запус. – Пельмени даже не ест». Положил рядом с собой начетчика, чтоб не убег: на улицу ли, к кудрявке-бабе ли. Ревнив был Запус, как турок.
Спать.
А ночь-то душная: печка пышет, на голбце баба мясами горит. Ждет Запус своего часу и никак не может понять – спит его безмен или нет. К полночи так, поднял Запус голову: будто храпнул подрясник. Васька ноги с лавки, тело сразу затвердело, будто корень.
Прислушивается, а тот бормочет, как в табакерке, тоненько так.
Васька было – к голбчику, к бабе. Но победила революция. Решил минуту послушать сонное бормотание. Наклонился, со рта подрясник тихонько стянул, – запах из рта паршивый, гнилой.
Из пятого в десятое разобрать можно. Бормочет: «Братия, Белоостровье, тихая обитель… спасители веры истинной… матушка-водительница… Сашенька… Приду… приду… разузнаю, разузнаю… принесу… принесу»…
– Белоостровье… – сказал Запус. – А что-то такое за Белоостровье? Да как тряхнет этого чудака, как пивную бутылку.
– Белоостровье, что оно? А тот спросонья и заори:
– Ждут!
Запус – маузер за аркан, хозяйке-красавке к уху:
– Веди сюда немедленно самого красивого… с бородой! Караульные долго хохотали бабе вслед: бежит, шуба надета прямо на рубаху, а рубаха задралась выше колен, сыра да тесна, – тело-то как яичко.
– Прохватил! хо-хо!.. От него побежишь!
Заиграл у зырянских бород Запус стальным чемоданом:
– Тут вам не кругалку-репу глодать, граждане, тут революция… Ведите на Белоостров, к штабу контрреволюционеров, прямо наш матросский отряд. Красивый человек назначение жизни – как морковь понимает. Ты, красивый и красноречивый старик, будешь у меня за главного спутника… Выменивай свою жизнь, а то конец ее назначению… не за иголку в бороду все шесть пуль шмякну!
Красноречивый зырянин так и плюхнулся на лавку, как булка. Расстегнуть у рубахи ворота не может.
– Мы ж тебе пельмени… мы же бабу… а в Бел-Остров дорога нам известна до Трех Сосен, а далее тропы раскольничьи, по тесь, по скрытым приметам.
– Мы без суеверий, у нас на все прогноз. Натягивай теплухи и веди! – сказал Запус, аркан вокруг маузера заматывая. – Веди пока до этих самых Пяти сосен, а там разберемся… А бабу вашу я не загорбил, не нравится она мне, телом жидка и вообще сварлива.
Неизвестно-безменный человек сам на лошадь не сел, пришлось его привязать веревками. Да и лошади скоро не понадобились: тайга, снега глубокие, как море. Матросы, понимавшие в лыжах, – с Запусом, а безлыжные в село вернулись. «Похлился отряд на стуках»: значит, пешочком, своими ногами, с мешком на горбу.
Запус весь в наблюдении за безменным человечком, отставать тот норовит, пошатывается.
«Экое упорство, – думает Запус. – Может, действительно, не штаб там белогвардейский, а монастырь». Спросил красноречивого зырянина, давно ли на острове раскольники и много ли их там.
Уксусно отвечает ему красноречивец: раскольники живут давно и много их наплодилось. Тысячи, а какие – неизвестно.
– Сеют?
– Будто сеют.
Запус тотчас же велел замки винтовок проверить и посожалел, что не захватили с собой пулеметную чертоплешину.
– Тем более, если сеют. Хуже заговора: почему не платят продразверстку в напряженные моменты…
И понес…
А собаки зырянские в снегу катаются. Говорит Запусу красноречивец:
– Метель будет.
А Запус весь в расчетах – сколько же можно продналогу собрать с раскольников? Может, их там целая волость.
– С десяточек бы нам таких островов пооткрывать, с честью бы мы тогда по всей губернии продразверстку выполнили.
– В карты играешь, а мастей не знаешь, – упреждает его зырянин. – Собаки катаются, метель будет.
– Не буси, ты на собаку не смотри: что она – умнее человека? Вот кабы барометр… мог бы безусловно поверить.
А безменный человек, услышав про метель, успел улыбнуться, Запус ту улыбку не видал, но по дыханию понял.
– Ты, гражданин, хитрость-то брысни, не сласти мой сахар. Думаешь – метель нас возьмет. Шалишь! Теперь даже всемирный потоп будь, я вас с вашими овинами под морем найду. Все топи и болота мелиотирую, леса повырублю, «больше широва, тем склешевей»…60 Так живем…
Хвастливые слова на безменного человечка – как залежалый и праховый товар.
Тогда сказал Запус:
– А известно ли вам, гражданин, что в России скоро десятилетие советской крестьянской власти и давно царь свергнут? Что Россия без царя живет?
Человечек встрепенулся, потянулся к Запусу. Тот велел путы ему развязать. Будто впервые разглядел человечек на шапке Запуса красную звездочку. Начал чудить.
– Христос, Христос, звезда вифлеемская, осанна…
Староверы – народ сплошь иносказательный, понять такого где веселому матросу.
Закурил лишний раз Запус.
– Там, на местах разберемся. В речи какой-то близир, а вообще-то черт их разберет!
Хотел, видно, безменный человечек порасспросить, что-то забродило в нем: две тропы более кратких показал даже, а там скрытость кержацкая победила, опять стих и псалмы загнусавил.
Скоро побежала среди мелких сосенек поземка, лыжи стала засыпать, валенки. Поднялась выше, и маковки сосенок скрылись в снег, будто вор в удачную кражу.
– Метель, – сказали зыряне. – Влопались мы.
– А далеко ли до Трех Сосен, граждане?
– До Трех Сосен, товарищ, пять часов еще ходу.
– Труба! Кроем! – и кинулся быстро вперед Запус. А где ж было успеть…
Как ударило по верхушкам кедров, как засвистало, сугробы из-под ног валами вверх пошли, а ветки кедров будто по ногам ударили. Снег аж синий сделался – никогда такого снегу Запус не видал. Прислонился к стволу, на минуту ошалел даже. Вспомнил раскольника-начетчика, закричал:
– Вяжи его, сукина сына, убежит!
А безменный человечек успел лататы задать61. Унесло его от них, как снежинку.
Держась за вожжу, кинулся Запус в метель, весь маузер разрядил. Пустой вернулся к товарищам, что хороводом вокруг дерева.
– Достану, пускай только стихнет. Не быть мне продкомиссаром, если не достану.
Зыряне – народ смышленый, вынули топоры, кедр срубили и полезли на него: в ветвях сидеть удобнее, высоко, снегом не занесет. Просидели такими воронами сколько, не знаю, часов. Лыжи к плечам привязали, жуют сухари. Мести – мети, тайгу ведь не сметешь – по снегу идти все равно: саженью ли выше, саженью ли ниже.
Метель кончилась, следы начетчика унесла с собой в кармане.
Запус торопит свой отряд к Трем Соснам. Думает – перехватит начетчика. Награду обещал: снять продразверстку, кто первый прибежит. Зыряне и вдарили, пар столбом от них, рожи алым-алы, тело сухое, а они наклонятся кой-когда, бороды снегом помочат и дальше.
Выбежали к Трем Соснам.
Поляна чистая, снежная. Посередь Трех Сосен камень, на камне сорока сидит, перья чистит. Был ли, нет ли человек – разве сорока скажет?
На запад от холма, в толоконниках сугроб большой виднеется, идет пар из какого ни на есть отверстия, будто из медвежьей берлоги. Начали копать, докопались – землянка. Снег от дверей откидали, и сшануло в рыло им банное тепло. Камни в каменке горячие, стоит на столе туес с просой, и рядом – рукавица.
Запус эту рукавицу – будто злодея за горло.
– Здесь он, поблизости! Я этого Сусанина62 схапаю, он у меня получит в лоб свинцовую разверстку!
И такая морда стала, даже матросы со страху заморгали. Зыряне – хоть в каменку. Проморгались, а от Запуса только след по камышам. Видно – здесь грудью камыш растерт, здесь расшвырян, а там ногой упирался.
Зыряне в камыши идут нехотя, всё липнут друг к другу, как старые карты.
Сумерки надвинулись. Пришлось вернуться в избушку. Костер зажгли. Стреляют по очереди в воздух. Поземка вновь.
Зыряне трясутся: заметет следы, кому отвечать? – им.
Кинулись в ночь.
Шарят.
Воют.
Нет Запуса. Пропал Запус.
Заблудился! Конец его красоте!
Весь день метались по камышам, следы занесло, камыши и так спутаны, как волосы от долгого сна. Где тут разобраться? И верно, пришлось ответ держать зырянам перед матросскими шинелями. Постреляли матросы весь запас в воздух; по пять патронов когда осталось, стабунились они в злобную шайку, сказали зырянам:
– Затырили вы, халдеи, нашего камандера, Ваську Запуса. Вся эта лавочка вами подстроена, нет у нас теперь индивидуального террору… как поляки Сусанина убили. Берем мы вас, кулаков-богатеев, под пролетарский суд в заложники.
И наикрасивейшие зырянские бабы не помогли: от баб матросы не отказались, но зырян всех, у кого в селе Черно-Орехово было в избе более пяти окон, увезли с собой.
Урожались и на Белом Острове постельные девки-дряпки63. Только их по соборному слову в такие места ссылали, что через год – клади в колоду, да на кладбище. Мужики каялись, что тревожили сердце на этаких мордоворотах. А тут вдруг появилась дряпка Авдовка: собой невеличка, а в год почти со всем островом переспала. Сослал ее собор, через положенный срок вернули, думали – сгнила на гольцах-то, в рыболовных промыслах. А ее на тех гольцах расперло вдвое шире, щеки крепкие да быстрые на улыбку. Прямо красная рыба. Поселилась в хатенке своей, ходит в темном, платком укуталась – глаза да нос видно, у наставников молитвы берет. Смиренница. А в хатенке от мужиков проходу нет, порог броднями стесали, и пропахли все пазы в избенке едким, до жжения глаз, блудом. Видно темной ересью запахло в селе.
Имелось в горах, за березовыми дубровами, било64 чугунное. Из Перми предки привезли. В столетие столь вызвонилось, – как ударят, так словно стеклышко покатится по всему Острову. Вставали бабы по тому билу на доение коров. Ночью, слыша его, с умилением вспоминал народ о молитвенниках-схимниках.
Утром раз проспали бабы вставальную пору.
И в обед и в паужин молчало било.
Разговор появился: расспорились будто схимники – слово придумали. Какое слово – никто сказать не мог, даже и догадываться боялись.
А в паужин встретила дряпка Авдовка у поскотины, там, где идет дорога в скиты (и зачем ее направило зимой к поскотине – никто спросить не догадался, такая муть нашла), увидала старца Митрофана-Голодуна. На камне стоит, благословляет село, лес, суметы65, а пещерам грозит. Посмотрел на нее, пальцем поманил. Со страху трое суток не могла спать с мужиками, затвердела и засохла кожа, как у змеи в линяние. Решили – могилу намекает ей старец, а получилось другое.
Прибежал Гавриил-юноша с лыжниками.
Первому встречному брякнул: в Руси царя нет, народ в крестьянской вере утвердился, ходит под вифлеемской звездой, во всем сомневается и – скрытен…
Больше всех обрадовалась дряпка Авдовка. Медовухи достали такой, что небо жжет (своя свадебная, да и многие прочие бадьи выпиты были давно). Блуд в хибарке неудержный пошел.
– Ссылать – так ссылать, гольцы – так гольцы!..
А собору не до Авдовки. Скамьи повалены, шум и гам, схимников-пустынников с горы полную горницу наперло. Кто поет, кто плачет.
Тут Гавриил-юноша хватил себя за бороденку – лишнее брякнул. Главное, сам понять не может: старая вера в миру или никонианская. Зачем народу царя прогонять, если не из-за старой веры. Поверить златокудрому воину, привести с собой – может всю почесть выхода из тайги на себя принять. Правильно, что сбежал.
Пустынники – как дети. Перестанут псалмы петь, кричат:
– Осанна, конец мученическим диадемам, восторжествовало двуеперстье по всей земле, прогнал народ Антихристова царя и его слуг! Люди Христа ждут, ходят под вифлеемской звездой. Зелье пороховое отменено, и оружие на орала перековано!66
Цыкнула тихая старица Александра:
– Опять ничего твердого в вестях не имам. Может, и к нам шел воин Андонисий67, может, это и Антихристов слуга под ликом Христа. Дельное доспел Гавриил-юноша, скрывшись от воинов. К Трем Соснам сама поеду, познаю святую истину.
В сенях Саша поймала Гавриила-юношу, за перехват выше кисти уцепилась:
– Правду ли говоришь, что древляя вера пришла и в Русь уйдем?..68 Реку Иртыш увидим, Пермь-город, Волгу, все, что в песнях поется? Про Андонисия расскажи: шлем у него какой и меч есть ли?..
Гавриил-юноша только рукой отмахнулся, – в другое время и рад бы слово получить, а тут ушел. Хотелось ему, вишь, подражать примеру древлих отец, киновиархом многих обителей быть, жить вволю. Есть хлеб ячменный, да чтоб ячмень тот рядили чистые жены: у каждого ячменного зернышка скорлупу ножиком соскабливали, чищенные таким манером зерна мололи в особой мельнице. Варили живую рыбу чтоб ему, лапшу делали из топленого молока со снимаными пенками…
Мудрят многие, а мудрецов нету.
До самого отъезда киновиарха-Александры ничего не придумал.
Запрягли в росшивни69 чубарых могутных70 коней. Туман над горой Благодать поднялся кверху – будет вёдро. На облучок Марешкин ученик-лыжник уселся, – сам Марешка прихварывал. Заиграли соколки – грудинки у лошадей, снег засвистал, ямщик гикнул, – и нету в селении старицы.
А в зырянской деревне Черно-Орехово так было: бабы зырянские, на луне избалованные, изголодались из-за войны по мужикам. Не успели вернуться, на полатях расположиться как следует, – тут и увезли матросы мужиков в тюрьму. Печь без мужика сколько ни топи – тело с одного боку жжет. Думали-думали они над постелями, плакали-плакали они над одеялами, отрядили сколько ни на есть баб к Трем Соснам: коли раскольники выйдут, выкупить у них комиссара Запуса или обманом к ним дорогу на Бел-Остров узнать. Сидят отряженные бабы в охотничьей баньке. Попарятся, в снегу поваляются, чайку попьют и опять ждут. И происходит такое дело. Вкатывают на рассвете к Трем Соснам сани-росшивы, ковром крыты, в коврах строгая раскольничья мамка сидит. Выходит из саней, батог у ней толщиною в завязь руки.
– Правда, жены, что на Русь старая вера возвратилась?
Которая баба похитрее, чтоб в добрые войти, нужное выпросить, говорит:
– Пришла, матушка, пришла.
А самая что ни на есть молодая, по мужу наискучавшая, выскочила вперед:
– Ты, матушка, сколько за комиссара выкупу хочешь? Как к вам поближе на Бел-Остров пройти, сторговаться?
Хватила ее батогом по голове старуха.
– Соглядатаи, Антихристовы слуги, кого караулите, кого обмануть хотите?!
И ни слова не говоря больше – в сани, перекрестилась на восток, и помчали обратно ее могутные чубарые кони по камышам да по скалам, будто по облакам.
Бабы молодуху бить, да только толк-то из того какой?
Уехала тихая наставленница Александра, по селу некоторое послабление прошло. Мужики кафтаны расстегнули, не так сдвигают низко на лоб бабы платки. Бывало, не переспишь, из-за смертной болезни в молельню только не придешь. Заглядывала сама в квашни – не скоромно ли; медовуху-брагу пробовала – не очень ли крепка.
Укатала молодежь гору, полила до синевы водой, настроила салазок: масленица и – никаких.
Катушка с горы – прямо на лед, где Саша летом любила по вечерам сидеть. Разбой там у самой изголови острова, вода речная на два рукава разделяется. По ту сторону камыши бескрайние, за камышами топи с медно-ярыми окнами да синие кочки. А на кочках – леший да сестры-лихоманки.
Народ-то, молодяжник, вокруг Саши будто ребятишки: малый, кривоногий, слабый, лицами все болотисты, безбровы и будто безглазы. Она салазки успеет три раза прогнать, а парни и по одному еле-еле, дойдут до верху катушки: глаза на лоб, лопнуть хочут. Подумала Саша: «На Руси народ-то таков ли?..»
Повыше катушки лесок, за леском елани-поляны, за еланями – пещеры пустынников. Никто не догадается даже, что схимники-пустынники, один от другого прячась, повылезли из келий-пещер, за камнями, за корягами прижались – и слушают, как по морозу к ним девичьи голоса через лес несутся. Колени дрожат, по бородам слюна течет. Пакость!
А Саша глядит это вперед на сугробы, что как волны, на бескрайние камыши, на синие согры за ними да на синий осиновый лес за сограми.
– Эх, и укатила бы я, девоньки, далеко-о! А тут под ухо ей:
– Лети, Сашенька, вот!..
Гавриил-юноша с салазками, Марешке заказывал, полгода обещал дарма кормить. И доспел же ему Марешка! Полозья широки, будто у лыж, ни в каком снегу не увязнут, а по льду мчатся – посредине выступает шириной с мизинчик дорогая стальная шиночка, по бокам оторочена она, для снежного скольжения, шкурой с ноги молодого лося.
– Дай, Сашенька, я позади поеду. Править буду.
А та в смех.
– Править хочешь? Вот сведут нас на молитве, будешь править. А сейчас голова перевесит, санки опрокинешь.
Подруги смеются. Отшила, выходит.
– Сама править буду! Их, и полечу-у!.. Поднимусь вот как повыше, да оттуда…
К самому лесу почти ушла.
Села. Крикнула. Схимники за лесом соком изошли. Остался позади черный безмен, Гавриил-юноша. Платки девушек-подружек мелькнули мимо. Наледь катушки взвизгнула под шинами санок.
Руки у Саши дубовые, правильные палочки не дрогнут. Лед из-под полозьев звенит, брызги-то холодные да серебристо-синие, глаза порошит. Быстрее, сильнее!
Платок слетел. Косы по ветру, как ледяная стала коса. Кончился наливной лед. Конец катушки.
А она – уже на реку! Копна пушистого да горячего снега – в лицо! Шипит под полозьями камыш, по глазам хлещет, острый такой. А санки все дальше и дальше… А Саша-то:
– Так, так!..
Ну, а тут санки – на кочку, Саша – колесом и в сугроб, будто в сон…
Барахтается, валенками пурхается – и, на тебе, вдруг перед лицом протягивается ей на помощь лохматая рукавица. В камышах над ней, на лыжах, с палкой, с котомкой, в остроконечном суконном шлеме, в желтом полушубке – кто?., а сам исходит мелкой морозной дрожью. Губы алые, а поверх легким ледком покрыты, будто лаком. Говорит, а лед сыплется:
– Кра-а-аса-вица… меняю свою жизнь… как бумажник. Шири-мури, давай руку, подниму.
А где поднять, сам еле стоит. Девку ж ему всю будто часовую цепочку видно.
– Думал мир на-шарап взять, а чуть на небо не угодил. По сарафану судя, буду я, красавица, на Белом Острове. А?.. Насчет про-ле-та-ри-ата… Не могу такое слова на морозе говорить, не русское слово. Температуру для такого слова – пятьдесят градусов баня…
А та его видит, на него – словно через ледяную сетку: все лицо у ней в снегу. «Бредит, – думает, – парень-то, изошелся»…
– Ты шары не пучь! Натягивай теплухи, беги! Или до-но-си или – хлеба. Жрать хочу! Пять суток по сугробам, за все время – зверюгу какую-то пулей, да и ту наполовину разорвало. Система «Маузер», не для такой охоты. Жрать хочу я… я жрать хочу, ну?!
Опамятовалась, наконец, Саша, рукавами затрясла, санки подхватила – и в гору.
Запус и вслед ей не посмотрел.
Саша на гору вскочила, будто на три ступеньки. Сунула салазки Гавриилу-юноше, – подожди, дескать, домой сбегаю, в пимы снег набился, портянки мокрые.
Насовала в рукава хлеба, из горшка мясо выхватила, в тряпке сунула за пазуху. Бежит, а грудь жжет – не то сердце свое, не то варево.
Выхватила у Гавриила-юноши салазки, и весь путь уже и ни снегу, ни льда, ни камыша не чувствовала. Все-то ей кажется: тихо санки летят да – того гляди – опрокинутся. А парни да девки вслед ей гикают, за камнями пустынники любовным соком исходят:
– Нашего сукна епанча, – говорит ей Запус, вырывая хлеб. – Славно едите… спасибо. Запасов, видно, много?..
Мясом чуть не подавился, а как съел – в сон поклонило.
– Тепло, как сапожнику за верстаком. Теперь бы рюмочку. В сугроб влез, ноги поджал.
– Теперь ты, девка, примечай, куда галки летят, раз у тебя душа общественная. Ночью приди, уведешь меня в овин или во что похожее к нашей продовольственной части, черт бы ее драл! Я с мыслями соберусь, перхунчика одного тут прищеплю, да мне обратно…
Косы ей голову назад оттягивали, лицо-то на пригорке – как церковь. А под бровью и строгость и милость.
– Погибну я из-за красоты. Ведь если этакая пожалеет, в раскольники нетрудно перейти, да что в раскольники…
Вечером перевела его Саша в старую брошенную баню на задах Выпорковых пригонов.
Зажег Запус спичку, осветил, поглядел ей в глаза:
– Ишь, моргалы-то вырастила!..
Раньше баб крушил, будто кедровые орешки, а здесь – в груди теснит, в виске бьет, и даже нижняя челюсть ноет.
Трех слов сказать не мог, не то что, по старой привычке, за чресла71.
Высунул голову в предбанник, заскрипели за Сашей тесовые ворота, собака гавкнула – тоскливо так.
– Да, жизненка-то не бумажник, не все прощупашь. Куда бы хорошо в губпродкоме на пленуме сидеть, со звонком доклад слушать. Они теперь, небось, сидят, место для моей могилы выбирают72 – куда почетнее похоронить. Обязательно на площади зароют, а там грузовики мимо-то, черт бы их драл… да…
Про дряпку Авдовку много болтали. Некогда болтовню было слушать, а по-моему, напрасно: через постельных таких дряпок отлично судьба разбирается.
В соборе шум сколько дней, иносказаньями весь смысл речей забили. Дошли до того, что стали обсуждать, кто на каком месте должен стоять, когда придут из «мира» посланные за светочами истинной веры. Главную муть начетчики-пустынники разводили. Сидят пятеро в ряд, торопиться им некуда, над каждым словом мудрствуют, под каждое слово або текст из священного, або мудрое иносказание. Старцы в «мир» хотят, веруют, а тихая старица Александра да Гавриил юноша – сомневаются. Вот и судят, а стольники замотались, за хозяйством приглядывать некому: Саша только в скотный двор и заглядывает, в иное место ее и не выманишь. Все сама убирает на скотном: сено задает, воды из колодца в колоды начерпает, убирает навоз. Смирения – не подступись. Обет, что ли? Про жениха и забыла, а тот совсем премудрым своим умом заболтался. Надо, грит, ждать – придут из «мира» с поклонами. Со схимниками ехидничает: что вам, дескать, «мир», когда жизнь ваша одной ногой в загробной жизни, – еще не доживете, не вытерпите перевозу… Куда спешить?.. А схимники: «А если где еще остатки старой веры сохранились, да если поискажена та вера, да если раньше нас в „мир“ придут?..»
Шумят, орут. А под окнами начали мужики помоложе сбираться. Встанут и слушают, отойдут, пошепчутся – и опять к окну. На лицах-то сумление. Шутка-то простая, а на Белом Острове не виданная. Да-а…
Старицу Александру юноша-Гавриил таким образом под клюв ухватил. Было, грит, мне видение. Глас возопил: «Явятся семь покаявшихся никонианских епископов на поклон Бело-Острову. Топи высохнут, и по сухой дороге в цветущую весну, посреди черемухи и боярышника, пройдем мы в „мир“ с благими вестями».
Поверила или нет – не знаю. Чего ж не верится, и на самом деле могло ему такое присниться. Ел мало, ночи недосыпал, на тело девственник.
Указала старица на провидца и громким голосом, будто доход получила, говорит:
– Бороды у вас, схимники, по чресла, а ни одному из вас не было видений, не удостоил бог. Се кроткий юноша указует нам стезю к труду, ожиданию и молитве. Будет время, церковь, яко утица крякнет, по всему миру звякнет: утята побегут. Подымите лестовки с подручниками73, очистите себя от грехов, достойно да примем семь никонианских раскаявшихся епископов. И будет тогда зело радостен и светел собор.
Старцы-пустынники вериги перетрусают, не успокаиваются.
– Посмотри в окно, матушка-наставница, голос молодого естества ходит под окнами… ждут, чтоб в «мир» уйти. Како, кроткая мати, мы усмирим сие естество?
– Бейте било на всеночные бдения. Будем читать и пояснять им Маргарит, Ефрема Сирина74, псалтырь старопечатную… живым, простым толкованием. Позовем премудрого старца Платона… Пусть будет им любо посидеть в молельной, повздыхать до самого донышка сердца и всплакнуть не один раз…
Вышла она за ворота, а там у высокого бревенчатого забора стоит моло-дяжник и пимиками о забор постукивает.
– Што вы тут, мокрецы, ходите и лапами о завалинки, яко псы, истекающие похотью, стучите. Ступайте по хлевам и пригонам, будьте кроткими пастырями, у ягнят учитесь кротости, у вола – терпению, если не может вас человек научить. Эвон Саша-то, дочь сама себя на работу сослала… А пока в молельню подите. Наставник придет – положите по лестовке, наставление прослушаете из Сирина…
Один, розовый такой, по фамилии Пономарев, рот было открыл, да не услышала старица, задавили его все возгласом:
– Аминь!
И пошли – к Авдовкиным воротам. Которые сутки бродили за ней следом, на четвертые – взбродили, а на пятые как влипли, так и не отставали. Вот тебе и лестовка.
А старица к образам вернулась, кости-то старые, тяжело гнуть. Помощь да вразумление долго не даются. Петухи запели, било зазвенело на горе Благодати. Метель над островом понеслась. Занесло дорогу к Трем Соснам – будто и мыслей не осталось об этой дороге. Волки в тайге завыли. И на долгую молитву встали пустынники.
Ведь будто в тюрьме сидит человек, Запус-то, а поди ты: свесит ноги с полки, в окошко, пузырем затянутое, глядит и насвистывает. Пока свистит – ни о чем думать не хочется, как перестанет – сумрак какой-то из окна полезет, об могилках раскольничьих думать начнет: когда в баню крался, то мимо кладбища. Голубцы такие над могилками стоят вроде бревенчатых срубов, кровельки двускатные с крестиками. Тоска. А главное – внутри сосет. Не от трусости… Трусость-то, он понимал, какая была (это вы не верьте, что будто есть такие герои – не трусили: из сказок таких выудили), а вот непонятно ему, почему не может девку лапать, пока та губами не поведет так просто – все поймешь. За девку готов сгореть, за девку… Э, да что тут описывать! Пожары бывают, тысячи верст сгорает тайги, самой сокровенной скрытности, а тут один человек… А вот в тайге разберешься, в пожаре, а в человеке…
…Простите, я все на себя сворачиваю, у меня тоже Запусова мука, однако же говорить об этом – лишнее. Уж я вам одну сказку окончу…
Метель, пурга началась, и смог он тогда ночью протопить баньку, а то дюже холодно было. Тоже топка-то смешная была, да речь-то не об этом. Помылся он противным раскольничьим мылом, гнилыми кишками пахнущим, с души будто слегло, а немного спустя опять нахлынуло.
И чтоб Сашу ждать – не ждал очень. Да и она войдет, подойник поставит, улыбнется туго, как будто не умеет.
– Хватит? – спросит.
– Хватит, – ответит Запус и засвистит полегоньку.
Поправит она ему на полке провизию, вкось посмотрит на кудри его. Баня-то по-черному, сажа на стенах будто бархат, а кудри-то по саже золоты, будто хмель спелый. И уйдет.
При такой штуке никакими инструкциями не поможешь.
Собор кончился, пустынники ушли в горы. Одолело вдруг Гавриила-юношу сомнение: почему Саша на улицу не показывается, наложила обет, в пригоны ушла. Призвал он Марешку:
– Буду тебя держать в сале, как окорок, еще год. Проследи и допытайся, с чего это Саша на улицу не показывается, меня видеть не хочет… Да не обидь, ты ведь на язык дерзок.
Марешка – рад. Ходить ему по людям, что по зверю. Сумерок дождался, поскитался по обширному выпорковскому двору. Только Саша с подойником на двор, он за ней. Пригоны там крытые, да и дворы кроют часто. Сумрак. Марешка-то и так не больше суслика – где увидать. Да она и не оглядывается, спешит, задержали в горнице, думает – проголодался парень.
Запус-то в этот вечер стабунил себя: надо ж сказать ей, если о своей душе не может, то о социальном перевороте-то на Руси. А то что ж получается? Откармливает, как борова, колода готова, а в какую игру сдавать? Она в дверь, Запус трубой с полки, и только она рот открыла спросить: «Хватит?» – смотрит он, что за диковинная морда из-за подола у ней в баньку пялится. Коробка спичечная – не коробка, глазенки, словно гвоздики стертые. Запус подозрительность за плечо, прочь – и потяг человечью диковину.
– Ах, ты, зеница, куда-а!..
А тот из рук – будто сальный. Запус его уже в сугробе догнал. Для прекращения крика всунул его пару раз головой в снег, в баню втащил.
– Запали-ка, девка, светильню… По-моему, сигун75 это от Трех моих Сосен. Колодник, а ну-ка, за горбом какая проскамедия!..76
Раздул он в каменке уголья, к огню Марешку подтащил.
– Марешка, – объяснила ему Саша, – лыжник-путник наш, тропы ведает к Трем Соснам.
– Вроде разведчика?
Не поняла.
– Передовой?
– Путник.
– Я сейчас у него все выскребу.
Шарфом ему рот завязал. Саша от смеху даже плечиком повела. И Запус рассмеялся, по маузеру пальцем постукал.
– Ты, как тебя, морковка! Я тебя буду допрашивать, а ты головой кивай. Не понравится мне в каком месте киваешь, кирпичом по башке и в прорубь. Понял?
Кивнул.
– Из таких инструментов толк слышал? Кивнул.
– По какому случаю, слышал? Кивнул.
Погладил Запус маузер.
– Хороший чемодан, действительно.
И Саша тогда пальцем маузер тоже тронула. Пальцы у ней легкие, будто птичье дыханье. Положил на ее пальцы руку свою Запус – и даже Марешку погладить захотелось. Наклонился, а она губами шевельнула. И будто река в сердце к Запусу хлынула. Ласково так говорит Марешке.
– Помирать ведь никому не хочется, жить ведь надо. Может, поведешь ты, мой друг, нас к Трем Соснам, обвенчаешь.
И кивка ждать не стал, спешит.
– Я тебе всю контрреволюцию прощу, дам тебе должность в губпродкоме, кашеваром в свой отряд назначу, и дослужишься ты со временем до ордена Трудового Знамени77. А?..
Кивнул Марешка. Поцеловал его тогда в паршивые его губы Запус, поцеловала и Саша. Путы сняли, принесла немного погодя Саша три калаузика, – мешки этакие, опушку стягивают шнурком, вместимостью в пуд, за плечами лежат как живые горбы. Лыжи добыли, да и ночью по сугробам собаки их проводили через камыши к осиновому голубому лесу, к сограм. Собаки там отстали, повыли на волков и вернулись.
Поземка – счастливица и несчастливица, ей все равно – неслась. Ходоки веселые, и ей весело. Снял Марешка шапку, положил большой крест.
– Ей-богу, барин, думал – мне не жить. Ночь-то синяя да месячная, лыжа-то веселая, легкая, далеко умахаем за ночь, а ты все равно не тужи: где им меня ловить, кожеедам. Я вас такими тропами поведу, и волки не знают… Зато уж в городе и накурюсь же, господи…
Горе-то материнское в песнях все перепето, а лучше песни как расскажешь. Судите, гражданин, сами. На Острове матери-наставнице, будто в улье матке, почет. Шапку перед ней снимали за два переулка, в молельне – первое место, и в раю ж место уже уготовано.
А тут дочь-то сбежала, да с кем: табашник, старикашка, Марешка-охаль-ник, нетяг.
Будто смолой затопило сердце у старицы. Молодежь было кинулась в лес в погоню, сказала старица:
– Не надо, до конца хочу терпеть. Слаба была с ней, бог наказывает.
А где там – слаба! Хотела вспомнить, целовала ли ее взрослую, и не смогла припомнить такого случая.
– Слаба, слаба… – утешает себя.
Ну, тут схимники-пустынники и начали всяческие мысли, как лапти на одну колоду, плести: без города Тобольска теперь не обойтись, дескать, епископов раскаявшихся ждать, дескать – куда… Спустились они толпой с гор и прямо к кузнице, вериги расковывать. Кузнец у дряпки Авдовки был. Так что ж вы думаете… Ошалел народ – поперли к Авдовке. Не знаю, скорей всего – брешут про схимников-пустынников. Кузнец-то будто пьян был после медовухи, на Авдовкиной кровати храпел. И будто схимники раскачивали-раскачивали его, устали, один и пригуби медовухи. Шире-боле, дальше – толще. Пошло смущение по пастве: умудренные в книжной премудрости уставщики, поседелые над молитвой, кровью-то не охладились…
И как узнала о том тихая старица Александра-киновиарх, волосы седые распустила, бежит по улице, кричит:
– Прости меня, господи, окаянную! В грехах, в непотребных мыслях зачала дочь… Сына еще хотела, мужа остаться уговаривала… мужа, святого старца от спасения души уговаривала… Святители, угодники!..
Распахивает Авдовкину дверь. Не знаю, от старости или от плоти ли взбунтовавшейся, а может, и от долгих молитв разумом рехнулся, – только посереди прочих опившихся пустынников лежит, уткнувшись в голую Авдовкину ногу бородой, лежит, пьян и мерзок сам, не спускавшийся с горы девятнадцать лет великий схимник-пустынник Платон Выпорков.
Остальное брехня, да так уж – из сказки слова не выкинешь: будто батогом била старица пустынников, будто самого-то велела помоями облить и увезти в гору и там в самую противную яму бросить. Будто Авдошка нагой, в смради измазанной, валяясь по кровати, кричала ей в исступлении: «Не пьешь?! Не нравится?! Дождалась я своего царства!..» – будто старица велела Авдовку голым соблазном на снег посадить, а там чуть не сжечь.
А вот доподлинно известно: всем миром встали посреди улицы на колени, в грехах друг у друга каялись, плевали друг другу в лицо и по снегу проползли в молельню, а там не пивши, не евши три дня подряд молились. От такой молитвы показалось им, что образа просветлели, улыбнулся им кроткий лик Христа, – все мы, дескать, люди, все человеки. Закричал и стар и млад в голос:
– Победим, Христе Исусе, победим, перепрехом! И приказала тихая старица Александра-киновиарх.
– В «мир», братие, в Русь.
Вот здесь-то и почуял свою силу Гавриил-юноша. Ему и самому теперь хотелось в Русь. Спрашивают мужики:
– Готовить подводы-то?
Молчит старица. Гавриил Котельников начинает тогда распоряжаться:
– Четверку под кошеву киновиарха, тройку под схимников, три пары под певчих, остальные пойдут одноконно.
Говорит ему старица:
– Благие вести услышишь ты в Москве, придется тебе мой костыль взять, идти… А мне сдается – идут мои последние часы.
И до самого отъезда, когда ее в кошеву под руки свели, не подымалась она с молельного коврика.
Саней, я не знаю точно, небось, с тысячу насбиралось. Скот весь да и скарбу много пришлось оставить под присмотром самых недужных. Ворота тесовые плахами забили, в молельню сторожем выпросился многогрешный Платон. Положили дорожный начал, осмотрели, крепко ли завязаны воза. Впереди, в санях, запряженных парой – с иконами пустынники, за ними хоры ангельские псалмы по крюкам распевают, далее в кошеве киновиарх, позади хоругви золотые развеваются. А в конце – обозы, стая собак.
Белка, дивуясь, прыгает над кедром на сажень, медведь от санного скрипа и свиста бичей высовывается из берлоги.
А дорога-то длинная, убродная, сани-то в сугробах вязнут, со скал скатываются, постромки у коней лопаются, ругань да грех.
Приходилось лыжникам ветви рубить, бросать на дорогу, на скалы волоком на жердях да бревнах сани втаскивать. Руки-то сплошь в волдырях да кровоподтеках.
На коленях в кошеве перед иконой Николая Мирликийского78 неустанно пела акафисты79 о странствующих помощи тихая старица Александра. Ну, а все ж – переперли, победили.
Вот тебе и Три Сосны, камень Работничий меж ними, а дальше дорога человеческая к зырянскому селу Черно-Орехово; за селом Тобольский тракт, с тракту – прямо на Иртыш, к кремлевским стенам белокаменным.
Дивуется пуще белок народ по тракту – откуда такая тьма раскольников понавалила. Иконы-то в серебряных окладах, хоругви золотые.
– Неужто советскую власть в Тобольске свергли. Кто и ответит:
– Идут, значит – коли не свергли, то скоро свержение. Зря не пойдут.
– Где идти! Дяди, а дяди…
Молчат раскольники, хоры еще громче славословия поют.
Кремль там далеко по Иртышу видно, золотые луковки церквей будто только что из праха вышли, кругом-то белые дома… Все б хорошо, кабы не тюрьма…
У ворот городских конные воины в суконных шлемах, на конях.
– Станом, на льду, легче будет чин развести, – приказывает Гавриил-юноша.
Дело перед весной, морозцы-то попали. Распряглись, сани оглоблями вверх, зажгли костры и стали выбирать, кого послать к городским игуменам и архиереям с вестью о древлем благочестии.
Язык лежит, как мертвец, а поднимется – небо достанет. Сначала в городе подумали – восстание или пленные из германского плена пришли. Костры на реке горят, ходят вокруг стана злющие собаки, внутри как в улье: в животе ярмарка, шум, разговоры, а в пупке, у входа – тревога. Любопытные у пупка так днями и торчали. Так вот, послали к ним агитаторов. Языки-то и оказались мертвецами. А раскольники никому не верят и все не могут сговориться, кого в город послать епископов разыскивать. Среди молодежи ропот: «Что, дескать, как труба, зря все в небо глядеть? Подавай встречающих епископов».
Вздыхают пустынники, сосульки слез на бородах стынут. Белокаменные стены кремлевские, как угол в избе: снаружи рогато, а внутри комоло – вот и пойми.
– Гласом должны возопить стены кремлевские: придите. Может, палаты-то райские диавол успел захватить… Позор, горе нам и смущение…
Дьявол дьяволом, а собор устраивать на льду под ветром – не то, что на кедровых лавках в теплой горнице. Разговор больно злобен, и к старшим почтенья нет. Мужики помоложе рукавицами похлопывают, ходят вокруг костров и открыто над пустынниками начинают посмеиваться: чего, говорят, вы двести лет нас в тайгах морили – люди, как все. А молодицы, те прямо в город норовят, Сашу начинают вспоминать… А где – люди, как все? По лику – Русь, а по одеже чисто черти: ноги обернуты тряпичными лентами, башмаки на ногах бабьих – большие будто колоды, шапочки-шляпочки – как воронье гнездо. А девки стриженые, юбки в насмешку над верой колоколом сшиты80, короче колен, ноги почти голые… И смешно и больно… И говорит тут тихая старица Александра:
– Пойду я сама в город, к епископу ал и воеводе…
Выбрала клюку, подпоясалась смиренно мочалой и сама чует – идет будто тень без ног.
Улица-то широкие, как елани, дома сплошь кирпичные, гладкие, а среди их народишко спешит, подпрыгивает, у каждого кожаная сумка в руках, либо мешки за спиной, либо санки позади тащит. Город-то каких-нибудь пять верст, а спешки у людей на тысячу. Спрашивает она одного, что постарей да побородатей:
– Где тут к воеводе пройти?
Тот, не думая, в монастырь ее направил. Старица обрадовалась: значит верно, пришла старая вера, коли живет воевода в монастыре, да и сам, поди, из духовных, вроде Авраамия Палицына81. Снегом занесен двор монастырский, тропки меж сугробов, как в лесу. По тропкам тем люди в длинных балахонах травяного осеннего цвета бродят. Болтаются у них от пупа до пят сабли, как жерди.
– Где тут, – спрашивает, – пройти к воеводе?
Ткнули пальцем на церковь. Опять умилилась старица. Входит, а там тишина да холод, решетки в окна инеем, будто пухом, обернуты. «Экий благочестивый воевода, в такой холод молится», – думает старица и кладет начал перед древними иконами. Оглядывается: да где ж тут коленопреклоненный человек? – пустыня, а не церковь. Старичок какой-то забрел – и удивился на нее. Она же – опять о воеводе. Тогда указал ей старичок на плиту мраморную возле стены.
– Здесь воевода…
И доподлинно – начертано славянской вязью на той плите, что «похоронен здесь с родами своими, всего пять душ, воевода Иван Астафьевич Ржевский в 1682 году»… Даже обиделась старица: мне, мол живого воеводу городского надо. Подобрал губы старичок: дескать, и ветха же ты, старица. Направляет ее за всякими справками в бывший губернаторский дом, нынче – совет. И опять, как в полдень тень – пядень82, а вечером через все поле хватает, так через всю душу почуяла старица тоску.
Двери и стены в том совете табачищем пропахли. Стоят в каждую комнату люди в затылок. Ругаются, плюются, вонь от них. Бумажку какую-то от старицы требуют. Кричат стрельцы-солдаты ей: «Воеводиных никаких здесь нету, здесь за главного товарищ Егоров, а к нему в затылок». Никак не может попасть старица в этот самый затылок. Стоит-стоит, дойдет до стола, где стриженая девка ногами болтает, – опять не туда. Так и мечется в сенях подле нескончаемых дверей, как челнок среди пряжи.
Только, откуда ни возьмись, бежит по сеням с мешком в руке Марешка-зверолов.
– Марешка! – кричит его старица.
Оторопел тот, мешок выронил. Кинулся под благословенье.
– Матушка, тихая старица Александра, как ты сюды? Сразу построжала, подправилась старица.
– Ты меня допреж к епископу.
– Нету, матушка, в этом городе епископов. Был один, да пристрелили.
– К игумну веди в любой монастырь.
– И игумны, матушка, все сбежали, а то и пристрелены. И монастыри-то под лазаретами. В церквах-то попы не знают, что и служить. Табаку даже, и то достать трудно, матушка. Как тень со стены не вырубишь, так и горя из себя не выбросишь. Опять на сердце-то смола.
Вздохнул, глядя на нее, Марешка.
– Теперь скажи мне, Марешка, где Саша-то?
– Замуж вышла, матушка, прямо как есть замуж.
– Кто сводные молитвы читал? Али вокруг сосен венчана, а?..
Вспомнил Марешка Три Сосны, как плясали подле них, когда выбрались из камышей. Почти что угадала старица. Опять вздохнул.
– Я тут ни при чем, матушка. Даже батог подняла старица.
– Ты, окаянный, ты отрекаешься!.. Зачем увез коли? На старости лет сблудить да бросить?..
– Да я ее, матушка, не увозил. Ушла она с Запусом, комиссаром здешним, стольник, что ли, по-вашему, чином-то… Мне пищаль к рылу наставили: кажи дорогу. Мне помирать не в привычку, я…
Боль-то растет сама собой, как щель в дереве. Подтерлась ботогом, в стену долго смотрела, а затем говорит тихо Марешке:
– Веди меня, да не спеши… катко, ноги скользят. А где там ноги, коли сердце.
Опять дома да сени, где дверей – как в блудливом совете, из дверей прыгают с визгом голорукие девки. «Квартиранты», – говорит Марешка. А просто – погань, грибы мухоморы. Светелка у Саши пустая почти, занавесок нет: кровать да печь из железных листьев. Сидит Саша на кровати в сарафане, слава богу, в окно смотрит.
– Матушка! – крикнет как и – в плечо.
Ну, и старуха же была, прямо застенный мастер будто. Отвела рукой голову от плеча, еще оглядела светелку. Галифе с табурета (Саша их чинила) клюкой в угол скинула, повела бровями:
– Надевай платок, пойдем.
Говорит ей звериными губами Саша:
– Никуда я не пойду, матушка. Здесь останусь.
Опять стукнула клюкой, на Марешку случайно ее взгляд лег – так тот боком, да за дверь, так больше и не появлялся.
– Прокляну!
В дверях старица, а мимо по сеням мальчишка пробежал, за ним другой. Визжат, барахтаются, прыгают.
– Рожают наши бабы таких, румяных, матушка?.. Такой бы у тебя наследник был… Парнишки-то наши гнилые да сини, будто хвощи осенние.
– Басурманы! Распахнулась дверь. – Пойдем… Прокляну!
Дочь ведь одна-единственная…
И тогда громким троекратным возгласом прокляла тихая старица Александра-киновиарх дочь свою. Вышла не оглянувшись. Наскочили на нее в сенях играющие ребятишки, отшвырнула она их и крикнула вслед:
– Будьте и вы именем господа трижды и трою83 прокляты!
Я не манерничаю, переставляя главу: она должна быть последней. Но мне не хочется кончать нашу повесть мелкой встречей моей с шулером, болтуном и карманным воришкой Галкиным. К тому же мне обидно: я не понял и не узнал Галкина. Кто ему сестрица Аленушка и тихий убийца – братец Иванушка. Жена, сестра, проститутка, встреченная на вокзале, подруга по мастерству? Он намекал мне на какие-то жертвы и потери, что он жертвовал для нее. И почему он боязливо смотрел на братца Иванушку? Кто они, откуда?..
Наша встреча закончилась так.
Галкин кончил говорить, выпил еще рюмку. Он был совершенно сыр-пьян. Он низко наклонился ко мне, оглянулся боязливо на Иванушку и пьяно растянул:
– У меня тоже скоро ро-одится…
Мне хотелось спать, было поздно, свечи догорели в фонаре, как пишется в таких рассказах (а они действительно сгорели: кондуктор, по-моему, дал нам половину свечи), – и со смехом, чтобы рассеять сон, соврал Галкину:
– А у меня уже трое ребят есть… И вдруг Галкин метнулся, завопил:
– Что ж я наделал, злодей, я же…
Было б совсем не плохо раскрыть таким способом кражу. Но красавец Иванушка опрокинул Галкина, зажал ему рот и так поглядел в меня… Я притворился спящим. Да мне, право, так хотелось спать, что нисколько не жалко было своих сорока восьми червонцев. Галкин пытался еще крикнуть что-то мне, но Иванушка легонько стукнул его по лбу и он затих. На ближайшей станции, далеко не доезжая до Тифлиса, они слезли. Аленушка шла сонная, недовольная, Галкин качался невыносимо; «ломался», по-моему, немного, бил себя кулаком в грудь и визжал:
– Трое, мал-мала меньше… «Папаша, – кричат, – хлеба!..» А я его, я с ним как поступил!..
С того времени, к сожалению, я не встречал Галкина.
Да, зовут Запуса в губисполком. Вот, говорят, специалист вы по раскольникам, экспедицию готовите на какой-то Остров, – подите с ними на Иртыш, объяснитесь. Не понимаем, чего они от нас хотят. Дикари. Пришли говорить, а электричество зажглось – они бежать из комнат. Молодежь будто бунтует, однако не поймешь.
Раньше бы Запус к раскольникам на автомобиле шарахнул, надымил бы, языком навертел, а тут сел он на своего голубого коня и не спеша – шапку на брови – отправился.
Окружили его раскольники. Конь под ним фыркает, уши – как куклы на ярмарке пляшут. Смотрят на коня раскольники, ухмыляются… волосы у них на темечке выстрижены. Посреди ходит начальник ихний, на безмен похожий, указным способом из ручной кадильницы кадит. Кафтаны-однорядки по вороту и по бортам красными кружками обшиты.
«Эк, ведь это мне от Петра историю-то им объяснять надо, – думает Запус. – Учиться, видно, мне надо, а?..»
А как подумал это, так и совсем спутался. Да и что им можно объяснить на морозе. Они вопросы задают: каким, скажем, крестом надо креститься и сколько раз аллилуйя петь. Почесал Запус затылок.
– А я, граждане, ей-богу, не знаю… Мы религию отделили, так сказать, как гнилой ломоть.
– Чего ж божишься?
– Раз басурман, не божись.
– Казак он, а не басурман.
– И верно, казак.
– Переменили беду на напасть…
Не зная для чего, предложил им Запус мосты и гати через топи к Бело-Острову провести. «Об вере столкуемся позже, а сейчас – на защиту отечества да имущественную перепись произвести». Перепись84 же им будто раскаленное тавро на душу: Антихристова печать85. Как сказал – перепись, отсюда и началось. Одни кричат, полами машут:
– Вертай оглобли, сбирай коней, затягивай гужи, пошли обратно! Другие кафтаны рвут.
– Пиши!
Юркенький, розовый такой нашелся, дальше узнал его фамилию – Пономарев. Он у них вроде бунтаря ходил, во всех догмах сомневался… помер потом под Кронштадтом86, что ли. Выскочил вперед к Запусу:
– Пиши. Не хотим, как бобры, в топях жить, надоела нам вода. Земли нарежешь?
– Земли много, нарежем, – ответил Запус и подумал тут он: «Сами разберутся, надо забусить». Ну, тут опять, как в улье, – шум, крики. Разметались бороды, как метели, в руках иконы появились, каждый перед своей иконой клянется. Развернули старухи хоругви, хор запел. Наконец и старица Александра вперед вышла, рукой на кремль махнула:
– Будь вы окаянны, кто до города Содом87 пойдет! Старики, хомутайте коней – вертаем к Острову.
А ее опять в толпу закрутило. К Запусу большеголового безменного человечка вынесло. Весь в слюне, с колом. Посмотрел на него Запус, подмигнул по озорной своей привычке, на маузер ладонь положил. Ну, а тот и не вытерпи, размахнулся колом и угодил в того розового, Пономарева. Парень не дурак: наотмашь, в зубы. На кулаке и остался весь заряд зубов-то Гавриила-юноши.
«Ну вас к черту», – подумал Запус, старика какого-то со стремени спихнул – и отъехал в сторону.
А на льду самая кунсткамера-то и началась88: которые в город хотят – к себе свои сани и иконы тащат, которые в тайгу – к себе. Сначала на кулаках шли, показалась кровь едва – в колья. Народ-то хлипкий: как треснут кого, так с капылков долой, будто кочан. В сторонке бабы за волосы таскаются, плюются, друг дружке срамные места показывают. Костры пораскиданы, поразбросано имущество, собаки воют: им-то уж совсем ничего не понятно.
И вдруг видит: взметнулся смертным взмахом кол, привстал даже в стременах Запус, лошадь по льду подковами взыграла. Тепло ему стало. «Эх, кокнули кого-то», – подумал Васька.
Тогда разделился табор на две части. Старуха осталась в кошеве, икон подле нее накидали, будто иконостас упал. Руки кверху тощие задрала и проклинает половину обоза, которая в город направилась. На снегу, подле кошевы труп положили. Подъехал Запус поближе, узнал – безменный человек. Еще пальцы по снегу трепещутся, как выкинутые из сети рыбки. Скоро и они перестали трепыхаться. Не свесить теперь безменному человеку ни горестей, ни радостей, ни любви. Амба. Положили труп его на воз, затянули старики трясущимися руками на хомутах супони89.
Передвинул Запус шапку с уха на ухо и тихонько шевельнул голубого коня к городу.
Шел обоз обратно медленно, в каждой деревне останавливался.
– Какой волости? – спрашивали мужики. – Насчет разверстки не слышно? А вы что – так али восстание было, сплошь старики в город ездили?
По утрам-то подтаивало, в полдни-то пар голубой над полянами курился. Береза – самое теплое дерево – стволами, как огнем, прожигала снега. Листья прошлогодние на снегу показались, скоро до земли дойдет солнышко-то. Старики-пустынники мерзли, проезжая через зырянское село, тоскливо так смотрели на видневшиеся вдали леса:
– Успеем ли, матушка? Кабы льды не колыхнулись, ведь толды не попасть.
– Успеем, – отвечала им тихая старица Александра-киновиарх.
Как в цепи узлов не узнать, так в тайге – радости. Иной поет, а иной за всю лесную жизнь не улыбнется. Которые пустынники даже настоль помолодели – на холм Трех Сосен стали въезжать, коням за тяжи помогали. Наст так легонько звякает под полозьями, солнышко ясное, крут да ясен холм, и Три Сосны – будто три святителя. Строго кругом и весело. Расположились на ночлег в звериную избушку, теснота там и жара. Приказала старица: утром срубить Три Сосны, сжечь избушку – не было б возврата в «мир». Рьяные еще с вечера срубили сосны. С гулким шумом повалились они на льды. Брызнули воды, и в незнаемой речке утонули головами великие деревья… Душно в избушке стало старице, вышла она передохнуть. Блестела поляна по-особому, легко-синевато, предвесенне. Смолой пахло от срубленных-то сосен, и жалко – сосны-то в сколько обхватов. «Так и старую веру покрушили», – подумала старица, спустилась к реке мимо возов. На одном в кедровой колоде вечным покоем лежал Гавриил-юноша, везли его в родные голубцы… Лед-то на речке был еще ровный, не ноздреватый. Подале, влево в камышах прошел, легко ломая льдистую траву, какой-то зверь. В пустыне у него свое логово и свои детеныши – вот и спешит туда. Тоска-то на ней, на старице, как тень на воде – лежит, да не тонет. Вернулась она опять в избенку, пристальнее пригляделась к спящим-то. А ведь верно сказали мужики-то на постоялом: сплошь старики остались; который хоть и молодой, да дряблее старика. Лица строгие, будто у мертвецов, щеки провалились, и будто бороды-то чужие. Еще тяжелей ей стало. «Грехов-то сколько, грехов-то»… Вышла опять к Трем Соснам, а те будто распухли. Или месяц давал им такую тень. Справа полынья синяя-пресиняя, а в ней – как подсонечник – месяц. Пошла она к полынье. Месяц прыгнул на средину и расплылся, будто кисель. Наклонилась, а ей виднеется из полыньи-то плосконькая головка, как лист, а ниже тулово, как бурак. Тьма внизу не рожденная, не сотворенная, никаким искусством не сличенная, ни с тоской, ни со злобой. Пошатнулась старуха:
– Господи, спаси…
А наутро, когда и берест под угол избушки заложили, достал пустынник Дионисий огниво, – хватились: нету старицы. Кинулись в лес, кто-то вспомнил, что стояла она вечером у Трех Сосен. Когда валились – не попала ли? Старушка-то мала, будто жучок. Да нет, не грешны кровью вековушные сосны. Кинулись на лед, подле полыньи нашли клюку тихой старицы Александры-киновиарх. Сели подле полыньи причитальщицы: погиб тихий юноша-Гавриил, тело его хоть идет на Бел-Остров… что ж-где ж ты будешь похоронена, кроткая? Доспели багры, в полынье стали рыть, а там водоворот – нет дна, багры крутит, вырывает… Перекрестили воду, прочли упокойные молитвы и пустили в полынью наскоро сколоченный крест… А солнце пропекало зипуны. У краев речушки и в камышах ноздреватый да хрупкий, как соты, лед показался. И говорит тогда старец Дионисий:
– Пять дней еще быстрейшего ходу до Бел-Острова. Синичка прилетела, ноне видал, лед скоро пойдет. Сотворим, братие, последний начал… Не найти вам, видно, старицы.
И пустил огня под бересту, под охотничью баньку. Мотанулось по бревнышкам, по кровельке пламя.
– С богом, – сказал Дионисий и подал знак: двигаться обозу через реку.
А пламя раскидалось, как кабан с золотой щетиной. Кинулось на сосны – потекла смола с вековых деревьев, сухари – дуплистые такие деревья на корню чудом уцелевшие, как береста, вспыхнули. От жары молодые ветки в огненные шары склубились, ветер их сорвал и понес дале. Стеной огненной встала тайга над речушкой, шипит над камышами, стреляет, звериным воем провожает.
Три месяца бушевал пожарище-то, зырянское село Черно-Орехово едва отстояли. Сам потух.
А раскольники? Ничего, доперлись. Как старец Дионисий сказал – точно: на шестые сутки треск прошел по речке, будто шелк рвали. А через недельку и топи открылись. Ну, теперь и попробуй, попади на Белый Остров.
Про старуху тебе или про Запусову любовь? Любовь! Любовь, братишка, будто темная карта – рубашка вверх.
Запус-то был вокруг Саши, как вокруг тына хмель с золотой гривой. Сидят, чай пьют, а тут на тебе, распахивается дверь и с котомкой мамаша ее, Александра-киновиарх – и первую речь о детях завела, а об раскольниках ругательно: «Прогнали меня прочь яко нечестивую, да и тошно мне со стариками, дай, из угла на тебя буду смотреть». Вот и сидит, и смотрит. Старуху я отлично понимаю, а все остальное – ерунда и мокрятина, дешевая карта. Мука-то не оттуда начинается, мука начинается с другого… Поживешь поездишь, посвистит тебе ветер в уши, ну, глядишь, и поймешь.
Рассказы 1916–1921*
Защитник и подсудимый*
Окружной суд заседал.
Обвинялся Матвей Миронов, из деревни Студеной, Ободранной волости1, в том, что застрелил лошадь своего соседа Дмитрия Анисимова.
Стояла невыносимая жара. Из окон судебного зала видны были сырые стены соседних домов. Публики не было, кроме двух свидетелей крестьян, неподвижно сидевших и слушавших с разинутым ртом.
Говорил пузатый адвокат, с большой лысиной, в поношенном платье. Он впивался глазами в председателя и от время до времени вынимал руки из карманов и указывал на обвинителя. Он говорил с необыкновенным жаром, так как хотел всех оглушить и удивить. Но его голос, глухой и резкий, казалось, будто выходил из заржавленной трубы. Он взывал, он хрипел, он кричал во всю мочь, указывая на небо, закатывая глаза кверху, и после каждой фразы гордо выпрямлялся во весь свой рост, самодовольно потирая руки.
Но на апатичных и невозмутимых лицах судей видны были только терпение и равнодушие, не обещавшие никакой надежды. Мысли председателя витали вдалеке.
Один из судей рисовал лошадок, другой, имевший музыкальные наклонности, писал несколько нот и, делая вид, что прислушивается к речи, обводил их карандашом.
Обвиняемый Матвей Миронов, небольшого роста светло-русый крестьянин, сидел на своей скамье и, ничего не понимая в речи своего защитника, наблюдал за большой черной мухой, которая громко жужжала и билась у окна.
Когда адвокат замолчал, чтобы перевести дух, Матвей повернулся к судебному служителю и громко сказал:
– Слышь, брось муху-то за окошко, надоела паскуда.
Судьи с насмешкой и жалостью взглянули на него. Председатель позвонил и громким голосом обратился к обвиняемому:
– Матвей Миронов, вы должны понять, что ваше положение обвиняемого незавидное. Приличие требует, чтобы вы молчали.
– Ги…и… – сказал Матвей, указывая на окно, – улетела уже она.
Судьи опять усмехнулись. Адвокат строго посмотрел на своего клиента и продолжал:
– Да, господа судьи, как я уже говорил, надо принять во внимание все эти обстоятельства. Другими словами, надо понять психологию, решительный момент такого действия. Представьте себе: ночь… адски темную, сибирскую деревенскую ночь… В двух шагах ничего не видно. Мой клиент лежал на своем дворе или скорее у своего гумна и, пользуясь священным правом гражданина, охранял свои снопы и свою пшеницу. Там он отдыхал усталый от повседневного труда. Он все забыл, как говорил поэт (судьи переглядываются). Все, все… Свою жену, своих детей… Усталость превозмогла все. Но вдруг, что случилось, господа? Что? Мне не хватает слов, чтобы выразить это. Человеческий язык слишком беден для этого… Да, вдруг мой клиент очнулся, посмотрел вокруг себя… Ужасно! Жизнь его висела на волоске. Пред ним стояло чудовище, страшное, уродливое чудовище, готовое… проглотить его. В своем испуге, вполне понятном, господа, мой клиент почти потерял сознание. Он дрожал от страха, не знал больше, где он находится, не осознавал, что с ним творится… Он схватился за оружие и… п… у… ф… ф… он выстрелил. Чудовище упало, затем побежало в поле, наткнулось на сено и там же околело… Ну, я вас спрашиваю господа, чем виноват этот несчастный человек, что чудовище оказалось лошадью некоего Дмитрия Анисимова. Лошадь, да скорее какая-то несчастная кляча, за которую и десять рублей не стоит дать. Но где же тут преступление? Где? Итак, господа судьи, обсудите и поразмыслите над этим. Имейте в виду два закона: закон Божеский, ежеминутно гласящий: «Защищайте себя от чудовищ и прежде всего защищайте вашу жизнь», и закон человеческий, который делит поступки на преступные и не преступные… Оба эти закона вполне оправдывают моего клиента.
Адвокат взором победителя посмотрел вокруг себя, вытер вспотевший лоб и, улыбаясь, уселся около своего клиента.
Судьи о чем-то зашептались. Председатель позвонил и позвал:
– Обвиняемый, Матвей Миронов.
– Здесь, – по-военному ответил Матвей и спокойно встал.
– Что можете сказать об этом деле?
– Кто, я…
– Ты, ты, ведь я с тобой говорю!
– Я, видишь, оно… Конешно… так и есть…
– Да что так и есть?
– Чо, да лошадь-то, – громко сказал Матвей, – скачет она ко мне в огород. Тыщу раз говорил я Митрию: запри твою лошадь, сожрут волки-то ее! Опять и убыток мне… Огород топчет чертова скотина! Как только стемнеет… на через плетень – держи стерву! Раззорила она меня, ваше благородье! – Матвей отер пот грязным рукавом рубахи и продолжал – Не жалко мне травы-то, тыквы жалко. Тыква там росла! Здоровенная… во кака! Терпел я, ох, как терпел, – а потом уж и говорю себе: постой, я те покажу, как топтать тыкву… Ну зарядил я ружье – жду. Поздно уже было – хотел спать идти; Акимыч на колокольне и часы бить перестал, уснул значит. Так на тебе, несется! Ваше благородье, вы как думаете? Видно этот проклятый дьявол работы не имел.
– А потом? – спросил председатель.
– Потом? Че потом? Поднял я ружье… повалился конь-то. Потом с женой сволокли лошадь за деревню. Зарыли мы ее, там в сене, скрыть чтобы ее, лошадь-то…
Адвокат слышал, как клиент откровенно рассказывал о своем поступке и свел на нет его собственную версию. Он дрожал от злости. Потом он пытался взглядами заставить его замолчать, но, очевидно, Матвей совсем забыл о своем защитнике. Он смотрел только на председателя.
– Ну, а, по-твоему, сколько стоит эта лошадь? – спрашивает судья.
– Лошаденка-то славна, ваше благородье. Сотни две потянет, – ответил Матвей.
Адвокат бросил бумаги на стол и выбежал.
Суд отправился совещаться, а защитник позвал Матвея к себе в коридор и, дрожа от злости, крикнул ему:
– Животное ты! Не хотел если врать, – так для чего ж ты взял защитника!..
Вертельщик Семен*
Семен Платонов служил вертельщиком в типографии. Дело простое: стой смену в 9 часов, верти колесо у машины, подноси формы, которые нужно печатать, смой их – когда отработают. Труд не хитрый, пустой – мальчишка справится, который посильнее.
А Семен вот и к этому делу не совсем подходил: больно уж тонок, длинен и хрупок, и его продолговатое белое лицо, с большим покатым лбом, с черной окладистой бородою, при носке форм так вытягивалось и перекашивалось, фигура так перегибалась, карие же круглые глаза смотрели так пугливо, трусливо и грустно, что глядеть на Семена было и тяжело и жалко!
Семен пришел к нам из-под Омска… Где-то там, в степях, затерялась его деревушка – там его изба, семья: – трое детей с молодухою. И Семену надо бы там быть, да не пришлось: по весне жену схоронил – расход, осенью опять женился – в хозяйстве без бабы никак нельзя – вновь расход, а тут к ряду и лошадь пала – на это уже Семена не хватило, и он ушел на лошаденку деньги промыслить… Дело шло к зиме, оно хоть и война, – много и угнали, работа не набегала, осел Семен у нас. Да и в городе нашем, известно, зимою – место глухое, время – тоже; народу разного находит много, хоть на сковороде его поджаривай, только работу давай. Месяца два он прошатался зря, – совсем обнищал. Перед Рождеством, наконец, выпало местечко, – как такое счастье привалило, Семен и сам не знает: у ворот типографии человек двадцать стояло, а вот выбрали его одного.
– Задавай паспорт, вертельщиком будешь… – сказал какой-то служащий, обращаясь к Семену. – Больше не требуется! – обернулся служащий к остальным.
Пошел Семен за ним.
– Получше будто народу нет, – на глисту какую польстился! – промычал кто-то из толпы вслед Семену.
Забыл Семен все напасти сразу. Сытость какую-то почувствовал и, возвратясь с работы, даже размечтался. «По весне, – обязательно, к себе домой на коняге прикачу… Да, чо там пешком идти! Нужно!.. Недалече от поселка лошадиная ярмарка бывает – закуплю… И айда!.. Жена-то, ничо, – хоть вторая, а бабешка – ласковая… парнишки, хоть дурни еще, а коняге обрадуются. Под озимь землю осилю поднять… навоз повывозим». И закрутились, не мешая друг другу, веселые думушки в Семеновой небольшой голове.
В типографию Семен попал большую… Вертельщиков на той машине, где он работал, было трое – он, значит, четвертым. Работа простая, но набиралось ее порядочно – только поспевай!.. С непривычки, что ли, а вначале как-то нудно было: от шума машин голова вроде того, что пухла, а и ходить промеж работающих машин боязно… Да это все пустяки, попривыкнуть недолго!.. Так и домой Семен отписал…
Дня через три товарищи вертельщики стали к Семену с могарычом приставать: спрыснуть надоть должность.
– Брага-то, Семен, хорошая!..
– Не пью я, роднинькие!.. – мямлил Семен.
– Не пьешь – и не пей, а нам поставь!..
– Я-то ничо, да шибко деньжонками поослаб…
– Поработаешь…
– Много, роднинькие, надо: и сибя надо поддержать, бабе кое-что отправить, по весне конягу надо купить… Без коняги… землю не поднять… раззор.
– Затянул!., неча мямлить-то… такое уж заведение… мы тоже ставили, до войны дело лучше было – и пили больше… нас не спрашивали: как, да чо! Ставь, и вся тут.
Семен упорствовал, вертельщики наседали, и для первого раза дали тычка два-три по Семеновой узкой, длинной спине.
Семен не осерчал: не тем занята была его голова, чтобы сердиться. Ему думается, что он на конской ярмарке… лошадей, лошадей-то!.. Встречаются односельчане. А этот серый всем вышел… немного стар… По рукам, что ли? Да как развяжет Семен узел у красного большого платка, которым шея повязана, да как достанет из узла три розовые бумажки, да одну синюю1 – ту, у которой угол оторван маненько. «Уступить надо, парень. Давай с этой маленькой сдачи, надо ведь и жене и ребятишкам гостинец…» Семен уж посадил себя на лошадь. Никак заднюю ногу немного волочит… А за этим поворотом и деревня будет видна… Эх!!!
– Последний спрос от нас: поставишь могарыч?!.
– Я бы, роднинькие, и ничо… шибко деньжонками поослаб.
– Свинья ты!.. Ну ладно… попомни-и!!!
Вертельщики отстали, но дело у Семена как-то сразу не поладилось, прямо из рук повалилось. И выдался же ведь денек! Утром как-то нечаянно обронили тяжелую раму, и она концом прижала ногу Семену. Палец на ноге целый день ныл. После обеда, когда Семен с товарищем вертельщиком нес из кладовой тюк бумаги, в дверях, как-то нечаянно, прижало ему руку. Семен вскрикнул, выпустил тюк, за что получил «долговязого дурака» от мимо проходящего мастера.
Перед концом смены вызвали Семена в контору… Толстый управляющий ругал Семена всячески, указывая ему на замаранную бумагу… Записали штраф и выгнали из конторы…
Семен растерялся и ничего не понимал… Далекая деревушка под Омском точно провалилась сквозь землю, не оставив о себе никакого воспоминания. Товарищи вертельщики сторонились Семена, промеж себя переговаривались и над чем-то посмеивались… В довершение всего, в темном переулке, когда Семен возвращался домой, на него напали неизвестные и сильно поколотили. Семен закрывал лицо руками и покорно подставлял спину и голову под удары…
Наутро он чувствовал недомогание, но на работу пошел, предварительно подвязав посиневший глаз красным платком. Вертельщики посмеивались и предлагали Семену опохмелиться со вчерашнего.
– Вот твое «не пью, не пью, родненькие» – для приятелей пожалел, а сам нализался… Ужо опохмелим…
А большой, длинноногий наборщик, похожий на журавля, увидав подвязанный глаз у Семена, запел, подплясывая и подщелкивая языком:
Семен робел и сторонился…
О деревне почти не думал. Звали опять в контору к управляющему… Управляющий шибко ругал Семена, называл его пьяницей, грозил расчетом, так как вертельщики-де заявили, что Семен ленится, не помогает, отлынивает от работы.
Семен слушал и ничего не понимал, кроме того, что может потерять место, и это пугало его…
Вдруг слезы брызнули из глаз, и он, как ребенок, сбиваясь и путаясь, стал рассказывать управляющему о домогательствах товарищей и о том, как его вчера ночью избили.
– Пусть возьмут, чо я заработал, только напредки3 не мешали бы мне работать… Мне без работы никак нельзя… За мною нужда стоит… без меня семье-то, хозяйству раззор наступит…
Управляющий вызвал вертельщиков, ругал их и всех оштрафовал…
– Прослышу что – повыгоню! – сказал он в заключение.
Дело обошлось, принялись за работу. Потянулись однообразные дни, похожие на большие белые листы бумаги, которую приходилось таскать – ничего-то на них нет, а что будет впереди – может, чепуха какая? Семен прихрабрился, и деревня опять стала властвовать над ним.
Вертельщики были тоже «мужички» из ближайшей деревни, по праздникам ходили домой и частью еще жили мужицкими интересами. Семен прислушивался к их мужицким разговорам, сам кое-что вставлял, вообще интересовался мужицкими порядками в этой стороне.
Подходило Рождество… Праздновать будут дней пять. Семен шибко заскучал по дому; вспомнит что-нибудь, расскажет товарищам, вздохнет и уставится глазами в одну точку.
– Чо, скучашь по деревне? – спросил Семена старший из вертельщиков.
– Не всем дадено одинаково, – вот и скучно делается… Вы-то, вот, кажный праздник домой сбегаете, а мне… да чо говорить, пустое!..
– Даль действует… близко живешь – не замечаешь… А коли так уж тебя потянуло, пойдем ко мне, попраздничаем…
Эти слова ожгли Семена, но он посмотрел недоверчиво.
– Чо буркалы-то уставил? Сказано, значит, от сердца!..
– Вот чо, родненький, я и не сумлеваюсь… да все же за мной вина перед вами… Раз следовало с меня могарыч распить, так и разопьем… Зря тогда я всю эту волынку затеял… Простите, родненькие, ослабел… Чо с меня приходится – получайте… хошь сейчас…
– Ладно, ладно… Вот это по-хорошему, давно бы так!..
Поехали в деревню в розвальнях. Старый дедка приезжал с оказией, ну и зазвал подвезти парней… На выезд достали пива, «душного спирту» подлили… Ударил в голову серыми казанками дурман…4 Слизал он, как будто шершавым языком то грязное и нечистое, что видели они, – и ровным и красивым стало окружающее. И еще казалось Семену, что зажгли у него в груди маленькую лампочку: бьется она почему-то о стенки и хочет улететь ввысь и Семена поднимает – и так-то ему весело становится.
– Тетка, кислушки5 доставай, гулям!.. Ты – ба-ба!!. – орал он на пивоварку.
Говорили любовно, по душам. Семен совсем расщедрился. Засиделись дольше, чем следует. Повалились в розвальни и поехали легкой трусцой.
Черной лентой при лунном сиянии длилась дорога… И высоко над ней был небесный путь, затканный золотыми огоньками душ умерших людей… И кто-то будто высокий и седой сел на далекий посеребренный темный ковер бора и свистал оттуда мертвым холодом…
Семен совсем размяк, лез к товарищам и нахваливал их.
– Ты не больно лиси… – мрачно вставил один из вертельщиков.
– Оставь! – неодобрительно прервал другой.
– Чо оставлять? Больно я боюсь его: наплевать мне ему в харю!..
– Зря болтаешь, раз нашей компании – обижать не след.
– Семену ты это напоминай, а не мне. Могарыч-то могарычом, да и о штрафе забывать не надо: по его милости с каждого из нас по полтиннику содрали… От его подлещиванья полтинники не придут!..
Это случайное напоминание подействовало: пьяные тела зашевелились, замотали головами и зафыркали.
Слово за слово – и пошло. Дедка спокойно дремал с вожжами в руках…
– Чо на него смотреть? Неужели да эту собаку в дом принимать! Бросай его из саней!
– Чо бросать?! Я и сам сойду. Хороши приятели – нечо сказать!.. – храбрился пьяный Семен.
– Сойду!.. У, идол!.. Много славы будет… Не прикажешь ли лошадь остановить!.. Нет – для тебя штуку чище устроим – пожалься потом… Сттер-рва!!.
Подвязали под мышки Семену веревку, высадили из саней и погнали лошаденку… Семен бежал, падал и, наконец, ухватившись руками за задок саней, волочился по грязной дороге… Через полчаса все в дровнях спали, лошадь плелась шагом… Семен пришел в себя, поднялся, и осторожно сбросив с себя петлю, отстал от саней и пошел тихо к городу…
Подходя к дому, Семен заметил, что с одной ноги он потерял пим…
Происшедшее представлялось ему смутно, но чувствовал он себя очень хорошо… Пришел в квартиру… Было поздно, и хозяин-сапожник открыл ему не скоро…
Ночью Семена разбудила ноющая боль в пальцах на руках и ногах… Потер немного, поохал и опять уснул… К утру пальцы на ногах не двигались, ныли и почернели… Сапожник, слушая бестолковый рассказ Семена, смотрел на пальцы, мял их, тер уксусом и порешил, что дело дрянь: кости промерзли.
– Иначе, дурень человек, и быть не может… Как держался за задок, кровь от пальцев отогнал, их и хватило морозом… Мороз лютый был. И с ноги пим потерял – тоже прохватило… И чудак же ты человек – выдумал, с кем связаться! Чо же, думаешь, и у меня праздники – не праздники? Э-эх!
«Пустое, пройдет», – думал Семен, рассматривая свои набухшие пальцы, смачивал их слюной и дул на них теплым дыханием…
Дня через четыре ногти полезли с пальцев… О работе и думать нечего, хотя пора бы и начать… Сапожник принялся врачевать: делал какие-то припарки, а гнойные места срезал своим широким коротким ножом. Семен стонал, сапожник ругал его бабой, и концы пальцев с сочащейся кровью опускал в чашку со снегом.
Семена все время лихорадило, он потерял аппетит, постоянно клонило ко сну, но не спалось, а мерещилась всякая всячина: то будто деревня горит, и его упавшей горячей крышей придавило; то будто вторая жена старшему сынишке ухватом голову разбила; то ему почудится, что он дома лежит на печи, а жена спит на лавке… Смотрит, Ромка рыжий к матери лезет, на четвереньках по избе ползет, а на Ромку из-за печки баран смотрит!.. Смотрит, да как лбом по Ромкиному лбу треснет – и уж не баран это, а управляющий в типографии!.. Душно… Рожь, рожь-то какая – на одной соломинке по два, по пяти, по двадцати колосьев!!! Только коси? Эх, матушка, держись!.. Берет Семен косу, она упала, опять взял – выронил, нешто без пальцев косить можно!.. Холодным потом обдало Семена, он бросился на пол, схватил метлу и хочет ею косить, но скоро одумался, садится на лавку и грустно, грустно смотрит в пространство…
Через месяц Семен оправился. На пяти пальцах руки сапожник срезал по два сустава, на трех пальцах – по одному, на ноге Семен потерял по одному суставу на трех пальцах… Концы пальцев стали грубеть, и Семен пошел в типографию.
Товарищи вертельщики бросились к Семену с приветствиями, но Семен, положив руки в карманы, посмотрел так строго, что те отошли. В конторе управляющий не сразу признал Семена, а когда узнал, то выругал его за то, что он так долго не приходил, и объявил, что теперь он не нужен, а паспорт и расчет может получить в главной конторе.
В главной конторе навели справки и сообщили Семену, что так как он долго не являлся, то его паспорт и деньги через полицию препроводили в волостное правление по месту его жительства.
– Как же теперь, значит… – мямлил Семен.
Конторщик что-то фыркнул и занялся своим делом.
– Поэтому так… – Семен еще хотел что-то сказать, но, не сказавши ни слова, вышел из конторы; запустил глубоко руки в карманы и, согнувшись, тихо-тихо побрел по улице…
…Серебряным одеянием кто-то окутал землю… прижимал к груди серые глыбы и плакал, и слезы его алмазами сверкали на белом бархате одеяния. И были ль то слезы радости, радости об измучившемся и нашедшем покой, или же слезы о горе, горе, творившем самого себя, – это было неведомо…
В зареве пожара*
От поседелых березок тянутся на поляну смутные, курчавые тени… – А а-ах!! – внезапно рявкает далекое орудие… По лесу бежит шипучая трескотня…
Неприятель отступил. Вслед за ним победно плывут серые живые вздохи… Поляной прошел полк, и через некоторое время по морозному воздуху поползло медленно-дрожащее:
– У а-а-а!!.
…Тихо пошатываясь, из лесу выходит отсталый солдат… Когда его ударило в грудь, он отделился от взвода и побрел, через силу, напрягаясь безумно – уйти!.. Все разгорячились… В ушах у него и сейчас поверх своих стонов плавают эти хрипы озверевшего человека…
…По мучительно передергивающемуся лицу катятся большие капли пота… Он сворачивает с дороги, судорожно бороздя воздух скрюченными пальцами, словно за что-то хватаясь, потом вяло опускается на снег…
…Ах, как рвануло грудь!.. Больно, больно… Почему?.. Да… туда… домой… Наш город… еще мальчишкой бегу… а тут… Так скоро слесарь… Хозяйство бы завести, Маша, лошадку – а?.. Не хочешь, мне все равно… А Митька, ишь, с полатей уставился, – чо, поди, ись хочешь?.. Дай ему, Маша…
В глазах солдата кроваво-красным пятном бегут недавние картины.
«…О чем плакать то?.. Не я первый, не я последний – все идут… Ладно уж, как-нибудь справишься… Да постой, постой… Будет тебе, Маша, не всех же убивают…»
…Никого нет у тебя, Маша, одна ты теперь, письмо бы тебе написать… Нет, на этом заводе не буду работать, – плохо платят, лучше к Афромееву… Не то, не то… не… Маша!.. Митька!.. На… таш… Уберите книгу со стола, – мокрый!!. Отчего стены-то смеются?!. Тебе еще кого?! Зачем ты?! пусти!., пу…
– …сти!.. – хрипло вскрикивает умирающий… Он вздохнул последний раз, рванулся, от порыва качнулась березка, к которой он привалился… На измятое страданием лицо посыпались белые, пушистые поцелуи мороза…
В полутемной каморке холодно… Вместе с морозом, врывающимся сквозь крошечные потрескавшиеся оконца, носится еще кисло-едкий запах детского белья и дешевого «татарского» мыла.
Маленькая лампочка уныло мигает, когда за стеной, по тротуару проходят торопливо тяжелой предпраздничной походкой довольные, сытые люди.
Сапожник Лаврентий уселся на кровати – на краешке старого ящика, покрытого дрянным, стеганым одеялом. Подергивая заскорузлыми пальцами седенькую бороденку, он деловито и серьезно говорит:
– Война, молодка, что твой, скажем, ком снега… Покатился он с горы, неведомо отчего, а може и недобрый человек пхнул… ну, и катится себе, катится… А по дороге снежинки другие прилипают, глядишь, и ком растет…
Скрипнула калитка, кто-то быстро пробежал по хрумкающему снегу…
Каморку занимает солдатка Марья с тремя ребятишками. Одинока она, только приходит порой Лаврентий в гости, да ведь ему самому-то некогда, старик уже, а работает – хлеб добывать надо… Навещает минутками.
– Ну, катится, катится, – а потом и трах!! Завалит, глядишь, деревню… а тут охать: несчастье!.. Ты как думаешь? – Лаврентий отрывает глаза от пола и взглядывает на Марью.
Не до разговоров Марье, – вспоминает она ушедшее, – а у бедняков одно оно и есть хорошее, – будто старая, изношенная шуба, – бросил, а потом бы и ее надел, да нету.
В прошлом году так хорошо было – не забрали еще тогда Алешу… Пришел с заводу… – Марья угрюмо отворачивается от Лаврентия и смотрит на печку, где Митька с Гринькой мастерят из лучинок какую-то мельницу. – Уж чо тут говорить… разговеться1 нечем…
– Ничо не поделашь, – увесисто бормочет Лаврентий, – пошла волынка… Значить тово, останавливать не приходится… Катись с комом вместе…
Марья мнет в голове свою сегодняшнюю мысль… Скучно и тоскливо, не слушая Лаврентия, и не для него, говорит:
– Руку третьего дня порезала, – бутылка лопнула.
– Где ты счас работашь?
– На фруктовом – у Заливина… Вчера на работу не ходила, болит рука-то, а седни пошла – мастер орет: «Чего, леший бы вас драл, разгуливаете? Паек – так места не жалко?»2. Высчитал два целковых из жалованья… Выгоню, грит, если прогулы будут. – Другие вон, посмазливее захотели – не пришли – ничо, а тут…
– Десять тебе пайка-то, что ли? – Тринадцать…
– На тринадцать, да на семь гривен3 заводских в день – далеко не уедешь… Когда квартира без мала пятнадцать… Сволочи!.. – внезапно вскрикивает Лаврентий.
– Кто?..
– Мы! Подлый народ пошел, прокислый. Мы все сволочи!.. У самих на носу пупырек вскочил – к доктору бежим, а тут у человека душа разваливается, а мы говорим: работай!.. Законы надо, – насмешливо тянет он, – нет, тут сначала каждому по маске залепить, ткнуть его носом в грязь, как нагадившего щенка, понюхай, дескать!., поживи так вот, а потом законы. – Лаврентий, сердито посапывая, вытаскивает кисет и закуривает.
Марья вскакивает и бежит отворять дверь. Маленькая девочка, изгибаясь под тяжелыми ведрами, вкачивается в каморку… Тонкое коромысло почти покрывает худенькие плечики, из-под изорванного полушалка выглядывает преждевременно увядающее личико; на ней старый отцовский пиджак и Митькины пимы.
– Сюда, Наташенька, сюда… – Марья торопливо помогает дочери составлять ведра. – Замерзла поди, надо бы печку истопить, чуть теплая, да выстынет опять к утру-то, жги только без толку дрова.
– Рождество ведь завтра. На што уж я, и то накалил свою горницу, держись только… А тебе бы, Марья, надо ребятишек погреть, давай-ка, слышь, смекни… Ну, чо горевать-то?..
– Истоплю я…
– Верно!.. Ну, а я пойду – прощай, Семеновна.
– Сидите, куда же вы, Лаврентий Иваныч?..
– Наша жись, что гвозди в подметку вколачивать. Раз – и день, раз – и два!.. А набьешь… дополна – походят вместо тебя другие, на тебе же, значит… стараешься себе получше, повеселей, а все на других! Все думаешь, нельзя ли новых гвоздей в стару подметку вбить – вот и бьешь!.. И смазал бы я себя лаком завтра, если бы водка была; наваксился бы, а тут облизнись только!.. Счастливо, значит, оставаться!..
– Счастливо!..
Марья оглядывает каморку, тяжело вздыхает и, махнув рукой, бредет за дровами…
Оглашенный этот Митька! Дурит на печке с Гринькой – колодец доспел4 из лучин, а тот закатывается – уж больно чудно!
Замерзла Наташа, опять накинула пиджак, у печки стоит, греется, на смех Гриньки любуется. Маленький, толстенький такой, как самовар, славный парнишка спотел – блестит весь…
– Ха-ха-ха! – Все ему теперь смешным, кажется. Ползет по трубе таракан, одно крыло полуотвалилось, болтается – потеха Гриньке!.. Непременно поймать надо – тянется Гринька, подкрадывается, а тот с трубы по печке на пол торопится… Нагибается Гринька – сейчас схватит его… А Митька еще лучше придумал – избушку, мыслит над ней… Наташа в кути возится… Тянется Гринька, тянется – да как сорвется с печи!..
Слышит Марья – не своим голосом вскрикнул ребенок, кинула дрова, без памяти ворвалась в избушку…
Лежит Гринька на полу – по лобику ползет тонкая струйка крови, а сам белый, что снег… Не дышит, кажется Марье, ребенок.
– Гриня… Гришенька!..
Берет Марья воду, взбрызнуть ребенка, не видит ковша – большие свинцовые круги мечутся пред глазами…
– Чо вы с ним наделали?.. Дитятко мое ненаглядное, убили тебя!..Застонал Гринька… Наташа теперь не вытерпела, – заплакала, а Митька тот давно в лучину головой уткнулся, реветь; страшно ему…
Укладывает ребенка Марья, перевязала ему голову полотенцем, снегом охладила, спать захотел несчастненький… И оттого-то должно быть, что всколыхнулось страхом сердце Марьино, как-то особенно сильно бедной и жалкой кажется эта каморка с мокрыми, прокоптелыми стенами, с полуразвалившейся печью и горбатыми досками полатей…
– А…а…а!.. – плачет Гринька, тянется ручонками, норовит сорвать повязку, спеленавшую его голову.
– Спи, спи, Гриня… – уговаривает Марья, примостившись у ящика на табуретку.
Хило попыхивает лампа. Где-то под печкой затрещал сверчок. – Спи… спи, Гриня… Го-ло-вушка переста-нет… го-ло-ву-шка за-жи-вет…
…Забормотал во сне что-то Митька, стукнул кулачишками об полати… Засыпают все… завтра большой праздник… все засыпают…
Снится Марье сон5.
Большая трава, росистая… Идут они в воскресенье с мужем гулять… Так и несет от реки чем-то сильным да крепким, так бы взял, закрыл глаза руками да побежал бы далеко-далеко… Важно покашливает Алексей, тоже, наверно, так думает, взглянет на Марью, улыбнется ласково в усы и прибавит шагу…
А впереди Митька бежит с хворостиной за стрелкой… Ишь куда удул! И Наташа с Гринькой за ним торопятся, а Гринька еле-еле переваливается, карапуз!..
Хорошо!..
Проходят мимо большого серебристого тополя… И вот поползли будто бы его ветки в поле так скоро, скоро, как живые… Стоит Марья с Алексеем – онемели от страха… Железные такие ветки, похожие на рычаги машин, – ползут… Заняли все поле, серое оно стало, стальное…
А тут большой снежный ком медленно катится, похожий на матовую тучу… Ползет по этим железным лапам, давит их, ломает… Прямо на ребятишек, на Алексея, на Марью… Попал Алеша под него… и не стало…
Боязливо заметалась Марья, не пускают ее стальные лапы… А тут Гриня… машет ручонкой, пугливо зовет:
– Мама!
Бьется сердце у Марьи, ох, как бьется!.. Вдруг откуда ни возьмись – сапожник Лаврентий, указывает изуродованным, грязным пальцем на ком, а сам высокий, высокий – до неба… Чему-то смеется… протягивает краюшку ржаную…
Тянется Марья – голодная она, да не пускают лапы, хватают ее за горло, давят…
А Лаврентий ехидно ухмыляется и лицо его похоже на каменные стены завода, сурово жадное, ухмыляется он, и манит куском…
Весело перекликиваются колокола, поют о Рождении Светлого… День торжественный и чистый в серебряном одеянии шествует по земле…
А от улыбок солнца еще сырее и мрачнее хмурится каморка… И грязь, которую старалась Марья вчера убрать, – опять расползлась лысыми пятнами по стенам и полу.
Гринька умер.
Он лежит на столе с улыбочкой на полненьком личике, со сжатыми в кулачок пальчиками, кажется, вот-вот проснется и пропищит что-нибудь несвязное…
Лаврентий, недоумевающе размахивая короткими руками, топчется около стола, бормочет сразу осунувшейся и потемневшей Марье:
– У меня брат был, так тот не унывал. Сын умер – он взял, напился, другой умер – тоже напился, а когда сам придумал умереть, говорить мне: «Пей за брата Василия!». Любил я его и пью!.. Добрые люди время считают по часам, по дням, а я по выпивкам, да вот теперь – фью! Отсчитался!..
Марья молчит, из-под упавших на лоб прядей жидких волос, сухо блестят воспаленные глаза… Она старается понять, про что говорит Лаврентий, но мысли разбегаются, как облачка перед бурей, уступая место страшному и темному.
Лаврентий, стараясь улыбнутся повеселее, подходит к Марье и ласково треплет ее по плечу:
– Пройдет это…
– Пройдет, – взметывается Марья, – пройдет? Пробили колом сердце – пройдет? Коли мне дышать нечем, коли мне еще на двоих смотреть надо, как они с голоду… Тоже пройдет?.. О – о – о!..
Она схватывается руками за голову и выбегает в ограду… Тут она испуганно озирается, словно не веря, что еще может быть такой ясный и добрый день… Она хочет что-то сказать, но в голове мутится, к колокольному звону примешиваются еще тысячи каких-то звуков, все путается и туманится…
Она вдруг обрывается на снег и рыдает, страшно рыдает, так, как может рыдать только мать!..
…А тем, которых не благословила смерть, – большой праздник.
Сын человеческий*
Я вошел в город во время большого пожара.
Огненные драконы лизали небо… Вились по ветру их дымные хвосты серыми клубами… Брызгался блестящий вихрь искр пьяной свободой… Огонь торжествующий, смелый, красивый и гордый – начало всего – огонь пожирал серые здания…
Люди безумно и жалко метались, плакали – тащили из одного места в другое имущество – для того, чтобы ему было удобнее сгореть!..
Я им сказал спокойно, совсем спокойно – среди криков и воплей. И они услышали тихое слово – ведь мгновения спокойствия только и можно остро почувствовать во время урагана:
– Разрушите эту улицу, и огонь потухнет…
Слово было простое, а они удивленно и странно глядели на меня и говорили:
– Он безумец!..
Да, я безумец – потому что не походил не них! И я повторил вновь прежнее… Повторил тихо, но настойчиво. Тогда они будто проснулись и поняли, и сказанное мной казалось им за придуманное ими – оно было так просто.
Они сделали, и пожар прекратился.
Они подошли ко мне после пожара, испуганно смотрели на меня – ибо они стали вновь люди, и гнилая змея каст1 поползла между ними вновь! Был я в лохмотьях, и на ногах моих засохла кровь – я шел издалека. Они спросили:
– Ты спас нас! Кто ты?
– Я тот, кого вы ждали. Я – жизнь! Я пришел из той страны, где редко закатывается солнце, когда приходит ночь – северные дивные мосты лучей покрывают небо! И ночь не бывает ночью. Я узнал, что вы день превратили в ночь и не поднимаете глаз к солнцу – и вот я пришел к вам… Я семью свою бросил, я родину бросил – и одинокий пришел сказать вам про солнце – прекрасное, лучезарное, волшебное, миллионноликое солнце!.. И как музыку тайн они слушали слова мои и кричали:
– Слава тебе, Пришедший, слава!..
Ввели меня в храмы свои, и я говорил про солнце, про красоту мира, про красоту признаний вечности.
Меня окружали сотни друзей и тысячи женщин, искавших моей любви.
И вдруг я увидел, что они превратили меня в сказку, слушали и чрез минуту забывали. Это огорчило меня, и я сказал им:
– Уйдемте из городов, из каменных глыб – к солнцу!..
Но я еще не знал их; они думали только о покорении земли, о машинах и каждый винтик их знали. Рассматривали под микроскопом капельку воды – и видели там тысячи жизней – но вот себя не знали! Души своей не могли изучить… И машины поглотили у них истинно человеческое!..
Все покинули меня. Друзья пошли к другим пророкам, которые говорили, что зло и мрак – это и есть цель жизни, а любимая женщина ушла к развратнику, потому что у него были деньги, а у меня их нет.
Я смеялся. У меня остался смех, который еще слушали, – здесь ведь никто не смеялся! Чтобы они хотя немного были веселы, я смеялся, а под одеждами рвал тело ногтями, дабы болью заглушить плач сердца…
– Он над нами смеется, – рычали они. – Уничтожить его!
Бросили меня в тюрьму. Было там слизко и сыро, стены шептали ужасы. Однажды в день сторож бросал мне через окно кусок хлеба и бутылку воды.
Я ходил по каменному ящику и хоронил прошлое. Впереди ничего не было – только злоба… Она оплела мое тело крепкими невидимыми сетями и в глаза дышала серыми миражами, поднимала мою голову и гордо шептала:
– Забывай прошлое!..
Протекло время… я не знаю сколько! У ночи нет числа. Единственный час ее – смерть, единственная стрелка, указывающая на час, – забвение. Я сгорбился, и на волосах моих был белый пепел, только в глазах стало зло.
Однажды зачем-то вошел тюремщик – я кинулся, я убил его. Как при еде иногда раздавливают голову цыпленка – только мозг брызгает, так и я раздавил эту плоскую, хищную голову. И в одеждах его, старый и хилый, вышел в город.
Я уходил на родину!
Я убегаю от людей – я так презираю их, а они идут за мной! Я перехожу на другую сторону улицы, но и тут, в уголках, я слышу шепот похоти и хихиканье. Тогда я свертываю в пустынную улицу, я рад, я избежал их – но впереди меня идут двое и громко разговаривают. О, когда же я убегу от них, когда? Город так велик.
И злоба давит меня – мне нужно убить кого-нибудь. Мне все равно кого – я вхожу в первые раскрытые двери, беру попавший под руки лом.
В бедной комнате на кровати больная мать. Маленькая девочка кормит с ложечки своего брата и подносит кашку матери. Она говорит:
– Я наелась, мама, и брат тоже… Ты покушай…
Я плачу – она ведь не ела сегодня – она сама еле жива. Я целую грязную маленькую ножку, я целую все человечество, я спрашиваю:
– Почему у вас ночь, когда есть любовь?
Она говорит:
– Еще рано, и солнце не встало…
И смеется над глупым старым человеком, не знающим, почему ночь.
…Я выхожу на площадь. Я хочу говорить про красоту моей страны, хочу быть хотя сказкой, не клича на подвиг, но… не могу…
Каменные глыбы сожрали мою любовь к солнцу. Я не могу петь свет, потому что я стал сыном тьмы.
Тогда мне говорят:
– Ты стар и хочешь есть. Ступай и помогай воздвигать жилища для людей!..
И я кладу каменные исполинские колыбели для младенцев человечества!..
Дед Антон*
По Лебяжке чешуится рябь, будто тысячи рыбок скользят, бахвалясь1 серебряными плавничками. У берега, где зеленые облака тополей тонут в воде, – тихо. Туда почему-то не влизываются блестящие язычки ряби.
На яру нахмурился поселок. Серые шершавые крыши пригорбились к земле, как курицы от жары, – разинули ворота и изнывают…
Минька сполз на пузе по горячему песку с яра к берегу и лежа смотрит – дед Антон робит парнишкам пароход. Миньке хочется подойти, – а если Петька атаманов блямбу2 даст? Сердится, анадысь3 в бабки его обдул Минька, да всего-то три гнезда4.
И доспел же Антон пароходище, чистой «Алкабек», с двумя трубами – здоровый. Когда будет Минька большой – купит себе настоящий пароход, выкрасит его в голубой або в бордовый цвет, нагрузит – бабками да привалит в Лебяжье; Петьке атаманову – фигу, а не бабки покажет! И закружились тулупчиками с одуванчиками, что клюются в воздухе, разудалые мысли в лохматой Минькиной голове.
Антон – даром, что старик – узрел меж репьями Миньку:
– Ты, оглашенной, айда к нам!
– Не пойду!.. Петька атаманов отлупит.
Но Минька уж знает, что теперь Петька его не заденет, дед Антон не даст. Да и Петьке надо скорей видеть пароход на воде, поэтому он орет, струбачив5 облепленные ципками пальцы:
– Не трону, айда!..
И, чтобы сорвать свою злость совсем, пускает гальку по воде – считать блиночки.
– Слышь, парнята6, теперь руль пригвоздим – и готово! Антон козырнул на солнышко.
– А поужинать не время? Хе-хе-хе! Испугались! Да ладно, слышь, на-стримнежим7 – и пойдем… Давай-ка, Минька, вот тот гвоздь!.. Пароход начали спускать…
Минька с восторга на спине у Петьки рубаху всю располоснул: маленькая дырочка была, а как потянул – только затрещало!
Антон отодвинул ребятишек подальше и поглядел – хорошо!
– Деда! – Сенька-попенок дернул Антона за изодранную полу бешмета8. – А как мы пускать его будем – уплывет ведь?
– Верно, парень! – Антон шлепнул легонько Сеньку по стриженой рыжей голове. – Сразу видать попа! Дуй, брат, к бабушке Фекле да попроси у ней ниток, мы причалы сробим.
– Не даст…
– А ты скажи: матушка-попадья, дай ниток суровых, Антону, мол, бешмет починить надо. Даст, парень. А я погреюсь на солнышке…
…Дохнуло холодком. Солнышко нахмурилось на облачко, обнимавшее его, а потом опять засмеялось. Пригревает Антона на золотце песочка и выжигает будто у него с души все, что давно накопилось. И сердце быстрее потукивает, давно не щекотало так.
– Да-а, ребятки, – ласково тянет Антон, крепко швыркнув с ногтя нюхательного табаку. – Давно вот так не грелся на песочке. Все дела! А каки-таки, спросят добры люди, дела у тя, Антон? А вот, братцы, не угодил на сыночка…
Миньке не занятно, как возится Петька атаманов с толстопузым Митькой Сметаниным. Выпучил бельмешки на Антона:
– Не угодил, значит, и ступай старец во все четыре стороны. А то, что был отец атаманом в поселке, – ничо? А епутатом ездил к атаману отдела9, когда у нас большую заимку киргизье оттягивало, – ничо? Да ведь я – все! Износились бродни10, так, значить, под порог! Сы-но-чек!.. С молодости бился, как перец в ступе, – облегченье, думаю, под старость…
– Деда, а пошто у те в бороде солома?
– Солома? Соломой-то у тебя вот пока, брат, башка набита. А вот раз везем мы солому, расскажу я тебе, молод я был… Лежу на возу вверх брюхом, напеваю… Бах! И на те – на дороге, в грязи. Бастрик-то11 у меня крепко был подтянут, лопнул – и меня огурцом с воза-то! Подвязал я опять бастрик и пошел пешочком. Прошел версты две, только, думаю, залезть надо на воз, грязища была матерая! Смотрю, – на-те язви-те, – порфелише толстый на дороге лежит, чиновник какой-то ехал – и обронил… Ладно… У меня руки и ноги затряслись; открываю – а там денег-то! Тьма-тьмущая!.. Ну, думаю, счастье. Приехал домой, уж и не помню, как и распрег, – слышу, орут: «На сходку12, атаман зовет!». Я этот порфель туда-сюда – положить вот нехорошо – украдут, думаю. Вот так тоже… Порешил на сходку с собой сносить, а потом и перепрячу… Прихожу – в Поселковом народу полно. А вижу, верно, чиновник стоит, потому летом у нас по тракту акромя чиновников никто и не ездит… Да… Стоит это, бледный, как алебастр, скажем, жженый. Так, – говорит, – братцы… Потерял я деньги – восемь тыщ. Спасите, скажите, что, дескать, когда я приехал к вам, денег у меня не было! Станичники тут галдеть – ахинею парень порет!.. Шум тут… А я и говорю: «Пропустите-ка, братцы, Антона-то Пустынина». Выхожу, да и говорю: «Получай свои деньги!». Да-а… А нынче сделают так – жди! Лаврюшка, сыночек, отдал Докаю-киргизу делянку заместо двадцати рублей, по его бедности, за три – ну, так две недели и звонил!.. А ничо не поделашь – выкис народ…
Антон поднимается с песочка и горбатится вверх по яру.
– Деда, куда? – орет Минька. – А пароход – то?..
Вокруг поселка желтыми лопаточками зубатятся дрова. Пристанний поселок, и дров тут навозят много – каждый пароход останавливается.
Пошаркивает Антон мимо радужных старых окон, мимо чистенькой часовенки, мимо школы, – к своему сынку Лаврентьюшке. Купцом стал Лаврентьюшка, как отписал ему Антон свое имущество; все сдал ему, сам отдохнуть хотел.
– Бог на помочь, сыночек! – обнял любовно старыми глазами Антон пригоны13 новые, тесинами зубастыми обнесенные. – Давно не бывал я у тебя. Тянет вот на старости лет – на обогретое местечко-то.
– Спасибо, – отвечал Лаврентий, метнув черными зрачками на отца: что здесь старому надо, шел бы, умирал где-нибудь, а то ворчит, ходит. Но ничего этого не сказал, бросил оглоблю на пол – под руки подвернулась. – Иди на кухню, в горнице моют, тятя! Где был-то? По поселку болтают вон – отца, говорят, выгнал, шляешься, а я виноват.
– Да не сердись, Лаврентьюшка, гулял я. На Калистратовой заимке был, в гости ходил, – чо старому сдеется – не думай.
Смолчал Лаврентий. Легко вскинулся на белого большого иноходца – даром, что как медведь мужик, – схватил укрючину14 и погнал в степь. Только пыль закурчавилась, да щепки от новой теснины полетели, когда хозяин проезжал; рассердился – треснул укрючиной.
Кажется Антону – все теперь хорошо, хоть и не ласково сын принял, – а «тятей» назвал. И куда это редко бывает! Опять-таки, хоть и на кухне – да ведь и сам Антон понимает, что стыдно такому идти в горницу – только наследишь. Ковыряет из старой миски Антон кашу и ворчит ласково, словно бы поет:
– Завтра непременно в баньку – попариться. Потом можно будет и на рыбалку – ребятишкам пучек привезти, да и рогульки15 поспели, небось… Аль не поспели?.. Чудны эти парнишки: пароход смастерил – радости-то! Диви бы ладный, – а крюками моими много не сробишь…
Седой, старый, как и Антон, кот выполз из-под печки, уставился под лавку. Должно, мышь зачуял – буркалы16 как вонзил! – Ишь, ведь! – перестал Антон есть и ложку с кашей на скатерть положил даже.
А в кладовке, за дверью, – так-то слышно Антону – разговаривают:
– Какого хлеба-то отрезать старику?
– Дай – вон там заплесневели краюшки. Ладно с его… – трещит хозяйка работнице.
Ах, как будто расплавленным оловом плеснули на старое сердце!.. Шаркает опять Антон по селу, без шапки, да с испугом глядит на людей – кажется ему, показывают на него все пальцами:
– Вон он, Антон Пустынин, – пожалела сноха хлеба ему, краюшку плесневелую поднести захотела… Сам должен заботиться, сам!..
Вот галки, как Антоновы мысли, низко над землей кренятся… Черными пятнами углят землю. Зачем он? И будто целые тучи их в голове Антона каркают о чем-то, что и понять сам не может… Прогнать бы их, да плетью висят старые руки…
– Самому нужно, самому!..
…Из-за попова дома выглядывает Минька с товарищами. Искали, искали дедку, – а он вон – идет… Хотели только приударить к нему – Антон проходит мимо лавки Поклевского – останавливается, с надрывом кричит:
– Григорий Иваныч!
Вышел Поклевский, встал на крыльце, поблескивая на солнце лаковыми сапогами:
– Антону Степанычу особенное! – Приглаживает вихор казацкий, недавно из службы вернулся. – Чем порадуете, уважаемый?
Научился в городе ласково с покупателями обращаться, хочет и в поселке дать форсу.
– Местечка нет ли у тя? – щупает бороду трясущимися руками Антон.
– Как вы сказали? – удивляется Поклевский и вихор не стал расправлять.
– В работники возьми!
– Вас?
Закатился Поклевский, мелко так – как горох сыплет… А потом басом:
– Хо-хо-хо!.. Да куда вас, простите за выражение, прошлогоднюю картошку!.. Аль опять на сынка рассердились?
– Тебе-то чо!
– А какой вы работник! С рук кормить надо!..
Взметнулся Антон:
– А чо ты ржешь, как кобыла на овес? Молокосос!
– Сволочь! – заорал Поклевский. – Чего пристаешь?
– Как над тобой не смеяться – грабитель! У твоего отца-то ведь ноздри рваные – шпана каторжанская! Богатство-то как нажил – в тайге бродяг стрелял? Не отцу твоему разве бродяги на голову накалённый котелок надернули?
– Уйди, старый черт!.. Холера… – и понес…
Плюнул Антон и опять пошваркал по пыли старыми обутками.
– Деда? – выскочил из-за попова угла Минька. – А пошто ты ему ничо не сказал?
– С дураком грешить…
– Давай я ему окна вышибу? А ты ему ничо не говоришь – он тебя отколотил бы, деда а?
– Нет, не стал бы.
– Схлыздил17, деда! – Сенька удивленно взглянул на Антона и сам себе не поверил, что деда струсил. – А пошто ты без картуза, деда?
– Айдате-ка, парняты, пароход пускайте – я приволокусь ужо!..
– Пойдем сичас! – Минька тянет за надорванную полу бешмета.
– К бабушке Фекле схожу, вот тогда и приду…
– Айда, Минька! – Сенька одернул рубаху и выковырнул из носа кусок грязи; ему обидно. – Чо кланяться-то? Хлызда!
– Хлызда! – заорал Минька и ударился к реке… Знал Антон, что скоро вернутся к нему ребятенки, а вот грустно стало… Последнюю ребяческую ласку отняли…
Бабушка Фекла варила болтушку18. Виднелся из-под низко повязанного платочка только кончик носа, похожий на сваренную морковку. И вся-то она была как морковка.
– Долгонько, Антон Степаныч, не бывал! Загордился чо-то ты? А у нас Машу-то просватали – только ты молчи – тихонечко меж собой, мы уж никому и не говорим… Женишок-от из Ямышева, атаманов сынок, – работящий парень. На Николу Семенова покойного – царство ему небесное! – здорово походит – белоголовый такой!.. Белуха-то, Антон Степаныч, отелилась – я те как-нибудь теленочка покажу… Темно счас – не разглядишь ведь…
Тоненькими винтиками полз дымок из-под таганки…19 И такими же винтиками длилась речь и таяла незаметно. Плели белое кружево – и окрашивались радужными красками, как старые оконца, нити прошлого… Будто бы кто-то тряхнул старым мешочком, и посыпались оттуда старые, но старикам новые монеты… И бережно перебирали их, и на каждом пятнышке останавливались – скорее запоминались пятнышки. И пятнышки эти становились картиной – подойдет новый человек, скажет – смешно, а то и ничего не скажет, – потому что не поймет… Засиделся Антон.
Уж и «казачье солнышко»20 захохотало из-за Иртыша… Выбросило тысячи языков и слизало пыль… Пала роса.
– Прощенья просим, – Антон кряхтит и отрывается от кошмы, – отдыхать пора… Эхе-хе!.. Косточки-то старые ломит по вечерам, а бывало в старинку по сотне верст валял на вершине – ничего не было.
– Отзывается теперь молодечество, – бисерит словами бабушка Фекла. – Укатали Сивку… И здоров же ты, Антон, в лагерях был. Сколько уж тебе?
– Много, – тянет Антон. – Уж и не вспомнить теперь – поди, за восьмой десяток!.. Пойду-ка я, Феклушка.
– Да куда?
– На Калистратову рыбалку, – сердито отбрасывает Антон.
– Постой-ка, Антон Степаныч. Вот ведь ты как – в самую середину попал, сейчас я! – Темным волчком бежит по ограде бабушка Фекла. – Машка, да где тя лешак таскат? Айда вон с Антоном Степанычем – он на Калистратову заимку идет – на мельницу ей, по пути тебе. Возьми-ка ее с собой – боится. Девка – как осиновый лист, муха пролетит – боится…
…Хрусталем закидала улочка. Прозрачные лунные копья вонзаются в черные ямы…
– Чо ты, домой-то не идешь? – звенит Машка, дугастые черные брови удивленно вскидываются. – Пошто ночью на рыбалку идешь?
Роняет Антон слова, как светлые лунные петельки, – тихо и нежно. Обидели его – так он будет ласковым:
– Жись вроде как дорога, девушка. Ну, надоест человеку идти – вон он и свернет на тропиночку, цветочек сорвать, або ягодку съисть. Вот и я как бы, значит, что ягодок захотел, – и поплелся на рыбалку… По старине у нас там с Калистратом! А у вас новшества… да… все новое хочут – у стариков-то щепкой в горле новое застревает… А у молодых, ничо, проходит…
На углу гармошка повизгивает «матаню»21, и кто-то тонко и жалобно выводит:
Я иду, иду болотинкой,
Машу, машу рукой…
Чернобровый мой миленочек,
Возьми меня с собой!
– Парни хороводят. Да… а утром, чем свет, робить надо – эх, жись!..
В темноте у плетня поблескивают папироски. Слетают, будто с папиросок, какиие-то круглые, неразборчивые слова и тонут в сумерках. Прижимается ближе к Антону Маша, – озорники парни!
– Кто идет? – искусственно басят у плетня.
Антон узнал Поклевского.
– Деда Антон идет куда-то!..
– Антон! – обрадованно кричит Поклевский. – Ишь, старый козел, с кем это? А ну – стой!..
Вышли на дорогу.
– Не лезь, парнята, – ласково кидает Антон и хочет идти, но Поклевский закрючивает его за плечо, несет на Антона горячей волной махорки.
– Да ведь он с Машкой Феклиной, язви его в нос! Подцепил товарец, ишь, буфера-то распустила! – хватает Поклевский Машу за груди. – Ишь, сволочь – а, на старости лет! За поселок повел, собака старая…
– Ночевать к мамушке я пошла, а он провожать, – плачет Маша.
– Провожать!.. О-хо-хо!.. – ползет над старыми крышами.
– Не трогай, говорят, парень! Слышь – словно задергал жилы кто у Антона, и голос покрепчал. – Не лезь, дурачье!
– Еще закурдачил22, стерва! На-а!..
Поклевский как-то странно изогнулся и нырнул на Антона, и вдруг упал, зажимая лицо руками.
Он хныкал как ребенок:
– Уби-или!..
Закрыл будто кто-то горячей рукой глаза Антону – и мечет его из стороны в сторону… И кто-то стонет, а он мечется.
– Зашибу!.. – Молоды еще! А-а…
Васька Кучерявый отбежал к плетню, вырвал кол и подобрался сзади к Антону. Хрястнуло что-то.
«Как арбуз раскололи», – подумал Васька, оглянулся – все разбежались. Тогда и он шарахнулся по улице, крича:
– Кара-ул, Антона убили!..
Посредине дороги, как большая черная птица с белой головой, лежал дед Антон. Вблизи на оборванной поле бешмета валялся корявый кол…
– Убили… – плакало по сонным огородам.
Купоросный Федот*
Пришли с войны солдаты. Стали рассказывать про пушки, автомобили да аэропланы. Казалась война одной кровавой громовой ямой, где нет места душе.
Подошел к солдатам Федот (лицом он был синий – потому и купоросным1 прозвали) и с корчей какой-то просипел:
– Врите боле, стервы! У меня вон книжка есть – Миликтриса Кирьбитьевна2. Там тебе и ковер-самолет и скатерть-самобранка. Так-то, хвороба. У вас с голодухи мрут, а?.. В инакову пору-то3, басче было…
И повернулся в лес, пни угаивать4.
Дальше обычная причесть5: самогонку гнали, пили. Баб избивали. Все в порядок входило.
Приходящему из тайги Федоту поведывали про жизнь городскую, обычаи нездешние.
Один солдат, руку переломанную показывая, сказал:
– Не веришь, купоросина, в людское летание. Черт гундосый, за тебя страдали, отдувались. Я с ароплана упал, руки сломал.
– Поди, так хлещешь?
– Я! Эх, и язва ты-ы… Это ты себе врешь – душу свою обманываешь, сознаться неохота.
– А Бог есь? – прищурив один глаз, спросил Федот.
– Ты к чему гнешь очки-то? – не понял солдат. – Не виляй…
– Нет, ты мне выклади – есь али нету.
– Ишь, зажига6, – поддался солдат. – Ну, есь.
– А есь – так пошто он тебе крыльев не дал. Ты бы и полетел. Значит, нету надобы… И хлопнулся7.
– Дурак ты! – взъелся солдат. – Ты механику знашь?
Федот ответил:
– Не-е…
– По причине такой и дураком растешь. Механика учит, как человеку ближе к Богу быть и спасение свое в раю подготовить.
– Магия?
– Може и магия. Нет – не магия. Черта там нету. Этой механикой все и сотворено.
– Та-а… – протянул Федот, снимая с плеча берданку. – Летают?
– За милу душу.
– А как?
– Наподобие птицы. Хошь, картинку покажу?
Солдат достал из-под лавки, из засаленного вещевого мешка номер журнала с изображенным на нем аэропланом.
– Мотри, челдония8.
Федот повертел журнал в угловатых пальцах и пошел к двери.
– Куда ты, лешак, – спросил солдат, – картинку-то чо попер?
Федот склонил голову и со стражбой в голосе9 сказал:
– Отдай мне. Нада.
Солдат залотошил руками, свертывая сигарку.
– Ну, бери, я человек мирный.
Федот вышел за поскотину, остановился, тупо глядя на речку в полдневном блеске.
– Ой ты, хлуп!..10
Топнул оземь ногой Федот.
В согры11 ушел купоросный Федот. Не зная зачем, бродил среди влажной полутемноты, в хмельнике, смородиннике. Шуршала под ногой персть12, сучочки, ломаясь под ногой, хрупали.
А сердце ела и зло сосала мысль: «Почему мир такой есь, што сказка. И даж руки люди ломают». Со злостью сказал Федот:
– А чо – я хуже?
Постоял на одном месте, подумал и просипел:
– Не хуже, знамо. Дуракам Иванушкам Ковры-самолеты да Жар-птицы доставались… Я не дурак, брат.
Радостно, откуда-то изнутри, прозвенело:
– Ты, Федот, не дурак…
Осиял весь, шапку на затылок сдвинул и напрямик, ломая кусты, пошел из согры.
И заполнила его новая жизнь в каких-нибудь два часа. С утра – хмур, к паужину – весел. Чудеса бывают!
А скоро из тайги в деревню вести дошли о затее Купоросного Федота, неладной. Из жердей-де орясину13 нескладную строит, обтягивает палатками, даже материну исподнюю14 на хвост своей змеевидимой оказии изрезал.
Подумали-подумали мужики да по воскресенью пошли на Федотово творенье смотреть.
И точно.
Стоит на елани15 бестелое, костятое чудище – не то птица, не то ящер. Из жердей да свежекедровика сбитое.
Округ сам Федот с топором да двустволкой ходит, да парнишка его Сенька, да собака Турко. Лицо Федотово гневностью обметано – лешак понапер вас? – думает.
Мужики спрашивают:
– Ты чо, спятил?
– Не дуре вас, – пробурчал Федот.
– А чо рукомеслуешь-то?
– Ароплан, – говорит Федот.
Так все и покатились – у старосты со смеху гасник лопнул.
– Талагай!..16
– Батюшки! Ароплан…
И пошло по деревне:
– Ароплан, взаболя, купоросной ладит.
– Ароплан?
– Куды иму? За белкой по кедру гоняться.
– Ой, милота! Ой, улыба!..17
Целым обществом ходили, журмя журили, отговаривали:
– Возьми, парняга, в голову: делатся ароплан на заводах, людьми век тому обучающимися. Дудочки на костие идут тонюсенькие, пленочки чуть морощатые, а ты жердины в руку толщиной влепил.
А Федот лицо косит да сиплым своим голосом отвечает:
– Завидки берут? Али зверь мудренее человека – а без науки большие ухватки знат. Вы мне тюрюрю не городите18. Полечу и никаких.
Отстали.
Почесь19 три месяца мужик бился – изомлел весь и сгородил такую штуку, аж самого дивеса дрожью пробирали.
Отойдет от работы, головой покачает да от удивления и ахнет:
– О-о-о…
В ту пору учителя нового в деревню определили: духом смирного, незатейливого, молчальника. Мужикам он понравился: не брякуша20 и под нос с расспросами не лезет.
Узнал первым делом учитель об самомнящем дерзновении Федота. На другой день приезда и пришел к нему на стройку.
Обошел машину, пощупал жерди пальцами, носом воздух потянул и, тыча пальцем Федоту под сердце, отрывисто бросил сухие слова:
– Полететь думаешь?
– Полечу, – твердо сказал Федот.
Тут взглянул хитрым серым глазом в лицо Федоту учитель и растянул:
– Не полетишь.
– Пошто?
Учитель послушал, как шумит ветер в кедрах, отломил веточку пихты, помял ее в ладонях и швырнул прочь. Потом просто и душевно сказал Федоту:
– Сердцем не вышел. Хлипок. Не полетишь.
И будто что вынули из груди Федота. Размяк весь сразу, словно угорел. Постоял, потоптался на месте.
Обедать пошел и не мог есть. Ослонила21 со всех сторон тоска, обдержания. Опять на стройку ушел…
Голову загнетала мысль: – «хлипок, а? куричье сердце?» И точно спрятана где была эта мысль, а теперь выскочила, заполнила все существо и сразу вера в себя и бодрость пропали.
Душно было, будто сердце – раскаленная каменка и брызнули на нее водой…
И остекленивши, сказал Федот:
– Их, оглух…22
Скрипнул зубами, топор схватил и работу свою взлелеянную разрушил.
– На!.. Лопай.
А по вечеру напился самогонки, с гармошкой ходил по деревне, орал матерные песни. А позади шел сынишка, Сенька, дергал отца за пояс и пикал:
– Тя-тя… пойдем домой… тя-тя..
И ночью, когда все полегли спать, подошел Федот к школе и все окна выбил.
– Вылазь, сука!.. – сказал Федот с колом в руках у крыльца. – Вылазь!
Вышел учитель – в белой рубахе и белой фуражке и тихо, грустно сказал:
– Коли горит голова, – лучше не кричать… А коли болит душа.
И попросил прикурить.
Непонятно и пугающе звучали его слова, вместо выстрелов, как ожидал Федот, вместо матерщины. Едкий и незнакомо больной осадок на сердце впускали слова.
И не мог Федот придумать, как ему отсюда уйти без позора, без насмешки впредь.
– Стерва ты, – сказал Федот, поворачиваясь, – стервой и подохнешь…
…Учитель вошел в комнату и, сдвинув брови, хрустнул пальцами. Сквозь разбитые окна врывался теплый августовский ветер.
Анделушкино счастье*
Имя у него – Михаил, но Михаилом его никто не зовет.
Дали ему за набожность казаки кличку – Анделушка. Так и прилипло.
Лет ему девятнадцать, а походит он на парнишку1. Маленький, щуплень-кий, как пискарь. Лицо оспой пощипанное, точно из наждака. И взгляд шальной, нездоровый.
Ходит он, зиму и лето, в лохмотчатом грязном халатишке, походкой подпрыгивающей, передергивается, словно бы по крапиве. На работу по неразумию своему не способен. Да и говорит-то он плохо, неразборчиво, будто жует слова:
– Те-е-а!..
Хлеба, значит, просит.
Никто на него поэтому и внимания не обращает. А растет Анделушка мечтателем и боголюбцем.
Боголюбство, положим, у них в роду, Дерюгиных. Старики древлей веры придерживались2, двуперсто осенялись, так и дале уважение к древлему шло.
Вот и тетка Анделушкина, Фелисада Андреевна3, большая богомольница, Анделушке без перемеж божественное учение вдалбливает. Про чудеса скрипучим старчечьим голосом повествует, темные строгие лики святых с вымученными глазами лобызать с трепетом научает.
Поселок наш далеко от городов. На реке пристани нет. Да и пароходом редко сюда по Черному Иртышу подымаются. Потому – быстро течет Кара Иртыш, будто на свидание спешит, темно-синий красавец.
Народ здесь крепкий, как старая посуда, душой косматый, заскорузлый. На слово – скуп, на новшество – тоже. И живем мы, как медведи, окромя пищи ничего не ведая до того, полагаю, момента, пока по лбу чем-нибудь не огреют. Тогда, может статься, что и скажем.
Лето.
Зной днем – тяжкий. Солнце так усердно обливает жаром поселок, будто сжечь хочет. И кажется – попади искра, со свистом сгорят вековые дома, срубленные из матерых сутунков. В един миг сгорят, как смолистая лучина.
И ветру нет. Спрятался там далеко, за горой Киик Бас (Лебяжья голова), белый аракчин4 которой вдали виден. И хоть бы руку сюда протянул, пахнул бы свежим духом с полей, с реки, легко вздохнуть дал бы.
Выйдет Анделушка за поселок, на яр.
Смотрит на мир, притулившись где-нибудь к серому камню. И как только такие гнойные крошечные глазенки красоту эту видеть могут. А видят.
Внизу, под яром, сразу луг идет темно-зеленый, на нем, будто каменья, разбросаны цветы: красный исстюк, ярко-желтый дюнькач. А там бледно-серебряный подлесок тала идет. Еще дальше: синий дракон Кара-Иртыш чешуей блестит на солнце. А за ним – в светло-фиолетовом сиянии – горы. А среди их краса-красот Киик Бас-гора.
И среди неясных волн звуков забегает в уши Анделушки скрип в поселке киргизской арбы, похожей на треск ломающейся полыни. А то катится с яру камень. А то газырчах5 прямо, как по нитке, пролетит. Сильно протянет:
– Ви-и..
И в такие моменты глубоко-глубоко, нежно и сладостно поет душа Анделушкина. Жутко, не по себе становится – точно с колокольни под пасхальный звон вниз на землю глядит.
Встает он и подпрыгивающей своей походкой в иную сторону направляется.
Любит также Анделушка и беседы стариков вечерами.
Почасту заходят к Фелисаде Андреевне гости, женщина она всеми уважаемая, состоятельная.
Бывают: писарь поселковый Герасим Гоныч, щеголь на городской фасон. Сосед Никанор Кузьмич Ворошинин, богатей и человек грубый на язык. Атаман Усов, хмурый, носящий всегда папаху. И еще кое-кто.
Да каждый день бывает о. Викентий, поселковый священник, сосланный в наш приход за пьянство. Любитель драк, охоты, хороший домохозяин. Казакам он вошел в честь, прозвище дали ему – поп Викент Четверг.
После чая выходят в ограду. А там корчаги с горящим кизяком стоят – дымом гнус чтоб отгоняло.
С паузами, покуривая, беседу ведут.
Говорят все больше про домашность, разве когда сторож церковный Тальник придет, дмыхнет носом, про судьбу брякнет:
– Эх, мол, гвоздь тебе в нос, почему ты нас на путь не направишь. По писанию…
А тут же рядом матершину загнет. Не поймешь его.
Анделушка около беседующих меж бревен заползает. Глаза зажмуривает и, тихонько покачивая головой, слушает.
В темноте пахнет от бревен смолой, различными шумами плывут голоса, и приятно чувствовать себя невидимкой.
Впрочем, Анделушка и не вникает в смысл их речей. Изредка разве слово какое поймет. Он ждет, когда тетка начнет рассказывать о «писании».
Распускается в небе бледным цветком месяц. Ночь идет по земле. Земля потягивается и вздыхает сладким и сочным запахом.
И когда уже совсем темнеет и люди успокаиваются, – всего Анделушку охватывает оно, липкое и страшное. Виски его покрываются потом. Он раскрывает глаза и глубоко дышит, как губка воду, жадно впитывает дивную речь Фелисады Андреевны.
– Есть у нас, – однотонно, точно молитву, начинает она, – небылиса в роду така. Жил-был премудрый человек, по имени Пафнутий. Жил он в наших краях ровно восемьдесят шесть лет. Молитвами, коленобиениями душу спасал. А узнал Бог Господь про то его спасение, говорит как тут архангелам: «Да идитке те вы во страну ту, ко премудрому старсу Пафнутию. Волю ему мою передайте, мол, угодно мне спасение твое, Пафнутий, да каку-таку награду-подарок возжелаешь, раб мой?» Да вот и полетели архангелы пречистые. Да через реки быстрые. Да через море синее, да через поле чистое к тому ли старсу Пафнутию. И говорят тут архангелы: «Уж ты ой еси, Пафнутий премудрый. Узнал Создатель про спасение твое и сказать тебе повелел: „Да идитке те вы во страну ту, ко премудрому старсу Пафнутию. Волю ему мою передайте: мол, угодно мне спасение твое, Пафнутий, каку-таку награду-подарок возжелаешь, раб мой?“». А и говорил тут старец Пафнутий архангелам тем: «Восемьдесят шесть лет спасался я, коленобиениями плоть свою умервщлял. Милостив Бог Господь грехи мои простил, да не все они замолены, не все они забвенны. Прошу я у Господа милости – грехи свои в книгу записать, в „Миниар-Писании“. Скоро умру, знаю, недостоин предстать пред очи Создательские – чистые. Пусть люди за грехи мои молятся, грехи тяжкие-окаянные». И дал Господь Пафнутию-старцу книгу писать. А и черные грехи свои писал – в «Миниар-Писание» – кровью красной словеса окрашивались, молитвы чудные получились. А и красные-кровавые грехи свои писал – милостью божеской в синие-синие словеса молитв грехи окрашивались. Сорок дней и сорок ночей писал премудрый Пафнутий-старец причудну книгу толщиной восемь досок вершковых, книгу ту «Миниар-Писание». И така в ней правда вмешшатся и…и…6
Вбирает в себя воздух. Слушатели молчат.
– И того ради вникает кто в ее, матушку, весь мир к добру переделать сил возымет… А и ешшо значит…
И всегда на этом месте поп Викентий, человек непомерной толщины, пыхтя и отдуваясь, обзывает своих собеседников «двоеданами»7 за глупые россказни.
Фелицата Андреевна резко возражает.
Поп сердится и стучит кулаком об сутужок.
Анделушка вылазит из-под бревен и бредет за ограду.
Анделушка иногда спрашивает у тетки, где находится «Писание». Тетка не понимает неразборчивого лепета, легонько шлепает сухой рукой по голове его. Медленно, точно прислушиваясь к чему-то подсказываемому, бранчливо говорит:
– Не пойму я тебя. Блажной ты, вот что.
Анделушка щупает свои жесткие волосы и думает: «Почему обманывает его тетка».
Потом, вечером, Анделушка берет кусок хлеба, съедает его. Ложится в уютно пахнущее сено на телеге и глядит вверх.
Короткая летняя ночь быстро течет, как вода в Иртыше. Сначала на востоке белая полоска свету далекого всплывает, точно темно-синюю сталь неба серебрят. Затем огненная голова Киик Бас-горы легкой краской пойдет, словно бы стыдится, что первый солнечный луч на себя приняла. А тут:
– Гы-ы-ох!..
Гул в горах прокатится неведомо отчего. Должно быть, шайтан с ночью прощается.
И неоднократно ли повторяющееся теткино предание, другое ли что – только почти каждую ночь думает Анделушка о «Миниар-Писании» с золотисто-лазурными словами, доброй книге.
Знакомо, ласково около се дня холодеет. Туманные круги идут перед глазами, а небо ширится, колеблется, лентами огненными волшебными извивается.
Вскакивает Анделушка на колени. Молится. Стучит головой об дерево. Плачет.
От телеги пахнет дегтем. В доме тишина. Выпуклые тени по двору ложатся – от пригонов, забора, как черные куски какой материи…
Как листья на дереве, дни выступают за днями. Сухое, спокойное ткут одеяние лету.
Жаркие струи подлетают, обнимают голову, иссушают. Как олово, тяжела кровь в жилах.
На Петра и Павла8 рано ударил поп Викентий к вечерне – которые казачки огороды полить не успели. Хотел отслужить скорей да засветло на бахчи съездить.
Одеваясь, тетка Фелисада Андреевна серьезным голосом говорит Анделушке:
– Великий праздник завтра будет, Анделушка.
– А? – переспрашивает тот для уяснения. Тетка недовольно морщится:
– Два. Чем слушаешь-то. Женить пора, а ты чурбан чурбаном. Богу молиться честь честью не умеешь.
Анделушка взглянул на ее изжелта-черное крапчатое платье и побежал надевать сапоги.
Не спеша, степенно сбираются казаки в церковь.
Церковь – древняя. Медно-красная ее окраска облупилась. Всех прихожан она не вмещает, и они разливаются из дверей разноцветным потоком в ограде. На клиросе гнусавит писарь Герасим Гоныч, открывая черные порченые зубы. О. Викентий в бледно-зеленой ризе взмахивает волосами и солидно потрясает кадилом.
Молодяжник, увидя Анделушку, начинает дразниться:
– Када на небо полетишь?
– Сколько верст до святова осталось?
Анделушка поднимает плечи и наклоняет голову. Так и в церковь входит. Поспешно крестится, кладет земные поклоны Анделушка. Торопливо прикасается горячими пальцами к теплому крашеному полу церкви. Ловит неразборчивые слова попа и гнусение писаря. Шепотом вторит словам молитвы.
Казаки давно привыкли к Анделушке. Равнодушны на отбиваемые усердно Анделушкой поклоны. Равнодушно смотрят на восторженное, подергивающееся в судорогах его лицо. Равнодушно стоят, крестятся, оправляют чапаны9, думают о своих делах.
От духоты, ладана и копоти свечей – больно застучало в Анделушкиной голове.
Вышел он в ограду.
Тальник, сторож церковный, в зеленом праздничном купе, заложив за губу носового, изумленно улыбаясь, говорит:
– Поп мне и брякни: береги, мол, церкву, особенно смотри, великое тут дело имеется… Во!..
– Како тако дело?
Тальник передвигает за губой табак, пристально взглядывает на спрашивающего и с видимым удовольствием продолжает:
– Тако, мол, что в церкви этой самой псалтири царя Алексея10 хранятся… Во!.. Понимаешь, как загнул, разъязви его… По-моему, «Миниар-Писание» это! Ей-Богу! Ты только на книгу взгляни…
Никанор Кузьмич глядит на свои сапоги и высказывает недоверие:
– И все льет!
Тальник с тихой обидой в голосе отзывается:
– Не лью, по правде разговор идет. Вся истина там, грят. За котору стары люди страдали. Жглись11.
– Потому и жглись, что неучи, – по обыкновению своему тихонько вставляет вышедший из церкви писарь.
Анделушка отходит.
Слова о древнем псалтире шипами вонзаются ему в мозг.
Знает он у тетки книгу, тоже древнюю, которую она бережет, как свои волосы. А эта еще должно дороже.
Анделушка протискивается вперед и обшаривает глазами алтарь, клиросы.
Вечерня подходит к концу.
И вдруг чтец Андрей, молодой рыжеволосый казак, похожий на распустившийся подсолнечник, доставая из-под столика октоих12, уронил с полочки толстую, зеленую, в кожаном переплете с белыми крупными застежками книгу. Падением своим книга растворяет дверцы шкафика и катится на пол.
Анделушка подкрадывается сзади, закусив губы, смотрит через плечо Андреево. Книга раскрыта.
Красные и синие букашки строго взглядывают Анделушке в лицо со страниц ее.
Казак, чувствуя на шее горячее дыхание, оборачивается, видит изнеможенные Анделушкины глаза, вздрагивает и одергивает книгу.
«Она» – жарким сгустком ударяет в сознание Анделушки. И даже не это слово, и не слово совсем, а что-то дорогое, близкое, всеобъемлющее указало, пустило по всему его телу горячей струей: «это…здесь…она…»
Анделушка уходил из церкви подпрыгивая, размахивая руками, улыбаясь – с видом человека, нашедшего драгоценность.
Совсем затосковал Анделушка.
Мысль о зеленой книге в кожаном переплете вошла в его голову, плотно поместилась там и уверенно и сильно давит стенки черепа.
Бродит, ищет он, не зная чего, и всегда в конце концов подходит к церкви.
Собаки со впалыми боками, поджав хвосты, виновато отбегают от помойки за сторожкой.
Сторож Тальник знает его. Анделушка до «этого», бывало, один приходил молиться. Кряхтя надергивает старый на босые ноги рваные старые пимы и снимает с дверей церкви винтовой замок, похожий на сплюснутое «о».
Поп Викентий хотя и находил – «для молитвы есть другое время», но особенно молениям Анделушкиным не препятствовал.
Теперь Анделушка совсем зачастил.
В церкви прохладно.
Анделушка подходит к царским вратам, падает на колени, бледнеет (если можно назвать бледностью синеватый налет, покрывающий его лицо) и, не владея собой, выкрикивает как-то кусками:
– Вс! – по! – ди!
И говорит слова незнакомые, – и ему и миру, – чужие, но радостные, успокаивающие.
А однажды он осмеливается.
Торопливо, с холодком в крови, входит на клирос к столику-шкафику. Дергает дверцы. Они с шумным вздохом открываются. Слабо видны лики икон на иконостасе. В церкви мирно и славно, как на берегу Иртыша. Пахнет краской от недавно окрашенного правого клироса.
Судорожно, трясущимися руками достает Анделушка «Писание». Неумело расстегивает скользкие, холодные застежки. Замирает. Как и первый раз строго взглядывают на него красные и синие букашки, будто говоря:
– Что тебе надобно?
Анделушка испуганно захлопывает книгу…
Но только на минуту. Снова достает тяжелую, закапанную воском книгу, развертывает и долго, тяжело дыша, смотрит. В груди его что-то тает, приятное и нежное…
Тальник, прищурив один глаз, а другим, иссиня-серым, глядя Анделушке в рот, кашляя и сморкаясь в желтый с коричневыми каемками платок, нерешительно бубнит:
– Батюшка тебе велел сказать, что, мол, больше ты сюда не ходи. Потому за тобой собаки бегают, вчера одна чуть в церковь не забежала, на паперти была. Сам батюшка видел. Приманил.
Анделушка не испугался, а как-то весь осел, точно тесто на холоду. Он и раньше предчувствовал, а располагал, что может быть – и не прогонят.
Реденькие серые брови вползают кверху, глаза начинают часто мигать, а из круглого, как у стерляди, рта – течет слюна.
Видя испуг парня, Тальник сжаливается:
– Ну ладно уж. Седни да завтра сходи, пушшу, а там и будет.
Вечером Анделушка сидит на берегу, царапает свой халатишко камнем и плачет.
На другой день в последний раз приходит он в церковь. Раскрыл, как прежде, книгу.
Опять жалко стало. Пал на колени, бился головой об пол, плакал:
– Во! – по! – ди!.. Во! – по! – ди!..
Порывисто, как волк, наскочила мысль… Мутная, палящая кровь ополоснула тело…
Знойным потоком прокатилась по лицу, рукам и туловищу… А потом забило холодной дрожью…
Не ощущая ничего затвердевшими внезапно руками, грубо вырывает Анделушка из книги плотный, жирно хрустящий лист.
Сует лист за пазуху и опрометью бежит к дверям.
С грохотом падает книга на пол, за ней валится столик.
Бледный, с розоватой пеной на углах губ, выскакивает Анделушка из церкви и бросается к огородам. Издали бегущий Анделушка похож на раненную в крылья птицу – руки у него длинные, при беге отстают от туловища и словно тащатся по земле.
Тальник сидит на крылечке и починяет рубаху.
При виде выскочившего из церкви Анделушки – Тальник удивился. Внимательно посмотрел вслед Анделушке и решил зайти в церковь:
– Блажной, парненко, диви што смирной. Кабы не запрокудел…13
Из церкви Тальник выбегает с криком:
– Грабеж!
Поступок Анделушки поднял весь поселок. Удивляются:
– Какой парень смирной был…
– Черт попутал…
– Ой не говори, девка-матушка… Како не попутал…
От дома к дому бегут вздорные слова.
– Церковь Анделушка ограбил.
За Анделушкой сбирается погоня.
Поп Викентий – человек решительный. Когда к нему вбежал испуганный Тальник – Викентий схватил со стены берданку сына, всунул в нее патрон и в сопровождении писаря, атамана и понятых – заторопился в церковь.
Анделушкино преступление сразу раскрылось.
Бросаются его разыскивать.
Фелисада Андреевна, узнав о событии, поджала губы и резким своим голосом заявляет:
– То и от его ожидай. Ладно во дворех что не натворил.
А сам вор сидит за Феклиным огородом на поваленном бурей тополе.
Впереди его луга, по лугу бродит белобокий теленок.
В руках своих Анделушка держит вырванный из книги листок. Лицо его восторженно-довольное и когда подкравшийся поп Викентий выходит из-за плетня и орет:
– Стой, хулиган! Грабитель!.. Святую книгу пакостить!.. Анделушка в эту минуту походит на зайца, бегущего по полю, которому внезапно сильно засвищут. Заяц приседает, таращит уши и глаза…
– Стой, говорю!.. Пакостник!..
Плотно прижав одной рукой к груди листок, бросается Анделушка лугом.
С легким свистом выскакивает из горла дыхание. За виски хватает точно раскаленными щипцами. А ноги холодные-холодные…
Анделушка не знает куда, зачем, почему. На него кричат, у него хотят отнять его счастье – он бежит… Торопится…
– Эй!.. Держи!.. – Ста!..
– Фю…фю…
– Сволочь!.. – ошалело мечутся крики.
Писарь запыхался, устал. Он вырывает ружье у попа Викентия, прицеливается, нажимает собачку. Анделушка падает.
Когда к нему подходят, он, посиневший, лежит без памяти. Листок плотно зажат у него в руке. Заряд попал Анделушке в ноги. Поп Викентий тянет лист из руки. Рука разжимается.
– «Аще ли, же образа…» – читает поп, взглядывая на Анделушку. – И ечо тако ему церковь грабить? А?.. «Аще ли же образа14, како бывает, ищеши, довольно ти есть услышати, яко Духом святым; им же образом и от Богородицы Духом Святым себе самому и в себе самом плоть Господь состави…» Да… штука… Красиво как переписано, лучше чем печатна… Как раньше болели об Боге-то… А теперь, ишь…
Анделушка не умер.
Только стал хромать. Лицо у него повело в одну сторону. Да последний рассудок потерял.
Фелисада Андреевна вздыхает:
– Божий человек…
А накормить часто забывает.
Сидит он теперь на полу, на кухне, грязный, обросший волосами и раскачиваясь, тянет:
– Э-Э-Э… Э-Э-Э.
Что он хочет сказать, никто не знает.
Клуа-Лао*
Справа и слева хоронили Тэю-реку от дурного глаза сосны. Солнце, дабы не скучала она, ласково грело ее. В горах злые и добрые духи непонятные песни шумели.
Тэя упруго и мощно волочила по каменной шкуре земли свое тело. Чешуей огненно-синей играла. Дышала теплым да влажным духом. Плот плыл осьмой день. Кормовщик Федька Оглябя ругался:
– И чо, распроязви1 ее, за река така: бурлит, юлит, быдто баба потаскуха. А дела нету.
– Какова дела? – спрашивали ребята.
– Ни конца, ни краю, чисто присподня. Яй Богу! Бу да бу!
– Оно верна, миста чудные.
– Чудней быть ли можно? Одна немакана2 нечисть из человеков водится.
Китаец Ван-Ли, качая желтой, точно спелая дыня, (головой) говорил, обнажая черные цинговые зубы:
– Нечиста нету… Псе чиста еси: макана, немакана…
– Мяли, паря, твово не убудя, – твердо говорил Оглябя.
А Семен Беспалых3, поглаживая рыжую и круглую, точно подсолнечник, бороду, опускался рядом с Ван-Ли, сочувственно спрашивая:
– Болит?
– Нисиво. Балила мала-мала еси. Нисиво.
Ван-Ли закрывал веками глаза.
– Скоро в город придем, Ванлин?
– Сыкыола, сапсем сыкыола.
– Та-ак…
Ван-Ли поправил на опухших ногах хлам, заменявший одеяло.
– Сывыора ехала можна – бога Клуа-Лао мешала. Брюхо большой бога, селдитай.
На лице Ван-Ли отразилась такая внутренняя душевная боль, что Беспалых сделалось не по себе. Он торопливо сказал:
– Будет тебе.
– А-а купса не селдитай, Оглябя не селдитай, – Клуа-Лао шибко селди-тай. Плюет…
– Не ной ты!
– А-а! Матлила: ползи! А! Брюха большой, глаза – длоба! Матлила, Семена, матлила.
Беспалых подал бутылку.
– Пей лучше. Бога-то свово забудь.
В черных зрачках китайца, устремленных на горы, копошился страх. Семен отвернулся.
– Пей, чубук.
Вечерело.
Канат, державший у берега плот, туго натянулся и глухо гудел. Тэя клокотала, омывая толстые, телесного цвета, сутунки плота. Кедром пахло.
– Робя, – орал Оглябя, – сатки чьи-та! Хазяина нету, бяри значит.
– Жарь!
– Айда в сатки!
Шумная ватага плотовщиков побежала к садкам. Оглябя, лохматый и кряжистый, скинув шаровары, полез в садки. Видно было, как вырывались из его рук тяжелые серые осетры.
– Не хочут, халипы!
– Сволочная рыбеха!..
Парни возбужденные, с матерками лезли в воду. За жабры, барахтаясь, вытаскивали на берег и ударом сука по голове усыпляли рыбу.
Ван-Ли с бесстрастным лицом, не мигая, смотрел на темные струи Тэи.
– Клуа-Лао – селдитай бога. Вота, смотлила река – глаза его видна, хит-лай глаза. Ты, говолила, Ван-Ли, сколо мало-мало умли надо.
Беспалых с недовольством сказал:
– Буде, паря. Каки у те мысли-та, нельзя. Все умрем в свое, значит, время…
Ван-Ли прервал его:
– А?.. Вся умли. Ты думай – нато умли. Сичас думай, ланыпа не думай… Шибка думай. Клуа-Лао блюха большая, много года жила, вся человека знат. Пошто он мне говолила: Ван-Ли, умли! Паштыо?
– Планада, значит. Богу, конечно, видней.
– Нета. Зачем пришла на ево миста? Тэю – места бога Клуа-Лао. Она, бога, шибко селдитай стала… меня хватила за ноги. Стой, говолила, пошто на мое места пришла.
– Брось ты!
– Ушла, говолила, пошто? Дома халашо. Клуа-Лао пошла, лека Тэю пошла – плоха…
Беспалых понял страх китайца.
– Место худое, значит?
– Це-е…
– Вон оно чо. А я думал, ты так маишься. По родине, значит…
Китаец вытянул голову к реке. Жилы на его тонкой шее наполнились кровью.
– Матлила!..
Солнце закатилось. По небу ветер гнал громадные черные тучи, щелкал бич его по тайге, свистел в горах.
Чугунного цвета волны дробились о сутунки плота. На их гребнях играли отблески разложенного на носу плота костра, точно красные злые глаза.
Плотовщики разговаривали вполголоса, серьезно, должно быть, вспоминали родину.
Ван-Ли спал. Вытянув вдоль тела длинные сухие руки, он дышал неровно, часто вздрагивая.
Беспалых, согнувшись, опустив волосатую голову, стоял неподвижно, тупо глядя на воду. Видно было по его фигуре, по склоненной голове – какие-то мутные зовы слышала его душа…
С утра день был дождливый. Теплыми потоками обливало тайгу, реку, горы.
Оглябя ругался:
– Холерская жись! Кады конец-то будет? Одно да одно – прямо мутит.
– Табаку вот нету, вымок.
Оглябя, сплевывая, косился на говорившего.
– А ты не зуди. По харе дам.
– Сдачи не хошь?
– Петька, молчи ради Бога! Не трошь.
Ван-Ли умирал. Живот у него вздуло, одна половина лица покрылась опухолью – глаз почти закрылся, а другой – неестественно расширенный, наполнял страх.
Когда Семен, наклонившись, спросил:
– Пить хошь? – губы китайца, зашевелившись, поползли, как два серых червяка, и Беспалых разобрал:
– Клуа-Ло… селдитай…
Семена точно щипнуло за сердце, он испуганно взглянул на реку. Расширенный глаз китайца будто смеялся.
– Боишься?
Беспалых с тоской оглянулся.
Как и десять дней назад, плот, постукивая бревнами, плыл по той же сине-серой реке. Те же горы, тайга с бурными кедровниками. Опять на берегах ни души, опять в горах со злостью выл ветер.
Вздувалась от ветра река – огромный живот сердитого духа Клуа-Лао, а тут, на сутунках, умирал человек: распухшие черные ноги торчали из-под тряпок, похожие на куски гнилого в воде дерева.
Ван-Ли умер.
Плот причалили, чаю напились, потом Оглябя сказал:
– Надо парня-то похоронить, сколько ведь с ним вместе робили.
– Чо и говорю. Он, хоть и немаканай, однака коли похоронить и по-нашему, доволен будет. Потому, артельный парняга был.
Так решили: хоронить по-нашему.
Хлюст с Алешкой Чесноком взяли лопаты. Спросили у артели:
– Под кедрой могилу выроем?
– Канешна, под кедром, басчей4.
– На кедре значит можно крест вытесать.
– Крест нельзя…
– Ну, чо-нибудь друго…
Могилу выкопали. На дно ее кинули пихтовых веток. На ветки положили тело китайца.
Оглябя снял картуз.
– Вечную память сначала споем три раза, ребята. Спели.
Потом Хлюст прочитал, перевирая, «Отче наш» и «Верую»5.
– «Со святыми-и… у-у-упокой»6… – затянул, крестясь, Оглябя.
«Со святыми-и… упо-окой…
Хри-исте-е… Бо-же-е…»
Семен кинул охапку пихтовых веток на тело Ван-Ли.
«Идеже не-ет ни-и печа-але-ей…
Ни во-оздыха-аний…»
В могилу посыпалась земля.
– Крест, значит, не ставить? – спросил Оглябя. – Надо каку-нибудь память се-таки доспеть. Сеныпа, ты не знаешь, чо у них на могилки-то ставят?
Беспалых ответил:
– Не спрашивал.
– Зря.
– Про бога он тут поминал, Клуа-Лао, который, значит, речной будет, сердитой. С большим брюхом, грит.
– Вон на кедре валяй. Кора гладкая.
Поглядели, как Беспалых вырезал на коре некое подобие брюхатого человека. Перекрестились на восток.
– Царство небесное.
Плот отчалил.
Через три дня приплыли в Угребу – крохотный городишко, затерявшийся среди лесов.
Плот продали на лесной склад.
– В пивнушку? – улыбаясь, спросил Оглябя.
Все тоже заулыбались, а Хлюст хлопнул по плечу Оглябу.
– Тебе дорога знакома.
С непривычки скоро опьянели.
Во все горло песни пели, обнимались, матерились.
Беспалых, с бутылкой в руках, взлохмаченный, бродил пьяным взглядом по лицам собутыльников.
– Паря! Говорит мне это самый Ванлинька: мотри, мол, бог из воды ползет. Мотрю я, и верна!..
– Трезвой?
– Я та? Я завсегда трезвой! Мотрю, и верна: ползет за нашим плотом бог – зеленый, глаза красные, а пузо, как у змеи, серое и блестит. И думаю я: каюк тебе, Сенька!
– Струсил?
– Да-а… Сожрет тебя этот самый бог и накаких. Как китайца сожрал. Господи, говорю, помилуй! Да-а… А бог-то плывет и глазом красным, холера, в душу лезет.
– Ну?
Беспалых ударил по столу бутылкой. Бутылка разбилась, пиво потекло.
– А я, я…
Беспалых, склонившись на стол прямо локтями в пиво, заплакал.
– Я…я…
И заснул немного погодя.
Духмяные степи*
Инженер Янусов, долго живший за границей, ехал домой в родную станицу. Из себя он был полный, с холодным бритым лицом иностранца. Разве выдающиеся скулы да птичья пленка у век – бигич – указывали на нечто общее с этой степью.
– Бай! – сказал, повертывая к инженеру лунообразное желтое лицо, ямщик Алибей.
– Что? – недовольно спросил тот.
– Одна берта барамыс, онусон остановка делать можня1. Мазарка2 видишь?
– Ну и что же?
– Там дувана3 Огюн живет. Трава хороший, вода хороший и спать комара нету.
Инженеру не хотелось разговаривать, и он сказал:
– Хорошо. Ночевка так ночевка.
Обрадованно запрявший вожжами Алибей закричал: – Эй-й! Ка-не-ке-е!..
Лошади бодро ударили жилистыми ногами. Трашпанка покатилась быстрее.
Инженер, прищуря синие, начавшие слезиться глаза, опять глядел на серые телеграфные столбы, крепко убитый тракт, на горько пахнущую полынь за трактом.
Зачем-то вспомнилось, что часто бродил он по этому тракту мальчишкой, что здесь его родина и что позади, там, почти прошла его интересная красочная жизнь, а здесь ничто не изменилось. И было немножко обидно и странно равнодушно думалось, что едет по родным местам.
Инженер снял крупной красной рукой с седеющей бороды пыль.
– Неужели Огюска жив? – подумал безразлично он, и опять вошла мысль о предках-киргизах, покорных судьбе и первобытно-наивных.
Он сказал вслух:
– Зачем еду? Взыскующий Града4 или ипохондрия?
И как все много думающие о себе, о своих чувствах, – он имел привычку кусать губы и растирать пальцы.
Так и тут: он, покусывая губы и слегка хрустнув пальцами, сказал ямщику:
– Гони, скорей!
Алибей ударил кнутом правую пристяжную, лошадь мотнула головой и лягнулась.
– Не пьешь! – рассмеялся Алибей.
«Так и я, судьбу хочу лягнуть», – подумал Янусов, пытаясь изобразить на лице скептическую улыбку.
Алибей наломал у Иртыша сухого тальника5 и скипятил чайник. Чайник был емкий, почти ведерный. Алибей пил усердно, после каждой чашки громко крякал и одобрительно говорил:
– Чаксы6.
И глядя на лежавшего под трашпанкой инженера, киргиз мысленно спрашивал: «Пошто мало чаю пьет? Кажись, бай богатый, а чаю мало пьет». Инженер закурил трубку и, дабы немного развеяться, спросил:
– Жив Огюс?
– Жив, иму чо. Всегда жив – ядренай старик – он сюда хотел прийти.
– Ты его видел?
– Тэк! Колодец-то у самой его зимовки. Разве бай не знает?
И опять с неохотой вспомнил инженер свои частые побеги мальчишкой сюда на рыбалку. Почему-то захотелось испить айрана7.
– Айран есть у него?
– Айран копь8, сейчас принесу.
Алибей с шумом втянул с блюдечка чай, положил в карман кусочек сахару и, поправляя аракчин, побежал к зимовкам.
– И…о…о… – заржали на лугу лошади.
Инженер взглянул вниз, под яр. Трава, спаленная солнцем, отливала золотом с красными жилками. В светло-зеленых тальниках спрятался Иртыш, сверкало местами сквозь листву тала его тело.
«Водой хорошо пахнет», – подумал инженер и глубоко вобрал воздух.
Здесь, на яру, горячо дышал песок; огромен был синеватый, точно выцветший полог неба. Вспоминался Туркестан и Африка.
«Выкупаться бы», – прошло в голове, и тотчас же втеснилась длинная и вялая мысль об технической ошибке, допущенной приятелем-инженером. Янусов достал записную книжку.
– Аман9, бай! – раздался сзади его голос, похожий на слабое дребезжание упавшей жестянки.
– Щикур10, – ответил он сразу вынырнувшим из памяти словом.
Не подымая взгляда, Янусов сказал: «Садись, чай пей».
Дувана поджал под себя ноги в рваных ичиках11, провел ладонью по лицу и, указывая пальцем на книжку, спросил:
– Пишешь?
Говорить приходилось по-киргизски. Янусов много забыл, нужно было восстанавливать в памяти, думать. Мысли разбегались, как суслики от лая собаки. Он отложил книжку, решив записать позднее.
Огюс переспросил:
– Что чертишь?
Янусов вгляделся в его лицо, тусклые, с красными веками глаза; маленькую, вздрагивающую, словно голодный волк, фигуру и по-русски сказал:
– А для чего ты сто лет прожил?
– Ни-дей-сыз12, – не понял его старик. Инженер сказал по-киргизски:
– Пишу.
– Вижу, много бумаги истратил. А знаешь, вся бумага на земле одного слова Аллаха не стоит. А?
– Нет, – сказал инженер, пристально глядя в глаза Огюсу.
– Не знаешь? Разве ты беркут или мышь, которая думает только о пище? Не знаешь цены слова Алахова? Цену тоски степной знаешь?
– Нет, – опять ответил инженер.
– Прошел ты, я знаю, большие каменные города и, как путник, видящий марево, не освежит гортани, так ты не напился там жизни. И в степь возвратился. Один путь сынам ее, и нет им троп к городам, как нет места комару на коже быка.
– Комар все же садится.
– Сядет, да с голоду подохнет. Вот зачем ты сюда приехал?
– Старые места еду повидать, родных… Дувана взглянул недоверчиво.
– Хе! Собаке не откусить своего хвоста, это каждый баланка13 знает, а ты хочешь голову свою обмануть. Ты сердце свое пощупай да и скажи потом…
«Нет границы между умом и сумасшествием», – подумал инженер, набивая трубку.
Дувана помолчал, ковыряя палочкой песок, затем, указывая грязной рукой на могильный памятник, спросил:
– Видишь? – Ну?
– Знаешь, кто там схоронен?
– Не знаю, – ответил инженер.
– Не знаешь? Если правда, не знаешь, – лучше бы на свет тебе не родиться.
– Кто же схоронен?
Голос у дуваны понизился, он запахнул бешмет и веско сказал:
– Предок твой – хан Кий-Оглы.
Инженер затянулся из трубки.
– Ого! Я и не слыхал о предках-ханах.
Огюс сказал срывающимся от негодования голосом:
– Ты-ы! Разве ты знаешь себя, свою душу, в которой частица души Кий-Оглы? Разве в тебе не та же кровь, что и во мне? Заплакала в тебе кровь Кий-Оглы, последнего хана из рода Ангеня, вот ты и пришел в степь, принес ей новое слово, которого не знают даже самые старые шаманы Абаканских гор, чтобы не было джута14, чтобы не было засухи, чтобы не умирали киргизы, как саранча, от сырости. Ушел ты из городов потому, что не могут они съесть человека, у которого кровь Кий-Оглы…
«Убеди такого, земля-де есть шар», – подумал инженер и смолчал.
– Иди сегодня, когда взойдет луна, на могилу Кий-Оглы, пробудь там и скажи тогда, соврал ли тебе дувана Огюс.
– Чарайды15, – согласился инженер и по-русски добавил: – Со скуки отчего не так.
Подыматься было трудно, тяжело дышалось и резало в глазах. Руки скользили по холодным камням стены, нащупывая путь – перил не было. Вверху, через отверстие, виднелись яркие августовские звезды.
– Уф! – шумно вздохнул инженер, поднявшись на площадку и высовывая голову в широкое, прорубленное в стене отверстие.
– Что значит старость – три сажени трудно взойти, а?
На западе дрожала тонкая, влажная, алая ленточка света. Темно-серым мутным пятном, необъятно широким лежали высохшие травы, неуловимо пахло вечерними песками.
– Pp… ыги… – фыркали спутанные на лугу лошади. У трашпанки на яру желтелся огонек.
«По-первобытному – просто», – подумал с легкой грустью инженер, и ему захотелось выпить кумыса и поесть конины.
– Пути мои смутны, как сон…16 – вспомнил он слова какого-то персидского поэта.
В груди поднималось сложное чувство: смесь тоски и неопределенного желания, похожего на жажду.
И он сказал с недоумением вслух:
– Или дувана мне голову морочит?
Оранжевая ленточка на западе исчезла. Гуще сгустилась мгла.
Пахнуло травами – по-ночному странны и неожиданно терпки были их запахи.
И сильнее и значительнее наполнялся ощущениями каждый миг, каждая минута.
И с вздрагиванием инженер ощутил шорохи внизу, у входа в памятник.
– Крысы, – проскользнула мысль.
А манило громко что-нибудь крикнуть, дабы разбить растущее, неясное еще, но опасливое и по-детски неожиданное чувство.
– Тшы-ы… – зашумело легонько внизу.
Он сунул руку в карман, за спичками. Спичек не было. Инженер вслух выбранился:
– Черт тебя дери!..
Но то, предтеча, понял инженер, сильной, влекущей к жертвам мысли, – не уходило.
Стала вспоминаться здешняя жизнь, уклада старого, добродушного…
Мелькнули баушкины глаза – бледно старческие, с узким, как у кошки, зрачком и голос тихий, далекий:
«А пашни, батюшка, там без счету – духмяныя да тучныя, а в ночныя часы ходят без счету стени17 пучеглазыя да клыкастыя.
А продаст твою душу степь шайтану за стог сена… А, Петрунька?…»
Инженер вздохнул и сказал:
– Стени пучеглазыя да клакастыя!..
Хотел собрать разбегающиеся мысли в крепкий колющийся комок, чтобы направить туда, куда хотел, и не мог.
На лбу и висках выступила обильная испарина. Концы пальцев ломило.
Инженер рассмеялся коротким, сиплым смехом и с недоумением ощутил после прилив в груди тоскливой струи.
Отовсюду – из степи, из камней памятника, из плещущего за лугом Иртыша – протягивались за чем-то спрятанным и забытым в его душу, ее, духмяной степи, мягкие и нежные пальцы.
И в мозгу уже страшным сгустком рождалась ужасная своей простотой мысль…
…Лицо же словно закрывали запашистым и милым платом. Будто в теплую приятную воду, как в младенчестве, опускали…
И подскочило опасение – голенькое, щупленькое, противненькое:
– Тебя взять хотят!
Инженер укусил губы и, с трудом выпуская буквы, сказал внесознательно:
– Угол падения равен…
И грузной рукой утер вспотевшие веки.
Знакомые слова растопили туманные образы степи духмяной. Становилось по-прежнему скучно, а мир пустел…
– Шалишь, – сказал Янусов. А чем и кто – не добавил.
Ночью не спалось. Тупо болели виски, и ныло под ложечкой. Инженер далеко до рассвета разбудил Алибея и приказал:
– Запрягай.
Алибей, сплюнув, поглядел на (нрзб.) и опять, накрываясь купой18, ответил:
– Рана. Лошадь не наелся.
Янусов возвысил голос:
– Запрягай, скотина!
Алибей засуетился, бормоча:
– Чарайды, пошто матиришса? Сичас.
Когда лошади были запряжены и Алибей повел их на тракт, инженер указал рукой. – Туда…
– Назад? Нига19? – спросил Алибей.
– Вези назад, не понимаешь, дурак!
– Панимам, как ни панимам, разви мы трава? Эый, куды!
Алибей с остервенением вытянул кнутом коренника.
Инженер подумал, как умеют себя держать англичане с туземцами – «не погрубишь», а потом, как бы оправдываясь, сказал:
– Кого я у вас, дикарей, тут не видел? Дернула нелегкая на родину поехать!
Он с удовольствием вспомнил свеженькое личико знакомой актрисы. Разгладил пышную «ассирийскую» бороду – предмет его гордости – и стал выбирать в уме, в какой бы из гостиниц города остановиться.
В трех верстах от становища инженер увидел идущего по тракту человека.
– Кто так рано? – спросил он.
– Огюс кизек собират.
Янусов сказал с неудовольствием:
– Намешал какой-то дряни в айран, ерунда грезилась. Гони.
– Э-э-эй-й… – затянул бесконечную самокладку20 Алибей.
Лошади распластали короткие ноги. Закачало трашпанку. Столбы замелькали.
Огюс остановился, хотел что-то сказать. Скинул мешок было… Трашпанка прогремела мимо.
Полая Арапия*
Сперва увидели крыс.
Подпрыгивая, с тонким писком, похожим на скрип травы, бежали они. От розовой пелены, где начиналось солнце, до конца полей – стремились сероватым, мягким пластом.
Скорчившиеся ветви не хватали, как раньше, высосанную жарой землю. Немо ползли по ветвям лоскутья вороньих гнезд.
Деревья росли из крыс. Из крыс начиналось солнце, и ветер над крысами несся – худоребрый, голодный пес.
Потом из-за неба вылетели птицы с голодными алыми клювами. Заскрипели телеги. Лошади длинными горбатыми клыками хватали и рвали крысиное мясо. Далеко, как пастухи, бежали за серым пластом собаки.
Били мужики крыс палками; лопатами нагребали телеги. Недобитые крысы, как огромные огурцы, сползали на землю.
От окрестных изб подходили телеги – у кого не было лошадей, везли сами на передках. Горшки запахли мясом. Говорили – для вкуса подбавлять в варево березовой коры.
Жирное, объевшееся, вставало на деревья солнце. Тучными животами выпячивались тучи.
Оглоданные земли. От неба до земли худоребрый ветер. От неба до земли жидкая голодная пыль.
Крысы все бежали и бежали на юг.
Тогда появилась Ефимья со Вчерашнего Глаза.
Утром Фаддей первым из деревни заметил крыс.
Сиплым, изветшалым голосом будил семью: сына Мирона, младшего Сеньку и дочь Надьку. Старуха Лукерья четвертый день, не вставая, грызла тулуп. На губах у нее трепетала шерсть овчин. Она часто пила воду, потом ее рвало толстыми, синеватыми кусками кожи.
– Пашли!.. Пашли!.. Приметют мужики, налетят – потрусит зверь, убежит. Сбирайся!
Надька, кладя завернутого в тряпки ребенка, сказала Лукерье:
– Я пойду, мам… А ты коль запоет парнишка-то – жамку2 ему в рот направь.
– Ладно, коли…
– Как заревет, так и направь.
– Иди, иди!.. Направлю.
Мокрая шерсть в губах Лукерьи. Пахнет кисло овчинами старуха. Щеки под скулы, скулы как дряхлый навес над глазами.
Силы в костях нет. Тело гнется, как тряпица. Выпучив глаза, глодала лошадь крыс, била твердым, сухим, как небо, копытом пищащую, плотную массу.
И у людей – руки как пыль. Еле вчетвером к вечеру нагребли полтелеги.
– Начинать придется, – сказал Фаддей. – Жрать.
Сварила Надька теплого маленького мяса. Мирон было зажмурился. Махая ложкой, потряс котелок Фаддей.
– Ерепениться тебе, кустябина. Лопай, а не то вылью. Смотри на меня.
И сам торопливо заскреб ложкой, доставая со дна мясо. Наевшись, Надька сварила еще котелок и отправила с ним Сеньку к матери, в деревню.
Тут же, не отходя от костра, уснули. Сенька прошел версту и тоже уснул.
Возвратился он утром. Подавая котелок, сказал:
– Мамка ешшо просила.
Тыкая палкой в остро бежавшие головки крыс, сказал:
– Мамка парнишку-то твово покормить хотела, да на пол сбросила. А поднять-то не могла. Зверь-то ему нос да руку съел.
Надька, зажав живот, кинула кол и пошла к деревне. Рот у ней узкий и сухой, расхлестнулся по пыльному лицу. За писком бежавших крыс не было слышно ее плача.
– Робь, куда те поперло! – крикнул Фаддей. – Не подохнет, выживет!
Пришел в избу председатель исполкома Тимохин. Пощупал отгрызенную у ребенка руку. Закрыл ребенка тряпицей и, присаживаясь на лавку, сказал:
– Надо протокол. Може вы сами съели. Сполкому сказано – обо всех таких случаях доносить в принадлежность.
Оглядел высокого, нехудеющего Мирона.
– Ишь какой отъелся. Може, он и съел. Моя обязанность – не верить. Опять, зачем крысе человека исть?
Лукерья, покрывшись тулупом, спала. Во сне она икнула. Председатель поднялся, ткнул плачущую Надьку и пошел.
– Ты, Надька, не вой. Еще другого сделаешь. Очень просто. А на протокол я секлетаря пришлю. Протокол напишу – хорони. Пообедаю и пришлю. Ишь, и мясом пришлось разговеться.
Со стола несло вареным мясом. Не находилось силы отмыть с пола ребячью кровь.
Тогда же вечером появилась Ефимья со Вчерашнего Глаза.
Мирон спал у сеновала, под навесом, на старых дровнях. Пришла Надька, опустилась на землю около дровней.
– Слезой не поможем, – сказал Мирон. – Помер и помер.
Розовато-фиолетовая темнота прятала Надьку. Мохнатой духотой полыхала земля. Речь у Надьки была сипловатая, с голодными перехватами – на слова не хватало слюны.
– Думала – донесу ребенка-то до настоящей жизни… А тут крысы съели, господи!.. Не могли старуху съесть. В деревне, бают, Фаддеевы сами съели, про нас-то.
– Пущай брешут. Сами, ишь, хорошо едят.
По дерюге, прикрывавшей его грудь, что-то легонько поползло. Он нащупал шершавые кости сестры.
– Ты чего? Надька зашептала:
– Ешь… тебе оставила. Корка. Хлебушко. Старик-то все припрятал. Мирон и так, грит, сытай – у него-де запасы. Телами-то, дескать, не оскудел. Ешь!..
– Раз у меня кость такая. Виноват я? Раз худеть не могу. Я и то ем меньше, чтоб не попрекали.
– Егорке еще надо отнести… Ты его не видал?
– Ну его. Что, замуж хочешь выйти?
– Не ори. Старик услышит, Ефимья приехала. Привезли. Ефимью…
– Пущай.
– Сказывают, за Сыр-Дарьей открылась земля такая – полая Арапия. Дожди там, как посеешь – так три недели подряд. И всех пускают бесплатно, иди только. Земель много. Ефимья рассказывает складно, Мирон.
– Брешет, поди. Откуда она?
– Привезли. Захочет, поведет люд в эту самую Арапию. Тятя не едет. А в которых деревнях собрались, пошли. Крыса тоже туда идет. И птица летит. Наши-то края закляли на тридцать семь лет: ни дождя, ни трав… Потом вернутся, как доживут… На тридцать семь лет открыли Арапию, а потом опять закроют.
Собрались мужики, ладили телеги. У кого лошаденку не съели, подкармливали ее трухой, сушеным навозом. Безлошадные мастерили кое-как ручные тележки.
Крысы прошли.
Бежали земли, превращающиеся в пески. Бежали вихрями кудлатыми, немыми. Бежали на юг.
Кора на деревьях ссохлась, как кожа на людях. Сухими, белыми костями стучали деревья. Сухими костями стучала земля.
Прятал от людей большое тело Мирон. Глаза людские, глаза голые, жадные к мясу. Ел Мирон мало – кору толченую, вареную, срезанную с падали кожу – розоватую жижу. Все же мясо дряблое свисало по костям его, как мокрый песок, и как в мокром песке висели, замирали кости.
Постоянно у глаз ходила Надька – плоская, с зеленоватой кожей, с гнойными, вывернутыми ресницами. Прижимая тряпицу к груди, говорила:
– Ты, Мирон, им не кажись. Очумел мужик, особливо ночью – согрешат, убьют… Ты худей лучше. Худей.
– Не могу я худеть! – хрипел Мирон. – Страдаю, а не худею.
Тряс заросшей пыльным волосом головой. Прятался под навес.
– Обман ведь это, вода – не тело. Ты щупай!
Боязливо щупала его ноги Надька.
– И то обман, разве такие телеса бывали? Я помню. А ведь не поверют – прирежут. Не кажись лучше мужикам, Мирон.
Кормила Надька украдкой Егорку – за любовь. Вечерами, прячась, приходил за амбар Егорка, ел, громко сопя. Подкрадывался Мирон и слушал: сопенье еды Егорки, а потом сухой, срывающийся сап любви обоих… Быстро дыша широким, как колодец, ртом, скрывалась в избу Надька.
Мирон спал с открытым глазом. Ночи длинные. И ночью, как днем, солнце. Ночь сухая, как день. Растягивал у навеса веревки, чтоб слышно было чужой воровской приход.
Сухой, как день, был голос Ефимьи с ключа Вчерашнего Глаза. Был такой новоявленный святой ключ в Четырех. Березах. Постоянно днем и ночью сидела в телеге во дворе председателя исполкома Тимохина старуха Ефимья. Под темный платок пряталось маленькое беловолосое лицо. Морщинист голос древний, чуть слышный. Нараспев велеречила:
– Собирайтесь, православные, со усех концов!..3 Открылись на небольшие времена ворота Арапской полой земли. Идите все, кто дойдет песками, через сарту4, оттедова по индейским горам. На тридцать семь лет отверзлись врата. Кто первой поспеет, тому близко землю вырежут. Трава там медовая, пчелиная. Хлебушко спеет на три недели. Окромя того, дают арапские чело-веки все надобное, до штанов с зеленой пуговкой…
Вздыхала сонным вздохом. Глаза редкие и немые – спят. Голос сонный, чужой и жуткий.
Хотел ее повидать Мирон, но боялся показаться. Мельком провез ее кто-то в тележке уговаривать Анисимовские хутора. Хутора ждали хлеба из Москвы и отказывались ехать. Позже хутора загорелись и сполыхались в одну ночь.
А когда загорелись леса, дым оранжевой пеленой укутал бесптичье небо. Над высохшей рекой поползла пыль. Внезапно обезводели колодцы. Мужики снялись с деревни и пошли в полую Арапию. Пошел и Мирон.
Пески – вся земля. Голубые пески. И небо – голубой песок. Далекие земли, пустые, полые поля Арапские! Какими путями идти, какими дорогами?
Жмутся боязливо хромые нищие, сухорукие – береза; осины бескорые. Убежал заяц на Арапские земли, – кору глодать оставил людям. Зверь он хитрый. Гложут люди желтыми и серыми крошащимися зубами.
Глодай! Глодай! Камни будешь глодать! Далеки вы, земли Арапские! Далеки! Не знаю, где. Или знает кто?
Или кто развернет дорогу, укажет?
Замерзает душа – замерзает льдиной голубой, нетающей. Далеки вы, земли Арапские!
Заросшие опухолями ребятишки сворачивали с дороги, копались в земле, отрывая корешки. Часто дрались, царапаясь, длинными черными ногтями. Жидкая желтоватая кровь походила на пыль.
Кожу с хомутов съели. От подыхающих лошадей оставались пустые, выдолбленные ножом, кости. Ветер свистел в брошенные человеком дудки.
На вторую неделю пал конь Фаддея. Деревня его съела в день. Прилипший к кости мозг отдали Ефимье.
Потом перепадали все лошади.
Ефимью мужики везли на себе по очереди четвером.
Она, тыча согнутым, как клюв, пальцем, глядела на юг и повторяла все те же слова про полую Арапию:
– Собирайтесь, православные, со усех концов. Открылись на короткие времена…
Умерла старуха Лукерья. Фаддей снял ее с телеги на землю и засыпал песком. Песок скатывался. Торчало из него остро – нос и ноги Лукерьи.
Раз Надька свернула с дороги и под песком нашла полузасохшую кучу конского кала. Сцарапнула пальцем насохшую кору, позвала Егорку:
– С овсом… Иди!
Она уткнулась грудью в землю и жевала мягковатую, с крупинками непереваренного овса, душную кашу… Егорка подошел и стал выбирать овсинки…
Ночью Мирону пригрезился урожай. Желтый, густой колос бежал под рукой, не давался в пальцы. Но вдруг колос ощетинился розоватыми усиками и пополз к горлу…
Здесь Мирон проснулся и почувствовал, что его ноги ощупывают: от икр к пахам и обратно. Он дернул ногой и крикнул:
– Кто здесь?
Зазвенел песок. Кто-то отошел. Проснулась Надька.
– Брюхо давит.
Натягивая на грудь дерюгу, Мирон, запинаясь, проговорил:
– Щупают… Мясо щупают!
– А ты ко мне, рядом. Я плохо сплю, мне все слышно.
И, притягивая к себе его дрожавшее тело, гладила легкой, неслышной рукой загорбок5. Бормотала уникшим шепотом:
– Бают: скоро дойдут. Скоро сарт пойдет, а у него хлеба хоть и нету, а Ефимья, грит, – он молоком подкормит. Дай-то господи. Дойдете хоть… А я-то, поди, так завтрача умру, Мирон.
– Протерпишь.
– Умру. Мне с конского… давит. В брюхе-то как кирпичи с каменки6 каленые… И тошнит. Рвать не рвет, а тошнит, комом в глотке. Могилу-то выкопать некому.
– Выроют.
– Нету рук-то ни у кого, земля ходячая. Люд.
– Зола!
– Зола, Мироша!.. Думаю, по зиме-то, как дойдем, за Егорку выйти. Там, в Арапии, народ-то, грит Ефимья, черный и без попов7. А поди, так попы раньше туда с крысой удрали.
– У тяти едова нету?..
– Он про те думат, ты ешь тайком… Дай кусочек, Мироша…
– Нету у меня ничо.
Она теребила ему бороду, чесала пальцем волос на голове и чуть слышно бормотала в ухо:
– Дай, Мироша, кусочек махонький… пососать. Хлебушка… Хлебушка-то тепленький на зубах липнет, а язык-то… Дай, Мироша, ей-богу не скажу. Только вот на один зубок… ххм, хм… кусочек… А потом я помру, не скажу все равно…
Она сунулась головой подле локтя его. Лязгала зубами по рукаву. К утру ее рвало. У лица темнела на земле клейкая, синеватая жижа. Она лизала рвоту…
Скорчившись, померла.
Деревня поднялась. Пошла. Мужики, подталкивая плечами, везли тележку с Ефимьей.
– Схоронишь? – спросил Фаддей, уходя.
Поодаль на земле сидел Егорка, узкоголовый, оставив тонкую губу под жестким желтым зубом.
– Иди, – сказал ему Мирон. – Я схороню.
Егорка мотнул плечами, пошевелил рукой кол под коленом. Запыхаясь, сказал:
– Я… сам… Не трожь… Сам, говорю… Я на ней жениться хотел… Я схороню… Ступай. Иди.
У кустов, как голодные собаки, сидели кругом ребятишки. Егорка махнул колом над головой и крикнул:
– Пшли… ощерились… пшли!..
Пока он отвертывался, Мирон сунул руку к Надьке за пазуху, нащупал там на теле какой-то жесткий маленький кусочек, выдернул и хотел спрятать в карман. Егорка увидал и, топоча колом, подошел ближе.
– Бросай, Мирон, тебе говорю… Бросай!., мое… мой кусок, – моя невеста…
Егорка махнул колом над головой Мирона. Тот отошел и бросил потемневший маленький крестик…
Егорка колом подкинул его к своим ногам…
– Уходи… мое!.. я схороню…
В лицо не смотрел. Пальцы цепко лежали на узловатом колу… Мирон пошел, не оглядываясь… Мальчишки, отбегая, кричали: – Сожрет… невесту-то…
Догоняя далеко ушедших мужиков, Мирон заметил у края дороги стаю дерущихся ребятишек. Глубоко повязнув в колеях, тупо уставились в землю брошенные телеги. Гнилые клочья тряпок свисали с досок, с ящиков. Почти все телеги пахли тошным, трупным запахом.
Фаддея и Сеньки с мужиками не было.
– Не видали? – спросил Мирон.
Кто-то выматерился хрипло и долго. Один сказал пискливо:
– Отъелись… Жрать прячутся.
В животе Мирона задвигалась узкая режущая боль. Язык метнулся по деснам, отыскивая слюну. Сверху на голову оседало мутное, режущее виски и отдающееся в носу, в нёбе…
Мирон побрел, спотыкаясь. На глаза попал валявшийся у телеги огрызок кожи. Мирон сунул его в зубы.
Горбатая, с растрепанными волосами баба дернула его за рукав.
– Нету, – сказал Мирон. – Сам ись хочу.
Баба, приседая на кривых коленях, мотнула головой.
– Знаю… Пойдем под телегу… Сколько дашь?
Она раскрыла рот и, выпячивая грудь, лихо мотнулась костями. Оскалила зубы.
– Пойдем?.. Кусочек дашь? Ты толстый.
Мирон побежал от нее, дрыгая локтями. Когда он оглянулся… баба и еще трое незнакомых мужиков шли позади него.
Мирон качнулся в сторону. Сиреневая полынь уколола ногу. Из-под куста мелькнул маленький зверек. Мирон бросился за ним, хотел схватить, но упал. Зверек ускользнул в норку.
Мирон было начал разрывать, но вспомнил: одному оставаться нельзя. За ним шли, оглядываясь, четверо. Надо догонять деревню. Он подтолкнул тело вверх руками, приподнялся.
Живот крутила узкая голодная боль. Ребра отрывались и жали кожу. Ребра словно заблудились внутри. Он зашагал.
…Ноги шли через всю землю, через весь песок, не подымаясь на воздух. И тело тоже словно ползло по песку. Через песок… Еще немного, еще…
Мирон не мог догнать мужиков.
Поднял глаза к солнцу. Подвигалось оно, желтое и тучное, как жеребая кобылица.
– Жрешь! – сказал под себя Мирон. – Лопашь? А я пошто должен ждать? Я почему?..
Идти ему не хотелось. Он ощупал близлежащую телегу: теплое дерево и горячие гвозди.
Тут опять вспомнил про догонявших его четверых. Они шли, взявшись за руки, в нескольких шагах и глядели на уходящих в пыль деревенских. Мирон заторопился…
– Кончут. Надо мне с мужиками… Кончут!.. меня…
Вспомнил пожалевшую его Надьку. Заплакал. Хотел утереть слезы, – веки были сухие, как дорога, как поле. На пальцах с век и бровей скатилась пыль.
Слезы уходили внутрь, в живот, мучающий все тело… Мучила тело земля – мукой сухой и тягучей. Деревенские остановились. Мирон догнал их.
– Что? – спросил он торопливо пробредшего мужика.
– Ефимью кормить надо. Нечем Ефимью кормить.
Мужик для чего-то скинул азям и рубаху. А потом торопливо надел их. Волоча одной ногой, отошел.
– Накормют, – сказал устало Мирон, опускаясь.
Как только он лег – боли из живота перешли в ноги. Он подобрал ноги под себя.
Над ним: доски телеги, пахнувшие трупами и пылью. Он поискал дегтя в колесной спице. Сковырнул с деревом клочок и, слипая зубы, начал жевать.
Против него, под другой телегой, лежали четверо: одна баба и трое мужиков. Мужики, прикрыв ладонями бороды, глядели в поле, а баба – на него. Мирону показалось, что она даже подмигнула.
Деготь выкатился изо рта: сухой, черный комочек.
Мирон полз дальше, под передок. Ему хотелось тени. За телегами на песке, на дороге, лежало раскаленное солнце.
Большая, железная спица оцарапала хребет. Потом за хребтом сорвало штаны, обнажив мясо. И только солнце, вскочившее между телег, согрело ему мясо.
Он дополз до задка следующей телеги, протянул тело в тень и выглянул. Под той телегой, где лежал раньше он, были те, четверо… Баба опять подмигнула.
Мирон сунул голову к спицам колеса и закрыл глаза. Под глазами развернулось, извиваясь и трепеща, поле колосьев – багровых, зеленых, коричневых. Разбрасывая рогами колос, вышла и глянула на него тупая и жирная морда коровы. И вдруг – глаза у ней поблекли, осели и над ними всплыла острая волчья морда.
Мирон открыл глаза. Подле него за колесом, на корточках, сидела баба, а мужик за ней совал ей в руку молоток. «Сожрут», – подумал Мирон. Он прижал голову к спицам и, хватая ртом песок, зажмурился.
Рассказы и повести 1926–1927*
Крысы*
Еремей Демин голодал. Он тщетно искал работу. Один рыжий человечек, сузив безумные глаза, предложил ему вываривать из трупов скелеты для школ:
– Теперь же эра просвещения, – прошипел он.
И Демина больше всего напугало не его предложение, а слово «эра»1. Другой предложил делать медные скрепки для костылей калек и тоже пробормотал что-то невнятное об эре и красоте. По ночам из разрушенных домов доносились песни бандитов. На перекрестках дорог, уходивших в деревни, ждали крестьян горожане с остатками былого благополучия. Недалеко от дома, в котором жил Демин, находились склады «Ара»2. В мощных и светлых конторах неуклонно и аккуратно люди с непонятно спокойными лицами спасали голодных. Несколько раз Демин останавливал себя на желании зайти в контору и справиться: нет ли ему посылки из Америки, хотя знакомых в Америке у него не было и не могло быть. Непонятная бодрость владела им во все эти дни. В квартире было нестерпимо сыро, скупо пахло дымом на кухне – дымом голода, дымом дров, заглушающим запах еды. Демин часто стоял на площадке черного хода. Из соседней квартиры в девять утра выходили и возвращались ровно в пять сестры Чирковы. Они служили. Кроме них, в квартире жила мать-старуха. Квартира была огромная – в пять комнат. Все же по четвергам к сестрам приходил с ночевкой комиссар из губпродкома3, и старуху на всю ночь отправляли торговать лепешками. У старухи Чирковой было дряблое, но необычайно упорное и живое лицо. Увидав Демина на лестнице, она говорила:
– Вы б, молодой человек, лепешками попробовали торговать, очень выгодно. Мне сила не позволяет, и дочери не пускают торговать на всю неделю лепешками, а то мы жили б отлично. Мы ведь, как плетень, три жены одним пояском связаны!.4
Демин почтительно молчал и верил, что лепешки покупают, что их можно есть, – а их, действительно, покупали и ели.
Всюду, сквозь все разрушения, шло на город море, наполняя дни грохотом и нестерпимой синевой. Думая освободиться от почтенья, Демин часто ходил со старухой – и многое в ней не смог унизить. Она хвасталась, как она сберегла дочерей, – другие в это время по пять раз родили. До вечера старуха стояла у порта, возле тощего и замасленного спинами проституток тополя. Затем она шла от одного кино к другому. Плакаты сипло вопили о человеческих подвигах. Вонь и табачный холод серыми клубами выкатывались из дверей. Старуха прятала под рваной шалью дряблые руки и бормотала: «А вот лепешки горячие, лепешки…». Ночь проходила, клубы закрывались, – старуха шла к притонам, куда направлялись сутенеры и проститутки. Затем гнойные и сиплые женщины5 провожали своих любовников в порт, и старуха встречала их у ворот. «Лепешек горячих!» – говорила она. Однажды к Демину зашел товарищ по батальону, он занес почему-то пять фунтов хлеба и рассказал, что от него ушла жена, а потом вдруг развеселился, засвистел беззаботно, по-деминскому, и предложил спилить телеграфный столб в переулке – «для теплоты». Они распилили столб на аккуратные поленья, было это уже под утро, и пила казалась розовой, а опилки голубыми. Подошла возвращающаяся старуха с лепешками, пожаловалась на усталость, и, когда Демин спросил, «что ж она не идет спать», старуха взглянула своими необычайно живыми глазами на трамвайные часы и сказала, что пора б спать, да ей поговорить хочется, и Демин и его товарищ поняли, что старухе спать еще рано и что комиссару все еще необходимы пять огромных комнат. Приятель Демина помог перетаскать поленья, в комнате запахло смолой, – приятель опять затосковал и ушел. Демин позвал старуху к себе. Старуха пила чай и хвасталась, что продала все лепешки, что дочери будут сыты всю неделю. И добавила, неизвестно зачем, что как раз, когда она уходит торговать, к дочерям в гости приходит комиссар из губпродкома с товарищами: молодежь, нельзя им мешать веселиться. Демину хотелось знать, с которой из дочерей старухи спит комиссар. Демину больше нравилась младшая, белокурая, с беспомощно-широким ртом. Он злился на свое почтительное безмолвие. В комнате становилось все теплее и теплее. Старуха задремала, жуя во сне. Демин подождал, подумал зачем-то, что старуха проговорится во сне, ухмыльнулся на это и вышел на площадку. Немного спустя открылась обитая рогожей дверь соседней квартиры, тощая серая кошка шмыгнула вниз по лестнице. Крепко прикрыв дверь, не глядя на Демина, самоуверенно и твердо пригладив виски, спустился по лестнице губпродкомовский комиссар. Мелькнул внизу в пролете лестницы синий шарф поверх желтого полушубка. Затем вышли дочери. Они уже, по-видимому, беспокоились о матери. Они высунулись в окно. Во дворе пилили дрова, стирали белье визгливые бабы, – мыло употребляли «самовар», вонявшее на весь двор; какой-то хилый чиновник не донес до помойки ведра, упал, поскользнулся, – трескучий смех разнесся по двору. «Мамаша-то ваша у нас спит!..» – сказал быстро Демин. Младшая игриво повела пухлыми бровями, а старшая строго взглянула на Демина. Сутулая ее спина и толстые руки как-то боязливо скрыли свисавшие ее груди. «Эта живет!» – весело подумал Демин, и он распахнул ей дверь в свою квартиру. Младшая торопливо пробормотала: «Вы, гражданин, если возможно, не говорите по двору насчет ночевания… – она жалостливо улыбнулась. – Он все с друзьями собирается прийти, да не может все. Продуктов принесет, они и остаются». Демин еще раз посмотрел на нее, – и ему стало ясно, что им: ему и вот этой тоненькой женщине суждено, словно полу и потолку, глядеться, но не сблизиться. Тоска ожгла его. Вышла старшая. Старуха сонно висла на ее толстых руках. «Нищие освобождены от гостей…» – вяло сказала ему старшая. От ее голоса Демин вспомнил сытый рот комиссара. Похотливая слюна наполнила глотку Демина. Старшая, из гордости, конечно, позвала его к себе. У Демина не нашлось сил отказаться. На полу кухни стояли кульки с мясом, молоко в четверти и хлеб длинный и темный, как полено. Младшая торопливо кинулась прятать припасы, – старуха, впрочем, их не заметила. Она, счастливо улыбаясь, опустилась на диван; жалкие деньги, вырученные за лепешки, вывалились из кармана. Младшая намеренно жадно схватила их. «Иди за продуктом, лодырь…» – строго сказала ей старуха. Постели, мебель, скатерти – все было убрано с той тщательностью, которая указывает на что-то невозможно гнусное или невозможно хорошее. Сердце у Демина продолжало ныть. Он с трудом глотал морковный чай. Младшая принесла хлеб, похожий на полено, сказала, что только что купила, – и старуха удивилась: как это дешево. «Кушайте», – с беззаботной жалостью сказала Демину младшая, и Демин со стыдом и робостью взял огромный кусок и чувствовал, что есть нельзя, а все-таки съел.
В тот же день важный иностранец, приехавший из Англии, осматривал склады «Ара». Иностранец чувствовал себя слегка героем и ко многому относился снисходительно и многое решал сразу так, как он никогда не решал и не мог решить во всю свою прошедшую жизнь. На нем был желтый затейливый костюм, и со стороны он походил на луковицу: весь в заплатках. Всюду из-под ног ревизоров выскакивали тучи крыс. Иностранцы шли прямо, вытянув и без того правильные спины, а русские подобострастно кидали в крыс вывороченные булыжники. Серые прозрачные облака дрожали в небе, легкий ветер катал по заросшим травой проходам прозрачные и тихие бумажки. Важный иностранец глубокомысленно сказал: «Легче создать новую веру, чем возбудить старую. Против новой веры косность, а против старой не только косность, но и общераспространенная и общепринятая критика… – А затем, стараясь изобразить на своем плоском лице ужас и любопытство, добавил: – Что, неужели в этой стране нет кошек?». И опять какой-то подобострастный русский торопливо сказал, что да, по-видимому, нет. Тогда важный иностранец удивился еще более и предложил сделать объявление в газетах или лучше в афишках (потому что ему хотелось захватить такую афишку в Англию): «За каждую доставленную кошку выдается посылка „Ара“».
Утром Демин проснулся от непонятного томления. Он привстал. Сырость и пыль смотрели на него. Бодрость его исчезла, и он, словно бы оправдываясь, сказал внутренне самому себе: «Чего ты, как осина, без ветру шумишь?» – и уже не случилось так, как это было прежде: он не поверил себе, не рассмеялся, не засвистал. Визг донесся со двора, он облокотился на теплый подоконник, солнце ударило в лоб. Костлявый мальчишка испуганно шмыгнул в ворота. Женщина без платка с грязным полотенцем в руках пыталась бежать за ним, и, видимо, у ней не было сил. С искаженными лицами, с рваными мешками в руках прыгали в грязные щели черных ходов жильцы дома. Дворник кричал хозяйственно и алчно. Затем несколько человек по тонкой и ржавой лестнице полезли на чердак. Застучали ноги по крыше. «В чем дело?» – крикнул Демин. Никто не ответил ему. Он выскочил на двор. «Две кошки в доме, – сказал ему кто-то на ухо, – одну мальчишка упер, вон хозяйка убивается, а другую никто найти не может». «Чья вторая-то?» – вскричал Демин исступленно. И опять ему никто не ответил. Он кинулся по улицам. Везде во дворах, в развалинах, с корзинками, с мешками рылись люди. Кто-то сказал, что кошек много у кладбища, и толпа кинулась туда. Пошел за толпой и Демин. И он так же, как и все, шнырял глазами по щелям, заглядывал в ворота. У кладбища стоял милиционер, тонким бабьим голосом он приказал всем разойтись, на мгновение у всех были удивленные лица, несколько человек побежали вдоль ограды, ища другого входа, но и у другого входа стоял милиционер. Демин бросился к складам «Ара». Огромная, тысячи в три-четыре, очередь упиралась визжащей головой в аккуратные и светлые конторы деловых людей. Демин с тоской и надеждой шел вдоль очереди. Он встретил много знакомых; его на минуту рассмешило, что поп о. Григорий был переодет отчего-то в татарский халат и, главное, странно гордился этой выдумкой. У каждого под мышкой был мягко шевелящийся мешок, а на лице бесстрастная надежда. В средине очереди он увидел сестер Чирковых. Сердце его упало. Сестры стояли рядом, тесно-тесно; серая кошка тщетно пыталась освободить свой хребет от двух вцепившихся в нее рук. Длинные вялые рты сестер были влажны и как-то не по-хорошему измяты. Здесь Демин почему-то испуганно вспомнил губпродкомовского комиссара. Сдавленным голосом Демин окликнул сестер. Они не ответили ему, не узнали. «Обе», – подумал он и кинулся вдоль очереди. В конце он разглядел старуху Чиркову. Она стояла с крошечным черненьким котенком. На лице ее была уверенность и твердость. Котенка она прижимала с такой силой, что у того вся мордочка была в предсмертной пене. Очередь продолжала увеличиваться. Несколько солдат, неумело неся винтовки, направились к конторе «Ара». Солнце стояло в средине теплого неба. Город молчал. Демин бросился домой. Все еще думая о кошках (хотя иная, непонятная, еще жирная мысль заполняла постепенно его тело), Демин заглянул в подвал. Сотни крыс ринулись в углы. Он отпрыгнул. На лестнице черного хода он опять встретил крыс. С писком, стуча коготками, кинулись они вверх. «Со складов-то все сюда», – туманно мелькнуло в его голове, и он обессиленный отошел. Как всегда, сквозь просветы развалин, сквозь улицы донесся до него грохот и неудержимое сияние моря. И от этого страх еще более овладел им. Он прислонился к фонарному столбу, снял шапку. Проходивший по улице матрос, пьяный, курносый, весь в синяках, но счастливый как-то по-своему, надел на него шапку. Убежденно помаргивая лоснящимся глазом, он сказал: «Факт: ни на небе, ни на земле – мы и на кочках проживем». Уверенность, которой недавно владел Демин, – видимо, – до безумнейшего предела наполняла матроса. Демин понял: не найти теперь ему ни работы ни хлеба. А матрос все найдет, даже ангорскую кошку… Демин со страхом взглянул на его бессмысленно-счастливое лицо и (так же бессмысленно-счастливо думая: «Конец!») громко и поспешно ответил: «Есть!».
Зверье*
Пространство между нами увеличивается, но преданность моя не уменьшается.
Накануне захвата станции Ояш2 отряд, в котором служил Павел Мургенёв, справлял Октябрьский праздник. Подле двухэтажного волостного правления, чем-то похожего на кувшин, устроили митинг. Снег блестел тускло, как кудель. Мургенёв с чувством произнес речь о наступлении, мужики заорали «ура», политрук благодарно пожал ему руку; Мургенёв ответил ему с достоинством:
– На станции Ояш моя родина. Старик там и сестра…
Он хотел добавить, что старик необыкновенно горд и заносчив, но политрук уж говорил: «Жаль – не захватили родину в день Октябрьского праздника»3. Мургенёв тоже посочувствовал ему.
Шли в обход Ояша. Шли знакомыми Мургенёву местами. Он увидал луг, с которого мальчишкой еще возил домой сено. Всё такие же желтые дорожные раскаты вились у мостика через речку. Но мост был сожжен и, видимо, из озорства, потому что ехать через лед речки было легче, чем через ветхий мостик. Подле моста увяз автомобиль. Клочья ободранного кузова жалко торчали из сугроба. Мургенёв подошел ближе. Окровавленный платок с кружевной бахромой прилип к полузанесенному снегом сиденью. Но на все в этот день смотреть было весело. Весело разглядывал Мургенёв и этот платок.
Обошли станцию версты за четыре. Спешились, потоптались. Покатили морозные пулеметы. Как всегда, начали с неохотой, затем разгорячились и, при взятии станции, убили несколько лишних человек. Опять Мургенёв увидел эшелоны с беженцами; сдающихся офицеров с пустыми кобурами; ввалившуюся бледность щек; в теплушках запах пота и пеленок. Его поразило только одно: неподалеку от станции, в сарае, дверь в который изображали жерди, прибитые к косяку гвоздями, он увидел несколько верблюдов, задумчиво вытягивающих к снегу длинные морды. Красноармейцев тоже, видимо, изумило присутствие верблюдов; двое даже принесли сена. Мургенёв постоял у жердей, погладил верблюду теплую морду, подивился, что нет дверей: замерзнут, и, не досмотрев захваченные поезда, направился к родителям. Он уже сбегал по ступенькам станционного крыльца на площадь, по ту сторону которой виднелся одноэтажный родительский дом под железной крышей, – но вдруг вспомнил, что отец был не только горд, но и любил пышность: шаровары, например, он всегда носил плисовые4. Мургенёв вернулся, попросил привести ему офицерскую лошадь. Красноармейцы разбирали вагон брошенного белыми полкового имущества; Мургенёв пожурил их, – но себе выбрал новый полушубок и сапоги. Поверх седла лежал зеленый ковер: «Для веселья!» – сказал подводивший лошадь, и, действительно, Мургенёву стало необычайно весело. Задорно блестела и звенела дорога. Старик, Алексей Дементьич, стоял на крыльце, словно знал, что сын приедет, видимо, был рад, – но дотронулся только до ковра: «Колера-то какие, ядрена мышь!» – сказал он – и уступил сыну дорогу. Старуха засуетилась, заохала, на крыльях ее носа дрожали слезы.
– Крепко тебя ограбили, тятя, белые-то? – спросил, облокачиваясь на стол, Павел.
Прямо против него, на кровати, стонала его сестра Шура. Она была в тифу, но брата узнала, даже шепотом поздоровалась, и опять забылась.
– Ограбили, – ответил старик недовольно, – грабят-то не белые. Сын удивился. Старик продолжал:
– Настоящие белые давно проехали, а этих грабителей красные подсылают, чтобы значит белых опозорить, не вернулись чтобы. Настоящие-то белые с оркестрами ехали, а эти что, как кошки, дуют…5
Старик в чем-то хитрил. Боялся: как бы сын не захватил хозяйство, увидав пораженную гордость отца. Павел улыбнулся и попросил поставить самовар. Сестра рванулась с кровати, то ли от слова – самовар, то ли в бреду. Павел подумал: может быть, она не больна тифом, а изнасилована? За войну он привык мыслить, как приказывают, и, хотя часто ошибался, но на душе от таких мыслей легче. Да и здесь, у отца, правды все равно не узнать! Самовар заликовал, было тепло. Старуха расспрашивала о войне, Павел рассказывал (отец опять мешал его мыслям), и получалось не так, как было бы нужно. Нужно было бы рассказать действительно героическое, а он нес какое-то солдатское полувранье. У старухи умиленно слезились глаза, старик хитро улыбался. Наконец Алексей Дементьич развеселился совсем, достал из-под пола бутылку самогона. Рюмка, остатком отбитой ножки насаженная на черешок (из-под ножа, наверное), дрогнула в его руке:
– За ваше здоровье, – сказал он, и сын ему ответил тостом за республику. Тогда отец велел позвать родственников. Старуха засуетилась с ухватом. Какая-то незнакомая (неслышно за радостью), вошедшая молодка вызвалась истопить баню. Павел ущипнул ее за упругий бок, она сверкнула на него глазом, и Павел подумал: «Ночь-то нынче занята». Кровь поднялась в нем. И сразу сегодня же он решил ночевать в бане. «Затопи», – торопливо выговорил он и отвернулся. Отец выдвигал на середину горницы стол; ложки радостно играли в руках матери.
Но тут в избу ворвался запыхавшийся красноармеец. Измятая записка упала на пол, и он выкрикнул, что «штаб сообщает товарищу Мургенёву: Боткинский и Ижевский полки ведут наступление на станцию Ояш!». За последние два месяца не было случаев перехода белых в наступление, и Мургенёв не поверил бы, если б не знал, что Ижевский и Боткинский полки колчаковской армии состояли из рабочих, согласившихся покинуть Урал вместе с белыми6, и что среди красных имелось невысказанное соглашение: не брать пленных из этих полков. Ходил слух, что каждому из солдат этих обреченных полков был выдан револьвер для самоубийства. Возможно, что полкам зашли в тыл и они теперь кинулись на явную смерть. Так, надо полагать, думали во всем отряде; даже посыльный, которого Мургенёв никогда не видал растерянным, стоял бледный, и пот увлажнял его молодую бороденку. Павел развел руками. Не без франтовства пристегнул он револьвер, вспрыгнул на лошадь, раздраженно скинув перед этим ковер с седла. Лошадь, играя, подпрыгнула; прыжки ему не понравились, – он, как и все крестьяне, уважал спокойную смерть7, – плеть тяжело упала на бока коня. К станции, на ходу затягивая полушубки, с обеспокоенными лицами бежали красноармейцы. С той стороны, откуда утром пришли красные, уже слышался вражеский пулемет. Мургенёв быстро нашел свою роту, она уже шла на правый фланг. Поспешно и молча шагали мимо эшелонов. Теплушки беженцев плотно молчали; солдат это раздражало, и один сказал: «Кабы время, я б вам в окошко по гранате…». На лилеющих снегах раскинулись цепи. Вдали замелькали желтые точки. «Ижевцы», – сказал солдат, говоривший недавно о гранате. Пулеметы усилились. «Кабы мы артиллерию успели подвезти!» – сказал все тот же солдат. «Молчать в строю!» – крикнул Мургенёв. Видно было, как передние цепи красных дрогнули, ринулись к станции. Мургенёв закурил, закурил и весь отряд. «В своих придется палить?» – не унимался разговорчивый солдат. Никто ему не ответил, папироски кинули недокуренными, колебнулись винтовки. Но цепи выпрямились, остановились; звонкая команда донеслась версты за полторы. Рота Мургенёва опять ухватилась за винтовки, и стало ясно, что перестрелка затянется.
– Вы бы насчет стариков, – сказал вдруг его помощник Аксенов.
Мургенёв внимательно взглянул Аксенову в розовое молодое лицо, по которому было ясно, как вся рота радовалась тому, что у Мургенёва такие хорошие родители. Мургенёв развел руками.
– Пускай старики в тыл едут, пока идет перестрелка. Штаб наш от греха подальше на разъезд «469», в десяти верстах, ушел, вот туда и пускай едут. Пока на полчаса можете побежать домой. Мы удержимся… Только площадью осторожней, неравно хватит… – продолжал Аксенов, и ему, видимо, хотелось покомандовать в таком опасном деле.
Мургенёв подумал, закурил папироску, осмотрелся (никто в отряде и мельком не мог, конечно, подумать, что он трусит и потому уходит), веселые и бодрые лица глядели на него. Он согласился.
Старик по-прежнему сидел на лавке перед столом, выдвинутым на середину горницы. Сестра стонала. Павел предложил, сам не веря, что отец поедет. Отец ответил:
– Куда нам ехать, земля для могилы везде одинакова. Да и Шуру не бросишь, сынок.
Павел кинул о пол шапку. Отец поспешно и нежно подал ее ему.
– Шапка-то казенная, – сказал он. Поднял руки, чтобы обнять, но и тут, видно, загордился, – хлопнул себя руками по бокам и перекрестился в угол. – Бог спасет, может!
Павел выскочил. Старик отвернулся к окну.
– Герой. Гордый. – И тогда, подойдя к киоту, он одну за другой снял иконы8, сложил их стопочкой на стол и проговорил: – Чего ж нам одним в хозяйстве гибнуть, надо и богов по шапке, а, старуха?
– Тебе видней, старик, – недовольно ответила старуха, садясь к изголовью дочерней кровати. – А, по-моему, не лез бы ты в войну-то. Лучше…
Со страхом Мургенёв увидал, что за промелькнувшие полчаса многое изменилось на станции Ояш. Цепи ижевцев стлались уже по полю недалеко от семафора. Несколько красноармейцев из его роты, не слыша его и не узнавая, бежали без винтовок вдоль путей. Он остановил все же одного, спросил о своем помощнике Аксенове. «Убит», – сказал солдат, отталкивая. Мургенёв остолбенело застыл у станционного колокола. Пулеметная стрельба усиливалась. Толпа солдат бежала от станции вдоль дороги. Ижевцы, видимо, приняли это за какой-то хитрый маневр, потому что приостановили перебежку. «Ваше благо… товарищ комиссар! – закричал выбежавший из станции бледный, шатающийся телеграфист. – У меня рука прострелена, больно!.. Штаб с разъезда вам телеграфирует: снарядов нет, снаряды в последнем вагоне… зеленый состав, под синим флажком». И телеграфист побежал вдоль перрона, кинув к ногам Павла клочки телеграфной ленты. «Идите вы, сволочи, со снарядами…» – завопил ему вслед Павел, для чего-то выхватывая револьвер. Но револьвер словно тянул его вперед, – и он побежал вдоль зеленого состава. Действительно, в конце поезда он наткнулся на теплушку под синим флажком. Почему под синим? Он подпрыгнул и сорвал с дверей синий флажок. И с флажком в руке он побежал дальше. Залитый кровью кочегар катался на полу тендера9. «Куда?» – сам не зная для чего, спросил его Павел. Кочегар, привстав на локте, указал на плечо и сказал спокойно: «Никто, брат, тебя не увезет. Из всех паровозов пары выпустили, ни угля, ни дров. Не мешай», – и он со стоном опрокинулся. Павлу было стыдно мешать его смерти: рана была ниже плеча. Паровозы безмолвствовали. Павел кинул флажок и вернулся к снарядной теплушке. Под соседним вагоном, плотно прижавшись к колесам, лежали два солдата.
– Взорвет вас, – сказал им Мургенёв: – рядом вагон со снарядами, давайте отцеплять.
– И то взорвет, дяденька, – пискливым голосом сказал один из красноармейцев. Они поднялись и, мало понимая, что делают, подошли к нему. Мургенёв указал им на крюк сцепления. Они сняли крюк и стали отталкивать вагон от состава. Вагон стронулся легко. «Паровоз-то подают?» – тоненько спросил красноармеец. Павел не успел ему ответить: красноармеец лежал мертвым, пуля пробила ему шею. Его приятель взвизгнул, скорчился, подобрал полы шинели и так, оглядываясь на Мургенёва, словно ожидая, что он выстрелит ему в затылок, уполз под вагоны. Мургенёв поспешно спрятал револьвер и прислонился к стенке вагона. «Действительно, – пришло ему в голову, – зачем отцеплять вагон, если нет паровоза? Через полчаса, самое большее, ижевцы займут Ояш. Надо бы разорвать документы или лучше…». Он посмотрел: в револьвере было пять патронов. «Богацько!» – улыбнулся он, оглядываясь. Ни одной лошади не видно было ни на путях, ни подле станции. Идти через площадь в деревню?.. «Богацько!» – повторил он вслух. Вдруг он услыхал рев. Он увидал угол сарая, дверь, забитую жердями, и мохнатую морду верблюда в веревочной узде. Мургенёв даже подпрыгнул от радости, поискал глазами между колес, но красноармеец исчез. Ветер чуть шевелил солому сарайной крыши. Жерди были прибиты крепко; дабы их сломать, Павлу приходилось падать на них всем телом. Связанные попарно верблюды шарахнулись в проход, Мургенёв схватил первую пару. Он подвел их к дверям теплушки, встал на ступеньки… Если б верблюд на узде был один (ему и в мысли не мелькнуло, что можно развязать или перерезать повода), он вскарабкался б на него и ускакал бы… Мургенёв вспомнил хомуты, а вспомнив хомуты, вспомнил и вагон – и, поспешно замотав повод за скобку двери, кинулся вновь в сарай. Там, у туши убитого, мотался, пытаясь оторвать узду, – верблюд; его рев, должно быть, и услышал Мургенёв. Хомуты висели на деревянном гвозде. Путаясь в незнакомой сбруе, Мургенёв поспешно натянул на верблюдов хомуты; привязал длинную вожжу к уздечке; захватил буфер петлей веревки; вожжу закинул на теплушку. Зацепил вожжу за кромку и, подставив лестницу, вскарабкался на вагон. Усталость овладела им, он вспомнил о пулеметах – и по крыше вагона полз на животе. Он мало верил в то, что верблюды смогут везти вагон, но ему казалось, что набухшее в нем чувство, что он виновен в какой-то подлости, этим поступком будет искуплено. «Трогай!» – заорал он, отчаянно мотая вожжами. Верблюды покосились на блестящие рельсы. Спокойствие животных на мгновение овладело человеком. «Экий морозище!» – сказал он. Вагон тронулся.
Больше всего, по-видимому, верблюдам было страшно видеть эти ровные блестящие полосы железа, что текли перед их мордами. Они им казались в одно время и оглоблями, и кнутами. Верблюдам было тесно. Они толкались животами, а вырваться в сторону из блестящих стальных оглобель не могли. Павел пожалел: надо бы запрячь одного. Вагон двигался толчками, но все быстрее и быстрее. Мелькнули станционные постройки, водокачка. «Только бы, – думал Мургенёв, – верблюды не свернули в сторону, или ижевцы не открыли по нему огонь». Он нащупал в кармане перочинный ножик: на случай, если верблюды свернут, перерезать постромки. Как он слезет к буферу по отвесной стенке – он еще не знал. Мургенёв лежал ничком на крыше; пряжка пояса больно врезалась в живот, а подняться и сесть у него не хватало смелости. Теперь он разглядел верблюдов: один, правый, был бурый, лохматый, а левый – почти седой и гладкий, с высоко поднявшимися откормленными горбами. Увидав эти колыхающиеся горбы, Мургенёв вспомнил веселую бабу, которая должна была ему сегодня топить баню. Затем вспомнился отец, ему стало грустно, и он начал твердить: «Рельсы, рельсы…» и скоро, верно, начал упрямо думать о рельсах. Вспомнил, как однажды проводник вагона сожалел, что за границей рельсы сдвинуты уже наших и вагоны наши туда идти не могут, а значит всемирная революция не произойдет…10 Бег вагона все увеличивался. Он скоро заметил, что верблюды начали реветь и оглядываться. Буфер толкал их в задние ноги. Вначале Мургенёв подумал: верблюды разогнали вагон, а теперь уменьшили шаг; но толчки буфера становились все яростней и яростней, и вскоре стало ясно, что за станцией Ояш путь идет под гору и разогнанный вагон мчится сам. Мургенёв даже обеспокоился: скоро покатость кончится, вагон должен подниматься в гору, и что тогда – хватит ли у верблюдов сил втащить его? Но вагон все сильнее и сильнее толкал на верблюдов, и уже появилась опасность, что вагон сшибет верблюдов, помнет или раздавит их и они своими тушами могут задержать его бег. Столкнет ли один Мургенёв вагон? Павел замерз и мелко дрожал, железный ветер свирепел; нужно было спускаться с крыши к буферу перерезать постромки. Он расстегнул ремень, зацепил его за доску набрусника, подумал и, скинув шинель (длинный полушубок, надетый им поверх шинели, он забыл в отцовской избе), привязал рукавом ее к ремню. Ветер на мгновение вырвал у него шинель, мотнул ей по воздуху: верблюды испуганно заревели, вагон зашатало. Потом Мургенёв, осторожно вися на шинели и скользя ногами по гладкой стенке (со злостью думая, что шинель затрещит и вот-вот лопнет), стал спускаться. Шинель сильно пахла табаком. Наконец сапог его коснулся буфера.
Холод овладел им. Холод казался сильнее оттого, что вагон защищал от ветра. Он едва мог открыть перочинный нож. Кость рукоятки жгла ладонь, он обернул руку платком. Постромки то натягивались, то слабели – резать было очень неловко. Но вот, наконец, один верблюд ринулся вперед! Мургенёв выстрелил, верблюды сразу выпрыгнули из рельсовых оглобель, кувыркнулись по насыпи – по одному с каждой стороны и, увязая в снегу, наступая на постромки, побежали в поле. В иное время Павел похохотал бы над их прыжками. Буфер жег ему ноги, висевшая шинель хватала только до шеи, а стянуть ее он не мог, так как не за что было ухватиться и, если б она оборвалась, он упал бы вместе с нею под вагон. Теплушка неслась, отвратительное морозчатое железо свистело под колесами. Руки коченели, ему ничего не оставалось, как лезть обратно на вагон, и он полез. Он, цепляясь за шинель, подпрыгнул, насколько мог, и ухватился за кромку крыши. Здесь шинель затрещала, и руки его бессильно поползли с крыши. Тогда он схватился за шинель зубами, еще раз подпрыгнул – и снова повис у края крыши! Ему пришлось выпустить мешавшую движениям шинель, и она болталась меж его ногами. Несколько ниток соединяли рукав и те куски материи, что некогда закрывали грудь его и ноги. Он мотнул тело на крышу. Нитки лопнули, – и на крыше, привязанный ремнем к доске, остался лишь рукав его шинели. Серое сукно долго маячило позади на шпалах. На крыше Мургенёв присел сначала, затем опять лег; поплясал, – стало теплей, но вдруг он вспомнил, что там, под ним, полный, плотно набитый вагон снарядов. Снаряды эти сейчас мчатся на станцию, вагона уже не остановить, скорость его все увеличивается. На стрелке ли, дальше ли, вагон наскочит на другие вагоны, и снаряды вспыхнут, взлетят!.. Было ветрено, пустынно. Среди снегов, неподалеку от железнодорожных путей, бежал желто-лиловый проселок. Кое-где синели лески. Мургенёв и не заметил, как присел. Он отвязал рукав, прикрыл им сначала шею, затем плечи, пытался прикрыть обессилевшие руки. Он лег, вытянулся и стал стучать в воздухе сапогами. «Замерзну, сука!» – подумал он и вдруг почувствовал ненужный стыд: на многих убитых офицерах он видел фуфайки, а вот сам не мог решиться надеть – все проклятая крестьянская гордость: и так, мол, выдержим. Мысль о взрыве владела им сильнее, чем мороз. Он всегда боялся грохота, и теперь смерть представлялась ему такой непрерывно растущей тучей грохота. Тошнота приступила к его горлу, глаза слипались. Вдали уже виделись избушки разъезда «469». Он выполз на край крыши, спустил ноги, чтобы спрыгнуть. Ему неимоверно трудно было открыть глаза, но прыгать с закрытыми глазами было еще трудней…
Посреди проселка он увидал сани. Длиннобородый мужик в азяме11 стоял на коленах в санях и с ужасом крестился на мчащийся вагон. Ветер загнал лошади хвост к животу, и оттого лошадь казалась тоже испуганной.
Непонятная гордость овладела Мургенёвым. Он собрал последние силы, чтобы послать озорное благословение мужику, но руки бессильно ползли по коленям…
Перед самым разъездом «469» путь пошел в гору. Три разведчика легко остановили вагон. Мургенёва кинулись растирать.
Еще через час начался с разъезда «469» обстрел станции Ояш снарядами, доставленными Мургенёвым. Громили ее весь вечер; зарево заняло полнеба – и рано утром поступило донесение, что станция противником оставлена. Днем, в числе прочих победителей, Павел Мургенёв ехал занимать станцию. Руки его были забинтованы, а лицо густо смазано гусиным салом. Станция, станционные постройки, поезда – почти все сгорело. Пахло тряпками, горелой мукой, мясом. Сохранилась только водокачка и на дверях ее вчера, должно быть, наклеенный приказ «верховного главнокомандующего»12. И почти все домики подле станции сгорели. Родной свой домик Мургенёв едва нашел – сгорели даже деревья в палисаднике. Он узнал свой дом по каменной бабе, которую когда-то в юности притащил из степи в палисадник. Отец за эту нечисть выпорол его, все собирался отвезти обратно в степь, да так, видно, и не собрался. Плоское лицо каменной бабы тоже почернело, Мургенёв пихнул ее сапогом. Никаких следов не осталось от его родных, и никто не мог сообщить, живы ли они, умерли ли, или их увезли ижевцы. Среди пожарищ нашли десятка два обгорелых трупов, и никто не опознал их. Не опознал и Мургенёв. Красноармейцы, между тем, в уцелевшем доме священника сварили обед. Пообедал и Мургенёв. На вечер штаб назначил выступление: идти дальше, в тыл ижевцам. Вот и вечер подошел, а Мургенёв все еще тоскливо бродил среди пожарища. Попал он на станцию. Выступила луна. От ее сумасшедшего света составы поездов казались еще более обгорелыми. Где-то затянули песню и оборвали. Мургенёв одрябло прислонился к теплушке и вспомнил, как вчера он точно так же стоял у вагона со снарядами. Револьвер вчера был в его руке; в револьвере со вчерашнего дня изменилось только то, что вместо пяти пуль стало четыре. И огромная, как бы многостворчатая, скорбь хлынула в него. Шумное широкое дыхание послышалось вблизи. Он поднял голову. Огромный верблюд, тоскливо мотая головой, шел вдоль состава. Его лиловая тень прошла по ногам Мургенёва. Сквозь заледенелые ресницы луна блеснула в верблюжьих глазах. «Эх, ты, зверье», – шепотом сказал Мургенёв вслед верблюду. Ему хотелось что-то добавить, а что – он и сам не знал.
На покой*
Ермолай Григорьич на работе был строг, часто упрекающее вскрикивал, и упреки его были почему-то особенно обидны. Его желтые зеницы ехидно смотрели в бок, в сторону, словно там, за плечами человека, он видел и знал самое плохое, о котором ему не только говорить, но и думать было противно. И, когда вдруг оказалось, что фабрика убыточна и выделывает не то, что необходимо республике, и что ее нужно закрыть1, – сотоварищи обрадовались, что наконец-то Ермолай Григорьич попал в беду. Но его желтые глаза по-прежнему уверенно и ехидно блестели под круглыми, какими-то косматыми бровями, и они поверили, что Ермолай Григорьич всегда справедлив и строгость его от большого знания своего места на земле, и они разозлились так, что, когда выходили из конторы и расставались, может быть, навсегда, – то никто не подал руки Ермолаю Григорьичу. Ермолай Григорьич скосил крепкие щеки, желтые глаза его последний раз увидали за плечами товарищей то, чего никто не видал и не знал, и он бодро вышел впереди всех. Но сердце у него ныло, и, казалось, закрыли не всю фабрику, а выгнали его одного.
Он прошел два квартала вдоль фабричной красной стены к трамвайной остановке. Подле светло-синей, быстро на глазах высыхающей лужи стояла небольшая очередь. Он гулким голосом, крепко выходящим из его выпуклой пятидесятилетней груди, спросил, кто последний, и так уверенно стал позади какого-то чахоточного человека в грязном парусиновом пальто, что человек сразу затосковал, да так и, мучаясь, не смог понять, что с ним происходит. И когда исшарканная трамвайная подножка уже была подле его колена, Ермолай Григорьич догадался, что он сбирается ехать к своим сыновьям. И он так уверенно отошел от трамвая, что никто не подумал о его ошибке, а всем было ясно – ему не понравился вагон. Кондратий и Евдоким, его сыновья, работали на другой фабрике, кондитерской, кочегарами. Кондратий был лыс, выше почти на голову Евдокима, говорил раздельным тенорком, а Евдоким неумело хрипел, и все же и посторонним и даже отцу казалось, что братья всегда говорят в голос, может быть, потому, что всегда говорили о хозяйстве, деньги до последней копейки посылали в деревню, сами впроголодь жили в какой-то провонявшей селедкой и мочой кухнишке и к отцу в его опрятную комнатку ходить не любили. Каждый вечер они начинали меж собой разговор о сбруе, – им хотелось иметь кожаную сбрую с ременными вожжами, – и всем чудилось, что мечтает о сбруе один какой-то очень недовольный голос. Изредка они брали на ночь девку, уговариваясь, что спать с ней будут двое, и, хватая девку за ляжку, лысый Кондратий говорил: «Скидавай сбрую», – и девка почему-то всегда была ими довольна, и, уходя, она старалась думать, что спала с одним каким-то необычайно сильным человеком. Поспав с девкой, – это чаще всего происходило в субботу, – братья шли в гости к отцу, и всегда они встречали там кипящий самовар на столе, связку пухлых баранок, полбутылки водки и в окне довольного снегиря. Отец весело и снисходительно расспрашивал их о деревне, хвалил деревенскую жизнь, легонько трогал пальцем клетку, говорил: «Как птицы живете», – и заглядывал далеко куда-то за плечи сыновьям. Но сам он никогда не высказывал желания поехать в деревню, и, расставаясь, все трое чувствовали, что между ними многое не договорено, – и тогда они враз все трое улыбались и хлопали суетливо друг друга по плечу.
Были у него еще две дочери – Василиса и Вера, жившие в деревне и правившие хозяйством вместе с женой Кондратия, Анной. О дочерях Ермолай Григорьич вспоминал с нежностью: они были беспечны, певуньи, а женихи как-то не шли к ним, – и что им суждено остаться в девках, тоже трогало нежностью сердце Ермолая Григорьича. Но с сыновьями о девках Ермолай Григорьич не говорил, и, когда сыновья уезжали в отпуск, он давал им по ситцевому отрезу и хмуро бормотал: «Ублажите… пущай по кофте сошьют, глядишь – и хватят кого за душу».
Весь день он был доволен, что не пошел к сыновьям, покрякивая, пил чай и сам не заметил, что снегирю три раза насыпал зерна в кормушку. Проснулся он рано, легкий весенний морозец чуть тронул окно; снегирь играл перьями в розоватом и блестящем тумане света. Трамваи звенели так, словно неслись в небо. Сидевший на тополе грач, увидав проходившего мимо Ермолая Григорьича, радостно тряхнул перьями, и показалось, что весь синий тополь тоже задрожал. Вчера, за чаем, Ермолай Григорьич выбирал, на какой бы ему завод пристроиться: он не любил людных зданий и завод выбирал подальше от города и почему-то с коротким названием, может быть потому, что фабрика, с которой его убрали, имела огромную вывеску в добрую сотню букв и при открытии ее говорилось много речей и посылались длинные приветственные телеграммы. И вот Ермолай Григорьич направился на выбранный им вчера завод. Знакомые на заводе долго жали ему руку и, оглядываясь на дверь – словно их кликал кто, сказали: «Что поделаешь, кризис… у всех…». Дверь была обита клеенкой, неимоверное количество ржавых гвоздей в бешеном беспорядке гнездились на клеенке. Ермолай Григорьич, ласково улыбнувшись, ушел. И, чем больше он ходил от завода к заводу, от фабрики к фабрике, от окошечка биржи к другому2, тем все больше он приближался к людным местам и тем все обиднее разговаривали с ним люди. Сразу во всем: в разговорах, в поступках людей – увидал он обидный до слез беспорядок и, вспоминая многие резолюции, за которые он голосовал в ячейке, он замечал чепуху и непонятное в этом, казалось бы, налаженном деле.
Явилась нужда пойти в пивную со знакомыми, один из которых, угрюмый, с кривыми грязными пальцами, одетый в парусиновый пиджак поверх грубой толстовки, обещал ему поденную работу. Ермолай Григорьич поставил дюжину пива, и сразу после двух бутылок знакомый развеселился, начал расхваливать себя, рот у него размок, и можно было ясно понять, что зря ему поставлено пиво. В другое время Ермолай Григорьич прогрохотал бы тяжелыми своими сапогами и ушел бы, а тут он вдруг почувствовал себя усталым, веки его с трудом подымались, и в бровях кололо так, словно веки были стеклянные.
– Цыпленок-то вот дважды родится, а ни однажды не крестится, – сказал он и пристально, словно удивляясь чему-то, взглянул в пивную бутылку.
Все посмотрели на него вопросительно, а он тихо расставил крепкие ноги и между ног опустил руки, и все с какой-то робостью увидали, что руки его почти хватают по полу.
– А я вот дважды крестился. Сперва в Христа, а потом в коммунизму3. Под крестом-то на шапке я всю Галицию проходил, до немца через все болота докатывался, а из-за коммунизмы и на Украине и на Колчака… много скитанья принял.
– Ты к чему поешь-то? – весело спросил хмурый знакомый, играя грязными пальцами.
– А к тому, что спокойствия, а выходит, и меня – не рожалось еще!
– Найдешь, найдешь работу, не тоскуй.
Между столиками стояли сделанные из фанеры пальмы. Пиво пылало желтым солнцем. Ермолаю Григорьичу до головной боли было непереносно смотреть на эти пальмы.
– Я в Закавказье не на таких пальмах кашу варил, – вдруг, со злобой глядя на угрюмого знакомого, сказал он, – там пальмы… в обхват…
– И верю, верю, – напряженно прикрывая рот грязными пальцами, испуганно ответил ему знакомый. – Ты пиво пей. Говорю, будет тебе работа!
Но Ермолай Григорьич взял шапку, постоял: никто не сказал, чтоб он платил за пиво, и он грузно вышел. Ложась спать, он подумал, что завтра встанет бодрый и уверенный, дабы искать работу, но поутру усталость еще более овладела им. Он даже не застегнул пуговиц на рубашке, и неприятно было чувствовать голую, казалось – одряхлевшую шею. Вспоминалась вчерашняя выпивка, и мысль опять вернулась к скитаньям, и он вспомнил, как он вступил в партию. Случилось это накануне сражения с каппелевцами4, когда все думали, что полку нужно сдаться. Военком воскликнул, указывая на него: «Товарищи, учитесь смелости у Тумакова!». И сто одиннадцать человек в ту же минуту пожелали вступить в партию. Каппелевцев разгромили, и приказом по полку была отмечена выдающаяся храбрость тов. Ермолая Тумакова. Потом пришло на ум, как на Урале, на хозяйственном фронте, дивизия заготовляла дрова. Должен был проехать Троцкий. Красноармейцы десять верст, прямо через снега, шли к рельсам для того, чтобы прокричать мчащемуся мимо поезду «ура»5, и Тумаков пришел первым. А теперь усталость (что как тень лежит на воде и не тонет) – усталость овладела им, и он чувствовал себя стариком. Ему захотелось посмотреть на себя в зеркало, но и зеркала, оказалось, он не имел. Последний раз, перед отъездом на фронт, жена подарила ему маленькое зеркальце в ладонь величиной. Он разбил его случайно прикладом и, помнится, пошутил, что с бабой-то, видно, плохо, а баба почти в те дни и умерла от тифа. Вспомнив и зеркало, и терпеливую старуху, он вспомнил и свое хозяйство, которое он не видал лет восемь, – и тогда он направился к сыновьям.
Сыновья, как оказалось, уже знали, что фабрика закрылась и что отец не может найти работы.
– Деньги-то заместо пропивок надо было б в деревню посылать, – сказал Кондратий и самодовольно погладил лысую голову.
– Барин, – подхватил Евдоким, – хамунист, вояка…
Сыновья держали себя заметно развязнее и, когда Ермолай Григорьич сказал, что он устал и ему пора на покой, сыновья промолчали. Серая кошка с гноящимися глазами развязно прошла по вонючему полу кухни. Ермолай Григорьич хотел было прикрикнуть на сыновей, но как-то получилось, что он утомленно сказал им, что дом его и скотина им не отписана. Сыновья, видимо, испугались, хотя бояться им было нечего, и вот, побродив без толку еще неделю по городу, Ермолай Григорьич уехал в деревню.
В Волгу врывалась речонка, желтая, бойкая, и бойкие рыбешки с красными крылышками, словно обгоняя струи, выпрыгивали из воды. Речушка же, врываясь в Волгу, пересекала ее прямо до противоположного берега, и казалось, что через Волгу лежит свежий сосновый горбуль6. На песчаных холмах синели избы деревни под веселым названием Тоша. Ласковые холмы неустанно кружили вкруг деревни. Прыгали по ним с веселым пчелиным звоном зеленые хлеба. Церкви блистали среди рощ, и, казалось, Волга шла под колокольный звон.
Тело к ухабам сразу привыкло, но Ермолаю Григорьичу казалось, что сердце вздрагивает у него от толчков телеги. Ермолай Григорьич держался одной рукой за телегу, а другой прикрывал глаза от солнца, хотя солнце было тихое. Когда вдали, с холма, перед ним блеснула Волга и скрылась, легкий страх охватил его. И, чем более он ощущал звенящую тишину полей, чем более сливались перед ним стоявшие вначале в одиночку колосья, – тем сильнее и увереннее отягощал его страх. Ему не то что казалось, что его не допустят до околицы, но не было даже уверенности, что эта родная ему околица есть. Медленно и как-то боязливо отвечая его мыслям, тряслась телега. И вот вместо оврага, по которому когда-то тек высыхающий летом ручей, он увидал громадину воды. Новая мельница, вся в ласковом пушке пакли, как хвост распустила за собой большой пруд, усеянный кувшинками.
– Общество-то экую сляпало, – с гордостью сказал возница, и от его немудрых слов Ермолая Григорьича всего потрясло, и даже скулы заныли. Чумазый карапуз медленно распахнул перед ним жердевые ворота. Ермолай Григорьич кинул ему две копейки. Карапуз медленно, не спеша, поднял их и с достоинством пошел к дому. Собак не встречалось, и Ермолаю Григорьичу смутно подумалось, что, забреши сейчас собака, он, пожалуй, повернул бы обратно. Когда телега остановилась у его дома, он несколько раз снял и надел картуз и без нужды сказал вознице:
– Домище-то какой я сыновьям оставляю! Из-за такого домища меня и столетнего не выгонят.
Но в локтях была обидная дрожь; входя в сени, Ермолай Григорьич чувствовал, что теряет походку. В сенях пахло мокрой кожей. Сундук, который он купил лет двадцать назад на ярмарке, был прикрыт незнакомым ему половиком с наглым серым узором по желтому полю. Он скинул половик и присел. Ноги его крепко упирались в покосившиеся половицы пола, а руки беспокойно бегали по пиджаку. Вошел возница и, удивленно глядя на него, обидно спросил:
– Деньги-то сейчас платить будешь, али ждать придется?
Здесь из кухни прибежали дочери. Они были в заплатанных кофтах, постаревшие, с надтреснутыми голосами. Они распахнули дверь в горницу, и Василиса робко спросила его:
– Иконы-то сейчас снимать, тятя, иль обождешь?7 – и тогда Ермолай Григорьич бодро встал с сундука, обнял дочерей. Отдал картуз и драповое пальто вознице и сказал:
– Вез-то ты хоть плохо, а все-таки заходи, чаю выпьешь.
За чаем он был немного смущенный и несколько раз говорил вознице:
– Дочери-то каковы… хорошие дочери…
Возница, корявый и запуганный и тоскующий мужик, ничего не находя в девках хорошего, вздрагивая от его благодарного голоса и сам в то же время чувствуя какую-то непонятную благодарность, торопливо поддакивал:
– Эх, да кабы мне таких обходительных дочерьев!
После чаю Ермолай Григорьич, хотя ему и не хотелось, лег соснуть. Он прикрылся толстым одеялом и с тихой благодарностью слушал, как дочери его ходили на цыпочках по горнице и как Вера уронила кусок хлеба, а Василиса прикрикнула на нее и тихо ворчала потом. Заснуть ему так и не удалось; он полежал час-другой, придумывая, чем бы ему теперь заняться, затем встал, умылся, причесал голову и вышел раздавать дочерям подарки. Дочери отмахивались, говорили, что напрасно, им ничего не нужно, а им действительно ничего не нужно было, а Ермолаю Григорьичу все казалось, что он мало привез.
– По кольцу бы надо, – сказал он, ухмыляясь, и тогда вдруг сестры спросили о братьях.
– Живут, – угрюмо ответил Ермолай Григорьич и ничего не добавил. Под вечер, когда нагретая солнцем лавочка, на которой сидел Ермолай Григорьич, охладилась и он лениво вложил руки в карманы, – с базара приехала жена Кондратия, Анна. Кондратий женился на ней, когда отец воевал на Украине, в город ее не привозил, и Ермолаю Григорьичу не доводилось ее видать. Она вошла, легко неся в руках жирную баранью ляжку с прилипшими травинками. Переступая порог, хотя дверь была и высокая, она, видимо привыкнув к низким дверям, наклонила голову, и оттого ее высокая грудь прикрыла плотскими тенями ее нежное, чуть-чуть широкое лицо, убранное легкими волосами. Ермолаю Григорьичу она поклонилась низко, в пояс, и голос у нее оказался такой же, какой некогда был у Веры и Василисы.
Да и веселой походкой, беззаботными руками она напомнила ему дочерей, но только расцветших, удовлетворенных, таких, какими они не будут никогда. И легкая грусть овладела им.
– Детей-то нету? – спросил он.
– Не дает бог, – тихо ответила Анна.
Ермолай рассмеялся на ее тихий, какой-то виноватый ответ:
– Муж редко бывает, – и она, будто поняв его мысли, вдруг густо, всем лицом вспыхнула. И тогда Ермолая Григорьича, помимо благодарности, охватила такая беспричинная радость, какой он не чувствовал давно. Ему не захотелось есть, и он ел, дабы не огорчать дочерей, и сам умилялся этим.
– Баню истопить на завтра? – тихо спросила Анна, видимо не имея силы отделаться от нахлынувших мыслей.
– А истопи, пропарюсь, – задорно сказал Ермолай Григорьич, отодвигая тарелку, которую беспрерывно наполняли ему дочери. Даже мухи, казалось, лезли ему в ложку не оттого, что им хотелось есть, а от радости.
Анна раскинула ему постель, Вера принесла подушку. И подушка и постель пахли мятой. «Не думал, не думал, что так встретите…» – хотел было сказать Ермолай Григорьич, но почему-то не сказал, а по глазам женщин он увидал, что несказанные им слова им понятны и они отвечают ему мысленно: «А как же иначе?».
Проснулся он рано и вышел на двор выбирать работу. Утро было легкое и пушистое, как хмель. Глубокое, словно омут, небо вещало жару. Напряженно зеленели в небе листья яблонь.
С дровами к бане прошла Анна.
Надо было бы переменить ось в телеге, но эта работа показалась ему необычайно легкой. Потяжелей бы. Работа потяжелей была на пашне, а ему не хотелось покидать дом. «Отдохну денек-то…» – сказал он сам себе и потрепал яблоню по стволу. Возвращающаяся от бани Анна ласково улыбнулась и не спеша сказала:
– Нонче на яблоки урожай будет: шиповник-то густо расцвел. Ермолай Григорьич не понимал, чем связано густое цветенье шиповника с урожаем яблок, но сразу поверил Анне и громко рассмеялся:
– Я вас вино из яблок научу гнать. Куда самогону!
И Анна улыбнулась милостиво и долго, и уши ее залились краской.
Весь день Ермолай Григорьич ходил по соседям, рассказывал о войне, о коммунистах, – и рассказы получались такие, словно он читал вслух газету. Мужикам это и нравилось8. Своих, крестьянских разговоров никто с ним не вел, – получалось несколько обидно, – но обида эта еще более усиливала бушевавшую в нем радость. Опять незаметно подошел вечер, теплый, тихий. Ветер вынес было запахи молодых нив и цветущего шиповника, но и ветру, казалось, не хотелось тревожить редкое человеческое спокойствие, и он скрылся. Пришла Василиса – звать в баню. Ермолай Григорьич выбрал побелее рубаху и подштанники, достал голубой вязаный поясок.
В предбаннике на скамье он заметил юбку.
– Мойтесь, что ж. Я попозже приду.
– Никто не моется, – раздался из бани голос Анны. – Угар выбздаю9, да полок надо промыть.
Анна показалась в дверях. Накаленная, плотно облепившая тело рубаха была дымчатого какого-то цвета. Черные круги сосцов мутно просвечивали через ткань. Глаза у нее были липкие, и круглый, упруго трепещущий от дыхания живот глубоко уходил к костям.
– Иди, иди, – торопливо сказал Ермолай Григорьич, – сам выбздаю угар. Анна взглянула на его щеки. Поспешно схватила юбку.
Ермолай Григорьич долго снимал сапоги, затем налил в шайку воды и, крепко прижимая шайку к животу, вошел в баню. Ему надо было б вылить шайку на каменку, а он вылил на себя. Распаренный веник плохо держался в руках, он его отложил и долго, неподвижно вытянувшись, смотрел Ермолай Григорьич в потолок. Потом он вскочил, облил кипятком веник, сунул на камни и почти мгновенно охлестал его о свое тело. Окатился, и ему стало скучно, и было ясно, что в бане больше делать нечего и что он отвык париться в деревенской бане. К тому же заболела голова, и он вспомнил, что угар-то он и забыл выбздовать. Возвращаться же столь быстро из бани было как-то неудобно, пожалуй – обидно для дочерей; посидеть бы хоть на пороге, повздыхать, посмотреть на яблони, – но Ермолай Григорьич не мог.
Над столом клубился самоварный пар. Черная почти струя чая, зыблясь, наполняла его чашку.
– Отвык поди от наших бань? – спросила Василиса.
– Отвыкнешь, – угрюмо ответил Ермолай Григорьич и почему-то взглянул на Анну.
– Выбздовал угар-то? – спросила та ласково.
– Выбздовал, – и Ермолаю Григорьичу стало стыдно, что у него нет сил сказать правду. Вчерашняя радость, казалось – на всю жизнь наполнившая его, прошла бесследно.
Неподвижно вытянувшись, лежал он в кровати, пытаясь уверить себя, что все, что томит его, – это от бани. Ветер пронесся по улице. Тонкая ветвь через окно упала и задрожала на подоконнике. Ермолай Григорьич не выдержал, притянул к себе с силой ветку и сломал10. Из соседней комнаты раздался сонный голос Анны: «Кто там?» – и Ермолай Григорьич не нашел сил ответить ей, Анна же, должно быть, тотчас заснула. Долго он ждал второго вопроса, и долго его тянуло пойти на голос.
– Квасу бы выпить, што ли? – сказал он вслух тревожно и громко. Кошка прыгнула на печь, оттуда с шипеньем скользнула лучина. Ермолай Григорьич вздрогнул. Заснул он на рассвете.
Томительная тревога овладела им с того дня. Он быстро раздражался, стал малоразговорчивым, и, когда дочери собрались однажды ехать на почту получать деньги, Ермолай Григорьич крепко обругал Кондратия: дескать, не доверяет жене, а деньги шлет сестрам. Анна посмотрела на него удивленно, да и все другие удивились. После этого не проходило дня, чтоб Ермолай Григорьич не бранил сыновей, особенно Кондратия. И когда он бранился, тревога как будто стихала в нем. Работалось плохо, да и работать на жадных сыновей, которые, конечно, при первом удобном случае выгонят его, – такая работа казалась ему унизительной. Дочери по-прежнему были ласковы: раз в голос спросили его, какое б варенье сварить ему на зиму. А ласковость эта еще более беспокоила Ермолая Григорьича, словно он ждал, что они сразу выскажут ему все накопившееся в них раздражение.
Однажды, наполненный такими мыслями, он встретил Анну: она несла в баню тяжелую охапку дров.
– Давай помогу, – сказал он, беря поленья с ее рук.
Она молча, с недоумением передала ему дрова, а проходившая мимо Василиса крикнула: «Что ей помогать, не беременна!». И голос ее был по-прежнему ласков, но он раздражил Ермолая Григорьича. Анна, все недоумевая, шла позади него, и когда он скинул дрова у каменки и она наклонилась, дабы класть поленья в печь, Ермолай Григорьич легонько взял ее за плечи и сказал:
– Ты мне на сеновале стели спать, Аннушка.
– Душно, что ли, в горнице? – спросила она, не оборачиваясь.
– Душно.
И тогда она обернулась, робко взглянула в его лицо и почти прошептала:
– Ну, постелю.
Ермолай Григорьич построжал, сдвинул брови, и все ж таки ему пришлось облокотиться о косяк, когда он сказал:
– Ночью-то приходи.
– Господи, – пискливо вскрикнула Анна.
– Я те покажу господи, – жестко ответил Ермолай Григорьич, и весь день голос у него был командующий, грубый, и за обедом он ел поспешно и строго, и дочери боялись поднять на него глаза.
Убирая посуду, Анна спросила Василису:
– Сердитый стал батя? Рассердится, так поди и дом сможет отобрать. И сынов-то все ругает…
Василисе не понравилось, что Анна непочтительно говорит об отце, она уверенно сказала:
– И отберет, ему б захотеть. В царское время сколь бы Георгиев имел он… Куда ополоски-то льешь, в молоко!
– И то в молоко, – сказала Анна тихо.
Спать лег Ермолай Григорьич рано и лежал, вытянувшись, горячий без одеяла, и даже в темноте хмурил брови. В пригоне рядом шумно вздыхала корова. Сено почти не имело запаха, и в сеновале остро пахло гниющей соломой крыши. Ермолай Григорьич был уверен, что Анна придет, и она, точно, пришла. «Ты не трусь», – сказал Ермолай Григорьич, схватывая ее за шею, и она молча, не шевелясь, вытянулась рядом с ним. Он уверенно, как и все на земле делаемое им, подхватил ее, и, действительно, она скоро сладострастно раскрыла рот, и дрожащие зубы ее побежали по его лицу, и шумное дыхание коровы было заглушено ее усталым стоном. «Лежи», – сказал Ермолай Григорьич, засыпая. Она покорно лежала. Вот закукурекал радостно петух, и от двора к двору побежало хлопанье крыльев. Анна тоже заснула, и ей снилось, что приехал из города Кондратий в новом пиджаке и желтых ботинках, ласково, как всегда, обнял ее и повел на сеновал. Он соскучился по ней и, как всегда, быстро заснул у ее груди, и ей было радостно лежать, чувствуя рядом с собой молодое, веселое только при ней и с ней, человеческое тело.
Она проснулась. Начинался рассвет. Ворота в сад забыли закрыть, и корова беспокойно ходила по стойлу. Ермолай Григорьич лежал на спине, и пухлый старческий живот его – весь в морщинах – поднимался и опускался уверенно и легко. Анна вытерла слезы и крадучись пошла в кухню.
Ермолай Григорьич призывал ее еще раза два, и затем она стала приходить сама. Она как будто соглашалась с ним, когда он говорил, что Кондратию во всем далеко до него, и как будто на работу стала спорее, и, когда Ермолай Григорьич бранил сыновей, она так глядела на него, словно вот вот скажет что-то очень обидное и правдивое про них, и, хотя Ермолай Григорьич часто с удовлетворением думал: «Чем большим можно было б отплатить чванствующему сыну?» – тревога по-прежнему не покидала Ермолая Григорьича. По-прежнему Ермолай Григорьич не мог как следует взяться за дело и, чтоб как-нибудь оправдаться, начал жаловаться на недомоганья, и было противно видеть, что дочери верят ему. И вот однажды за обедом, когда Ермолай Григорьич ворчал, что сыновья высохли от жадности и некому будет наследовать добро, Анна вдруг отложила ложку и, побледнев, выбежала в кухню. Василиса пошла за ней, и, когда вернулась, у нее было другое лицо. Ермолай Григорьич сразу смолк, прервал обед и ушел, хлопнув оглушительно дверью. В кухне завыла Анна, а Василиса встала перед образами на молитву. Помолившись, она пошла в Совет, а оттуда ее направили в ВИК11. Было дождливо, слякотно, до ВИК было верст десять, она шла без платка, полями, дабы сократить дорогу. Жидкая, мокрая прядь волос упала ей на глаза, она взяла прядь в руки, вгляделась – много седых, и тогда она, внезапно обессилев, села у колосьев прямо на землю и долго, с закрытым ртом, плакала. В деревню вместе с ней приехал милиционер. Обед был все еще не убран, и милиционер, курчавый и курносый, строго приказал очистить стол. Затем он призвал Анну и жалостливо стал ее расспрашивать. Допросил и Ермолая Григорьича и с пренебрежением добавил: «На тебе как на березе две кожи, за такие дела не погладят, – па-артейный»12, и когда Ермолай Григорьич хотел возразить, он закричал: «Молчи!» – и самодовольно указал на свой револьвер.
Ермолая Григорьича увезли сначала в волость, потом отправили в уездный город, предъявили обвинение в насилии и вскоре назначили суд. Сыновья не приехали, они не хотели ради суда покидать работу, а заводский отпуск их выходил на глубокую осень. Явилась Василиса. Она все боялась, что на позор придет смотреть весь город, а в камере оказалось пять-шесть человек, да и то трое из них скоро ушло. Она приготовила всякие оправдывающие отца слова, а получилось так, что все ее слова оказались на суде ненужными и говорили все совсем о другом. У нее было растерянное и слегка довольное лицо. Все дни до суда, да и во время суда, Ермолай Григорьич по-прежнему ощущал беспокойство и тревогу, а когда вышла к красному столу Анна, исхудавшая, с заметно выдающимся животом, и, стоя к нему боком (причем как-то особенно тронуло сердце судей острое ее плечо и маленькая заплатка на кофте, ниже плеча), начала давать показания и говорила о том, чего не было: будто Ермолай Григорьич гонялся за ней всюду, улещал подарками, грозил отнять у сыновей дом и под угрозой ножа положил ее рядом с собой и что она согласилась спать с ним, потому это меньше видно людям, чем приставанье. «А с мужем-то мы дружны как снопы», – сказала она, и судьи жалостливо улыбнулись, и, хотя Ермолаю Григорьичу обидно было, что по голосу ее нельзя было узнать, каким словам своим она верит, все ж ему тоже стало ее жаль и стало жалко самого себя. Он встал, вытянулся по-солдатски, чтоб было легче говорить, и сказал приблизительно так: «Виноват. За войну испортился, к бабе привык относиться хуже, чем к скотине. Все происходило так, как она говорит: зарезал бы, если б не согласилась», – и было горько видеть, что все поверили его словам. Какая-то настолько раскрашенная женщина – волосы, губы, лицо, – что и глаза ее казались выкрашенными, испуганно взглянула на него и быстро и сладострастно заперебирала пальцами. Прочитали приговор. Василиса заплакала, и конвойный шепотом сказал неподвижно сидевшему Ермолаю Григорьичу: «Пошли, огурец!» – и сам рассмеялся придуманному прозвищу. Так и в тюрьму вошел Ермолай Григорьич под прозвищем Огурца.
Глубокой осенью приехали в Тошу на отпуск сыновья Ермолая Григорьича; они были довольны, что едут вместе и что удалось получить отпуск, когда еще нет снега и нет ранней осенней грязи и, значит, хозяйство можно приготовить на зиму как следует. Кондратий слезал с телеги, из ворот выбежала простоволосая Анна и упала перед ним на колена. Кондратий взглянул на брата, тот бессмысленно улыбнулся, – и Кондратий тоже улыбнулся бессмысленно.
– Надо б ко мне приехать, выкидыш бы сделали, а теперь, ишь… – сказал он и ткнул ее сапогом в живот: – морда-то будто камень без цвету. Брюхом робить будешь, да?.. Ставь самовар.
– Самовар-то поставлен, – тихо ответила Анна, и голос ее был хриплый, чужой.
Разговора за чаем не получалось, у сестер были испуганно-ждущие лица, и вскоре сам Кондратий начал ждать от себя неизвестно чего. Надо б было сразу, после чаю, пойти на овин, а он вышел на улицу, оглянулся; повеселевшие лица сестер смотрели ему вслед, словно они угадали, куда он идет, – он и пошел. А затем получилось так, что все в деревне стеснялись разговаривать с ним, и ему пришлось напиться, хотя пить ему вовсе не хотелось, и, значит, вышло так, как ждали сестры. Самогон с непривычки отрыгивал, и было такое ощущение, словно он всполоснул рот керосином. Он пил три или четыре дня, несколько раз в кровь избил жену, куражился, кричал, что все теперь в хозяйстве испорчено, – и все молчали и словно бы одобряли его. Раз ему попал под руки ножик, источенный так, что посредине получилась выемка; он сунул ножик в карман, а когда проснулся утром и почувствовал в кармане нож, ему стало и страшно и весело. Он велел, – именно велел, а не сам, – запрячь лошадь и поехал в уездный город, в тюрьме которого сидел его отец. Звонко лязгала копытами в подмерзшую грязь подкованная вчера лошадь, небо было ясное, высокое, и железо на шинах было почти что белого цвета.
Когда к Ермолаю Григорьичу подошли и крикнули под ухо: «Огурец, иди на свидку», – он в это время стоял перед стенной газетой камеры и с горечью и страхом старался вникнуть в переписанные аккуратно стишки:
И теперь, чтобы в этапы
И в исправдомы13 не попадать,
Нужно меньше водки пить
Да и в карты не играть.
Он легонько провел ногтем по стишкам, оглядел себя: борода росла клочьями, парусиновая рубаха и штаны были грязны и помяты. И вдруг он понял, о чем написаны стишки. «В карты не играть!» – повторил он с усмешкой и выпросил у соседа, смоленобородого молокана, судившегося за конокрадство, чистую рубаху. Туго затянув тесемки на воротнике, он думал: «Кто бы мог приехать?» – и сразу же решил, что некому приехать кроме Кондратия. Он распустил тесемки и вновь затянул. «Не с добром приехал», – подумал он, и сразу же горечь и страх, нестерпимо мучившие его, прошли и еще более стали понятны прочитанные стишки. «Главно, меньше водки пить да и в карты не играть», – сказал он молокану, и молокан, увидав его резвеселевшее лицо, неизвестно чему подмигнул. Ермолай Григорьич вытер тряпкой громадные солдатские ботинки, тоже занятые у соседа, и, осторожно ступая, направился по длинному, тусклому и вонючему коридору. И он тоже, как и его сын, заметил, что день был высокий и ясный. Двор тюрьмы был весь в траве, и, переполненный неизвестно откуда хлынувшим чувством благодарности и успокоения, Ермолай Григорьич легким и немного смешным шагом шел по хрустящей и желтой траве к сыну. Кондратий сидел у стены, на грудке кирпичей. Перед тем, как прийти в тюрьму, он выпил полбутылки водки, и хмель еще не успел ударить в тело, а где-то под сердцем лежало и таяло дешевое как от табаку томление. Ермолай Григорьич остановился перед сыном, откинул назад голову и ждущим, в то же время успокоенным голосом сказал: «Ну?» – и тогда Кондратий встал, не спеша сунул руку в карман и ударил отца ножом в живот. Нож как-то необычайно быстро выскочил обратно, и Кондратий ударил еще. Ермолай Григорьич стукнул зубами, схватился пальцами за усы, затем за глаза и подогнул колена. Руки у него упали на грудь да так и остались, впившись в чистую, с аккуратными тесемочками на вороту рубаху. Тут только Кондратий увидал на его ногах огромные тщательно начищенные сапоги, крепко стянутые толстым кожаным ремешком. Сразу же хмель зашатал его, и Кондратий устало присел на кирпичи. Уже трещал напуганный свисток, к трупу бежали с мокрыми раскрытыми ртами арестанты, а лицо у убитого делалось все более и более успокоенным и благодарным.
Счастье епископа Валентина*
Епископу Валентину (умилявшему граждан молодой своей хилостью, от которой казалось, что голос епископа звучит как бы во вчерашнем дне) председатель церковного совета Трофим Николаевич Архипов сообщил, что паства, собрав последние крохи и скорбя сердцем за епископа, жившего у мужика, отремонтировала светелку, где ранее помещалась ризница1. Епископа умилило все, даже голос Архипова (не одобряющий мир и трескучий по звуку), хотя Архипов, промышляющий кожами и кадушками, был во многом противен епископу. Архипов был мужик увлекающийся, горячий, религией он занимался не потому, что верил в бога, в боге он сильно сомневался и даже просматривал изредка богохульствующие журналы2, – он был честолюбив, отважен. Отец Архипова семидесяти двух лет повесился в витрине своего магазина: всю революцию торговал старик, а вот на восьмой год слопали, не мог осилить их, – а также не мог осилить себя. Сын рос в отца.
Паства уважала епископа, епархия была маленькая, недавно образованная: в церковном центре не знали, что уездный городишко И. вот уже полгода превращен за ненадобностью в волость3. Добро, если епархия насчитывала полтора десятка сел. Все ж епископ приехал в епархию свою с радостью, исполненный надежд и любви. Дело в том, что вот уже как год епископ полюбил девушку, назовем ее Софьей, – ничего в ней отделяющего ее от толпы иных девушек не было; она в меру боялась жизни, нежно берегла свое девичество, епископа, может быть, полюбила потому, что он был не очень боек, – и поцеловал ее один раз в щеку. Каждый день епископ Валентин писал ей письма, длинные, со вздохами, со следами слез и с надписью в конце каждой страницы «продолжение на обороте». Шапка епископа, высокая, потертая, из поддельного котика, была починена ее руками. Епископ тихо любовался неровно лежащими синими нитками, привык за последнее время часто снимать шапку: перевернет ее в тонких и бледных ладонях, вдохнет холодный и необозримо широкий воздух пустынного городка, – печальные мысли все чаще и чаще посещали его голову…
В собор епископу Валентину приходилось ходить мимо дровяного и сенного базара. Ласковые запахи мерзлого леса и сонных трав издавна умиляли его. Он воспитывался в городе, в деревне бывал редко, мужиков привык жалеть по картинкам и книгам. Деревню епископ представлял кроткой и в то же время жестокой, чем-то похожей на его детство, и когда его назначили в И. (он знал, что И. превращен в волость), он вдруг поверил, что счастье, которое его ждало с Софьей, – здесь, в простой и ровной, земной и скотской, то есть ясной по своим плотским желаниям, жизни. Счастье здесь придет и возьмет его дни без замедления. Несколько дней ему даже казалось, что он как бы возвращается в свое детство. Его комната у мужика пахла животными и картофелем, тихо превшим под полом.
А от него требовалось постоянно мыслить, что он, епископ Валентин, слуга бога и живой церкви, борется с тихоновщиной4 в своей крошечной епархии; что епархии, такие крошечные, открывают для прельщения глупых и неразумных чад блеском епископского служения. Хлеб и паства доставались с трудом (даже служение из великих церковных композиторов надо было назначать с выбором, ибо постоянно стоял подле хора агент, бравший налог за исполнение песнопений5, а миряне в кружку опускали мелкие монеты, и больше всего раздражало, что вот уже год, но каждый день в кружке находят николаевский двугривенный, и никак не удавалось уследить, кто так озорничает), и кроткая радость, с которой он встретил мужиков, медленно угасала в нем.
Так и теперь, идя базаром, епископ Валентин холодно, с неясным томлением, переходившим в раздражение, разглядывал тощие воза, мужиков, завернутых в грязные бараньи шкуры, плохо выделанные и плохо скроенные. На многих мужиках уцелели еще солдатские шапки, а от былых бравых движений не осталось и следа. День был светлый, морозный и как бы далекий. За базаром, среди сверкающих сугробов, сразу же начинались две тропинки: одна черная (сажу роняли, должно быть, когда несли железные трубы и печь) к светелке; другая, желтая и широкая, к ветхому собору; эта тропинка, извилистая, была утоптана слабыми женскими ногами. Даже по тропинке можно было понять оскудение и пустоту веры! Собор блистал голубизной, древностью и веселым величием.
Длиннорукий мужик в черном тулупе, белой шапке с громадными наушниками, из которых один был полуоторван, носился по базару. Он наткнулся на председателя церковного совета Архипова. Архипов снисходительно оттолкнул мужика, мужик не отставал, и тогда Архипов окрикнул епископа. На Архипове были щегольские сапоги с выгнутыми голенищами, отчего сапоги походили на полозья, поставленные торчком. Епископ медленно благословил председателя.
– Еле отвязался, восемь копеек ему дай! Восемь копеек на земле не валяются. Морозно-с? – присвистывая сквозь редкие зубы, спросил епископа Архипов. – Мороз-то душу радует, если знать, что дома тебя ждет отдохновение. Я вам для светелки дров торговал. Мужик нынче пошел на деньги жадный, за сажень ломят бог знает что, им хоть церковь, хоть трактир.
Он бойко, одним глазом, посмотрел на епископа. Всегда такой взгляд смущал епископа Валентина. Всегда после такого взгляда Архипов начинал выказывать унижение, даже просил исповеди, отпущения грехов, – и невозможно было понять: смеется он или действительно томится в страданиях. Архипов, продолжая бранить мужиков за отсутствие веры, шагал по желтой тропинке к светелке. Любовь мужицкую он сравнивал с собачьей, – и здесь опять епископ Валентин вспомнил свою любовь.
Догнали их еще двое членов церковного совета: чахоточный с одутловатым серым лицом и до нестерпимости выразительными глазами, низенький, жизнерадостный и постоянно строящийся Любирцев и мрачный, непомерного здоровья и столетней, наверное, жизни и как бы каменноволосый Егор Чирков. Они были друзья, во всем почти соглашались, только святых уважали разных: один Николая Мирликийского6, а другой Марию Египетскую7. Архипова они чтили как знатока законов, а епископа сразу же, когда он приехал, хвалили за безбрачие: легче, дескать, с тихоновцами бороться. И епископ вспомнил – тогда же Архипов, уже какой-то тайной мыслью унизив себя, исступленно, полушепотом, воскликнул: «Смущение веры, думали, произойдет, ваше преосвященство! Вы будто пламень, ваше преосвященство». Епископ Валентин растерялся и, хотя не верил Архипову, подумал – «скажу им о Софье позже…», и чем дольше он жил, тем все труднее и труднее было признаться в своей любви. Письма к ней становились все длиннее, часто в стихах. Она в ответ называла его своим Данте, а себя Беатрисой, письма так и подписывала: «твоя Беатриса», и это было неприятно и в то же время радостно читать.
Архипов, берясь за выпачканную известкой скобу низенькой двери, воскликнул:
– Нам ли, ваше преосвященство, не понимать ваших мучений? Живете вы у мужика, спите на досках, у Митрия-то клопов-то, поди, больше гвоздей, господи. И все из-за веры… Я же понимаю! Вера и терпение, – да мне ль не понять?..
Митрий, квартирохозяин епископа, был сапожник, – и клопов действительно было много. Помимо клопов епископа мучила духота: кроме Митрия, в комнате спали трое детей, теленок, стояли вонючие кадушки с огурцами и капустой. Митрий, сутулый, с грудной жабой, сильно некрасивый, настаивал перед епископом и перед живой церковью, чтоб требовали христиане уничтожения икон: «Больно святые ликами прекрасны», – озлобленно хрипел он. Тоже, должно быть, любви в своей жизни не встретил.
Епископ Валентин благодарно взглянул на Архипова. Епископу стало весело. Перед тем как войти в светелку, он радостно оглянулся. Морозный и звонкий шум базара умилил его. Голуби, суетливо хлопая крыльями, носились над собором. Купол собора отдаленно напоминал крыло, голубое крыло. И в светелке, когда они вошли, все бледно голубело, даже сапоги Архипова и те казались нежными. Пахло известкой. И простая мысль, что наконец-то милые женские кудри упали на его жизнь, непреодолимо завладела сердцем епископа Валентина. Стих затеплился внутри его. Он присел на лавку. И мужики, словно поняв его умиление, тоже присели на лавки. Они глядели в пол, молчали. Снег от их валенок светло и тихо таял на пахучих сосновых досках. Да, такая именно тишина ему необходима. Маленькое окно, стекла, закапанные белой краской, которую, наверное, забудут отмыть и которую так важно именно не отмыть. За окном сугробы, крепкие, словно бы столетние. За ними чуть-чуть мерцают голубые локоны на главах собора, над ними огромное российское небо. Тишина, умиление, вера… Он вздрогнул, обомлел.
Надо сказать мужикам о Софье! Он понимал, что теперь у него сил хватит бороться: как бы ни вопили тихоновцы о женитьбе епископа, сколько бы прихожан ни отвернулось от него, как бы ни позорили его святость. Возвышенная дрожь охватила его, – он перекрестился в угол. И то, что в углу не было образов, что епископ крестится на пустой угол, – мужики поняли по-своему, умилились, и только Архипов мельком подумал, что тут неладно, хитрый поп намекает и язвит, что вот светелку-то отделали, а иконы забыли поставить. Намекает на суету! Но Архипов верил в себя и знал, что он-то сумеет уровнять епископа. Излишне подобострастно Архипов проговорил:
– Тишина, ваше преосвященство, всего на свете слаще. Вот вечерком и сможете переехать. Помещение обширное. Одному скучно только мирянину…
Епископ смущенно осмотрелся: сводчатый потолок пересекала железная балка, тоже побеленная и как бы распухшая оттого. И епископ подтвердил, что да, комната, верно, большая. Архипов встревоженно взглянул ему в глаза (епископ понял, что сейчас, именно сейчас, надо сказать о Софье) – и опять смолчал. Архипов, должно быть, уже кое о чем догадывался. Он встал с лавки, и тогда епископ взял шапку, витиевато поблагодарил членов совета за хлопоты о нем и сказал, что пора идти на служение. Тяжело и устало бухал соборный колокол. По желтой тропе шли старухи в длинных черных платьях. На базаре, будто передразнивая благовест, лихо скрипели полозья. Члены совета отстали, епископ шел один, на душе у него было ясно, Архипов уже не тревожил его. Он с умилением думал, что вот: собор дряхл, служат в одном зимнем притворе, через весь притвор тянется к алтарю ржавая труба железной печки, и ладану никак не удается осилить запах сырых дров, а колокол гремит так, будто ему надо сзывать тысячную паству. Снег забился в калоши. Епископ остановился, и когда поднял глаза, перед ним стоял длиннорукий мужик в черном тулупе, недавно споривший с Архиповым. Полуоторванный наушник шапки болтался подле его инистой бороды. В руке он держал варежку, несколько монет позвякивало на дне ее. Лицо у мужика было веснушчатое, украшенное тонкими и веселыми губами, руки у него были упрямые, он взмахивал ими так, словно и посейчас не выпустил топора. Да и по всему можно было понять, что никакая работа ему не страшна, что к людям он относится снисходительно и многое успеет (и хорошего, и плохого) сделать в своей жизни. Епископу Валентину подумать так о мужике было приятно, и он спросил:
– Как имя-то твое, милый?
– Сумишев, – бойко, давая понять, что он все на земле знает, даже и то, почему епископ спрашивает его об имени, ответил ему мужик. – Сумишев, Митрий Максимыч, батя. Я вот с Архиповым говорил, Архипов твой… тьфу. Дай мне, батя, восемь копеек.
– Зачем тебе восемь копеек? – спросил епископ, думая в то же время, что в радости даже самые отвратительные голоса могут звучать прекрасно и что трудно понять: хороший или плохой голос у мужика.
Здесь подошел Архипов, но он не оттолкнул, как давеча, мужика, он наклонился к епископу и тихо сказал, что, верно, приходы бедны и епархия самая беднейшая, может быть, во всем мире. Жалованье епископу увеличат не скоро, причту8 где справиться. Он протянул синюю книжечку уложений о квартирной плате, и епископ смятенно прочел, что ему за квартиру надобно платить девять рублей за сажень. Он взглянул на Архипова, – «пять сажен», – сказал тот тихо и оглянулся на прочих членов совета. Члены совета сжали руки. Сорок пять рублей! Мужики молча переглянулись. Сумишев тараторил:
– Развожусь, батя9. Развод-то стоит семь с полтиной. Ну и наскреб я эти семь с полтиной, прихожу, едрена мышь! Надо им еще! Еще требовается двадцать копеек за прошенье писать. А зачем мне прошенье? Никак невозможно, оказывается, без прошения. А меня одна баба ждет разводиться, да другая ждет – венчаться. Самогон для свадьбы приготовлен, пироги мамка печет, прямо как в песне… А у меня двадцати копеек не хватает, едрена мышь!
Сумишев скинул рукавицы, щелкнул пальцами и притопнул даже, не имея силы, должно быть, сдержать свое восхищение миром: таким шутливым и трогательным. И дальше он уже говорил не для попа (да и поп-то глядел под ноги, слушая, должно быть, себя), а потому, что восторга у него так много, что стыдно и даже больно не поделиться им с прочими такими же счастливыми людьми. Он глядел на епископа – и тоже ничего не замечал в нем. Не замечал острого, усталого лица, красных пухлых век, длинного пальто с отрепанными рукавами и шапки в руках, шапки, снятой, несмотря на мороз и на то, что волосы у попа жидкие, серые… Шея епископа, закутанная грязным оренбургским платком, казалась необычайно длинной, а голова (все от того же пухлого платка) испуганной и больной.
– Чтобы мне да и двугривенного не хватало на свадьбу, как же так, едрена мышь! Я говорю писарю: «Ты обожди, гражданин товарищ, я сейчас». И на базар. Кричу: «Граждане, товарищи, дайте двугривенный на развод. У меня корова стельная, весна на носу, а по весне мне надо избу новую рубить, а от старой бабы как от пуха на воде: ни тебе колыханья, ни потонуть. С такой бабой мне какая выгода жить? С такой бабой мне разводиться давно пора!» Ну, они кричат: «Разводись, Митрий Максимыч Сумишев! Давай шапку али рукавицу, соберем мы тебе на развод». Весь базар кричит, вот какой мне почет. Ну, пошел я по базару. Смотреть ведь, кто сколько бросит – стыдно. Обошел всех, гляжу в рукавицу, весит тяжело, а сосчитал – накидали мне двенадцать копеек. Восьми копеек не хватает, батя! Второй раз мне идти по базару амбиция не позволяет, да и ни кляпа не бросят. Не ехать же мне из-за восьми копеек в обратную! А может, к тому времени и девка моего позора не перенесет, откажется. Что мне, по весне без избы быть? У меня изба должна быть новая, не могу я в осиновой избе жить, я хочу в сосновой. Правда, батя?..
– Правда, – ответил епископ на громкий возглас мужика. Но епископу даже и думать не хотелось, о какой правде спрашивает его мужик. Надо было б епископу обернуться туда, куда смотрит Сумишев, Митрий Максимыч: грудастая с крепкими, как бы деревянными, ладонями девка, обутая в раскрашенную катаную шерсть, полуоткрыв жесткий рот, стоит у дровней и ждет своей ночи и своей избы. И он, епископ Валентин, за восемь копеек подарит эту ночь девке. Горькая влага смочила б его сухие щеки. Но епископ, думая о своем, порылся в карманах. Попалось три копейки. Он сунул их мужику. Мужик, разгладив варежку, пересыпал деньги в карман, звякнул ими – «Ну, и за пятнадцать уговорю. Напишет покороче», – и мужик быстро побежал к крыльцу управления. Епископ уронил шапку, Архипов подобострастно подал ее. И епископ, все еще тиская шапку, сказал:
– Я не лед, братия. Я не могу моститься без досок, без топора, без клина. Мороз умерщвляет меня. Деньги мои ничтожны. Я отказываюсь. Счастье мое, видно, опять у мужика на печи пребывать.
Он взглянул на реку, виднеющуюся за обрывом, снежную, пухлую, – и Архипов и другие члены совета вздрогнули: от радости и от беспокойства. Радостно потому, что стало ясным, что архиерей святой человек, мученик, и подлая тихоновская паства кинет своих недостойных пастырей и перейдет на лоно истинной церкви, и беспокойно потому, что святой человек скоро поймет многие грехи, ранее им не замечаемые, многого потребует, возропщет, найдет других, более достойных сподвижников. Епископ опять уронил шапку. Шапку теперь ему не подали. Он склонился сам.
Мужики ушли далеко вперед. Соборный колокол трескуче гудел. Озябшие пальцы епископа неумело выдергивали из шапки длинные легкие и синие нитки. Поземка подхватила одну нитку. Легкое шипение перекатывающихся снежинок скрутило нитку, понесло. Сонная и пушистая туча подымалась из-за оврагов, из-за реки. Будет буран. Ветер обматывал синюю нитку вокруг тонкой вечернего цвета ветви, беспомощно тянувшейся из огромного сугроба. Какая пустыня, какое одиночество… И как тяжело жить, если счастье человеческое состоит в том, что ты не смеешь судить мир, не имеешь силы убежать от мира и должен подчиняться тайному тайных земли, малую каплю которого знают мужики… Снега темнели, туча надвигалась. Еще полдень только, еще бы сиять снегам… Купол собора походил на голубое крыло…
Бог Матвей*
Три недели уже как полк пытался взять брод через речку Ик. А брод был отличнейший. Далеко, даже в пасмурные дни, блестело желтое песчаное дно речушки. И глядя на этот веселый блеск, все думалось, что перейди брод, и начнется легкая, веселая война. Белые хлынут вдоль железнодорожных линий, полк каждый день будет вбегать в новый город, хлебные эшелоны (как бы изнемогая от радости) сыто поползут в Русь!
Комиссар полка, Денисюк Александр Петрович, был спокойный и деловитый человек. Его огорчали неудачи у брода. И еще было очень огорчительно, что в увеличивающейся спешке никак не удавалось обновить справленные для праздников с великим трудом и великой экономией, превосходные галифе и френч цвета подопревшей соломы. Едва выходил праздник, – как приказывали наступать, а в эти три недели, как назло, не пришлось ни одного революционного праздника1, а в церковные праздники надевать свои обновы Денисюку было противно. Деревня Талица, в которой стоял штаб полка, несколько раз переходила от белых к красным. Мужики устали от войны, и не было ничего удивительного, что однажды комиссару Денисюку доложили: на передовые линии явился из Талицы житель, Матвей Митрофаныч Костяков, называющий себя богом Матвеем, и заявил: «для пуль он неуязвим и воевать приказывает бросить!» Денисюк мало верил в культурно-просветительную работу2, но когда появилось такое живое воплощение предрассудков, – он сказал с удовлетворением: «Ну вот, упрекают – не ведем, дескать, культурной работы. Мы им теперь такой докладчик напишем, во-о…» – и он велел привести бога. Бог Матвей оказался небольшим мужичком, на голову ниже Денисюка. Бог был в чистой холщовой рубахе длиннее колен. Лицо у него было бледное, восторженное, маленькая, поднимающаяся кверху бородка сияла, вымазанная лампадным маслом, и уголки длинных губ тоже сияли. Денисюк любил довольных людей, он и сам многим был доволен – удачным продвижением полка, храбростью солдат и своей храбростью (а он был действительно храбр и храбр как-то по-плакатному, очень весело: он бежал, например, впереди полка и орал «погибнем за революцию» и при этом делал какой-нибудь неприличный жест в сторону белых – и это до слез почему-то и радовало и умиляло солдат) – он был представлен к ордену, в газетах о нем писали несколько раз, – он тщательно вырезал эти корреспонденции и, наклеив на бумажку, отсылал матери, домой. Бог Матвей ему понравился, хотя Денисюка несколько коробила явная снисходительность Матвея, – между ними произошел, приблизительно, следующий разговор:
– Ты действительно сознаешь себя богом?
Денисюк сразу же почувствовал глупость этого вопроса, а Матвей, кажется, понял это, потому что он ответил с большим, чем раньше, снисхождением:
– А как же, я и есть – бог. Я тебе пришел сказать, что воевать не надо – глупость, а надо жить в мире и в радости. Вот и пуля меня оттого не берет. Приказал я ей меня не брать!
И он опять так посмотрел на Денисюка, что тот внутри как-то смутился, и опять снисходительно засияли уголки длинных губ Матвея. И Денисюк, понимая, что говорить не надо, все же сказал другую глупость:
– А я возьму и пошлю тебя на передовую линию. – И тут уже получилось совсем нехорошо, потому что бог Матвей даже отвернулся в сторону, словно ему стыдно было говорить: «Да ведь я же был на передовой линии, зачем же меня сюда приводить». И он пошел, еще более сияя бородой, лицом, губами, – солдаты, жалостливо и тревожно улыбаясь, пропустили его. Денисюк подумал, что самая пора сказать что-то очень поучительное, вроде – вот, мол, суеверия и тьма, как порог, всем под ноги смотрят. Тирада получалась длинной, неубедительной.
Штаб дивизии прислал спешную депешу, – его вызывали. Он забыл о боге Матвее, все же легкое томление где-то билось в Денисюке, оттого на заседании он, с несвойственной ему горячностью, доказывал необходимость немедленного наступления. Предложение его было отклонено. Имелись точные сведения, что белые готовятся перейти речку Ик, к броду подтягивались значительные силы. Такие сообщения раньше всегда его ободряли – очень уж он был уверен в своем счастье. Теперь же он вернулся в полк встревоженным. С неприязнью к самому себе он выслушал сообщение политрука. Политрук, т. Полтавский, плотный рябой человек с острыми и высоко поставленными ушами, часто говорит о себе: «Я как пиявка: кровь пью, но и жизнь даю. В успехе революции самое главное – беспощадность», – он и теперь повторил эту поговорку и добавил, что на передовых линиях солдаты смущены; перед окопами несколько раз проходил невредим бог Матвей. Политрук любил Денисюка и говорить это ему, по-видимому, было неприятно, но в то же время он любовался своей беспощадностью.
Разговор происходил в крестьянской избе. Денисюк вдруг разглядел, что все избы, виденные им в последние месяцы, внутренним убранством их как-то очень похожи одна на другую: мужики прячут все лишнее, а остающееся необходимое во всех избах одинаково. Хозяин избы, должно быть, был религиозный человек – на божнице остался образ в серебряной ризе. Да и хозяин слушал их разговор с какими-то подозрительно спокойными глазами.
Все это видеть и понимать было сильно неприятно Денисюку, но в то же время он сознавал, что ему ничего не придумать, и долго будут приходить ненужные мысли о крестьянских избах, об иконах, о хозяевах. Он поехал на передовую линию. Окопы были выкопаны наскоро и в песчаной почве, но они уже пахли жильем, портянками, окурки валялись всюду, и только неимоверная толщина этих окурков напоминала о войне.
Бог Матвей сидел в окопе на пустом и очень грязном бочонке из-под селедок. Он с аппетитом ел большой кусок черного хлеба, макая его в чайник с чаем. «Кружку бы дали ему», – неизвестно для чего сказал Денисюк. Красноармеец, наблюдавший за едой бога, ответил и смущенно и почтительно: «Дали ему кружку, а он, забывши, вышел в обход свой, у него пулей и вышибло кружку». Рубаха на боге Матвее была уже грязная и измятая, особенно раздражали прилипшие к рубахе чешуйки селедок.
И Денисюку показалось, что солдаты на него смотрят теперь не с прежним любовным добродушием, к которому он привык, а добродушие их теперь какое-то нарочное. Вот они быстро столпились и стали просить табачку, хотя табак выдавали только вчера, – и это тоже взволновало его. Был ясный день. За речкой над окопами белых летела ворона, и отчетливо было видно, как, когда она взмахивала крыльями (несколько устало и, может быть, счастливо), от крыла отделялись перья; и вскоре одно перо выпало и, кружась винтом, медленно и как-то тепло падало на землю. Вспыхнул и погас пулемет.
Бог Матвей доел хлеб, собрал в подоле крошки, хотел их положить в рот, но выкинул за окопы – «Пускай и птица поест…» – сказал он лживым, видимо, не свойственным ему тенорком, а затем добавил уже деловито: «Ты не видал, я тебе покажу, Аликсандр Питрович. Воевать нельзя, Аликсандр Питрович!» Он одернул рубаху, оправил поясок, подвинул бочоночек и, покрякивая как-то про себя, вылез из окопа. Сразу же белые открыли огонь. Бог Матвей, мелкими шажками, непрерывно вытирая губы рукой и озорно, боком, поглядывая на Денисюка, прошелся два раза подле окопов, постоял, подумал, улыбнулся хитро и туманно и, сорвав желтенький неприятно пахнущий цветочек, вернулся в окопы. Цветочек он протянул комиссару. Денисюка поразило не это, не то, что бог Матвей вернулся невредимым, а то, что красноармейцы не отвечали на выстрелы белых, и то, что он, комиссар Денисюк, не скомандовал им огонь. Надо было пожать плечами и уйти, увести с собой блаженного этого, маньяка, но он понимал, что сделать так нельзя: солдаты смотрели на бога Матвея жалостливо, строго и в то же время восхищенно. И его трепетно ожгла мысль: «убегут» (страх к нему приходил всегда, как и у большинства, после случившегося ужаса) – сейчас никакого ужаса не было, но все же страх овладел им. Грубо и сжато выражаясь, было такое чувство, словно солдаты уже бегут, бегут по нему, по его счастью, по его заслугам перед революцией и собой…
И он задорно, по-мальчишески, крикнул:
– А вот и кокнут тебя!
Бог Матвей даже притопнул ногой и так же задорно, чуть-чуть разве повыше, выкрикнул:
– А вот и не кокнут! Бог я или нет?
Он обернулся к солдатам. Красноармейцы молчали. Он влез на бочонок, опять как-то про себя крякая. Ненужная и глупая мысль о культурно-просветительной работе пришла к Денисюку. Но раздумывать было некогда, надо было спешить, он вяло сказал:
– Я вот тебе показательную штуку устрою.
– Чего? – оборачиваясь, весело спросил бог Матвей.
– Испытание, – твердо и резко ответил комиссар.
Тогда бог Матвей сразу стал тише. Он опять сел на бочоночек, сказал поучительно: «Мы с тобой будто небо и земля: два быка бодутся, а никак не сойдутся… однако я с тобой разговаривать буду». И он медленным и деловым крестьянским говорком стал рассказывать комиссару, как он думает устроить испытания. Он выбрал поле, сказав, что там тополь есть посредине, на ветер походит. Сравнение не понравилось Денисюку, он возразил, что такого поля не заметил. Тогда бог Матвей добавил, что под таким тополем поучать и притчи только рассказывать. Есть у него одна притча… Комиссар поторопил его, и бог подмигнул: потом, дескать, расскажу. Говорок у него был спокойный и твердый, и скоро Денисюк, если не совсем, то во многом верил своей мысли, что бог Матвей перед самым испытанием струсит и откажется. Денисюк опять раздобрел, уверенно похлопывая себя по кобуре кольта, шел он окопами, и жизнь опять казалась простой и веселой. Испытание назначили на другой день при заходе солнца. Политрук, т. Полтавский, зашел вечером в избу, потоптался, заговорил о каком-то смешном письме и смущенно заметил, что икону-то с серебряной ризой хозяин не спрятал. «Забыл должно быть», – сказал он, подходя к печи и облокачиваясь с таким видом, словно ему было холодно… Он быстро ушел, так и не сказав своих мыслей, хотя едва ли у него было что дельное – тогда присущая ему вера в свою беспощадность помогла бы ему. Денисюк заснул быстро.
День вышел теплый, сухой. Когда Денисюк проходил под деревьями, на руки и плечи ему падали осенние листья – горячие, хрустящие, пахнущие странно: угаром. Огромное поле дохнуло на него теплом. Тополь посредине поля, действительно, чем-то напоминал ветер. Вдалеке за звонкой, старческого цвета, травой виднелся трепещущий багрянцем осинник. Солдаты были встревоженные, глаза у них были опухшие: должно быть, спали плохо. Мимо к осиннику верхом на неоседланной лошади проехал бог Матвей. Ему днем выдали четвертушку мыла, он принес из речки, под обстрелом, два ведра воды на коромысле и выстирал рубаху. Она высохла, коробилась слегка, складки и сейчас явственно обозначались на боках. Лошадь он выбрал белую. Он и ее вымыл. Он приостановился и, не глядя на солдат, восторженно и весело прокричал, чтобы стреляли, когда солнце будет опускаться… Солдаты молча и встревоженно глядели на его острые лопатки, шевелившиеся под опрятной рубахой. Лошадь пошла рысцой. Денисюк взглянул на небо: солнце спускалось за спины солдат, богу Матвею, значит, оно будет в лицо. Денисюк приказал зарядить ружья холостыми патронами. На мгновение солдаты улыбнулись, но затем должно быть забыли о холостых зарядах и, крепко сжимая винтовки, встревоженно и устало глядели в осинник. Пение псалма донеслось из осинника. Ни комиссар, ни солдаты не разбирали слов, а они были такие:
Еще немного, и не станет нечистивого;
Посмотришь на его место,
И нет его.
А кроткие наследуют землю
И насладятся множеством мира…3
Бог Матвей привык к псалмам. Он пел и в то же время думал, что вот песня как лук – без боли и печали приводит в слезы. Он действительно плакал и от гордости и от радости. А комиссар Денисюк ждал заходящего солнца, стоял в трех шагах от трепещущих внутренней дрожью солдат и туманно думал, что вот этот рядом с ним, румяный и курчавый (Петров, кажется, по фамилии), если не попадет в бога, спокойно и в то же время быстро – и это всегда покажется неожиданным – повернет к комиссару винтовку и воткнет ему, под легкие, штык. Пение усиливалось.
Голова лошади показалась из осинника. Медленно, на белом коне (багровое сияние неслось над его головой), показался бог Матвей. Сияние слепило. «Какая ерунда!» – подумал со стыдом и злобой Денисюк. И он крикнул, глядя в землю – «Пли!» – тогда как выстрелы начались еще до его приказа. Солдаты стреляли нестройно. Конь, привыкший к выстрелам, спокойно старался достать траву, – оттого руки у бога Матвея были напряженно вытянуты, и пение часто срывалось, и ему было обидно, потому что он думал, что солдаты могут принять это за трусость. Он продолжал пение, но голоса не хватало…
Сияние все более и более било в глаза. И тогда Денисюк схватил винтовку. Он поспешно всунул боевую, сразу вымокшую в его руках, обойму. Бог все двигался. Коня тревожили теперь близкие выстрелы, и он уже не рвал траву. Холостые заряды вышли. Солдаты с такими же лицами били боевыми, они, ясно, сразу же не поверили, что им дали холостые. Больше всех спешил румяный Петров! Выстрелы все выпрямлялись и скоро превратились в залпы, – и когда три таких залпа последовали один за другим, разделенные ровными промежутками, – Денисюк кинул винтовку, взглянул в лица, отвернулся. Руки его тряслись и не попадали в карманы френча, лицо было мокрое. Залпы прекратились. Комиссар взглянул.
На земле, неистово мотая головой, предсмертно бился конь. Солдаты побежали, но бог Матвей поднялся. И солдаты на мгновение задержались. Ровное облачко дыма взметнулось над ними. Они опять побежали. Бог упал. Быстро, – для чего-то поправляя револьвер, – комиссар подбежал к богу Матвею. Плечо у него было мокрое и алое. Самодовольно и благостно улыбаясь, он пытался поднять руку, – и не мог. На лбу у него, тоненькими тесемочками, был привязан осколок зеркала. Он увидал комиссара, улыбнулся еще самодовольнее и медленно проговорил: «Ну что, парень, говорил я тебе – меня не снять! Кто меня снимет? Бог я или нет!?.» И тогда Денисюк (понимая, что поступать так нельзя, но иначе он поступить не может) поспешно сунул руку в кобуру, и то, что она была не застегнута, чем-то ободрило его, может быть, тем, что все это заранее где-то далеко внутри его было решено, – поспешно выхватил кольт и одну за другой всадил в бога Матвея три пули. Оглянулся. Солдаты неслышно, да и сами не зная этого, – смеялись. И он сам, тоже не зная этого, рассмеялся. Он обернулся к трупу и еще всадил в него одну пулю. И тогда все сразу построжали. Румяный и курчавый Петров оказался самым расторопным. Он побежал за лопатами.
Бога Матвея похоронили под тополем, могилу выкопали мелкую, потому что Денисюк торопил, говорил, что будет скоро гроза, – да и то воздух был сухой, по волосам нельзя было провести – они тревожно трещали: быть грозе! И с ужином он торопил и, не доужинав, вскочил, – диспозиции совсем такой не было. Но он приказал двигаться вперед, будто он боялся, что счастье уйдет от него.
Полк загудел одобрительно; замотались в руках винтовки, – и счастье, верно, не изменило Денисюку: к утру переправа была взята, белые отступили, кинув обозы и орудия, – а сам комиссар полка Александр Петрович Денисюк погиб как герой, – впереди всех! Ему простили своевольство; хоронили пышно, накрыв знаменами, несли через осинник, а затем по звонкой, старческого цвета, траве к тополю, который, действительно, походил на ветер. Грозы так и не было, и стояла по-прежнему великая сушь. Политрук Полтавский сказал обширную речь, вытер слезы, – и многие вытерли слезы.
Громадная толпа окружала тополь, и никто не заметил, что могила бога Матвея была совсем сровнена шагами (к тому же песок быстро высыхает, рассыпается). Холмик бога Матвея исчез. А на холмик комиссара Денисюка, который был разве что на голову выше исчезнувшего холмика бога Матвея, полк долго думал: что бы положить достойное, и так как в тот день сбили самолет белых, то в холмик вкопали пропеллер самолета, химическим карандашом жирно вывели – «пал смертью храбрых» – и полк двинулся дальше. В тот день случился большой революционный праздник, и наконец-то комиссару Денисюку удалось обновить свою одежду: и он гордо и прямо лежал в своей могиле, одетый в новый френч и галифе веселого цвета подопревшей соломы.
Комендант*
Девка Нюрка считалась в деревне хуже Мелитки. У нее глаза еще мутнее, и еще более вялая походка. И вот однажды Мелитку домашние послали разыскивать заблудившуюся лошадь. Ей сказали: лошадь потеряла путы, ищи, а не объяснили, где и как потеряны путы. Мелитка шла по лесу. Хвоя, синеватая, после сильных дождей слипшаяся и пахнущая грибами, приставала к ногам. Неслыханно ласковое дыхание вдруг остановило Мелитку. Она, непонятно почему задрожавшими руками, раздвинула ветви. На мху лежала Нюрка с парнем. Мелитка увидала влажный висок, глаза Нюрки, прозрачные, проясненные и невиданно ясные. Глаза эти смотрели на Мелитку и не видели ее. По напряженной счастливой жиле на лбу трепетал брусничный листок цвета церковных риз.
И Мелитке захотелось спать. Она, отступив, поскользнулась, зашуршала хвоей, но любовники не замечали шума. Рука ее попала в мох, подле пня; мох пахнул на нее человеческим телом. И тогда Мелитка поняла, что всю-то жизнь ей не хватало любви, которую даже Нюрка и та получила. Всю-то жизнь вместо имени-отчества, то есть Мелитины Кирилловны, ее кличут Мелиткой. Пока жив был отец, не так еще попрекали, что Мелитка мало приносит прибыли в дом, что и ходит-то вяло, в ленивую перевалку, что не только женихи… отец помер два года назад, спившись, и теперь Мелитка вспомнила отца, который все хотел уехать в город, на легкие заработки.
Лето было сухое, ветреное, тощие колосья звенели как жестяные. Грозил недород. Мелитка все думала о городе. Однажды, накануне молебна1, пал сильный дождь. От земли несло опарой. Мужики повеселели. У Мелитки захолодело сердце, когда она увидала счастливые их лица. По шоссе шел обоз с бревнами. Мелитка попросила довезти ее до города. «Садись», – сказал ей сутулый возчик. На свежих, сияющих от дождя, бревнах отражались придорожные тополя. Сутунки колыхались; стрекоза трепетала над бревнами.
Когда-то город шумно наполняли купцы и пьянствующие грузчики. А теперь и Волга катится медленнее, грознее, пустыннее. И бурь много и разливов! В этом городе произошел такой случай: ехал пьяный мужик на возу соломы. Воз упал, мужик кое-как собрал половину, а половина другая осталась на улице, и три года непогоды и ручьи гоняли по всем улицам города эту кучу соломы. Этой весной пригнала тающая вода кучу соломы к ограде собора. Мужик, уже давно пропивший лошадь и телегу, в опорках, пьяный, шел мимо кучи с девкой, тоже пьяной. Мужику солома показалась знакомой, он прилег на нее, кровь воскресла в нем. Умял мужик кучу, не смог ветер ее поднять, – и тогда сгнила солома! В городе стоит легкий запах преющей соломы и медленной волжской воды2.
Знакомая кухарка3 определила Мелитку на службу. Мелитке выдали книжку и сказали имя учреждения, которое она тотчас же забыла. Поселилась она у дворника; при учреждении ей спать не разрешили. И здесь, как и в деревне, ее звали Мелиткой, и здесь, как и в деревне, она скребла, мыла, мела, но по-прежнему в учреждении было сыро и грязно. В окнах светилась грязь улицы и светилась столь яростно, что иногда окна казались выкрашенными в этот неправдоподобно скучный цвет. Но если выглянуть на улицу, то там сияние грязи было еще более страшным и неправдоподобным. Однообразно звенели машинки, окурки были одинаковой длины, и все те же пустые упаковки папирос выкидывались в корзины. В учреждении мало чему изумлялись, разве только новым распоряжением, присылаемым из центра. Но и это изумление было так организованно, что лишь по легкому мельканию бровей любопытствующий догадывался, какие волнения испытывают эти бумажные души.
Мелитка подметала пол, скребла, выбивала веревочный половик, сдувала пыль со столов, многое понимала по-своему и многому радовалась: дворник писал ей в деревню письма, сильно похожие одно на другое – «при сем посылаю вам деньги» – говорилось в средине писем и дальше советовалось, что считает Мелитка необходимым поправить в хозяйстве. Письма эти изумляли и ее, и деревенских, пока однажды начальник учреждения Ястржемский, уездный юрист и поэт, толстенький и белокурый, читая полученную бумагу из центра, не уразумел из этой бумажки следующее: «в учреждениях, которые не имеют самостоятельных комендантов, таковыми считать сторожей или уборщиков, буде при учреждении сторожей не имеется»… Ястржемский велел позвать Мелитку.
– Лицам, занимающим твою должность, приказано именоваться комендантом, – сказал Ястржемский. Мелитина не отвечала. И он вспомнил, как однажды послал ее с пакетом, и она не нашла соседней улицы. «Эх, ты, фаетона»4… – обозвал он ее. В тот же день наняли курьера Николку Зуева.
– Действительно, фаетона!
Она вяло стояла у дверей. На коротком и сонном ее лице лежал крошечный кусочек штукатурки. Штукатурили сени, она шла, посмотрела вверх изумленно. А чему изумляться? Кусочек упал ей на щеку.
Ястржемский, швыркнув носом, повторил: – «комендант!», но тотчас же обиделся на себя: получалось так, что, уважая распоряжения свыше, он как бы ропщет на них. Он и уважал в себе эту храбрость, но все же действовал всегда так, как приказывали ему бумажки. Он вышел к служащим и сказал короткую, с небольшой цитатой, речь, смысл которой был таков, что с сегодняшнего дня, согласно распоряжения центра, Мелитку необходимо именовать комендантом. Все бесстрастно посмотрели на Мелитку. «Комендантом» – повторил он. Юбка у Мелитки была подоткнута; в руках у нее был стакан чая вялого цвета; несмотря на утро, лицо у нее усталое. Комендант! Служащие опустили головы к работе. Узенькой щекой лишь ухмыльнулась регистраторша, и то едва ли над тем, что Мелитка назначена комендантом и что слово это будет иметь огромное значение в ее жизни и ее хозяйстве.
Ястржемский вышел с лицом слегка недоуменным. Регистраторша хихикнула и умолкла. Слово «комендант» раздалось в одном углу комнаты, чуть погромче в другом, – и прочно утвердилось в почтительных бумажных мозгах. Мелитка оглянулась, сбросила кусочек извести со лба, – и увидела улыбающегося курьера Николку Зуева.
Николка Зуев, несмотря на то, что приехал из деревни месяц назад, уже многое понял и многому научился. Кухарка Ястржемского была любовницей Николки, собой он стал аккуратный, носил белые рубашки, в неурочное время любил ходить по поручениям Ястржемского. У него серые и веселые глаза; он будет еще обладать великими хозяйствами; Ястржемский будет еще именовать его по имени-отчеству и кухарка вспоминать с гордостью его любовь! Теперь на нем сапоги с грозными, высоко вскочившими голенищами, волосы его причесаны гладко назад, всех в городе он знает и многие его знают. Мелитке он внушал страх.
Сверкая сапогами, он подошел к ней и тихо сказал:
– Здрасте, товарищ комендант.
Слова были сказаны проще простого, но все же можно было понять: да, местечко хоть и грошовое, но нужному родственнику или другу – хлеб, и не усидеть тебе, Мелитка, теперь на этом месте. Холодной серостью блистали окна. Буквы в машинках летали как мухи.
Раз, вытаскивая из-под стола корзину, наполненную бумагами, она увидала, как бухгалтер вынимал из синей коробочки блестящие золотистые перья. В тот момент Мелитка думала о том, что когда она разбогатеет, она заведет жениха, курчавого, с желтым волосом. И с той поры она, понимая, что перья никакой ценности не представляют, тем не менее, как только служащие забывали на столе ручки, вынимала перья и, протерев их кирпичом до сияния, прятала их в свой сундучок, в спичечную коробку.
И в этот день она забыла вынуть перья, хотя на столах забыли три ручки. Сердце Мелитки ныло.
Вечер был теплый. От реки несло запахами влажных плотов. Из соседней рощи доносился к воротам храп необыкновенной силы. Слегка покачивались на засохших деревьях огромные вороньи гнезда. Вечерами, как и раньше, сидели за воротами, грызли семечки и орехи: кедровые, китайские, грецкие и прочие. В роще пили и дрались. Но все же чувствовалось, что в свершающемся подле них и в них нет прежней медлительности и сонливости. Уже появлялись (мрачные, упорные или бойкие, вроде Николки Зуева) молодцы, которые, простояв год или два у ворот, исчезали, а еще через год мчались по улице с портфелями.
Иногда собиравшиеся у ворот слушали, полувнимательно, полузавистливо, то, что им говорила Мелитка. А говорила она обычно после получки, что послала вот деньги; что в деревне скоро ее будут звать Мелитина Кирилловна; отцу крест чугунный на могилу закажет. Двух коров уже завели на ее деньги… А тут, едва она показалась в воротах, сразу же все загрохотали, завопили, мальчишка засвистал, и приземистый дворник, приходившийся Мелитке отдаленным родственником, сказал ей укоризненно:
– Ну, покажись. Ну, какой жа ты комендант. Ну, повернись жа, оглянись!..
Мелитка, туго ворочая головой, но слушаясь оттого, что дворник приходится ей родственником, повернулась всем телом. Грязные ее юбки звучно хлестнули ее по икрам. А икры как бревна! И верно, какой она комендант. Толпа у ворот, задыхаясь, плюя и давясь слюной, хохотала все сильней и сильней. Николка Зуев высморкался, выпрямил грудь и, поводя плечами, направился к квартире начальника. Есть ли еще у кого на земле такая внушительная и верная походка? Остановился у ворот почтальон, просматривая привычным взглядом конверты, веером лежащие на красной руке. Спросил, почему хохочут. – «Да, вот, комендантом назначили». – Почтальон, почтенный и грузный человек, взглянул в ее бесцветные рачьи глаза и тоже рассмеялся: «Приблизительно, комендант…». Толпа взвизгнула от восторга, а почтальон сказал нравоучительно:
– Вот, даже выскажемся про лицо. У тебя, баба, не лицо, а конверт без адреса, вата, приблизительно. А в нашу епоху и лицо и душу надо иметь кирпичные, приблизительно, во-от… – И он повернул ромбовидное свое лицо столь значительно, что стоявшие у ворот на мгновение замолчали, и недоумение и трепет пред грядущим мелькнули у них в глазах.
И с той поры покой отошел от Мелитки. Даже дети дворника, почтительные, приветливые, и те изменились. Утром, вставая, они поднимались с криком – «комендант». Гуляющие парни, увидав тоскливо стоящую у ворот Мелитку, растянули гармошку до отказа и заорали на разные лады: «комендант, комендант». И Мелитка поняла, – теперь она должна сделать так, чтоб увидали все – от детей дворника до парней, – вот как может изменить свою жизнь человек. Один небольшой шаг… Она поступала правильно: недоедала, недопивала, все деньги посылала в деревню, зная, что все изменится так, как она хочет, у нее будут жених, любовь, хозяйство, уважение, а тут появилось слово – «комендант» – и все завертелось. Слово-то пустяковое, а как его осилить? И сейчас необходим небольшой шаг, но куда и какой шаг… Мелитка затосковала, даже однажды подошла к Николке Зуеву сказать, что хороший он человек… У Николки сияли сапоги и глаза, и верно, он был не плохой человек: не ругался, не обманывал, а Мелитка обошла его боком, молча – и затосковала еще сильней. У нее появился шум в ушах, тело слабело, сонливость овладевала ею. Временами она чувствовала как бы просветление, ей казалось, что она нашла уже то слово, которое ответит на все насмешки… напряженность быстро исчезала, и мир тускнел. Несколько раз бухгалтер забывал на столе золотистое перышко, Мелитка смотрела долго на перышко, пыталась что-то вспомнить. За перегородкой, за стеклами плыл над столом золотой своей головой начальник. Телефон, как собака, крепко вцепился в зеленое сукно стола. У начальника сухой бумажный говор. Мелитка несколько раз подходила к дверям, черная лакированная ручка их почтительно изогнута, до себя она разрешает только дотронуться для того, чтоб протереть, сдуть пыль!..
Ветер у ворот все суше и суше. Он жег гортань и слепил глаза. Мелитка кружила по двору. Такие же тоскливые круги у нее на душе. Голуби, похожие на обрывки бумаг, бесшумно и сытно носятся над двором. Мальчишки бегали за ней, визгливо крича: «Комендант, толстолапый комендант!» Ей снились сны, похожие на камни. Камни эти падали на тело с огромной высоты.
Она проснулась поздней ночью. В дворницкой храпело несколько пьяных глоток. Черная дверь походила на падающий во сне камень. Лампадка горела перед узкими и злобными образами. Мелитка встала на порог. Дверь поддавалась медленно. Двор, огромный, вымощенный лунным камнем, встретил ее криком: «комендант, комендант!». Эхо понеслось над городом, крыши засвистели, захлопали крыльями.
– Господи, господи, – забормотала Мелитка.
Утром она остановила в сенях Ястржемского и тихо проговорила ему в лицо:
– Пожалуйте расчет.
Ястржемский торопливо взглянул в ее бесцветные и в то же время как бы наполненные сухим ветром глаза. Ему стало не по себе, он визгливо прокричал к ближайшему столу:
– Составьте коменданту Мелитке…
– Ра-асчет… – зашуршало по шатающимся столам.
Пальцы уже шипели по бумаге. Цифры шушукались, шептались. Шестьдесят шесть перьев шарахнулись к чернильницам5. Мелитка выскользнула в сени. Лоб и лицо ее были в поту.
И в деревне, ясно, знали о коменданте (Мелитка давно забыла, что сама просила дворника написать об этом). Песчаный пригорок порос полынью. Поля тоже сухие, пропахшие полынью. Пастух с длинным рожком встретил ее воплем: «Комендант едет!..» Коровы, свесив к земле пологие и ласковые рога, смотрели на нее недоуменно. Трескучее и высокое слово даже им казалось невыносимым. Мелитка смотрела на стадо и не могла узнать: какие же из этих коров куплены на ее деньги? Пахучая и медленная осень, вся в том же сушащем гортань ветре, звенела над полями.
Домашние, увидев Мелиткины глаза, заговорили тише, присели на лавки. Парнишка, вбежавший, крикнул было: «Комендант приехал!..», но руки у него опустились и слюна испуганно потекла подбородком.
Мелитка шла деревней. Улица, песчаная и рыхлая, колыхалась и рделась под солнцем. Однообразно и тускло звенели поля. Сердце стихало, и гортань наполнялась сладостью. Деревня смотрела на нее молча, не кланяясь. Трусливый мужичонко Проскудин прибежал к председателю с вожжами. – «Деревню спалит, ты в глаза ей посмотри», – прохрипел он. Председатель взглянул ему в глаза, и ему тоже подумалось, что Мелитка может спалить деревню. И вот Мелитку повезли в город. Она смотрела на тощие и нестерпимо желтые поля, спина ее выпрямлялась, голос строжал. Вез ее мужик Проскудин. Она стала гнать лошадь, требовать, чтоб Проскудин обращался с ней почтительней.
– Загною! – крикнула она вдруг.
Проскудин испуганно осматривался. Встречные воза показались на холме. Два мужика подошли на его крик. И тогда Проскудин, остервенело крикнув: «заговорила!» – ударил Мелитку в висок. – «По ребрам бей», – говорили подошедшие мужики, и кулаки у них вздрагивали.
Мелитку опять привезли в город Карналухов. Сначала она сидела за решеткой, но бушевала она недолго и ее стали выпускать в ограду. Сад окружает синий и низкий дом6. Солнце ходит по саду ленивое и теплое. В углу сада, говорят, живет лисица, по лунным ночам, если днем помочиться на ее нору, она выходит рассказывать сказки. Сказки ее сплошь счастливые, многие из обитателей синего дома рвутся ночью в сад, но Мелитка не хочет, она довольна. У нее тихая и счастливая походка. У нее блаженное лицо, ясные и веселые глаза, и все встречные, почтительно поклонившись, сторонятся. Ее все называют Мелитиной Кирилловной, она всеми довольна и всех хвалит. И встречные необычайно горячо хвастаются друг перед другом, что нет нигде такого бравого, исправного, вежливого и достойного коменданта, как Мелитина Кирилловна.
Блаженный Ананий*
Воробей опустился на яблоню. Веточка качнулась, и несколько осенних листьев лениво скользнуло на землю. Воробей взглянул боком, напуганно – и полетел. Перед степью, у крапивной канавы, голубели березы. Воробей, все еще испуганно, прорезал строгий их ряд. Из канавы вслед за ним порхнула стайка воробьев. Они метались – вверх, вниз. Сердце у Саши замерло, он остановился.
Ночью над садом пронесся ветер, сшиб много яблок. Уже месяц, как в степи, от засухи, над трактом постоянно плыла пелена желтой пыли. Небо было пустынно. Снились облака. Ночью небо походило на тучу, усеянную звездами. Земля окостенела, и упавшие яблоки помялись. И тогда Марья Александровна, мачеха Саши, наняла Ольку, дочь банковского сторожа. Олька хоть и славилась смиренной своей жизнью, но крепкие и легкие глаза ее у всех вызывали беспокойство. Олька сбирала яблоки в большую корзину. Дно корзины было устлано березовыми ветками. В корзине привезли недавно из степных озер карасей. Марья Александровна гордилась своим садом. «Яблоки всегда запахом рыбу пересилят», – сказала она, и они, точно, пересилили.
Саша долго смотрел на березы. Бездействие редко тяготило его. Он не замечал людей, жалующихся на страдания от бездействия. Но в этот нестерпимо яркий день, когда матовые дыбы берез как бы неподвижно стремились к нему, – ему подумалось, что хорошо б иметь утомительнейшую работу, после которой спалось бы без конца. Грузные шаги Ольки привлекли его. Влекомая ею корзина шипела по сухой траве. Он наклонился, выбрал яблоко, березовый лист прилип к нему. Помнится, он удивился, что яблоко теплое, и эта теплота как бы мутит его. Он даже хотел положить яблоко обратно. Толстые и короткие пальцы девки, опускавшие в корзину яблоки, тоже почувствовали теплоту яблок. По стволу яблони снизу вверх полз розоватый жучок. Девка медленно (она тоже стыдилась яблок) отклонила свое тело от корзины. Легкий взгляд ее тупо остановился на Сашином рте. Затем веки сжали ресницы, выцветшие, чуть-чуть запыленные. Зубы ее обнажились столь стремительно и напряженно, что Саша, перекидывавший из одной руки в другую, уронил яблоко. И Олька, тряся дрожащими руками и, видимо, особенно стыдясь их, кинулась к нему. Она хотела его поцеловать! Сашино лицо улыбнулось растерянно и сонно. И тогда неодолимая плоская злость овладела ею. Побелевшие и оттого еще более короткие пальцы ее прикрыли ему глаза (или он сам зажмурился), он упал на траву. Девка, упираясь быстро дышащим животом ему в колени, схватила его за подтяжки. И вот это-то движение показалось ему чрезвычайно обидным. Сашенька взвизгнул, рванулся. Девка дышала все сильнее и сильнее, волосы у него слиплись, и он понял, что готов для всего, на всяческие страдания, – он заплакал крупными и обильными слезами. Он не мог остановить своих слез, он дрожал. Но девка поняла его по-своему. Неподвижно, побагровев, глядела она ему в лицо, и щеки ее скривились так, словно она хотела плюнуть ему в глаза… и лишь сухие губы ее не пускали слюну. Саша потянулся было за фуражкой, но, увидев эти губы, опустил руку и побежал.
Сад был неподвижен и сух. Трава колола ноги. У крыльца дома ему встретился отец. Он пришел со службы, а жена сказала: «Яблоки опадают, и для сбора их нанята Олька, надо понаблюдать – не ворует ли». Ипполит Селифантьевич получил жалованье, и в такой превосходный день ему не хотелось думать о людях дурное. Он сказал, что на реке клев, надо спешить на рыбалку. Солнце струилось по волосяной леске, задерживаясь на выцветшей краске пробкового поплавка. Саша схватил отца за руку. Рука слабая, вся в хороших морщинах, давно знакомых, жестянку, приготовленную для червей, держит неудобно и трогательно! Отец стоял перед ним, его отец, с седыми усами и веселым взглядом, твердо знавший, что жизнь пустяки, легкое дело, хотя есть и войны, и сейчас гремят революции. Что ж, на земле много ошибок! Ипполиту Селифантьевичу подумалось, что надо б взять с собой на рыбалку сына, но с сыном нужно разговаривать, а разговаривать, как большинство отцов, он не научился. Он сказал ласковым и уверенным голосом: «Гуляешь? Гуляй, гуляй, да не загуливайся! Ну и благодарение господу, благодарение господу…» И поправил на плече удилище.
И тогда Саша побежал к мачехе. Она чистила для варенья какие-то ягоды, кажется, крыжовник. Полотняные занавеси, наполненные солнцем и зноем, казались розовыми. Медлительное, немного усталое тело мачехи украшало неподвижное крапчатое платье. В длинных мочках – бирюзовые серьги.
Через несколько комнат яростно сияла в кухне огромная изразцовая плита. Тревожная духота наполняла комнаты. Иногда, неизвестно откуда порхнувшая прохлада, вся из запахов осенних трав, чуть скрипела дверьми, вздыхала полотном. И тусклые ягоды, и сияющая плита, и розоватое полотно на окнах, – как это все запомнилось Саше! Колени мачехи были прикрыты, дабы не испачкать ягодами платья, полотенцем, следы хозяйственного глаженья горбили полотенце. Взъем ее ноги был напряжен, и оттого колени ее казались еще более круглыми. Когда Саша увидел эти колени и на тугом полотенце синюю миску, он почувствовал такое омерзение к девке, что на мгновенье задохнулся.
Марья Александровна поставила миску с ягодами на пол, локти ее прижались к ребрам – Сашенька постоянно внушал ей беспокойство. Она была домовитая, опрятная, любила, чтоб в доме был порядок, вышла она замуж за Ипполита Селифантьевича только два года назад, – и дом сильно встишал. Слезы скользили сквозь редкие и длинные Сашины ресницы. И то, что она сразу же, без его слов, поняла его – было и омерзительно и тревожно знать. Она отодвинула миску еще дальше, хотела встать. Саша упал ей головой на колени. Волосы его, все еще слипшиеся, слегка завивались на затылке, кожа на шее нежно голубела. И Марья Александровна с неумелой нежностью подумала, что голова его похожа на подсолнечник. Сравнение это ушло, и тотчас же стало стыдно за его появление. Она протянула руки, уши у Саши были горячие. И она с негодованием почувствовала, что от ребер, ниже к бедрам, идет холодный и мучительный трепет. Она сидела неподвижно. Саша все плакал, и вдруг она подумала, что сейчас слезы его просочатся сквозь платье и коснутся ее тела. Грудь ее отяжелела, и в сосцах она почувствовала легкие уколы. Ей казалось, что она делается все неподвижнее и неподвижнее. Полотняные занавеси мелко дрожали, несколько стрекоз билось в их душном просторе.
Саша поднял лицо, – и у висков и выше, к затылку, его охватила великолепная боль. Крепкий, пахнущий неизвестными и страшными ягодами палец упал к нему на рот и, прыгая, пронесся по его губам. Язык его вяло выпал изо рта. Гортань его оледенела. И тогда женщина ощутила, что ее щеки тоже втягиваются, голени ее дрожат, и ступни ног покрываются густым потом. Это было так страшно, что она была рада, что тело ее заныло тем знакомым тяготением, которое заставляет отверзать губы, как бы крепко ни были они сжаты. Мокрая и тонкая рука коснулась ее плеча. Но вдруг рука эта исчезла, и она увидала на полу, у своих ног, тонкую Сашину спину, зеленую тужурку, латаную на локтях, пола тужурки завернулась, и видна была рваная сатинетовая подкладка… И это было отвратительно и еще более отвратительно было то, что и упал он не от страсти, а поскользнулся: подошва у сапога скользкая, много ходил по осенней траве.
И Марья Александровна, заревев, – грубо, хрипло, – и широко расставляя ноги, кинулась по комнатам. И когда она врывалась в двери, то опять вокруг нее сияли неудержимо изразцы кухни и белый нимб плавал над ее волосами.
Саша, трепеща от ужаса, преодолевая слабость в голове и груди, бежал через сад в поле. Олька несла корзину с яблоками. Она уже забыла о нем, и когда он побежал мимо нее, мокрый и жалкий, она любовно, с теплотой удивилась ему и его характеру. Все происшедшее у нее с ним она объяснила приворотными его глазами. И в тот же вечер, лежа в кустах у реки с парнем, она вспомнила Сашины глаза и, клокча и глотая слюну, рассмеялась. Парень тоже с клокотом рассмеялся и привычным движением рванул ее за плечи. Она вяло скользнула к нему на руки.
Неподалеку от городка П., на берегу Волги, в лесу, подле Вяземского оврага, находился скит блаженного Анания. Городок недавно был захвачен офицерами, воевавшими за родину и за какого-то, неизвестного всем, генерала, ее спасителя. Солдат в городе селить поопасались, как бы не разграбили, – в городке находился штаб и несколько офицеров, расквартировавшихся в домах, которые попрохладнее. Солдаты разбили палатки в скиту и в оврагах, за скитом. В скиту звенела гармошка, пахло плохой солдатской пищей. Пулеметы, покрытые шинелями, расставленные в беспорядке, были грозны. Мужики, разбогатевшие на чудесах Анания, чертили на воротах мелом кресты, зачем – неизвестно. К старухам, Катерине и Наталье Смородинным, охранявшим покой Анания, пришел солдат, фельдфебель – в громадных охотничьих сапогах и соломенной шляпе. Фельдфебель куражливо требовал, чтоб его пропустили к блаженному, он хочет с ним поговорить: правда ль, у того такая неистребимая плоть, и правда ль, что при любовной тоске наступает после его молитвы облегчение. Старухи, обнажая длинные красные кисти рук, взмахивали возмущенно широкими рукавами.
В садике, где стояла банька блаженного, в которой он пролежал тридцать лет, паслись голуби. Несколько ворохов соломы лежало по углам, должно быть, на них спали богомольцы. Старухи кричали, что: «со страху и со гнева блаженный может умереть, а как им, в войну, жить без святого?». Солдаты должны это понять! Солдаты не понимали. Тогда старухи достали им водки. Солдаты потребовали денег и баб. Какой-то удалец подкрался к окну баньки и засвистал. Свистал он необычайно громко, голуби тяжело носились над садиком. Старое стекло радужного цвета косо отражало яблоню и длинные яблоки на ней. Солдат заглянул… Синий язычок лампадки качался в углу, больше он ничего не разглядел. Он засвистал еще громче и заявил, что без баб он жить не может спокойно. Старухи достали еще самогону и, сев в телегу, помчались в город за девками.
Блаженный попросил пить. Паклей, по всему пазу1, полз таракан. Несколько соринок скатилось на одеяло блаженного. Он крикнул еще раз. Люди из сада исчезли, опять голуби хлопали крыльями. Впервые Ананий остался один. Он кинул на пол глиняную кружку, но кружка не разбилась, отпала ручка. Слабый он, сухоногий, сухорукий, кружку не мог разбить! И блаженный опять вспомнил отца.
Отец его, Максим Смирнов, промышлял скотом. В комнатах пахло седлами, конским потом, копыта постоянно глухо стучали во дворе. Отец не уважал своей торговли и своей удачи, он еще служил в казначействе: блеск орлистых пуговиц неудержимо манил его. Но на службе ему не везло, да и некогда было служить. Он многим был недоволен. Женщин он любил испуганной и злобной тоской. Однажды он вернулся домой, пьяный и растроганный, от женщины, которая, не страшась, его выгнала. За чванство. В столовой был накрыт ему ужин. Дочь Елена, грудастая и толстоногая, ожидая его, заснула на диване. Она толкла к ужину перец: ступка и пестик лежали подле дивана. Отец шлепнул ее по ноге, она, не просыпаясь, замычала. Ананий спал в соседней комнате. Сны ему постоянно снились зеленые. Он вспрыгнул от воплей. Голос отца гудел неразборчиво: «Лежи, лежи, ты…» Ананий бросился, плача и крестясь, оттаскивать отца, тот его отпихнул ногой. Елена била себя кулаками в голову и, увидав Анания, позвала хрипло: «Братец!» Тогда Ананий укусил отца за руку. Отец повернул от стены потное и трезвое лицо, взгляд его упал на ступку. Ананий побежал. Максим укушенной рукой кинул ему вслед ступку. Ананий пал замертво.
С того дня он начал чахнуть, затем у него отнялись ноги. Отец к нему не заходил – «не сдохнет», – говорил он окружающим. Ананий отцу не верил. Иногда Ананию чудились шаги у своей комнаты. Непрестанные боли мучили его, но, пересиливая боль, он старался вслушаться, чтоб, когда отец войдет – успеть подобрать такие слова, которые не обидели бы и в то же время усовестили Максима. Сестра, уже живущая с Максимом, как с мужем, стыдясь, не приходила к Ананию. Когда его расспрашивали, Ананий вначале пытался говорить, вернее намекать, правду.
На дворе по-прежнему ревел скот, хлопали бичи. Слушатели вяло смотрели в окно. Конечно, они думали о болезни Анания другое. Ананий был уверен, что отец страдает, томится. Ананий перестал говорить правду. Сны его были розовые. И однажды он признался, что, одержимый невиданной плотью, он ночью полез к сестре, и бог наказал его, иссушив ему хребет. И тогда сразу все поверили ему. И чем он больше придумывал гнусных подробностей о себе и чем горячей молил бога о прощении, тем больше уважали его люди и больше верили ему. Он восклицал, что и сейчас – весь больной и язвенный – он томится по сестре и желает ее ложа! Люди содрогались. О нем уже говорил весь город. Ананий плакал от обиды, но вскоре ложь стала доставлять ему облегчение, и он, никогда не веривший в бога, теперь поверил – и умилился собой.
Ананий попросил перевезти его в лес, в пустыньку, – его перевезли в баньку подле Вяземского оврага. Здесь в одиночестве прожил он три года – срок, после которого люди решили, что бог простил ему его грехи. Пищу ему носила и убирала за ним бобылка Марфа из соседней усадьбы, приходившая раз в два дня. Замолив свои грехи, он мог теперь замаливать грехи других, и, кроме того, людям казалось, что от него исходит как бы испарение плоти, ибо он постоянно призывал к себе сестру свою Елену! Начали появляться богомольцы, плотские страдальцы, мученики любви.
Две толстых и жадных бабы, Наталья и Катерина Смороднины, чуя добычу, отогнали Марфу и навели в избе порядок. Они поставили старинный образ и синюю лампадку. Заговорили о чудесах. Блаженный звал одну Марфой, другую Марией2. Они безмолвно подчинялись, мало понимая его. Бабы мечтали о доходах. И точно, они вскоре расчистили лужайку, вырубили деревья и построили пятистенный дом.
Затем появился постоялый двор, лавочник открыл торговлю. Пьяница священник, лысый и хромой, выгнанный из многих приходов, помогал воздвигать часовню. Между всеми ими был как бы тайный сговор – не говорить блаженному Ананию, что вокруг его тела строится хозяйство. Блаженный может закапризничать, заважничать… И теперь вот, когда старухи уехали в город, у порога его баньки, на приступке, дремал уже сильно постаревший попик. Старухи рассчитали, что солдаты не будут тревожить попа, но на всякий случай двери были украшены огромным замком…
Блаженный смахнул с пакли таракана. Таракан, широко расставив лапы и кувыркаясь, грузно упал на пол. Он лежал неподвижно на спине. «Как и я!» – подумал блаженный.
Саша думал – ему нужно умереть. Нет другого выхода. Нельзя избавиться от этого страшного события, которое казалось еще более страшным оттого, что Саша не чувствовал его неожиданным. Но он знал, что преступление его настолько велико, что и в той, будущей жизни, в которую он никогда не верил, но без веры в которую он сегодня не мог существовать, – этот ужас не покинет его, и умереть, то есть уничтожить этот ужас, нельзя. По тракту мужики везли снопы: тощие снопы войны. В пыли прошел хромой солдат, сума у него привязана тонкими веревками. Веревки, наверное, больно резали плечи, но какое же горе у солдата, если он идет и идет, не замечая этой боли. И Саша понял: нельзя дольше бродить по степи. Наступил вечер, неожиданно прохладный. Багрово-сизая туча («гроза, предзнаменование» – смятенно подумал Саша) заполняла все небо. Он вернулся домой.
Кухарка грызла на крыльце подсолнухи и вяло похвалила Сашу за то, что успел прийти домой до грозы. Дом был гулок и темен. Домашние, по-видимому, ушли в гости. Саша искал фуражку, все время страшась и надеясь на встречу с мачехой. На дне фуражки слинявшей золотистой краской было напечатано: «Торговля Н. П. Вязлова». Саша прочел – «Вязлова» – вслух… удивленно. Затем он прошел в кабинет к отцу, зажег лампу, очень яркую, и взломал ящик письменного стола. Ему подумалось, что денег нужно брать столько, сколько необходимо на билет. Лампа слегка чадила, – он увернул огонь. Деньги взял все. Когда он подошел к низенькому и тусклому зданию вокзала, уже накрапывал дождь и молнии догоняли приближающийся поезд. Саше было сильно нехорошо.
Номера в городке П. были грязные и вонючие: очень сильно в них пахло селедкой. Из окна Сашиного номера видны были вокзальные часы с тупыми и медленными стрелками. Если б не Волга, то городок П. был бы почти одинаков с родным Сашиным городом. Такой же вокзал; деревянные тротуары; тощий бульвар у реки. Собой Саша, должно быть, был подозрителен, или так полагалось, но появился половой и потребовал уплатить за день вперед. Саша торопливо достал деньги.
Половой моргнул вежливыми глазами и сказал, слегка откидывая назад руки: «Ежели ваша дамочка не придет, то многие соглашаются на утешение – других! У меня – компания. Прикажете?» У него были такие веселые и вежливые глаза, что Саша на мгновение поверил, что многое в жизни устраивается само собой, – и приказал. А сам пока лег на диван, тоже пахнущий селедкой, – и тотчас же уснул. Он спал долго. Улица была пустынна. Стука в косяк он не услышал. А подле его дверей уже сидели девицы: Сашет и Манжет. Обе они были в высоких, шнурованных до колен ботинках, в платьях раструбами и с повязками на прыщеватых и густо напудренных лбах. Лысый гитарист с дутой тросточкой подмышкой косо стоял подле них. Девки, время от времени поправляя лифчики (высшим шиком считалось, чтоб лифы были туго накрахмалены, чтобы «с хрустом») говорили с половым о сегодняшней драке на базаре. Двое военных били друг друга пивными бутылками и никак не смогли раскровяниться. И оказалось, что каждый из рассказывавших видел в драке то же, что и прочие, – и это их сильно смешило.
Темнело, когда Саша проснулся. Девицы улыбнулись ему из коридора. Толстые их ляжки, лихо затянутые в кожу, громадные руки ужаснули его. Половой завистливо развел руками: «ну, дескать, и развеселый же ты человек, и легко же жить с вами на свете»; гитарист, хвастаясь тоскливой своей удалью, остановился у притолоки, возле грязного жестяного умывальника. Вода тоненькими капельками падала из крана. И Саша понял, что вошла иная, не его жизнь, и как ни противно, но надо жить этой иной жизнью, и хотя ему хотелось чаю, но он потребовал водки.
И вот Саша пил и плясал три дня. Три дня глотал он разбавленный теплой водой отвратительнейшего вкуса спирт. Половой водил его тошнить. Саша плакал, а Манжет целовала его в затылок, Сашет в щеки; они плакали вместе с ним и хвалили его за то, что он понимает женскую душу и не ложится с ними спать, и как им тяжело продаваться (а на самом деле они из-за смятенного лица Саши решили, что паренек заболел дурной болезнью и вот напугался и пьет). Затем появились еще две девки: Лушка и Грунька, тощие и басистые. Они брали грубостью. Сразу же они попросили взаймы денег. Позже девки дрались. Гитарист злорадно свистел. Девки рвали с унылыми лицами друг у друга волосы. Саша пил водку из синей чашки с грязной трещиной. Ему было жалко себя и других.
Он проснулся с колючей болью в горле и в висках. Половой, теперь уже суровый и гладко причесанный, требовал денег таким голосом, по которому можно было понять, что денег у Саши нет. А их, точно, не нашлось. Чемоданчик оказался пустым. «В залог!..» – вырывая у него чемоданчик, крикнул половой. Сашин паспорт валялся у порога.
Саша перебрался на постоялый двор, в соседнюю улицу. Весь день спал он на сальных нарах, а вечером долго сидел у Волги, подле разрушенного баркаса. Город был темен, и только в реке отражались огни комендатуры, стоявшей на яру. Волга рябилась от мелкого дождя и казалась поэтому еще более широкой и страшной. Баркас пах гнилым деревом. В огнях комендатуры, у самой реки, долго плясал какой-то пьяный. Саша вспомнил, что в детстве няня говорила ему, что несчастье, как ночь, не стуча и не бренча, стоит у каждого окна и каждого угла. Ждет! Слезы показались у него на глазах.
Саша с каждым днем становился все грустнее и грустнее, и сосед его по нарам, безработный приказчик, рябой и коротконогий, бесстыдно каждое утро показывавший тоску свою по женщинам, крикнул ему: «Не ной, не ной! А то иди к братцу Ананию, он таким, как ты, по три рубля николаевских дает. А если получишь, наймешь мне, в могорыч, девку на ночь!». И тотчас же Саша вспомнил, что и о братце Анании говорили девки в памятные дни пьянства. Говорили они с умилением и с бесстыдством о том, что братец Ананий тридцать лет неподвижно лежит на своей койке, высохший, желтый, – и молящийся за мир и за тихую любовь. А отец у него иеромонах3. И какой!.. От голоса иеромонаха шуршали деревья! Говорили и поговорку Анания, – Саша никак не мог ее припомнить… А приказчик, уже поверивший, что братец даст Саше три рубля, рисовал ему углем на стене дорогу.
Телега летела под гору. На поворотах шершавые длинные корни, торчащие из яра, почти хватали за руки. Девки ревели от восторга: они давно не видали природы. Ямщик, веривший, что у этих девок нет ничего искреннего, оглядывался на них злобно. На одном из поворотов девки увидали тощего запыленного человека в зеленой тужурке. Замученные глаза его были им знакомы. Сашет вопрошающе взглянула на Манжет. Та недоуменно повела плечами. Человек крепко держался за корни, песок струился у его ботинок. Яр тускло пылал от солнца. Лицо у него было тоскующее, видимо, он желал пропустить телегу и думать опять о своем. Девки заорали песню. Ямщик оглянулся на них со злостью: «под гору, разнесут!» Девки заорали еще громче.
Показался скит. Солдаты их встретили пляской и гармошкой. Девок повезли в дом с верандой. Окна дома выходили в сад, в котором жил блаженный Ананий. В трех чугунах принесли брагу. Солдаты пили молча, с тревогой, стаканами. Старухи уже суетились в саду. Одна из них подметала дорожки. Поп собирал опавшие яблоки. Девки распахнули окна, расхрабрились. Они чувствовали, что сегодня не миновать драки. Солдаты налили самогоном самовар. Девки потребовали, чтобы стол вытащили на веранду.
Старуха, подпоясанная веревкой, с метлой в руках, рассердилась, когда Саша сказал, что хочет видеть блаженного. Она долго выспрашивала Сашу, из каких он мест, и даже как будто удивлялась, что в такое время кому-то нужен святой, кроме нее. Она повела его длинными сенями. Пахло вениками и мятой. На противоположном конце сеней, у самых дверей в светелку блаженного, на ларе сидела другая старуха. Она напряженно смотрела в сад. И Саша подумал, что садом ему было б гораздо ближе пройти к блаженному, а старуха с метлой провела его другой дорогой.
Блаженный до самой бороды был укутан в грязное стеганое одеяло, засаленное, усыпанное крошками. Несколько мух кружилось над его бородой. Старуха попробовала отогнать мух, но, плюнув, сердито хлопнула дверью и вышла.
– Марфа-Мария, лампадка коптит, – визгливым и несколько капризным голосом заговорил блаженный, – песни орут, блудят, а лампадку лень заправить. Душа моя, парень, как пчела, из тварей последняя по росту, а питает да еще на бога светит.
Саша вспомнил тотчас же ту поговорку, которую ему передавали девки. Блаженный передернул щеками, заросшими неопрятным и редким волосом. Щеки у него были очень подвижные. Саше, едва он сел на табурет, стало тепло (а светелка, точно, была сильно натоплена). Ему захотелось спать.
– Нонче ты первый, молодой человек. Я могу с тобой поговорить и поучить могу. О душе могу поговорить. Моя жизнь, молодой человек, как морковь: тело в земле, а коса – душа – выходит наружу. Всем о душе говорю. Помогает, помогает!.. Ты у папашки деньги слямзил и в картишки проиграл? Нету на дорогу к папашке? Молись богу, проси прощенья! Я таким, как ты, по два и по три рубля даю и лапти. Блудные сыны! Я блудных сынов жалеть обязан… Господи, их благослови.
Блаженный дунул на муху. Она села ему на ухо.
– Зачем пришел?
– Посмотреть на вас пришел, – ответил Саша, и ему в ту минуту думалось, что он действительно пришел посмотреть на блаженного.
– А вот и врешь. В такую погоду пешком ко мне не ходят. Сапоги-то какие, а! Смотреть на меня – извозчики есть. Плачь, плачь, прелюбодей, – вдруг закричал блаженный. В его голосе чувствовалась радость, и Саша смятенно подумал, что сейчас блаженный выкричит все пакостное, что есть в Сашиной душе. Саша вздрогнул. Блаженный стучал маленьким кулачком в стену. – Блудил, угадал!.. Я вас всех знаю… С сестрой блудил! Кайся, кайся! Чем сестру смутил? А?..
Кисти рук заныли, томительная слабость овладела Сашиным телом. И Саша подумал, что теперь-то нужно высказать свои страдания, станет легче, – блаженный успокоится. И вместе с тем пришла мысль о том, какая это страшная и грешная страна, в которой святые, не сомневаясь, упрекают людей в том, что они могут лежать со своими сестрами, как с женами. И как же подобные упреки справедливы, если вокруг блаженного настроены амбары и приходит много кающихся! Как стыдно понять это. И ты, только что начавший жизнь, готов и рад свершить чудовищный поступок!..
– Я сам, молодой человек, в таком грехе обитаю. Парень я был рослый, а скучный. Сестра на лавке спала. Сестра у меня мучительница, тело ей было отпущено господом пылающее: на пять сажен запах от ее греха шел. Я к ней и полез. До того я долго страдал, но одолеть себя не мог… И только отошел от лавки, господь меня в поясницу казнил. Теперь лежу, как Илья Муромец, тридцать лет.
– Тоска, – шепотом сказал Саша.
– А на тридцать третий год придет ко мне бог и скажет: «Вставай, Илья, царство спасать надо»4. А я ему отвечу: «Наплевать мне на твое царство, почему ты мне с девкой не дал жить и ног меня лишил? Где теперь в твоем царстве есть подобная девка? Может быть, мне кровь свою суждено выпить? Может быть тридцать лет подряд, – едва задремлю, – и вижу, кровь свою пью. Может быть, каждую ночь приходит ко мне сестра и говорит, „вставай, Ананий, весна!“ А я ей: „нету сил, помоги мне“. Она меня за руки берет, поднять пытается – и не может. Я ведь грузный…»
Блаженный откинул одеяло. Саша увидал кровавые пролежни, тощие кости, живот в грязных морщинах. Блаженный тупо смотрел в потолок.
– И я скажу ему: «Отойди от меня, господи, не встану я! Надсадилась сестра, подымаючи меня, для кого мне теперь вставать – в гробу она. Ради кого я освобожу твое царство? Я к ней мертвым приду и скажу ей: „ты, сестрица, в гробу подвинься и приготовь одеяло“». Вот как я богу отвечу… Лежать, молодой человек, верно, тоскливо, да только не потому, как ты думаешь. Мне бога тоскливо ждать! Место глухое, вокруг дебри, – мимо пройдет бог. А не придет, я сам к нему приду. Девка, сестра-то моя, почему уличным парням досталась?
Саша вспомнил девок, обогнавших его сегодня в телеге, и спросил:
– Как ее звали?..
– Советовать тебе, молодой человек, могу. Три рубля тебе дам, лапти дам. Сходи в баньку, попарься. Мои советы легкие, я легкие советы даю. Оттого и помогает. Легкость всегда помогает… Чаю с тобой попить, что ли? Старуха, Марфа-Мария, дай чаю…
Блаженный вздохнул. Вздох у него был больной, с кашлем. Старуха не появлялась. Сумерки надвигались на сад. Блаженный подсунул к боку подушку: длинную, набитую соломой и похожую на мешок.
– Отец у меня был ласковый. Я отца страсть любил. Добрый был человек и справедливый. Жалоб никто не слышал… А вот могилка, небось, заброшена. И креста, небось, нету. Я перед ним грешен: он меня всегда милостью одарял. Я вот святой… Мне верят, я утешительные слова могу говорить. И помогает. А вот фамилью мою редко спрашивают и даже откуда я родом. Мне обидно, – я без пачпорта, что ли. А фамилия моя умильная: Смирнов…
Блаженный напряженно смотрел на стену. Он, по-видимому, пытался вспомнить самое трогательное о своем отце. А Саша подумал, что вспоминает блаженный только для того, чтобы напомнить Саше, какой он отвратительный и преступный сын. Ананий сказал жалобно:
– Сходи ты, молодой человек, если моя молитва поможет, на кладбище, посмотри, как лежит Максим Смирнов. Я старух прошу, прошу, им выйти нельзя: округ пустыня, на кого меня оставишь. Они ведь здесь одни, ветхие. Оградка-то у отца чугунная, а по краям ангелы в золоте. Найдешь…
По бороде ко рту ползла муха. Блаженный устало прикрыл глаза. И Саша подумал, что блаженный действительно верит, что он одинок. В этом лесу одна его каморка. По-прежнему, как и тридцать лет назад, дебри! И выдержит ли он, если ему сказать правду?.. Муха трепетала в уголках рта. Сил у него нет сдунуть муху! Саша со стыдом торопливо вышел из каморки, торопливо получил от старухи Катерины три рубля и лапти.
В саду было темно. Рядом, на веранде, плясали солдаты. Полураздетая девка, свисая с перил, стоная, блевала в сад. Саша узнал ее лицо! Не она ли сестра Анания?.. Саша, выронив лапти, рыдая и спотыкаясь, побежал на дорогу вон из скита.
Позже солдатам веранда показалась тесной, они попрыгали в сад. Вышла луна. Солдаты трясли деревья, плясали на плодах. Один, городской, с курчавым белым чубом, стал рубить шашкой ветки. Тогда в солдатах проснулась крестьянская душа: взводный ударил чубастого в зубы. Девки завыли. С деревни сбежались собаки. Солдаты открыли по ним пальбу. Одна из убитых собак моталась у забора, беспрерывно царапая когтями доски. И девки и солдаты хохотали над ней. Голая девка Лушка, в одной нижней рваной юбке, потрясая бархатным платьем, понеслась в пляске среди яблонь. Она свистела, хохотала, взвизгивала. Но солдатам все казалось, что звуков мало. Они ударили в ведра.
Старухи Смородины караулили блаженного всю ночь, заснули у порога баньки под утро. Солдаты с хохотом указывали на их скорченные и жалкие тела. Лушка, все еще полуголая, совершенно пьяная, пыталась влить в рот старухам самогону. Стакан, мокрый от ее пота, вонючий, скользил из ее рук. Тогда рябой солдат схватил ее в охапку, влил ей в глотку самогон и заявил, что если блаженный хотел всю жизнь девку, – дать ее ему. Глаза у Лушки были осоловелые.
Солдат сбил поленом замок (старухи спали крепко), втащил девку, откинул у блаженного одеяло и, подталкивая девку коленом в бок, положил ее на кровать. Блаженный испуганно завизжал, замахал тонкими ручками. Уже показалось солнце, и солдату почудилось, что у блаженного с пальцев сыплется как бы шелуха. Старухи, проснувшиеся от вопля блаженного, рвались к дверям. Солдаты держали их за юбки, хохоча и стреляя вверх. Рябой солдат схватил блаженного за длинные масляные волосы и положил его на длинные потные груди девки.
В лицо блаженному лился густой запах спиртного перегара. У девки большие зубы, вогнутые, как бы вылизанные! Ананий попытался поднять голову – сил не было. Блаженный чувствовал небывалую слабость. Груди девки у его пылающей щеки твердели. Кожа ее упруга! Одеяло подле ее длинного уха розовело. И вдруг омерзение, владевшее им, исчезло, – запашистое и теплое дыхание окутало его лицо.
Лушка проснулась, почувствовав на груди тяжелый холод. Покачиваясь, чадила лампадка. На полу валялся стакан и бутылка самогону, заткнутая тряпкой. Девка спокойно сняла голову блаженного, сложила ему руки на груди, перекрестилась и сказала: «сухой-то какой!» Затем она налила самогону в стакан. Через дно стакана она увидала мутное пятно: голову на подушке. И перед тем как выпить, она пошарила: нет ли под матрацем и в подушке денег. «Одни образа», – сказала она. Опять перекрестилась, выпила водку, и, накинув на озябшие плечи одеяло, пошла искать старух Смородиных.
Сторож, посмотрев непочтительно Саше на ноги, виляя руками, подвел его к высокому черному памятнику. Деревянную ограду украшали золоченые вензеля. Человечек, запахивая латаное, без пуговиц пальто, смотрел полуоткрытыми тусклыми глазами на дорогу к городу, по которой шли военные обозы. Саша спросил. Человечек не отвечал. Тогда только Саша разглядел, что надпись на черном памятнике сбита, и в камне торчат медные гвозди. Саша переспросил: «Не правда ли, это ведь могила Максима Смирнова?» – «Максима Смирнова, – слабо, нервно дыша, сказал человечек, – казначея, торговца скотом, отца блаженного Анания…» Саша удивился вычурности его ответа. Человечек, видимо, сдерживая себя, заговорил:
– Напрасно смеетесь над древностью, милостивый государь! Я уже имею сообщение, что блаженный Ананий умер. Уже теперь надо мной смеяться не будут. Я сегодня над трупом все ему скажу… Меня вызвали сказать ему правду…
– Правду…
– Древность достойна сомнений, но не смеха. Здесь похоронена моя мамаша: Наталья Сухорукова. Я грязен, но не древен, и она не была древна, она умерла пять лет назад. Вы смотрите на эту могилу с сомнением? Правильно, потому что вы не видите на ней надписи. Надпись эту администрация кладбища приказала сбить. Почему же сбита надпись? Потому, что я не мог внести плату за могилу, а сдунуть с лица земли памятник у администрации нету сил, средств, ибо он весит тысячу двести пудов. И вот, чтобы досадить, они сбили надпись. Но сбили, конечно, не они, а вот этот ради насмешки сказанный вами Максим Степанович Смирнов, казначей и скотом промышлявшая дрянь.
– Уверяю вас…
Пафос охватил господина Сухорукова неудержимо:
– Разорил всю семью, по ветру пустил из-за страстей своих исключительно! Не мог сдержать себя Максим и в аду не сдержит. Его черти жгут, а он к бабе хочет! Многим это неизвестно, так как многие забыли Максима. Двадцать лет прошло с его смерти. Сынок знаменит, но и сыну я скажу правду! Меня призвали сказать ему перед гробом правду… Блаженному братцу Ананию! Тридцать лет лежал Ананий на смертном одре, каждый день сбирался умереть, забыть об этом грешном мире. И не умирал. Горел по женщине. Похотью исходил! Все надеялся – встану! И если б знал, что не встанет, что суждено лежать ему до самой смерти, тогда бы на пальцах своих рук пополз бы он к женщине. Десять верст бы прополз. Приполз, а ее нет. Она померла. И тогда Ананий, не отдыхая, полз бы дальше, к ее могиле. Могилу разрыл бы зубами. Он верит, что она жива и его ждет. И она, действительно, живая лежала бы в могиле… Вот я Ананию и скажу! Вот обозы пройдут, я и на скит, чтоб не задержали обозы, солдаты. Я скажу: врешь, Ананий, промахнулся, помер.
– Я вчера был…
– Поступайте подобно им. Вот я спущусь в ад – я нарочно грехов больше делаю, вот, например, на бога мне наплевать. Я встречу Максима Смирнова… Я слов здесь приготовил. Максим Смирнов – злодей, убийца. Мамаша моя, Наталья Сергеевна, красотой не отличилась. Но чресла ее были приготовлены господом для многих рождений. Так вот Максим Смирнов, прельстясь ее чреслами и будучи семидесяти лет возрасту, пригласил ее к себе. В сенях, на охрану, поставил приказчиков. И опозорил. Три года плакала мать, запустила торговлю – и скончалась. Я был зол и бессилен, не мог я овладеть хозяйством. За могилу даже не мог заплатить! Вот, смеетесь, но надпись сбили. Мамаша моя без фамилии теперь!.. Всякий может подойти и назвать самую обидную фамилию… Сестра у блаженного Анания была красоты адовой. И ее Максим Смирнов положил на свое ложе. Ребеночка она с ним прижила, и ребенку тому Максим Смирнов хутор приписал… Ребеночек тот теперь муж, подобный мне, и на хуторе постоялый двор содержит… А еще…
Слабое дыхание, пахнущее укропом, носилось у самой Сашиной груди. Господин Сухоруков трясся, желая еще рассказать многое. Саша оттолкнул его и побежал к воротам. По крестам порхали синицы. День был высокий и ясный. У ворот Сашу остановил сторож и сказал, по-прежнему непочтительно глядя ему на ноги:
– Можете на могилку, опросталась. У нас на ней видный в городе человек молился. Боец, страдатель. Ну, я вас и не пустил.
– Молиться? – спросил утомленно Саша.
Сторож уже шел вперед. И вот Саша увидал оградку с бронзовыми ангелочками по углам. Дерн украшал могилу, цветы. Старушка в длинной пестрой шали с зелеными разводами, держа в руках букетик резеды, сидела в оградке, на скамеечке, недавно окрашенной.
– И вы здесь же молитесь? – спросила она.
Саша посмотрел на нее недоуменно. Старушка начала объяснять: видение было одному человеку, чтобы пришел на эту могилу и помолился. А он был хром, молился горячо, домой ушел отсюда, не хромая. Сапожник он. Теперь для облегчения жизни и исцеления сюда ходят многие.
– Но знаете ли вы, кто здесь лежит? – спросил Саша.
– Смиренный человек, видимо, лежит, – ответила старушка.
И могила, точно, была смиренна: чугунная распростертая ласточка лежала на кресте, подле чугунного венка. Ласточки сверкали в небе. Что намекало на те ужасы, которые опочили в этой смиренной и опрятной могиле? Кто говорил, что здесь лежит тело прелюбодея, ростовщика, истязателя?.. Сашей овладело отчаяние, – он невольно перекрестился. Он схватил руками золоченого ангела решетки и залепетал: «Вот и уйду от них, уйду… к черту, к черту…» И здесь голос, который звенел в нем и томил его тело все последние дни, окрикнул его. Он оттолкнул ангела. Бирюзовые сережки порхнули в небо. Перед ним, спуская розовый зонтик, стояла Марья Александровна.
Едва лишь обозы скрылись в городе, господин Сухоруков поспешил в скит. Его никто не звал, – он соврал Саше о зове. Он ожидал пожарища, боя, – скит мирно спал. Подле церквушки была разбита нарядная палатка (даже с окнами из целлулозы). Перед палаткой, на медвежьем ковре, усыпанном белыми блестками нафталина, дремал часовой. Квокча, бродили по траве куры. Многое радовалось веселому дню. У открытой двери в церковь дремали старухи Смороднины – плечо в плечо. Слова исчезли с гневного языка господина Сухорукова! Он поспешил в церковь. Блаженный, длинный и сухой, лежал, прикрытый парчовым покровом. Лицо у него было желтое и веселое! Свечи чадили очень торжественно. Господин Сухоруков на мгновение растерялся. Ему стыдно было сознаться, что мертвому Ананию он не может сказать обличительных, давно приготовленных своих объяснений. Но сказать необходимо, – ибо он опять пылал гневом. Он выскочил. В огромном двору, подле сада, где жил блаженный Ананий, спали на кошмах солдаты. А в саду топилась банька. Господин Сухоруков пошел на дымок.
Девки окатывали друг другу головы водой из колодца. Они узнали его. «Комар пришел, – закричала лениво Манжет, – сейчас загудит…». Из бани несло раскаленными камнями. На голое тело ее было надето бархатное платье и поверх, чтоб не замочить, клеенка со стола. Высокие полусапожки девок были туго зашнурованы и ярко начищены. Господин Сухоруков выкрикнул азартно: «И обличу… будет так жить…» Лушка отвязала клеенку, вытерла мыльные руки, взяла его за рукав и ввела в предбанник. Она подала ему стакан самогона. У стены лежал смятый ворох веников. Подушки были усыпаны сухими листьями. Господин Сухоруков вздохнул, выпил. Девка прижала его к груди, и когда он затрясся, когда колени его стали сгибаться и он потянул девку неуверенными руками за юбку, – она, гикнув, ударила его в живот коленом! Господин Сухоруков с воем бился на вениках. Девки хохотали. Лушка вернулась к корыту, взяла свернутую жгутом юбку и стала выжимать ее. «Синьки кабы, и совсем красота», – сказала она. Манжет послушала всхлипывающего Сухорукова и протянула: «Хоть без слов воет, все веселей». Девки опять захохотали. Ворот скрипел, колодец оброс мхом; на каплях, падающих с деревянного ведра, плыли отражения дыма из бани.
Номер был в два окна. Одно, полуприкрытое ставней, разбитое, тихо звенело, когда ходили по комнате. Марья Александровна, заикаясь и по обыкновению глядя на свои руки, сказала, что старушка Смолина посоветовала ей поехать к блаженному Ананию. Приехала, было скучно, говорили, что блаженный помер, она пошла помолиться в собор. Здесь знакомая направила ее на святую могилку, благо и кладбище-то было недалеко… И она хотела добавить еще о горе Ипполита Селифантьевича, но вспомнила, как ночью, стараясь не шлепать туфлями, пришел он к ее ложу, – и как она отогнала его. Она умолкла. На жестяном крашеном подносе стоял чайник. Она налила стакан. Чай уже остыл.
Она подошла к окну и раскрыла ставень. «День-то какой», – сказала она тихо. И Марья Александровна и Саша поняли, что теперь только остается высказать ту мысль, которая сейчас их обоих и веселит и умиляет! Преступления, о которых они теперь узнали и которыми наполнена земля, столь велики, что их грех, – мучительный и длинный, – теперь забавен и ничтожен!..
По слегка наклоненному, чем-то похожему на извивающееся тело подоконнику скользнули два клочка бумажки, обрывки писем, которых много написала в эти дни Марья Александровна. Клочки эти, затейливо крутясь, опустились на мостовую. Тихое дыхание реки чуть-чуть поиграло ими и покатило их дальше по булыжнику.
Особняк*
Началось это все с того, что Е. С. Чижов привез из северного уральского города Н. в Петроград на продажу партию кренделей. И хотя крендели частью заплесневели и сам Ефим Сидорыч в номере гостиницы долго счищал с них плесень, партию эту, как и предыдущие партии, он продал с большой прибылью1. Когда он торговался о цене с покупателем, толстым и угрюмым, в бешмете защитного цвета, на площади у вокзала послышалась стрельба. Но митинги и различные выборы и даже свержение царя торговле баранками не помешали, и Ефим Сидорыч скоро забыл о революции, так как другие мысли, неожиданные и более страшные, захватили его голову и его сердце. Однажды, проснувшись утром, он вдруг ощутил непререкаемую необходимость, что он должен иметь дом, жену, скот: коров, лошадей, много утвари и сбруи, то есть все то, о чем он раньше думал редко, так как считал себя человеком беспечным, способным прожить данные ему годы без лишних тревог, беспокойств и водки. Квартировал он вместе со своей матерью Варварой Петровной и тетушкой Катериной Петровной у переплетчика Смирнова, занимая большую комнату и кухню за четыре рубля в месяц, а кроме того, Ефим Сидорыч жил с женой переплетчика, крикливой и вертлявой бабой. Жена переплетчика была нетребовательна – ласкова настолько, насколько позволял ей характер. По воскресеньям она пекла хорошие шаньги и покупала где-то необыкновенно сладкую сметану. Жизнь была удобна и легка, и неожиданное обилие желаний, пришедшее к нему в номере петроградской гостиницы, очень огорчило Ефима Сидорыча. И, дабы отделаться от желаний, он их немедленно попытался исполнить и поступил так, как обычно поступают в таких случаях люди: он выполнил, если можно так сказать, тени своих желаний. Он написал письмо, давнишнему своему знакомому в город Н., штабс-капитану СМ. Жиленкову, и в этом письме среди других новостей упомянул о своей мечте купить дом. Затем он взял с Невского румяную, – городским едким румянцем, – девушку, прокатился с ней на извозчике и, пролежав с ней в кровати отпущенные ему природой минуты, заказал яичницу с молоком. И тому, что он заказал яичницу с молоком, не удивилась ни девка, ни он сам, – а молоко было жидкое, с каким-то известковым вкусом. Собой Ефим Сидорыч был строен, с бородкой клинышком, с пустыми и в то же время настойчивыми глазами. Его часто принимали за учителя, и никому в голову не приходило, что Ефим Сидорыч Чижов – бывший сапожный и шорный мастер, и что кожа пальцев его полна несмываемой темно-желтой краски и ногти его синие и необыкновенно твердые. И девка с Невского спросила: не учитель ли Ефим Сидорыч, потому что сейчас много учителей выступают на митингах? И, с неприязнью взглянув на девку, Ефим Сидорыч подумал: «Надо ехать, ехать надо».
И в тот же день уехал в город Н.
Но и в городе Н. тупые и мучительные желания, охватившие Ефима Сидорыча в Петрограде, не схлынули, а приобрели какой-то непонятно насмешливый характер. Например, в первый же день приезда Ефим Сидорыч встретил Жиленкова, штабс-капитана, – того, к кому он написал письмо. Жиленков служил в армии по призыву, а до призыва занимался, как он сам себе говорил, «землеустройством», а всем остальным: «Разыскиваю пастбища», и вообще у него была манера направлять мысли людей о нем в противоположную от истины сторону. А «землеустройство» его заключалось в комиссионной торговле усадьбами и главным образом лесом. Письмо Е. С. Чижова штабс-капитану показалось подозрительным, и он постарался встретить Ефима Сидорыча в первый же день приезда. Вперив взгляд постоянно меняющих цвет глаз и шевеля своими белесыми и необычайно длинными ресницами, как бы ползущими на лоб, штабс-капитан напряженно спросил: «В Оренбургскую степь едете?» – «Зачем?» – «Ну, в Оренбургскую, не скрывайте». – «Да, зачем мне в Оренбургскую?» – спросил недоуменно Ефим Сидорыч. Жиленков с таким видом, как будто этим разговором и обижают и обманывают его, отошел и в нескольких шагах крикнул: «А домик я вам подыщу! Поезжайте, наживитесь, а я вам пока подыщу».
Ефим Сидорыч сразу же понял, как можно наживиться в Оренбургских степях. Многие торговцы пытались пригнать оттуда в центр табуны скота, но дорога скудная, скот мер… Но и баранки возить в Петроград столь же опасно, и нажива, как и все в жизни, зависит от счастья. Ефим Сидорыч и направился в Оренбургские степи, удачно и быстро пригнал оттуда жирный и гулкокопытный скот. И вновь деньги Ефима Сидорыча увеличились, но одновременно с деньгами увеличивалась революция. Уже скот, пригнанный из Оренбургских степей, ели недовольные солдаты на фронте; уже Ефима Сидорыча торопили в следующую поездку, дабы уговорить жирным мясом бунтующих солдат, но тут пришел к нему штабс-капитан Жиленков, и в то же время привезли в город великого князя Б., – как носились слухи, – претендента на русский престол. Жиленков заявил: в центре города есть особняк, вполне по чижовским деньгам, два каменных этажа с деревянными пристройками в виде голубя. «Как?» – спросил оторопело Ефим Сидорыч. И точно: когда Ефим Сидорыч осматривал особняк, то деревянные сараи чем-то напоминали распростертого голубя. А за сараем виднелось соседнее поместье: угрюмый, трехэтажный, похожий на тюрьму, с узкими окнами дом. Тощий березовый сад как-то болезненно разбегался от этого дома. И как только два таких различных дома могли стоять рядом! Особнячок, рекомендованный Жиленковым, был обсажен елочками; песчаные дорожки походили на полосы созревшей ржи, колеблемой ветром; трава пахла медом. Ефим Сидорыч купил особняк и окрасил его в зеленую краску. Тотчас же пришел Жиленков, к зеленой краске отнесшийся подозрительно. Жиленков сказал, что в уезде, в имении князя Хаванского, удрученного революцией, спешно за бесценок, продается мебель. Купили мебель, обили ее шелком, а обойщики заявили, что мебель старинная и ценная. Насмешливая удача преследовала Ефима Сидорыча; в другое время он бы никак, а тут сразу поверил обойщикам и попросил тетушку Катерину Петровну позвать штабс-капитана Жиленкова.
Жиленков сказал обидчиво, что Ефим Сидорыч, несомненно, знает, какую ценность представляла собою мебель, а впрочем обещал достать каталоги. По французским антикварным каталогам выяснилось, что мебель принадлежала брату Наполеона Первого и в Россию привезена в 1815 году, а стоит она… Жиленков от обиды и зависти даже зажмурился.
Катерина Петровна подыскала невесту – дочь местного адвоката Маркелла Маркеллыча Епич, Маничку Епич, такую невесту, какую хотел Ефим Сидорыч: семнадцатилетнюю, степенную и добросовестную. Катерина Петровна всю жизнь мучилась стыдом оттого, что жила на средства племянника; часто, глядя на опрятную бородку Ефима Сидорыча, хотела она сказать обиженно: «ухожу», а скажет совсем другое. Теперь Катерине Петровне казалось, что за хлеб как будто отплачено. Сам Маркелл Маркеллыч все время говорил, – и все время убедительно, а дочка Маничка все время молчала, – и это тоже было не менее убедительно. Семью Епичей уважал весь город, и семья уважала всех. Дела у адвоката были неважные; он с удовольствием отдавал дочь, тем более, что Ефим Сидорыч приданого не требовал. Утешаться бы Ефиму Сидорычу! Но беспокойство и новое желание овладело им, и беспокойство это охватило его на Соборной площади. А на Соборную площадь он попал вот почему.
Великий князь Б. вначале был поселен во дворце Строгановых, огромном, украшенном колоннадой здании, на Соборной площади2. Многочисленный караул из солдат и матросов охранял великого князя Б. В городе, а чаще всего на Соборной площади стали встречаться какие-то странные, тонкоте-лые офицеры с испуганными и в то же время наглыми лицами. Обыватели с гордостью гуляли по площади. И Варвара Петровна позвала сына и сестру погулять на Соборную площадь. У Варвары Петровны всю жизнь, с того дня, как подрос сын, было хотение слушать сына, а всегда происходило так, что слушаться его было невозможно. И даже в деле – важнейшем во всей жизни: в постройке или покупке дома – она считала, что сын поступил неправильно. Если город бунтует, то покупать дом надо в деревне! Старуха была выше сына на голову, с солдатским, решительным шагом и с такими же, как и у сына, серыми и настойчивыми глазами. Ефим Сидорыч политику презирал, на площадь он пошел с неохотой. Окна как бы вынутые из красного вина; плоская оловянного цвета крыша, похожая на серое облако; площадь, поросшая редкой и как бы чугунной травой, и воздух, в котором было слышно, как на дворе здания крякнул солдат, кидая ремень на булыжник, и как зазвенела пряжка; и колючая проволока, похожая на траву, – проволока, которой был обтянут фасад дворца, – все это как-то непонятно оживило Ефима Сидорыча. Подошел гулявший по площади Епич с дочкой. Епич познакомил Ефима Сидорыча с офицером, которого сразу как-то и не заметили, хотя он был и высок и плечист. Офицера звали Голофеевым Сергеем Сергеевичем; он некогда служил в гвардии, был монархистом, понимающим, что монархия гибнет, но не знающим, куда ему идти, и не верящим в людей. Его укоризненное и какое-то мертвое лицо кривилось, – так что смотреть ему в глаза было трудно и неприятно, а некоторым в разговоре с ним казалось, что они как бы разговаривают с мертвецом. Маркелл Маркеллыч заговорил о монархии и евреях. Он даже писал книгу о ритме Египта, в которой доказывал, что евреи погубили ритмический Египет, ибо они антиритмичны. Офицер Голофеев с безнадежной скукой смотрел в окна строгановского дворца. Темнело. Ефим Сидорыч пожал руку невесты. Она ему ответила. Ефим Сидорыч стал рассказывать о своем особняке. Все на него взглянули недоуменно, и он неожиданно предложил офицеру у себя квартиру. Офицер согласился. «Вот это герой!» – воскликнул Маркелл Маркеллыч, обнимая Ефима Сидорыча. «Я не герой, – ответил Ефим Сидорыч, – но признаю, чтобы поступки были немедленные». И все согласились с ним, понимая и не спрашивая, какие бывают поступки немедленные и после каких мыслей.
К великому князю назначили нового большевицкого комиссара. Комиссара этого звали Петров, Иван Григорьич, и у него был брат Семен Григорьич, председатель губернского совета. Комиссар Иван Петров настаивал на пленуме совета, что стыдно и агитационно нехорошо держать великого князя во дворце Строгановых. Великий князь теперь – обыватель, не больше других, да и вредный к тому же обыватель. Пленум совета согласился с доводами веснушчатого и короткорукого комиссара и постановил: перевести великого князя в более малое и менее требующее расходов от пролетарского государства помещение. И вот великого князя Б., грузного с бабьим голосом старика, перевели в трехэтажный дом, находящийся рядом с особняком Ефима Сидорыча. Ефиму Сидорычу было обидно видеть из окна своего особняка, как, входя в дом, великий князь снисходительно и, пожалуй, даже заискивающе разговаривал с большевицким комиссаром Петровым. Вечером Ефим Сидорыч, офицер Голофеев и будущий тесть Маркелл Маркеллыч, стояли у дверей балкона, с которого были видны окна, обтянутые колючей проволокой, – окна, где часто проплывал шатающийся силуэт великого князя. И Ефим Сидорыч первый пожалел, что балкон занесен снегом, и нельзя выйти и помахать великому князю белым платочком, да и к тому же белый платочек не виден на снегу. «Вы – ярый монархист! – снисходительно сказал Маркелл Маркеллыч, – вот не ожидал! А пора великому князю подумать и о повороте». – «Пора, пора», – повторил Ефим Сидорыч, и холодок восторга пронесся по его телу. Офицер Голофеев взглянул на него мертвыми, злыми глазами и отвернулся.
Из-за суматохи, пайков, приказов на заборах (а Маркелл Маркеллыч, кажется, потому, что надеялся на свадьбу и любовь Голофеева) Ефим Сидорыч соглашался на откладывание свадьбы. Да и к тому же он не особенно надеялся, что беспокойство, владевшее им, исчезнет. Теперь он уже сильно скорбел о монархии. Маркеллу Маркеллычу даже приходилось удерживать его скорбь. Комиссар Иван Петров опять степенно, потрясая длинными каторжными волосами, доказывал на пленуме совета, что в области заметна организация офицеров; военнопленные империалистической войны волнуются; нарастает контрреволюция, а великий князь Б. живет в громадном доме из тридцати комнат, в то время, как пролетариат заводов… Потрясая пустым и тусклым графином, комиссар завопил… Гул одобрения пронесся по залу губернаторского дома. Пленум согласился со словами комиссара Ивана Григорьевича Петрова.
И вот в теплый предвесенний вечер, когда на дворе играла снежная буря, больше похожая на дождь, и елки как бы проходили сквозь льдины, оставляя на своей хвое замороженные капли, – Ефим Сидорыч вместе со своей семьей и друзьями пил чай и слушал, как Маркелл Маркеллыч развивал ему план: через матросов можно провести большую партию муки в Петроград. Послышался робкий и короткий звонок: с таким звонком часто приходил Голофеев, приводя с собой приятелей, таких же, как он, мертвеннолицых, безнадежно-вежливых и неумело-переодетых. Ефим Сидорыч открыл дверь без спросу. Перед Ефимом Сидорычом стоял комиссар Иван Григорьевич Петров, дальше виднелись красногвардейцы и матросы с револьверами и бомбами. Комиссар не без удовольствия весело-деловитым голосом прочитал постановление пленума совета, из которого было видно, что совет признает жилищную площадь, занимаемую великим князем Б., огромной и дорогостоящей для пролетарского государства. Жилищную площадь эту он передает детскому дому, а великого князя переселяет в особняк, принадлежащий гражданину Е. С. Чижову.
– Как же меня выселять? – тихо сказал Ефим Сидорыч. – Меня не следует выселять, и, кроме того, у меня квартиранты!
– Вместе с квартирантами, – ответил комиссар. – Берите подушку и катитесь колбаской вместе с подозрительными вашими квартирантами.
– А мебель? – спросил Ефим Сидорыч.
– Мебель остается у коммуны! – ответил комиссар.
И Ефим Сидорыч взял подушку, одеяло и пошел спать к переплетчику Смирнову, по-прежнему живущему у кладбища. При расставании Маркелл Маркеллыч сочувственно поцеловал его, но в квартиру к себе не пригласил.
– Жизнь подле великого князя наложила на вас известные обязательства и известные подозрения, – сказал Маркелл Маркеллыч, – а у меня семья и дочь-невеста.
– Я вас понимаю, – ответил Ефим Сидорыч, и он действительно понимал Маркелл Маркеллыча, и ему даже на минуту стало жаль его.
Проснулся Ефим Сидорыч от вони и шипения подгоревшей картошки. В кухне разговаривали женщины. Старуха ворчала: «Надо было покупать дом в волости… И хоть бы отняли за долги!» Запах подгорелой картошки на мгновение даже обрадовал Ефима Сидорыча: он вспомнил начало своей любви к переплетчице. А теперь переплетчица растолстела, тело у нее ползет в стороны, и пахнет от нее нехорошо… Ефим Сидорыч озлился: «Донесли, позавидовали! Весь город завидовал наполеоновской мебели!., сколько разговоров было». И разговоры, и сожаления о великом князе, и то, что было жалко этого грузного старика, которого мучат, перетаскивая с места на место, а там, гляди, и судить будут – все показалось Ефиму Сидорычу вздорным и ненужным. Но он сразу раскаялся в своих мыслях и пошел есть картошку. Картошка была та же самая, которую он ел в особняке, но здесь показалась она ему невкусной и водянистой. Он подумал, что скоро придет переплетчица, которая начнет заигрывать с ним, а мать и тетушка деликатно уйдут. Затем переплетчица засопит, раскроет мокрый рот, похожий на луковицу. Он со злостью посмотрел на мать и крикнул: «А все ты!., все перечишь!.. Уходила бы ты от меня скорей». Мать громко и протяжно заплакала, и тетушка Катерина Петровна, вспомнив хлеба, которыми она себя попрекала, отложила вилку и тоже заплакала. «Нет, напрасно Ефим Сидорыч разговаривал о монархизме!..» Он сплюнул даже от таких мыслей.
На улице Ефим Сидорыч встретил офицера Голофеева. Голофеев шел в ту сторону, где жила невеста Ефима Сидорыча. «Отбивать пошел, обрадовался!» – подумал Ефим Сидорыч и не поклонился Голофееву. Тот сделал такое лицо, как будто пять лет назад знал, что Ефим Сидорыч его предаст, и выпрямил спину. Ефим Сидорыч быстро пошел в почтовое отделение, попросил бумаги, конверт и трясущейся влажной рукой написал донос в Чека. Опустив письмо в ящик, Ефим Сидорыч ощутил необычайный стыд и томление (вроде того, каким он страдал в Петрограде). Он поспешил написать заявление в исполком, чтобы ему выдали наполеоновскую мебель, как имеющую огромную «духовную» ценность. Ему стало как будто немного легче и, гуляя по городу, он убеждал себя, что поступил правильно – Голофееву терять нечего, поднимет восстание, а мертвых и без того хоть отбавляй. И у приятелей, что ходят к нему, тоже, небось, динамит в карманах. На другой день он пошел за ответом о мебели в исполком. На его длинной записке лежала резолюция – синим плохо очинённым карандашом: «Прс. гр-на Чижова оств. без последствий». И тут же он услышал об аресте Голофеева, и только тогда, когда узнал подробности ареста, он увидал, что рассказывающий – штабс-капитан Жиленков, уже в солдатской шинели и без погон. «Мебель моя представляет духовную ценность?» – спросил он Жиленкова. Тот подозрительно попятился и немедленно согласился. Ефиму Сидорычу было сильно грустно. Он пошел на обрыв, к пруду. Отсюда была видна Соборная площадь и дворец Строгановых. Во дворце находились уже военные большевицкие курсы. Через площадь шла Маничка Епич под руку с каким-то опрятно одетым солдатом. Ефим Сидорыч понял, что верит Маничке, и она верит ему, хотя он жених и пожилой и не совсем красивый. И она сразу же покинула кавалера, подошла к Ефиму Сидорычу, нежно пожала ему руку. Ефим Сидорыч отошел с ней в тень тополя, пожал ей локоток, хотя ему хотелось пожать грудки, а она так и поняла, что он ей сжал груди, потому что она стыдливо сказала шепотом: «Да что вы, Ефим Сидорыч». Маничка Епич умела очень искусно и молча сочувствовать людям, и те понимали, что она сочувствует им. Например, Ефим Сидорыч рассказывал ей об отнятой мебели, и она сочувственно добавила то, о чем забыл Ефим Сидорыч: «Сейчас мебель невозможно вывезти за границу, а ведь придет же время», – и добавление это к мыслям Ефима Сидорыча сильно умилило его. И кроме того, из разговоров он понял, что она действительно может быть верна, потому что не любит беспокойства.
Ночью Ефим Сидорыч написал письмо исполкому, где доказывал, что великого князя нечего переселять с места на место, а надо его вырвать с корнем, то есть расстрелять и расстрелять немедленно, ибо в городе организуются шайки офицеров и английских шпионов, и возможен переворот… Писал он искренно: иногда в трогательных местах, где он защищал права бедноты, слезы проступали у него на веках. Он вспомнил свое детство: и корки черного хлеба не было, а по толкучке когда скитался, видел, как там ели требушину за семь копеек порцию, – такой обед за счастье считал; ночевал на барке у пруда… мастера били колодками по рукам… в помещенье нестерпимо воняло мокрой кожей. И теперь он ввергнут в то же положение!.. И великий князь виноват тут тоже отчасти!.. Он хотел подписать своим именем, но раздумал и написал: «От имени пятидесяти рабочих – сапожников и шорников»… И дальше неразборчивые каракули. Ефим Сидорыч сам отнес свое заявление в исполком. На лестнице исполкома опять встретился Жиленков со звездой на солдатской фуражке. «Дают роту, – сказал он громко Ефиму Сидорычу в лицо. – Доносы на меня не помогают – верят». И Ефим Сидорыч ответил: «Да и я верю вам». Жиленков ехидно погрозил ему пальцем, тонким и длинным. Ефим Сидорыч три дня был наполнен ожиданием. Хотя он и не подписал адреса, но ему казалось, что вот-вот придут какие-то важные комиссары и поблагодарят его за превосходные мысли. Лицо его пылало, и он чувствовал сильную жажду. Спал он плохо и на третью ночь бессонницы пытался написать стихи: трехсотлетнее иго должно быть свергнуто, уничтожено! Но стихи не выходили, хотя внутри тела он ощущал трепетания, не похожие на все прежние трепетания, и к себе и к своей незадачливой жизни он чувствовал возрастающую жалость. Стихи он отнес в газету. Румяный секретарь бегло просмотрел и сказал: «Тысячи таких есть», – и подал ему номер газеты. Жирным шрифтом газета сообщала, что просьба Ефима Сидорыча о расстреле великого князя исполнена, и приговор приведен в исполнение. «Но ведь это же я! Я написал пожелание!» – крикнул Ефим Сидорыч спокойному секретарю. Е. С. Чижов, размахивая газетой, пронесся по лестнице. На крыльце губернаторского дома он сложил газету вчетверо таким образом, чтобы сообщение о расстреле можно было сразу прочесть, аккуратно оправил газету в кармане и подумал о подушке. Но мысль о подушке показалась ему смешной, и он торопливо пошел к своему особняку. Длинноногий красногвардеец в лаковых сапогах стоял у вороха колючей проволоки. Проволокой была обвита уже ограда особняка; телефонные нити были протянуты по елкам; красногвардеец на все это, казалось, смотрел с грустью. «Назад, – сказал он уныло. – Тебе кого?»
– Это мой дом и моя мебель, – ответил Ефим Сидорыч, доставая из кармана газету. Красногвардеец взглянул на газету, зевнул, глаза у него были сонные и голодные, и он неожиданно ласково сказал Ефиму Сидорычу, что здесь был великий князь, – верно, был и позавчера расстрелян, а теперь в этом особняке поселится с секретарями и штабом комиссар Петров. «Это который настаивал?» – спросил Ефим Сидорыч злорадно. Красногвардеец ответил: «Не. Брат. Который молчал. Семен Григорьич». Ефим Сидорыч не поверил красногвардейцу, сел подле дома на камушке. Вскоре приехал на машине комиссар Семен Петров – веселый, плечистый, с охотничьей собакой на коленях. И стража и комендант дома особенно ласково смотрели на рыжую собаку. Красногвардеец-часовой что-то сказал комиссару, тот посмотрел в сторону Ефима Сидорыча, пошел даже к нему с радостным и добрым лицом, но на полдороге вернулся и, посвистывая, ушел в дом. Собака прыгала вокруг него, и даже слышен был ее веселый визг и прыжки в доме. Ефим Сидорыч сказал возмущенно красногвардейцу: «Я даже дома не прошу, отдайте мне мебель! Я же способствовал уничтожению великого князя. Я же им предложил…» Красногвардеец вдруг лениво вскинул ружье на руку: «А мне, дяденька, надоело на тебя смотреть. Ты вот сидишь, а я в тебя и в сидячего палить буду…» Ефим Сидорыч перекрестился и медленно отошел от своего дома. В совете ему сказали, что вопрос о мебели по-прежнему остается открытым. Вечером Ефим Сидорыч пил у Маркелл Маркеллыча чай.
– Я поддерживал эту власть, – воскликнул Ефим Сидорыч, – через все возражения друзей и родных поддерживал. А что получил?
Маркеллу Маркеллычу хотелось говорить; он открыл рот, но Ефим Сидорыч поднес к его лицу чашку с чаем и прокричал:
– Вы даже чай мне из ненависти жидкий налили! Я поступок Жиленкова одобрил. Я расстрел великого князя одобрил…
– Бодро держался, говорят… – задумчиво глядя на чай Ефима Сидорыча, сказал Маркелл Маркеллыч.
– Жиленков – патриот и офицер, а в Красной армии?.. Какая ему польза?
– Бодро держался при расстреле, – вдруг громко, глядя в лицо Ефиму Сидорычу, сказал адвокат.
Ефим Сидорыч растерянно улыбнулся.
– Бог ему судья.
– Бог ли? – завопил адвокат, и лоб у него стал багровый и потный.
Ефим Сидорыч встал, отодвинул чашку и резко сказал:
– Я виноват, каюсь. Старика убили зря. Но и вам, Маркелл Маркеллыч, вашего крика простить я не могу.
И Ефим Сидорыч ушел и от своей невесты, и от своего будущего тестя и, переходя двор, пустынный, некогда наполненный птицей, зерном и навозом, чувствовал в себе огромный стыд и смятение.
Ефим Сидорыч часто ходил за справками из новых законов в исполком. Он долго вчитывался в законы, выписывал их себе на листок, а оттуда в заявления о передаче ему мебели. Едва сдав заявление, он вспоминал о том, что на его мебели лежат с сапогами красногвардейцы, комиссар удало стряхивает пепел на шелк его, Ефима Сидорыча, диванов – и составлял новое заявление. И каждый раз доводы, приводимые им, казались ему все убедительнее и убедительнее. Наступила весна и лето и осень; проходили по губернии и области мятежи, восстания и продразверстки; комиссар Петров обзавелся новой машиной, съездил на польскую войну3 и привез оттуда веселую и высокогрудую жену; жена принесла ему вскорости девочку. Ефим Сидорыч проходил мимо особняка, – там справляли рождение, хохотали и пили водку. Ефим Сидорыч забыл уже, какого цвета шелк на диванах и креслах, и только малиновый сафьян кабинета остался у него в памяти, и то только потому, что исполкомовский сторож вдруг появился в малиновых сафьяновых туфлях. И запах и рисунок кожи были знакомы Ефиму Сидорычу. «С дивана сорвали, что ли?» – спросил он сторожа. «Не знаю откуда, – ответил сторож, – только мне председатель подарил туфли». Пришел голод, и во время голода Варвара Петровна впервые в жизни исполнила желание сына – ушла от него. Хоронили ее осенью, могилу копал сам Ефим Сидорыч, а закапывать – вдруг руки ослабели!.. Он взглянул на свои руки: они стали морщинисты до неузнаваемости, и желтая краска сапожного мастерства залила теперь даже тыл ладоней. Ефиму Сидорычу стало жаль не себя, а старости и смерти матери своей, а затем стало жаль и старости Катерины Петровны, тетки, и зачем-то вдруг вспомнился расстрелянный Голофеев и недавно приехавший с войны Жиленков, все такой же подозрительный и напуганный, хотя он теперь заслуженный красный офицер. Жиленков работал по искусству: сооружал городской музей… Ефим Сидорыч, вернувшись с похорон, долго писал (как и десяток раньше, так и десяток позже) донос на дела и безделья комиссара области Семена Петрова. Сдав донос, он – многие годы уже так – ощущал себя непоколебимо твердым – «правым» (он так и думал «правым», уже не зная, в чем заключается его правизна: в монархизме ли, в буржуазной ли республике, или во власти вообще, а может быть, вообще в торжестве злости), и тогда он шел к Маркеллу Маркеллычу. Они уже давно помирились. Маничка Епич была по-прежнему верна Ефиму Сидорычу, – возможно оттого, что женихов не было. Случился какой-то комиссар-жених, но прошел непонятно-позорный слух про Маничку – и схлынули женихи. Она похудела было, но выправилась быстро и начала опять ждать Ефима Сидорыча. Маркелл Маркеллыч стал правозаступником и в важные минуты любит говорить, обращаясь к судьям: «Ваше пролетарское самосознание должно идти в ритме эпохи. Вот смотрите: Египет»… Жиленков был уже заведующим-хранителем музея и экспертом по отнятым ценностям. Подмигивая и прихихикивая, принес он к Ефиму Сидорычу документик, из которого явствовало, что «наполеоновскую» мебель Е. С. Чижов купил на трудовые свои деньги, ценности она не представляет, и люди, сведущие в искусстве, не возражали бы против возврата оной «наполеоновской», якобы, мебели ее владельцу. Маркелл Маркеллыч добыл такую же бумажку от профсоюза; а позже, когда Ефим Сидорыч поступил в кооперацию, и кооперация подтвердила ходатайства и людей искусства, и людей профсоюзной работы. Ефим Сидорыч смотрел на жизнь комиссара С. Г. Петрова – невеселая у него была жизнь! Комиссар, видимо, скучал: много пил, поигрывал 3 карты и пел по утрам военные песни. Голос у него становился все хриплее и хриплее, и собой комиссар грузнел, и не было в нем уже той прыткости, когда он, захлопнув калитку, бежал к жене. Да и жена заметно постарела: щеки у нее обвисли, и она начала носить капоты и перестала вспоминать о Польше…
И вот однажды произошло так, что комиссар по пьяному делу обругал ночью рабочих, работающих на прокладке водопровода. Ефим Сидорыч донес. Раньше, несколько лет назад, он доносил только на то, что он точно знал о комиссаре, а теперь он писал о любом слухе! Уважение и страх к власти исчезали; он видел, что эту власть можно обмануть так же, как он обманывал раньше учреждения или торговцев. Комиссара вызвали в партийный суд (неизвестно, из-за рабочих ли, а болтали – по оппозиционному делу)4; и отправился комиссар на Север! Уехал он бесславно, и секретари и многие собутыльники покинули его. Исполкомовский сторож в истертых сафьяновых туфлях пришел провожать комиссара Петрова. Особняк пустовал два дня, а на третий к железной ограде его подъехали две подводы, – Ефим Сидорыч и его невеста сидели на них! Исполкомовский чиновник открыл двери: «Да, конечно, обивку на мебели необходимо переменить, но особенно большой реставрации от мебели не требуется». Жиленков поздравил молча Ефима Сидорыча, и молча же стоял он у загса, куда пошли записать свою удачу Ефим С. Чижов и М. Епич. Затем молодожены, пригласив на свадьбу к себе, в волость, выехали на большую дорогу, за город. Маркелл Маркеллыч со слезами смотрел им вслед и, когда возы и таратайка с молодыми исчезли из глаз, обернулся к Жиленкову: «Стареем», – сказал Маркелл Маркеллыч со вздохом. Жиленков посмотрел на него со злостью и с подозрением, а затем испуганно и любезно улыбнулся.
Утром Ефим Сидорыч проснулся раньше всех. Он раскрыл окно. Перед ним была волостная площадь, и громадная желтая вывеска кооператива, в котором он служил, сияла росой и веселым солнцем. Он обернулся: пышная, украшенная бронзой, завитушками, заморским деревом, шелестя шелками и шнурами, мебель заполняла все комнаты. За перегородкой спала верная жена – ее ровное дыхание было солидно и хозяйственно, она имела право так спать потому, что честно, через многие испытания пронесла свою верность. Ефим Сидорыч достал из шкафчика малиновое варенье. На крыльце Катерина Петровна ставила самовар. Ефим Сидорыч пил чай, – стакан за стаканом, – и смотрел на великолепную дорогу, ведущую к волости. Темная пыль была похожа на шелк, который так необходим для мебели и для счастья! Сердце Ефима Сидорыча было наполнено спокойным торжественным ожиданием. За окном, шепелявя, пело дерево, и птицы молча носились среди ветвей, неслышно перебирая теплыми и пушистыми крыльями.
Подвиг Алексея Чемоданова*
Это произошло осенью тысяча девятьсот двадцатого года в степях подле Астрахани в долине, которая называется Огород богородицы.
Перед отъездом из Москвы и в приволжском городке Н. командир Н–ского стрелкового полка Алексей Митрофанович Чемоданов много пил, играл в карты и встречался с ненужными и противными женщинами. Алексей Чемоданов собой был хорош, весел той беспокойной веселостью, которая так нравится людям, ибо в ней люди всегда видят униженность. И в поезде, медленно катящемся по уральским степям, опять пили самогон, денатурат и бражку. Чемоданов хохотал, рассказывал приобретенные в командировке анекдоты, и чем дальше поезд уходил в степь, и чем чаще появлялась в вагоне охрана, и чем больше было разговоров о бандитах и казаках, – тем беспокойнее и шумнее чувствовал себя Чемоданов. Пили что ли чересчур много, – в голове постоянно ныло, а в горле стояла слизистая дрожь, которую никак не удавалось выплюнуть. В Олонках (от которых по всем расчетам оставалось не больше дня пути до станции Наньей, где стоял полк Чемоданова) поезд задержался и Чемоданов вышел погулять. Он вспомнил, что год тому назад полк проходил через Олонки, и от всего города Олонки в памяти осталась только вывеска над булочной в виде огромного кренделя. Станция заполнена народом. Степь за городком самодовольная и тускло-желтая. Твердый и самодовольный ветер нес из степи крупный песок, и песок этот с легким звоном бил о рельсы. Сразу же за паровозом начинался этот легкий звон, и паровоз стоял растерянный, грязный, тупой. Чемоданов повернул к станции. Старуха, повязанная розовым полушалком, предложила ему шепотом самогона. «Пьяная у меня морда, что ли?» – с удалым и привычным беспокойством подумал Чемоданов. Лицо старухи показалось ему знакомым. Он пригляделся и вспомнил, что в Москве, уходя пьяным от приятеля, на лестнице он встретил молодую женщину, повязанную полушалком, тоже, кажется, розовым. Было уже утро. Женщина держала в руке большой мешок из дерюги. Она пропустила Чемоданова, а ему вдруг захотелось с ней поговорить. Он догнал ее и, наверное, оттого, что лицо ее было несколько похоже на цыганское, предложил ей погадать. Она предложению этому не удивилась и, раскинув мешок на ступеньках, достала засаленные карты. Она говорила: Чемоданов проживет долго; ему предстоит увидеть много счастья; многочисленная семья ожидает его! Голос у нее был тоскливый, и по всему можно было понять, что она желает и видит в жизни людей то, чего не хватает у нее самой. И чем больше слушал ее Чемоданов, тем яснее становилось, что она крепко верит тому, что говорит, завидуя чужому счастью. И гадает она всем с такой охотой, дабы позлорадствовать! Чемоданов положил руку на бубнового туза и сказал, глядя в лицо женщине: «Утопишься ты сегодня, известно тебе это, ба-аба?». Женщина медленно стала собирать карты. Чемоданову стало жаль ее и стало стыдно от своего желания унизить человека и оттого, что руку лихо положил на бубнового туза. Затем подумалось: ведь и на самом деле – возьмет да утопится! Но женщина не обиделась, взяла мелочь, сказала, что утро жаркое, и ушла. И, когда она подымалась по лестнице, Чемоданов подумал, что все движения ее говорят о том, что ничего ей удивительного на свете нет; все она исполнила; все понимает. И жалость его исчезла. И теперь старуха, повязанная розовым полушалком, была с таким усталым же лицом, как и у той женщины, гадавшей на картах, и Чемоданов спросил то, что он и не посмел и не успел спросить:
– А что, бабка, все уже сделано, а?
– Все, родной, – ответила старуха.
– Помирать надо, а?
– Ну, вот, скоро и помрем.
И тогда Чемоданов быстро пошел в свой вагон, взял вещевой мешок, дождался, пока поезд не отошел, и затем направился в город. Здесь, совершенно уверенный, что его в Олонках хорошо знают, он явился в военкомат, и ему, точно, обрадовались. Лысый писарь, страдающий восторженной любовью к героям, торопливо выписал ему ордер на комнату. Хозяйка встретила его подобострастно. То чувство, которое овладело им после слов старухи, а именно: сейчас, немедленно же надо продумать и решить, ради чего он жил, пьянствовал, обижал людей и самого себя обижал, – уныло тревожило его. И даже словами надо думать не такими простыми, а как-то… Он спросил самоварчик, заварил чай: морковный, густой. Чай обладал удивительными запахами простой семейной жизни – Чемоданов лил его в синенькое блюдечко. Тревога овладевала им все больше и больше. Он с трудом допил чай. За окном на форточку сел голубь и, туго шурша, перебирал (розовым от закатывающегося солнца) клювом перья крыла. За дощатой перегородкой соседи, актеры, должно быть, разучивали роли из какой-то необычайно революционной пьесы. «Каким же надо быть чудаком, – подумал Чемоданов, – чтобы верить, что революция может свершаться по таким словам, а главное – аккуратно записывать эти слова на бумагу, печатать…» Усердие и уверенность звучали в голосах актеров настолько, что Чемоданову захотелось их видеть. Но не для разговоров с актерами он сюда приехал! Он схватил фуражку, вышел. Городок казался необычайно пустынным. Собаки смотрели на него испуганно, молча. На песчаных коричневых холмах за городком безмолвно торчали три мельницы. Украшенная жесткой желтой травой дорога огибала мельницы. Несколько парочек шло по этой дороге. Чемоданов поднялся вслед за идущими на холм. Большой луг, поросший по краям мелким и сухим лесом, открылся его глазам. Дальше речушка в трескучих камышах и песчаных отмелях заканчивала луг, и за нею рыжая степь простирала свои огромные крылья. Дорога свернула к лесу – болезненно искривленному, сухому, вызывающему мысли о пожаре. Парочки торопливо углубились в лес. Мещанин в короткополом пиджаке, седой с безумными глазами навыкате, обогнал Чемоданова. «Ишь, старик, а туда же, – презрительно подумал Чемоданов, – нашли, где зачинать детей. Любовь! Вешаться в таком лесу, а не любить». У дороги он увидал плотный забор из досок. Обогнавший его старичок мещанин смотрел в щель. Плечи мещанина, похожие на неумело стянутые узлы, вздрагивали. «Убивают, что ли, кого?» – лениво подумал Чемоданов, протягивая руку к кобуре. Старичок обернулся. Выпуклые глаза его уставились торжественно на Чемоданова. Старичок указал на щель рядом с собою. Чемоданов подошел. Должно быть, раньше во дворе были дровяные склады. Кое-где валялись бревна, рассыпанные поленницы шелковисто сверкали берестой. Под широким тополем он с трудом разглядел сторожку. «Начинается…» – прошептал мещанин. От ветвей тополя в сторожке, наверное, было темно. Длинный и синеватый свет спички скользнул над столом. Голова гитары, чем-то похожая на разверстую пасть щуки, отодвинулась от огня лампы. Низкий, несказанно тоскливый, мужской голос запел. Чемоданов отошел, поправил кобуру, сделал было несколько шагов. Голос повышался все выше, выше. Песчаная дорога мертвенно бледнела. Чемоданов вернулся к забору.
По ту сторону стола лампа освещала часть лица старушки, скорбный и сухой подбородок, тощую руку, вязавшую чулок. Рука эта была в бумажной перчатке с рваными пальцами. И перчатку, и эту руку Чемоданов разглядывал потому, что ему тяжело было смотреть на громадный пухлый рот и неподвижное белое лицо певца. Один рот лишь ясно выражал то отчаяние и страдание, которым была наполнена песня. Рот сжимался в бешеных судорогах. Он выпускал слова. Метался над столом, как бы ловя эти слова обратно! Наконец схватывал их и – выкидывал в долгом и тяжелом вое. Вот этот-то вой и заставил вернуться Чемоданова. Когда вой оканчивался, одно мгновение смятение озаряло лицо поющего, и это-то смятение только и напоминало людям, что поющий – женщина. И еще следы смятения, молнию любви; ужас тела, охваченного любовью, нескончаемой любовью, увидел Чемоданов на лице мещанина с выпуклыми глазами. «Старуха-то, старуха-то не чует, что ли?» – туманно подумал Чемоданов, и тотчас же знакомая слизкая дрожь заполнила его горло, опять заныла голова, и мещанин стал ему несдержимо противен. Мещанин же бормотал ему в лицо:
– Третью неделю поет, гражданин! Старуха белье распродает, которое осталось, да варежки вяжет на армию. Белье тоже на картошку меняют, кормит ее, а она поет.
– С голоду поет, – не понимаешь?
– И с голоду, и со всего дурного. Всю ночь напролет поет. К полуночи-то у забора все горожане сбираются, на цыпочках. А она думает – пустыня, лес; никто не слышит, старуха-то глухая. Вот и поет.
– Дура, оттого и поет!
– Согласен с вами. Все же и тоска. Жениха, что ли, у ней повесили, али убили, али другую полюбил? Как вы думаете? Земля тесная, – куда со своей тоской деваться? Третью неделю поет и на моих глазах сохнет. Лицо-то все белей и белей.
– Мажется, вот и белей. Актриса будет. Актриса из нее получится, оттого и поет. Нельзя иначе по другой причине так петь, – понял?
– Кабы не такая жизнь да кабы не картошка, может быть, и вышла бы актриса, гражданин. А теперь еще недельку, самое крайнее – две, попоет и сдохнет. И как же быть иначе, гражданин? Судите сами хоть бы и со мной…
Чемоданов уже был на дороге. Об актрисе он сказал больше для старичка, чем для себя. Пускай старичок думает, что человек с револьвером остановился в городе не для того, чтобы слушать, как сходящая с ума баба поет. Любовь солдата должна быть быстрой, веселой и немедленной. Он остановился:
– Как ее зовут-то?
– А Христиной Васильевной зовут, – отозвался мещанин.
Н–ский полк, стоявший на станции Наньей, в отсутствие командира заметно поредел. Тиф, дезертирство. В полку было не более трехсот человек. Казаки готовятся к наступлению. На юге в степи видны зарева; крестьяне опять не подвозят фуража; пополнений нет, а штаб дивизии требует, чтобы полк готовился к выступлению на казаков. Посылали конную разведку, а она попала в Огород богородицы…
– Куда, в какой огород? – недоуменно спросил Чемоданов.
Заместитель и комроты первой, Игнатий Луба, лобастый, кривоногий, с маленькими желтыми глазами, всегда смотрел вбок, и даже когда он говорил правду, – а он ее всегда старался говорить, – все же казалось, что он лжет и скрывает что-то необычайно важное. И, как все в полку, Чемоданов мало доверял Лубе. Чемоданову хотелось упрекнуть Лубу в разгильдяйстве, распущенности, но после долгой дороги надо выспаться, выпить молока, а если начать разговаривать, то Луба потребует перенести вопрос и на ячейку, и в бригаду. Утро было свежее, звонкое. У сарая из длинных корыт кони ели мешанку. Толстые воробьи носились над гривами. А в сарае жеребята тонко стучали копытами, ржали и путались в арканах. Луба гикнул, жеребята примолкли, и он сказал:
– Солдаты наши не устоявшиеся – не разберешь, что у них на уме. Я сам в разведку поехал. А какие мы на коне вояки? Сам знаешь! Нам перед казаками устоять трудно, – вот если к штыку моему казака подогнать, я тогда увижу его слезу, – это правда. Ну, и погнали казаки мою разведку и меня в том числе. День и ночь, целые сутки гнали. Двоих моих убили, а один, Митька Смолых, от раны да от жары с ума сошел. Выгнали нас в долинку такую, называется чудно, верно, Огород богородицы, – там, видишь, колодец, и не то тебе пещерка, не то яма имеется, а вокруг богородская трава растет и дыня одичалая. Кто их знает, – и на самом деле какой-нибудь пустынник проживал и рассаживал огород!
– Нам это ни к чему, одни глупости. Пулемет бы захватили!
– И пулемет был, да патроны все порастрясли. Митька при последних и сошел. Вот какие дела… Прибегаем в эту долинку, в Огородик этот. Митька нам дорогу до этого указывал, а как увидал: пулемет пустой да долина эта перед ним, пал на колени и давал богу молиться. Вот и оказались мы из-за него в незнаемом месте, а кроме того, пески подули. Казак с песком подойдет неслышно, – а куда нам в пески от казака бежать? Стоим и ждем.
– Окопались, по крайней мере?
– Окопались. Стоим и ждем. А тут кони ржать начали, сначала один, а потом другой. К чему бы, думаем? Оказывается, трех кобылиц взяли, а они, видишь, по ребятам скучают, а ребята-то ихние при станции остались, в сарайчике. Так вот мы подумали, посоветовались, да и кобылиц-то вперед и пустили на свободной узде. Вот они материнским сердцем и пошли. Прямо через пески идут и идут. Поржут легонечко так, ниточкой, вроде между собой переговорят, и дальше…
– Компас надо иметь, а не кобыл. Вообще к жизни надо математичнее относиться, – сказал Чемоданов и сразу же понял, что сказал не то, что должен и мог бы сказать. И он тотчас же рассказал Лубе о Христине Васильевне. Рассказ этот получился глупый, бессмысленный и даже смешной, хотя и можно было рассказать очень смешно, как женщина в тоске поет густым-густым баритоном перед глухой старухой и горожанами, прячущимися за забором. Луба сказал, что с немцами происходят и не такие чудные вещи. И на этом весь разговор кончился. Чемоданов пошел спать. Выспаться ему не удалось: из бригады прискакал нарочный с пакетом, в котором приказывали немедленно сниматься и идти в степь на казаков. Видимо, в бригаде только и ждали приезда Чемоданова, и это понять ему было и лестно и неприятно. Особенно неприятно было потому, что все время его преследовала мысль (пустяковая и неправдоподобная, но в которую хотелось верить), что вот даже и в том, что Чемоданову не дали выспаться, есть какая-то скрытая каверза Лубы. Красноармейцы плевались, шоркали ногами, запах сонного тела шел от шинелей. Чемоданов с намеренно громким хохотом вскочил на коня; выругался трехэтажным ругательством, – красноармейцы захохотали, сразу стало веселей, и Чемоданов спросил: «Жеребят оставили?» И тогда Луба отозвался: жеребята идут с полком, но полк-то, видно, опять пойдет Огородом богородицы, да и для казаков-то больно уж там хороша позиция. Чемоданов догнал Лубу и опять начал рассказывать о Христине Васильевне и об городе Олонки. И опять получалось, что Луба понимает Олонки по-своему. Он думает: Чемоданов потому заезжал в Олонки – жалко ему Христины Васильевны; любит он ее и тоскует по ней, и, наверное, старая эта любовь у него. Луба недовольно и даже презрительно мычал. И только помкомроты первой, белобрысый и весь пухлый Афанасий Леонтьич, сочувственно сказал Чемоданову: «Вам необходимо было б пожить денька три там». «Действительно, – подумал Чемоданов, – если б пожить в Олонках несколько дней…» Но что он мог придумать, с кем бы он мог поговорить? Полк шел мимо ряда песчаных и скучных холмов. Светало. Небо было серенькое, тепленькое, чем-то похожее на развернутые крылышки. Вот у наседки под крылышками, наверное, так же тепло и так же противно ждать, когда нападет ястреб. Лица людей были наполнены утомленной бодростью, тем выражением, которое приобретается привычкой к войне. Они просто и по-своему понимают войну, а сам Чемоданов…
Чемоданов засвистал. Луба взглянул на него с одобрением; кривые ноги его заковыляли быстрей. Хриплый голос из рядов солдат хватил песню. Рота гаркнула. Чемоданов размахивал руками, кричал, вертел нагайкой, – у него было бледное и бешеное лицо. Полк сухими, срывающимися голосами ревел сильней и сильней!
К вечеру полк остановился перед долиной, которая называлась Огород богородицы. Тотчас же напали казаки. И напали они так, как ожидали все: то есть из-за холма с пиками наперевес выскочат лохматые люди в странных папахах, низенькие иноходцы зарябят по песку. Нет, цепь солдат в фуражках со скатанными шинелями за плечами мелькнула на большом холме, похожем на верблюжий горб. Обрывок резкой команды донесся по ветру. Казаки открыли правильный, систематический огонь, и, услышав этот огонь, Чемоданов сразу почувствовал, как в горле отхлынула и исчезла слизистая дрожь; прояснилась голова, и на мгновение он как бы почувствовал в руках руль огромной машины, который он повернул и остановить который ему и не в силах, да и нужно ли? Он пристально посмотрел в долину. И только теперь ему стало действительно смешно и непонятно – как можно было эту долину назвать Огородом богородицы. Хороша же богородица, если у ней такие огороды! Небольшой овраг со следами дождевого потока пересекал долину. Еще можно было, напрягая зрение, разглядеть следы конских подков на глине оврага. По этому оврагу, наверное, бежали кобылицы. Чемоданов приказал открыть пулеметный огонь. Биение громадной и в то же время неслышной машины все сильнее и сильнее отдавалось в его теле. Временами он приказывал прерывать огонь, прислушивался, махал рукой – пулеметы опять взвывали. И когда биение громадной машины высушило глотку и глаза начали ныть, требуя влаги, Чемоданов скомандовал цепями двинуться на холм, похожий на верблюжий горб. И он правильно себя понял: казаки побежали. Верблюжий горб господствовал над долиной. Солдаты вкатили на горб пулеметы. Первая рота во главе с Лубой кинулась преследовать казаков. В долине сильно стемнело, но все же можно было разглядеть, как исполнительный Луба твердо и верно ведет вперед свою роту. Казаки оставили на холме несколько кошемных вьюков. Чемоданов сидел на одном из вьюков.
Руки Чемоданова тряслись. Пулеметчики напряженно смотрели в долину. И здесь произошло то, чего не предполагал Чемоданов: казаки поняли, что, покинув верблюжий горб, они должны признать себя разбитыми. Они остановились. И опять биение огромной машины почувствовал Чемоданов. И опять, даже не глядя в долину, он понял, что первая рота повернула, бежит. И впереди роты бежит Игнатий Луба! Вот где сказались его косые глаза! Чемоданов прикрыл ладонью лоб. Рука у него была мокрая. Пуля пробила ему плечо. Тихая, какая-то конфетная сладкая боль ползла от плеча к хребту. В висках звенели желтые круги. Но биение машины неустанно продолжало властвовать над всем его телом. Растерянные и усталые красноармейцы лезли на верблюжий горб. Гиканье преследователей слышалось поблизости. Чемоданов расстегнул кобуру и достал наган. Он хотел подняться, но поскользнулся, упал. И с земли уже он крикнул, чтобы его положили на вьюк и вынесли перед пулеметами. Афанасий Леонтьич подскочил к нему. «Неси, курва!» – сказал Чемоданов, поднимая наган. Афанасий Леонтьич испуганно схватился за кошму. Красноармеец с простреленной глоткой упал перед ними. Он корчился, хватал руками богородскую траву. Лобастое лицо Лубы, грязное, потное, показалось перед Чемодановым. Луба смотрел на него растерянно. На лбу у него была красная полоса от снятой шапки. Чемоданову стало на мгновение жалко и противно его видеть. Он хотел было сказать: «Ты куда, Игнашка, побежал? И чего тебе бежать? Убей меня раньше», – но мушка нагана уже скользнула перед глазом. Луба упал. Рота его остановилась.
«Цепью, вперед!» – сказал Чемоданов. Ему показалось, что он крикнул необычайно громко. Помкомроты Афанасий Леонтьич еще громче повторил его приказ. И трепет, и ровный ход огромной машины опять овладел телом Чемоданова. Он уже ничего не видел, но знал и радовался, что солдаты идут и идут! Пулеметы за его спиной наполнены необычайно ровной и спокойной работой. Его на вьюке подымают все выше и выше! Казаки бегут! Винтовки их смолкают, и чувство необычайно веселой сонливости овладевает им. Он понимает все и теперь только может рассказать без всякой лжи и путаницы всю правду о себе. Но ему смешно, и сон мешает ему рассказывать…
Чемоданов умер, и те трое, которые вынесли его на кошме к краю холма, тоже умерли. Их схоронили неподалеку от верблюжьего горба. Казаки бежали. Командование принял Афанасий Леонтьич. Утром полк двинулся громить станицы.
Этим закончился подвиг Алексея Чемоданова в степях подле Астрахани в долине, которая называется Огород богородицы.
Гибель Железной*
В доме, где находился штаб Железной дивизии, от прежних хозяев осталось только тусклое зеркало в передней и в коридоре подле «зала заседаний» портрет какого-то кроткого с тонкими усиками человечка. К утру, когда в штабе утихала суматоха, с чердака слазил горбатенький и необыкновенно противный старичок в засаленной жилетке. Старичок бродил по саду, кряхтел, бранился злым и тонким голоском. Он долго стоял у ограды, напряженно прислушиваясь. Ясно, что слушать он только мог одно: когда поляки ворвутся в город1, опрокинут осадное положение и восторженная сволочь помчится, размахивая белыми флагами по улицам!
– Прислушивается, – сказал Плешко. Облупленная краска на переплете рамы из синей стала вдруг мутно-красной: последние дни Плешко мало спал, и только мгновениями сон теплой пеленой проходил по его глазам. Плешко вытер веки. Старичок ковылял вдоль ограды. Из сада в комнату несло весенним утренним теплом. – Обыватель прислушивается к тревожным слухам. Падет Житомир2, товарищ Мицура!
Командир бригады Филипп Степаныч Мицура, низенький, широкогрудый человек с желтыми обкусанными усами, тоже смотрел на старичка. Мицура был горд, всегда самодовольно улыбался и прославился необычайной речистостью. В колчаковщину он прошел со своим отрядом через Урянхайские дебри3, Монголию и вышел к Владивостоку. Железная дивизия была им сформирована из сибирских партизан. Родная волость вышила ему красное знамя.
– Обывателя можно убрать, Ипполит Егорыч. Легче всего убрать обывателя. А только он вот ходит, ворчит и ворчит ведь тогда, когда думает, в штабе-то все спят, не видят его, а нам на него смотреть смешно. Ты вот пикаешь, а я вижу и могу тебя всегда прищемить, старичок почтенный!
– Я не интересуюсь прищемлением обывателя. Время, видимо, требует других интересов. Предлагаю мобилизовать в городе все, что можно.
– Сапог-то на ноге у него как квашня. А ведь поди ты – кроткий и безболезненный человек был.
– Кто?
– Я все про обывателя. В саду который. Портрет в коридоре висит. В молодости, видно, был кроток. Наши ребята все перепортили, а портрет оставили – очень, говорят, морда тихая. А вот он теперь понимает, днем не выходит: морда стала другая…
Плешко повернулся спиной к окну. Мицура понял его движение по-своему и сказал, что приказано увеличить патрули. На минуту лицо его стало тревожным. Еще поздно ночью Мицура вызвал Плешко с крестьянской конференции4, а сказал он то, что Плешко сам давно знал: фронт, занимаемый дивизией, растянулся на восемьдесят верст! Пополнения не приходят! Всю зиму свирепствовал тиф, и некоторые полки насчитывают по сотне бойцов. Похоже на то, что среди партизан – железных великих бойцов – появились дезертиры. Конечно, Мицура не верит, что у него могут быть дезертиры, но человеческие слабости трудно учитываемы. Мицура покачивался на стуле и медленно крутил папиросы.
– Политотдел примет все меры, – сказал Плешко. – Думаешь ты грузить эшелоны имуществом дивизии?
– А их уже грузят. Спешным порядком. Имущество-то будто сажа – кверху корнем растет. Имущество, Ипполит Егорыч, впереди человека всегда бежит. – Он долго рылся в карманах и достал, наконец, желтую записную книжку. Внутри было несколько скрепленных никелем листков, серый карандаш. – Вот тоже имущество! Офицера одного польского пощадили, зверь был, собака. Ноги нам от радости лизал и вот книжку мне сунул. Запишешь на бумаге, а когда не надо записанного, смоешь и опять пиши заново. Всего-то пять листиков, а на всю жизнь хватит. Мне бы сейчас на охоту сходить, Ипполит Егорыч, пока срок не вышел. А что мне с записной книжкой возиться, на кой мне леший польская записная книжка?
Мицура и сам понимал, что говорит не то, что нужно. Низкорослый, с морщинистыми узенькими глазами Ипполит Плешко, начальник политического отдела дивизии, вежливо сидел перед ним и усиленно старался понять, чего же хочет Мицура. Глаза у Плешко красные, усталые и словно бы раздраженные. В штабе говорили, что всего неделю назад, как его бросила жена. Ушла с каким-то венгерским коммунистом. А Плешко ее любил и два месяца ждал ее в гости, в Житомир.
– Продай книжку, – напряженно улыбаясь, сказал Плешко.
– Купи, – тихо ответил Мицура. – У тебя, сказывают, с женой неблагополучно?
– Ты чего, за этим меня с конференции и вызвал? Город надо защищать, а не жен. Твои предложения какие?
– А вот сейчас представители учреждений явятся. Ревтрибунал. Особый отдел5… Мои предложения – приготовиться на всякий случай, вот какие мои предложения. Сколько даешь за книжку?
– А ну тебя!
– Дарю. Вон в стакане вода: смой и пиши в нее все заново. Я в нее сны записывал.
– Зачем тебе сны нужны, Мицура?
– А тебе известно, что я во сне вижу. Всего вероятней, парень, что во сне я вижу самую замечательную жизнь. Так ты смой мои сны к чертовой матери, Ипполит Егорыч.
К восьми часам утра двадцать шестого апреля получено было сообщение, что поляки разгромили бригаду Второва. Курс советских денег упал на пятьдесят процентов6. День был влажный и ветреный. На постоялом дворе мещанина Грубина, по предложению Плешко, собрались крестьянские работники политотдела. Хозяин разбирал соломенную крышу амбара – сено у него было конфисковано, из коней уцелела дряхлая кляча. Клячу эту Грубин кормил больше для хлопот, чтоб не тосковать. Тонкие вилы сверкали в прозрачном небе. Голова у Грубина острая. Прелая солома пахнет уныло, гробом.
«Железная дивизия имеет прекрасный клуб, великолепную библиотеку, которую привезли из Сибири. Имущества много и все нужное, а эшелон достать трудно и мало надежды, что его вывезут. Погрузить погрузишь, да так на станции и останется. Надо грузить на подводы. Прошу подвод!» – Повторяя несколько раз одни и те же фразы, Плешко думал: – «Надо еще прибавить… прибавить…» Бока у него ныли и в глазах кололо. Крестьянские работники слушали его молча. Затем рыжий мужичок в коротенькой шинели, подпоясанный чересседельником7, подал ему список окрестных деревень, в которые можно было б поехать за подводами. Расписывая крестьянских работников, Плешко думал: которого же из них, скольких он видит в последний раз. Рыженький мужичок вскочил на лошадь, гикнул неумело. «Этот-то вернется», – уныло подумал Плешко. А с фронта поступали сведения все тревожнее. Политотдел выделил двенадцать наиболее активных, для того чтобы влиться в передовые цепи. Через город тянулся обоз бригад и полков. Грубин с вилами под мышкой прошел мимо Плешко. «Колеса-то у телег, будто попы поют», – сказал он подобострастно. Плешко стукнул ногтем по кобуре револьвера и вежливо ответил: «А как же им петь иначе, хозяин?» Мицура звонил по телефону. – Исполком позорно и нагло бежал. Каково ваше настроение? «Превосходно, – ответил Плешко. – Школа политруков дивизии направлена по охране мостов в окрестностях Житомира». Мицура повесил трубку. А мосты, звеня, искрясь, дыша железом, как бы повисли над городом. Весь город, небось, думает о мостах! Через минуту Мицура звонил еще, сообщая, что полкам приказано развернуться в боевом порядке и перейти в решительное наступление на поляков! Тетерев охраняется! «Какой тетерев охраняется? – и Плешко вспомнил охоту, о которой утром говорил ему Мицура. – До тетеревов ли теперь!». Тетерев – это река, а охраняются на ней переправы к шоссе, единственной дороге, которая поведет дивизию на Бердичев. Голос у Мицуры был по-прежнему самодовольный и высокий. Крутит, небось, папиросочки. Эх, товарищ Мицура, многословный и высоко-голосый, – певчим бы тебе быть, а судьба одарила тебя сибирским характером, а значит и храбростью! Рыженький мужичонко в короткополой шинели уже ворвался во двор. «Подводы веду, – закричал он, – никак не могу к библиотеке прорваться, кавалеристы мешают». Крестьянские работники привели-таки подводы. Плешко пожал ему руку. «Как ваша фамилия?» – спросил он. – «Тимофей Болдырев, его фамилия», – ответил рыжий мужичонко. – Обозы кавалерийской бригады мешают крестьянским подводам подойти ближе к постоялому двору. Мужичонко был необычайно доволен своей исполнительностью.
И тотчас же почти пришло сообщение, что поляки перерезали шоссе и занимают вокзал. С вокзала послышалась перестрелка. Обозы мчались по улице. У возниц были веселые бледные лица. И только расслабленные и как бы удлиненные шеи выдавали их испуг. На этих вялых шеях мотались крепкие и озорные головы. Плешко побежал на второй этаж дома. Рыжий мужичонко сопровождал его. Политработники с шаркающим грохотом сапог неслись ему навстречу по лестнице. «Взвод, стройся! – закричал Плешко. – К мосту, переправу охранять!»
Сильно, нестерпимо ныл затылок. Плешко расстегнул френч. Высокий и худой работник политотдела Клементий Пыхачев, чем-то похожий на грабли, держа винтовку за штык, прихрамывая и напряженно и насмешливо улыбаясь, бежал впереди взвода. Он все время оглядывался, стальные очки скользили у него с носа. И у этого человека, страдающего ишиасом, большой семьей и вечным недовольством жизнью, было тоже веселое и насмешливое лицо! Он и сам не сознавал, наверное, своего смертельного веселья. Взвод раскинулся перед мостом. «По беглецам, огонь!..» – только лишь хотел скомандовать Плешко. Пестрая ревущая толпа кавалеристов вывалила из переулка, она смяла цепь и кинулась на мост. Зарябил от вокзала пулемет. Кавалерист в синей фуражке с огромным кольтом в тонкой руке упал через голову лошади. Красноармейцы и кавалеристы кинулись к Тетереву вброд. Мост опустел. Пулемет сиротливо ныл. Автомобиль, длинный, синий, наполненный людьми, вынырнул на мост. Плешко разглядел зеленый широкий френч Мицуры, военком Петровский махал Плешко рукой. Начальник штаба, косоглазый и желчный Катин, оправляя пенсне, тронул шофера за плечо остановиться: Плешко обернулся к политработникам. Рыжий мужичонко Болдырев с любопытством смотрел на автомобиль, словно бы гадая: проскочит автомобиль под пулеметами али нет!8 «Не поеду!» – крикнул Плешко. Едва ли они слышали его голос, но они тоже оглянулись на взвод политработников и сделали под козырек. Шофер грудью впился в колесо. Автомобиль ринулся на мост…
– На шоссе, в лес, цепью, взвод!.. – крикнул Плешко. Житомир пал. Железная дивизия бежала. Политотдел Железной остался в тылу поляков.
Клементий Пыхачев, тот, который бежал впереди взвода к мосту, сидел, сильно опершись худой спиной в пень. Лицо у него было синевато-желтое, морщинистое. Он сильно устал. Раздражало его, по-видимому, то, что красноармейцы, несколько сот, бессмысленно толкутся по поляне, расспрашивая о командирах, и то, что день жаркий, сухой, а листва влажная и медленная, и то, что красноармейцы испуганно ждут польских разъездов, да и он сам боится и ждет не меньше других. Плешко, одергивая френч и протирая коротким и толстым пальцем грязные скулы, окрикивал знакомых. Рыжий мужичонко Болдырев стоял подле него и соболезнующе смотрел ему в рот.
– Пузыревский, Генька, – пронзительно кричал Плешко. – Ни одного командира полка! Перебили всех, что ли? Герои героями, а кто командовать массой будет? Мне хоть раненого одного приведите, пускай командование передаст.
Он подошел развалистой своей походкой к Пыхачеву.
– Геройский народ, черт их подери. Все командиры перебиты!
– Перебиты, – раздраженно протянул Пыхачев, – просто сбежали. Герои! Две недели бубнили всем городом: поляки заберут, поляки заберут… Тут хоть и какой герой побежит. И вы не верите тому, что командиры перебиты и погибли героями. И солдаты не верят.
– Верят…
– У меня вот банка с консервами сохранилась – от всего Житомира. Всю жизнь ненавидел консервы, а на войне в самые отвратительные минуты приходится жрать эту гнусную пищу. Сели бы вы давеча с Мицурой в машину. Защищали вы город до последней возможности. Мост даже охраняли взводом. Ни пред другими, ни пред собой не совестно покинуть город.
– Стреляли, знаете, по мосту. И в машине могут убить, знаете. А я крови не могу вынести, меня тошнит. – Плешко крепко вытер губы и у него стало такое лицо, что Пыхачев, как его ни раздражал сейчас Плешко, поверил.
– Возможно. А я думал, вам политработников своих жалко. – Плешко пожал плечами. И Пыхачев подумал, что сейчас он скажет: «Помилуйте, жалеть – это значит: не надеяться на своих работников, а наши работники, знаете ли, нигде не пропадут». А затем вскочит и начнет организовывать. И Плешко точно вскочил, кинул хлебные крошки в рот, осторожно передал консервную банку Пыхачеву и взмахнул руками:
– Жалеть. Наши работники – огонь. Они не пропадут Пузыревский, Пузыревский, коммунистов собрать можно? Вот видите, товарищ Пыхачев, ни одного командира полка, и красноармейцы в большинстве из тыловых команд и батальонов связи, все же мы… Пузыревский!9
– Чего вам Пузыревский?
– Его отпускать из виду не годится. У него, знаете, товарищ Пыхачев, прекрасный ориентировочный мозг и, вообще… кулаки.
В ориентировочный мозг Пузыревского сам Плешко едва ли верил. Длинная голова Пузыревского походила на потертую щетку, у него были тупые и неподвижные глаза и медленные движения. Он вытянулся подле Плешко, положив один на другой огромные жилистые кулаки.
– Пластунский полк семнадцатой дивизии10 идет по шоссе. Я его остановил. Полк при командире, направляется по шоссе. Я говорю им – Плешко, а они…
– Отказываются подчиняться?
– Выходит, отказываются.
– Пойду, поговорю. А вы, товарищ Пузыревский, за мной, а вы, товарищ Пыхачев, наиболее активных вокруг себя сбирайте.
Плешко выхватил желтую книжку из кармана и торопливо записал на первой странице: «Болдырев, Пыхачев, Пузыревский»… Книжка ему нравилась, карандаш шел по желтой и шершавой бумаге легко. Даже дурной почерк Плешко выходил на этой бумаге значительным. Преувеличенно, как и всем в этот день, любуясь на книжку, Плешко шел за Пузыревским. Затылок фуражки Пузыревского засален, несколько сосновых игл прилипло к нему. Плешко шел и думал о неудобствах. Какое неудобство кругом! Вот Пузыревский – тупой и исполнительный, его можно назначить командиром колонны, а надо изворачиваться, искать комиссара к нему. Надо лгать, ловить бойкого человека, бойкие люди все попрятались или отступили вместе с дивизией, остались одни меланхолические растери вроде Пыхачева. Впрочем, и Пыхачев может пригодиться!11 Вот на сияющем солнцем гладком шоссе стоит пластунский полк. Лошади заморенные, люди усталые. Маленький тощий комиссарик в расстегнутом френче идет к пластунам вдоль шоссе по тропинке. Непредставительный, неудобный вид у комиссара!12 Чубастый командир, сдвинув на ухо папаху, неприязненно смотрит на него. У командира тонкие хрящеватые ноздри, щеки цвета свеклы.
– Слушаю, товарищ…
– Плешко, уполномоченный.
Нет, полк отказывается подчиниться Плешко! Полк сам сможет догнать отступающих и, вообще, он знает, куда надо направляться. Большие неудобства! Фамилия командира Белов. Вот если бы раньше встретились где-нибудь случайно с товарищем Беловым, несомненно теперешний разговор был бы и длиннее, и значительнее. Полк ушел, Пузыревский чистил травой сапоги. Шоссе идет в гору. Издалека полк походит на пук травы.
– Между прочим, я с уверенностью могу сказать, что пластунский полк первым бежал из Житомира. Естественно его нежелание нам подчиниться.
Да и кони тоже у них, с такими конями работу разве можно вести? Им надо отдыхать недели три…
– Дрянь, – ответил коротко и самодовольно Пузыревский. Плешко доволен. И, вернувшись к отряду, он повторил о пластунском полке ту же выдумку, что и Пузыревскому. Красноармейцы бестолково толпились. Плешко прошел через поляну с листом бумаги в руке, вскочил на пень и крикнул: «Смирно!». Солдаты вздрогнули. И тотчас же, возвышая голос, не давая опомниться, Плешко заговорил:
– Как уполномоченный двенадцатой армии, мною составлен план действий… Организуется сводная бригада. Командиром бригады назначен товарищ Пузыревский… комиссаром к нему Болдырев! Сводная бригада двигается по киевскому шоссе на соединение с Железной доблестной дивизией. Впереди идут крепкие отряды, посредине артиллерия и обозы. Передаю командование… При малейшей измене – расстрел13.
Плешко не договорил того, что он думал. Он хотел сказать, что при малейшей измене будет отдан приказ немедленно применить вооруженную силу. Но сейчас неудобно говорить так! Надо выждать некоторое время, хотя бы то, когда колонна двинется, пройдет один переход, остановится. Да и что можно назвать изменой: бегство, дезертирство, предательство? План действий, составленный им, неясен; направление сводной бригады по киевскому шоссе совершенно необоснованно… Ночь была безлунная, гулкая. Шоссе скрипело, визжало. Часто ломались телеги. Кони уныло ржали. Тихо бранились красноармейцы, торопливо исправляя поломки. Головная колонна далеко ушла вперед. Когда стали спускаться с той горы, на которую в сумерки ушел пластунский полк, их встретил лес – сырой, безмолвный. Должно быть, близко где-то протекала река. Плешко ехал в телеге с красноармейцами. Молоденький красноармеец осипшим голосом торопливо рассказывал похабную сказку о попадье и работнике. Красноармейцы хохотали деревянными голосами. Плешко старался понять, над чем они хохочут, но он и сам плохо понимал сказку. Вдруг телега остановилась как-то особенно стремительно. Впереди послышались вопли: «В цепь, жива!». Красноармейцы схватили винтовки. Два-три выстрела гулко пронеслись над лесом. Человек, погоняя веткой низенькую лошадь, скакал вдоль шоссе. Он разыскивал Плешко.
Плешко пошел рядом с ним к головной колонне. Местечко Р., в которое, по плану Плешко, направлялась сводная бригада, будто бы занято поляками! А кто стрелял? Неизвестно. Ночь, суматоха, народ сомневается и, кроме того, неизвестная женщина Мицура. Какая неизвестная женщина Мицура? И причем тут командир дивизии? Человек бестолково бренчал стременем. Удивительно звонкое стремя. «Действительна чуда, – заговорил вдруг человек с седла, – я вот свою бабу не видал полтора года, а она говорит: все хозяйство и я, значит, в порядке. Вот в стакане вода стоит столбом и не проливается: очень просто, а не чудо. Так и в таком деле, чтобы баба не напутала – чудо будет». Плешко не понял, почему красноармеец говорил о чуде и о своей бабе.
Пузыревский держал в руке громадный фонарь. Подле него стояла женщина в мужском стеженом пиджаке и длинной юбке. Когда Плешко подошел, она скинула пиджак, передала повод красноармейцу, рассуждавшему с Плешко о бабе. Пузыревский осветил женщине лицо, плечи. Плечи у нее широкие, почти мужские, голос тоже грубый и в то же время восторженный. Она ли сообщила, что местечко Р. занято поляками? Да, она! Откуда она имеет такие сведения и как ее фамилия! Женщина отвечала подробно, держа руки по швам. Красноармейцы теснились у телеги. Она только что приехала в местечко Р., оттуда думая пробраться к своему брату Филиппу Мицуре, командиру Железной дивизии? Она не знала точного местонахождения штаба дивизии, так как в местечке Р. уже в полдень было известно, что Житомир пал и дивизия отступила. Поздно, в сумерки, кавалерийские польские разъезды беспричинно открыли по местечку Р. ружейный огонь. Хозяевам ее квартиры было известно, что она сестра Мицуры. Она, боясь репрессий, с револьвером в руках вскочила на коня и поскакала по киевскому шоссе. Она – женщина, но как ни страшны бандиты14, но поляки еще страшнее! Она несказанно рада тому, что встретила части Железной дивизии. Бригада направляется на соединение, не правда ли? «Да, возможно, бригада направляется на соединение, – ответил Плешко. – Но, к сожалению, перегруженность работой мешала мне говорить с товарищем Мицурой о семейных делах, и мне неизвестно, имеется ли у него сестра, брат и вообще родственники. Однако вас, товарищ, мы обязаны приютить, и я подниму вопрос о прикомандировании вас, скажем, к клубу бригады!». Но она может показать документы. Документы? Хорошо, товарищ Пузыревский осмотрит ее документы. Кожа ее лица розовая и глаза расположены так, как будто правый выше левого. Пузыревский смотрит на нее с нескрываемым удовольствием. Да, много неудобств и много пустяков! По пустяковому какому-нибудь делу эта женщина ехала к своему брату из Сибири. Ехала, наверное, недели две-три. А теперь мотается по шоссе среди разгромленных войск и деревень – и докуда будет мотаться? И, несмотря на мотанья, говорит она возвышенно, крепко, а может быть и сама она возвышенный и крепкий человек. Но в данное время Плешко обязан сомневаться. Сомневаться без конца и краю, как бы ни мучительно было это сомнение. И Плешко громко сказал Пузыревскому:
– Мне давеча помешали досказать свою мысль, товарищ Пузыревский. Я хотел сказать, что при малейшей измене, замеченной вами, вы обязаны немедленно же применить вооруженную силу.
Пузыревский взмахнул тяжелым фонарем и скомандовал по обозу: «Назад!». Обоз шарахнулся и полчаса спустя свернул на проселочную дорогу, направляясь в Коростышевские леса.
Четыре дня узкими лесными дорогами шла дивизия. Деревень встречали мало. Мужики, рваные, босые, стояли подле хат и спокойными глазами провожали обозы. О поляках им вестей не приходило, «якие дывызии» проходят мимо – тоже. Церквушки в деревнях серые, грязные. Рассуждая о том, сколько же добра ухлопано на эти церквушки и что никакой пользы от них в теперешней жизни извлечь невозможно, Плешко и Пыхачев, перепрыгивая через пни, валежник, догоняли головную колонну. Фургон, обитый фанерой, оклеенный плакатами, на которых необычайно жирные буржуа с острыми зубами и польские паны в невероятных конфедератках, захлебываясь, вопили стихами Бедного15, – фургон нырнул перед ними в выбоину. Широкая сосновая лапа упала и зашуршала у него по крыше: как бы зеленое шелковое знамя на мгновение полоснулось по ветру. Из фургона крепкоголосая Феоктиста Мицура окрикнула товарища Пыхачева:
– Рассчитывает товарищ Плешко в недельный срок вывести бригаду к Железной дивизии? Как вы думаете? У меня все бока разбило, дышать невозможно.
– И воздух здесь, Феоктиста Степановна, хороший и против лесной жизни я принципиально не возражаю, но судите сами – откуда мне знать про сроки? Я человек больной, измученный, мне бы лежать на лазаретной койке, а Ипполит Егорыч, видите ли, мне о пользе церквей рассказывает. Он себя строителем жизни чувствует, ему светлое будущее…
Плешко забежал с другой стороны фургона, открыл дверцу и опять захлопнул. Мицура даже не обернулась.
– Мы все строители, товарищ Пыхачев, даже и те, которые насмешливо говорят, что они и строить не могут. Раз живешь, значит строитель, Вы, товарищ Мицура, в фургоне книжки не просматривали? Рекомендую просмотреть и составить список. Могут быть полезные!16
Феоктиста возвышенно ответила Плешко, что книжки ею давно просмотрены, список составлен, и, как только бригада остановится на отдых, – библиотека начнет функционировать. И дальше она возразила Пыхачеву, что он или утомлен длинными переходами, или по природе ворчлив, но даже и теперь, в переходное время, церкви могут быть полезными. А позже они превратятся в музеи, в которых новые поколения людей, свободные и радостные, будут учиться на ошибках своих отцов. Она вспоминает свое тяжелое детство, когда она каждую страницу прочтенной книги вырывала у жизни, кровью своего сердца, и книга часто оказывалась не той, которая нужна рвущемуся к знанию человеку. Пыхачев насмешливо кивал головой.
– Так, так, Феоктиста Степановна, – сказал Пыхачев, тяжело, со свистом вздыхая, – ваши слова молодые, красивые. Я сильно рад, что вы так думаете. Я и в партию-то, может быть, пошел из-за красивых слов. Мне, знаете, жить осталось полгода, самое большое – год. И если умереть не окруженному красивыми словами и поступками – скучно, а?.. Даже стыдно. Я всю жизнь по земству работал, отец у меня ветеринарный фельдшер. Детей у меня пятеро и все золотушные, потому что я отец слабый и мне бы родителем не следовало быть… Любовь, красота – слова-то какие! Иди по лесу как травленый волк – из-за этих слов. И умереть придется совершенно неправдоподобно, а мне неправдоподобная смерть зачем?
Возница, белесый мужичонко в коротенькой холщовой рубахе, обшитой по вороту синей тесемкой – всем, движениями и легким говорком похожий на ребенка, вдруг мелко-мелко заморгал глазенками и, презрительно трепыхая вожжами, заговорил: «Про любовь всегда, выходит… в песнях да в господских разговорах – будто как солнце, без огня горит и всех может мучать. А нашего брата подводами замотали. Сколько лет уж не помню, все солдат возим и все задарма… Болтают… В Железной дивизии храбрец на храбреце и кроме того – справедливость…».
– Вот тоже и ему красота нужна. А, может, тоже зря, а?
– Что болтают? – поспешно спросил Плешко.
– Разное болтают… Нам бы подводы… поменьше.
Крепкая, смуглая рука открыла дверцу фургона, подле которой шел Плешко. Под локтем на руке небольшое розовое пятно – человек сильно опирался на дверь, когда слушал разговоры – если приглядеться к пятну, ясно различишь отпечаток планки. Человек внимательный, с ясным взором и стремительным голосом. Вот она сколько за такой короткий срок сделала: клуб почти готов, библиотека просмотрена, а ведь только сейчас товарищ Плешко заметил имеющиеся книжки. Она опустила глаза перед враждебными и в то же время смущенными глазами Плешко. Вот они уже идут впереди фургона: маленький, кажущийся кривобоким, Плешко и длинный Пыхачев. Обгонять им воза трудно: дорога узкая, а у дороги пни, валежник, весенняя трава. Пыхачев пробует остановить Плешко и полувосторженно, полупрезрительно, наверное, говорит, что теперешняя жизнь напоминает ему детские книжки и энергичная возвышенная спутница тех героинь, которые… Феоктиста Мицура сама растрогалась своим мыслям, ей трудно было перенести одной свою растроганность. «Ипполит Егорыч, Ипполит Егорыч!» – позвала она. Плешко ожидал ее, стоя на пне. Пень походил на серую вазу. Феоктиста схватила Плешко за руку и, стискивая ему пальцы, сказала: «Вы превосходный человек и милый… вообще. Если б поудобнее ехать, я совсем была б довольна жизнью. Воздух-то, воздух!». И она захлопнула дверцу. Возница обернулся к нему:
– В прошлом годе из-за подвод сено я сгноил. Бандистов им, видишь, ловить надо, а бандисты сами сенокосом занимались… Вот и выходит всегда: подвода как угодно может человека замучать. А двизия-то им и говорит, вы, говорит…
– Какая двизия?
Мужичонко, вздрогнув, с неожиданной злостью ударил по лошадям. Фургон зарычал фанерными своими планками. За фургоном воз с патронами, за патронами – пять велосипедов и два пулемета, а за ними красноармейцы, красноармейцы. Вяло свесив руки, уныло покачиваются они на телегах. Сосны темные и грязные походят на какой-то гигантский дождь.
Пузыревский, по-прежнему малоповоротливый, кажется все с той же щепочкой в зубах, с которой он принимал командование бригадой, плотно соединив толстые и длинные свои ноги, прослушал и немедленно согласился с Плешко, что расположение у озерка и речки Ухавы вполне подходит для бригады. В полуверсте волостное село Ухава. Если придвинуться вплотную к озерку, противнику будет открыт один фланг. Только одно смущало его: болотистая местность, сырость, долго стоять: голос потеряешь. Плешко чувствовал весь день на душе тягучий и мучительный осадок и все старался уяснить: откуда это у него?
– Плохо, сильно плохо, – сказал он, подписывая приказ об организации бригады. – Ты на голос надеешься, что ли?
– Голос помогает, товарищ Плешко.
Плешко хотел указать Пузыревскому, насколько тот ошибается. Раздражение охватывало все более и более. Нос у Пузыревского похож на подкову, а усы как гвозди. Но тут ему пришло в голову, что ведь под Житомиром Пузыревский понравился же ему громадными своими кулаками.
– Геныпа, кулаком голову разбить можешь?
– Чью?
И час спустя Плешко докладывал на общем собрании коммунистов бригады, что, по предложению товарища Пузыревского, бригада останавливается на отдых у озерка Ухавы, в село назначается волостной комиссар и комиссар по продовольствию, что задачи политработы в настоящее время: восстановление дисциплины, борьба с мародерством, дезертирством и паникой, будут проводиться всемерно… пускай негодяи и трусы берегут свои головы. Организован бригадный клуб. При клубе библиотека. Пора выделить комиссаров и политруков!..
– Стесняются еще говорить, – сказал рыжий мужичонко Болдырев, садясь после собрания рядом с Плешко, – а разговоров об Железной по бригаде много ведется. Если, предположим, неделю отсутствие сообщенья-то, я тебе скажу, Ипполит Егорыч, народ нас окружает темнай, тыловой и небоеспособней, как говорится. Посмотрят, посмотрят, плюнут на нас…
– Разойдутся?..
– Спасибо, коли разойдутся.
– Вот политруки и необходимы… Сибиряки…
– Сибиряки мне известны. Вот сибиряки-то так и думают, как и тебе говорю. А и не только сибиряки, да и окрестный мужик тоже. – Болдырев моргнул рыжим своим глазом. – Сибиряк сибиряком, соринка в глазу, конечно, заметней, чем дуб в море, а все же и по всей земле, я полагаю, так же мужики думают.
Плешко начал чувствовать легкое недоумение. Подошел Пузыревский и донес ему рапортом, что бригада в полном порядке. Болдырев засмеялся. И Плешко торопливо сказал, что пока бригада занимается расстановкой и посылкой разведчиков, засад, налаживанием продовольственного и транспортного вопроса, он съездит на ближайшую станцию железной дороги, чтобы по прямому проводу связаться с Киевом и Бердичевом. Желательно б получить тачанку с пулеметом; двух смышленых кавалеристов.
– Вот правильно башка работат, – обратился Болдырев к Пузыревско-му, – а ты: рапорт! Этот сердцем не сдаст, этот умом вывезет. Вот учительша нонче к клубу нашему пришла. Страсть как походит на мою деревенскую учительшу. У той морда была красота, народу из-за той морды погибло!
– Зачем нам учительница, товарищ Болдырев?
– Учительница нам действительно не нужна, Ипполит Егорыч. А вот, должно, сожгли у ней школу, она жить в крестьянской избе не может, воспитание не такое. Приходит ко мне. А в фургоне места на двоих как раз. Я говорю: живи в фургоне. Две бабы, все-таки веселей и смущенья для народа меньше.
Болдырев смиренно вздохнул. «Уже и мысли мои пронюхал, жулик», – подумал Плешко, и ему стало веселей.
– А ты часом, товарищ Болдырев, не слышал давеча, как мы с сестрой Мицуры говорили?
– С сестрой? С какой сестрой? Нешто у него сестры есть? Вот не знал. Пузыревский строго наклонил к нему густую свою бровь:
– А разве она не сестра, – почему ты так думаешь, Болдырев?
– Да не думаю я так, отойди. Ну, пускай сестра будет. Я разве спорю? Показать тебе, Ипполит Егорыч, учительшу?
Плешко взял портфель. Пузыревский посторонился. Болдырев, затягиваясь махоркой, смеясь и сплевывая, говорил:
– Не буду, не буду показывать. Во всю жизнь не покажу. Ближайшая для тебя станция Бровки будет. Парней для сопровождения я тебе хороших дам, вроде и местность знают, оттого что болтливы больно, а насчет языка и Киева поговорка известна. Савка! Савка…
Пулеметчик Савка Ларионов с белокурыми стружками волос на розовом гладком лбу в выпачканной маслом шинели встретил Плешко у тачанки ласковым хохотом. Другой сопровождающий, Саша Матанин, огненный, веснушчатый, похожий на сухую хвойную лапу, угрюмо мотался на поразительно сухопарой лошади. И лошадь и он казались злобны и сухи, что поднеси к ним сейчас спичку – вспыхнет и сгорят в одну минуту. «Конь-то выдержит?» – спросил Плешко кавалериста. «Я его так могу бить, что он и мертвый до Владивостока довезет», – ответил Саша Матанин.
Две женщины смотрели вслед мчащейся тачанке. Сонная и вялая пыль стлалась по дороге.
– Это великий, прекрасный, хотя и болезненный человек, – сказала Феоктиста Степановна, держа стакан с морковным чаем в руке. – Но кончит он, я уверена, плохо. В жизни необходимо спокойствие.
– А мне говорили: он веселый и все по лагерю ходит и анекдоты рассказывает. Я, знаете, по культурному анекдоту соскучалась… У меня брат был…
Но здесь ее Феоктиста вдруг прервала и заговорила быстро: она танцевала с братом, а в это время говорят: большевицкие полки мимо идут, сейчас обстрел сторожки начнется. Она выскочила из сторожки, на коня, она любит выстрелы, бой, и вот конь ее понес, несет, несет!.. А ездит она мало, неумело, – и попала в самую кашу битвы. А теперь вот и белья нет переменить.
– На самом деле смешно: нам солдатское белье придется носить.
– Не смешно, а страшно! Солдатское белье – это ж могильное белье. Оно и грубое как гроб.
Тачанка остановилась на пригорке, над станцией, в яме, вымытой дождями. Кони, стараясь выкинуть удила, тянулись к траве. Трава была высокая и покрытая розовато-желтой пылью. Савка Ларионов, разглядывая сквозь траву станцию, сказал лениво: «Жалезна дорога чисто рукомойник – всякому поклон. Спалить бы, по мне, все эти станции». Огненноволосый кавалерист посмотрел на него пренебрежительно и спросил Плешко: «Какие дальше нам распоряжения?» И Плешко подумал, что если послать вот их двоих, то один перепутает поручение от восторженности, а другой – от осторожности. Единственная грязная улица станционного поселка походила на прокуренный мундштук. Тощий теленок, наслаждаясь свободой и теплым ветром, мотался по улице. Он чувствовал запах свежей хорошей травы, но не знал, куда бежать. Тачанка бросилась с пригорка. Несколько лохматых кур мотнулось из уличной канавы. Старуха выглянула в окно избы и перекрестилась. Двухэтажный домик с зеленой вывеской остановил внимание Плешко. Он велел Савке-пулеметчику стать в тонком конце улицы, а Саше Матанину караулить к раструбу, а сам вошел в домик. Плотный широколицый человек с гранатой в одной руке и с револьвером в другой, грохоча сапогами, выскочил на лестницу.
– Вы кто такой? – завопил он испуганно.
– А вы кто?
– А вы?
– Нет, скажите вы. Ну-у!..
Плотный человек поднял гранату над головой.
– Я агент транспортного чека!17
Плешко назвал себя. Агент положил гранату в карман и попросил спичек.
– Вот, знаете, товарищ Плешко, если б вы отчеканили стальным голосом: «руки вверх», я бы несомненно их поднял. Судите сами: милиция сбежала, каждую минуту на станцию бандиты могут заявиться, сплю я в оружии и ежедневно меняю место ночлега, потому что предательства боюсь…
– Фамилия?
– Щербаков, Павел.
– Пройдите, товарищ Щербаков, к тачанке: мы присоединим вас к себе в случае чего.
Разговаривая с начальником станции, Плешко вспомнил Щербакова и подумал, что хорошо бы с пяток таких героев насбирать, и сказал вслух: «Пора ягод и героев». Начальник станции ходил перед ним шоркающей походкой, украшенный флюсом, несмотря на сухие дни (правда, в начале разговора он заявил, что станция Бровки находится в нездоровой и сырой местности), бормотал: «Какой там Бердичев? В Бердичеве, полагаю, поляки». «Ну, я подожду, пока они выйдут», – сказал Плешко, стараясь казаться возможно более беззаботным. Начальник станции долго бормотал над аппаратом, что и поесть-то не дадут, что зубы у него шатаются. В палисаднике неприятный детский голос тянул однообразно: «Папа, суп стынет!..». Наконец, послышался в аппарате Киев. К аппарату подошел комиссар штаба Рейх. Плешко хорошо помнил его: это был стремительный, честный и часто ошибающийся человек. У него были пухлые губы колечком и узенькие зеленые глаза. Он долго и осторожно мычал, словно боясь, что даже мычанием может выдать он какую-нибудь штабную тайну, а затем стремительно спросил:
– А какой нос у Керемеенки?
– Нос у Керемеенки нормальный, – ответил Плешко, – а на правой ноздре бородавка.
– Все бандиты знают про эту бородавку. Опиши твою жену!
– Я с женой развелся и разговор об ней мне неприятен.
– Когда развелся?
– Я не развелся с ней формально, но получил от нее письмо в Житомир.
– Ну, как тебе ни печально, а опиши.
– Да что она, в Киеве?
– А может, и в Киеве.
– Да ты что: с ней живешь?
– Отойду от аппарата.
Плешко торопливо сказал несколько фраз.
– Так, так, – бормотал комиссар штаба, и вдруг он зычно крикнул: – Валяй, докладовай, Плешко!
– Сводная бригада, сформированная из раздробленных частей, занимавших Житомир, под непосредственным наблюдением Плешко находится в районе станции Бровки. У нас имеется около пятисот штыков хотя малобое-воспособных, но сознательных. У нас нет обоза, почти нет снарядов, но мы готовы драться… Усиленно мы просим снарядов и в частности…
– Хорошо, я верю. Даю директивы.
– А также прошу сообщить немедленно о положении Железной дивизии, так как усталая красноармейская масса, состоящая большей частью из сибиряков… трудно ее вести… Железная дивизия нас интересует также…
– Как? Что вас интересует?
– Железная дивизия. Да выслушайте же вы, черт возьми!
– Хорошо. Даю директивы. Обождите у аппарата.
Аппарат на Киев безмолвствовал. Уже несколько раз приходил пулеметчик Савка. Подле подоконника на пол мелкими крошками осыпалась штукатурка. Кондуктор, седой, в рваной куртке и рваных сандалиях, поставил ящик с инструментами подле подоконника. Штукатурка вдруг рассыпчато забарабанила в ящик. Это прыгнул Савка и вытянулся подле порога:
– Прикажите, товарищ Плешко, огня!
– Сиди спокойно, Савка.
– С шарфами какие-то скачут на станцию. Петлюровцы18, что ли… Несколько всадников с развевающимися шарфами скакали к водокачке. Тачанка свернула в переулок, затем в лесок.
– Ну, как дела-то в Киеве? – спросил Савка, показывая станции кулак.
– Отлично. Агент вздохнул.
– Вот вы говорите отлично, товарищ Плешко, а я пост свой покинул.
– А если б не покинули, вас бы шарфы разрубили.
– Выходит, что я вроде мертвого, и теперь за свои поступки не отвечаю?
– Выходит. У вас есть жена, товарищ Щербаков?
– К сожалению, нет, так как война и любовь занятия несовместимые.
И Савка подтвердил:
– Кака там любовь? Вот я подъезжаю к поселку, в поселке-то, может, моя любовь живет – ожидает, а мне на душу выпало: «Савка, огонь по поселку». Вот я свою любовь и кончу, не зародив.
– Согласен с вами, – и агент еще раз вздохнул.
Огненноволосый кавалерист наклонился с коня и пытливо спросил у Плешко:
– А как же двизья-то, начальник? Я вот стою у водокачки: станция-то огромная, в каждое окно по три пулемета вставить можно, и все эти пулеметы на меня. Сгинем мы без двизии: и полячишки слопают, и петлюровцы.
Савка и агент Щербаков уставились на Плешко. Агент даже сухарь, который он сосал, вынул изо рта и крошки сдунул с усов.
И Плешко вдруг, чувствуя необычайную легкость на сердце, сказал:
– По полученным сведениям дивизия в полном порядке и ждет нас.
С колес веером скользил песок медового цвета. Топота почти не слышно. Ласковые и опрятные ели медленно подымались из песка. Кавалерист Саша далеко ускакал вперед, затем вернулся, опять ускакал. Конь у него оказался, действительно, превосходным. И глаза необыкновенно умные. Вот за такие глаза, подумал Плешко, иногда, смертельно любят некрасивых женщин. Из-за таких глаз погибают. И дальше Плешко вспомнил, что сейчас, разговаривая по аппарату с Рейхом, он описал ему жену свою некрасивой с хорошими глазами. Да и многие, любившие ее, находили ее некрасивой. Да и можно ли любить за красоту, да и что такое любовь? Вот бабник ли, любовник ли, Плешко? Может быть, то, что он называет любовью, есть постоянное стремление помочь людям, не только в борьбе, но и в душевном устройстве их, в душевном спокойствии, так сказать. Вот и Феоктиста Мицура, слов нет, – красавица, но есть ли у Плешко стремление полюбить ее? Едва ли. Возможно, не сегодня-завтра он будет стоять вечером у фургона. Сальная свечка, оползая на подсвечник, будет догорать. Свет от нее, очень теплый и рассеянный, будет освещать пустой фургон, а Феоктиста будет, закрыв глаза, лежать у его груди и тихо говорить, что ее никто так не целовал. И она сама будет верить этим словам, и он поверит им, и когда он отойдет от фургона и когда будет ложиться спать, ему будет казаться, что никогда он не был так счастлив, как сегодня. А все это оттого, что его наполняет стремление устранить неудобства ее жизни. А серьезно-то подумать: кто она? Сестра Филиппа Мицуры? А где ее документы? Она хотела их предъявить, а до сего дня не предъявила. Вот ведь наладится жизнь слегка в дивизии и Пузыревский научится наводить порядки, ведь он же потребует от нее документы. Конечно, пошло и плоско так думать, но она может оказаться польской шпионкой… многое в этой жизни надо исправить. И затем на деле к концу жизни выйдет, что любил-то по-настоящему он жену свою, которая в Киеве…
Плешко достал желтенькую книжку, подаренную ему Мицурой, и записал: «Щербаков. Савка Ларионов». Савка, фартово опираясь рукой о пулемет, спросил его:
– А пополнения в дивизию поступили, Ипполит Егорыч?
– Пополнения получены.
– Ну, значит наши не выдадут. Погонют наши полячишек. Мы им можем разъяснить, как капиталистический строй устраивать, – он глубоко вдохнул воздух: – Вот тебе и лес такой же, как и у нас, и тебе пашня… хоть я и пашней не занимаюсь, а все больше пасекой и мараловодством19.
Агент встрепенулся и переспросил подозрительно: «Как вы?..».
– Мараловодством, – повторил Савка с удовольствием длинное слово, – оленей таких…
– Ах, оленей, а то, знаете, слово подозрительное.
– Все так же… однако домой манит… Кавалерист Саша опять показался среди елок.
– Хоть вперегонки бы, а то что ж самостоятельно коня мучишь, – упрекнул его Саша.
– Мучишь, – хмуро ответил кавалерист, – а так приехал, что там скачут. Виртай, товарищи, в кусты.
Тачанка остановилась среди густых и запашистых елей. Плешко выступил несколько вперед. Рядом с ним, низко к земле держа карабин, стоял Савка. Руки его дрожали.
– Ты, Савка, охотник? – спросил Плешко.
– Я-то? Нет, дяденька. Я кровь животную не люблю проливать. Человеческую кровь можно со смыслом пролить, другим потом легче жить будет, а животная что, хорошо если тигр, а то ведь мясо и мясо, всего и пользы.
Стемнело. Несколько силуэтов всадников показалось на дороге. Савка пополз. Шепотливо зашелестела хвоя. Затем раздались выкрики. Голос Савки: «Свои!» – и чех Гавро, командир интернациональной роты20, сутулый и чем-то похожий на монгола, подскакал к Плешко. Гавро всегда удивлял Плешко своей сосредоточенностью, важностью. Оборванный, в лаптях и рваном картузе, он каждый вечер долго сидел у костра, заполняя маленькую тетрадку мелким и скорым почерком. «Пишу дневник жизни», – ответил он Плешко. И тогда Плешко предложил ему вести дневник бригады, Гавро ответил ему медленно и сурово, что он не обладает таким великим слогом, который бы мог описать геройскую жизнь бригады, с него хватит, что если его тетрадь попадет к его сыну и будет им прочтена и хоть сколько-нибудь убедит сына вести жизнь, достойную памяти отца. Плешко обиделся и с того дня почувствовал неприязнь к Гавро. Теперь этот Гавро, качаясь громадной головой над стриженой гривой лошади, докладывал ему. Голос у Гавро был обеспокоенный, хриплый. Фонарь освещал его широкую ногу и стремя, скрепленное веревками.
– Назначенный комиссар и комиссар по продовольствию – сбежали. В бандиты сбежали, иначе куда! В полдень к нашему расположению подошел вновь пластунский полк под командой товарища Белова и сообщил, что им известно: поляки ведут наступление вдоль железной дороги и что пластуны обстреляли польскую разведку поблизости Ухавы.
– В какой, приблизительно, близости?
– Пластунский полк вновь отказался войти в соглашение и повел самостоятельно отступление на север…
– Ну и черт с ними, пускай катятся!
– Нам, кричат, на вашу Железную плевать. К таким словам нельзя относиться хладнокровно, я просил позволения разоружить пластунский полк. И теперь…
– К черту пластунский!.. Кроме того, что?
– Кроме того, догонявшая нас группа красноармейцев, проходя мимо одной деревни, была оскорблена, избита, обобрана. Да… Двое от полученных ран умерли. Мужики все… С другой стороны… – Гавро вынул ногу из стремени и отодвинул фонарь. Голос у него посерчал. – Если я делаю доклад, то мне необходимо освещать лицо, а не ноги, товарищ пулеметчик. С другой стороны, мною выиграно в карты триста пудов картошки.
– Причем же здесь избитые мужиками красноармейцы?
– В бытность свою военнопленным мне много пришлось играть в «очко», в двадцать одно, иначе. Теперь я применил свой навык, и выиграл у мужика поле картошки. Мужик мне говорит: «Ваша дивизия мужицкая, она всем мужикам счастье несет и освобождение. Ее одну поэтому вся земля прозвала Железной». Я не возражал. Мужик мне говорит: «Ты мне проигранное поле картофеля возврати, потому что ты теперь имеешь право даже его перепахать и таким образом загубить весь картофель», – я ему возразил, что хотя я и имею это право, но поступать так не могу: мне на родине будет стыдно. Мужик мне говорит: «Хорошо, что у тебя есть родина, а у нас и родины нету и насмеяться над глупостью некому. Но ведь и ты ради идеи можешь отказаться от родины». Я ему говорю, что ради идеи я могу отказаться. Мужик мне говорит: «Значит и перепахать поле сможешь ради идеи». Я ему отвечаю: «Если понадобится – перепашу». Мужик мне говорит: «Бери у меня зарытую в яме картошку, вместо поля, триста пудов». И открыл яму.
– Много говорят о Железной?
– Тот же мужик просил меня выдать охранную грамоту от имени Железной на поле. Но я, как не уполномоченный, отказался.
– Говорить везде, что Железная дивизия воюет за пролетарскую революцию, за пролетариат, за освобождение… Да, они правы. И за мужиков! – Плешко легонько потрепал себя по щеке, соскочил с тачанки. Легкий озноб, похожий на то, что тело его наполнялось теплым колеблющимся паром, охватил его. Он пожал руку Гавро и спросил: «Но ведь, несомненно, вы тоже хочете спросить меня об Железной? Она в порядке, в исправности и совершенно боеспособна! Сообщайте при первом же случае всем, что у нас сплошь Железные дивизии, мы… Передайте, возвратясь, что на завтра я предлагаю созвать общепартийное собрание коммунистов бригады. Теперь я желаю покончить с пластунским полком. В каком направлении он ушел? Так вот я еду туда с товарищем… Матаниным. А вы поезжайте и подготовьте… к общему собранию».
Рыхлый топот удалялся в лес. Плешко, свесив ноги с тачанки, долго прислушивался. Восторженный голос Савки, вопящего о том, что с Дальнего Востока пришли пополнения в Железную, донесся до него. Плешко подумал: «Этот сотню нумеров газеты заменит», – и потянул вожжи.
– А нам же сюды свертывать, Ипполит Егорыч, – сказал Матанин. – Вы ж к станции поворачиваете. А сюды, налево-то, мы выйдем на киевское шассе, а по шассе-то и к пластунам. Направо-то вы как раз попадете к линии.
– Пластунский полк, – сказал Плешко, хватая по коням бичом, – при его дезорганизованности свободно появится и на линии. Какая станция следующая за Бровками, которая могла бы быть свободна от петлюровских банд, товарищ?
– По-моему, Магалево. Сказывали…
– Ну, так вот и понесли на Магалево.
Станция Магалево имела три улицы – опрятных, засаженных тополями. При въезде на станцию у кузницы с трубой, похожей на крендель, Плешко увидал пять ободранных конских туш. Свежий и яркий песок могильных холмов сверкал позади туш. Стоптанная поляна окружала могилы. В могилах вместо креста – колья. Стояла дивная луна.
И в Магалеве, как и на Бровках, представители общесоветской власти давно исчезли. Начальник станции, молодой, щеголеватый, даже как будто щеголяющий своим бесстрашием, не удивился появлению Плешко. Должно быть, за время своего пребывания на станции, начальник имел много властей, потому что он спросил деловито и вдумчиво:
– Вы от какого правительства?
– От советского, – так же деловито и вдумчиво ответил ему Плешко. Ему стало смешно. Начальник станции смотрел на него серьезно, не понимая его смеха. – Много правительств имели?
– Правительств с двадцать насчитается21, – все так же деловито отвечал начальник.
– Как ваша фамилия?
– Ирголин. Только фамилия моя при чем же? Сегодня вы вот – третий. От Половецкой республики22 приезжали, спирту спрашивали. Какой у меня спирт? Будто бы я не пьющий.
– Половецкая республика? Не слышал!
– Волость у нас такая есть. Вот если вас подальше в леса погонят, – узнаете. Так и называется: Половецкая республика. Лес да банды и никакой власти. Вам до какого города надобность?
– О Железной дивизии слышали?..
Начальник станции, положив правую руку в карман, с удовольствием простер левую к чистенькому и пустому перрону.
– Железная дивизия через меня не проходила, иначе слышал бы. А какой город и какой вы части сами?
– Город Киев, а часть… – Плешко с удовольствием смотрел на важность и медлительность начальника станции. Усы у него так подстрижены, словно он знает, что ни при каких правительствах его не убьют и надолго еще ему понадобятся такие опрятные усы. – Часть наша сводная бригада…
– Город Киев я вам дать не могу, потому что на город Киев провод перерезан, но представителей бригады как раз разыскивал бронепоезд.
– Из Киева?
– Раз бронепоезд, – думаю, из Киева. Сказал: приеду еще, а возможно, и не приедет. Вы меня извините: разрешите вам посоветовать поставить караулы, чтобы вас, случайно, не убили, а сами отдохните у аппарата: звонить-то наверняка бронепоезд будет. Там диванчик…
Все – и начальник станции, и сама опрятная станция с пустующими и светлыми рельсами, даже фонари – три больших фонаря – горели на перроне, – все сильно нравилось и умиляло Плешко. Начальник станции делает свое дело, он помогает справедливости. Что такое справедливость? – Совершенно неясное понятие. Справедливость всегда побеждает, а начальник станции помогает победителям, – вот и получилось, что он помогает справедливости! Плешко прилег на диванчик. Острые пружины впились ему в бок, вскоре и клопы поползли на него. Ему не спалось, и он чувствовал, что не заснет всю ночь. Часто из-за работы ему приходилось не спать ночи, но никогда он не чувствовал такого умиления, что не спит, и даже умиления от желания не спать. Он может заснуть. Звонок разбудит его! Мрачно-трусливый Матанин караулил бы исправно всю ночь, пытаясь спрятать в себя и трусливость свою и мрачность. Вот клопы ползут по крыльцам, в те именно места, где их не достанешь. В комнате пахнет сухой бумагой и шубным клеем. А он, Плешко, лежит и думает, что Железная дивизия не пропала и не пропадет, хотя она сейчас и без политотдела, без коммунистов. И даже не важно, если Плешко и его друзья не вернутся к дивизии, а сгинут вот тут в лесах, в какой-нибудь Половецкой республике. Железная дивизия есть справедливость, та хорошая мужицкая справедливость, которая лучше всякой грамоты охранит картофельное поле, пашню, покос. Все превосходно! – Бронепоезд прибежит. Кавалерист Саша Матанин караулит исправно. Ночь – теплая и веселая – идет быстро, и ожидание нисколько не утомительно! И как нехорошо, что он в начале организации бригады раздражался, обижал кого-то, ворчал… Теплый озноб неотступно владел им, голова его горела.
Матанин входил несколько раз, все повторяя, что вокруг станции будто люди какие ходят. Плешко вышел на крыльцо. Село было темное, пласты улиц лежали как гроба. Далеко где-то скрипели ворота. Их, наверное, забыли закрыть, они скрипят, хозяева трепещут, а выйти закрыть страшно. А пройдет десять-пятнадцать лет, и село будет освещено электричеством, и девки в шипящих новых ситцевых платьях, – грудастые и широкозадые, – в обнимку с парнями, горланя и смеясь, пойдут по улицам, и никто не вспомнит ни Плешко, ни трепещущего Матанина. «И отлично, очень хорошо, что не вспомнят», – с удовольствием подумал Плешко.
– От войны и собаки отучились лаять, – сказал кавалерист протяжно. – Стою, а мне все чудятся люди. Пластуны?
Они стояли долго. Вдруг тявкнула собака, – одна, другая. Издалека донесся чуть слышный пулеметный огонь. Кавалерист принес почему-то фонарь. И этот дрожащий и бледно-желтый свет на прямой траве у крыльца умилил еще более Плешко. «В Ухаве бой… – тихо сказал кавалерист. – Я им советовал один фланг, а они небось к речке…» Но Плешко уже верил, что произошло так, как он советовал – они, укрепив единственный свой фланг, держались с честью, и поляки отступили! Затем он услыхал несколько заглушённых орудийных выстрелов, похожих на то, как если хлопнуть ладошами в мешке. Ласточка пронеслась над головами. Лиловое облако склонялось к земле. Стало свежо. Светало. Кони заржали. У кавалериста были припухшие красные глаза. Он принес в большом деревянном ведре воды поить коней. Ведро холодным бисером окаймляла крупная роса. Кони, сверкая влажными ресницами, тянулись к ведру.
– Дуй к Пузыревскому, – сказал Плешко, – не то заснешь у ведра. Передай: на бронепоезде из Киева от Железной посланы снаряды. Могут приехать, получить!
– Во-о, браток, в Железной-то как в ружье: и масло, и смерть. Письменно бы, а то скажут – наврал.
– Только на словах. Дуй!
И Плешко вновь вернулся к аппарату. Ему думалось, что если бронепоезд со снарядами не придет (Плешко был в непоколебимой уверенности, что бронепоезд именно везет снаряды), бригаде будет передано – бронепоезд задержан поляками. Да, если даже и не везет снаряды, а письменные директивы – разве нельзя попросить взаймы снарядов у бронепоезда, и сказать бригаде – из Киева, от Железной?
И вскоре ординарец, подслеповатый, прикрытый дерюгой и в рваных галошах поверх лаптей, передал записку от Пузыревского: «Ночью подошла польская разведка и пыталась случайным нападением занять переправу через озерко и речку. Вначале наши часовые, стоявшие там, растерялись и было побежали, но через некоторое время начали отвечать и подняли на ноги всю бригаду. Польская разведка все-таки получила отпор и ушла. По последним сведениям, поляки заняли Бровки и ведут оттуда наступление на Магалево».
Начальник станции, все такой же опрятный, бритый и хорошо выспавшийся, аккуратно выходил на перрон в те минуты, когда по расписанию должны были проходить через Магалево пассажирские поезда. Наступил полдень: жаркий, пахнущий созревшими листьями, травой. Плешко все еще сидел у аппарата. Радость не оставляла его. Рельсы вдали, среди леса, походили на зимние былинки: покрытые льдистой коркой, хрупкие – веселые рельсы. Начальник станции подошел к окну. «Дымок, – сказал он снисходительно, – вам, думаю». Голубой дымок, похожий на жучка, скользил над лесом. Наконец, квадраты бронепоезда, окрашенные в защитный цвет, шипением и гулким грохотом заполнили станцию. Бабы притащили продавать молоко.
Так и произошло, как предполагал Плешко: бронепоезд, согласно распоряжению Киева, привез снаряды. Начбронепоезда, румяный и длинноногий юноша, очень любивший свою машину, торопил с выгрузкой. К тому же опять от Ухавы послышались орудийные выстрелы. Опять поляки перешли в наступление! Плешко сказал начбронепоезду:
– Я предлагаю вам (Плешко понимал, что начбронепоезда откажется категорически, но сказать это необходимо хотя бы потому, чтобы укрепить в душе сознание: из этого катастрофического положения бригада обязана выбираться своими собственными силами и даже гибнуть, не надеясь, что о гибели ее будет известно кому-либо и что дневник Гавро дойдет до его сына), – Плешко отчеканил пронзительно: «Я предлагаю двинуться и обстрелять Бровки, дабы бригада находилась под защитой орудий бронепоезда».
Румяный начбронепоезда завизжал, вскинул руки и топнул ногой:
– Я не пойду! Мне приказано передать вам снаряды, а в темные операции партизанского свойства я вмешиваться не намерен.
– Ну и вались к черту!
Румяный начбронепоезда, ругаясь и совсем по-детски взвизгивая, побежал в свой вагон. Начальник станции сделал под козырек. Груда снарядов осталась на перроне. Голубой жучок опять появился над лесом. Прискакал Матанин. Его глаза еще больше покраснели, рыжие космы волос крутились на тощей и мокрой его шее. «Бригада в полном порядке отступает от поляков», – сообщал Пузыревский. И Матанин добавил: «Да, действительно, никого не покинули». И у Матанина необычайно многозначительно и мило получилось это «не покинули», по которому можно понять: и Пыхачев, и Болдырев, и Феоктиста Степановна, и Анна Осиповна, учительша, прикрепленная к клубу, вскоре будут на станции живы и здоровы, готовые на хорошие разговоры и на хорошие поступки. Плешко с удовольствием разостлал свою шинель подле снарядов, прилег, но ему не спалось. Он прикрыл глаза и подумал: Матанин стоит подле и зло смотрит на командира, который ничего не боится и может спать. Плешко открыл глаза – Матанин смотрел на него зло. Плешко стало еще веселей, и даже мысль, – что ни ему, ни начбронепоезда не пришло в голову спросить друг у друга бумаги, расписку в получении снарядов, наконец и Рейх неужели на словах не мог передать каких-либо директив, – не огорчила его.
Бригада заняла Магалево23.
А в сумерки, с песнями и воем, ворвался на станцию пластунский полк. Пластунский полк расставил свои караулы. Пластуны, рваные, длинноволосые, обвешанные оружием, в обнимку длинными рядами ходили по улицам станции и орали песни. Плешко пришел посмотреть, как красноармейцы грузят снаряды на подводы. Красноармейцы тоже были оборванные, большинство в лаптях. В баньку бы их… А Пузыревский предлагает отступать глубже, и едва-едва Плешко уговорил сделать сегодня собрание бригадного партактива. Несмотря на бессонную ночь, Плешко чувствовал себя превосходно и знал, что и сегодняшнюю ночь он не заснет. Руки у него горели и в локтях, выше к плечу, томительно и в то же время сладко ныли какие-то жилки. Ему понравилось, как красноармейцы бодро и весело погружают снаряды (а на самом деле у красноармейцев были восково-глиняные лица, и тот снаряд, который раньше несли бы двое, подымали теперь пятеро), и подводы ему понравились. Затем он направился на собрание партактива. Пластунский патруль остановил его. Пластуны не только план обороны, но и пароль забыли сообщить! Разговаривая с патрулем, он увидал в соседней ограде фургон клуба. Рыхлый свет сальной свечи падал на узенькую ступеньку. На ступеньке валялся розовый ситцевый лоскуток. Плешко поднял этот лоскуток и, разглаживая его в руке, спросил: многие ли пристают к Феоктисте Степановне и сильно ли надоедают? На Феоктисте была стеженая солдатская куртка и волосы, стянутые венком из березы. Она ответила, что сдерживать не трудно, тем более, что можно говорить о деле или о починках, люди так обтрепались. Вот разве пластуны. «С пластунами я договорюсь», – сказал Плешко, весело глядя ей в лицо. Ей тоже стало весело, потому что она положила свою руку к нему на плечо и тягуче выговорила: «Какая у вас маленькая и, видимо, теплая рука». Выступила луна, тень от фургона была густая, и Феоктиста сказала про эту тень, что она походит на плащ, и Плешко согласился с ней. Голова ее пахла березой, и она сказала: «Анна Осиповна услышит, засмеет. Подумает: я гулящая. А между тем, мы дали друг другу слово, что пока не будет найдена Железная дивизия, до тех пор мы никого не поцелуем. Нашли, Ипполит Егорыч, Железную?».
– Почти нашел, – ответил торопливо Плешко. Она вырвалась и, вскакивая на ступеньку, сказала шепотом: «Меня еще никто не целовал так, как вы… милый», – то есть произошло почти так, как он думал однажды: фургон, луна, старые слова, от которых бывает удивительно приятно. И старинный-старинный шепот. И деревья с таким запахом, прелесть которого никогда, за всю жизнь, не понимал раньше этого поцелуя и шепота!..
На перекрестке ругались два патруля: пластунский и бригадный. Плешко узнал пронзительный голос Савки Ларионова:
– Вы, суки, растыки каторжные, почему так пароля не сообщаете?
Пластун в длинной барашковой папахе и ружьем, украшенным зубчатым немецким штыком и цветочком в дуле, бурчал:
– Без пароля прожить можно, а ты вот без сапог проживи. Нашли у вас в бригаде одиннадцать пар сапог, али не нашли?
– Ну, нашли, а тебе какое дело до бригадных сапог?
– И не крякай тогда, пока в морду не дал!
– Мне в морду, ку-урва ты, ерник старый, мне в морду? Да я, да ты знаешь, с кем говоришь? Ты про Железную слышал?..
И Савка, подпрыгнув, ударил пластуна в зубы.
В узкой и длинной комнате пахло керосином и селедкой, с потолка свисали обрывки веревок, посредине торчали остатки перегородки, три широкие полки занимали угол. Раньше здесь была мелочная торговля, а теперь штабной писарь Петрых в коротенькой коричневой куртке и стоптанных охотничьих сапогах выстукивал обращение штаба бригады к пластунскому полку. Машинка поломанная, треск от нее был неимоверный, Петрых высоко взмахивал локтями, свеча в синей бутылке тряслась в такт стуку, освещая пятнами лицо писаря, и тогда казалось, что огромные непонятные буквы сверкают у него во рту.
Пузыревский стоял, положив руку на плечо Кабардо, коротконогого безбрового паренька из Интернациональной роты. Кабардо был, кажется, из немцев-колонистов, служил раньше механиком на паровой мельнице, рано женился, имел уже троих детей и все жаловался, как стало тяжело жить с семьей. «По сообщению артиллерийской разведки, – говорил Пузыревский, – шоссе испорчено поляками, а если пробираться проселочными дорогами, то необходимо переходить линию, в четырех верстах от Магалево, ближе к Бровкам, подле села Картинное, которое, тоже по сведению разведки, занято сегодня на закате поляками». Пузыревский достал кисет и присел на корточки. Вдоль стен, куря и сипло сплевывая, сидели тоже на корточках люди ячейки. Пыхачев длинношеий, с еще более за последние дни потончавшим носом, заговорил хмуро, часто кашляя и пристально глядя на Плешко:
– К сожалению, я предлагаю пробиваться через линию, мимо поляков, так как из-за бабничанья и разгильдяйства мы имеем на ногах такую гирю, как пластунский полк.
– Почему бабничанья? – торопливо спросил Кабардо.
Плешко понимал, отчего говорит так Пыхачев, и было приятно знать, что Пыхачев сердится и негодует и думает, что Плешко может из-за баб уклоняться от важных операций. Плешко пристально и немного весело посмотрел на Пыхачева и сказал:
– Мое предложение абсолютно противоречит предложению товарища Пыхачева. Я считаю, что бабничать возмутительно и предлагаю: ударить на поляков, расположившихся в селе Картинном…
– А пластунский полк? А вторая рота?
– Причем тут вторая рота, товарищ Пыхачев?
– А притом, – закричал Пыхачев, но тут вошел Матанин и сказал, что представитель пластунского полка товарищ Белов явился на заседание. Кабардо шепнул Плешко: «Вот с бабами-то беда. Чисто солнце незаметны: само на дворе, а рукава в избе. У меня у самого мука и тоска…». У него были, действительно, бесцветные и наполненные непередаваемым мучением глаза.
Пиджак у Белова по-прежнему крест-накрест пересекали ремни, фуражка у него была на затылке. Он стукал сапогом о порог, и желтая пыль плясала у его подошв.
– Тож у вас порядки, товарищи из бригады, ваш парень нашего патруля в кровь избил. При таком избиении, товарищи, война может междоусобная заняться. Тоже – Железная и Железная, а при таких словах…
Плешко близко подошел к Белову:
– Я предлагаю перейти в наступление на поляков и, разбив их, прорваться в Киев, по шоссе, а?
– На Киев? Да вы, товарищи, смеетесь над пластунами! А где ваша славная вторая рота? Полагаете, нам неизвестно? Где?
Пыхачев тягуче и зло отозвался из угла:
– Я уже сообщал товарищу Плешко, что вторая рота рассыпалась и комиссар бригады, товарищ Болдырев, исчез вместе с остатками второй роты.
И Плешко вспомнил, что, верно, до сих пор он не встретил Болдырева. Но как же сообщили, что бригада отступила в полном порядке, когда нет целой роты? Собрание уже все вскочило на ноги. Кабардо дико кричал что-то Белову. Пыхачев, кашляя и плюясь, крутил в углу папиросу. Савка Ларионов вопил, что он не только патрулю, но и самому командиру может набить морду. Но и исчезновение Болдырева, и явная растерянность ячейки не уничтожили того радостного и умилительного чувства, которое владело Плешко уже второй день. У него по-прежнему пылали руки, и надо было водить ладонями по одежде, чтобы как-нибудь уменьшить жар. Он знал, что собрание откажется наступать на поляков, эти пепельные истомленные лица хотят сна и немного пищи. Они получают в день фунт хлеба и немного каши. Они оборваны, покрыты вшами, во всей бригаде нет ни одного куска мыла. От женщины, которая сегодня обнимала его, пахло салом. Она, должно быть вытирала грязь с лица куском сала. Вот командир Белов орет Савке:
– Бригада имеет одиннадцать пар сапог, а что видят от этих одиннадцати пар пластуны?
– Какие сапоги, товарищ Ларионов?
– А ну их к черту, с сапогами вместе. Вы, товарищ Плешко, не думайте о второй роте. Всего в роте сорок человек и половина – местные коммунисты, приставшие по дороге к бригаде. В район Половецкой республики они опасались попасть (банды тут… ух!..), а Болдырев не мог сбежать, убит скорей всего!
– Наплевать, другого Болдырева соорудим. Какие сапоги?
– Ящик тут раскупоривали, со снарядами думали али с консервами, а там сапоги. У нас и на повестке дня стоял вопрос о сапогах, а тут пластун этот приперся… Зачем приходить, ремней твоих не видали?
Красноармейцы внесли длинный ящик с надписью охрой: «Осторожно». И они, действительно, осторожно опустили ящик на пол. Писарь со свечой и с листом бумаги медленно, при общем молчании, приоткрыл крышку. Одиннадцать новых пар сапог, тесно прижавшись друг к другу, лежали там. Прекрасный свежий запах кожи дохнул на собрание. Деревянные и железные гвозди сверкали на чистых палевых подметках. Каблуки были мощны и великолепны. Всю землю округ, три раза округ земли можно пройти на таких каблуках. Сладострастие изображали те лица, что при свете толстой и противно пахнущей свечи, наклонились над ящиком. Шумный вздох как бы колебнул комнату. «Хорошие сапоги», – медленно пролепетал Кабардо.
– Вроде, на ять, – вздохнул Белов.
Затем писарь отстукал на машинке билетики, представители от рот и представитель от пластунского полка командир Белов тянули билетики. И при общем хохоте три пустых билета вытянул пластунский полк! Роты будут тянуть особо. Они уже строятся на улицах. Гул возбужденных голосов наполнил станцию. «Смирно!» – вопил компомроты. Сапоги, сапоги идут по рядам, и ноги вытягиваются, чтобы попасть точно в мерку, потому что, если сапог окажется мал, тогда что… Но сапоги все на один размер – пол-аршина почти подошва, революционный размер у сапога!
Ячейка продолжала заседать, когда босой и прихрамывающий красноармеец тронул легонько Кабардо за плечо. «За тебя тянули, ну тебе по интернациональной роте и вышло», – сказал он обрадованно и выкинул из-за спины перед Кабардо пару сапог с громадными и толстыми голенищами с синими ушками. Опять запах великолепной кожи заполнил лавочку! Собрание прервалось, и председатель собрания товарищ Плешко поздравил Кабардо с сапогами. Кабардо примерил – сапоги были как раз. «Тем не менее, – сказал Кабардо, весь искривясь и злясь, видимо на то, что слова у него не те, которые бы он хотел сказать, – тем не менее, я сапоги!..» Он посмотрел на ноги красноармейца и поднес широкую свою ладонь к глазам. «Ты ноги стер и босиком. И вот бери, не надо мне сапог… Все бери, довольно бабничать!» Слезы показались у него на глазах. «Бери и благодари республику. Во-о!..» Красноармеец с сапогами убежал. Собрание смотрело в пол, молчало.
– Теперь перейдем к вопросу о продовольствии, – сказал Плешко.
Накрапывал дождь. Животные, утомленные дневным переходом, еле шли. Несмотря на то, что в полутора верстах от дороги в селе стояли поляки, красноармейцы дремали. Ряды штыков зыбились. Савка с пятью пулеметчиками стоял в стороне дороги. Пулеметы его смотрели на поляков. Далеко где-то по небу скользнула ракета, другая. Плешко, дабы ободрить красноармейцев, шел на левом фланге перед реденькой фланговой ротой. Какой-то красноармеец сказал, глядя на ракету: «А коли над нами пустят, и кишок не соберешь, а мне бы только выспаться, ей богу». И Плешко вспомнил, что вот он не спал всю ночь. Прилег было на прилавок – розовое и теплое покатилось ему на глаза, и он тотчас же вскочил и стал думать. Мысли у него в эти дни – резкие, очень однообразные и, возможно, однообразием своим-то и умилительные. Он думал, что бригада поступила правильно, когда отказалась идти на поляков, в лоб. Может быть, и Киев-то давно сдан, и, выбравшись на шоссе, они попали бы под орудия поляков и под сабли кавалеристов. А надо бродить, вилять, ускальзывать…
Он вспомнил, как полчаса тому назад встретился фургон и заспанная Феоктиста спросила его: «Что фургон на правильном пути!». Глупый этот вопрос рассмешил его, да и она вскоре рассмеялась уныло как-то. Потом она говорила, что как красива и великолепна бригада, пробирающаяся под носом противника к своей родной Железной дивизии. И Плешко ответил, что ничего красивого и великолепного, а только одна бестолковая суматоха. Вот фургон влез в середину, когда ему нужно идти в хвосте вместе с обозом. Если вы имеете возможность спать, а не идти пешком, то и спите! Феоктиста выпрыгнула из фургона и пошла с ним рядом. Она гордо, крепкой ногой ступала по грязи, и Плешко, понимая, что не надо так думать, все же смотрел и думал о ней с радостью. Она начала говорить о Бессонове, бандите, главе Половецкой республики. Анна Осиповна много знает о нем, мужики его очень любят. Он немедленно же после переворота, еще в феврале, отдал и поместье, и деньги, и хлеб мужикам и сам ушел в мужики и стал пахать. Теперь он оброс бородой, величественный, высокий, красивый. Мужики его любят, называют своим мужицким царем. А он анархист24.
– Какая чепуха, Феоктиста Степановна.
Но ведь роты бригады, действительно, редеют? Мужики из рот бегут! А куда им бежать, как не в Половецкую республику? Бригада ведь через нее пойдет, через республику, не правда ли? И Анна Осиповна полагает так, что, наверное, пришло в бригаду назначение уничтожить Бессонова и Половецкую республику, как бандитов. Я согласна с этим, их надо уничтожить!
Плешко сделал ей под козырек. Ему показалось, что она его хотела обнять, взмахнула руками… И он был доволен, что отошел от нее (не бабничать!) и злился в то же время на свою трусость. Когда Пузыревский догнал его, он вписывал на третьей странице желтенькой книжки «Ф. С. Мицура».
– Интернациональная рота неохотно выставляет своих в заставы. Вот, товарищ Гавро, объяснитесь. Надо держаться крепче, если начали.
Гавро, запыхавшийся, чуть-чуть прихрамывающий, вытянулся пред Плешко подле. Тихо щелкали бичи, чавкали копыта. На пригорке висело над белой дорогой Картинное.
– У вас даже Болдырев сбежал.
– Болдырев убит. Если начали, держитесь.
– А нашей роте, товарищ Плешко, бежать некуда. Мы не мужики, а интернационалисты, нас, о, да, на осину. Наша рота устала!
– Запишите об этой подлости в свой дневник, когда в самую тяжкую минуту… Это вам не первые дни! Поговорили!..
– Слушаюсь, товарищ Плешко. Я иду сам в заставу. И об этом тоже запишу, о, да.
Он уже отошел прямо, не хромая, и Пузыревский подтолкнул Плешко в бок, указывая на походку. «Их так и надо, за самые внутренности брать.
И хромать забыл!» – и Пузыревский пошел в арьергард, так как опасались, что поляки могут напасть на бригаду сзади. Плешко догнал Гавро и спросил: «Кабардо выпить любит?».
– О, это вы о сапогах, – увеличивая шаги, ответил Гавро, – несомненно, он был пьян25. Он любит выпить. Он молод, но алкоголик, о, да! Если начали, вы правы, надо…
Картинное не проснулось. Бригада проскользнула. Показались тусклые рельсы железной дороги. Пластунский полк гикнул и помчался. Взвился шлагбаум. Стрелочник, древний старичок в дрянном полушубке, накинутом на острые плечи, спросил с крыльца:
– В Половецкую республику направляетесь, что ли? Туды все бегут. Нон-че утром еще Бессонов проезжал, на тройке, сукин сын, в фаетоне…
Шли всю ночь и весь день. Было пыльно и жарко. В сумерки бригада увидала Днепр. Левый берег пологий, далекий, на горизонте сверкала коса, похожая на стрекозу. Мужики вспомнили, что скоро покосы, и вздохнули.
Паренек в лаптях и свитке, с кнутом на плече и с чахоточным, злым лицом смотрел с пня, как бригада распрягалась, разбивала палатки, кипятила чай. От фургона к реке шли женщины, усталые с запухшими глазами. Анна сняла ботинки, и косые и влажные следы ее ног играли на глине. Пластуны собрались подле парома с пробитым дном. Паренек в свитке прокричал с пня: «Республиканцы попортили паром! У нас Бессонов есть и своя власть, нам никакой другой власти не надобно».
Плешко направился к парому. Обходя одну из телег, он увидал налитое кровью лицо Гавро, откинувшееся на колесо. Слезы ползли у него на пышные прокуренные усы. Обеими руками он держался за обод. Кабардо, с испуганным и в то же время торжественным лицом, тянул с его ноги сапог. Грязная онуча густой кровью пачкала ему руки. Кабардо сказал, протягивая мокрую от крови ладонь к Плешко: «Он был ранен в икру, но направился в засаду, так как по задачам…».
– И глупо, – сказал Плешко, отходя, – мог сдохнуть. Засада… Паренек в лаптях взмахнул бичом:
– И по ту сторону тоже Половецкая республика. И там Бессонов. Господь бог вас спасет и помилует. Нету у нас ни паромов, ни лодок…
Пузыревский погрозил пареньку пальцем:
– Я с тобой могу поговорить. Поди, паси коров лучше.
Пузыревский постепенно день ото дня проникался к себе все большим уважением. Он предлагал и сам отвечал на свои вопросы. Несколько цитат уже мелькало в его фразах. Он стал вспоминать, как ничтожно мелко жил он раньше и как революция открыла ему глаза. Он с удовольствием, делая соответствующий речи жест, сказал Плешко:
– Обоз придется караулить, как бы мужички не удрали.
– К Бессонову?
– Но куда они могут удрать? Безусловно, к Бессонову. Сумасшедший какой-то: жрет черный хлеб и воду. Говорит, настоящая крестьянская пища и в ней правда. А вся правда в исторической жизни. Конечно, в ней.
У Пузыревского было лицо багровое от попыток высказать далекие и ему еще самому не ясные мысли. А Плешко спросил себя: не потому ли ему как-то знакомо и весело слышать эту фамилию Бессонов, что она напоминает ему его бессонницу, а он чувствует себя отлично, Он хотел было пройти мимо фургона, но ему подумалось: от кого ему прятать свои встречи с женщиной и вообще он не Стенька Разин и бригада не понизовая вольница. Подле фургона выпряженные кони сонно жевали овес. Погонщик, раскрыв рот и раскинув руки, спал на земле. Да и весь лагерь спал. Часовые ходили через силу и зевали. Как странно, ведь только десять минут назад скрипели воза, ржали кони и мычали быки, а теперь такая тишина. Он стоял и думал, ухмыляясь своим мыслям: «ведь не будить же мне ее!». Открылась дверка, и сонное лицо Феоктисты вяло улыбнулось Плешко. Он появлению ее нисколько не удивился. «Я сейчас», – сказала она в фургон. Плешко взял ее за руку; она, продолжая вяло улыбаться, прошла с ним в тополя. Плешко положил ей руки на плечо. Она прислонилась щекой к его руке, и веки ее стали влажными и серыми. Затем, поглаживая глаза, она приподнялась на локтях и медленно проговорила: «А мне еще надобно спать», – и Плешко показалось, что необходимо какое-то объяснение всему происшедшему, если даже оно и не повторится, и он показал рукой к реке, к оврагу, похожему на гребенку. Об овраге он подумал, потому что было слышно, как там позвякивал ручей:
– Вечером, часов в девять.
Она зевнула, переспросила:
– В девять? Хорошо, приду.
Он ходил долго по лагерю, и чем он больше думал, тем ему яснее и яснее казались те причины, по которым он должен говорить с Феоктистой в девять часов. Ясно, она соскучилась по мужику, видела какой-нибудь сон, и то, что произошло, было продолжением сна. Плешко в своей жизни знал мало женщин и всякое новое прикосновение наполняло его удивлением и преклонением пред женщиной, которой он нравился.
Он глубоко вздыхал, а воздух, действительно, был хорош. Лагерь медленно просыпался. С кулем овса, наполовину опорожненным, прошло мимо два красноармейца: «Скоро, сказывают, и Железная грянет». И второй ответил, что давно пора бы ей грянуть. И Плешко подумал, что вот надо бригаде спешить на соединение. «Бессонов, Бессонов», – пробормотал он, дотрагиваясь до щеки. Кабардо стоял подле телеги, под которой спал, стоная во сне, Гавро. Кабардо пил чай из стакана, сделанного из бутылки. Он налил кружку Плешко и вновь уставился смотреть на реку.
– Гавро всю ночь, Ипполит Егорыч, шел. И молча. Я ему говорю: «Запиши для дому», а он: «Личные страданья ни при чем, и моим страданьям мало кто поверит». Хорошо, что навылет. Если начали, говорит…
Щербаков, потягиваясь, потянулся с кружкой к чайнику.
– Хороший человек, – сказал Плешко.
Щербаков взболтнул чай и отозвался:
– Хороший-то, может, и хороший, но о себе много думает. Полагаешь, не записал про ногу? Ей богу, записал! Ты его спроси.
Сверху показался голубой пароход с черной широкой баржей. Мокрый канат дрожал бесконечными искрами. И баржа и пароход были густо нагружены красноармейцами и конями. Белов скомандовал пластунам взять ружья, Пузыревский согласился, чтобы пароходу было предложено остановиться и перевезти бригаду на левый берег. Если пароход не остановится, – пластуны откроют огонь в воздух.
С пароходных колес трепетно и легко скользила вода. Капитан, чистенький и легонький, бегая по мостику, с матерками выкрикнул отказ. Красноармейцы вывалили на палубу парохода. «Огонь по пароходу!» – скомандовал Пузыревский. И вдруг Белов замахал пароходу папахой:
– Э-эй, земляки, здорово!
Пластуны захохотали, замотались по берегу:
– Счастливой дороги, черти.
– Нас чего не берете!
– Где Митька?..
И с парохода отвечали таким же топаньем и хохотом:
– Подох Митька!..
– Грязи на вас много, не увезешь!..
Пароход скрылся. Больше всех озлился Савка. Стружки волос заскакали у него на лбу. Рот его ощерился. Виден был второй пароход. Савка подскочил к Белову.
– Тоже наши, – сказал Белов торжествующе. Он еще раз вскинул бинокль. – Наши и впрямь! Наши вперед и назад идут первые!..
– Практика, курвы! – сказал Савка, влезая на тачанку с пулеметом.
Баржа была гружена стульями, столами, кипы бумаг ползли из-под неимоверно-широких брезентов. На одном из брезентов, прикрыв голову буркой, спал, далеко раскинув ноги, пластун. Далеко было видно его мерно дышащий громадный живот. Пузыревский со злостью посмотрел на Белова:
– Товарищ командир, прошу открыть огонь.
– По своим-то? Не открою.
– Придется нам открыть!
Пластуны взмахнули рукавами, заорали:
– Попробуй!..
– Поглядим на твой огонь!!.
Пулеметная лента замелькала в Савкиных руках.
– Опять та башка, которая у нас пластуна избила!
– Слезай!!.
И красноармеец какой-то соболезнующее крикнул:
– А ты бы слез, Савка, верна!
– Не слезу!..
Белов оглянулся на пластунов:
– Слезай, пропадь!..
Савка сдвинул шапку на глаза и крикнул пароходу:
– Стой, иначе, по распоряжению уполномоченного, огонь.
– Огонь, – сказал Плешко.
В руках у красноармейцев показались винтовки. Пластуны стояли неподвижные. Белов глядел на Плешко. Пулемет затрясся. Пули зарябили у колес. Пули крутились колесом около колес; затейливые цифры скользили подле парохода. Солдаты на пароходе заметались, несколько человек подняли руки, и белое знамя поплыло над капитанским мостиком. Хохот понесся среди пластунов. Савка тоже хохотал. Пароход повернул к берегу.
Капитан, свисая с мостика, угощал Савку папиросами и, глядя, как пластуны скидывают на берег тюки бумаги и стулья, меланхолически рассказывал:
– Я хотя, видите ли, семью успел захватить, но Киев спешно, видите ли, эвакуируется и хотя еще не сдан, но каждую минуту можно ожидать его падения.
Савка носился среди подвод, хлестал бичом, подбадривал возчиков, которые не хотели ехать на левый берег: боялись, что их оттуда не отпустят. Плешко спросил:
– А ты кем был раньше, Савка?
– А я тарской, теперь маляр, а одно время, вишь, на пароходе буфетным мальчиком ходил. Сильно мне потешно стало пароход задержать.
– А тебя пластуны могли…
– Я и на то рассчитывал. Мне вот батя говорит: «Ты, Савка, ни на кляпа не способен». А я вот рассчитывал – треснут меня, а вы тут их разоружите. А теперь попробуй дотронься до них. Мы, скажут, плюем на вашу трудовую дисциплину, вы вон, мол, по своим позволяете стрелять. И к Бессонову могут свободно уйти!..
Пароход неустанно пересекал Днепр. Подводы ж не редели. А к вечеру – капитан схватился за голову. Новый длинный обоз показался на дороге. Впереди, на каурой лошаденке скакал рыжий мужик, широко размахивающий руками. Это был Болдырев.
– Еле догнал вас, парень, – сказал он Плешко. – А вы, поди, думали – Болдырев утек?
– Так ты ж и утек, стерва, – сказал Пузыревский мрачно. – Нонче у села солдата убили нашего. Ты нам доклади, а мы тебя, может, под суд отдадим.
Болдырев докладывал. Ему было жалко покидать Ухаву, не захватив продовольствия. Вторая рота, целиком из местных крестьянских работников, осталась с ним. Конечно, поляки наступают, Плешко в стороне – кто ж разрешит хлеб выкачивать? Он рискнул. И вот теперь сорок четыре воза! А было всего удивительней, что, окончив доклад, Болдырев вдруг замотался, затряс руками и боязливо сказал на ухо Плешко:
– Надо, парень, из этого села немедленно драть. Я вот въехал, а у меня сердце сразу заныло.
Темнело. Телеги вкатывали на баржу. От беспокойства Болдырева, что ли, красноармейцы говорили тише. Все они с тревогой смотрели на крутой, темный, пахнущий гнилой соломой берег.
После того как Пузыревский отошел от него и опять вернулся, Плешко долго хотелось вслух повторить его слова: «При малейшей измене стрелять». Икры дрожали, и как бы липкая дрожь проходила по ребрам. Какая неохватная бессмыслица округ! Почему измена? Кому?
Заплатанное галифе тесно охватывало толстые ноги Пузыревского; карманы его маслянистого и плохо пахнущего френча оттопыривались от набитых бумаг. Хотя бы влюблен он в нее был, а то ведь…
– Я наблюдаю, товарищ Плешко, чтой-то она на баржу не садится, а все меж подвод шнырит и шнырит. А немного погодя – шварг в кусты, и к речке, к оврагу. Слухает и ждет. Я подхожу: дай, думаю, разузнаю: с кем она, а шаги у меня, сами знаете, неосторожные, крупные. Она меня услыхала и дале дерет к селу, по пригорочку. Песок так у ней из-под ног сыпется. А в селе сидят, возможно, половецкие и вообще народ кругом бандит. «Не, – думаю, – голубушка, тебе про нас не сообщить? Стой!» А она еще крупче. Ну, я ей и вслед ухнул. На рассвете у села нашего солдата убили, за молоком пошел, что ли! Молотком в затылок и на языке – рана. Та-ак?.. А зачем ей в овраг? Мы ее, вместе с Матаниным, в реку и спустили.
– Так точно, – отозвал Матанин, – я перепугался даже: она перед смертью-то так, знаешь, тявкнула, чисто собака, сколько-то раз.
Плешко сильно сжал пальцами щеку:
– Глупо. Кому об нас сообщать? Состав бригады постоянно текучий, мужики бегут все время. Разве они не могут сообщить о нас врагам?
– Мужику могут и не поверить, и у мужика глаз темный, – черта ли он им увидит?
– Когда убили?
– В девять, в десятом, кажись. Надо было бы допросить…
На одно мгновение Плешко казалось, что он засыпает. Костер бежал за спиной Пузыревского. Зазвенело ведро, и донесся веселый голос Савки:
– Последняя подвода! Вот я на последнюю подводку-то с пулеметом и сяду, а то еще мужички вслед нам, потому половецкие они… Ипполит Егорыч, где ты? Капитан, гуди отвальную!..
– Подайте мне рапорт об убийстве Феоктисты Мицура, – сказал Плешко и, обернувшись к барже, громко и твердо добавил: – Мы идем, готовы.
Подле мешков из грубой крестьянской дерюги, на чемодане, когда-то обтянутом кожей, от которой остались жалкие черные клочки, сидел Кабардо и писал протокол собрания. Костер горел рядом с ним. Пыхачев, сморкаясь и в то же время отмахиваясь от дыма, говорил политрукам:
– Первым приступает к своим обязанностям клуб, который, развернув свою библиотечку…
Голос у него был глухой и как бы смятый, Плешко жалко было его прерывать, но он боялся, что с правого берега поляки откроют огонь по дыму костров и сваленному имуществу, – он, потирая щеку, сказал:
– Извините, что я вас прерву, но, по-моему, необходимо послать в ближайшие деревни кавалеристов для мобилизации подвод. И, кроме того, необходимо обсудить кандидатуру в комиссары по продовольствию товарища Болдырева. Это совершенно необходимо.
Затем он, размахивая ладонью перед ребрами Болдырева, долго объяснял ему, что когда революция будет подсчитывать своих героев, то продовольственникам будут ставить огромные памятники. Болдырев улыбался, любовно поглядывал на него. Пузыревский подошел и стал прислушиваться. Вот и Пузыревский – монтер, самоучка, а уже командует бригадой и вообще парень молодец. И ему пришло на мысль – «молодец, исполнительный, как запомнил приказание: при малейшей измене стрелять». И Плешко не мог понять – что наполняет его: радость или злость.
– Никаких при ней документов, Ипполит Егорыч.
– Потеряла.
– Крови вы не терпите, мне известно. Мне кровь тоже противна.
– Редкий человек похвастается любовью к крови. Чаще всего дурак.
– Анна Осиповна сказывала, будто она часто про Железную расспрашивала. Вот Щербаков говорит: «брат». Брат братом, но для чего ей расспрашивать подробно? Для сведения расспрашивала!
Щербаков, плотный и кругленький, чувствовал какую-то неловкость. Всегда вежливый, осторожный и сдержанный, он на этот раз даже осмелился потрогать Плешко за рукав френча.
– Я привык слушать разговоры, Ипполит Егорыч, и доложу вам – чересчур много говорят про Железную. Возможен совершенно неожиданный конец этим разговорам. И от мужиков, которые к нам бегут и у нас остаются (эти, так сказать, сочувствующие коммунизму), или даже от своих. Я, изволите ли видеть, по здешним местам проходил месяца два тому назад с продовольственным отрядом. Мужики меня здешние поймают, гвоздями к дому какому-нибудь прибьют, – мы были жестоки26. Ничего не попишешь, город было необходимо выручать. Вот все мы плохие люди, и я плохой человек. Прах их знает, по каким гнусным девкам я шлялся, жену надувал, нехорошей болезнью ее однажды заразил… это про семейную жизнь, но все же…
Щербаков разгорячился, лоб его покраснел, Плешко смотрел на него с удивлением. Увидав подходившую Анну Осиповну, Плешко сказал торопливо, что вопрос о Железной надо ставить ребром. Но что значит – ставить ребром, он и сам не понимал. Анна Осиповна, вытирая какой-то серой и вонючей тряпкой опухшие глаза, долго возмущалась непонятливостью Пузыревского, который неправильно истолковал ее разговоры. Она и не думала говорить, что Феоктиста шпионка и что если и был разговор о Бессонове… все время она продолжала смотреть на Плешко, и у нее было такое лицо, по которому можно было понять, что вот он-то, простой и ласковый человек, сможет ее понять. Плешко достал платок и вытер щеку. Он чувствовал жар в горле. Он много пил в эти дни воды. Щербаков подъехал на тачанке, Савка сидел рядом с ним, пулемет, покрытый рогожей, лежал у его ног.
– Согласно распоряжения, – сказал Щербаков, – я могу указать дорогу.
Плешко не помнил, отдавал ли он распоряжение, чтоб в разведке его сопровождал Щербаков, но даже и не давал если, то самовольство Щербакова было приятно видеть, Савка выкрикнул:
– С мужиками чудеса: трое уйдет, десять придет. Десять уйдет, три придет. Сейчас трое явились, от Бессонова, говорят, вырвались. А пластуны опять бузят.
Плешко тронул вожжи:
– Поверни-ка к пластунам, Савка.
За селом они увидали пластунский полк в полном составе. Впереди, верхом, в рваной бурке и рыжей папахе гарцевал Белов. Его длинноногий с толстыми коленями конь устало носился вдоль фронта, и по морде коня можно было понять, что ему невероятно скучно и гарцующий всадник ему немилосердно надоел. Белов вопил, что страна и так переполнена бандитами, что поведение пластунов (особенно в деревне) должно быть безукоризненным, и дальше он указывал, как на пример нарушения порядка: вчера двое пластунов учинили грабеж в крестьянской избе. Ночью подлые грабители, угрожая избиением, заставили хозяйку сознаться, куда она спрятала деньги. Отобрали пятнадцать тысяч. «Митрофанов, Смольчук, долой с коней! Встать впереди полка!» Митрофанов с молодыми бессмысленными глазами, косо и лихо улыбаясь, все старался выйти подальше, а Смольчук, седоусый, хмурый и с серьгой в ухе, одергивал его, Митрофанов торопливо сознался, а Смольчук отнекивался, и вдруг он взглянул на Плешко и постепенно начал бледнеть и заикаться. И Плешко почувствовал, что тоже бледнеет. Лица полка были пучеглазые, озорные. Щербаков пробормотал позади: «Не нация, а бандиты». Поглядывая на Плешко и подчеркивая жестами внушительность своей речи, Белов продолжал:
– Боевая обстановка не дает возможности задерживаться над выяснением формальных улик. Хозяйка опрошена.
Хозяйка в длинной шали, со злобным, скуластым лицом визгливо выкрикнула: «Они ограбили, они!» Белов, все так же внушительно взглядывая на Плешко, через плечо скомандовал небрежно ближайшему эскадрону:
– По преступникам, эскадрон, пли!
Эскадрон не двигался. Белов подскочил в седле. Чей-то хриплый голос отозвался из рядов эскадрона:
– Хватит, поискали Железную!
Дальние ряды откликнулись:
– Нам бы хоть соломенную.
Пронесся хохот и тот же хриплый голос продолжал:
– Долой Плешко… к черту комиссаров!
Белов подскочил к тачанке. Бурка скользнула у него с плеч и упала на колесо. Чувствуя, как его наполняет мутящая и кислая тошнота и как губы его дрожат от страха и презрения к тому, что он сейчас совершит, Плешко сказал в лицо Белову:
– Выяснилось… выяснилась полная небоеспособность пластунов, товарищ… Полк не повинуется командиру!
– Я скачу в дивизию!., разоружить!!.
Томящее и омерзительное чувство гадливости продолжало расти. Плешко взял у Щербакова карабин. Ряды пластунов волнисто мелькнули перед глазами. Пар как бы пронесся над их головами. Он ясно и твердо разглядел их лица и особенно лбы, украшенные чубами. Белов не расслышал его слов, и Щербаков громко, на весь фронт, прокричал:
– По приказу Плешко: преступники бегом, вперед!
Старший пластун, Смольчук, по-прежнему не отводя взгляда от Плешко, стоял с мертвенным и неподвижным лицом. Митрофанов, лихо пища, кинулся. Через несколько шагов он упал. И тогда старик, широкими и дряблыми шагами, тоже попытался бежать. Плешко выстрелил второй раз. Кисти рук его покрылись потом, и он, стараясь сожмурить нежмурящиеся глаза, остановился подле катающегося по земле старика. Выхватил револьвер, выстрелил. Старик неподвижно вытянулся. Плешко оперся на карабин. Вязкий медовый запах пороха шел из дула. Полк замер. Плешко, комкая слова, проговорил:
– Командиром полка назначен Савва Ларионов. Белов, в обоз! Справа, по эскадрону… шагом марш!..
И когда, через минуту, полк затянул песню, Плешко, зажимая ладонью рот, наклонился с тачанки к Белову. Зеленая слизь капала через пальцы. Плешко долго не мог освободить рта и, наконец, сказал:
– Пластунский полк приведен в повиновение. Да здравствует революция, – тебе говорят, курва!..
И Белов тощими губами подтвердил:
– Так точно. Плешко добавил:
– Придется вернуться, пулеметчика нового взять. Это вы, кажись, товарищ Щербаков, выдумали, что я не переношу крови?
Щербаков смолчал27.
Но им так в этот день и не удалось поехать на разведку. Во-первых, выяснилось, что вечером красноармейцы устраивают в школе спектакль и что Анна Осиповна играет буржуазную обольстительницу28, и, во-вторых, Болдырев желал показать Плешко мужичков, которые так уважают славу Железной, так уважают, что желают и хлебом и советами помогать… Болдырев даже бороду подстриг для такого случая! В школе было тесно, горели сальные светцы и сильно пахло тлеющими тряпками. Пьесу писали, вместе с Пыхачевым, бригадные красноармейцы. И автор, и Пыхачев сидели потные и сильно довольные. Анна Осиповна играла плохо, неискренне и даже неприятно. Очень уже много в ней растерянности. А после спектакля все же как-то получилось, что Плешко вышел с ней вместе. Она, напуганная смертью Феоктисты, говорила о простоте и о том, что к жизни надо относиться тоже просто, но вот именно простоты-то у ней и не было. И Плешко, понимая, что невозможно требовать простоты в той страшной жизни, которой они сейчас все живут, и что надо ее жалеть, все же не чувствовал к ней жалости. Она пошла плечо в плечо с ним, привизгивала довольно неприятно, и вышло очень нелепо и быстро, что за сараем, в каких-нибудь пятидесяти шагах от школы, она отдалась ему, а после этого сразу же попросила у него папироску и не закурила29.
Красноармейцы расходились с песнями. Анна Осиповна жалким и грубым голосом сказала:
– Мне вот страшно спать одной, а я буду спать одна. И я никого не боюсь. Всю жизнь буду спать одна.
И она, делая руками круги, побежала. Все это – и нелепый разговор, и бегство, и это размахивание руками в иное время огорчило бы Плешко. Но тут он хотел было ей крикнуть вслед, остановить и чем-нибудь утешить, но затем подумалось, что нет при нем таких слов, которые б могли ее утешить, да и есть ли при ком, сомнительно? Ему стало легко, и в это время он увидал, как тачанка, окруженная несколькими всадниками, проскакала по улице к штабу. Люди показались у ворот. Повторяли несколько раз слово «Бессонов». Плешко побежал. Ему стало еще легче, он вспомнил бегущую Анну Осиповну, засмеялся и замахал руками, как она.
У стола, заслоняя широкой спиной лицо Болдырева, стоял одетый в крестьянскую свитку волосатый и горбоносый человек. У него была как-то необыкновенно гордо вскинута голова, он сверкал глазами и изо рта у него плохо пахло. Кабардо, должно быть, пьяный в лоск, вздергивая плечи, подскочил к Плешко:
– Матанин мне предложил такую мысль! Мужичка мы давеча одного подозрительного в поле поймали. Мужичок Матанина струсил, а тот его… Да. У мужичка лапы – корову задавит! Поговорили, а впоследствии выяснилось, что Бессонов подле нас, на правой стороне Днепра, сидел всю ночь. Мы в село… Он, знаете, во двор вышел, у него, у Бессонова-то, прах его бери, несдержание мочи, не иначе… На двор вышел, а я ему пояс на шею.
– Глупо влип, – сказал Плешко.
Бессонов раскрыл рот и торжественно проговорил, не поворачивая головы:
– Можете меня убивать. За меня бог и народ!
И пластуны и бригадные, видимо, уже освоились с Бессоновым. Они расселись на лавки, вдоль стены, закурили. Пузыревский попробовал допросить, Бессонов затрясся, забрызгал слюной и отказался отвечать. Матанин, весь дрожащий, напуганный, оглядывал Бессонова совершенно счастливыми глазами. Плешко смотрел на Матанина и думал, что бригада стоит на совершенно неправильном, партизанском пути. Бандитов ловят без распоряжения; начались грабежи; на двадцать процентов состав бригады текучий, – он сказал:
– Послушайте, Бессонов, я предлагаю вам немедленно разоружить так называемую Половецкую республику.
Пузыревский, видимо, мучаясь все еще смертью Феоктисты, отозвался:
– Баба-то, может быть, его любовница была. Сведенья посылал искать… бабу! Посылал, ясно!
Широко разевая пухлый и красный рот, Бессонов ответил:
– У меня нет любовниц. Моя любовь – бог, народ и справедливость.
Он опять затрясся. И Плешко подумал: сколько страданий нужно было вынести этому человеку, чтобы столь убежденно обрасти бородой, с такой алчностью к смыслу восклицать эти высокопарные слова! Сколько он голодал, скитался, наверное, по монастырям, искал правды и вот теперь, полусумасшедший, едва ли уже помнящий друзей и знакомых, попал к людям, тоже ищущим смысл или, вернее, нашедшим. Плешко сказал:
– Вчера ночью у нас на правом берегу убили красноармейца. Дабы показать, как расправляется советская власть с бандитами, предлагаю немедленно расстрелять Бессонова. Труп выставить напоказ.
– Все равно хлеба нет и не дам, – вскидывая руки, крикнул Бессонов. – Хоть десять Железных!
Затем Плешко попросил позвать к нему немедленно Щербакова. Тот пришел заспанный, его остренькая голова, покрытая реденькими волосами, вся была осыпана соломой. Выдергивая соломинки, он объяснял, что выехать сейчас и опасно, и дорогу найти невозможно. Завтра чем свет. Ему хотелось в баньку, попариться, покряхтеть!.. Он вспомнил про Пермь, там он бывал в молодости, «и какие там жаркие бани, господи ты боже мой, через полчаса чувствуешь и окорок ты и ангел!» Изба опустела. Бессонова увели. Плешко остался один. Под окном на бревне сидел пьяный Кабардо и выкрикивал, что напрасно поручили исполнение приговора Матанину. Он задушит бандита, потому что ему все время будет казаться, что и револьвер-то не выстрелит и что бандит у него револьвер вырвет. Плешко долго прислушивался, но выстрела не было. Где-то капала вода; кони дышали под навесом; пахло сосновой корой от бревен под окнами.
«Сила, заставившая Матанина сделаться таким, – и страшна и прекрасна», – думал Плешко. Сон на мгновение овладел им, но он вдруг почувствовал столь необычный прилив радости и нетерпения ехать или разговаривать (великолепные планы чудились его голове, слезы восторга уже почти выступили у него на глаза), – он проснулся. Светец сильно чадил. Протокол приговора над Бессоновым, забытый, лежал подле светца, несколько капель жира сползло на бумагу. Плешко долго ходил по избе.
Светец давно потух, рассвет был уже у окон. Плешко накинул шинель и вышел. У палатки, подле трупа, покрытого рогожей, стоял часовой – курносый и белокурый мужичок. Он сладко зевнул и почтительно взглянул на Плешко. Плешко откинул рогожу. У Бессонова было такое же надменное и высоко вскинутое лицо, только губы были втянуты в рот. Случайно убили. Значит, случайно и царствовал царь Половецкой республики… А говорил: хлеба не дам.
– Но из всего мне ясно, одно, что, по-видимому, Железная не имеет хлеба…
– Как? – спросил часовой.
Дорога шла по глубокому песку. Тачанка шла шагом. Щербаков и Матанин сопровождали Плешко. И по-прежнему хмельное настроение не покидало Плешко. Он с радостью слушал, как Матанин всю дорогу восхищался то храбростью Кабардо, то успехами его среди женщин. Он, Матанин, рассказывал, что у Кабардо даже здесь, в этих гнилых местах, где ни одной бабы не встретишь, у Кабардо есть любовь. Голос у Матанина был благоговейный и песенный. Немного погодя, он затянул песню. Щербаков, тоненьким тенорком не без приятности, подпевал ему.
У большой киево-переяславской дороги, шагах в двухстах от себя, Плешко заметил отряд. В отряде было человек семьдесят-восемьдесят, несколько тачанок, окрашенных в густо-зеленую краску. В тачанки было впряжены тучные и высоконогие кони, сбруя на них сияла, да и день был веселый и солнечный. Впереди отряда скакала разведка с большим черным знаменем. Тотчас же вспомнились разговоры об анархисте Бессонове. «Анархисты, – подумал недоуменно Плешко, – но откуда попадет сюда отряд анархистов!» Он выхватил револьвер. Их заметили.
Отряд мгновенно раскатился в лаву и поскакал на них в обход – вправо и влево. Было противно смотреть, как Матанин вытаскивал гранату бледной и мокрой рукой. «Назад!» – крикнул Плешко. Но уже поблизости мелькнули странные папахи с «жовто-блакитными» лентами, какие обычно бывали у петлюровских частей30. Кони с лентами в гривах. У одного всадника подле седла ведро с остатками зеленой краски и курджумы31, наполненные какими-то книжками.
Командир отряда, в черкеске, востроглазый и чем-то похожий на крота, с саблей наголо замер в седле. Плешко, стараясь улыбнуться, чувствовал холодок и дрожание в руке, держащей наган на взводе.
– Кто вы таки есть? – спросил командир.
Матанин порывисто, со свистом, вздохнул. Щербаков сидел неподвижно. Плешко, вглядываясь с недоумением, как человек с ведром у седла развернул черное знамя и как мелькнула странная надпись: «Долой пионеров», – в то же время подумал, что на шапках звезды, в карманах френча красные билеты…
– Начальник политического отдела 28 Железной дивизии!
– Документы есть?
– Конечно.
Плешко через Матанина передал документ. Командир, поводя носом, усыпанным мелкими волосиками, долго мял удостоверение.
– А вы кто такой?
И командир, глядя в удостоверение, ответил сквозь зубы:
– А мы петлюровцы.
Щербаков уперся спиной в бок Плешко. Спина ерзала. Плешко приподнял наган, но чувство омерзения, которое охватило его, когда он стрелял в пластунов, опять овладело его телом. Тусклая пелена на мгновение упала перед лицом, и ему стало сразу же стыдно и еще более стало нехорошо, когда он пригляделся и увидел, что Щербаков держит его за руку, а сам орет, тыча пальцем в черное знамя:
– Вы на другой стороне читайте – «Долой контрреволюционеров!». Так ведь если б я его за руку не дернул, он бы в упор и на два шага, сволочь ты такая, пулю бы в тебя впустил, командир ты или нет?
Командир протянул удостоверение.
– У нас система борьбы такая, браток. Мы бандитов на петлюровские лозунги, чтобы язык раскупорить скорей, ловим.
– Благодари за вежливость, стукнули бы тебя, иначе.
Командир сделал под козырек.
– Начальник отряда полтавской губчека Смирнов.
– Про Железную слышали?
– Говорят, будто у Борисполя Железная ходит. А у Борисполя бандит Бессонов сидит, ездить туда одним не советую. И, кроме того, во всякой дыре – поляки. И банды, и поляки.
– А почему вы от Бессонова не очищаете?
– Другие важные задачки, браток, – сказал он как бы с сожалением и сдвинул папаху на ухо. Он подтянул стремя, и отряд с гиком, красуясь перед Плешко, поскакал на Переяславль. Щербаков плюнул и долго смотрел на свой плевок.
– Предпочитают легкие успехи над безоружной жертвой да простачков на лозунги ловят, вот и все их важные задачи. Куда направляемся?
– На Борисполь, – сказал Плешко, пряча наган32.
В сумерки показалось волостное село Рогозово. Волостное правление напомнило им корыто – было скользко, сыро и пахло водой. Матанина они оставили в тачанке, подле пулемета, в десяти шагах от правления, а сами с револьверами в руках вошли в правление.
Распоряжение было Матанину такое – никого ближе десяти шагов не подпускать, а если раздастся крик из правления: немедленно огонь – по улицам.
Матанин устал, плохо выспался и плохо поел. И благодаря этому, наверное, ему трудно было считать шаги: десять ли шагов, пятнадцать ли шагов сделали подходившие мужики. Он их тихо окрикнул. Они подошли еще ближе. И тогда Матанин, крепко прижавшись к пулемету, вспомнил удалого чекиста с черным знаменем и спросил:
– Вы за кого? Мы-то есть от Бессонова.
– И мы есть за Бессонова, – ответил ему из синего сумерка почтительный и в то же время строгий голос. И по этому голосу Матанин понял, что необходимо действовать дальше, и он, гремя пулеметными лентами, прокричал:
– Во-о, бандитская власть! Выбирай немедля комиссара по продовольствию и по пяти пудов со двора, а то сейчас же огонь по всему поселку… Я вам покажу Бессонова…
И тот же почтительный и строгий голос ответил ему спокойно:
– Чего кричать! Вот и будет комиссаром кузнец Петро. Петро, иди!..
Высокая лохматая фигура вышла на дорогу. Папаха на нем шире плеч. И, увидав эту папаху, Матанин заорал:
– Отходи дале, открываю огонь!
Плешко встретил представитель исполкома, закутанный до самого носа в шарф. Он, обеими руками придерживая шарф и жалуясь на хворобу, ответил уклончиво, что в Борисполе совершенно неизвестно кто стоит.
– Телефонная связь есть?
– А кто ее знает.
– Овса надо, подкормить коней.
– Это никак невозможно! Ехали б вы по своим делам.
Плешко прошел к телефону. Собрались еще мужики. Какой-то маленький, с длинными волосами принес бумажный фонарик со вставленной в него церковной свечой. В телефоне задмыхал, заворчал уклончиво Борисполь. Наконец Плешко спросил:
– А Железная есть? А красноармейцы есть?
– Да нету красноармейцев. Были да выгнаны все.
– Кем?
– Нами, петлюровцами.
К фонарю пробрался кто-то в очках, с длинным носом. Долго и пристально разглядывая разговаривавших, он, наконец, сказал меланхолически:
– Вот это и есть Щербаков?
Щербаков выпрямился.
Второй голос отозвался еще спокойней:
– Вот он какой есть Щербаков? А как он думает…
Здесь они услышали крики Матанина. Они выбежали на крыльцо. Кто-то завопил во тьму: «А ну держи Щербакова!». Матанин кинул гранату. Тачанка рванулась и через минуту на большой дороге, Матанин хотел похвастаться, как он смастерил комиссара продовольствия, но ему стало стыдно, и он сказал:
– Богатое село, а овса не дали.
– Поворачивай к бригаде, – сказал Щербаков.
Поляки шли правым берегом на Киев. Видны были зарева, сверкали ракеты, доносился далекий гул. Сведений о точном местонахождении Железной все еще не было. Прибежал какой-то раненый, заикающийся коммунист и сказал, что Железная защищает переправы у Дарницы. Ему мало кто поверил, да и коммунист через два дня свалился, охваченный тифом. Красноармейцы перестали исчезать, и хотя в бригаде было не более трехсот человек, но уже стало ясно, что остались только те люди, которые умрут, но не разбегутся и не предадут. И это, как ни странно, было неприятно сознавать Плешко, потому что голову его теперь больше занимали мысли о Железной и ее состоянии, чем о положении бригады. Все последние дни накрапывали дожди, бригада шла «Половецкой республикой», проселочными скучными дорогами, среди полей. Изредка попадали болотца, серые какие-то топи, и небо над унылыми и тощими полями было серое и скучное.
Кабардо для устрашения бандитов и для доказательства удали бригады предложил не закапывать труп Бессонова, а везти его с собой и показывать во всех селах, мимо которых пройдет бригада. Как это предложение ни было странно, но на него быстро согласились, и вот впереди бригады шла бричка с громадной черной колодой, внутри которой лежал труп Бессонова. Вокруг колоду обложили бочонками со льдом и, перевертывая бочонки, Кабардо сверкал глазами и исступленно восклицал, что он эту мужицкую породу превосходно знает! И бочонки со льдом, и длинная колода, и лошади с такими умными мордами, везущие свою странную поклажу, – все это было страшно нелепо и походило на дикий сон, и в то же время вот эта-то нелепость и делала реальным все то, что происходило вокруг Плешко и в нем самом. А в нем происходило то, что все окружающее и самого себя он принимал все проще и проще, и то многое, что вначале раздражало его или вызывало улыбку, теперь умиляло до слез, до отсутствия сна. Вот зажигали ночью костры, красноармейцы подходили и отрясали в огонь вшей, слышна непередаваемо похабная брань. Запах отсушившихся онучей; слякоть и грязь и все это отвратительное зловоние полей и грязные тесные хаты, и грязный крестьянский царь в колоде, Иванушка Бессонов; – какая, казалось бы, чушь и чепуха! Но сколько, если вдуматься, во всем этом превосходного и сколько крепких и настоящих людей окружает теперь Плешко!
Вот первым полком идет и командует Пыхачев. Он харкает кровью, ходит, сильно сутулясь; желтый, раздражительный, ворчит на солдат. От смерти он, кажется, ускальзывает как-то боком и словно бы этого стыдится. Он говорит длинные скрипучие речи, и он всех неприятнее. Но если бы он умер – какая огромная пустота осталась после него и в бригаде и в жизни Плешко! За ним идет Матанин с пулеметной ротой; затем Савка Ларионов с полком пластунов; мятущийся и бешеный Кабардо с двумя эскадронами. Второй полк ведет Болдырев, рыжий и спервоначалу казавшийся очень бестолковым мужик. Гавро, разговаривающий со своими китайцами на портовом жаргоне и неизменно записывающий каждый свой и день своей роты в дневник. Кабардо наклоняется, смотрит на дорогу, на унылые поля и ведет бригаду все уверенней и уверенней на Борисполь. Есть ли там Железная, нет ли там Железной, но бригада должна выйти к Борисполю!
– Откуда тебе так дорога известна? – спросил Плешко, и Кабардо ответил, стукнув себя в грудь:
– Сердце знает, а не я!
Изредка из соседних деревень подъезжали мужики, просили показать труп Бессонова, крестились и говорили: «Вечная память». Присоединилось еще несколько коммунистов; учитель в высокой шляпе и с длинными волосами, уверявший, что его вешали петлюровцы и что он полчаса висел в петле. На шее у него, короткой и грязной, был большой кровавый круг. Присоединившиеся коммунисты отъезжали в сторону, на день-другой, и к обозу бригады тогда еще присоединялись воза с хлебом. «Для Железной подарок везем», – говорил Болдырев, и лица у всех делались удивительно трогательными и в то же время сухими. И вот однажды Кабардо, бледный и вытянувшийся, указал на синее болото и далекий лес за ним:
– Там, в восьми верстах Бессоновка, Ипполит Егорыч. До нее труп довезем, там у него церковь и вся основа его власти. Они на труп придут смотреть, прощаться.
От болота несло гнилью, осокой. Птица, удивительно громко хлопая крыльями, пронеслась над обозом. И Плешко подумал, что в эти дни он даже не посмотрел на клубный фургон, не узнал, как живет Анна Осиповна, он заметил только мельком ее взгляд – испуганный и тяжелый. А ей, наверное, очень тяжело и ведь места-то, казалось бы, округ самые тихие и мирные: изгороди, коровки кое-где пасутся, седенький пастушок и белые церковки, – а вот триста человек, оглядываясь по сторонам, большей частью ночью идут тихо, стараясь не шуметь и не стрелять.
Бессоновка стояла над рекой. Маленькая церковка с остренькой колокольней, кресты и железные ограды. Но все облезло, грязно, скучно и трава-то какая-то гнилая. Вот семейство Бессоновых, давно привыкнув ко всей этой грязи и мерзости окружающего, тихо отдыхает, а последнего потомка их привезли в колоде, из которой поят коней, где по краям остатки конской слюны, сапная слизь, а вокруг рыхлый и желтый от глины погребов противный лед. Тело Бессонова уже сильно пахло, и возница вел коней под уздцы.
Труп стоял перед палаткой комполков. Плешко подошел к колоде. Прямо перед ним на облезшем холме, обсыпанном мелкими тропинками, стоял бессоновский дом. Крестьяне, в длинных платьях, спускались с холма. В палатке три комполка: Савка, Пыхачев и Болдырев рассказывали друг другу свою жизнь. Рассказы были пустяковые: у кого работа, да сколько получал в день, но все трое почему-то сильно смеялись в конце каждого рассказа. Затем Савка рассказал с удовольствием, как умер Белов, бывший командир пластунского полка. Савка, видите ли, все время сомневался: стоило ли ему быть командиром пластунов. Показались тут в сторонке, вроде как бы, три бандита. Белов сидит на телеге и поглядывает на Савку презрительно. Савка спрыгнул с коня и сказал: «Качай с пластунами, героем придешь, полк получишь обратно!». А Белова привезли убитого бандитами, – и в спину. «Собаке и собачья смерть», – отозвался спокойно Болдырев и опять заговорил о своем барнаульском хозяйстве. Затем они поговорили о покосах, о дождях.
Бессоновские мужики, вяло опустив руки, стояли перед трупом и уныло смотрели в надменное лицо Бессонова. Было жалко на них смотреть и ненужным казалось здесь и тело и эта церемония с выставлением трупа. Подошел Кабардо и, указывая на мужиков пальцем, свирепо сверкнул глазами и заявил, что вот, наверное, среди них один или два «члена правительства» имеются! Мужики, крестясь и стоная, шарахнулись. Кабардо быстро заговорил:
– У меня в селе единственная на свете любовь. Вот меня интересует вопрос: почувствует она меня или нет? Если почует, то придет к бессоновскому трупу, потому что она знает: с трупом только один я мог такую придумать!..
Анна Осиповна, в брезентовой накидке, шла за Пузыревским и просила у него для клуба свечей. «Читать же книги не с чем», – говорила она и тут же рассказала, как один пластун читал книгу при лучине старательно всю ночь, но почему-то с конца. Она прикрыла глаза ладонью, стараясь не глядеть на труп. Мелкий и серый дождь делал ее руку старческой. Она сказала о Феоктисте:
– Мицура охраняла свою любовь. Она любила Бессонова, она ему была верна, это доказано.
«Что доказано, – подумал Плешко, – доказано ли, что любовь есть доброта, а за доброту, в окаянную нашу жизнь, можно полюбить самого неинтересного и некрасивого человека? А Бессонов был дико зол, его трудно было выносить и нельзя было любить».
Павла Черкасова, та любовь, про которую говорил Кабардо, пришла к трупу уже совсем к вечеру. У нее была ровная походка, словно она знала, сколько ей остается пройти и что спешить некуда; полное, лунообразное и даже, пожалуй, некрасивое лицо и пристальный взгляд серых и как бы убедительных глаз. Она сказала Плешко, что необходимо уважать человека, то есть она сказала не так, но вначале ее всегда понимали иначе, чем позже, когда вдумывались в ее слова. Она сказала, что Бессонов безумец, который называл себя и верил себе, что он крестьянский царь, способный учинить религиозную республику. Он кончил жизнь свою как безумец и его везут теперь для устрашения люди, похожие на безумцев. Безумцы и несчастные люди мчатся с трупом вперед…
– А где Железная, не слышали? – спросил Плешко.
– У нас ее давно ждали, а все нету.
– Так у Бессонова было известно о Железной?
– Да, говорили, она должна усмирить Бессонова.
Пузыревский наклонился к Павле:
– А любовница у него была? Феоктиста, скажем.
Павла посмотрела на него с жалостью. Пузыревский был волосат, широк, с четырехугольным подбородком, покрытым желваками мускулов. Его круглые и громадные кулаки с казанками величиной в пятак и рыхлый толстый нос – угнетали, видимо, ее. И эти руки! Обтянутые твердыми и синими жилами; пальцы искривленные; все облепленные мозолями, – громадные руки бездарности и тупоумца!..
– Опросите население.
Павла взглянула на Плешко, словно спрашивая, что разве у вас есть женщина, несчастная и глупая, которую подозревают, что она была шпионкой Бессонова? Плешко понял ее вопрос и так же мысленно ответил, что такой женщины нет, умерла похожая на нее… Павла продолжала говорить, что Бессонов погубил дом ее родных, убил брата, но она не злится на него. Он был несчастный и пустой человек. Ему иногда казалось, что к нему придет какая-то женщина, которая подробно расскажет ему, сколько в Железной дивизии, состоящей сплошь из жадных и крепких мужиков, награблено и бережется золота, серебра и бриллиантов. Они берегут, чтобы увезти его с собой в Сибирь, а Железную надо заманить к «половецким», разбить…
– Бред! Романтический бред, – сказал Плешко. – Я, видите ли, парикмахер и мне иногда стыдно командовать, когда вокруг меня почетные пролетарии: столяры, литейщики… Но, как все парикмахеры, я, во-первых, лыс (он улыбнулся плоской своей шутке), во-вторых, я страшно боюсь причесанного человека, а романтизм – это причесанность. Бриллианты и деньги! Кому они нужны, когда пылает весь мир? Феоктисте нужна была любовь! Она любила и, наверное, хотела чем-то доказать свою любовь, хотя бы тем, что перед мужиками надеть бриллианты Железной дивизии…
– Первый бриллиант: звезда на шапке, – высокопарно отозвался Кабардо. Он, увидав Павлу, кинулся к ней с объятиями, а она протянула ему руку. Три комполка в палатке хохотали над ним. Кабардо сказал, что это всегда так – «встречает холодно, а затем разгорается».
– И сейчас мне пришло в голову, что ни одной женщине я не говорил – парикмахер я, дескать. Вам первой, а?
– С ней легко, – сказал Кабардо, хлопая ее по плечу.
Она, отталкивая его руку, ответила Плешко:
– И напрасно сказали. Я б, может быть, с вами по первому слову ушла, а теперь как же с парикмахером по первому слову уйти? Смешно! А глаза у вас добрые. Однако добрые глаза только на дорогу выведут, а дальше с ними идти не стоит: заблудишься.
– Я бы предложил вам с нами поехать, но впереди самые крупные опасности.
Она посмотрела на колоду и медленно ответила:
– Я, наверное, откажусь: нельзя жить на войне.
Тон ее речи и ее глаза смутили его. Он хотел было (чтоб не думать много) предложить дать отпуск Кабардо на неделю, но тотчас же стала ясна нелепость такой мысли. Он улыбнулся, и ему опять стало легко. Он, видимо, привыкал к радостному чувству, которое жгло его все последние дни и которое началось со станции Магалево. К тому ж не прошло и минуты, как Павла опять заговорила о Бессонове, лицо ее выражало боль, и Плешко, пожимая ее руку, обещал ей, что труп будет немедленно похоронен, как только бригада выйдет из бандитского очага – Бессоновки.
Когда бригада двинулась, мужики (надо думать, напуганные безмолвием и вежливостью солдат и тем, что село не разгромлено) вышли за околицу и там, подле болота, у камышей выдали главарей Половецкой республики. Главари оказались очень благообразными, тощими мужиками, неустанно бормотавшими молитвы. Болдырев настаивал на продовольственной контрибуции, мужики соглашались, но Плешко, опасаясь озлобления, отговаривал. Вода, цвета ржавчины, пахнущая тиной и смолой, колыхалась среди камышей. Небо было низкое и пустое. Связанные мужики, садясь на подводы, крестились на небо и на камыши. И затем один из главарей сказал длинную речь пред собравшимися мужиками о бесполезности бандитизма и о том, как хороша советская власть. Труп Бессонова ухнул в болото. Бригада пошла дальше.
Плешко шел ошеломленный тем чувством радости и счастья, которое не покидало его. Он думал о Павле и был убежден, что перед ним только теперь разверзлось чувство настоящей любви к настоящему человеку. Это чувство и служит теперь оправданием всей его прежней и теперешней радости. И хорошо, что она не пошла за ним, что она не боится мести мужиков (хотя бы из-за Кабардо), и осталась в селе проверить себя и свой приход. Она придет сама! Анне Осиповне он тоже нравился за простоту, но не за ту простоту, настоящую простоту, которую поняла только Павла и которая заставила его признаться, что он парикмахер, цирульник, а в то же время человек, помогающий другим людям устраивать свое счастье.
Давно уже рядом с ним шел Болдырев, у него было веселое лицо, такое, каким его давно Плешко не видал. И Плешко вспомнил, откуда началось веселое лицо Болдырева. Мужик говорил над трупом Бессонова о бандитизме, а позади его стоял Болдырев с листом бумаги и с такими глазами, по которым можно было понять, что он прикидывает в уме: сколько же можно взять с Половецкой республики контрибуции. Как только мужик начинал говорить с волнением, – он прибавлял сотню или полторы к своим расчетам, а когда мужик крикнул: «Да здравствует советская власть», у Болдырева стало такое доброе и снисходительное лицо, что Плешко сразу понял – Болдырев будет настаивать на пересмотре решения о контрибуции. И теперь, глядя на него, Плешко подумал что, пожалуй, вернее будет пересмотреть этот вопрос.
Пыхачев догнал их и, кашляя и указывая на тусклое небо, сказал: «Ну, разве это страна? Ну, разве могут в Европе, при ее уважении к личности, хоронить человека в болоте и от похорон еще зарабатывать продовольствие? А вот ведь пишут: окрестности, красота… гадость».
Приглядываясь к Плешко, он всплеснул руками:
– Вы тогда помните, в Житомире, к мосту бежали? Я умею быстро ориентироваться, и, кроме того, у меня семья. Я понимал, что если мне кинуться вброд, а плаваю я хорошо, то через полчаса буду я у своих, в полной безопасности. Но у вас был такой глупый вид и командовали вы так смешно, что я остановился. И смешней всего, что и прочие командования этого слушались. Сильно у вас желающий добра всем вид был… я было и покаялся тогда на полянке, что за вами кинулся…
Он, прижимая руку к хрипящей и тощей груди, с трудом влез на коня. Пузыревский поравнялся с ним. Они ехали рядом и молчали. И на Пузыревского Плешко смотрел с удовольствием, и даже кулаки его, казалось ему, имели какой-то беспомощный и смешной вид. Вот парень тянется; скоро эти руки, эти кулаки возьмутся за карандаш – и будут смешны.
Голова горела – надо бы выспаться, и у Плешко мелькнула мысль, что все окружающие его смотрят на него с такой любовью и радостью, может быть, из жалости, из-за того, что он болен, ведь видят же они его бессонницу, болезненное беспокойство, сменившееся вдруг медлительной уверенностью в мыслях и движениях? В зеркало б посмотреть, что ли?
Казалось, что говорит о Железной, – но это слово повторялось все чаще и чаще. Люди уже не чувствовали себя заброшенными под чужим и в то же время по-родному серым небом. Они словно с трупом Бессонова сбросили в болото усталость и уныние. Да ведь и поговорка, кажется, есть: «а ну, в болото». И еще ему казалось, что вот он едет, а сейчас его окрикнет какой-то необыкновенно родной и близкий голос и выкрикнет ему такие слова… он уже чувствовал дрожь в горле от этих слов; виски кололо от восторга. Ему было приятно видеть вокруг себя человеческие лица, рваную и грязную одежду солдат, измученных коней и связанную бечевками сбрую. Нищета, голь, ветер… Понятно, что переход, который обычно делали в два дня, сделали в один. Глаза у всех устремлены на дорогу, пробовали запеть, – песня от волнения не вышла. Пластуны горели в седлах. Матанин, с огненной метлой вместо головы и с растрепанным голосом, бегал среди своих пулеметов. Гавро шел прямо, высоко подымая квадратную, честную и добротную грудь, у которой прекрасный безукоризненный дневник и верное сердце.
И чем ближе к городу, тем среди крестьян больше разговоров о Железной.
– Как же, стоит!..
– Еще бы да про Железную не знать!..
И об командире Железной и обо всех других бойцах самые отличные сведения. Еще бы!..
Вот подскакали и сообщили командирам полков разведчики: да, сведения самые превосходные. Веселая трава в колеях дороги! Пепельное, веселое и близкое небо. Песен побольше бы и шагать покрепче бы! Шагай, коммунисты, шагай, черт возьми, побыстрее! Во-о, Железная дивизия! Во-о, в полном составе ее политотдел мчится к ней по шоссе, а впереди всех низкорослый человечек в коротеньком френчике с красными пятнами на скулах (нет-нет да похлопывающий себя ладонью по щеке) – Плешко. Ипполит Егорыч!..
Ближе к городу на шоссе, желтом, попорченном артиллерией, они увидали пятерых конных. Одного из них, Спенных, инструктора по гимнастике, Плешко знал давно. Кабардо кинулся его целовать. Он к поцелуям и к появлению бригады отнесся спокойно, пожал руку Плешко, сказал, что про него думали и говорили, будто он поляками в плен взят, – и тронул поводья. Плешко мотнул головой, расстегнул кобуру и позвал было к себе Кабардо, но тотчас же понял, почему он позвал, ему стало стыдно, и он пустил коня галопом. Он подумал, что Павла (если взбешенная бригада убьет Плешко) достанется Кабардо. И еще стыд был в нем силен от того, что он подумал тогда же, что Кабардо женат и не надо бы Павле разрушать его семейную жизнь и что лучше, если погибать, то погибать обоим!
День был к концу. Вокзал, красный и приземистый от солнца, казался еще багровее и угловатее. Было тепло, днем выпадал дождь, и широкие лужи через края брызгались солнцем. Еще один знакомый, начальник канцелярии, Еремин, встретился у вокзала. Он тоже хмуро поздоровался и сказал.
– Втикать надо. Киев наши, кажись, сдали.
Переулки и пути были забиты колоссальным обозом Железной. Эти обозы были еще более растрепаны и не нужны, чем даже в Житомире. На возах Плешко увидал клетки с птицами; сундуки с громадными замками в виде гирь; несколько жаток33 мелькнуло среди каких-то бетонных труб и пятерых возов, груженных плетенными из камыша циновками. Красноармейцы ходили с шинелями в руках; в расстегнутых рубахах, без фуражек, и на лицах у них было то самое выражение, какое бывает у очень старых людей, которым надоело спать, есть, разговаривать. Какой-то красноармеец шел пьяный и слабеньким голоском хныкал: «А вот и Киев сдали, а дале што-о?». Он упал у забора, возле телеги, у которой трое красноармейцев варили кашу на костре, разведенном из сломанного платяного шкафа.
По обеим сторонам дороги, от вокзала до города, на всех пустырях горели костры. Беспорядочные палатки были наполнены обозной тревогой и ненужной суетой. Несколько красноармейцев спросили бригадных: «С чем обозы?» – и когда услышали, что с продовольствием, в лагере произошло движение, напоминавшее то, когда на улице в большом городе происходит убийство и со всех концов улицы к убийце бежит толпа: багроволицая, бледная, встревоженная, но не знающая, что ей делать. Плешко увидел, как двое часовых подле какого-то склада отложили винтовки и бросились к обозам бригады.
Бригада, хмурая, молчаливая, медленно заняла площадь34, обнесенную двухэтажными домиками с аккуратными балкончиками. Площадь украшал пыльный садик, в котором пытался оторваться от пыли и хоть сколько-нибудь перерасти тополя деревянный обелиск «Памяти жертв белогвардейского террора». На одном из углов, как раз против фонаря, похожего на пишущую машинку, вывеска политотдела Железной дивизии. Над вывеской балкон был украшен сушившимися синими подштанниками, и большой кусок сиреневого стеганого одеяла качался из окна, рядом с балконом. Внутри помещения можно было рассмотреть, как трое солдат, полулежа на матрацах, играли в карты. Сотрудник отдела, в нижнем белье, с трубкой в зубах, видимо только что проснувшийся, неимоверно зевая, читал газету. Часовой спал в передней, несколько пакетов лежало у его локтя.
Бригада, несмотря на усталость, стояла неподвижно. Эта ее неподвижность смутила обывателей, которые приняли ее, видимо, за бандитов, потому что вскоре захлопали ставни, зазвенели крюки дверей, опустели балконы, и только в приближающихся сумерках синие подштанники на балконе политотдела превратились бесстрашно в черные. Плешко огляделся. В одном из окон показалось лицо мальчонки. Он пропищал что-то неразборчиво и тотчас же скрылся. Но вся бригада долго смотрела в это окно, и всей бригаде, как и Плешко, показалось, что мальчонка высунул им язык. Холод, начавшийся с колен, медленно подступал к груди Плешко. Он почувствовал слезы в горле. Гавро, опираясь на винтовку, рыдал. Вот его, Плешко, окружают все, записанные в книжку: тут и Пыхачев, Савка Ларионов, Кабардо, Болдырев, Пузыревский, Матанин, Щербаков; тут и старики-сибиряки, великие партизаны; тут и мужички, приставшие в полях и лесах Половецкой республики; кавалеристы на измученных конях; пулеметчики на пыльных тачанках и в мужицких свитках, – в засаленных и замызганных папахах; все те, кто, проделав много верст и телом своим защищая обозы с хлебом, только и думал о Железной. Обозы бригады заполнили площадь. Бригада стояла неподвижно. Солнце, ушедшее вовремя, скрыло мокрые глаза бригады.
Когда к площади на автомобиле приехал Мицура, он вынужден был пройти через площадь пешком, потому что бригада не расступилась перед ним. Мицура остановился пред Плешко. По-прежнему Мицура крутил папиросочки, по-прежнему самодоволен.
– Все, что ни говори, а приехали вы и отлично, – сказал он. – Тут все коммунистов мне в политотдел хотели прислать, да так и не собрались видно. А нас и Бессонов замучил, и… вообще…
Плешко кивнул головой, и ему было приятно видеть, что никто не шевельнулся сказать Мицуре, что Бессонов уничтожен и что Половецкой республики не существует.
– Необходимо, товарищ Мицура, немедленно напечатать в газете…
– Закрыли мы газету пока…
– Тогда разрешите предложить…
– Мы завтра, товарищи, отступаем до Барышевки, а там думаем укрепиться. Переправу через Дарницу мы охранять не в состоянии и, кроме того, бандиты и Бессонов… Ты помнишь, Плешко, старичок у нас в штабе в Житомире существовал, – здесь я его встретил! Стоит в церковной оградке, курва; я ночью иду мимо, а он стоит и слушает.
– Слушает? – переспросил Плешко и вдруг, обернувшись к Савке, выкрикнул: – Ссадить сотрудников политотдела с телег! Выкидывать все жилое из политотдела к чертовой матери!
И Савка заорал:
– Политотдел!., сотрудников!., с телег!..
Через несколько недель, возвратившись из объезда частей дивизии, Плешко делал доклад новому командиру Железной Тимофею Болдыреву. Болдырев сидел на низенькой скамеечке, плотно соединив ноги. Он ел черешни и косточки аккуратно сплевывал в кулек из сахарной синей бумаги. На нем была все та же рваная гимнастерка, в которой он ездил по землям Половецкой республики, и только сапоги у него были новые. Болдырев с жалостью смотрел на сильно исхудавшее лицо Плешко, на его ввалившиеся глаза и думал: «помрет», и ему хотелось сказать что-нибудь хорошее, и оказывалось, что все хорошие слова сказаны им Плешко по несколько раз. И Болдырев, тихо улыбаясь в рыжую свою бороденку, слушал, стараясь сделать самое внимательное лицо, хотя все то, что докладывал Плешко, было давно известно, и об этом много и писалось и говорилось.
Плешко сообщал, что штаб армии прислал Железной семьдесят человек мобилизованных коммунистов, но что они едва ли нужны, так как воспитанный кадр политических работников сводной бригады (несмотря на некоторые усвоенные партизанские навыки) дал возможность развернуть школу политруков, выделить представителей сводной бригады в местный партком и ревком, которые быстро подняли доверчивое отношение к Железной. Товарищеский дух в этом сближении укрепили субботники! В типографии, где раньше печатались афиши любительских спектаклей, напечатаны воззвания к населению… население начинает нам верить… Крестьянские работники, двинутые по созданию окружного комитета по продовольствию, говорили… Революционный энтузиазм…
Плешко чувствовал сильную слабость. Он плохо понимал то, что говорит за ним ему Болдырев. Последние дни Плешко сильно клонило ко сну, но все ж он спал плохо, но боли в теле не чувствовал и врача звать ему было стыдно. Он присел рядом с Болдыревым. Красноармеец, с кипой газет, напечатанных на обойной бумаге, шел по площади. Болдырев остановил его и спросил:
– Куда несешь?
– В третью пулеметную роту.
– Кто командир?
– Матанин.
– Деловой командир, славный мужик, – и Болдырев хотел похвалить Плешко за хорошего командира Матанина, но и эта похвальба и хвала за газету была высказана много раз. Ветер толкал красноармейца и его кипу газет. Болдырев вздохнул: – Давеча мужики дивизионные жалуются: к уборке не попасть. К уборке, верно, не попасть, а что я могу сделать? Самое почетное, что я тебе скажу, это, парень, – здешной мужик нашей дивизии закрома открыл. Вот это забрало! А почему открыл: потому, что мы, сводные, привезли обозы с хлебом, подкормили Железную, вот и стало легче. Мужик, хоть здешний, хоть другой, хлеб к хлебу любит давать… Я вот увеличиваю продовольственный паек от полуторых фунтов до двух в день, да и до двух с половиной могу, а бах – седни представители из опродкомарма прикатили и давай ругаться!.. Уж они меня и садили, уж и садили, а я говорю – имеете намерение на Киев идти?..
– А где Филипп… Муцура?..
– Он-то? В штаб армии укатил. И дамачка с ним. Эта, учительша, Анна Осиповна. Я тебе как-то говорил, что она на нашу деревенскую учительшу походит, так я наврал.
– Знаю.
– Может, и не с Мицурой уехала. Одна могла уехать. Пустая бабочка и словами пустыми нагружена. А Мицура ее подберет, он добрый.
Болдырев скоса посмотрел на Плешко и ухмыльнулся. Плешко пошел к показавшемуся на площади Кабардо.
– Нет, – ответил Кабардо, – писем для товарища Плешко нету. Живу хорошо, прекрасно живу, полной грудью, да…
– К тебе не приезжали?
– Откуда? Нет. Надо думать, и не приедут. А люблю, люблю… – Кабардо взмахнул руками с таким видом, будто он может показать, как он ее любит. Улыбка у него была торжественная.
Взрыв! Плешко плохо помнил этот взрыв, надолго прервавший жизнь Цепного моста. Кабардо исступленно крикнул ему в окно: «Поляки мост, кажись, Цепной взорвали», – голос его был писклив. Орудия крепости мешали голосу Кабардо. Плешко стоял у окна, совсем в тени маленького кирпичного и давно пустого домика с выбитыми окнами. «Луна дает тени удивительно черные», – подумал Плешко и подумал он оттого, что ему не хотелось думать ни о зареве над городом, ни об ракетах, пляшущих над Днепром и левым берегом. От реки несло волнистой свежестью, и об этой свежести тоже не надо думать. Ему надо стоять и ждать, пока полевой телефон не прошипит, и пока Кабардо не передаст трубку, и пока его не пошлют к крепости. В ограде пустуют палатки политотдела. Эскадрон, которым командует Кабардо, спешился. Кони шумно дышат. По шоссе мимо домика медленно прошла рота. Начальник низенький и сутулый, это может быть и Гавро, и Щербаков. Нет, и Гавро и Щербаков еще в сумерки пошли к крепости…
С вечера орудия поляков бьют по людям, ползущим к крутым скатам правого берега Днепра. Река грязная и противная. Над нею реденькое, как плохой ситчик, небо. И умирать под этим небом и тонуть в этой скучной реке – противно и тяжело.
Из Киево-Печерской цитадели врывается вой польских орудий35. Вой подкрепляют, увеличивают работу укрепления Госпитального и Васильковского. Казармы укреплений плотно набиты польскими солдатами. Солдаты все в хорошей и красивой форме, они долго репетировали под руководством седых, влюбленных в славянство, генералов, оборону крепости. Солдаты необычайно довольны гулом фортов.
С левого берега на правый всю ночь, мимо Плешко, направо и налево, отовсюду к крепости шли резервы. Многие политработники ушли на передовые линии. Сам Плешко ждет у телефона, и ему немного стыдно было думать и в то же время приятно, что он вскочит на коня и, сопровождаемый Кабардо и эскадроном, поскачет к крепости и будет ободрять красноармейцев. У него ныла шея, он себя плохо чувствовал, и ему вспомнился болезненный Пыхачев. «Тоже, полез…» – подумал он с усмешкой.
А Пыхачев, командир батареи легкой артиллерии, долго и прилежно изучавший в последние недели артиллерийское дело, ученик, а сам некогда учитель Волчихинской церковноприходской школы36, вел (два часа перед тем, как о нем вспомнил Плешко) вброд батарею. Его теснила польская кавалерия. Обоз артиллерии образовал в броде выбоины. Пыхачев, сморкаясь и кашляя, полез спасать застрявшее в выбоине орудие, которое за неповоротливость две недели назад он окрестил «Мицурой». Он хлестал лошадей, свистел, – а поляк, с пригорка, на полном скаку лихо прицелился в него из карабина. Длинная фигура Пыхачева сделала последнее недовольное движение. Темная вода зевнула перед его ртом. Он погрузился в Днепр.
Левый берег открыл усиленный огонь по фортам, по укреплениям, по батареям крепости. Скоро, часа через два, помянут хорошим словом Пыхачева, доставившего на правый берег легкую артиллерию. Она будет метаться среди казарм, крыть по внутренностям, по внутренним сообщениям крепости.
Части армии приближаются. Крепость шипит, скачет в небо. Днепр не успевает отражать ее ярость.
– Ускоренная атака? – стелется над телефоном исступленный Кабардо. – Как идет ускоренная атака? Э-э-эх, нас не пора?..
Офицеры, забыв щегольство, шипящим своим говором, почти по-русски выкрикивая команду, ведут колонны между линией фортов и оградой. Левый берег командует: «По фортам ослабленный огонь». Артиллерия фортов смолкает.
– Резерва у поляков нету, – кричит Кабардо, – служба плохо организована и распределение гарнизона никуда!..
Вызывая чувство скуки и беспричинной тревоги, начал сыпать мелкий дождик. Плешко думал о том, о чем давно уже говорилось перед атакой Киева, что переносные железные дороги внутри крепости (по обычной русской растяпости) достанутся полякам испорченными, и они не потрудятся их проверить, и великие стратеги из Варшавы, борцы за славянство, плохо срепетируют выход солдат на банкеты, и в момент наступления красноармейских штурмовых колонн солдаты растеряются. Главный резерв поляков не сосредоточен, и широколобые полководцы, вот теперь (когда легкая артиллерия товарища Пыхачева и других, похожих на него, недалеко от проволочных заграждений) – теперь полководцы сидят, злятся друг на друга, на мелкий дождик и никак не могут выявить решительный пункт атаки.
– Прорвали. Боевая линия переходит на вторые позиции!..
Польский солдат, белокурый и тонкоплечий, воткнул штык в спину русскому и побежал, кинув со страху ружье прочь. Безусый казак, высоко подпрыгивая, догнал солдатика и ударил его вскользь по шее. Вот оба и поляк и русский лежат недалеко друг от друга, у них обоих остатки испуга на лице, они давно мертвы, но руки их вздрагивают, потому что через них бегут; их топчут. Поляки тащат с орудий замки, прицелы. Они умирают, прижимая к груди замки, которые не успели передать. Они, мертвые, в рай понесут части своих орудий37. Кто-то из полководцев скомандовал: «Шрапнельный огонь, через головы солдат, по наступающим частям».
У Васильковских казарм решительный пункт атаки, – решили, наконец, полководцы. И артиллерия, и резервы, и танк пополз к Васильковским казармам.
– К Васильковским казармам демонстративная атака! Атака поручена Железной! Демонстративная атака Железной!..
– Ого-го, братаны, качай!..
– Савка, а где Савка!?.
– А я-то здесь!
– Дуй!..
«Они совершенно замотались, – думает Плешко, – разве бесконечны у Железной резервы?». Вот сейчас прошли мимо его, тяжело ступая старыми мужицкими ногами, партизаны с Алтая38. Они поднялись для борьбы с генералами давно. Они шли по снегам Сибири в белых балахонах, на лыжах; а затем сели в теплушки и поехали встречать весну к Польше, на Украину… Плешко многих из них знал в лицо и по имени-отчеству. Тут есть и из Бийского уезда, и из Бухтарминской долины39. У них великолепные хозяйства и раскрашенные, как пряники, дровни. Вот прошли охотники из-под Иркутска. Он увидал одного торговца пушниной – этого-то зачем потянуло на смерть?
Вот роту ведет отец Савки, Илья Степаныч Ларионов. Затем Плешко видел рыбаков с Байкала; пароходных ребят с Иртыша и Оби, приисковых рабочих… Крепостная печь пышет все сильней и сильней! Они идут спокойные, покрытые сединой, как идут спокойные хлеба в печь. Снаряды рвут мужицкие тела и удивляются: как же мало нательных крестиков на этих телах, седых, старых.
Мужицкие роты приближаются к Васильковским казармам, и Болдырев сопровождает свои роты. Четыре ряда проволок рвут мужицкие тела, мужицкое полотно рубах и не могут изорвать.
Мать поднесла парню новую рубаху, на счастье. И, вместе со своим сердцем и с синими пуговками по воротнику, повис парень на проволоке. Маленькая синяя пуговочка трясется. Ее трясет грохот орудий. Огни взрывом целиком сияют на ней. Погиб паренек, и рубаха погибла, – да что паренек, Болдырева снял с его недолгого командного поста польский офицер. Болдырев тряхнул последний раз бороденкой, кровь хлынула у него изо рта, ветер – теплый, пахнущий хлебом – наполнил его голову. Сильно ему хотелось открыть глаза, но не смог открыть глаз Тимофей Болдырев.
Дорога к крепости разворочена взрывами, ее надо обходить, Илья Ларионов идет выручать Савку, бестолкового своего сына. А Савка умер так: он примчался с остатками полка под окна Васильковских казарм. Поляков почти всех перебили, надо б отступить на время от казарм и выпустить пулеметную роту, которая б обстреляла казармы. Но третьей пулеметной ротой командует Саша Матанин, дружок, у которого и по сие время неизвестно, когда находит трусость. Савка думал взять казармы. И Савку Ларионова убили. Он лежал пробитой шеей на луке седла, а с другой стороны казарм умирала рота его отца под перекрестным огнем трех пулеметных отрядов. На площадь, перед казармой, выбежал с остатками третьей роты Матанин и, увидав мертвого Савку, зарыдал.
Давно к крепости прошел Щербаков. Давно нет Интернациональной роты, она шла первой к проволокам. Сам Гавро, вместе со своим дневником и раздробленной головой, висел на стальных колючках крепостных проволок. Пузыревский погиб среди сводной своей бригады. Докуда же ожидать будет Плешко. Нельзя ждать!..
– На коней! – закричал Плешко, и Кабардо отвечал из домика:
– Готов.
– Что готов?
– Сообщают: демонстративная атака перешла в сквозную. Крепость взята. Поляки отступают…
И еще позже разом прискакали два ординарца и в голос прокричали, что полячишки, действительно, дерут, и что товарищ Болдырев убит, и что товарищ Пузыревский убит, и убит также Гавро, и Матанин, и Савка Ларионов… Железная дивизия погибла целиком… Ординарец плакал и обязательно желал огласить список убитых. Плешко неподвижно смотрел на пустые палатки политотдела, на полевой телефон, так и не прошипевший ему приказания идти к крепости.
Тишина опустилась на город.
Плешко умывался из жестяного чайника над ведром. Вошел Мицура. Рука у него была на перевязи. Окно было завешено розовой скатертью, и оттого, что на дворе были сумерки, лицо Мицуры казалось молодым, одухотворенным. И одухотворенное лицо, как и все в этот день, болезненно раздражало Плешко. В палатках, на дворе, суетился народ: шло формирование Железной. Подле окон, на улице смеялся Кабардо: утром к нему приехала Павла, и Плешко было противно подумать, что эта неповоротливая, пучеглазая и глупая женщина могла нравиться ему… Э, пускай смеются! Вода в чайнике теплая, липкая и противная.
Мицура желал проститься: он ранен, получил отпуск, он едет в Сибирь. Он как всегда самодоволен и велеречив. Плешко хотел было спросить его: есть ли у него сестра Феоктиста, но тяжело (да и надо ли?) вести разговор. Френч упал с табуретки на пол, и из кармана показался угол желтенькой книжки, некогда подаренной ему Мицурой.
– Вот, о многом догадываюсь, – сказал Плешко, – многое, говорят, могу предвидеть, а в своей личной жизни… чепуха!
Он развернул книжку и смыл водой все записанные на двух страничках фамилии. Затем он подал книжку Мицуре:
– Спасибо. В Сибири вы не найдете такой удобной книжки, а мы в Польшу идем.
Плохая скрипучая машина остановилась у крыльца. Плешко устало взял маленький чемоданчик, и пошел сгорбленный, сильно постаревший. Уже из машины он сказал, что его назначили руководителем политработы 12-й армии. Он снял фуражку. Волосы у него на висках серые, редкие, а руки дрожали. Ветер был теплый и пах травой. Должно быть, будет хорошая осень! Мицура, играя листочками книжки, на третьей странице, внизу, увидал: мелким почерком было выведено: «Ф. С. Мицура» и еще ниже «А. О. Блотова». Он хотел спросить: почему Ф. С. Мицура, но Плешко уже дотронулся до козырька. Страницы были еще влажны от воды. Мицура поймал каплю, оставшуюся на первой странице и уголком френча стер слова. Книжка стала совсем чиста.
– Доброй ночи, товарищи!
– Доброй ночи, товарищ Плешко!
Переписка Вс. Иванова и А. М. Горького 1924–1928*
1924
1. Вс. Иванов – А. М. Горькому*
4 декабря 1924, Москва
Дорогой Алексей Максимович, – я и Пильняк работаем сейчас в «Круге», редактируем1. И вот у нас к Вам просьба: если б Вам издать в «Круге» книгу последних Ваших рассказов?2 Может быть, сообщите условия и как и где собрать оную книжку.
А я? Написал я забавную повесть3. Сейчас ее перепечатывают, и на днях я ее смогу послать Вам прочесть. Шкловский ее хвалил. Сам же Виктор мотается, заведует литчастью журнала «Кр(асный) журнал», а бывший вообще-то «Синим»4. Написали мы с ним авантюрный роман о химической войне «Иприт». Сей роман печатается в Госиздате5.
Помимо всего прочего, – Виктор имеет сына, Никиту. Мое семейство не прибавляется. Были две дочери, но умерли.
Живут людишки скудно, тесно и грязно. Я к человеческому горю привык, но такое ненужное горе даже и меня пугает. Писатели ходят оборванные и голодные. Авансы просят – 3 и 5 рублей.
На улицах нет снега и продается какой-то странный виноград, который никак нельзя есть. Стоит он 40 к(опеек) фунт.
И очень дешевы книги. Дешевле дров. Помните, в Питере я топил печи Французской Энциклопедией?
О Вас мы слышим мало. И похоже на то, что Вы вернетесь не скоро. А жаль. Нам живется тесно, а Вы человек просторный и легкодышащий.
В марте я поеду за границу6.
Пока – всего доброго.
Всеволод Иванов
Маросейка, Б. Успенский, д. 5, кв. 36, «Круг».
2. А. М. Горький – Вс. Иванову*
27 декабря 1924, Сорренто
27-XII-24.
Дорогой Всеволод Иванов,
– письмо Ваше путешествовало почти три недели, как видите.
Отвечаю на вопрос «деловой»: право издания моих книг в России продано мною Стомонякову, главе Берлинского Внешторга1, а он, в свою очередь, кажется, передал его Госиздату2. Значит, – по этому поводу говорить надо с Ионовым3. Сей последний – хороший издатель, но был – и если правда, что прикрыт «Рус(ский) Сов(ременник)» и прихлопнута «Всем(ирная) Литература»4 – остался человеком взбалмошным.
Очень хотел бы прочитать Вашу повесть и авантюрный роман. Пришлите, пожалуйста!
Книги у Вас, в Москве, дешевы? Не попадется ли Вам под руку книжка: Монье. Cvatrocento (Кватроченто), издание Пантелеева?5 Если попадется – купите и отправьте Екатерине Павловне Пешковой, Чистые пруды, Машков переулок, д. 1, кв. 16; она, Пешкова, заплатит Вам деньги, а книжку пошлет мне. Сделайте это, если будет случай.
Письмо Ваше – грустно. И вообще из России пишут не весело. Хочется поехать к вам, но здоровьишко мое трещит и путь мне лежит в другую сторону.
Здесь – тоже нет снега, а виноград уже съели, но зато – фантастический урожай апельсинов, деревья так изукрашены ими, что листвы не видно.
В марте думаете ехать за границу? Поезжайте сюда, здесь хорошо работается, а вам пора отдохнуть, посмотреть на себя издали.
Вы – талантливый человек, но, мне кажется, Вы недостаточно серьезно относитесь к Вашему таланту и не так любите его, как надо. Вы мне это замечание – простите: за Вами – право не обращать на него внимания, но я обязан сказать Вам о том, что думаю: писать Вы стали небрежно, устало. Надо отдохнуть.
Крепко жму руку. Всего доброго.
А. Пешков
P.S. Пильняк? Это, пока еще, вне искусства, вне литературы6. И Шкловского нельзя похвалить за его искажение «ZOO»7. Плохо все это. Извините, что ворчу.
А. П.
1925
3. Вс. Иванов – А. М. Горькому*
7 октября 1925, Батум
Дорогой Алексей Максимович, – боюсь, письмо проходит долго. Живу я на конце света, газеты московские сюда приходят через неделю. Надеюсь на итальянский пароход, он торчит в порту.
Живу я здесь потому, что в Москве совершенно работать нельзя. Телесно я совершенно здоров, но чувствую себя больным. Написал не меньше 7 листов плохих рассказов и плохой роман «Северо-сталь»1, который имею мужество не печатать. И многое другое – измотало.
А здесь во вред телу – купаюсь по четыре раза в день и плаваю до горизонта. Сегодня на море шторм, море сплошь в пене и шипит, словно в него раскаленное железо суют.
Лето я провел частью на Волге, а частью ездил по Киргизской республике2. Киргизы народ смешной и стали непохожими – на тех, что я написал3. Совнарком их из Оренбурга переехал в Алаш-Орду, городок такой был Перовск. Раньше в нем населения было 5 тысяч, а теперь с Совнаркомом 25, и на человека полагается 1¼ кв. аршина площади жилья. Днем работают, а ночью в комиссариатах спят. Самый большой дом в столице этой был сумасшедший дом. Двухэтажный и кирпичный. Там теперь Совнарком, а в комнате секретаря Совнаркома (была раньше для буйнопомешанных) со стен еще не сняли войлок. Так и секретарь принимает.
В Уральске я жил в садах ГПУ. Так и называются: «Сады ГПУ». Этакая Уральская Семирамида4. Дали мне дом в 6 комнат, а мне было скучно, и я спал на балконе. Ребята были все милые, но говори(ли) мало. Боялись – «опишу». Стреляли на сорок сажен в спичечную коробку. И без промаха. На прощанье устроили сугубую выпивку, и один говорил длинную речь, закончив:
– Уральск с его основания посетили два писателя. Пушкин5 и Иванов. Ура!..
И сел очень гордый.
Пушкин был там для «Пугачевского бунта». С тех дней – уральские казаки очень победнели.
Я проехал от «славного города Гурьева» до Уральска по Яику тысячу верст. Зернистая икра стоит 25–35 копеек фунт, а рыбой кормят верблюдов и лошадей (ей-Богу, сам видел. Живую жрут. Даже страшно). Хлеба же на расстоянии тысячи верст купить нельзя, потому – его там не едят. Земля – песок да глина, хлеб покупной, а ехать за ним надо двести верст на волах.
Про Пугачева казаки помнят, что был царь у них Петр Федорыч и что казнили его за то, что хотел перенести столицу на Яик. И поступила Екатерина несправедливо.
В Батуме же, где я сейчас живу, жизнь лучше и смешнее. Здесь, как известно Вам, зреют апельсины и вообще – советский бамбук. На одной вывеске так и написано – «продажа угля, дров и советского бамбука». Черт ее знает, что за ерунда, но бамбук действительно растет. Кроме бамбука произрастает здесь грузинский национализм. На днях происходил тут краеведческий съезд. Из центра был тут А. Пинкевич и Тан-Богораз6.
Жара в городе страшенная. Прямо хоть штаны снимай. Зашел я на этот съезд. Так грузинские ученые (происходила первая встреча их с нашими) в сюртуках до пят и говорят с нашими на немецком. А в Академию вообще-то они пишут из Грузии по-французски, не иначе.
Чудеса!
И мне кажется, что литература наша в ближайшие годы будет сугубо национальной не только по языку, как это происходит теперь, но и по духу. Я – о России.
Пролетарская литература будет литературой чиновного человека. Ибо ея цель – борьба с капитализмом, а какой же у нас капитализм. У нас полагается быть только мещанству. А обличая мещан – мир не удивишь. Про Европу же, и Европа о нас, – писать всегда не умели.
Родив такое тощее дитя, как «Северо-сталь» – я напугался и романы не пишу. А признаться – очень хочется. Может – позже?
Сейчас работаю над рассказами.
Сделали мы со Шкловским роман авантюрный «Иприт». Писали очень весело. А теперь на нас обижаются. Говорят, не солидно. Я от этого романа понял и научился делать сюжет.
Но сюжет и русская фраза, ея ритм – очень трудно слить это. И получается часто – словно не пером, а помелом написано. И широко и непонятно.
Этой осенью в литературе российской какое-то оскудение. Каждую осень если не Толстой, то с Толстым обязательно какого-нибудь да сравнивали. А тут, просто, даже больших работ нету.
Писатели, материально, в этом году живут лучше.
А вот Сережа Есенин пьет немилосердно. Изо дня в день. Ко всему тому у него чахотка, и бог знает, что с ним будет месяца через три-четыре7.
Шкловский летом летал на самолете в агитполете до Царицына8, участвовал в автомобильном пробеге. Но не изменился. Перед моим отъездом, у меня, ругательски ругал Радека9 за то, что они – Радеки – не понимают Россию. Сейчас Шкловский служит на кинофабрике10, откуда со всегдашней своей готовностью – устроил мне аванс.
Бабель пытается понять – «смысл жизни», Леонов – продолжает точить на токарном станке, а Сейфуллина переехала в Питер писать советскую «Пиковую даму».
А мне очень хочется поехать в Японию и уехал бы, но по секрету скажу вам, – увязывается со мной Пильняк11. Отказаться с ним ехать – как-то неловко, а – с Пильняком в Японии какое же удовольствие? Вот и не знаю, что делать.
Привет Вам крепкий.
Ишь, как расписался-то!
Всеволод
Адрес мой московский: Тверской бульвар, 14, кв. 7. Из Батума я уезжаю в Москву через две недели. Кончается купанье. Кроме моря – все остальное здесь декорации.
4. Вс. Иванов – А. М. Горькому*
30 ноября 1925, Москва
Дорогой Алексей Максимович, –
послал я Вам из Батума письмо, но боюсь, что не дошло – ибо послал его я как-то случайно, с итальянским пароходом, да и адреса Вашего не знал – прямо в Сорренто.
Там описывал я веселые встречи свои на Кавказе и Яике. Описав, отправился в Баку – и кажется мне – это самый удивительный город в России. Там такая смесь чадры и автомобиля, нефти и винограда, и так это вкусно пахнет – я прямо влюбился в этот город. Есть там изумительнейший человек – Серебровский, – начальник Азнефти1. Об нем – прямо роман.
Среди прочего дела строят там город. Этакий нефтяной Петербург – со смешным названием пос[елок] Стеньки Разина. На пять верст проложили тротуары и бульвары, взрывают гору – утес Стеньки и из горы этой строят. Готово уже пятьсот квартир, а через два года – вселится – я верю этому – 40 тысяч рабочих.
Я не был рабочей делегацией, Алексей Максимович, и мне никто очки не втирал (хотя они сами себе больше втирают очки, чем им) – но я уехал оттуда необычайно бодрым. Ибо народишко живет дюже плохо, тесно и пьяно. А тут настоящее дело.
В Москве же – тишина. В прошлом году хоть напостовцы воевали2, а теперь они получили свои куски пирога и успокоились. В прошлом году я очень много пил и относился к себе с презрением. Теперь живу всухую – и не оттого, что мне нельзя пить (во мне весу 5 п. 1 ф., и плаваю я в море за три версты), а как-то стало скучно, – а главное, противно смотреть, как пьют. Народишко за эти годы измочалился, с ног валится с рюмки. Не весело.
Писатели – вдарили по кино и театру3. Я, грешным делом, пишу комедию4 тоже, но получается как-то не смешно. Прочел одному – он послушал, почесал за ухом и сказал – «да, тоскливо». Думаю, выпрыгну. А в литературе, сказать по правде, полная неразбериха: гениев наплодили необычайно много. Вот как-то в одном из писем Вы упрекали меня, что я не уважаю свой талант, а я как посмотрю – как теперь уважают себя люди, – прямо плюнуть бог знает во что хочется. Самоуверенность адская – и это очень вредно, и очень скоро люди начинают спиваться. Даже не употребляя водки.
Я все сбирался за границу, а Россия манит да манит, – возьму, глядишь, и уеду в какой-нибудь городишко. Жизнь теперь необычайно сложная, очень лживая – и часто пустая. В уезде это видеть куда как чудесно.
В феврале будущего года, Алексей Максимович, исполнится пять лет Серапионов5. Приезжайте в гости, к первому февраля в Ленинград! Будет весело, мы сбираемся каждый год и веселимся. В прошлом году было очень хорошо.
Пишу я теперь мало. Живу хорошо и чувствую, как горб за моей спиной начинает опадать. Он очень вырос за последние два года. Добиться бы этакого – умиротворенья страстей и хорошо.
Сын у меня родился три месяца назад6, до него были две дочери, да померли, а он живуч будет, верю, курносый, узкоглазый и веселый.
Шкловский чувствует, по-моему, себя плохо. Пишет он не то, что надо – и часто плохо. Он умный человек, понимает – и веселится.
Самый великий писатель теперь в России – П. Романов7.
А. Чапыгин написал замечательный роман о Разине8 – и никто не замечает.
Алексей Максимыч, ей-Богу, Вас не хватает в России! Пожаловаться некому. Да главное, никто никому не верит – даже Воронский.
Привет Вам.
Всеволод.
Мой адрес: Москва, Тверской б., 14, кв. 7. (еженедельно угощаю сибирскими пельменями).
5. А. М. Горький – Вс. Иванову*
13 декабря 1925, Неаполь
Вс. Иванову.
Ваше интересное письмо из Батума я своевременно получил и тотчас ответил Вам, дорогой мой. Ответил длинно, однако – едва ли вразумительно и, кажется, сердито, ибо в те дни был не в себе, замучила бессонница и разные нервные штучки. Бессонница терзает меня и по сей день. Староват, через два года 60. Устаю. Пора. От прекрасной жизни, мною прожитой, следовало мне раза три умереть, а я снебрежничал, пропустил сроки и вот все живу, живу, пишу, пишу. Чего и Вам весьма желаю, – жить и писать.
Вы со Шкловским будто бы состряпали какой-то «дефективный» роман? Прислали бы, сударь?1 Я бы поругался с Вами.
Очень хочется мне вытащить Вас и Федина сюда. Да еще бы Зощенка. Да Булгакова2. Посидели бы мы тут на теплых камнях у моря, поговорили бы о разном. В Россию ехать мне рановато. Во-первых – хочу вылечиться. Это, конечно, наивно. Во-вторых – здесь я неплохо зарабатываю на издании книг моих в разных странах, а в России что заработаешь? Авторские же права на заграницу – потеряю. Так-то. Вот какими соображениями приходится руководиться. Никогда не внимал им. Но – ныне я – дедушка, у меня внука четырех месяцев3. И не мало людей, коим я должен помогать жить. Ничего не поделаешь.
Что Вы пишете? Вам, сударь, – простите за совет! – пора писать экономнее, Вы очень швыряетесь словами. У вас на некоторых страницах встречаются пильняковы сухие вихри4, пыль словесная и сумбур лирический. Впрочем – лирика у Вас убывает постепенно, и это – хорошо. Всю ее изгонять не следует, но сократить – необходимо. Мы живем во дни отнюдь не лирические, несмотря на бытие Лиги наций5 и восторги итальянских фашистов. Мне кажется, что современное искусство слова настоятельно требует строгой сжатости, эпического спокойствия, суровой объективности. И хотя книга Войтоловского «По следам войны»6 – не искусство, но по объективности ее – образцовая книга. И Федорченко и Барбюс7 – пустяки, сравнительно с Войтоловским.
Вот что, сударь: в январе Ромен Роллан празднует свое 60-летие. Образован комитет: Дюамель, Роникер, Стефан Цвейг и я8. Было бы очень хорошо, если б молодые русские литераторы поздравили француза, прекраснейшего человека, которого, со временем, назовут Львом Толстым Франции. Автор «Жан Кристофа» и «Кола Бриньон»9 заслуживает почтения, не так ли? Вот вы бы и написали ему адресок10. Послать можно мне, а я перешлю ему. Похлопочите, а? Я считаю обязательным оказать внимание одному из лучших писателей Европы. Отвечайте.
Всего доброго! Поклон Серапионам.
Мой адрес:
Неаполь. Posilippo. Villa Gallotti. М. Gorki
13-XII-25
Жму руку.
А. Пешков
6. Вс. Иванов – А. М. Горькому*
20 декабря 1925, Москва
Какая жалость, дорогой Алексей Максимович, что я не получил Вашего письма мне. Куда Вы его посылали: в Батум или Москву?
В эти месяцы – после поездки, – я убедился во многих простых истинах, – что – нельзя пьянствовать, как пьянствовал я раньше, – что – авантюрный роман сейчас России и русскому читателю – не нужен. Пить я бросил – вот уже три месяца, и, кажись, очень надолго, – и покинул свое увлечение авантюрным романом и рассказом. Жизнь, Алексей Максимович, у нас в России достаточно тяжела, авантюрный же роман в том виде, в каком его допускаютсейчас в России, – жизнь не украшает, не романтизирует что ли, а обессмысливает. Я честно возвращаюсь к первым своим вещам, – но, кажется, кое-чему научившись, и, прежде всего, строить вещь. Мне это трудно, я человек хаотический – и, конечно, предков бы тревожить не стоило – но, я думаю, их колонизаторская сибирская воля перешла ко мне. Хвастать только любили!
Мне бы хотелось, чтоб вы прочли, Алексей Максимович, в январской книжке «Красной нови» – 926 г. – рассказ мой новый «Плодородие». Там все мои последние думы.
Кончаю я еще – в феврале, в конце – роман «Казаки»1 – если угодно, я пришлю его Вам в рукописи. Тема там, приблизительно, такова: казачья станица, разваленная войной, революцией – начинает подниматься… появляются то, что у нас сейчас в моде – «кулаки» (тоже беднота, так ведь, слово одно); в семьях – от нервности, от неудовлетворения жизнью и оттого, что жизнь-то обещана, да и надеялись – хорошая, а она отвратительна – в семьях развал, самый пустяковый блуд – этакие, черт знает, какие девки появились с алиментами, со стрижеными волосами. Хозяйство, если и налаживается, то как-то боком, будто у себя же воруешь. И вот живет в поселке богатый казак Мельников – старик, при нем старуха – жена и еще – приемыш, подкидыш. И вот должен приехать в поселок епископ, а старик Мельников – приходский старшина, ему и встречать епископа и гостевать. Вымыли, убрали все по дому, старик идет осматривать – все чисто, полы выскоблены, а только девка-приемыш – Маринка глину месит на дворе, сама грязнее глины. Разозлился старик – как ее не убрали, сколь грязна. Старуха и отвечает – во что, мол, ее убрать, когда на ней одно платье всего – и в праздник и в будни. Старик гордый, разозлился – одеть, кричит. Нету времени – отвечает старуха – разве у соседей занять, платье-то. Ну, тут старик совсем запылал: чтоб он, да занимал у соседей! Раскрыл сундуки и достал сарафан – материнский еще. А уральские сарафаны – тафта с парчой, по застежкам девять серебряных пуговиц. Вымыли девку Маринку, вывели – косы распустила – прямо, старина встала, красавица, каких теперь и в песнях не поют. Епископ похвалил зело – и пошла о ней слава.
Дальше начинается соревнование казаков из-за нее: из-за погибающего идеала матери и утешительницы скорбей, тихой семьи, кротости. О ней создаются легенды, она гибнет зря, – не подняв и не венчав – былой – казацкой удали.
Мне хочется показать мужицкую тоску по семье, по дому, по спокойному хозяйству, – а на казаках мне это легче всего выявить, потому что они наиболее всех пострадали от войны и революции.
Что же касается детективного нашего со Шкловским романа, то право оченьплохо, Алексей Максимович, не стоит его читать, да и браниться не стоит.
Роллану мы адрес пошлем, конечно2. Завтра же, я увижу кое-каких писателей, и мы соорудим быстренько.
Писал ли я Вам, что сбираюсь в Японию3, да еще с кем – с Пильняком. Не знаю, попаду ли – а деньги и все прочее у меня к весне будет, но Пильняк приятель-то хороший, но хочет ехать с женой, она у него актриса, 17 лет работавшая в Малом театре и до сего дня там4. Ну, представляете, что за цветок получился. Подумаю – и страшно.
А милее всего думать мне, что перевалю я весной через Каспий на Красноводск, побываю в Хиве, Бухаре и Памире – на тигров подле реки Пя(н)дж поохочусь – и по Семиреченскому тракту, мимо Иссык-Куля, полторы тысячи верст – проеду на лошадях: казачьими станица(ми), среди раскольников и киргиз. Я уже себе и ружье подбираю.
У вас, Алексей Максимович, внучек5, а у меня сын – четыре месяца и 15 фунтов весу. Орет, негодяй, работать мешает.
Вижу мало кого – некогда, работаю много, разве деньги выйду собирать, – а это – будь оно проклято это занятие. Напишешь, сдашь – все хорошо – нужно, скажем, триста рублей получить, так мотают тебя, мотают – и такая это вокруг тебя мелкая сволочь из Одессы и Винницы – прямо хуже комарья в тайге. И никто зла не желает, а такая уж идиотская система, да и как это – книги национализировать? Мысль. Я думаю, нигде нет такой путаницы и ерунды, какая творится у нас вокруг книжного дела. В прошлом году Госиздат выпустил 2 ООО ООО листов, а в 26 решено выпустить 400 ООО? А орали все – догнали довоенную продукцию! Догнали? Теперь уже на пуд можно купить книги выпуска 23 и 24 гг. Тошно писать.
Первого февраля у нас пятилетиеСерапионов. Я еду на пару дней в Питер6. Хотели выпустить альманах (увы, 2-ой только)7 – но не знаю, успеем ли.
Шкловский вам кланяется. От себя добавлю – он очень устал, делает работу оченьдля него чужую8. Буде, вздумаете мне писать – припишите ему пару строк, он очень обрадуется, очень освежится. Не знаю, верит ли он в кого, кроме Вас.
Привет.
Всеволод
Москва, Тверской бульвар, 14, кв. 7.
1926
7. Вс. Иванов – А. М. Горькому*
25 августа 1926, Москва
Дорогой Алексей Максимович, – месяца два-три назад послал Вам свои две последние книжки1. Книги-то ушли, а письмо-то на столе осталось – и сегодня я его нашел. Очень суетливо и беспорядочно мы живем. Надо думать, к лучшему, ибо захочется же людям быть спокойнее. Если не нам, то детям нашим.
В Москве скука и такое чувство, словно люди ходят по льдам. Писатели да актеры – я только эту среду и знаю более или менее верно – живут отвратительно. Положение с книгами отчаянное, а с театрами лучше тем, что нонче нет картин в кино и народишко будет посещать театры. Впрочем, стоит ли об этом Вам писать, Вы небось превосходно знаете и без меня. Завели в Москве автобусы, а ездить некому, ибо нет денег – смотришь, и мчится этакая машинища с одним пассажиром.
Написал я пьесу. Комедию, – да не знаю, как пойдет2. А все больше небольшие рассказики пишу3. Летом поехал было в Туркестан, да поднялась жара, я и из Баку свернул на Батум, и Кавказ мне теперь до смерти надоел – словно меду объелся, – и мне хочется поехать во Францию, но не знаю, дадут ли визу. Сбираюсь туда в декабре, примерно4.
Посылаю Вам фотографию5, снимал меня Леонид Леонов – мы с ним тут фотографией увлеклись, но у меня от беспокойного моего характера снимки получаются столь отвратительные, что я бросил это занятие. Поправка к лицу – и очки роговые я сбросил, и бакенбард нету. Даже голову обрил.
Добрые друзья мои все уехали на юг. В Москве пыльно, холодно. Есть у меня под Москвой снятая хатенка – верстах в 1306, – так там иконы во весь угол и все-то висит портрет Николая. Хозяин думал снять, а потом, когда узнал, что я не коммунист, – оставил. Изредка езжу на охоту, но против нашей сибирской дичи – куда же московской! Так я все больше дома сижу.
Привет.
Всев. Иванов
Адрес мой: Москва, VI, Тверской б., 14, кв. 7.
8. А. М. Горький – Вс. Иванову*
18 сентября 1926, Сорренто
Дорогой В(севолод) И(ванов) – книжки Ваши я своевременно получил1 и отправил Вам благодарственное послание2. Читаю ваши рассказы в «Кр(асной) Н(ови)»3 и нахожу, что Воронский, в письме ко мне, правильно отметил: Вы стали писать лучше4. Крепче, экономнее в словах, пластичнее. Местами – бунинское мастерство, но без его сухости и кокетства отточенностью фразы, часто – обездушенной ради красивости. Вы должны написать какую-то очень большую вещь, – всесторонне большую.
Во Францию хотите ехать? А – к нам? Поглядеть бы на Вас. Визу мы Вам достанем. Осень здесь – отличная, только немножко жарковато.
Что делает Леонов?5 Слышу, что все собираются писать огромнейшие романы, это – знаменательно, значит, люди чувствуют себя в силе.
Восхищаюсь «Разиным» Чапыгина6, – замечательную книгу делает Алексей Павлович! Знакомы ли Вы с ним? Интересная фигура.
А – что такое Василий Андреев?7 И – Михайло Козырев?8
Много любопытного на Руси, и очень хочется пощупать все это, но – увяз я в романе9 и раньше, чем кончу его, не увижу Русь.
А здешняя, европейская жизнь не очень радует, да, – вернее, – и совсем не радует. Никого нет, писатель – бесцветен и бессилен. Характерно, что наибольший успех в Англии имел за последние годы Джозеф Конрад, поляк родом10, во Франции нашумел Панаиот Истрати, полугрек, полурумын11, в Америке славен Берковичи – румынский еврей12. А то есть еще Иосиповичи, автор очень интересного романа «Гоха-дурак»13.
В итальянских театрах с треском идет «Ревность» Арцыбашева14. Интерес к русскому искусству все возрастает, хотя западные профессионалы уже начинают говорить о засилии и даже преглупо ругаются, как разрешил себе это некий «Сэр Галаад»15.
В прошлом году американский издатель спрашивал у меня адрес мистера Николая Лескова, а недавно я получил запрос оттуда же: что пишет теперь Леонид Андреев? Храню письма эти16.
Спасибо за портрет17. Когда Вы облысеете, то станете похожим на Гиббона, историка18.
И за письмо спасибо!
А. Пешков
P. S. «Захочется же людям быть спокойнее», – надеетесь Вы. Я на это не надеюсь. Т. е. им-то уже хочется спокойно жить, но история сего не дозволит. Разворотив, растормошив действительность так, как это удалось сделать в России, не скоро приведешь ее в равновесие. Да оно и не требуется, равновесие-то, оно ведь вредная вещь для людей.
А. П.
9. Вс. Иванов – А. М. Горькому*
25 сентября 1926, Москва
Дорогой Алексей Максимович, – благодарю за ответ. Вашего письма с извещением о получении моих книг не получал, лучше всего, думаю, посылать мне письма заказными, а то жадно письмами интересуются на почте, и я, кажется, не получил от Вас всего трех писем1. Обидно.
Два дня назад шла в «Художественном» «Белая гвардия»2. На пьесу теперь нападки злющие, хотят запретить. Пьеса ж не пьеса Шекспира или Гоголя, но будет иметь большое общественное значение вроде «Власти тьмы»3 и смешно было смотреть, как мы возвращаемся ко временам Карамзинской Лизы, ибо вся соль пьесы в том, что – «мужики тоже могут чувствовать». Играют молодые актеры – поразительно. Радек, самодовольный как всегда, сказал на все фойе – «я согласен с цензурой. Это ловко сделанная контрреволюционная вещь» – сказал и отошел от нас, ибо ему не только не хотелось, видно, слушать наши возражения, но он и не мог нас слушать, настолько он привык слушать себя.
Вот вы, Алексей Максимович, пишете, что спокойствие вредно для людей. Вредно ли оно для нас русских, сейчас. Очень не вредно. Несмотря на великую встряску, встормошение и прочая – мы все-таки не привыкли и по-прежнему не имеем жадности жить, накоплять; по-прежнему быстро устаем и скисаем – и право, если бы не эта превосходная еврейская закваска, бог знает что осталось бы теперь от нашей революции. Спокойствие нации воспитывает волю и жадность к жизни отдельных людишек, чего у нас сейчас нет; люди исковерканы, все внутри их изломано, свершить преступление сейчас ничего не стоит – да вот, кстати, и в тюрьмах у нас перенаселение. Людей сейчас жестоко карают за растрату или хулиганство, а их, право, карать не за что, их надо лечить. В санатории одном почтенный коммунист (за обеденным столом) ел суп. Поднял глаза. Против его сидел толстенький веселый еврейчик и тоже спокойно ел суп. И вот почтенный коммунист спокойно взял тарелку и огрел ею еврейчика по башке, а затем тряхнул головой (у еврейчика суп течет по лицу, по толстовке), очнулся должно быть, обалдел и говорит растерянно: «простите, товарищи, я замечтался…» О чем он мечтал, бог его знает.
На Руси занятно? Очень занятно, Алексей Максимович. Пьют несусветно. Сегодня я ночевал у одних знакомых, вышел от них рано и видал, как из милиции человек один домой без штанов, т. е. совершенно, без ничего – в пиджаке и галстуке (в руках, правда) драл(?) домой. «Где ж, – я спрашиваю его, – штаны-то потерял?» «Ей-богу, не помню, голубчик», – отвечает. А пока вчера вечером – часов в девять так – шел по переулку, то на тротуаре встретил четырехспящих пьяных, один спал головой на фотографическом аппарате, зажав между ног деревянный штатив. Переулок этот не на окраине, а в центре города, на Петровке. Меня уже, видно, и водка не веселит, и то, что происходит, столь противно видеть, что я вот уже четыре месяца как не пью совершенно и буду ли когда пить, бог весть!
Оптимистом быть сейчас трудно, многие талантливые писатели ломают себе на этом шею. Побуждения у них хорошие, сами они большей частью, ребята честные, а вот гибнут. Это относится, главным образом, к молодежи, к комсомольской писательской среде4. Оптимистом без душевного равновесия быть трудно, а коли трудно – чем же мы должны дышать на Европу?
Василия Андреева я еще не читал, сейчас для «Круга» у меня лежит его книга. Питерцы его хвалят. А М. Козырев – и внешне и внутренне похож на Булгакова, только мельче. У него, как и многих теперь, истинное знание и опыт душевный, необходимый для творчества, подменены обезьяньей смекалкой.
Радуюсь за русские успехи в Европе. Вам на месте виднее, но мне Русь чудится сейчас провинцией, и писатели мы провинциальные.
«Белую гвардию» разрешили. Я полагаю, пройдет она месяца два-три, а потом ее снимут5. Пьеса бередит совесть, а это жестоко. И хорошо ли, не знаю.
Естественно, что коммунисты Булгакова не любят. Да и то сказать – если я на войне убил отца и мне будут каждый день твердить об этом, приятно ли это?
Приехал Пильняк. Он в опале, написал рассказ «Повесть о непогашенной луне»6, где рассказывается – достаточно безграмотно и претенциозно – смерть М. Фрунзе. Задача, само по себе, неблагодарная и не здоровая, – а попал рассказ в моменты борьбы с оппозицией7, и все подумали, что рассказ инспирирован оппозицией, а он обязан только пильняковской глупости. Теперь Пильняка, временно – на год – говорят, не печатает наша пресса. И это зря, ибо не надо ему делать мученического ореола, ибо человек он никакой.
На днях выходит моя новая книга рассказов – «Тайное тайных». Те рассказы, которые печатались в «Красной нови» и которые Вы хвалите. Книгу я Вам пошлю8.
В Италию я бы приехал с удовольствием, но раньше января не смогу. Из Италии я проеду во Францию. Сейчас плохо с деньгами. Надо работать, работать, суетиться, суетиться – и никак не кончить эту суету раньше нового года.
Привет.
Всеволод
Москва, VI, Тверской б., д. 14, кв. 7
10. А. М. Горький – Вс. Иванову*
15 октября 1926, Сорренто
Получил Ваше интереснейшее письмо, очень благодарен. Хочется немножко поспорить.
Русь «чудится» Вам «провинцией, писатели – провинциалами»? Не велик я «патриот», а все-таки мне кажется, что в словах Ваших звучит усталость, слышен недостаток правильной самооценки. Разумеется, я не склонен отрицать оснований усталости и права на нее, но думаю, что русский «провинциализм» можно, не искажая правды, заменить понятием своеобразие. Очень оригинальный народ мы, Русь, и очень требовательный, сравнительно с нашими соседями на Западе. За истекшую четверть века мы заработали – вернее: получили – право на усталость более обоснованное, чем люди Европы, но устали – меньше. Это – факт. Культурный «провинциализм» и угнетающее мещанство духа цветет и зреет здесь более быстро и пышно, чем у нас. Как одно из доказательств этого прилагаю газетную вырезку1. Не думайте, что «vade mecum»2 это написано иронически, нет, это совершенно точное и серьезное изложение канонов «нового» верования. Так же серьезно, как скандал, устроенный Воронову3. «Обезьяний процесс», устроенный Брайаном4, характерен не только для С. Ш. Америки, не только как одна из частностей борьбы «низколобых» с «высоколобыми»5, это в равной мере характерно и для современной Европы. «Сэр Галаад», автор гнусной и безграмотной книги о России, о русской литературе6, тоже Брайан. Книга его направлена против духовного засилия России и имеет шумный успех. Такие выпады становятся все более часты, а мотив их один: оставьте нас в покое! Мы хотим жить спокойно. Конечно, понимаешь это желание покоя, когда тебе говорят, что в Нью-Йорке за год убито грабителями 12 тысяч человек, и когда ежедневно читаешь сообщения о росте преступности в столицах Европы. Да, но ведь не этим вызываются такие факты, как «Пощечина мертвецу» – Ан. Франсу7, как ненависть к Р. Роллану8, скандал, устроенный Полю Маргерит9. Нет, культурного провинциализма здесь больше, и характер его более ожесточенный и животный, чем у нас, со всем нашим пьянством, хулиганством, чего здесь тоже не меньше, чем у нас.
«Писатели мы провинциальные»? Это и верно, и не верно. Я тоже долго думал, что как мастера дела мы, конечно, хуже европейцев. Но теперь начинаю сомневаться в этом. Французы дошли до Пруста, который писал о пустяках фразами по 30 строк, без точек, а теперь уже трудно отличить Дюамеля от Дю-Гара и Ж. Ромэна от Мак-Орлана10. Все однотонно одинаковы, все одинаково скучны. Новых тем – нет, крупных талантов – тоже нет. В Италии литература вообще отсутствует. Если Вы почитаете англичан Лоуренса, Кортрема11, Вас поразит их наивность и зависимость от Достоевского, Нитчше12, наконец – от Франса. Не чувствуются и немцы.
У нас я вижу целый ряд очень талантливых людей, хотя, пока еще, не умелых. Но у нас есть и удивительные мастера: Пришвин, С.-Ценский, Чапыгин. Нельзя требовать, чтоб каждое поколение давало Толстого или Пушкина. Но вот, например, у Вас есть все данные для того, чтоб стать крупнейшим писателем, и Вы, кажется, начинаете это понимать. Далеко должен пойти Леонов. Не достаточно ценятся Федин и Бабель. Затем: пишутся очень значительные книги, совершенно неожиданные, как, напр., «Кюхля» Тынянова, «Современники» Форш. Расширяются темы, становясь разнообразнее. В поэзии то же самое: стихи последней книги «Кр(асной) Нови» очень показательны. Три года тому назад стихи о медведице13 не были бы напечатаны, да едва ли и могли быть написаны.
Когда сообразишь, в каких условиях творится современная русская литература, как трудно всем вам живется – проникаешься чувством искреннего и глубокого почтения к вам. Я не закрываю глаз на ошибки, небрежности, торопливость и всякие иные грехи писательские, но, зная, как легко осудить человека – не занимаюсь этим делом. Иногда, впрочем, осуждаю, однако «про себя» и с великой горечью. Трудно все-таки не осудить Толстого и Щеголева14.
Настроен я не оптимистически, это настроение вообще не свойственно мне. Но я думаю, что всем нам следует быть немножко стоиками, относиться к жизни более мужественно и фактам не покорствовать. А о людях судить не по дурному в них, а – по хорошему. Не тем человек значителен, что он дурен, а тем, что, вопреки всему, может и умеет быть хорошим.
Крепко жму Вашу руку. Всего доброго.
Еще раз – спасибо за письмо.
А. Пешков
15. Х.26 Sorrento.
11. А. М. Горький – Вс. Иванову*
13 декабря 1926, Сорренто
Сейчас прочитал в «Нов(ом) Мире» рассказ «На покой». Разрешите поздравить: отлично стали Вы писать, сударь мой! Это не значит, что раньше Вы писали плохо, однако, несомненно, что писали Вы хуже. Я не помню, чтоб кто-либо из литераторов моего поколения сделал такой шаг к настоящему мастерству, как это удалось сделать Вам от «Голубых песков»1 к Вашим последним рассказам. Сейчас Вы изображаете так, как это делал Ив. Бунин в годы лучших достижений своих – 905-12, – когда им были написаны такие вещи, как «Захар Воробьев», «Господин из Сан-Франциско» и прочее. Но мне уже кажется, что в пластике письма Вы шагнули дальше Бунина, да и язык у Вас красочнее его, не говоря о том, что у Вас совершенно отсутствует бунинский холодок и нет намерения щегольнуть холодком этим.
Очень крепко, очень выпукло и все по-хорошему человечно, без жалких слов. В таком вот тоне, с таким мастерством Вам надобно написать какую-то большую – по объему – вещь, роман, повесть.
Очень я рад за Вас, честное слово! Какое это изумительное явление русская литература и какой большой человек русский литератор.
Крепко жму руку, дорогой друг.
А. Пешков
13-XII-26
1927
12. Вс. Иванов – А. М. Горькому*
22 января 1927, Москва
Дорогой Алексей Максимович. Разрешите переслать Вам мое письмо в редакцию, которое «Известия» отказались напечатать1. Отказ этот меня очень огорчил.
Эти строки я пишу Вам не для оправдания, а для того, чтоб Вы могли выяснить обстоятельства, при которых черт сунул меня согласиться с моими «друзьями» и дать напечатать Ваше письмо. Личные дела мои находились в отвратительном состоянии, меня мотали всякия отчаянии. За неделю приблизительно до Вашего письма я пожег свои рукописи, в том числе роман «Казаки», листов этак пятнадцать, – и вообще размышления были такого сорта: сегодня или завтра застрелиться. Я пишу теперь об этом спокойно, потому что все это сгинуло.
Я саморекламой никогда не занимался. Внутренняя моя насыщенность такова, что я даже не имею друзей. Ваше суждение обо мне важно мне потому, что я знаю, что большей половиной своего существования я обязан Вам – и даже литературными ошибками своими я обязан Вам, ибо никто как Вы познакомили меня со Шкловским, под влиянием которого я находился года два и который, бессознательно конечно, заставил написать меня листов тридцать очень плохой прозы.
Посылаю Вам последнюю свою книжку «Тайное тайных». Издана она отвратительно – на обложке какие-то раздавленные клопы.
Всего Вам доброго.
Всеволод Иванов
13. А. М. Горький – Вс. Иванову*
30 января 1927, Сорренто
Дорогой Всеволод Иванов, – я был бы огорчен, если б Ваше письмо напечатали, и, право же, искренно рад, что «Известия» отказались напечатать его. Очень вероятно, что я не послал бы в Москву моего письма, если б получил на два или три дня раньше письмо Груздева, в котором он, между прочим, сообщил мне, что Вы в тяжелом настроении, уничтожаете рукописи и т. д.1 Но я был рассержен, ибо на протяжении нескольких дней мне пришлось увидать в печати мое письмо Гладкову, – сократившему критическую часть письма2, – письмо к Войтоловскому, опубликованное Демьяном Бедным3, и еще две вырезки из каких-то моих писем, напечатанных в газетах мне неизвестных, видимо – провинциальных. Обе вырезки бесцеремонно искажали мои слова4. Вот я и освирепел.
Я люблю литературу больше всего в жизни, люблю и уважаю людей, создающих ее. Это категорически запрещает мне выступать в качестве «учителя», «руководителя» и т. д. – чувствований, мнений и намерений художников слова. Я могу разрешить себе обратиться с моими мнениями ко всем, безлично, в форме статьи и вообще – «вслух». Но письмо, адресованное определенной и уже хорошо определившейся личности – это дело интимное, это только «между двумя».
Мне очень жаль, что Вы, случайно, «попали под руку» и это заставило Вас пережить неприятный день. Я очень высоко ценю Вас, очень хорошо чувствую Вашу «внутреннюю насыщенность», как Вы говорите, знаю, что Вы большой русский писатель, и уверен, что скоро Вы найдете себя. Шаг, сделанный Вами от «Голубых песков» – повторяю – очень крупный шаг. Сергееву-Ценскому потребовалось почти 20 лет для того, чтоб уйти от себя и написать «Валю» («Преображение»)5. Вы превосходно поссорились с самим собою через – два, три года? Это – замечательно. Дорогой друг, нужно, чтоб Вы забыли этот случай, неприятный для меня так же, как для Вас.
Мне тяжело было прочитать Ваши слова о «чванстве, саморекламе», о том, что Вы достойны всяческого «порицания». Все это не следовало писать, потому что этого не было. Просто – не было.
Всего доброго. Будьте здоровы. Книжку еще не получил. Прочитав ее – напишу Вам6, если хотите.
Жму руку.
А. Пешков
30.1.27 Sorrento
14. Вс. Иванов – А. М. Горькому*
24 августа 1927, Тур
Дорогой Алексей Максимович,
при отъезде Воронский просил меня написать Вам, что он послал вам два или три письма, на которые Вы не ответили. Письма эти объясняют те обстоятельства, при которых он вынужден был покинуть «Красную новь»1. Вы бы на них ответили, несомненно… Ясно, что письма перехвачены соответствующими учреждениями2.
Я Вам сбирался давно написать, но попал за границу – и у меня от всего увиденного и услышанного получилась такая карусель в голове… Сейчас я еду на автомобиле по Франции, уже восьмой день, проезжу еще недельку и вернусь в Париж.
Мне бы очень хотелось Вас повидать, и если б Вас не затруднила посылка итальянской визы мне и сопровождающему меня Льву Никулину3, – я бы с большим удовольствием проехал в Неаполь. Если добыча виз сколько-нибудь сложна – хлопотать не стоит. Я схожу к итальянцам и буду просить у них транзит через Италию на Вену.
В Париже я думаю прожить еще месяц и в октябре вернуться в Москву. В первых числах ноября в Художественном идет премьера моей пьесы «Бронепоезд»4. Это первый сценический мой опыт, и я страшно волнуюсь.
Воронский грустит – и очень похоже, что его и из «Круга» вышибут5. У меня такое чувство, что мы в России живем не весело. Или я сам мрачный?
Кланяюсь Вам.
Всеволод Иванов
Адрес мой: M-r Vsievolod Ivanov chez М. Cheftel 5б, rue Michel Auge Paris. XVI
Языками я и по сие время не обладаю. Но вот еду я по Франции и смотрю, как жрут и как живут французы и на это так противно и так завидно смотреть, что лучше не слушать того, чего бы они мне сказали.
Один француз посмотрел на меня и сказал излюбленную их поговорку:
– Поскобли русского и найдешь татарина.
А я ответил:
– Зачем же вы нас так усердно скоблили.
15. Вс. Иванов – А. М. Горькому*
6 сентября 1927, Париж (?)
Дорогой Алексей Максимович, получил Ваше письмо1 и огорчился, ибо в тот же день появилось из Москвы сообщение, что пьесу «Бронепоезд» Главрепертком запретил2 как недостаточно революционную. Что им еще революционнее может быть – бог их знает, но мне приходится возвращаться в Россию – говорить, переделывать, убеждать… скучная наша жизнь!
Думаю, если удастся приехать к Вам из России, как только справлюсь с театральными своими делами, а на сколько они времени растянутся – тоскливо и подумать.
Подробно и, может быть, веселей напишу Вам из Москвы.
Привет.
Всеволод Ив.
16. Вс. Иванов – А. М. Горькому*
2 октября 1927, Москва
Дорогой Алексей Максимович, – мой хороший знакомый японский журналист Отокичи Рода1 очень желал бы повидаться и поговорить с Вами. Я прошу Вас, если возможно, принять его – человек он славный, любит Россию и русскую литературу. Я по-прежнему вожусь с «Бронепоездом» – кажется, скоро все улажу, – в 10-ие Октября оная пьеса будет показана.
Сидит сейчас против меня на диванчике Шкловский и просит передать Вам поклон.
Привет Вам.
Всев. Иванов
17. А. М. Горький – Вс. Иванову*
13 октября 1927, Сорренто
Дорогой Всеволод, –
по поводу японца телеграфировал Пильняку: жду.
Очень сожалею о том, что Вы не приехали в Sorrento, так хотелось бы видеть Вас. «Ананий»1 – отличная вещь. Совершенно необходимо, чтоб Вы забрались куда-нибудь в тихий угол и начали писать большую вещь. Пора. У Вас для этого – все данные.
Вот, – приехали бы сюда, я вас хорошо устрою. Денег нет? Можно достать. Чепуха.
Мне кажется, что Вам следовало бы отдохнуть от людей, – даже и от близких, – да подумать о них издали. Это – чудесно «омолаживает».
Ох, знали бы Вы, какую суматоху в эмиграции вызвало разоблачение «визита» Шульгина в Россию!2 Вчера один парень недурно сказал, что Чемберлен, Пуанкаре и другие «великие» люди, вероятно, не будут ходить по улицам Лондона, Парижа из опасения, что их схватят, увезут в Россию и – высекут на Красной площади.
Забавнейшие штуки творятся на планете нашей.
Крепко жму руку. А о поездке сюда – подумайте! Хорошо бы!
А. Пешков
13. Х. 27 Sorrento
18. Вс. Иванов – А. М. Горькому*
28 октября 1927, Москва
Дорогой Алексей Максимович, – получил Ваше письмо. Очень рад, что «Блаженный Ананий» Вам понравился – рассказ мало кому нравится, и те люди, мнением которых я дорожу, говорят, что в нем есть болезненный уклон и даже извращенность. Мне обидно, потому что рассказ этот я люблю больше всех своих работ.
Последнее время все страдал над «Бронепоездом», говорят, работа удалась, даже старик Станиславский хвалил пьесу1. Я только боюсь одного, чтоб это не было настолько патриотично и фальшиво, что через год и смотреть будет невозможно.
Третьего дня вечер был дождливый, слякотный. У меня в ограде словно в бане, в субботний день, грязища и желтые листья. Сыро, тепло. Надел я осеннее пальто, – жарко, неудобно, но приятно. И вот чувствуя – и радуясь теплу и неудобству – иду я по Тверской. На углу Камергерского, против здания строящегося Телеграфа (с необычайно грязными стеклами – не успели отмыть и с гигантским и некрасивым гербом, чем-то похожим на восточные ордена), встретил я Воронского. Воронского я не видал давно, месяц, полтора. Я наилюбезнейше улыбнулся, снял шляпу, остановился было… Воронский кивнул чрезвычайно небрежно и величественно прошел мимо. Оказывается, здороваться не хочет.
И все это потому, что я согласился сотрудничать в «Красной Нови» в новом ея редакционном составе2, и потому, что не объяснил причин моего согласия, ему.
Согласился я работать в «Красной Нови» потому, что считаю все литературные споры сейчас – напостовщина и прочее – споры мелкие, кружковые – не от слова «кружки», а кружок, споры эти никак не влияют на развитие русской литературы, ибо литература идет своим необычайно трудным и, я бы сказал, подготовительным путем. Настоящая литература начнется лет через пять-десять… 5-10… Волею истории мы развиваемся позднее, чем наши учителя и наши отцы, ибо то, что нам нужно выучить и понять, превышает знания, понятия – и даже чувства – наших отцов – во много раз. Может быть, это и плохо, может быть, мы и не научимся никогда, то есть никогда не будем цельными, а так и умрем эклектиками.
Как, например, мучительно тяжело понять и поверить, что русский мужик не христианин, не кроткий Богов воин, – а мечтательный бандит. Даже того начала, которое создает скупых европейских мещан, в мужике мало, почти нету. Разбогатев, превратившись в кулака, мужицкий род во втором, третьем, редко четвертом колене – разлагается, спивается.
И отход Воронского от «Кр(асной) Нови» произошел не оттого, что он не напостовец или напостовец, а оттого, что он связан с оппозицией3.
Литература в истории развития теперешней России играет ничтожную роль. Мы уже не учителя жизни – мы писатели – мы свидетели, а поэты – баяны. Оно и верно: когда орды шли из Монгольских степей на Европы, их, конечно, вели не поэты.
Работать мне здесь над большой вещью, вы угадали, – трудно, и не потому, что у меня нет помещения или нет денег. Тем и другим – по советским масштабам – я обладаю в избытке. У меня нет спокойствия, нет уверенности в себе и, должно быть, плохо развито чувство честолюбия. Я плохой общественник, я не альтруист, я мало люблю деньги, но работать я люблю, и мне все кажется, что вот пройдет немного, что-то во мне произойдет, и я сяду и буду долго и много работать.
Смогу ли я работать за границей? Не знаю. Что я могу хорошо пить и шляться без толку, с радостью по улицам – это я выяснил с точностью необыкновенной. Надо крепко подумать.
Бабель в Италии. Он у вас был?4 У этого еврея с русской душой – суматоха в голове. Ему не хочется быть экзотичным, а русскому писателю не быть сейчас экзотичным – трудно.
Пятый день идет дождь то теплый, то холодный. В мое окно видно развешенное на веревках драное белье; кирпичный сарай, который превращают в трехэтажный дом – уже пробили окна, вставили рамы; окна почему-то завешены рогожами.
Вчера мне принесли анкету для газеты. Фанфара по случаю 10-летия. Там есть вопрос – «что вас поразило больше всего в это десятилетие?» Я ответил – «скука…»5
Привет Вам.
Всеволод
19. А. М. Горький – Вс. Иванову*
8 ноября 1927, Сорренто
Очень удивлен Вашими словами: «мучительно тяжело понять и поверить, что русский мужик не христианин, не кроткий богов слуга, а мечтательный бандит». Не ожидал, что Вы можете так думать и что для Вас приемлема литературная идеализация народниками крестьянства. Я этим никогда не болел, хотя меня народники усердно воспитывали именно в этом направлении. Более того, – я вообще органически не понимаю, как можно идеализировать нацию, массу, класс. Я – плохой марксист и слагать ответственность за жизнь с личности на массу, коллектив, партию, группу – не склонен. Кроме того, я знаю, что зерно перца энергичнее пригоршни мака. И мне кажется, что было бы и не искренно, и смешно, если б я думал иначе. Не стану, разумеется, отрицать, что мужик – бандит, хищник, анархист, но думаю, что быть ему таковым уже не долго. Бандит и анархист он потому, что издревле не верит в прочность социального бытия своего, от неверия и «мечтательность». Лично я и не желаю ему такой веры, ибо – не те времена, чтобы веровать. Мир человечий дожил до эпохи, коя дерзновеннейше колеблет и расшатывает все и всякие веры и уверенности. Даже так называемое «неорганическое вещество» зловеще свидетельствует о своей неустойчивости.
Драматизм чувства, скрытого в словах Ваших, мне как будто понятен. Когда я представляю себе всю темную и хаотическую огромность русско-китайско-индусской и всякой другой деревни, а впереди ее вижу очень небольшого, хотя и нашедшего архимедову точку опоры, безумнейшего русского революционера, то, разумеется, такое соотношение сил возбуждает у меня некоторую тревогу за судьбу революционера, за Вашу, в том числе. Глубоко верно сказано Вами: «то, что нам нужно выучить и понять – превышает знания, понятия и даже чувства наших отцов». Очень верно. И – намного превышает. («Чувство» у Вас тут – поставлено – не ясно; я понимаю его как расширение и углубление чувства связи с миром, так?)
Выходка Воронского против Вас – рассмешила меня. Будучи «в оппозиции» со времен «Челкаша», я отношусь к оппозиционерам типа Воронского несколько усмешливо. Очень жаль, что он, будучи весьма талантливым человеком, уже приобрел все недостатки «влиятельного критика»1. Рано. Из солидарности с ним, организатором хорошего журнала, я тоже не хотел печататься в «К(расной) Н(ови)»2, но теперь – буду3. Ибо – необходимо, чтоб он относился к литераторам сообразно их достоинству. Кроме сего – нельзя вводить личные отношения в большое дело, в литературу.
Живете Вы, очевидно, нелегко. Очень советую: приезжайте в Италию4. «Шляться» здесь – приятно и смешно. Отдохнете, подумаете, посмотрите на себя. Вам пора писать большую вещь.
О Бабеле – ничего не знаю. Буду огорчен, если оный Бабель не побывает у меня5, я его очень люблю и ценю высоко.
Только вчера встал на ноги и могу писать, а несколько дней тому назад впервые почувствовал, как близка человеку неприятная штучка, именуемая смертью6. Налит камфарой, которую впрыскивали мне раз пять: камфарой и еще какой-то гадостью. Чувствую себя отравленным, голова тяжелая, мысли – шерстяные.
Ваш ответ на анкету «Фанфары» – озорство, сударь! Но «Фанфару» Вы мне пришлите, пожалуйста7. Крепко жму руку.
А. Пешков
8. IX. 278.
1928
20. Вс. Иванов – А. М. Горькому*
10 января 1928, Москва
Дорогой Алексей Максимович, – письмо Ваше я получил – и с того времени произошло много событий.
На пьесе моей «Бронепоезде» люди зело умилялись и плакали, и я сам был растроган, а теперь присмотрелся – и оказывается, пьеса еле-еле скроена и надо было б ее переписать заново, а нет желания и времени нет. Так, видно, и пойдет.
В «Красной Нови» согласился я вести литературный отдел, – а печатать нечего, и карабкаюсь я среди груд сырого материала с великим трудом.
Кстати, о «Красной Нови» – нельзя ли нам «Клима Самгина» пустить на месяц раньше «Нового Мира»?1 Возможно Вам это сделать?..
Нашел я очень талантливого паренька Дм(итрия) Еремина – прочтите в февр(альской) книжке его рассказ «Иной период»2. По-моему, хорошо. Как Вам понравился роман Олеши – «Зависть»?3
Сам я работаю очень много, и это единственное, кажется, спасение от тех гнетущих мыслей, кои обуревают меня. Гнетущая мысль – не может обуревать, я неправильно выразился – но и в этой неправильной фразе есть какая-то правда.
Недавно окончил повесть «Гибель Железной»4, а сейчас пишу «Записки Неизвестного Солдата»5 – это о том солдате, который лежит под Триумфальной аркой в Париже. Я его делаю – русским, и по национальности и по характеру.
Четыре дня назад у меня родилась дочь6. Детей у меня было уже трое, но все не выживают, умирали. Может быть, четвертая будет счастливее.
У нас усиленно готовятся праздновать Ваш юбилей7. Если думаете приехать в Россию, то не приезжайте только на юбилей – неописуемая скука, однообразие и ложь, – и подхалимство. Больше всего сейчас в России подхалимов. Я не очень на это сержусь, ибо при той милитаризации страны, которая сейчас происходит – сей род людей очень необходим. Герои появятся позже.
Желаю Вам здоровья.
Всеволод
Приложения
Е. Папкова. Главная книга Всеволода Иванова*
«Говорят, мать из всех своих детей наиболее любит самого уродливого. Если верить критике, самой уродливой моей книгой было „Тайное тайных“, и я очень любил ее».
С 1921 г., после публикации повестей «Партизаны» (1921), «Бронепоезд 14–69» (1922), «Цветные ветра» (1922), сборника рассказов «Седьмой берег» (1922), началась и стремительно росла слава молодого сибирского писателя Всеволода Иванова.
«Тов. Ленин! – пишет в апреле 1922 г. ответственный редактор первого советского „толстого“ литературно-художественного журнала „Красная новь“ А. К. Воронский, докладывая о работе по созданию новой литературы. – В противовес „старикам“, почти сплошь белогвардейцам и нытикам, я задался целью „вывести в свет“ группу молодых беллетристов наших и близких нам. Такая молодежь есть. Кое-каких результатов я уже добился. Дал Всеволода Иванова – это уже целое литературное событие, ибо он крупный талант и наш. <…> Все они из Красной Армии, из подлинных низов, с красноармейскими звездами. Твердо уверен, что через год-два эта зелень совсем окрепнет <…>. Против „стариков“ я организую молодежь. <…> Имейте в виду, что Всев. Иванов это первая бомба, разорвавшаяся уже среди Зайцевых и Замятиных»1.
Вс. Иванов занимает едва ли не главное место в статьях всесильного наркома Л. Д. Троцкого, в 1922 г. печатавшихся в «Правде» и объединенных им впоследствии в книгу «Литература и революция» (1923). Именно Троцкий впервые употребил применительно к молодым писателям петроградской группы «Серапионовы братья», куда входил и Вс. Иванов, термин «попутчик революции». «Они не охватывают революции в целом и им чужда ее коммунистическая цель. Они все более или менее склонны через голову рабочего глядеть с надеждой на мужика. Они не художники пролетарской революции, а ее художественные попутчики»2, – формулировал Троцкий, особо отмечая Вс. Иванова: «Всеволод Иванов – старший, наиболее заметный из серапионов, наиболее значительный и прочный»3.
Как одному из главных попутчиков, Вс. Иванову открыта дорога в центральные литературные журналы и издательства. Его произведения печатает «Красная новь». Он становится членом редколлегии издательства артели советских писателей «Круг», основанного в 1922 г.; председатель правления – А. К. Воронский.
Из далекого Сорренто А. М. Горький с восхищением напишет «серапио-ну» М. Л. Слонимскому 19 августа 1922 г.: «…излишне хвалить Иванова. Сила какая!»4 А год спустя, представляя европейскому читателю молодых русских писателей, Горький отметит в статье «Группа „Серапионовы братья“»: «Я слежу за духовным ростом „Серапионовых братьев“ с великими надеждами. Мы кажется, что эти молодые люди способны создать в России литературу, в которой не будет ни квиетизма, ни пассивного анархизма Льва Толстого, из нее исчезнет мрачное садистическое инквизиторство Достоевского и бескровная лирика Тургенева»5. «Объективизм истинного художника», «глубокое» знание писателем «психики русского примитивного человека» увидит Горький в произведениях своего недавнего ученика Вс. Иванова.
Много восторженных слов написали в начале 1920-х годов о Вс. Иванове советские критики: «Всеволод Иванов давно уже стоит в ряду лучших писателей Советской России»6; «Крепкая, сочная рыже-огненная кисть у Всеволода Иванова»7; «Все критики согласно отмечали большой, крепкий талант писателя, свежесть языка, красочность его образов…»8. «Новым Горьким», пришедшим «на смену усталому и смятому бурей Буревестнику» и сказавшим «о переживаемой революции настоящее, яркое художественное слово»9, назвал в 1922 г. Вс. Иванова известный критик В. Львов-Рогачевский.
Тогда же, в 1922–1923 гг., после публикации в литературном приложении к журналу «Накануне» рассказа Иванова «Дите» и издания в Берлине сборника рассказов «Седьмой берег», заметили молодого писателя и в русском зарубежье. Вл. Тукалевский, отметив, что среди «осколков потрясенной революцией русской литературы <…> более крепкими обещают быть те, которых называют „Серапионовы братья“», назвал автора рассказа «Полая Арапия» Вс. Иванова «подлинным художником»10. Позднее, уже в 1930-е годы, Н. Андреев вспоминал о впечатлении, произведенном в русском зарубежье ранними произведениями Иванова: «В свое время Всеволод Иванов предстал перед читателем и запомнился ему как автор „Партизан“, „Цветных ветров“, „Бронепоезда 14–69“, „Голубых песков“ и „Экзотических рассказов“. Его блестящая изощренность зрительных наблюдений, пафос драматических столкновений в сюжете; вечная психологическая встревоженность автора, непрерывная повествовательная подвижность, введение в рассказ – новое в то время – массового героя, приключенческое беспокойство тем гражданской войны и, наконец, скупая, но выразительная орнаментация действия – создали представление об авторе как умелом новеллисте, сильном, однако, в значительной мере, своеобразной экзотичностью и пестрой цветистостью своего материала»11.
То, что у критиков русского зарубежья вызывало сомнение, – чрезмерная увлеченность Иванова образностью, экзотичностью, «словесное баловство» (Г Адамович) в ущерб вниманию к душе человека, идеологами советской литературы ставилось попутчику революции чуть ли не в заслугу: «„Душевные переживания“, которые так сладостно обсасывал прежний писатель кануна революции (Андреев и др.), <…> описываются теперь так элементарно просто, порою даже грубо до примитива. Сравните „трагические моменты“ у Вс. Иванова с приемами некоторых из „стариков“. Какое огромное различие! В душных клетках психологизма читателя теперь долго не держат»12, – писал А. К. Воронский в статье «Из современных литературных настроений» и пророчествовал: «Они еще молоды, современные литераторы, и, конечно, не создали так называемой „большой литературы“, но к этому дело идет. Мы стоим накануне расцвета художественного слова в России»13.
Однако ожидаемый расцвет оказался не таким, каким представляли его в начале 1920-х годов кормчие советского литературного корабля. Творчество Вс. Иванова, на которого они возлагали такие большие надежды, и вовсе пошло по иному пути, сближаясь во многом с отвергнутыми эпохой «стариками».
Буквально через несколько лет заговорили о «черном периоде» творчества писателя и на книгу «Тайное тайных» (1926) обрушилась сокрушительная критика: «Вереница черных, висельных рассказов, в которых писатель восстал против революции»; «мания и бред», «провозглашение власти слепых страстей» – и т. д. и т. п. В 1927–1928 гг. книга и ее автор попадают в водоворот литературно-политических дискуссий, связанных с троцкистской оппозицией. «Тайное тайных» становится аргументом в литературной борьбе «напостовцев» против «воронщины» и «Перевала» против «напостовцев». Критика «плотоядно» (Вс. Иванов) ищет в «Тайное тайных» следы психологизма «стариков» – апологию бессознательного, фрейдизм, бергсонианство. С конца 1926 г. разворачивается антиесенинская кампания, в которой книге «Тайное тайных» отводится особое место. Вектор оценок творчества Иванова начинает сдвигаться «вправо»: сначала из «левого» попутчика он превращается в «правого», затем уже представляет «левое крыло мелкобуржуазной литературы», а совсем скоро и вовсе «нащупывает почву для сближения с буржуазией»14. Апофеозом развенчания надежды новой русской литературы становится статья об Иванове в «Литературной энциклопедии» 1930 г.: «Образ асоциального, порабощенного примитивными инстинктами человека стремительно заполняет все творчество Иванова, упрощаясь и обезличиваясь до пределов голой схемы. <…> Техника оскудевает до последней крайности. <…> Мотивы и образы сливаются почти целиком, исчерпываясь в огромном большинстве случаев бунтом и неизменной победой биологии, „подсознательного“, над нормами социального общежития, над директивами общественного сознания. <…> Творчество позднейшего Иванова чуждо социалистической революции»15. Приговор был произнесен.
«Относительно попутчика всегда возникает вопрос: до какой станции?»16 – так формулировал суть проблемы «попутничества» Л. Троцкий в 1923 г. В 1930 г. Всеволод Иванов не хотел быть в Советской России писателем, которого «столкнут с поезда». Он отправляет письмо И. В. Сталину: «…после знаменитой истории с Б. Пильняком у Советской общественности создалось к попутчикам некое настороженное внимание, и наряду с Евг. Замятиным и другими довольно часто упоминалось мое имя как упадочника и даже мистика. Заявления эти остаются на совести наших критиков, и вызваны они были книгой моей „Тайное тайных“ и некоторыми рассказами, от стиля которых я сам теперь отказался и мотивы коих были вытянуты к жизни из моих, чисто личных, плохих настроений. Теперь я и сам бы с удовольствием от них отказался, но что написано пером – да и вдобавок „вечным“, – того не вырубишь топором. Сейчас я побывал во многих местах России, съездил с писательской бригадой по Средней Азии – в самой отсталой Советской республике Туркмении – и сам я чувствую и другие говорят, что дух мой стал крепче. Но, – известная тень правого попутчика еще лежит на мне густо…»17. Иванов просит разрешить ему поездку за границу, к Горькому, дабы «посмотреть, как и чем живут европейские рабочие», и «написать роман о советских горняках – „Углекопы“»18 (роман не будет написан). За границу Иванова отпустили. Правда, в отречение от «Тайное тайных» не поверили. Именно с «Тайное тайных» начался длительный период непечатания новых произведений писателя. 22 мая 1939 г. Иванов записывал в дневнике: «…Фадеев передал мне слова хозяина: „Иванов себе на уме“. Для того, чтобы создалось такое впечатление, мало чтения книг моих, а много „сообщений“. <…> Весьма странное зрелище – быть чужим на своем собственном пиру»19.
Легко было исследователям в конце XX в. упрекать Иванова в том, что он не проявил должной стойкости, не боролся: «Можно было и не слушать критику, тем более что не вся она была единодушна. Можно было не смирять „избыток фантазии“, с которым советовал бороться М.Горький. <…> Но Вс. Иванов поступил радикальнее – он сделал шаг в сторону. <…> Поддавшись критике, писатель сломал себе хребет. Он перестал быть равным самому себе»20.
Как будто отвечая на подобные смелые «советы» потомков, Вс. Иванов впоследствии писал в неотправленном письме к исследователю Н. И. Яновскому: «Не надо судить о Галилее только на основе его слов, когда он отрекался от своего учения о том, что Земля – шар. Есть истины более достоверные, чем наши отречения»21. К таким «истинам» принадлежит главная книга Вс. Иванова «Тайное тайных», которая столь многое определила в судьбе писателя и до конца жизни считалась самим автором лучшим из всего им написанного.
«…Путь Иванова – путь деградации. Поэт революционной партизанщины, по мере того, как выветривалось его революционно-крестьянское мировоззрение, – он превратился в поэта разлагающегося мещанства эпохи пролетарской революции».
«Путь, проделанный Ивановым, – от внешнего бытовизма к изображению внутренней драмы человека, от радостного опьянения борьбой и движением революции к невеселому взвешиванию ее ценностей, – соответствует всему развитию советской литературы, за пятнадцать лет своего существования сменившей натурализм героического стиля на психологизм и моральную тревогу».
Так по-разному оценили творческий путь Вс. Иванова от «Партизанских повестей» (1921–1922) к «Тайному тайных» (1926) на родине, в Советской России, и в русской эмиграции.
Каким же в действительности был путь писателя?
Автобиографий Вс. Иванова существует немало, и они часто не похожи одна на другую. Как объяснял позже он сам, скучно было писать одно и то же. Так что и автобиографиями-то их можно назвать условно. Приведем начало одной из них, которая писалась практически одновременно с рассказами «Тайное тайных», в ноябре 1925 г., и никогда не публиковалась:
«Был фокусником, глотал шпаги и огонь; на ремонте железных дорог работал, в монастыре жил – и многое другое. Воспитывать себя мне приходилось самому. Плохо то, что у меня совершенно не было руководителей: я читал без разбору. <…> К моменту революции я политически был совершенно безграмотен: например, в марте 17-го я долго не мог выбрать, кто лучше – меньшевики или эсеры – и сразу записался в обе партии. Участие мое в революции было совершенно случайным, многое произошло от любопытства. Я наблюдал колчаковщину со дня ее зарождения на всем протяжении Сибири, от Кургана до Владивостока. Легенды о моей партизанской деятельности надо оставить: партизан я видел мало, много записывал рассказов о них среди крестьян (курсивом обозначен текст, зачеркнутый автором. – Е. П.). Был в Красной гвардии и за участие в обороне Омска против чехов – мне пришлось долго и упорно скрываться от белых. <…>
Благодаря его (Горького. – Е. П.) письму, в конце 20-го я смог выбраться в Питер. Здесь я не умер с голоду и не повесился тоже благодаря Горькому: было очень голодно, а мне скучно и не могу я заботиться о хлебе. Я ем мало и как придется, и воспитал себя на том, что забота о хлебе – ерунда. Петербург же был огромный, голодный. В феврале 21-го при „Доме Искусств“ в холодной комнате М. Слонимского организовались „Серапионовы братья“. Это была моя первая настоящая школа»22.
Среди «серапионов» «брат Алеут» – такое имя получил Иванов – проводит два года. В ноябре 1923 г. Всеволод Иванов, к этому времени уже известный писатель, переезжает из Петрограда в Москву: «Дни учения кончились. Пришло время, когда надо много писать, издавать, редактировать, жениться, заводить семью, квартиру, библиотеку, даже и архив»23, – не без самоиронии признавался Иванов в «Истории моих книг» (1957). Семья, впрочем, уже образовалась: в сентябре 1921 г. Иванов женился на Анне Павловне Весниной – писательнице, участнице Пролеткульта, как и он сам приехавшей из Сибири в Петроград в первые годы после революции; в том же году родилась дочь. До квартиры, библиотеки и архива было еще довольно далеко. Едет Иванов в Москву прежде всего заниматься литературой, и столица не без оснований представляется ему местом, где это делать проще и выгоднее: «…если петроградские молодые писатели ограничивались в основном тем, что читали свои произведения друг другу, обсуждали их и бегали по редакциям альманахов, пристраивая свои рассказы, московские обладали уже издательством „Круг“, альманахом при этом издательстве, и, кроме того, известный критик А. К. Воронский предлагал в их распоряжение новый и единственный пока в стране „толстый“ журнал „Красная новь“»24.
Сначала никакого постоянного дома у Вс. Иванова нет: он живет в общежитии газеты «Правда» в Брюсовом переулке, в комнате Л. Шмидта – секретаря журнала «Прожектор». (В этом же доме находилась квартира Г. Бениславской, где некоторое время жил С. Есенин.) Несколько раз он меняет место жительства, наконец, устраивается в одной из комнат издательства «Круг» (Маросейка, Б. Успенский пер., д. 5, кв. 36). Главной мебелью в этой комнате была большая классная доска, на которой Иванов писал рассказы. Лишь осенью 1925 г. хлопотами Анны Павловны семья получает квартиру на Тверском бульваре, 14.
Московская жизнь Вс. Иванова протекает в двух измерениях: внешняя – веселая, шумная и внутренняя – иная, черты ее запечатлелись в произведениях и письмах этого времени.
О том, как начиналась «внешняя», на виду у всех проходящая жизнь писателя, он впоследствии напишет в плане очередного варианта автобиографии: «Переезд в Москву. Первая дочь. Кабинет в домовой церкви. „Северосталь“ (незавершенный роман 1920-х годов. – Е. П.).
Знакомство с Есениным. На даче Зубалово. М. В. Фрунзе и наша беспутная жизнь»25.
Далее в набросках упоминаются: «Круг», люди нэпа; еда и питье (ресторан Федорова); похороны Ленина и костры; книжники: Д. Бедный и его анекдоты; чтение В. Князевым стихов; драка с А. Толстым; посещение с С. Есениным Малого театра и другие события. Документов об этом времени сохранилось немного, поэтому далеко не все записи сейчас можно прокомментировать.
У исследователей творчества Вс. Иванова сложилось представление, во многом основанное на позднейших мемуарах самого писателя, что он приехал в Петроград, а затем в Москву робким учеником, чувствовавшим себя младшим в «молодой, но уже великой Советской литературе» («История моих книг»), не понимающим происходящего вокруг. Редкие из дошедших документов, в частности неопубликованные письма Иванова в «Красную новь» и «Круг», рассказывают нечто иное. Так, достаточно дерзкое письмо от 19 августа 1923 г. в издательство «Круг» по поводу повести «Возвращение Будды» дает ясное представление о том, что Иванов приехал в Москву уже состоявшимся писателем, уверенным в себе, знающим, что его будут издавать и что ему будут платить: «Что значит – „будет принято“? Я и без вас знаю, что будет принято – или Вы намерены меня, как Буданцева, скажем, редактировать. Бросьте. <…> Нужен я Вам или нет? – иначе идите Вы ко всем чертям со своей вашей волынкой»26. К этому времени у Вс. Иванова уже сложились отношения с влиятельным А. К. Воронским, с которым он ведет переписку об издании своих произведений в Москве27. Документы показывают, что действительная московская литературная жизнь, в гуще которой оказался в 1923–1925 гг. Вс. Иванов, далеко не всегда совпадала с тем, как она была представлена им позднее. Например, Иванов пишет: «Мы часто собирались у Воронского в его двойном номере гостиницы „Националь“, называвшейся тогда не то первым, не то вторым Домом Советов. Купив вскладчину бутылку красного вина, мы за этой бутылкой просиживали целый вечер, широко и трепетно разговаривая о литературе. Здесь читал Есенин свои стихи, Пильняк – „Голый год“, Бабель – „Конармию“, Леонов – „Барсуки“, Федин – „Сад“, Зощенко и Никитин – рассказы. Сюда приходили друзья Воронского, старые большевики и командармы – Фрунзе, Орджоникидзе, Эйдеман, Грязнов»28. Или рассказывает об одном из вечеров в издательстве «Круг», где А. А. Фадеев, Д. Бедный, В. В. Маяковский, Д. А. Фурманов, Б. А. Пильняк, А. Н. Толстой, Б. Л. Пастернак, А. И. Безыменский дружески обсуждают вопросы искусства и слушают стихи Есенина. Вряд ли реальные картины жизни московских литераторов были столь идилллическими. Сохранились записи Вс. Иванова, не вошедшие в неоднократно опубликованный текст: «Я мог испытывать восхищение перед всеми этими замечательными писателями, которых я видел, но надо было здраво смотреть на вещи. <…> Это, быть может, был из тех последних счастливых дней, когда на литературу можно было смотреть с восхищением.
Есть поговорка: „не один кулак бьет, а бьет и козырь“. Эти люди готовились бить и кулаком, и козырем. Кулак известно что такое, и особенно уж его описывать нет надобности, а козырем в их руках являлась та идейная якобы чистота, прямота, которая была свойственна только им, которой другие не хотели понимать и, следовательно, подлежали удару кулака. Эти блюстители принесли основательный вред литературе, но, повторяю, мы этого тогда никак не понимали»29. В том, что действительно не понимали, позволим усомниться. Подпись Иванова стоит под знаменитым документом 1920-х годов – письмом писателей-попутчиков в отдел печати ЦК РКП(б) от 9 мая 1924 г.30 Признавая, что «пути современной русской литературы, – а стало быть и наши, – связаны с путями Советской, пооктябрьской России», писатели заявляли: «Но мы протестуем против огульных нападок на нас. Тон таких журналов, как „На посту“, и их критика, выдаваемые притом ими за мнение РКП в целом, подходят к нашей литературной работе заведомо предвзято и неверно. Мы считаем нужным заявить, что такое отношение к литературе не достойно ни литературы, ни революции и деморализует писательские и читательские массы»31.
Приведем также ироническую реплику Вс. Иванова о происходящем в московской литературной среде полгода спустя из письма К. А. Федину от И января 1925 г.: «Собрались тут пролетарские писатели со всей России. Напостовцы нагнали на всех такого страху, что аж Луначарский потек с докладом. Пильняк, трепеща сердцем, отправился взглянуть – действительно ли так страшно.
А мне скучно, я сижу дома и играю с женой в подкидного дурака и убежден, что никаких пролетарских писателей нет и не будет.
Да и все в этом убеждены, а в дурака играют другими мастями»32.
Можно понять иронию писателя, если вспомнить, что нечто подобное – литературная и стоящая за ней политическая борьба – в его биографии уже было. И не раз.
В 1917–1919 гг. в Сибири он имел возможность наблюдать стремительную смену нескольких правительств: большевики – Временное Сибирское правительство – Директория – власть Верховного Главнокомандующего адмирала А. В. Колчака и вновь большевики. Рассказы и статьи Вс. Иванова, печатавшиеся тогда в разных газетах – советских, эсеровских, колчаковских, показывают, что молодой писатель достаточно скептически относился к политическим и, как следствие, литературным битвам, в гуще которых он оказывался.
Но если о сибирском периоде современники Иванова из Петрограда, Москвы, а тем более Берлина и Парижа, не знали, то другой факт из биографии писателя был достаточно хорошо известен и вряд ли давал основания для оценки начала его литературного пути как «радостного опьянения борьбой и движением революции»33. В феврале 1922 г. в «Известиях» публикуется статья С. Городецкого «Зелень под плесенью» о «Петербургском сборнике», где, наряду с произведениями других «серапионов», был напечатан рассказ Вс. Иванова «Лоскутное озеро». Отметив «зеленый, здоровый талант» «Се-рапионовых братьев», Городецкий обращал внимание на ведущуюся «старым Петербургом <…> идеологическую блокаду, выдерживаемую – уже не благополучно – братьями. <…> отражение ее уже заметно, например, на Всеволоде Иванове, который описывает, как „бабы плакали одинаково“ над убитыми и белыми, и красными, и изображает торжество религиозного суеверия в деревне, не показывая своего к нему отношения»34. Вс. Иванов и К. Федин в ответном письме «Новые писатели и старые публицисты», посланном ими в 1922 г. в «Правду» и «Известия» и ненапечатанном, не без сарказма спрашивали: «Не правда ли, было б куда художественнее, если б Всеволод Иванов описал, как жены белых отхватывали трепака вокруг убитых своих мужей, в то время как жены красных голосили над убитыми красноармейцами»35.
Маска ироничного наблюдателя, сохраняющего независимость от власть предержащих, характерна для писем Иванова 1922–1923 гг. двум его постоянным корреспондентам – A.M. Горькому и К. А. Федину. Но уже письма 1924 и особенно 1925 г. этим же адресатам показывают, как постепенно менялся взгляд молодого писателя и на смену иронии приходили тяжелые, невеселые раздумья. Вот еще в январе 1923 г. Иванов так комментирует свое пропавшее письмо к Горькому: «…я там восторженные разные штуки о молодежи писал <…>: рабфаки там и прочее. Ежели читали, особо не верьте, я и сам теперь многому из написанного не верю»36. И здесь же задает присокровенный вопрос: «Может, в эпоху широких замыслов надо человеку создавать маленькое?» Однако в целом все пока благополучно. Иванов собирается за границу. Рассказывает Горькому о своих приятелях – В. Б. Шкловском, Б. А. Пильняке. Именно они, а также И. Э. Бабель и Л. М. Леонов, составляют в начале московского периода его круг общения. С Пильняком он редактирует стихи и прозу, присылаемые в издательство «Круг», выступает на вечерах, путешествует. В марте 1924 г. писатели совершают поездку по южным городам России с лекциями, правда, очень скоро ее приходится прервать из-за бегства импрессарио. С Шкловским «делает», как это говорили тогда в среде формалистов, авантюрно-приключенческий роман «Иприт» (1924). Но уже в письмах Горькому конца 1924 г. появляются новые, тревожные ноты: «Живут людишки скудно, тесно и грязно. Я к человеческому горю привык, но такое ненужное горе даже и меня пугает» (4 декабря 1924 г. – С. 320); «В Москве совершенно работать нельзя. Телесно я совершенно здоров, но чувствую себя больным» (7 октября 1925 г. – С. 322); «Я все сбирался за границу, а Россия манит да манит, – возьму, глядишь, и уеду в какой-нибудь городишко. Жизнь теперь необычайно сложная, очень лживая и часто пустая» (30 ноября 1925 г. – С. 325). Он весьма жестко оценивает в 1925 г. «состряпанный» роман «Иприт»: «В эти месяцы, – пишет он Горькому 20 декабря 1925 г., – я убедился во многих простых истинах, <…> что – авантюрный роман сейчас России и русскому читателю – не нужен. <…> Жизнь, Алексей Максимович, у нас в России достаточно тяжела, авантюрный же роман <…> жизнь не украшает, не романизирует, что ли, а обессмысливает» (С. 327). Все чаще в письмах 1924–1925 гг. появляется имя человека, ставшего тогда, по признанию самого Иванова, самым близким, – Сергея Есенина.
Мемуарная литература, созданная после смерти поэта, представляла перед современниками и потомками самого Есенина и его ближайшее окружение в виде сумасбродов и буянов нэпманской Москвы: драки, пьянство, кутежи. Так, в воспоминаниях М. Ройзмана «Все, что помню о Есенине» можно прочитать о хулиганском походе в Малый театр С. Есенина и Вс. Иванова в апреле 1924 г. и учиненной ими там драке, за которую поэт был отведен в милицию, а Иванов его «вызволял» оттуда. В. Мануйлов вспоминал, как на квартире у жены Есенина Софьи Андреевны Толстой поэт рассказывал о своем детстве, Бабель передразнивал его, а Вс. Иванов дремал на диване после вчерашнего кутежа и затем заснул. И т. д., и т. п. Бесспорно, сама эпоха нэпа, да и молодость действующих лиц располагали к подобному веселому времяпрепровождению. Но бесспорно и то, что связывал С. Есенина и Вс. Иванова не только легкомысленный стиль жизни. Весной 1924 г. рождались планы совместной издательской работы: С. Есенин предполагал привлечь Вс. Иванова к сотрудничеству в задуманном им журнале «Вольнодумец». А в марте 1925 г., как вспоминали В. Наседкин и сам Вс. Иванов, возник замысел еще одного совместного издания – литературного альманаха «Поляне» (в опубликованных воспоминаниях Иванова – «Москвитяне»), в состав редакции которого должны были войти С. Есенин, Вс. Иванов, И. Касаткин, В. Наседкин. «По замыслу Есенина, – вспоминал Наседкин, – альманах должен стать вехой современной литературы с некоторой ориентацией на деревню»37. Понятно, почему Есенин видел в Иванове единомышленника и помощника в издательских делах: близким было понимание современной литературы и ее задач. В неоконченной статье «О писателях-„попутчиках“» (1924) Есенин писал об Иванове: «В рассказах его и повестях, помимо глубокой талантливости автора, на нас веет еще и географическая свежесть. Иванов дал Сибирь по другому рисунку, чем его предшественники Мамин-Сибиряк, Шишков и Гребенщиков, и совершенно как первый писатель показал нам необычайную дикую красоту Монголии. Язык его сжат и насыщен образами…»38. Иванов 7 октября 1925 г. писал A. M. Горькому: «…мне кажется, что литература наша в ближайшие годы будет сугубо национальной, не только по языку, как это происходит теперь, но и по духу. Я – о России. Пролетарская литература будет литературой чиновного человека. Ибо ея цель – борьба с капитализмом, а какой же у нас капитализм» (С. 323).
Близким было и видение многих реалий современной жизни. «Мне скучно в Москве, а уехать удастся не раньше 15-го, безденежье… и даже не то – безлюдье. <…> Москва наполнена нищими, бездомными и презрением»39, – писал Вс. Иванов К. Федину 2 июля 1924 г. О бездомных, главным образом бездомных детях, – одной из проблем Советской России 1920-х годов – расскажут в своих произведениях оба писателя: С. Есенин – в поэме «Русь бесприютная» (1924), Вс. Иванов – в повести «Бегствующий остров» (1925).
На фоне общего отсутствия Дома, в его традиционном для русской культуры значении, Дома-очага, человек естественно еще больше ценит семью, близких людей. В архиве Вс. Иванова хранятся письма матери из сибирского села Лебяжье. В бесхитростных строках, написанных братом матери Вс. Иванова (Ирина Семеновна была неграмотной), предстают страшные подробности жизни сибирской деревни 1925 г.: «Сообщаю, что я и мое семейство здорово, а о житье своем и не буду писать, а одно лишь скажу, что пролетариату ни коня и ни возу. Что делать и как жить дай совет. <…> У нас житье хорошее лишь тем людям, которые имели состояние при Николае, а пролетария (так в тексте. – Е. П.) погибает, а почему, потому что это Гражданская) война убила до конца пролетариат, а у богатого все же таки осталось, и в настоящее время, как уладилась жизнь, они в пять раз стали богаче, а мы беднее, решившись (так в тексте. – Е. П.) последней клячи, ни запрячь и не выехать, а пеший не посеешь и не заработаешь»40. С болью пишет Ирина Семеновна о своих внуках. Первая дочь Вс. Иванова, которую крестили еще в Петербурге в 1921 г., умерла в 1924 г., тогда же умерла и вторая дочь; сын Юлий, родившийся летом 1925 г., прожил всего несколько месяцев. О смерти детей Вс. Иванов скупо сообщал A.M. Горькому. Можно представить себе, какой непростой и печальной была атмосфера в доме писателя.
В доме Есенина спокойствие и уют были столь же непрочными, как и в ивановском. По воспоминаниям сестры С. Есенина, А. А. Есениной, Иванов в 1925 г. был частым гостем в их доме, на квартире Галины Бениславской. Позднее Иванов вспоминал: «Гонимый какой-то страстью он (Есенин. – Е. П.) ходил по знакомым из квартиры в квартиру всю ночь, читал стихи, пил, напивался, возвращался на рассвете, и в то же время сознание, как ни странно, не переставало работать. Много раз я был свидетелем, как он на краешке стола своим ровным почерком, точно вспоминая, без особой устали, точно давно известное, записывал свои стихи. Записав стихотворение, он читал его иногда два-три раза подряд, как бы сам удивляясь самому себе. Тут он любил рассуждать, особенно об издательской деятельности. <…> К концу завтрака этот великолепный разговор кончался. Есенину приносили еще бутылку красного вина, он не спеша выпивал ее, и передо мной снова возникал тот „черный человек“, который ночью так легко сливался с темнотою города»41.
Ирония и бесшабашное веселье (или бесшабашное отчаяние) к концу 1925 г. все больше сменяются тоской. Особенно усилится она после смерти Есенина (декабрь), о которой ни одному из своих близких-корреспондентов, ни Горькому, ни Федину, Иванов ничего не напишет. Тоска и боль прорываются лишь в нескольких строках письма от 25 января 1926 г., адресованных К. Федину: «Никак не могу сесть за письменный стол. Запьянствовал и все не могу остановиться»42.
Внутреннее состояние Вс. Иванова почувствовали Л. Леонов и С. Буданцев, в то время также близкие, хотя и не в такой степени, как Есенин, ему люди. Л. Леонов вспоминал о прощании с Есениным в Москве: «Мы стояли у гроба вместе: Всеволод Иванов, я и Сергей Буданцев. Молча мы спрашивали друг у друга глазами: „Как же это?..“ Общительный Буданцев не выдержал, наклонился ко мне и шепнул: „Кто у нас следующий?“ И поискав глазами, украдкой кивнул на Всеволода. У Иванова была тогда большая слава, завидная жизнь: денежно и шумно жил он тогда на Москве»43. Предчувствие каких-то трагических перемен в судьбе Вс. Иванова отразилось в словах Буданцева, не удививших Леонова и запомнившихся. Несмотря на большую славу и завидную жизнь, именно он мог бы стать следующим.
Череда потрясений 1925 г. не могла не отразиться в творчестве писателя. В декабре 1925 г. он делился с A.M. Горьким замыслом нового романа «Казаки»: «Тема там, приблизительно, такова: казачья станица, разваленная войной, революцией – начинает подниматься… появляется то, что у нас сейчас в моде – „кулаки“ (тоже беднота, так ведь, слово одно); в семьях – от нервности, от неудовлетворения жизнью, и оттого, что жизнь-то обещана, да и надеялись – хорошая, а она отвратительна – в семьях развал, самый пустяковый блуд – этакие, черт знает, какие девки появились с алиментами, со стрижеными волосами. <…> Мне хочется показать мужицкую тоску по семье, по дому, по спокойному хозяйству, а на казаках мне это легче всего выявить, потому что они наиболее всех пострадали от войны и революции» (письмо от 20 декабря 1925 г. – С. 327–328). Роман не был закончен, но многие его темы и образы вошли в создававшиеся в это же время рассказы, которые и составили книгу «Тайное тайных». Приведенные строки письма дают возможность увидеть, как пристально всматривался Вс. Иванов в жизнь и проблемы послереволюционной России, и понять, почему на фоне «денежной и шумной» московской богемы он писал книгу, поразившую современников своим трагическим, «висельным», по выражению одного из критиков, пафосом и безысходностью.
«Революция означает окончательный разрыв народа с азиатчиной, с XVII столетием, с святой Русью, с иконами и тараканами; не возврат к допетровью, а наоборот, приобщение всего народа к цивилизации и перестройка ее материальных основ в соответствии с интересами народа».
«Я проехал от „славного города Гурьева“ до Уральска по Яику тысячу верст. <…> Хлеба <…> на расстоянии тысячи верст купить нельзя, потому – его там не едят».
В статьях 1923 г. «Странички из дневника» и «О кооперации» В. И. Ленин сформулировал главные задачи культурного строительства Советской России: «…раньше мы центр тяжести клали на политическую борьбу, революцию, завоевание власти. Теперь же центр тяжести меняется до того, что переносится на мирную, организационную, „культурную“ работу»44. «Гигантская всемирно-историческая культурная задача»45 заключалась в том, чтобы «сделать население <…> цивилизованным, избавиться от той полуазиатской бескультурности, из которой мы не выбрались до сих пор»46.
Главным стратегом в осуществлении великой задачи перестройки «рабского прошлого России» стал Л. Д. Троцкий. Его книга «Вопросы быта. Эпоха „культурничества“ и ее задачи» (1923) определила направления «пересоздания личного и семейного быта» рабочего класса и особенно крестьянства «сверху донизу в духе коллективизма»47.
Едва ли не основным препятствием на пути «народных масс к социализму» оказалась традиционная русская семья. Принятый 9 февраля 1918 г. «Декрет о расторжении брака и о гражданском браке» был первым шагом на пути разрушения прежней семьи. В 1925 г. обсуждается новый проект закона о браке и семье, который, как предполагалось, должен быть построен «на полном признании свободных супружеских отношений, не стесненных условностями буржуазного строя»48. С осени 1925 г. в центральной печати развернулась дискуссия. О прежней семье писали так:
«Мы получили от старого строя позорнейшее законодательство по семейному и брачному праву. Мы получили законы о семье как о тюрьме, о тюремной клетке, в которую легко войти, но из которой трудно выбраться.
Мы получили законы о власти мужа и отца, о его правах, постановления о власти тюремщика перемежаются с лицемерными, ханжескими постановлениями о любви супругов, почтении родителей, добронравном образе жизни и воспитании детей в видах, угодных правительству. <…> Пролетарская революция немедленно ниспровергла эти законы и объявила беспощадную борьбу семейной эксплуатации. Еще в дыму революционных боев мы издали новые декреты о разводе, о браке, освобождающие супругов от невыносимых уз старого церковного брака»49.
С новыми представлениями о семье, сформировавшимися «в дыму революционных боев», могли ознакомиться в январе того же 1926 г. читатели одесского журнала «Шквал», где на странице 3 был опубликован рассказ Вс. Иванова «Про казачку Марфу» из книги «Тайное тайных», а на странице 5 печаталось письмо «сиротки Мани Волжанки» с такими комментариями: «Сердце сиротки расцвело красивой, здоровой, жалостливой любовью, встретив ответное чувство в пылком Ванином сердце <…>. Маня Волжанка смела и готова пренебречь всеми правилами, имеет настолько широкие взгляды, что высказывается даже против регистрации в загсе, лишь бы вырвать любимого для себя из рук некрасивой жены»50. Продолжая тему, Ал. Светлов дает свой комментарий к письму Мани: «А „законного брака“ у нас нет. И „байстрюки“, – что это такое. – Мы не понимаем. Это у попа – кто без креста – тот „незаконнорожденный“. А у нас каждый ребенок – гражданин. Каждая мать – в правах»51.
Чтобы осуществить «культурную революцию» и воспитать «нового человека», необходимо было разрушить и традиционные в русской семье отношения между детьми и родителями. Теперь культивировалось неуважение к «темному» поколению «отцов». В новой семье, по замыслу Троцкого, «стирать белье должна хорошая общественная прачечная. Кормить – хороший общественный ресторан. Обшивать – швейная мастерская» и т. п. Воспитываться дети должны «хорошими общественными педагогами»52, а не отсталыми родителями. Периодическая печать 1920-х годов оперативно откликалась на новые инициативы. В массовом популярном журнале «Безбожник» (выходил с 1923 г.) печатались вот такие милые стихи некоего Г. Градова, от лица нового советского ребенка передающие новые детские чувства к своим родителям: «Буду слушаться папу, / Если был он в партшколе, / Буду слушаться маму, / Если кончит рабфак»53.
Столь же радикальному пересмотру подверглось отношение к земле, к хозяйству. Испокон веку сохранявшаяся в русском крестьянстве любовь к земле как источнику жизни, одной из основных духовных опор человека объявлялась вредным мелкобуржуазным чувством собственника. «Крестьянский журнал», наряду со стихами («Соху древнюю забросить нам пора. / Без меж поле. Пахать будут трактора. / Уже тогда-то мы не будем так страдать: / Труд машинушка наш будет облегчать. / В одну семью мы машинушку возьмем, / Попа с богом никогда не позовем»54 – Ян. Горев), печатал и прозу, представлявшую новое отношение к земле. Характерен рассказ А. Пучкова «Зовы», где традиционный метасюжет возвращения сына на родину отцов представлен в современном советском ключе. Крестьянский сын, красноармеец Николай, «отвык <…> от стариков, отвык и от отцовской жизни с землей и хозяйством». «…Чего тебе там в степи делать. Работа да грязь!» – вспоминает он слова товарища, и с мечтами о городе и рабфаке радостно покидает ставшие скучными родные места, стремясь к «новому, неизведанному»55.
Однако едва ли не главной идеологической задачей нэпа оставалась борьба с церковью. В ход были брошены все средства – от репрессий по отношению к священнослужителям до научной пропаганды безбожия. В 1920-е годы огромными тиражами выходят массовые журналы «Безбожник», «Безбожник у станка», «Атеист», «Воинствующий безбожник», «Антирелигиозник», на страницах которых представлен весь спектр пропагандистского искусства: веселые рассказы, кощунственно трактующие Священную историю; загадки, ребусы, задачи, призванные разоблачать суеверия; предупреждения о возможности заражения сифилисом при прикладывании к кресту, иконам, мощам; рассуждения о причастии как одной из причин детской смертности. «Богослужения – инструмент массового убийства», «Микроб сифилиса – свидетель против Адама», «Зараза», «Из церкви – клуб» – эти заглавия статей «Безбожника» говорят сами за себя. Священники, странники – Божьи люди, монахи представлялись извергами, корыстолюбцами, врагами, а верующие – обманутой темной массой. Религиозные праздники заменялись новыми, вводилась новая обрядность: Красные Пасхи, Красные крестины (октябрины), Красное Рождество и Красные похороны.
Особую роль в борьбе с религией призвана была, по замыслу Троцкого, сыграть наука. Говоря о книге «Тайное тайных», уместно более подробно остановиться на одной из реалий 1920-х годов – пропаганде идей психоанализа З. Фрейда.
Критика фрейдизма развертывается лишь во 2-й половине 1920-х годов. В 1-й же половине – картина иная. На 1923–1925 гг. приходится наибольшее количество изданий и переизданий в Советской России работ З. Фрейда: «Лекции по введению в психоанализ» (1922, переиздание – 1923), «Методика и техника психоанализа» (1923), «Основные психологические теории в психоанализе» (1923), «Психоанализ и учение о характерах» (1923), «Психопатология обыденной жизни» (1923), «Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии» (1923), «Психология сна» (1924, переиздание – 1926), «Я и оно» (1924), «Остроумие и его отношение к бессознательному» (1925), «Психология масс и анализ человеческого „я“» (1925), «Психоанализ детских неврозов» (1925).
Во вступительных статьях к работам австрийского ученого откровенно разъясняются причины столь большой их популярности у идеологов новой власти. «Заслуги психоанализа очень важны, и надо сделать лишь один шаг, чтобы подойти к религии как к социальному неврозу. <…> Но, к сожалению, именно этого шага Фрейд не делает <…>, ибо с точки зрения фрейдизма, несмотря на свое колоссальное сходство с неврозом, религия есть социальное явление, следовательно, нечто нормальное, здоровое и полезное», – говорится во вступительной статье М. А. Рейснера к книге Ф. Виттельса «Фрейд. Его личность, учение и школа». Далее автор пишет: «Только участники классовой борьбы пролетариата могут выковать из теории Фрейда новое оружие для борьбы с общественным неврозом религии, которая до сих пор являлась одним из крупных фактов классового угнетения»56.
Очевидно, что одной из главных причин столь усиленного «внедрения» в создание людей нового общества учения Фрейда и признания его важной роли в грядущей борьбе за новый мир была «атака на душу», на «веления совести, природу которых легко можно было выяснить с помощью психоанализа»57, – на все то, что составляло систему нравственных ценностей человека русской культуры. В ряду подмененных и трактуемых по Фрейду оказались базовые понятия русской жизни и культуры: вера – «общественный невроз», совесть, чувства вины и ответственности – «инстинкты невротиков», любовь, семья – «половое влечение», любовь к Родине – «сублимированная любовь мужчины к матери» и т. п. Все это, как «бессознательные начала» психики, подлежало переработке через начала сознательные – разум, вооруженный новой (не «пахотной»!) идеологией, и должно было отмереть уже в ближайшие годы.
Безусловно, как работы Фрейда, так и полемика вокруг идей австрийского ученого, его статьи, печатавшиеся в «Красной нови» были известны Вс. Иванову, находившемуся в то время отнюдь не на периферии литературной жизни. В архиве писателя сохранилась запись 1947 г.: «3. Фрейд в двадцатых-тридцатых годах потому пользовался колоссальной известностью, что хотел сказать „правду“ людских отношений, вскрывая „бессознательное“. Все тогда жаждали искренности, правды. Искали ее»58. Видимо, не случайно «правда» 3. Фрейда взята Вс. Ивановым в кавычки. Иванов, воспитанный в религиозной семье, знавший религиозные искания сибирских крестьян, не мог не понимать односторонности популярных в 1920-е годы «учений» в их стремлении раскрыть «тайное тайных» человека. Примечательно, что в письмах Иванова тех лет, воссоздающих атмосферу духовных поисков писателя, нет упоминаний о Фрейде и психоанализе.
По прогнозам идеологов «нового быта», уже ко 2-й половине 1920-х годов вместо «азиатчины» в России должна утвердиться «цивилизация».
На страницах центральных журналов подводились вполне оптимистические итоги кампании борьбы за «новый быт»: «Протест против церковного брака <…> все глубже и глубже проникает сейчас и в крестьянские отношения. Новая семья формируется там, где женщина освобождается все больше и больше от непосредственных обязанностей по питанию семьи и т. д. Здесь складывается такая семья, где мы имеем прежде всего двух товарищей, которые помогают друг другу делать большое общественное дело. <…> Мы имеем новый быт, который не нуждается ни в один из моментов своей жизни в каких-нибудь религиозных нормах»59. А. Б. Залкинд, популярный в 1920-е годы психолог, с воодушевлением сообщал о «неуклонно возрастающем» «колоссальном фонде нового нервно-психического здоровья»: «…ближайший исторический период будет характеризоваться неуклонным нарастанием этого вновь появившегося здорового нервно-психического фонда и постепенным рассасыванием болезненных издержек революции»60.
В реальности, однако, все складывалось далеко не так благополучно.
Наряду с выступлениями, приветствовавшими «новую бабью долю» (заглавие одной из статей в «Известиях»), среди которых громко звучал голос А. Коллонтай, обвинявшей в консерватизме «ратующих за крепкий и солидно обзаконенный брак» и предлагавшей заключать «брачно-хозяйственные договора для урегулирования имущественных отношений в деревне»61, высказывались трезвые соображения, основанные на реальных фактах судебного разбирательства: «…были предложены такие положения, которые совершенно не соответствуют настоящим условиям жизни, – <…> люди свободны, половая жизнь свободна, мы не вмешиваемся <…>. У нас получается, что суды завалены делами об этих самых „алиментах“, – так они, кажется, называются»62.
Больше всего в новом брачном законодательстве сомневалась деревня. Об этом рассказывает периодика конца 1925 – начала 1926 г., где в разных подборках приводятся высказывания крестьян о современном состоянии семьи и брака. «Крестьянское население еще крепко держится за брак религиозный, – сообщает в газету крестьянин А. Платов. – Новый проект закона – проект многобрачия и многоженства – в деревне считается беззаконием»63.
Не прививались в деревне и новые «красные» праздники. Вот характерный пример из Обзора политического состояния СССР за май 1926 г.: «В праздновании 1 Мая крестьяне массового участия не принимали. <…> Характерный случай имел место в деревне Новая Када Черкасской губернии, где к председателю первомайской комиссии явился крестьянин с требованием от группы односельчан перенести празднование 1 Мая со Страстной субботы на Пасху (2 мая), заявляя, что в противном случае крестьяне не пожалеют Нардома и сожгут его вместе с участниками праздника»64. Эти обзоры, как и другие опубликованные в последние десятилетия документы, передают реальное положение и настроение жителей Советской России. Приведем еще несколько заключений из обзоров.
Февраль 1925 г.: «В отчетном периоде выполнение последнего срока налога задевает весьма сильно маломощные хозяйства, составляющие 80–90 % всех недоимщиков. Это часто совершенно разоренная беднота, не имеющая даже хлеба»65.
Апрель 1925 г.: «Нарастание антисоветских тенденций определяется тем тяжелым экономическим положением, в котором очутилось крестьянство в связи с вздорожанием хлеба»66.
Декабрь 1925 г.: «…население терроризировано бандитами. По вечерам крестьяне боятся ходить по селу и отказываются от ночных дежурств в Сельсовете. Выступивший на собрании крестьянин Мокачев заявил: „Если власть не в силах привлечь к ответственности воров, то пусть разрешит нам их убивать“»67.
Май 1926 г.: «Усиливающееся в последнее время хулиганство начинает принимать в ряде районов Союза угрожающие размеры, особенно в некоторых губерниях, на Урале, в Поволжье и Сибири. Местами ни одна свадьба, ни один праздник не проходят без драки на почве пьянства, нередко кончающегося серьезными ранениями и даже убийствами»68.
Страницы отчетов представляют картину стремительного обнищания деревни, чему способствовал ряд обстоятельств: рост смертности, дороговизна, голод, полное отсутствие хлеба, безденежье, недоверие к городу, высокие налоги. Власть, за которую воевали, стремясь получить справедливую жизнь и, главное, – землю, оказалась ненародной, неправедной. В сводке за май 1925 г. приводится письмо крестьянина Пономаренко: «Трудом нашим только кто не хочет, тот не пользуется, а то можно сказать – все, кто хочет, тот и обжирается нашим кровавым потом и пользуется только потому, что наше крестьянство темнее ночи, обманутое и никак <…> не может увидеть ту правду(курсив мой. – Е. П.), которая должна уже появиться перед его глазами»69. Отсутствие Правды – едва ли не самой значимой ценности традиционной народной культуры, – Правды, которая в русском языке означала и истину, и справедливость, и праведность, приводило к недовольству, требованиям подлинной крестьянской власти, росту бандитизма. Отметим, что Сибирь – а именно в Сибири происходит действие практически всех рассказов «Тайное тайных» – в октябре 1925 г. была «объявлена неблагополучной по бандитизму на два месяца»70.
Реально кампания борьбы за «новый быт» обернулась ростом беспризорности, хулиганства (не случайно в 1926 г. принимается закон о борьбе с хулиганством с введением смертной казни за изнасилование), широким распространением венерических и психических болезней.
Время от времени, прерывая жизнеутверждающую риторику о триумфальном шествии новых идеалов, газеты и журналы сообщали об истинном положении в деревне. Так, в мае-июне 1925 г. журнал «Печать и революция» констатировал: «Вся крестьянская масса в целом за эти три года стремительных достижений Союза на фронтах хозяйственном, культурном, политическом стала чуть (курсив мой. – Е. П.) богаче. <…> Яд оскудения просачивается сквозь все поры деревенской жизни, как главная причина всех ее недугов»71. Сами крестьяне, однако, эту главную причину видели иначе. В юбилейном октябрьском номере газеты «Известия» среди оптимистических писем читаем письмо крестьянина А. И. Свистунова: «До революции отношение крестьян к власти и религии было чисто механическим, по традиции: не нами начато – не нами кончится. Революция, развенчав все кумиры (здесь и далее курсив мой. – Е. П.), заставила нас сознательно, критически проверить свое отношение к власти и религии и самим принять действенное участие в строительстве государства и выработке осмысленного взгляда на духовную жизнь человека. <…> Но наряду с этим она разнуздала сидящего в нас зверя с завистью, шкурничеством и утробничеством и подорвала устои нравственности, семьи и общинных начал жизни»72.
Отношение к происходящему в стране автора книги «Тайное тайных» отражено в письме Горькому от 25 сентября 1926 г.: «…люди исковерканы, все внутри их изломано, свершить преступление сейчас ничего не стоит – да вот, кстати, и в тюрьмах у нас перенаселение» (С. 331).
Бывают в жизни периоды, когда негодование и тоска, переполняющие душу, придают человеку, даже достаточно сдержанному, смелость отчаяния. Такими были для Вс. Иванова 1925–1926 гг. В дискуссии «О критике» 1926 г. писатель признавался: «А так, со стороны, мне кажется, нервность, вызванная революцией и войной, породили в россиянах обилие образов и необходимость их высказать»73. В художественной биографии Иванова эта необходимость привела к появлению книги «Тайное тайных».
«Книга „Тайное тайных“, как мне казалось, спорила с „Серапионовыми братьями“, а значит, с моими прежними воззрениями».
«…авантюрный роман сейчас России и русскому читателю не нужен. <…> Я честно возвращаюсь к первым своим вещам».
В семейном архиве сохранились страницы с описанием времени создания «Тайное тайных». Этот набросок сделан Вс. Ивановым в 1950-е годы: «Я жил тогда на Тверском в полуподвале. Воронский как-то пришел, не застал меня дома и решил подождать, узнав, что я обещал скоро вернуться. По столу была раскидана корректура новой книги „Тайное тайных“ – рассказы: „Жизнь Смокотинина“, „Полынья“, „Ночь“, „Поле“, „Плодородие“ и повесть „Бегствующий остров“. Воронский стал читать. Когда я вошел, он прерывисто вздохнув, умильно поглядел на меня и сказал:
– Книжка будет иметь большой успех. Даже, возможно, вызовет подражание, а критики тебе влепят так, что ты не скоро очнешься. Ну, чего ты скачешь? Чего ты хотел сказать названием „Тайное тайных“?
Я не очень-то поверил Воронскому, полагая, что „Тайное тайных“, как и прочие мои книги, пройдет с двумя-тремя рецензиями, где-то напечатают рисунок, изображающий мое круглое лицо с короткими баками, коротенькие ножки, – и я начну писать следующую книгу.
– Почему не продолжаешь линию „Экзотических рассказов“?
– Объясню.
– Да, да, пожалуйста.
– Я нигде ни одним словом не разъяснил названия книги „Седьмой берег“, равно как и „Экзотические рассказы“…
– Напрасно. Объяснишь название: уже меньше наказания, – сказал Воронский смеясь.
– Дело не в названии, дорогой мой, а в смысле книги. <…>…в юности я, Александр, был мастеровым. „Серапионовы братья“ привлекли меня своим стремлением достичь во что бы то ни стало предельного мастерства, виртуозности <…>. Но схематический сюжетный роман, переполненный приключениями, подобно романам Жюль Верна, Стивенсона или Уэллса, вряд ли типичен для русской литературы. <…> Да, мы учились у Дюма, но так же, а может быть, и больше, мы учились у Лескова; да, мы учились у Стивенсона, но еще больше у Чехова!
– Короче говоря, Всеволод, ты утверждаешь, что путь „Серапионов“, и твой в том числе, путь классической русской прозы?
– Да и как иначе? Простота – самая лучшая находка в искусстве. Воронский слушал, положив голову на руки, закрыв глаза. Затем он поднял веки и сказал, прямо глядя на меня:
– Сейчас я понял, почему ты сжег свои рукописи.
Потупясь, мотая головой, я прошелся по комнате. Я чувствовал себя очень неловко, мне было стыдно. Тоже, Гоголь! Месяца три-четыре тому назад, вскоре после литературного вечера в „Круге“, придя к заключению, что пишу чепуху, что писать надо по-другому, что иначе не выразишь жизни, я действительно сжег в печке рукописи и черновики объемистой повести „Фарфоровая избушка“, на две трети оконченный роман „Казаки“ и „Северо-Сталь“, роман о современном Ленинграде, главы из которого уже печатались в некоторых еженедельниках и в „Красной Нови“»74.
Описанный эпизод, скорее всего, имел место в конце ноября 1926 г. О сожженных рукописях Иванов рассказывал Горькому в письме от 22 января 1927 г. Прокомментируем последовательно отдельные фрагменты воспоминаний писателя. Упомянутые рассказы, составившие «Тайное тайных»: «Жизнь Смокотинина», «Полынья», «Ночь», «Поле», «Плодородие» и повесть «Бегствующий остров», а также рассказы «Яицкие притчи», «Смерть Сапеги», «Пустыня Тууб-Коя», до включения в состав книги были опубликованы Вс. Ивановым в течение 1925–1926 гг. и не один раз. Печатались рассказы в основном в журнале «Красная новь». Ни одна из этих публикаций не вызвала каких-либо серьезных возражений тогдашней критики. Лишь объединенные в книгу «Тайное тайных» рассказы оказались зарядом потрясающей силы. То, что общий замысел книги существовал и произведения не были включены в нее случайно – а именно так старались представить это некоторые критики 1920-х годов, противопоставляя рассказы о Гражданской войне («Яицкие притчи», «Смерть Сапеги» и др.) более поздним по времени написания «Ночи», «Плодородию» и др., – можно с уверенностью утверждать, анализируя отношение писателя к своим книгам. Так, в письме М. Л. Слонимскому он размышлял по поводу другой книги (письмо датируется приблизительно началом ноября 1926 г.): «Книжку рассказов – „Дыхание пустыни“ – я пошлю в понедельник. Не могу сегодня, потому что, во-первых, нет одного рассказа – он будет напечатан в „Ниве“ завтра, а раньше я его не могу у них взять, т. к. с „Нивой“ поссорился; во-вторых – дописываю крошечный ¼ листа бухарский рассказик, без коего книжка как-то мне кажется пустой»75.
Документальных материалов к истории создания книги «Тайное тайных» сохранилось не так много. Переписка Вс. Иванова этих лет с серапионовым братом и другом К. Фединым дает некоторое представление о том, как складывался ее общий замысел.
Письмо К. Федину из Батума от 9 октября 1925 г.: «Ну, а что касается, писания, то – мы больше все рассказики-с, рассказики-с. И медленно же они идут, сукины дети, как американское признание»76.
Ему же 27 ноября 1925 г. из Москвы: «Москва такая же, как в прошлом году, – только прибавилось очередей за спиртом. Литераторы по-прежнему сплетничают и, завидуя бог весть кому, – жалуются, что нет литературы. Есенин по-прежнему пьет и разводится, а Пильняк становится степеннее и степеннее. <…> Я, например, не пью два месяца, пишу рассказы и думаю – о Вечности, смысле Жизни – и В ЧЕМ СЧАСТЬЕ!»77.
К. Федин – Вс. Иванову из Ленинграда 30 ноября 1925 г.: «До чего скучно! От скуки – страшная злоба. Со злобы задумался я до… альманаха „Серапионовы братья“. Говорю СЕРЬЕЗНО. Вот план: выпустить к 1-му февраля (ПЯТИЛЕТИЕ!) сборник с участием всех(покойного Лунца в том числе) серапионов; поэзия, проза, статьи <…>. Рассказы должны быть „вообще“, по возможности необычные (т. е. без Кремля, без социологии, без всех узаконенных и приятных ослам и львам аксессуаров), но очень хорошие. Довольно по одному листу на брата. Ты понимаешь, ЧТО будет?! ЧТО поднимется!! Ничему-де не научились и пр. Все это должно быть вполне невинно, без задору. Этого только и надо, чтобы сделать действительно хорошее, полезное для наших дней дело. Весь облик альманаха должен быть неожиданностью. Это будет форменный переворот! Посему – пиши, согласен ли, присылай рассказ, такой, который „никуда не подходит“, но тебе нравится. Если такого нет – напиши»78.
Ответ Вс. Иванова от 2 декабря 1925 г.: «Дорогой Костя, получил твое письмо, воодушевился! Очень рад. – Именно теперь, как никогда, необходимо выпустить такой сборник. Расплодилась такая непереносимая гнусь – как я слышал от одной казачки – Гнилой дух пошел от человека по земле.
Ну! Достал я свою тетрадь, где всякие проекты записаны, начал искать… Впереди, конечно, революция и прочие благородные масла. – И, нашел, – ну, знаешь – будет весело.
Работаю я теперь много. Правда, и заказов-то много, – но полагаю, что самое позднее – через двенедели оный рассказ будет готов. Думаю, втисну все – деревню без коммунистов, героев без партии – листа 1½.
Как относятся к этому остальные серапионы, – в частности, Никитин и Каверин, – особенно последний – не боятся ли потерять честный красногазетный паспорт? Спроси их – от моего сомнения.
Посоветовал бы ты Кольке Никитину халтуру бросить. Я на этом обжегся, теперь года полтора-два исправлять надо. Оказывается литература-то – вещь настоящая… <…> К февралю у меня будет том рассказов. Новых, свежих, не вошедших ни в одну Универс(итетскую) библиотеку. Листов 15-ть. Но-о!..»79.
И еще о планируемом альманахе в письме от 14 декабря 1925 г.: «…я дал два рассказа размером 1¼ п. листа, объединенные одной „идеей“. Рассказы – настоящие, и такие, что один из них я дал, для пробы, в одну из редакций – так там от ужаса завыли. Мрак, безысходность – и еще многое: где тут их печатать. Я не хвастаюсь, но у меня действительно писательские мои настроения очень попортились, и веселость – прошлогодняя – отошла прочь»80.
Написанным в это время рассказам также посвящено письмо Вс. Иванова В. А. Регинину, в то время редактору «30 дней»: «На тот рассказ, что отдал я Воронскому, – не обижайтесь. В нем – психология, мир-р-овая проблема, убийства»81. Датировать письмо можно концом ноября 1925 г.: в следующем письме, отправленном 4 декабря 1925 г., он сообщает Регинину, что посылает ему другой рассказ.
Приведенные письма позволяют говорить о новом повороте в творчестве Иванова, который приходится на 1925 г. Меняется отношение к литературе в целом: это – «вещь настоящая»; рассказы, над которыми идет работа в упомянутый промежуток времени, – философские и в то же время непосредственно связаны с современностью; общий пафос рассказов – трагический; интересует автора – человеческая душа («психология»); стилистически произведения отличаются от тех, что писал Иванов раньше.
Трудно сказать, на каком этапе работы над книгой возникло заглавие «Тайное тайных», от которого так советовал отказаться А. К. Воронский. Первоначально Вс. Иванов озаглавил так напечатанный в «Красной газете» от 14 марта 1925 г. рассказ, впоследствии переименованный им в «Жизнь Смокотинина» и под этим названием включенный в книгу. Действительно, для 1920-х годов, когда под знаком утверждения идеи «нового человека» повсеместно шла борьба с религией и самим понятием «душа», заглавие книги было вызывающе дерзким. Об истоках заглавия известно немного. Сам автор в 1950-е годы комментировал его так: «Подобно книге „Седьмой берег“ я нигде ни одним словом не разъяснил название новой книги „Тайное тайных“. Это была ошибка. А, впрочем, разъясни я, вряд ли это помогло бы мне, перед рапповцами я находился в том состоянии, которое превосходно объяснено в одной басне Крылова: „Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать“. <…> Если бы мои герои умели говорить о себе правду вдобавок еще и по-газетному, все было бы, пожалуй, отлично, – хотя бы для меня самого.
Герои „Тайного тайных“ страдали от бессловесности, – и поэтому их посчитали врагами. Наше время не любит тайн и не без основания относится ко всем тайнам подозрительно»82.
В самой книге выражение «тайное тайных» не будет употреблено ни разу.
Вяч. Вс. Иванов, сын писателя, высказал предположение, что «заглавие книги заимствовано с небольшим изменением языковой формы, у Иванова осовремененной, из переведенной с древнееврейского древнерусской мистической книги „Тайная тайных“ (что означает „самое тайное“, как „святая святых“ – самое святое)»83. Относительно этого восходящего к арабскому оригиналу VIII–IX вв. древнего памятника, получившего широкое распространение в средневековой Европе и известного там под названием «Secretum Secretorum», долгое время велись научные споры, очередной этап которых пришелся как раз на 1920-е годы. Первоначальный текст представлял собой собрание наставлений по разным вопросам – от политики до алхимии, которые якобы были преподаны Аристотелем его ученику Александру Македонскому. В Древней Руси с конца XV или начала XVI в. был известен перевод, сделанный, по мнению исследователей, с древнееврейского списка книги XII-XIII вв. и включавший в себя некоторые части, отсутствовавшие в оригинале. Большинство ученых считают, что именно «Тайная тайных» называется в Стоглаве «Аристотелевыми вратами» и упоминается в числе еретических книг (вопрос 17-й, 22-й)84.
Однако среди ученых неоднократно высказывались сомнения по поводу отождествления «Тайная тайных» и «отреченной книги» «Аристотелевы врата», основанные на том, что в книге «ничего запретного не было, т. к. это произведение представляет собой своего рода Домострой в соединении с лечебной книгой»85. В 1920-е годы исследователь и публикатор книги М. Н. Сперанский, после того как он обнаружил другой древний текст – «Врата Аристотеля премудрого», предположил, что речь идет о двух разных книгах: одной, чисто гадательной, которая и была внесена в список «отреченных книг», и другой, именно «Тайная тайных», которую он определяет как «своего рода „Царственный Домострой“»86.
Неизвестно, что читал Вс. Иванов – исследование М. Сперанского или саму книгу. Возможно, внимание писателя привлекло ее заглавие как отвечающее замыслу его собственной книги. Но если предположить, что читал, то его могли заинтересовать как политические советы, которые давал (или якобы давал) мудрый Аристотель своему ученику Александру, так и его нравственно-философские аксиомы. Так, среди наставлений Аристотеля имелись следующие: «Лучше царствуй над ними (народами. – Е. П.), делая им добро, так как согласная с законом доброта укрепит царство, а жестокость повредит этому. <…>…не обойтись ни одному царю без двух вещей: из них первая – кротость душевная»87. Если вспомнить высказывание мужика Каллистрата в споре с комиссаром Никитиным (повесть «Цветные ветра», 1922) о жалости и жестокости: «…не надо кровопролития-то <…>. Любовь надо для люду. Без любви не проживут»88, то можно понять, чем привлекла писателя древняя книга. Приведем также фрагмент текста 4-й главы книги VIII–IX вв., явно перекликающийся с книгой «Тайное тайных», написанной в XX в.: «Александр, знай, что прежде всего другого сотворил Бог сущность духовную и совершеннейшую, и основательнейшую и создал в соответствии с ней всю природу и назвал ее умом. А из этой сущности он создал самовластную подданную ее, называемую душой. <…> И если постигнет гибель душу, то погибнет разум и плоть»89.
Как бы ни трактовали «Тайное тайных» Вс. Иванова его защитники и обвинители, они не могли не признать, что в эпоху социальной борьбы и утверждения классовых ценностей писатель заговорил о тайнах человеческой души. И заговорил в то время, когда в цене была «атака на душу» (определение А. Залкинда). В 1926 г. в журнале «Безбожник» утверждалось: «…как принять понятие о бессмертной душе – частице духа божьего, если мы знаем, что наши душевные проявления неразрывно связаны с веществом мозга, и самую душу можно расписать по клеточкам, как географическую карту»90. Образ души, расписанной как географическая карта, стал своего рода проектом нового человека. В рассказе Вс. Иванова «Глиняная шуба» (1921) от лица дьякона Полугодье прозвучит упрек в адрес продкомиссара: «…у вас и душа-то разграфленная»91. А. П. Платонов в повести «Сокровенный человек» (1927) скажет о том же самом: «…нигде человеку конца не найдешь и масштабной карты его души составить нельзя»92.
Возвращаясь к воспоминаниям Иванова, отметим также, что и стиль книги «Тайное тайных» показался А. К. Воронскому, хорошо знавшему творчество писателя, непривычно новым. На вопрос, почему он не продолжает линию «Экзотических рассказов», писатель ответил, что его будущий путь – это отход от серапионовского увлечения острым сюжетом и занимательностью и обращение к простоте русской прозы.
На простоту и одновременно сложность художественной манеры Вс. Иванова в «Тайное тайных» критики обратили внимание сразу. А. З. Лежнев писал в марте 1927 г.: «Он (Иванов. – Е. П.) отбрасывает удивительную свою декоративную и орнаментальную пышность, свое изощренное и чрезмерное богатство красок и оттенков. Его фраза становится проста и обнаженна. Он рассказывает простыми словами о простых вещах. <…> Несмотря на свою видимую ясность, новые вещи Всев. Иванова не сразу раскрываются читателю. Под видимой жизнью сюжета течет в них другая, подземная и неслышная жизнь. Внешние факты жизни героев, события не так уж важны. Важна именно подсюжетная тайная жизнь, те неоформленные и сильные движения, чувства, страсти, которые наполовину только осознаются людьми. И Всев. Иванов часто не договаривает, старается дать понять о том, что происходит в его героях, намеком. Он боится нарушить правду этих сильных, но смутных чувств чрезмерной договоренностью»93.
Кажущаяся простота художественной манеры Вс. Иванова в «Тайное тайных» была возвращением к языку классической русской литературы. Показательно самоироничное признание Иванова в письме к Федину от 11 января 1925 г.: «По-прежнему на улицах продают апельсины и полное собрание сочинений Гоголя за полтинник. Я купил, начал читать – и охнул. Вот пишет! Старички-то, а? Даже смешно, до чего я дурак»94. Но во многом эта простота стала и возвращением к себе прежнему – к манере письма и тематике ранних сибирских рассказов, о которых он и писал A.M. Горькому 20 декабря 1925 г.: «Я честно возвращаюсь к первым своим вещам…» (С. 327).
«Первые вещи» – это рассказы о мужиках, написанные Вс. Ивановым в Сибири в 1915–1920 гг., а также в первые петроградские годы – 1921–1922. Уже тогда умел писатель говорить «простыми словами о простых вещах» (Лежнев): тяге к земле ставшего рабочим деревенского мужика («Вертельщик Семен», 1916), горе матери, проводившей на войну сына («Мать», между 1916 и 1919), и о многом другом. Практически все эти произведения рассказывали о жизни сибирской деревни в переломные и трагические моменты истории – во время мировой войны («В зареве пожара», 1916; «Мать»; «Купоросный Федот», 1919); революции и гражданской войны («Жаровня архангела Гавриила», 1921; «Лоскутное озеро», 1921); голода 1920–1921 гг. («Полая Ара-пия», 1921). Стоит отметить что «возвращение» к себе прежнему касалось не только художественной манеры, но являлось прежде всего возвращением к тому очень непростому видению человека, «тайного тайных» его души, которое было свойственно этим произведениям.
Об Иванове начала 1920-х годов не раз писали, что в его творчестве «нет человека». Одна из статей 1924 г. так и называлась «Писатель без человека». Процитировав повесть «Партизаны» – «У каждого человека есть внутри свой соловей», критик резюмировал: «Свой соловей – это знали и Достоевский, и Л. Толстой. <…> Не знает, не чувствует этого только один: Всеволод Иванов. Что такое для него человек? Тень, коряжина, пыль, ничто – об этом постоянно напоминает нам писатель»95.
Отсутствие «человека» в творчестве Вс. Иванова 1-й половины 1920-х годов отмечал и ведущий критик русского зарубежья Г. Адамович в статье «Три прозаика»96. Но он же после появления «Тайного тайных» возражал самому себе: «Мне Всеволод Иванов казался до сих пор этнографическим бытописателем, „фольклористом“ – довольно способным, но вялым и не особенно умным. Казалось, у него нет никакого понимания человека. Опишет монгольские унылые степи, поход какой-нибудь или бунт, вообще „массовые сцены“ – неплохо, <…> как только дело дойдет до людей и их отдельных существований – конец, тупик и беспомощность. Но, по-видимому, Всеволод Иванов только удерживал себя, или он очень медленно рос, – как знать? Книга „Тайное тайных“ более всего „человечна“, какой-то очень тонкой, застенчивой, неназойливой человечностью»97. На самом деле Вс. Иванов не столько «удерживал себя», сколько на время – в «серапионовский» период и в 1923–1924 гг. – «уходил от себя». Ранние рассказы писателя – тому подтверждение.
Писать Вс. Иванов начинает в 1915 г. в сибирском городе Кургане, где он работает наборщиком. Свои произведения посылает в газеты Кургана и Петропавловска. Впоследствии, уже переехав в Омск, он собирает вырезки из газет с рассказами и стихами в две небольшие самодельные книги: «Зеленое пламя. Рассказы и сказки. 1916–1917» (Курган-Омск); «Рассказы» (Омск, 1919); тогда же печатается книга «Рогульки» (Омск, 1919). Главные темы, прозвучавшие в ранних работах молодого сибирского писателя, «вернутся» в его творчество спустя десятилетие и станут ключевыми в книге «Тайное тайных». Раскрестьяниванию деревни посвящен рассказ «Вертельщик Семен»; о материнской правде размышляет автор в рассказах «В зареве пожара», «Мать»; поисками «древлей» истинной веры, праведной земли, сокровенного Слова озабочены герои рассказов «Рао» (1916), «Сон Ермака» (1917), «На горе Иык» (1917), «Анделушкино счастье» (1919). Ранние рассказы неотделимы от исканий тогдашней сибирской литературы (творчества А. С. Сорокина, А. Е. Новоселова, К. К. Худякова, К. Н. Урманова и других писателей), но в них уже ясно звучит оригинальный голос Вс. Иванова, для которого каждый его герой, чаще всего крестьянин – тоскующая, ищущая правды и веры одинокая человеческая душа. Таков Федот, возмечтавший, что «полетит человек» («Купоросный Федот»); старый казак Антон, страдающий от жестокосердия отрекшегося от него родного сына («Дед Антон», 1917); ставший плотогонщиком мужик Семен Беспалых, стремящийся облегчить последние минуты жизни умирающему товарищу, китайцу, и чувствующий смущенной душой присутствие чужого, китайского Бога («Клуа-Лао», 1919); деревенский юродивый, прозванный Анделушкой, ищущий древнюю священную книгу, которая поможет «весь мир к добру переделать» («Анделушкино счастье»). Передавая внутреннее состояние своих тоскующих героев, молодой Иванов точен и немногословен: «…будто какие-то мутные зовы слышала его душа» («Клуа-Лао»); «И будто что вынули из груди Федота. Едкий и незнакомо больной осадок на сердце пускали слова»; «Коли болит голова, надо не кричать… А коли болит душа» («Купоросный Федот»).
Так в своих первых произведениях Вс. Иванов открыл для себя и своего читателя «тайное тайных» человеческой души, возвращение к которому и произошло менее чем через десять лет. За это время Россия пережила две революции, гражданскую войну, голод, разрушение самих основ национальной жизни. Вместе со своей страной все это пережил и писатель.
Позже Вс. Иванов так описывал произошедший с ним перелом середины 1920-х годов: «Одновременно с романом „Голубые пески“ я написал несколько книг рассказов „Пустыня Тууб-Коя“, „Дыхание пустыни“. Это были преимущественно рассказы о гражданской войне. В книгах чувствовался некий мрачный колорит, словно человек рассказывал хрипловатым голосом, еще не придя в себя после грозного пути. Между тем, земля и улицы пахли хлебом, люди были сыты, работали с удовольствием. В сущности говоря, радоваться бы да радоваться. Почему же нужно писать непременно мрачные рассказы? Этот вопрос задавали мне и критики, – в вежливой форме еще, – и начал задавать я сам себе. Я не задавался прямой задачей писать мрачное и темное, но путь к этим приятным сравнительно дням, которые мы переживаем, был так труден. И нужно рассказать по возможности все об этом трудном пути, чтобы последующие поколения понимали и ценили эту трудность. Все забывается, особенно человек хочет поскорее забыть страдания и горечь <…>. Думая таким образом, я подходил к созданию одной из своих книг „Тайное тайных“, которую я считаю главнейшим трудом в области рассказа»98.
Издательский договор № 7737 на книгу «Тайное тайных» был составлен 28 января 1926 г.: «Всеволод Вячеславович Иванов представил Госиздату исключительное право на издание и переиздание своей книги „Тайное тайных“»99. Объем книги – 10 п. л., тираж – 4 тыс. экземпляров. А в самом конце декабря 1926 г. книга была напечатана.
«Это очень „мужицкая“ книга, „черноземная“ – как говорят в России, – с восточным азиатским привкусом. Но от „чернозема“ и Азии она поднимается к такому прояснению и такой суровой простоте, что ее поймет как свое читатель самый городской, цивилизованный и „западный“. Даже самый рафинированный и брезгливый эстет поймет, лишь бы только он был человеком».
Определяя место книги Вс. Иванова в литературном контексте эпохи, нельзя уйти от так называемого «вопроса о мужике», едва ли не главного в публицистике и литературе 1910-1920-х годов. В большей части рассказов «Тайное тайных» действие разворачивается в деревне, а их герои – крестьяне или бывшие крестьяне, ставшие красноармейцами и комиссарами.
Критика тех лет выделяла два главных направления в литературе о деревне. Первое – от чеховских «Мужиков» и бунинской «Деревни». Продолжателем этого направления называли A.M. Горького, подчеркивающего прежде всего «идиотизм деревенской жизни» – невежество, дикость, косность, зверство. Второе – восходящее к произведениям Н. Златовратского и Л. Толстого, отличалось поэтическим изображением деревенского уклада. Это направление Л. Троцкий определил как «советское народничество» и «новое славянофильство»100. В книге 1923 г. «Литература и революция» Троцкий, характеризуя писателей-попутчиков, отмечал характерные черты «советского народничества». «Мужиковствующие интеллигенты, – писал идеолог новой власти, имея в виду Б. Пильняка, Вс. Иванова, С. Есенина, Н. Клюева, – сплошь загибают в сторону примитивного, тараканом отдающего национализма»101. Определения Троцкого были приняты и в советской критике тех лет.
Произведения Вс. Иванова 1921–1922 гг. («Партизаны», «Цветные ветра» и др.) рассматривались как пограничное явление между двумя названными направлениями в изображении деревни. Як. Браун подчеркивал в 1923 г.: «Нет в его бытописании деревни ни златовратского подслащивания, ни бунинского проклятия, ни горьковского презрения – только зоркая, беспощадная звериная любовь»102, – и ставил имя Вс. Иванова в один ряд с «новокрестьянскими» писателями: «Самый стиль его – крепкий, многоцветный, имажинистский стиль, так же, как и стиль Чапыгина, Есенина, Клюева – чисто мужичий стиль»103. Противопоставлял Иванова Горькому и автор широко обсуждаемой в 1920-е годы статьи «Новый Горький» В. Л. Львов-Рогачевский. По его мнению, «вопрос о мужике далеко не ясен в современной литературе»: то, что «писал Горький о мужике, что пишут лучшие из пролетарских беллетристов о суевериях, о мелкобуржуазной сущности, о жадности мужиков, съедающих город, все это далеко не исчерпывает тему о мужике»104. Вс. Иванов, считал критик, показывает крестьянина «таким, каков он сложился исторически в определенных формах крестьянского труда и каким он рисуется ему в момент революционной борьбы, когда мужик прет против японца, киргиза, Колчака, против всякого, кто грозит его пашне»105. А. К. Воронский также отмечал в 1922 г. свойственное Иванову «единственно справедливое, верное отношение к мужику», имеющее истоки в том, что «Ивановы сами плоть от плоти этого мужицкого мира»106. Указав на общее с Чеховым, Буниным и Горьким, Воронский увидел у Иванова свою «собственную расценку мужиков»: «Каким-то особым теплом, человечностью и мягким ласкающим светом сумел писатель облить корявые, звериные мужичьи фигуры»107.
Крестьянская книга «Тайное тайных», материал для которой также дала деревня, заставила критиков пересмотреть свои прежние оценки ивановских мужиков. «Перевальцы» (А. З. Лежнев, Д. А. Горбов, СИ. Пакентрейгер, тот же А. Воронский) отметили как положительный момент переход Иванова от изображения крестьян к «человеку вообще», к тем трагическим противоречиям, которые свойственны всем людям вне зависимости от их социального положения. Напостовцы разделились во мнениях. Одни (Я. Григорьев, Ж. Эльсберг) заговорили в целом о кризисе «старых» попутчиков (Б. Пильняка, К. Федина, Л. Сейфуллиной и др., в том числе и Вс. Иванова), которые «с изменением исторической ситуации в стране отошли от крестьянской стихии в революции», от «славянофильства и народничества», и в «эпоху мирного строительства социализма» ушли в «интеллигентский пессимизм», «литературный сенсуализм» и т. п. Деревенская тема в их произведениях была «временным и чисто внешним обстоятельством»108. Эльсберг писал о «Тайное тайных»: «Крестьянский быт для Вс. Иванова <…> второстепенный повод для конструкции своих сложных психологических новелл»109.
Другие критики поспешили вернуть «Тайное тайных» Вс. Иванова, а также «Трансвааль» (1927) К. Федина, «Необыкновенные рассказы о мужиках» (1928) Л. Леонова, «Приключение» (отрывок из романа «Чевенгур», 1928) А. Платонова, в русло горьковской традиции: «…это реакционные уголки деревни, забитая, кулацкая и мещанская деревня, еще ждущая культурного воздействия революции, – темная, инертная сила страны, путы на ее великом революционном движении вперед…»110.
Хронологически критика «Тайное тайных» совпала с антиесенинской критической кампанией, развернувшейся в печати после публикации 12 января 1927 г. «Злых заметок» Н. И. Бухарина. В духе бухаринского осуждения «есенинщины» и «худших сторон национального характера»111, которые воплощали собой, по мнению партийного идеолога, С. Есенин и его поэзия, оценивалась и книга Вс. Иванова. Если до «Тайное тайных», в начале 1926 г., А. Воронский, выделяя «две струи внутри „мужиковствующих“», относил Вс. Иванова к писателям, которые «содружествуют Октябрю», «не ищут в седовласой патриархальности разрешения проклятых вопросов современности»112, и противопоставлял его Н. Клюеву, С. Клычкову, С. Есенину, то после появления книги, в 1928–1929 гг., имя Иванова уже упоминалось им и другими критиками вместе с названными новокрестьянскими писателями. В. Полонский писал: «Вс. Иванову, как и Есенину, пришлось иметь дело с „железным гостем“. Всей крестьянской литературе наших дней приходится либо вступать с ним в союз не на словах, а на деле, значит „сломать себя“, перестроить свой мир; либо вступать с ним в конфликт, как вступил Есенин, как находится с ним в конфликте С. Клычков. <…> Из столкновения мягкого крестьянского мироощущения с железным мировоззрением господствующей силы рождаются извилины, колебания и срывы, которыми богато творчество Вс. Иванова»113. Последствия такого конфликта В. Полонский увидел в появлении в «Тайное тайных» нового героя – мужика, не уверенного в себе, охваченного тоской и тревогой, безуспешно ищущего правду, – словом, «человека, который погибает»114.
Таким образом, суждения критиков 2-й половины 1920-х годов по поводу «мужиковствования» в «Тайное тайных» полярно разошлись. Для одних Вс. Иванов оставался продолжателем традиции А. Чехова, И. Бунина и М. Горького, писателем, близким К. Федину и Л. Леонову. Для других рассказы Иванова отражали конфликт уходящего старого мира и наступающего «железного гостя», свойственный творчеству С. Есенина и С. Клычкова, при очевидной симпатии к этому старому. Наконец, по мнению третьих, деревня в 1926 г. была для Вс. Иванова лишь случайным фоном для психологических исследований «человека вообще».
Как это часто бывает в подобных случаях, истина, видимо, находилась где-то между крайностями. С каждым из упомянутых направлений в изображении деревни и названных писателей, предшественников и современников, у Вс. Иванова в «Тайное тайных» велся свой непростой диалог.
Начнем с чеховского направления. Вс. Иванов часто вспоминал, как в 1917–1919 гг. в Омске он переписывал страницы прозы А. П. Чехова, учась литературному мастерству. Возможно, были среди переписанных чеховских страниц и картины крестного хода, где участвуют те самые мужики, которые еще накануне страшно пили и дрались, а тут «вдруг поняли, что между землей и небом не пусто»115 («Мужики»). Или страницы, рассказывающие о потерявшей ребенка Липе, которая говорит ночью с мужиками о своем горе, о душе человека и о России («В овраге»). Своеобразным эпиграфом к «Тайное тайных» могли бы послужить строки из «Мужиков»: «Да, жить с ними было страшно, но все же они люди, они страдают и плачут, как люди, и в их жизни нет ничего такого, чему нельзя было бы найти оправдание»116. А это суждение героя рассказа «Новая дача»: «Народ у нас хороший, смирный… народ ничего <…>. И душа есть, и совесть есть, да языка в нем нет»117, – возможно, дает ключ к феномену молчания не только в творчестве Вс. Иванова.
Среди своих учителей в литературе Вс. Иванов называл также И. А. Бунина. Рассказы из «Тайное тайных» и деревенскую прозу Бунина начали сопоставлять с момента выхода книги Вс. Иванова. Сам A.M. Горький в письме молодому писателю поставил мастерство Иванова едва ли не выше бунинского. На связь творчества двух писателей указывала прижизненная критика самых разных направлений. О «влияниях» прозы Бунина, «заметных не только в литье словесного орнамента, но и в тематике», – пишет «перевалец» Ник. Смирнов, сравнивая рассказы «Жизнь Смокотинина» и «Ночь» с бунинскими «Я все молчу» и «Преступлением»118. На бунинскую «Деревню» указывает один из ведущих пролетарских критиков Г. Е. Горбачев: «…вряд ли кто после „Деревни“ Бунина изображал деревню прежде всего (а через нее и весь человеческий быт) в таких пессимистических тонах, как Иванов. Хищно-собственническая, животная, грубая, жестокая, слепая даже в своих лучших порывах – такова деревня Вс. Иванова»119. Справедливо отмечая внутреннюю связь между прозой Вс. Иванова и И. Бунина, критики не захотели увидеть едва ли не главную тему, роднившую двух писателей, – тему душин арода. Вслед за Буниным передавал автор «Тайное тайных» внутреннее ощущение человеком поколебленности всех основ привычной жизни, какой-то катастрофической необратимости гибельного пути России. Соприкасалась эта тема и с вопросами национальной психологии, и с религиозно-философским вопросом о богооставленности человека. Практически на всех персонажах Бунина лежит печать предчувствия того времени, когда «…потрясется земля, небо, / Все камушки распадутся, / Престолы Господни нарушатся, / Солнце с месяцем примеркнет, / И пропустить Господь огненную реку!»120 («Я все молчу», 1913). Эти строки, исполненные мрачного ожидания Страшного суда над людьми, которые «…жили-были / Своей вольной волей, / В церкви не бывали, / Заутреню просыпали»121, завершают рассказ. Критика не случайно увидела связь между героями рассказов «Я все молчу» и «Жизнь Смокотинина». В обоих рассказах сыновья-наследники, отрекаясь от своих отцов, вступают на путь гибели. В бунинском Шаше и в ивановском Тимофее странно сочетаются беспричинная тоска и буйное веселье, страшное разрушительное начало, жаждущее драки, насилия, убийства, и поколебленная вера, принимающая у Шаши уродливую форму юродства и скоморошества, а у Тимофея проявляющаяся в желании прийти с покаянием к отцу. Как и бунинский герой из рассказа «Я все молчу», несмотря на свое исступленное актерство, знает, что «придет время», так и ивановские Тимофей, Афонька («Ночь»), Мартын («Плодородие»), Сапега («Смерть Сапеги») и другие герои «Тайное тайных» смутно ощущают свою греховность. Так, Афонька, ожидая наказания за убийство старухи, кланяется судье «низко, как отцу не кланялся во всю жизнь»; Мартын после насилия над Еленой принимает мирской суд как справедливое возмездие; Сапега предчувствует суд, на котором «товарищам» не сможет ничего объяснить, и т. д.
Не менее сложной выглядит привычная для советского литературоведения параллель Иванов – Горький.
Как известно из биографии Вс. Иванова, Горький напечатал ранние рассказы молодого сибирского писателя, помог переехать в Петроград и, по сути, ввел его в литературу. На протяжении всего периода общения двух писателей, вплоть до смерти Горького, Иванов оставался его верным и надежным помощником в литературных и общественных делах, был частым гостем в доме и вообще дорогим для Горького человеком. По свидетельству К. Федина, «к кому другому, <…> а ко Всеволоду чувство Горького было не менее отцовского»122. Однако стоит отметить, что в разные периоды общения Горького и Иванова их отношения были различными и подчас весьма непростыми.
В октябре 1921 г. Горький уезжает за границу, в период создания «Тайное тайных» между учителем и учеником идет интенсивная переписка, в которой так или иначе затрагивается тема деревни. В письме от 20 декабря 1925 г. Иванов делится с Горьким замыслом показать в романе «Казаки» «мужицкую тоску по семье, по дому, по спокойному хозяйству» (С. 328). Вместе с письмом посылает ему рассказ «Плодородие» о раскольничьей деревне на Алтае, герои которого, мужики, написаны словно бы в подтверждение главной идеи нового романа. В письме от 7 октября 1925 г. звучит нескрываемая тревога за С. Есенина – в то время близкого Вс. Иванову человека. Примечательно, что, отвечая на вопросы и мысли Иванова, не связанные с деревней, Горький внимателен и подробен, но ивановские замыслы и произведения о мужиках никак им не комментируются. Между тем современникам было хорошо известно отношение A.M. Горького к деревне, к «мужикопоклонникам и деревнелюбам» (слова Горького из письма к Н. И. Бухарину от 13 июня 1925 г.). Возникает закономерный вопрос: почему Горький не спорит с Ивановым о деревне? Недоумение Горького по поводу «идеализации» Ивановым крестьянства встречается только в письме от 8 ноября 1927 г.: «Очень удивлен Вашими словами: „мучительно тяжело понять и поверить, что русский мужик не христианин, не кроткий богов слуга, а мечтательный бандит“. Не ожидал, что Вы можете так думать и что для Вас приемлема литературная идеализация народниками крестьянства». Неужели действительно не ожидал? В таком случае, может быть, прав К. Федин, который вспоминал об одной из первых встреч Иванова с Горьким в 1921 г. и невероятных, жутких рассказах Иванова о Гражданской войне в Сибири: «Но главное – какую убедительную опору находят горьковские представления о российском человеке в рассказах этого подлинного свидетеля гражданской войны! Все подтверждается: страшен человек…»123. Но если Горький находил в рассказах Иванова лишь подтверждение своего видения русской деревни, то почему не откликнулся, как, например, на роман Л. Леонова «Барсуки» (письмо от 8 сентября 1925 г.). А если не находил, почему не захотел «немножко поспорить»? Ведь спорил же в это время с К. Фединым и именно об отношении к крестьянской культуре, утверждая, что «все мои симпатии на стороне „понукающих“ и мне органически враждебно постоянное противодействие мужика неотразимым требованиям истории»124. Или все дело в том, что Иванов, в отличие от Федина, в диалог не вступал и свою точку зрения не отстаивал, а просто в следующий раз писал совершенно о другом?
Так или иначе, ни «Тайное тайных», ни замысел «Казаков» никак не будут откомментированы Горьким. Назовет и похвалит он два рассказа: «На покой» (1926), сюжетная коллизия которого – мотив «снохачества» – близка рассказу самого Горького «Птичий грех» (1915) из цикла «По Руси», и «Блаженный Ананий» (1927), в котором встречаются мотивы «Отшельника» (1922). При этом похвала относится к сфере литературного мастерства. Проблематики и героев ивановских рассказов Горький не касается вовсе, как бы их не замечает.
Тем не менее в произведениях писателей этих лет – «Тайное тайных» и горьковских «Рассказах 1922–1924 гг.», «Заметках из дневника» (1924) – наблюдаются явные переклички. Несмотря на отчетливо выявившуюся в письмах внутреннюю полемичность мировоззренческих концепций писателей, как это ни парадоксально, именно в первой половине 1920-х годов наиболее ярко обозначился в их творчестве общий контекст идей, героев, образов.
В центре рассказов Вс. Иванова этого периода – «тайное тайных» человеческой души, глубинные пласты человеческой психики. В статье «Призвание писателя и русская литература нашего времени» (1923) об этой задаче литературы пишет и Горький: «…цель эта – показать миру, что человек и в пороках, и в добродетелях его неизмеримо сложнее, чем он кажется нам. Художник знает, что в человеке несоединимо спутано множество противоречивых начал»125.
Основной замысел «Тайное тайных» – изображение трагического перелома национального сознания русского человека периода войн и революций. Вопросами национального характера «болеет» и Горький в 1-й половине 1920-х годов. В августе 1923 г. он пишет Р. Роллану, комментируя замысел рассказа «Карамора»: «Мучает меня эта загадка – человеческая русская душа. За четыре года революции она так страшно и широко развернулась, так ярко вспыхнула. Что же – сгорит и останется только пепел – или?»126.
Тема богоставленности человека становится едва ли не центральной в литературе XX в. Сравним звучание ее в рассказах A.M. Горького и Вс. Иванова.
У Горького: «Ночью сяду на койке. Суну руки в колени и думаю: „Как же так, господин Бог? Стало быть, Вам все равно, как я живу. Ведь вот собираюсь я человека убить, подобного мне, и очень просто могу убить. Как же это?“ Молчит господин Бог»127 («Заметки из дневника»).
«Выдал я его и ждал, что теперь в душе моей что-то взвоет. Ничего не взвыло. <…> Говорят, есть в глазу какой-то „хрусталик“, и от него именно зависит правильное зрение. В душу человека тоже надо бы вложить такой хрусталик. А его – нет. Нет его, вот в чем суть дела»128 («Карамора»).
У Вс. Иванова: «Господи! Может, и твой глаз спален. Не видишь!.. Где они, очи твои, Господи! <…> Молчит господь, онемел… Непонятно глух»129 («Лога»).
«Мартын в Бога не верил, и ему казалось, что все верующие притворяются, но сейчас он обидчиво сказал: – Видно, и Бог-то тоже спит. У одного меня, што ли, сердце ныть обязано» («Плодородие»).
Сопоставимыми в произведениях учителя и ученика оказываются мотивы «сокровенного слова» (Горький – «Отшельник», Иванов – «Полынья»), мирского и Божьего суда (Горький – «Карамора», «Заметки из дневника», Иванов – «Ночь», «Жизнь Смокотинина», «Смерть Сапеги», «Плодородие»).
Критики-современники, вне зависимости от того, хвалили или порицали они писателей, четко уловили близкое направление их художественных поисков. В произведениях М. Горького 1920-х годов А. К. Воронский увидел «фантазии писателя о непрочности мира», «восприятие природы как ненадежного и коварного хаоса», «неосмысленной стихии», где «прочным и надежным является только человек»130. В том же 1926 г. критик писал о новых произведениях Вс. Иванова: «Между творческим началом человека и косной, огромной, космической, неорганизованной, слепой стихией жизни есть глубокое неизжитое противоречие. <…> Всеволод Иванов ощутил, нащупал, осязал это противоречие»131. Почти в одних и тех же негативных выражениях оценивали рассказы Горького и Иванова критики журнала «На литературном посту». О Горьком: «В явно безумных, патологически-ненормальных Горький видит только странности здорового человека. <…> Галерея человеческих фигур развертывается непрерывно, все фатальнее и уродливее и превращается в непостижимый, душный кошмар бредовых галлюцинаций»132. Об Иванове: писатель «погружен в омут бессознательных и кроваво-грязных страстей. <…> мания и бред, возведенные в категорию необходимости, – вот подпочва творчества Вс. Иванова»133.
Все это ни в коем случае не означает, что решали писатели «больные» вопросы одинаково – скорее, наоборот. Но ведь ставили оба.
Книга Горького «Рассказы 1922–1924 гг.» вышла в Берлине в 1924 г., до этого рассказы «Отшельник», «Карамора» и другие публиковались в берлинском журнале «Беседа». О том, что Иванов эти рассказы читал, свидетельствует его письмо к Горькому от 4 декабря 1924 г.: «Я и Пильняк работаем сейчас в „Круге“ редактируем. И вот у нас к Вам просьба: если б нам издать в „Круге“ книгу последних Ваших рассказов? Может быть, сообщите условия и как и где собрать оную книжку» (С. 320). Что касается «Заметок из дневника», то большая часть их в течение 1923–1924 гг. печаталась в журналах «Красная новь», «Прожектор», а также в «Русском современнике» и «Беседе» и тоже вряд ли могла быть неизвестна Вс. Иванову. При этом в письмах Иванова, в отличие, скажем, от других серапионов, нет никаких суждений на тему «нового» Горького. Возникает вопрос: если читал, почему не откликнулся? Смеем думать, что отсутствие прямых суждений ученика как раз и связано с его ответами на общие философские вопросы, которые отнюдь не вписываются в горьковское направление. Разность обозначилась уже в самом начале общения двух писателей.
Отклик на программную для Горького «Песнь о Соколе» мы находим в раннем рассказе Вс. Иванова «Шантрапа» (1917). Очевиден иронический контекст аллюзии. Нищие странствующие артисты бредут по пыльной дороге, ведут на веревке осла с поклажей. Осел вырывается и убегает. Венчает описание следующее заключение: «Паспорта, гришь, с лошаком убежали! Ну, когда поймаешь, тоды и ползи, шантрапа!
Они останавливаются среди улицы. Саянный с тоской говорит: – И что же, куда теперь? „Безумству храбрых…“ Черт бы тебя драл»134. Молодому Иванову откровенно чужда мысль Горького о гордом Человеке, а если некоторые герои ранних рассказов, легенд и сказок писателя и показаны великими, то проявляется это величие в жертвенном отречении, раскаянии и смирении («Рао», «Нио», «Сон Ермака», «Сын человеческий» и др.). Ранние поиски Иванова помогают по-новому прочитать его письмо Горькому 1916 г.: «Вы знаете, где вырабатываются воля и любовь к жизни – мне кажется, любовь к жизни и смысл ее можно понять через страдания. Разве есть другие пути»135. Верный себе Горький отвечает: «Знайте, что всем нам, знающим жизнь, кроме человека верить не во что»136. В спор Иванов не вступает, но, судя по всему, принятия главная горьковская идея у него не находит. Истинную веру и он, и его персонажи будут искать всегда и везде: в раскольничьих скитах, у шаманов, на пашне, но отнюдь не в «гордом» человеке, иногда приходя к печальным экзистенциональным выводам. «Человек – пыль» – это заключение мужика Селезнева из повести «Партизаны» (1921) Вс. Иванов дословно повторит в письме к А. Н. Толстому 1922 г.: «В социализм я не верю, в науку тоже, в Бога тоже, а человек – человек пыль»137.
И все же именно книга «Тайное тайных» показала, что Иванов по-своему, не как Горький, верил в человека, верил, что в сокровенных глубинах его души, искореженной трагическими переломами эпохи, все же живет и вера в Божье слово, которое вспоминается в момент близкой смерти Богдану из рассказа «Полынья» и не является, как у Горького в рассказе «Отшельник», «цветистым словом», прикрывающим «грязную преступную ложь»138. Верит горьковский ученик и в покаяние после преступления – вновь вспомним отношение к суду Афоньки, Мартына и других персонажей «Тайного тайных». И в Божью правду – «хрусталик», сохранившийся в душе человека.
Сложность внутреннего мира ивановских мужиков – героев «Тайное тайных» немало удивляла критиков. «Наблюдения над героями произведений Вс. Иванова приводят к выводу, что мистические таинственные одежды совсем не к лицу среднему человеку, которого писатель любит изображать»139, – утверждал Г. Якубовский. С неменьшим недоумением критик Ж. Эльсберг отмечал, что для «некультурности деревни» необычна «точность психологических ассоциаций Иванова, <…> она требует если не умственной, то эмоциональной, и притом очень высокой культуры»140.
Сам, вероятно, того не подозревая, критик назвал одну из важных отличительных черт, определивших особое место книги «Тайное тайных» в «спорах о мужике» первого советского десятилетия. Отмечая влияние «Тайного тайных» на книгу рассказов о деревне другого попутчика Л. М. Леонова «Необыкновенные рассказы о мужиках» (1928), критики указывали на одно существенное различие: «По основному настроению рассказы эти очень близко подходят к „Тайному тайных“, отличаясь вместе с тем меньшей психологической углубленностью, большим и очень ярким показом внешних ситуаций, действий, положений»141.
Л. Леонова и Вс. Иванова в эти годы связывали дружеские отношения. В 1925 г. оба писателя близко общались с С. Есениным, а в январе 1926 г. вместе стояли у его гроба. В период написания Ивановым книги «Тайное тайных» Леонов работал над романом «Вор», публикация которого началась практически одновременно с выходом «Тайного тайных» (Красная новь. 1927. № 1–7). Оба писателя опять-таки в это время переписывались с Горьким. Оба в 1927 г., судя по письмам к Горькому, решали непростой вопрос о выборе своего пути в литературе. Декабрем 1927 г. датируется письмо Леонова: «Работать надо, делать вещи, пирамиды, мосты <…>. России пора перестать страдать и ныть, а нужно жить, дышать и работать много и четко. И это неспроста, что история выставила на арену людей грубых, трезвых, сильных, разбивших вдрызг вековую нашу дребедень (я говорю об мятущейся от века русской душе) <…>. Мучительно, страшно, но как необходимо нам такое вот исцеление от „мечты напрасной“ <…> и прозрение для того, чтоб увидеть мир реальный, жесткий, земной…»142. У Иванова: «Волею истории мы развиваемся позднее, чем наши учителя и наши отцы, ибо то, что нам суждено выучить и понять, превышает знания, понятия – и даже чувства – наших отцов – во много раз. <…> мучительно тяжело понять и поверить, что русский мужик не христианин, не кроткий Богов воин, а мечтательный бандит» (письмо А. М. Горькому от 28 октября 1927 г.-С. 340).
Но в 1925–1926 гг., когда писались «Тайное тайных» и «Вор», для обоих писателей «мятущаяся русская душа» оставалась предметом пристального художественного внимания.
В романе «Вор» имеются поразительные переклички с «Тайное тайных». Практически совпадают эпизоды в поезде, когда Митя Векшин («Вор») и Афонька («Ночь») пугаются робкого и осторожного прикосновения незнакомой старухи. Митя, в отличие от Афоньки, понимает, что «это мысль его сидит рядом и издевается»143, но и для героя Иванова все дальнейшее, что происходит между ним и странницей, сродни бреду или галлюцинации.
Авторское заключение о герое романа: «Он не имел силы ни просить, ни требовать, – он только звал на помощь теми последними словами, которые лежат у всякого про последний случай на тайном донышке души»144, – перекликается с обращением Богдана из рассказа Вс. Иванова «Полынья»: «Идти вперед по уброду было до обиды страшно…<…> „Господи!“ – прокричал он…»
Ряд совпадений можно продолжить.
Характерно, что после публикации первых частей романа «Вор» напостовский критик В. В. Ермилов противопоставил роман Леонова и «Тайное тайных»: «…нет никаких тайн в мире, кроме человека, и нет никакого смысла в мире без человека, ибо этот мир заново творит сам человек.
Так подходит к миру Леонов, и в этом существенное и ценное его отличие не только от Пильняка, но и от ряда других крупнейших писателей-попутчиков. Вс. Иванов, например, в своей последней книжке „Тайное тайных“ называет две части, на которые разделяется для него мир: благостная, спокойно-мудрая природа – и беспокойный, пачкающий ее мерзкими своими проявлениями, запутанный, жестокий, завязший в своих липких испражнениях человечишка»145.
Дождись критик публикации последней части романа «Вор», он смог бы прочитать леоновское опровержение его умозаключений: «Деревья, трава, луна… все это сытое, довольное. Ни в чем нет мучения. Мучится от неустроенности только один человек»146. Дочитавший роман до конца напостовец Ж. Эльсберг проведет в 1929 г. параллель между «Тайное тайных» и «Вором», указав на «уход от народнических настроений» обоих авторов и необязательность для них «крестьянского фона». «Разве напряженный интерес к сложнейшим ассоциативным сцеплениям, происходящим в человеческом сознании, разве утонченно-сенсуалистическое <…> восприятие мира не может быть скорее связано с психо-идеологией ушедшего в самоанализ индивидуалиста-интеллигента, чем крестьянина, занятого тяжелым физическим трудом»147, – напишет критик о «Тайное тайных» и в этом же ключе выскажется о леоновском герое: «Сам Митька <…> больше всего напоминает, несмотря на свое „рабоче-крестьянское“ происхождение, мятущегося городского интеллигента»148.
То, что Эльсберг отказал «темным» крестьянам в сложности чувств и ассоциаций, допустив, что «смятенная душа» может быть только у интеллигента, не удивительно для 1920-х годов. Удивительно, насколько, несмотря ни на что, оказались точны критики в своем понимании истоков этой смятенной души. Тот же Ермилов писал: «На войне „преклонился разум“ не одного Агейки (персонаж романа „Вор“. – Е. П.), а сотен тысяч Агеек, Петров, Васильев, Иванов. <…> И если в отношении социальной психики война явилась огромным революционизирующим фактором, то в отношении индивидуальной психики тех сотен тысяч людей, которые были оторваны от привычных условий жизни, война не могла не явиться причиной самых разнообразных и причудливых изменений и отклонений. Она опустошила многих и многих»149.
Тема опустошенной души и мотив духовной пустыни – ведущие в «Тайное тайных». В рассказе «Пустыня Тууб-Коя» есть внесюжетный фрагмент, специально отделенный Ивановым знаком звездочка (*) от основного описания событий и в некотором смысле представляющий прямое авторское слово: «Мы все не доходим. Было другое лето в Петербурге, где нет гор и где море за ровными скалами, построенными людьми. Все же и там дует ветер пустыни, свивает наши полы и сушит, без того сухие, губы. Птица у меня на родине, в Лебяжье, выводила из камышей к чистой воде желтых птенцов. Я не видал их. Об этом напомнили мне книги. Петербургские тропы ровные и прямые, а я все-таки недалеко ушел со своей тоской». Пустыня, в которой человек напрасно ищет свой путь, – лейтмотив в творчестве Вс. Иванова этих лет. Рассказ «Садовник эмира Бухарского» (1924) завершался тем, как уходит из дома и от сада, в котором трудился всю жизнь, Кара Дмитриев, покидая сына, ставшего деятельным членом партии и чужим родному отцу. Финал рассказа звучит вопросом в пустоту: «Какие и чьи солдаты будут пить вино с этих полей? Повезут ли они оружие, или на порогах своих домов будут избивать отцов или будут без ответа призывать их? Или опьяненные вином создадут новые дворцы и призовут сюда новых садовников? <…> Пустота и пустыня в сердце земли – в вине и в человеке»150. Сборник рассказов Вс. Иванова, вышедший практически одновременно с «Тайное тайных», имел символическое название – «Дыхание пустыни», и первый же рассказ «Шестнадцатое наслаждение эмира» представлял героя – «великого инструктора и странника» Ершова, на пути в никуда: «Опять горестно и одиноко запахли разлагающиеся отбросы, и Ершов тронул своего коня и сказал грустно: „Ну, что же, качай дальше, браток“»151. Зоркая критика образ пустыни связывала с содержанием обеих книг Иванова. В 1927 г. Н. Смирнов писал: «Художественная сила рассказов (не всегда равномерная) только резче отделяет их внутреннюю мрачность и скорбь. Конечно, мрачная их глубина – не беспросветна: в них можно отыскать и ощутить теплую и грустную боль за человека, прошедшего раскаленно-кровавый путь жесточайших войн, – но, все-таки, общее впечатление от книг талантливого писателя – впечатление духоты, напряженной безысходности и неразрешенности загадок человеческого бытия на земле <…>. Перед художником нашего времени, особенно перед художником крупным, стоит великая задача – соединение „вечных“, непреходящих тем с современностью, с ее благотворным дыханием, – отнюдь не „дыханием пустыни“, – с ее необъятными творческими силами, которыми движет величайшая энергия и жизнерадостность»152.
Глубинный поиск Иванова и направление его преодоления горьковского канона выявляются и при сопоставлении «Тайное тайных» с книгой о деревне К. Федина «Трансвааль» (1927). В 1927 г. один из ведущих деятелей РАПП Л. Авербах, говоря «о росте новобуржуазной литературы»153, причислил к ней произведения М. Булгакова, К. Федина и Вс. Иванова. «Трансвааль» и «Пастух» К. Федина «обязывают нас со всей серьезностью поставить вопрос о тех путях, по которым идет сейчас этот талантливый и значительный писатель», – сигнализировал критик. «Со всей резкостью и категоричностью» Авербах утверждал, что Вс. Иванов «отходит от революции»: «Иванов „Тайного тайных“ и „Дыхания пустыни“ – не Вс. Иванов „Партизанов“ и „Бронепоезда“»154. В заключение статьи констатировалось: «…мимо подобных недостатков мы, как организация, проходить не можем»155.
Не один Авербах в 1927 г. ставил рядом книги двух «серапионовых братьев» – «Трансвааль» и «Тайное тайных», создававшиеся практически в одно время: 1924 – начало 1926 г. О реакционности, пессимизме, физиологизме, упадничестве писателей написали «Правда» и «Комсомольская правда», «На литературном посту», «Молодая гвардия» и др. Истребительная критика не утихнет ни в 1928, ни в 1929 г. 14 декабря 1928 г. Федин записывал в дневнике: «В частности обо мне: Керженцев в газете „Читатель и писатель“ как о „правой опасности“; некто Исбах в фельетоне „Лицо классового врага“ в „Комсомольской правде“ <…>. Вместе со мной во врагах ходят Всеволод, Сергеев-Ценский, Леонов, Пильняк…»156.
С деревней К. Федин, как и Вс. Иванов, связан с первых лет творчества. В 1919 г., когда Иванов в Сибири работает над рассказами о мужиках-правдоискателях, Федин в письме к сестре, перечисляя города Европы, по которым он «ездит мысленно», роняет знаменательную фразу: «И мне чудится, что без деревни мне не обойтись. Ты знаешь ведь мою страсть к экспериментам – хочу поучиться и у мужика»157. В первые петроградские «серапионовские» годы оба писателя получают имя «народников». Едкое замечание И. Г. Эренбурга 1922 г. о «неблагополучии по части милого мужичка»158 у некоторых серапионов относится именно к ним. Однако русская деревня – отнюдь не серапионовская тема, и, наверное, не случайно в биографии двух братьев появляется человек и писатель, для которого серапионы, особенно младшие – Каверин и Лунц, «чужие», – И. С. Соколов-Микитов. «Вот – люблю тебя и Иванова <…>, стариков. Вы оба искренние»159, – писал Федину Соколов-Микитов в октябре 1922 г. В его письмах обозначено и принципиальное несовпадение с серапионовскими «учителями» – Горьким, Замятиным, Ремизовым: «Отчего они так сильны в описании отрицательного? А ведь Каратаев – Россия, Россия. Россия – в тысячу раз больше, чем горьковские Челкаши <…>. Душа моя тянется к другой России – к добру! к Пушкинскому»160. Обоих писателей Соколов-Микитов зовет к себе в гости, в деревню Кочаны: «Это не пильняковская Россия. Это русская (деревенская) Россия»161 (письмо Федину от 3 ноября 1922 г.). С августа по октябрь 1923 г. Федин гостит у друга впервые, затем не раз приезжает вновь. Можно с уверенностью сказать, что его деревенские рассказы середины 1920-х годов берут свое начало именно здесь.
Иванов, несмотря на приглашения: «Зимой я ожидаю тебя и Федина в наши Дорогобужские болота. Постараюсь угостить волчьей облавой и первачом»162 (письмо от 8 декабря 1926 г.), к Соколову-Микитову так и не собрался. Корни его деревни – в родной Сибири.
Помимо биографических, личных источников деревенских рассказов писателей, существовали внешние, общественные. Имя пастуха Прокопа, ставшего героем рассказа Федина «Мужики», впервые появится в письме Соколова-Микитова от 23 декабря 1922 г.: «Ты или меня не понял, или наврал я. Я знаю лишь наше всегдашнее русское, что было и будет: Алексей и Петр.<…> Когда станет „их“ царство – „нас“ упразднят за бесполезность <…> – будет сыто и безбольно, не станет горячей жажды. „Жизнь – организованная борьба“ (употребляешь ты их слово) – пулемет, газ, государство, революции, Америка <…>? Или Венера Милосская? И как сличить: культура и цивилизация? <…> С нами живет наш деревенский пастух Прокоп, с великою легкостью могущий отдать прохожему побирушке свою последнюю корку. Я, может быть, путаю, но для себя надо решить твердо: Прокоп ли, англичанин ли? Горьковский „цыпленок“ (помнишь, рассказывал Анненков) или мужичий „бздех“?»163.
Слова «культура» и «цивилизация» в письме не случайны. Весной 1922 г. в центральной печати разворачивается бурное обсуждение книги русских философов «Освальд Шпенглер и „Закат Европы“». Ф. А. Степун, С. Л. Франк, H.A. Бердяев, Я. М. Букшпан в составивших книгу статьях рассматривали «центральную мысль книги Шпенглера» (Бердяев) – вопрос о цивилизации и культуре. Цитируя утверждения Шпенглера о том, что «культура религиозна, а цивилизация – безрелигиозна», что «культура национальна, а цивилизация – интернациональна», что «цивилизация есть мировой город» и др., Бердяев пишет: «Нас, русских, нельзя поразить этими мыслями. Мы давно уже знаем различие между культурой и цивилизацией»164. Книгу Шпенглера 1917 г. религиозные философы комментируют в 1921 г., оценивая происходящее в Советской России: «Цивилизация через империализм и через социализм, должна разлиться по поверхности всей земли», которой угрожает, по Бердяеву, «цивилизованное варварство среди машин, а не среди лесов и полей»165. Причем, по мнению философа, цивилизация «мирового города начинает двигаться скорее <…> через социализм», и уповать остается лишь на появление в России «нового типа культуры»166.
Мысли философов в 1922 г. были прочитаны как контрреволюционные. Журнал «Красная новь» так откомментировал слова «сущность России есть обетование грядущей культуры»: «Но что за России – это вреднейшие эстетически воспринятые мраки Достоевского, русская экзотика, тяжелый, с трудом изживаемый груз азиатчины, повисший нам на плечи»167. В конце сентября «философский пароход» увозит антисоветскую интеллигенцию. А уже 5 октября в газете «Правда» в статье о «мужиковствующих» писателях Л. Д. Троцкий выразится однозначно: «Революция означает окончательный разрыв народа с азиатчиной, <…> со Святой Русью, <…> приобщение всего народа к цивилизации»168.
Несмотря на то, что и Ленин, и особенно Троцкий в 1921–1923 гг. постоянно употребляли слово «культура», речь, конечно, шла именно о «цивилизации». «Гигантская всемирно-историческая культурная задача»169, по Ленину, заключалась в том, чтобы «сделать население <…> цивилизованным, избавиться от той полуазиатской бескультурности, из которой мы не выбрались до сих пор»170. В условиях Советской России оппозиция Шпенглера неожиданно получила иное звучание: «цивилизация» и «культура» стали выступать как синонимы, которым противопоставлялась «азиатчина», т. е. традиционный уклад русской жизни.
В конце 1922 – начале 1923 г. в диалог с русскими религиозными философами и новой властью, культурой и цивилизацией включаются писатели. Свое слово скажут о проблеме Вс. Иванов в повести «Возвращение Будды» (1922), А. Платонов в статье «Симфония сознания» (1923), А. Толстой в повести «Рукопись, найденная под кроватью» (1923).
В 1925 г. Федин и Иванов переписываются с Горьким и делятся с ним своими замыслами о деревне. Хотя Федин и пишет Горькому: «…вы какой-то стороной суждений ваших о крестьянине очень правы», – он при этом отстаивает свою мысль: «Мне кажется, что будущая-то культура обопрется именно на крестьянина, и никак не на его „понукальщиков“. <…> Пресловутая крестьянская „темнота“, „косность“ и пр. – жалкие слова.<…>… дело-то тут кое в чем другом: мужики-то для нас – заграница, и понукание наше – простое незнание грамоты, непонимание основ культуры». По его мнению, надо лишь «дать возможность и время свободно развиться этой культуре»171. Ответом Федина на категоричное утверждение Горького: «Нет ли здесь ошибки у вас? Ведь „понукающие“ несут в жизнь именно живую, новую истину, и поэтому именно они являются творцами культуры. Именно – они, так всегда было, и будет» (письмо от 17 сентября 1925 г.)172, – станет книга «Трансвааль», где его понимание народной крестьянской культуры откровенно противоречит горьковскому.
Песня «Хороша наша деревня – Кочаны!» поставлена эпиграфом к рассказу «Мужики». Плясунья и песенница Проска «нарубает скороговорку девичьей песни»173. Через песню описывается подготовка к свадьбе и свадебный обряд: «Изба кружилась в вихре песен, топота и свиста, в вихре красных, голубых, малиновых повязок и лент, в блеске стеклянных бус, серебра кокошников, в пламени кумача» (С. 62) Восхищение автора вызывают танцы Аксюши и Тани («Тишина»), Христа («Утро в Вяжном»). Народный поэтический космос представляет описание гуляния в Вяжном: «Белая береста стволов и белые девичьи платки кучились в изумруде зелени, точно облака в небе, так что не было конца земле и начала небу» (С. 175).
Этой поэтичной народной культуре противостоит культура, принесенная городом. О своеобразном видении Фединым современной деревни газета «Правда» напечатала возмущенную статью критика-марксиста В. М. Фриче: «Что же увидел автор книги „Города и годы“ в современной деревне? <…> появление нового типа – мужика, побывавшего в городе, красноармейца, вернувшегося в деревню. Мы привыкли думать, что он <…> является в деревне проводником советских начинаний». У Федина не так. Это «насадители новой культуры, однако культуры только в смысле новых плясок, новых половых отношений и в конце концов хулиганской психологии»174. Близкое фединскому противопоставление деревни и города критики обнаружили и в книге Иванова «Тайное тайных».
Зловещий образ «понукальщика» представлен Фединым в повести «Трансвааль». Слово «культура» не сходит у Сваакера с языка: «…я иностранец, я понимаю культур, долг культурный человек» (С. 111), «Мы культурный люди, мы обязаны править руль событий» (С. 112). «Этот молоточек я начинал весь мой маленький культурный дело, мой Трансвааль!» (С. 143) и т. п. Показательно, что Сваакер не умеет петь: романс «Над озером тихая ш-шайка летит…», исполненный им на «Культурном, музыкальном и вокальном вечере для трудящихся граждан-крестьян» (119–120), вызывает у мужиков хохот и насмешки.
В основе сюжета повести лежал реальный факт – история некоего Юлиуса Саарека, создавшего в деревне Павлиново предприятие «Трансвааль-жернов». Федин узнал о Саареке в 1923 г., в свой первый приезд на Смоленщину. Сама действительность подарила писателю материал для масштабного обобщения. В описание личности и деятельности реально существовавшего человека Федин внес существенные дополнения. Из статей, печатавшихся в периодике 1928 г., известно, например, что Саарек был «голубоглазый, коренастый, с бритым умным лицом»175. В портрете фединского героя поражает прежде всего искусственность, сделанность: вставной стеклянный глаз и вставные челюсти. Не случайно «картавый, лысый, необычный человек» (С. 97) кажется мужикам «выдуманным, а не настоящим» (С. 102). Реальный Саарек построил мельницу, провел радио, организовал телеграф, почту, дал деньги на постройку нового здания исполкома, новой школы. Федин придает действиями своего героя масштабность «пришествия» (С. 102): «Вильям Сваакер, съездив <…> в город, привез оттуда с собой революцию» (С. 103). Именно он разъясняет мужикам вопрос о власти: «Вот – ты! Ты боронишь, косишь, пахаешь? Вот ты – власть! <…> Ты – кузнец? <…> Ты – власть! <…> Мой рука мозольна – я власть, да!» (С. 104), о войне и земле: «…новый власть одной рукой будет кончать война, другой рука будет разделять наша матушка-кормилица земля» (С. 106), о национальной политике. Он отрицает Бога и планирует электрификацию всей страны: «Культур!.. Сваарек будет делать электричество в каждой деревне» (С. 143).
Далеко не случайно у критиков по поводу героя Федина возникали серьезные сомнения. Лишь некоторые определили Сваакера как «сельского кулака»176. В статьях наиболее проницательных критиков деятельность Сваакера была понята более адекватно: «Жуткая фигура Сваакера расширена автором до символических размеров нового варяга, пришедшего покорить Россию», – писал Ф. Жиц, назвавший повесть Федина «одним из самых „пессимистических“ художественных документов за время революции»177.
В 1925 г. Федин, как и Иванов, уловил страшную угрозу живой народной культуре, идущую от «понукальщиков», угрозу расчеловечивания национальной жизни. Об этом же он напишет 10 февраля 1925 г. М. Зощенко в письме, посвященном повести «Страшная ночь», герой которой с ужасом предчувствует изобретение «электрического треугольника»: «Мне кажется, что никто не сумел до сих пор так потрясающе зло и так грустно сказать об ужасе нашего времени, как ты в своем Борисе Ивановиче Котофееве. Конечно, нам ничего не осталось, как только бежать на колокольню и бить в набат»178.
Отдельная и самостоятельная тема – внутренняя связь книги «Тайное тайных» с творчеством новокрестьянских писателей, прежде всего – С. А. Есенина.
В уже цитированном нами плане автобиографии Иванов записал: «Памятник Пушкину. Легенда о Есенине. Здесь „Тайное тайных“» (ЛА). Откомментировать эту запись можно по-разному, но несомненно одно: в сознании самого писателя книга «Тайное тайных» соединялась с именем и судьбой («легенда») С. Есенина.
С творчеством поэта Вс. Иванов познакомился задолго до личной встречи в Москве в 1923 г. В среде сибирских литераторов, с которыми Иванов общался в 1916–1919 гг., были поэты, близкие Есенину и по тематике – крестьянская Русь, и по образной системе, во многом опирающейся на фольклорные традиции. Один из них – земляк Есенина Иван Ерошин. Он оказался в Сибири в 1918 г. и исходил пешком весь Алтай в поисках «Нового Китежа». Близок Иванову был и Александр Оленич-Гнененко, автор поэмы «Калики перехожие» (1916): «Шли калики перехожие / От двора и до двора/ Золотые и похожие / Половели вечера… / Пали щедро росы синие / На душистую гречу. / Кто-то теплил в Божьей скинии / Воску ярого свечу…»179. Одна из центральных в крестьянской поэзии оппозиций – противостояние железной цивилизации и Матери-Земли – раскрывается в поэме в диалоге Богородицы со странниками. «По лесам, где ели скошены / Бродит суте-мень да мга. / Смрадным углем запорошены / Почернелые луга. / Благодатную, цветущую, / Пожалейте Землю-Мать»180, – обращается к людям Матерь Божия. Темы земли, крестьянского труда были ведущими в творчестве еще одного сибирского поэта, К. Худякова, близкого друга Вс. Иванова по совместной работе в 1916–1917 годы в типографии г. Кургана. Ему Иванов подарил книгу С. Есенина «Радуница» с надписью «Кондратию Худякову для поминовения Вс. Иванова. 21.11.1917 г.»181 Добавим к перечисленным фактам литературной жизни, что вопрос: «Кому земля достанется?» – был предметом широкого обсуждения в той общественно-политической ситуации, в которой оказались в 1917-1920-е годы сибирские литераторы. Из автобиографии Иванова известно, что он в 1917 г. вступил в партию эсеров, членом этой партии был Худяков, бывший секретарем редакции эсеровской газеты «Земля и труд», где печатался сам и публиковал рассказы Иванова. В 1918–1919 гг. лозунг «Великой Крестьянской Демократии» выдвигался правительством адмирала Колчака в противовес «всеобщему по-равнению» большевиков. Какими бы ни были политические воззрения молодого Вс. Иванова, вопросы о судьбе деревни при меняющихся властях и политиках являлись для него достаточно значимыми. Свидетельство тому – произведения этих лет, где крестьянская тема одна из ведущих: «Вертельщик Семен», «В зареве пожара», «Мать», «Купоросный Федот» и др.
Переезд в Петербург в 1921 г. и общение с «серапионовыми братьями» на какое-то время существенно меняют литературные пристрастия Вс. Иванова в сторону, можно сказать, большей «литературности». В 1920 г. умирает от тифа К. Худяков, прерывается переписка с Сибирью и, соответственно, ненадолго отходит в сторону «есенинская» лирическая тональность произведений Иванова. Переезд в Москву в 1923 г. стал для писателя во многом возвращением к главным темам сибирского периода, а общение с С. Есениным и другими новокрестьянами дало возможность по-новому прочитать уже знакомые Иванову темы. В наибольшей степени это возвращение отразилось в «Тайное тайных».
С художественным миром Есенина связано в «Тайное тайных» многое: сюжетные мотивы, характеры, типы героев и т. п. Так, сюжетная линия рассказа Иванова «Плодородие» – обман мужиками городских властей, – возможно, восходит к одному из эпизодов поэмы Есенина «Страна негодяев» (1922–1923), где Рассветов во время спора в поезде, восхищаясь богатствами Сибири, в частности золотоносными жилами, рассказывает, как в Америке, на Клондайкских золотых приисках, несколько мошенников, купив немного золотого песка, расстреляли его из ружей в горах и представили как открытую ими золотоносную жилу. Заключительная сцена рассказа «Жизнь Смокотинина» содержит почти прямые переклички со знаменитыми строками Есенина: «Чтоб за все за грехи мои тяжкие, / За неверие в благодать / Положили меня в русской рубашке / Под иконами умирать»182 («Мне осталась одна забава…», 1923). Есенинская лирическая маета, с «отчаянным хулиганством», отказом от веры отцов и тоской без нее – эти и другие настроения присущи героям рассказов «Тайное тайных». Слова Номаха из поэмы «Страна негодяев»: «Я потерял равновесие…/ и знаю сам – / Конечно, меня подвесят / Когда-нибудь к небесам…»183 – мог бы, наверное, повторить любой из них.
С Есениным и шире – с новокрестьянской поэзией – связана и одна из ключевых тем книги «Тайное тайных» – тема матери. Один из первых рецензентов «Тайное тайных» писал, что в «Яицких притчах» и «Бегствующем острове» Иванов решился на «интересную и героическую постановку»184 темы матери. Природу «героизма» критик не уточнял и ограничился просто констатацией. «Художник подошел к хаосу не затем, чтобы его оправдать, а чтобы его преодолеть, как преодолевает мрак в своей душе необыкновенная казачка Марфа („Яицкие притчи“), идущая солдатом в красные ряды, вопреки казни пятерых сыновей для спасения шестого, – отметил еще один критик, С. Пакентрейгер, рассмотревший тему матери у Иванова в горьковском ключе. – Эта притча, несмотря на грустный конец (шестой сын оказался недостоин подвига матери), дышит, как море, освежающими ветрами революции, переродившими не только мать-казачку, но и того безымянного сказочника, от имени которого Иванов и передает легенду революции»185. Однако тема взаимоотношений матери и сына решена Ивановым в «Тайное тайных» скорее полемично по отношению к его учителю Горькому, для которого «правда» была связана с детьми и дорогой, выбранной ими. В этом смысле тяжелым раздумьям Иванова гораздо более близки поэмы и стихи С. Есенина и Н. Клюева, проза А. Платонова и М. Шолохова, которые «в 20-е годы <…> внесут в развитие вечной для литературы темы „отцов и детей“ и „блудного сына“ как центральный ее эстетический и этический центр образ матери»186.
Истоки этой темы в творчестве Вс. Иванова обнаруживаются в его ранних произведениях. Показателен рассказ Иванова «Мать», выявленный нами в фонде Антона Сорокина (ГИАОО). Приведем фрагмент из этого неизвестного текста – диалог повествователя и матери, проводившей сына на войну:
«Я попробовал утешить ее:
– Ничего не сделаешь, бабушка, – так нужно.
– Знаю нужно, а жалко. Умной парень-то, башкавитой. <…> Там, грит, не война идет, а грабиловка. Всех от мала до велика обдирают…
– А ребята что?
– Ребята не верют. Народ нынче безверный идет – ничему не верит. Спаситель придет, и не поверит.
– Почему же так?
– А не знаю. Людей должно много убили, верность в человека-то потеряли. Убил – и нету. Легко убить-то, ну значит и в слова не верют, потому из человека эти слова.
– Пожалуй… Старушка помолчала.
– Не верют. В людей не верют, в Бога не верют – не знаю, как жить будем…»187.
Образ матери, с горечью видящей неверный путь, на который вступили дети, оформляет своеобразный цикл «материнских» мотивов и сюжетов лирики С. Есенина, начиная от знаменитого «Письма матери» (1924); стихотворений и целой поэмы Н. Клюева («Песнь о Великой Матери», 1932). Совсем не в горьковском ключе написан диалог матери и сына в романе Л. Леонова «Вор»: «…Митька стал рассказывать матери, как это случилось. Склонив голову в черной косынке, она слушала Митьку, и губы ее шевелились. Митька даже различил слова: вас Бог накажет!..»188.
В «Тайное тайных» голос матери, глубже других чувствующей гибельность того пути, на который вступили дети, начинает звучать с рассказа «Ночь», где Марья Егоровна, обращаясь к сыну, нарушившему традиционные основы крестьянской жизни, «громко и внятно, будто на целый мир», произносит: «О, Господи, жисть-то как переклубилась! И ты туда же!» В «Яицких притчах» материнскую правду высказывают две героини. Молитва матери включена Ивановым в притчу «Про двух аргамаков»: «Я поплачу, поплачу, свечку перед образом зажгу: „Утиши, Господи, их сердца“, – молю». «Яицкие притчи» имеют общий финал, созданный Вс. Ивановым в традиции народного плача – причитания: «Сердце-то у меня с того времени будто полынью обросло… Все-то времечко на нем горечь, все-то времечко на нем слеза не высыхает…». В финальных строках рассказа появляется образ плачущего месяца. Вспомним у Есенина: «Как прежде ходя на пригорок, / Костыль свой сжимая в руке, / Ты смотришь на лунный опорок, / Плывущий по сонной реке»189 («Заря окликает другую…»).
Говоря о есенинском контексте «Яицких притчей», следует назвать также поэму Есенина «Пугачев» (1922). Рассказы Иванова и по месту действия – Урал (Яик), и по упомянутым историческим событиям («наши степи уральские – еройские степи. Разин тут и Пугач гуляли…» – «Про казачку Марфу»), и по соотнесенности времен («…пришла намеднись воля. <…> по городу ходят, на манер пугачевского бунта, солдаты» – «Про двух аргамаков») непосредственно связаны с поэмой Есенина о Пугачеве, имя которого для автора ассоциировалось с послереволюционной эпохой. Разор в деревне, и в целом в России, осмыслялся в поэме в библейских символах: «И теперь по всем окраинам / Стонет Русь от цепких лапищ. / Воском жалоб сердце Каина / К состраданию не окапишь»190. К библейской истории Каина и Авеля восходит история братьев Егора и Митыпи из притчи Вс. Иванова «Про двух аргамаков».
На новокрестьянский поэтический космос идеологически и стилистически ориентирован рассказ «Поле», которым Вс. Иванов откликается на идущий в 1920-е годы «спор о мужике». Рассказ также возвращает нас к философско-историческим размышлениям молодого Иванова: «…погибнет народ сибирский, не сделав великое. Нужно нежно отнестись к земле, ибо это мать ваша; но вы не сыны ее и не может быть она матерью вам, потому что вы люди волки, люди пасынки земли…»191 – пророчествует один из героев рассказа «Сон Ермака». Каллистрат Ефимович из «партизанской» повести «Цветные ветра» «скучает по вере», ищет ее у христиан, у магометан, у большевиков, в лесном скиту и находит – на пашне. Частью могучей Земли предстает в лирических отступлениях повести человек: «Земля мычит, течет слюна, жует снега Земля. Дышит в сердце человека запахами вечными, нерукотворными.
Осилишь ли человек?
Не осилишь!
Плечи, как взбороненная земля. Грудь, как стога свежие. Голос в лугах теряется»192. На земле и находит человек истинную веру. Финальный эпизод повести символичен: Каллистрат Ефимович на поле, за плугом, развязывает мешок, достает ковригу: «Из мешка густо пахнуло на Павла хлебом»193.
Земля, поле, трава в «Цветных ветрах» Иванова, как и ветра, теплые, цветные, радостные: «на земле тепло», «обнимите дожди поля – и радуйтесь», «Вот горсть земли моей – цветет!» и т. п. Такими же предстают они в рассказе «Поле»: «Солнце стояло в теплом красном круге – смотрело, как ровно и грузно падают в землю большие желтые зерна», «пашня походила на зеленую коломенскую скатерть».
Для критиков 1920-х годов была очевидна близость поэтики и миропонимания Вс. Иванова и С. Есенина. А. Воронский писал в 1924 г.: «У Есенина есть немало поэтических последователей, подражателей. Достаточно сказать, что проза Всеволода Иванова очень сродни „неизреченной животности“ и образности Есенина»194. Как и в ранних стихах С. Есенина, в ивановском «Поле», если воспользоваться словами критика, «деревенский уклад и деревенский быт взяты <…> исключительно с идиллической стороны. <…> В поле „вяжут девки косицы до пят“, <…> сохнет рожь, не всходят овсы: нужен молебен. Все тихо грезит, все издревле отстоялось, прочно осело. <…> От этой неподвижности хаты, овины, поле, речки, люди, животные кажутся погруженными в полусон, в полуявь»195. Описание посева в рассказе «Поле»: «Когда расцвела черемуха, начали сеять…» – отчасти перекликается со строками Есенина: «Сыплет черемуха снегом, / Зелень в цвету и росе. / В поле, склоняясь к побегам, / Ходят грачи в полосе»196. Отзвуки «стальной конницы» слышны в рассказе Иванова, как и в лирике Есенина: «черные обгорелые лесины» по краям поля, напоминающие «стаканы с кирпичным чаем», возвращают читателя к поезду, где Милехин пил чай с товарищем, и к другому поезду, в котором тоже пили чай, а Милехин, возвращаясь в деревню, прятался два дня под лавкой. «Идиллический» мир в конце рассказа разрушен: возвращение героя домой в «святое время» не состоялось – его арестовывают как дезертира.
Несмотря на отсутствие «висельных» мотивов, сцен убийства и насилия, рассказ «Поле» вызвал у критики столь же злобное негодование, как и книга в целом. Уничижительные сентенции Ермилова о «завязшем в своих липких испражнениях человечишке» относятся именно к мирному «Полю».
Возмущение критиков понятно: уже опубликованы «Злые заметки» Н. Бухарина, где осуждена «есенинщина»; праведный гнев «бодрых людей, в гуще жизни идущих храбрых строителей» обрушился на «внутреннюю величайшую недисциплинированность, обожествление самых отсталых форм общественной жизни»197. Строки Н. Клюева «Маета – змея одолела / Без сохи, без милого дела»198 (поэма «Деревня», 1927) в это время расценивались как проявление «темного биологического инстинкта». Что касается работы крестьянина в поле, то о ней предлагалось, видимо, писать примерно так: «Хорошо в лучах на сенокосе, / Если ветер по полю разносит / Крепкий запах кулеша и хлеба… / Мы неделю на поемах жили, / И тюремной клеткой были / Нам земля и голубое небо»199.
«Греза мужика о земле»200 – так сформулировал сам Вс. Иванов основную мысль рассказов «Полая Арапия» (1921) и «Дите» (1921) – определила еще одну важную тему книги «Тайное тайных» – тему праведной обетованной земли, так же, как и у новокрестьянских поэтов, представленную в традициях народного утопического идеала.
Первые послереволюционные годы в литературе вообще отмечены возвращением к жанру утопии: «Инония» С. А. Есенина, «Белая Индия» Н. А. Клюева, «Ладомир» В. Хлебникова, «Голубые города» А. Н. Толстого, «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» А. Чаянова и др. Стремясь увидеть в революции воплощение крестьянских ожиданий, традиционно выраженных в русской народной культуре символическими образами сокровенного Китеж-града, Индийской земли, Беловодья, новокрестьяне широко использовали их в своем творчестве, «…в революции они усилились видеть прежде всего начало осуществления чаяний, запечатленных в образах „Китеж-града“, „мужицкого рая“»201, – отмечает С. Г. Семенова. Однако буквально через несколько лет эти образы предстанут в творчестве новокрестьянских писателей в трагическом свете – как знак обманутых надежд. Так, Есенин в «Песни о великом походе» (1924) сопоставляет представление о мужицком рае: «За один удел / Бьется эта рать. / Чтоб владеть землей / Да весь век пахать. / Чтоб шумела рожь / И овес звенел. / Чтобы каждый калачи / С пирогами ел»202, – с реальностью: «Опустели огороды, / Хаты брошены. / Заливные луга / Не покошены. / И примят овес, / И прибита рожь. / Где ж теперь, мужик, / Ты приют найдешь»?203. В 1928 г. Н. Клюев в поэме «Погорельщина» создает реквием стольному граду Лидде на «славном Индийском поморий»: «Где ты, город-розан, – / Волжская береза, / Лебединый крик / И, ордой иссечен, / Осиянно вечен / Материнский лик?»204.
Тема обетованной земли не раз звучала в ранних произведениях Вс. Иванова. Первое упоминание мы находим в рассказе «На горе Иык» (1917): «Голубые кони бросили шамана и не слушаются его, и дух, благословлявший их, ушел от белого хребта гор Абакана, ушел от отдыха в тени березы с червонными листьями. <…> Ничего не осталось, ничего нет – сглодало железо ваших ружей нашу свободу, а духи скрылись. Помню, <…> приходили тут ваши люди, да со значками, разорвали землю и кровь выпили… <…> Кровь побежала, земляная кровь – отняли у нас землю – хотят пустить огненные телеги… <…> Все наши ушли туда <…> к людским коробам, – деньги утащили их»205. К русским народно-утопическим легендам у Иванова восходит описание «золотого века», решение тем земли – духовной опоры, утраченной народом; власти «железной» цивилизации, противопоставленной природному, естественному бытию среди «берез с червонными листьями», и другие.
О сокровенном Граде, о богатом Индийском царстве, о благословенных островах грезят герои ивановских рассказов 1920–1922 гг. (сборник «Седьмой берег», 1922). В рассказе «Полая Арапия», написанном Ивановым после поездки летом 1921 г. в голодные Поволжские губернии, звучат слова деревенской пророчицы: «…за Сыр-Дарьей открылась земля такая – полая Арапия. Дожди там, как посеешь – так три недели подряд. И всех пускают бесплатно, иди только. Земель много <…>. Идите все, кто дойдет песками, через сарту, оттедова по индейским горам. На тридцать семь лет отверзлись врата. Кто первой поспеет, тому близкоземлю вырежут. Трава там медовая, пчелиная»206. С мечты уйти «за Китай и Индию в синие непознаваемые страны» начинается рассказ «Дите». В душе мужика Кузьмы из рассказа «Жаровня архангела Гавриила» живет «одна только мысль о чудесном городе Верном»207, именно она определяет путь героя: «Иду в город Верный, который под водой плывет»208. Отметим характерную черту ивановских утопических исканий: через традиционные народные идеалы проверяется в рассказах писателя утверждающийся в России новый идеал – «Коммуния». «Над Кузьмой ухмылялись – верит, пущай верит, большевицких неизвестных вер человек»209 – «Жаровня архангела Гавриила». В рассказах Иванова 1920–1922 гг. мечты о новой утопии сопровождаются тревожными вопросами и сомнением. «Не имеет права человек свет перестраивать без объяснения своей жизни. <…> И веровать в вас нечего, веровать в Бога надо… а у вас и душа-то разграфленная. Никакой цены такой душе нету! У нас в России таких правителей не было»210, – обращается дьякон Полугодье к упродкомиссару (рассказ «Глиняная шуба») и получает недвусмысленный ответ: «Я ведь правитель самодельный и человек жестокий»211.
Народная утопическая легенда является философско-историческим ме-татекстом повести «Бегствующий остров», завершающей книгу «Тайное тайных». У образа воссозданной Ивановым раскольничьей обители Белый Остров не один источник. Прежде всего это легенда о Беловодье, происхождение которой напрямую связано со старообрядцами. Вс. Иванов хорошо знал быт и веру раскольников. В автобиографической статье «О себе как об искусстве» (1923) он вспоминал спор о вере во время Гражданской войны в Сибири с одним «широкобородым», как кедр, красным командиром: «И пошел у нас тут спор о вере – старожил оказался, кержак-раскольник. Веру я мужицкую знаю крепко <…>. Пили всю ночь, ширококостная баба пекла блины, и спорили мы о треперстном кресте»212.
Рассказывая о Белом Острове, писатель акцентирует его реальность. Так, бегуны, принимавшие активное участие в создании легенды о Беловодье, «по-крестьянски жаждали царства Божьего на земле» и «„грядущему Граду“ придавали вполне реальное практическое выражение»213. Об этом свидетельствуют также известные в истории многочисленные побеги крестьян в Беловодье. Беловодье было «земным царством», с идеальным строем общественных отношений; без светской, но с праведной духовной властью, без попов, осуждаемых в народе за стяжательство, без «татьбы и тяжбы». Несмотря на изобилие земных благ, оно не было царством веселья и безделья. Жизнь в Беловодье проходила в молитвах и служении.
В соответствии с народной легендой и создавал свой Белый Остров Вс. Иванов. В 1685 г., спасаясь от преследований царских властей, некий «юный мудрец» Семен Выпорков возглавляет бегство раскольников на Белый Остров, располагающийся у Иванова между крепостями Тюменью и Тобольском. Живут раскольники на горе Благодати в пещерах, схимниками-пустынниками, или в кельях, на полянах. Возглавляет общину кроткая старица Александра-киновиарх. Упоминание в повести Вс. Иванова «поморского мудреца Денисова» придает описываемым событиям еще больше связи с реальностью.
С нескрываемым интересом всматривался писатель в созданную им на основе реальных народных упований утопическую модель. Уже семь лет как в России, на совершенно иных основаниях, строилась иная социальная утопия, черты которой также отражены в повести. Так, в главах XIII–XIV описан послереволюционный Тобольск: «Улицы-то широкие, как елани, дома сплошь кирпичные, гладкие, а среди них народишко спешит, подпрыгивает <…> город-то каких-нибудь пять верст, а спешки у людей на тысячу»; «По лику – Русь, а по одеже – чисто черти <…>. А девки стриженые, юбки в насмешку над верой колоколом сшиты»; «Двери в Совете табачищем пропахли. Стоят в каждую комнату люди в затылок. Ругаются, плюются, вонь от них».
Противопоставление двух утопий, двух вер в повести Вс. Иванова очевидно. Сложность в том, что далеко не однозначна авторская позиция, прояснить ее помогает мотивный анализ повести и литературная традиция, которой следовал Вс. Иванов.
Мотив «блудного пира» вводится автором не только в характеристику тобольского совета, но и в описание жизни Белого Острова: рассказ об опившихся пустынниках в доме постельной дряпки-Авдовки (гл. 12). Правда, по отношению к старцам автор более снисходителен, чем к «чертям» и «голору-ким девкам» из Тобольска. Согрешившие пустынники «всем миром встали посреди улицы на колени <…> три дня молились. От такой молитвы показалось им, что образа просветлели, улыбнулся им кроткий лик Христа, – все мы, дескать, люди, все человеки». Но, тем не менее, и для читателя, и для писателя очевидно, что жизнь в пустыни далеко не так благочестива, как в легендарном Беловодье. При этом под сомнение ставится даже не столько «праведность» земли, сколько праведность людей, стремящихся к ней и не умеющих жить по ее законам.
Авторскую позицию проясняет и сопоставление «Бегствующего острова» с известными Вс. Иванову повестями сибирских крестьянских писателей – «Белым скитом» (1914) А. П. Чапыгина и «Беловодьем» (1917) А. Е. Новоселова. От них повесть Иванова отличает прежде всего то, что у названных авторов Беловодье предстает как мечта о «божьем береге», но не как реальное, земное царство. И «Белый скит», и «Беловодье» заканчиваются на том этапе страннического пути героев, когда звенят невидимые колокола и среди вод открывается тихая обитель.
Однако есть важные точки соприкосновения у повести Иванова и произведений его предшественников. Чапыгин вводит мотив смертного греха героя – пролитой крови (Афонька Крень убивает брата). Тот же мотив появляется в кульминационной сцене повести Иванова «Бегствующий остров», где встреча защитников старой и новой веры – старообрядцев и комиссара Запуса, – начавшись с непонимания, завершается смертью раскольника Гавриила. И герой Чапыгина, Афонька Крень, ищущий Бога, но в то же время сомневающийся в нем, близок утратившим веру героям книги Иванова «Тайное тайных». В отличие от этих персонажей Панфил, главный герой повести Новоселова «Беловодье», верен отцовскому завету и древлему благочестию до конца: ему единственному, не отступившему от своего пути, открывается озеро с островами, скитами и храмами. С этой повестью у Вс. Иванова иные точки соприкосновения. И он, и Новоселов противопоставляют живую жизнь, с любовью и материнством, аскетическому служению истинной вере. У Новоселова любящие друг друга Иван и Акулина отказываются идти в Беловодье, хотят вернуться в мир: жить «по-людски» в деревне, ладить хозяйство, растить детей. В повести Вс. Иванова в мир бежит с Белого Острова дочь старицы Александры Саша, чтобы рожать «румяных детей», которых не бывает в скитах. Да и сама Александра-киновиарх с испугом и болью отмечает, что «лица (у раскольников. – Е. П.)строгие, будто у мертвецов, щеки провалились, и будто бороды-то чужие».
Очевидно, что слова «старая» и «новая» вера имеют у Вс. Иванова, как и других его современников (Н. Клюева, С. Клычкова, А. Платонова, Л. Леонова, А. Толстого и др.), символический смысл и связаны не только с расколом XVII в., но главным образом с наблюдаемым ими в XX в. «расколом» традиционной русской жизни. Но если, скажем, для Н. Клюева грядущая судьба его единоверцев однозначно безысходна, «индустриальные небеса» новой Советской России, под которыми «нет ни святых, ни злодеев», столь же однозначно неприемлемы и им противопоставлены «Матерь-Русь» и «Китеж родной» как поруганные, но все же незыблемые ценности, то у Вс. Иванова, судя по всему, позиция иная. Новая вера и новая, замешенная на крови утопия были для него сомнительными с самого начала. Однако принимать за «золотой век» «Избяную Русь» и ратовать за создание на прежних основах крестьянской утопии он тоже не готов, хотя 1924-1925-е гг. – это время, когда писатель больше чем когда-либо искал основания для такого возвращения и возрождения национальных традиций правды, справедливости и праведности. Искал, но, видимо, не находил – ни в самой реальности… ни в самом себе.
Отраженный в книге «Тайное тайных» утопический идеал русского народа вновь возвращает нас к «спорам о мужике» 1920-х годов. Вопреки представлению о русском крестьянине как о темном, невежественном мелком собственнике, движимом стихийными биологическими инстинктами, обращение Вс. Иванова к утопическим легендам, в которых выразились народные представления о Правде – истине, справедливости, праведности и безгрешности, стало одним из направлений раскрытия таинственной и глубокой народной души.
Наконец, назовем еще один важный мотив книги «Тайное тайных», сближающий ее с произведениями новокрестьянских писателей, – мотив сокровенного слова.
К слову, «как к средоточию, сходятся все тончайшие нити родной старины, все великое и святое, все, чем крепится нравственная жизнь народа»214, писал выдающийся русский филолог Ф. И. Буслаев. Люди, пришедшие к власти в России после революции, это хорошо понимали. Поставленная грандиозная задача – оторвать «нового человека» от прошлого – определила и сущность процессов, происходящих в советской языковой культуре. «Языковые переживания» (выражение A.M. Селищева) 1920-х годов отразились в дискуссиях о русском языке первого советского десятилетия215. «…В этих новых словах нет ощущения так называемой внутренней формы, – писал последователь А. А. Потебни филолог и критик А. Г. Горнфельд о языковой ситуации в современной России. – Наши слова обозначают нечто потому, что нечто значат; иногда их этимология <…> нам ясна, иногда темна; но мы знаем, что она есть, что слово имеет корень, из которого выросло. У ЦИКа же нет корня»216.
К вопросу утрат в языке и в сознании человека не раз обращался А. Се-лищев: «Характерной особенностью социально-языковой жизни последних лет является быстрота и интенсивность распространения различных языковых черт, исходящих от авторитетных коммунистических и советских деятелей. Но вместе с этим распространением происходит неизменно ослабление и утрата их эмоциональной значимости»217. Частое использование форм превосходной степени («широчайшие массы, самым решительным образом, колоссальнейший сдвиг, ценой величайшей и величайшей экономии, самые гнусные и фантастические инсинуации»), эпитетов со значением колоссальности («спекуляция достигла неслыханных размеров, чудовищный вздор, титаническая воля» и т. п.)218, призванное подчеркнуть масштаб эпохи и происходящих перемен, приводит к обратному результату: слова утрачивают образность, эмоциональную силу, становятся пустыми речевыми штампами.
Отношение к новым словам передано во многих произведениях 1920-х годов: «В мозгу по букве вылезло и кривой лестницей вытянулось иностранное слово (они за последнее время вязались к нему) а-с-с-е-н-и-за-то-р. Срубов даже усмехнулся. Ассенизатор революции»219; «„Промысел – это, брат, надлежащее мероприятие“, – ответил Шариков не своей речью. – „И этот, должно, на курсах обтесался, – подумал Пухов. – Не своим умом живет: скоро все на свете организовывать начнет – беда!“»220 «Старая гнусавая шарманка / Этот мир идейных дел и слов»221.
Хранителями народного русского слова в литературе 1920-х годов оставались новокрестьянские писатели. Еще в 1918 г. в статьях «Отчее слово» и «Ключи Марии» С. Есенин отмечал, что «современное поколение писателей уже не имеет представления о „тайне <…> образов“, хранителем которой, пусть „расточительным и неряшливым“, была „полуразбитая отхожим промыслом и заводами деревня“»222. О «тайном слове» в середине 1920-х годов напоминал новым читателям С. Клычков в романе «Чертухинский балакирь» (1926): «Покорил, де, Спиридон страшного зверя, больше тайным словом и звериным псалмом из книги „Златые уста“. В этой самой книге на каждый случай жизни и на всякого зверя, и гада, и на лихого человека, и на всякую какая ни на есть лихота и болесть – было свое утешение и оговор! Вот оно слово какую силу имеет… От слова весь мир пошел»223.
Мотив сокровенного тайного слова появляется уже в ранних рассказах Вс. Иванова. В рассказе «Рао» (1916) дух гор обращается к мудрецу Рао, потрясенному страданиями людей и мечтающему помочь им: «Я поведаю тебе тайное слово, которое заставит людей вечно помнить заветы любви <…>. Оно сольет души людей воедино <…>. Придет человек – он будет способен сказать слово, – он передаст людям его в письмах, – так, что они никогда не забудут его, ибо слово это вечно»224. Герой другого раннего рассказа «Сын человеческий» (1917) входит в горящий город, где обезумевшие люди мечутся и плачут: «Я им сказал спокойно, совсем спокойно среди криков и воплей. И они услышали тихое слово, ведь мгновения спокойствия только и можно почувствовать во время урагана». Герой становится пророком в городе, и люди слушают его слова как «музыку тайны». Однако проходит время, и слова теряют свою значимость: люди «слушали и через минуту забывали». В конце рассказа проливший кровь, сам охваченный злобой, пророк утрачивает свой дар: «Я не могу петь свет, потому что сам стал тьмой».
В 1921–1923 гг. среди «серапионовых братьев» Вс. Иванов занимал устойчивую позицию лидера так называемой восточной группы (Н. Никитин, К. Федин, М. Зощенко), ориентированной не на фабулу, динамическую интригу, а именно на слово – народную речь, с ее оригинальностью, своеобразием звучания, интонации. Критики увидели в этом школу A. M. Ремизова и Е. И. Замятина, но очевидно, что дело было не только в конкретном литературном влиянии, а в том реальном знании русской жизни, которым обладали серапионы-«народники». Поиск истинного Слова организует сюжет рассказа «Вахада, ксара, гуятуи» (1921) и отражен в заглавии, которое сам Вс. Иванов комментировал следующим образом: «чародейные песницы шабаша ведьм (записано в Чиликтинской долине)»225. Герой рассказа мужик Трофим Михалыч сетует, что это «не те слова, <…> не те. Где бы мне те слова найти?.. Владычица?.. А?»226. Грамотная деревенская девушка Авдокея, вступившая в «ичейку», не может подобрать слов для протокола заседания, и нужные слова ей подсказывает мать, обращаясь к древнерусскому плачу-причитанию: «Мужиков-то хоронить некому; над силушкой-то уходящей поплакать сил не найдешь…»227. По мнению «темной, неграмотной старухи», истинные слова призваны передать «горе человеческое», слова же руководителя «ичейки» вызывают у крестьянина Трофима (и автора) большие сомнения: «Заворожил он всех словами… а я-то… обожду. А ты не отрекайся, будет Христом-богом просить, от родни не отрекайся. Держись. Не бери греха, греха не бери. Как же… Ага?.. Ты немного подожди, я найду слова… Как же…»228.
Поиск сокровенного Слова простым мало- или необразованным человеком – а именно таков герой Вс. Иванова 1920-х годов – характеризуется безошибочным чутьем на слова истинные и ложные, причем ложные слова практически всегда связаны с революционными переменами в жизни. Так, один из героев «Бронепоезда 14–69» заявляет: «А интерна-ционал-то? <…> Я ведь знаю – там ничего нету, за таким словом никогда доброго не найдешь. Слово должно быть простое, скажем – пашня…»229.
Огромное значение придает Вс. Иванов песням, пословицам, сказкам, запечатлевшим духовную жизнь народа. Народную словесность писатель знал хорошо, но в его творчестве редко можно встретить прямые заимствования. Так, «Самокладки киргизские» (1920) и «Алтайские сказки» (1918) при всей близости к фольклору все же представляли собой стилизации. В период работы над книгой «Тайное тайных» писатель обращался к народному творчеству. В письме Федину от 9 октября 1925 г. Иванов сетует: «Такая моя мрачная жизнь – бумаги нету. Последнюю сейчас потратил, написав 40 пословиц»230. Возможно, написал для «Тайное тайных».
Иванов нередко ставит рядом устойчивые в фольклоре темы и мотивы, определяющие опорные вехи народной жизни: любовь, разлука, тоска, смерть, судьба и др. – и реалии новой жизни: пролитая в сражениях кровь, революция, законы, аэроплан, практически всегда поданные автором с отрицательной коннотацией. Вот лишь некоторые примеры ивановских пословиц: «Вода мутнеет от крови только в песнях» («Пустыня Тууб-Коя»); «Законы нонче что редька, – всякий за хвост держит» («Ночь») и др. Старая сказка о воронятах противопоставлена новой – об аэроплане в «Яицких притчах». Эта же оппозиция появляется в «Бегствующем острове»: «Ты бы <…> хоть… про кота бессмертного рассказал. Про ту революцию – все страшно да скучно, будто болесть…». В тексте повести есть и заговор: «…будете вы ровнять снег, чтоб не было ни следов, ни колей, ни памяти людей, не было ни дороги, ни троп, один снеговой сугроб! Замкните ворота таежные. Спустите засовы болотные, – и заклятье положу я на ту дорогу». К концу книги «Тайное тайных» усиливаются песенные мотивы: «песенная любовь»; «шелковый платок песенного синего цвета»; «Вода мутнеет от крови только в песнях» («Пустыня Тууб-Коя»); «Как от Камы-реки…», «Горе-то материнское в песнях все перепето, а лучше песни как расскажешь» («Бегствующий остров»).
Фольклористы отмечали основную эмоциональную тональность народных песен: «Они (песни. – Е. П.)заново передумывают, под какой-либо напев, житейское коротание человека, живой человеческой личности, переживающей особенности своего положения, и упорно останавливают на них все внимание. И так как мало веселого дает жизнь вообще, и так как нет основания для торжества, то грустно звучит это раздумье о своей доле, и плачет песня горьким причитанием»231, – писал Е. В. Аничков. Невеселы были и размышления Вс. Иванова над человеческой судьбой, отсюда, возможно, и пронзительная, тоскливая интонация книги, имеющая истоки в народной словесности.
На фоне фольклорной образности пустыми и лживыми выглядят в «Тайное тайных» слова революционной эпохи. «Не могу такое слово на морозе говорить, не русское слово», – рассуждает по поводу слова «пролетариат» комиссар Запус («Бегствующий остров»). Практически все герои «Тайное тайных» – люди переходного времени – утратили дар истинного Слова. И лишь в рассказе «Полынья» намечается автором путь восстановления духовной вертикали: Богдан вспоминает сокровенное Слово, обращенное к Богу.
Какое же место занимала книга Вс. Иванова «Тайное тайных» в литературных «спорах о мужике», являвшихся по сути спорами об истории и культуре России, ее дальнейшем пути и судьбе.
Более всего, кажется, писателю было чуждо поверхностно-снисходительное отношение к деревне и крестьянской жизни, которое утверждалось повсеместно в Советской России: «Что у них? От хлева и до хаты / Скучен путь: горшки да кувшины. / Ну а мы с тобой теперь богаты / Всем богатствам молодой страны»232.
Столь же чуждым было представление о крестьянине как о биологическом существе, обуреваемом инстинктами и понятом по Фрейду. Избежал автор «Тайное тайных» и других крайностей, выявившихся в подходах к вопросу о мужике в литературе 1920-х годов: крестьянин в его рассказах не был ни пробуждающимся к новой жизни безбожным борцом за социалистический идеал, ни невежественным и тупым мелким собственником.
Вс. Иванов не только «веру мужицкую», но и жизнь, и душу народную знал «крепко». Потому и прозвучало его Слово о русском мужике – и шире, о русской жизни – так своеобразно и значимо, сделав книгу «Тайное тайных» событием в литературе 1920-х годов. Сложность и многообразие народной жизни и духовной культуры – традиции, вера, поэтическая словесность, идеалы и сомнения – все это нашло отражение в рассказах «Тайное тайных». Но в отличие от наиболее близких Иванову новокрестьянских писателей, эта народная жизнь предстала в книге в состоянии глубокого духовного кризиса. Не случайно такое важное место в «Тайное тайных» занимают сквозные темы бездорожья, пустыни, утраты, Слова. В этой духовной пустыне тоскует, мается, безумствует и ищет свой путь герой Вс. Иванова – человек с «мутным сердцем». В эпоху войн, революций и нового строительства под угрозой тотального уничтожения оказалась сама народная душа, которая все еще хочет верить в Бога и любить человека. Но как Мартын из рассказа «Плодородие», так и другие обуреваемые тоской и отчаянием герои книги «Тайное тайных», в образах которых запечатлел Вс. Иванов реальность 1920-х годов, – оказались «без креста» – заплутавшими, сбившимися с пути и утратившими истинную дорогу.
Такой ответ дал Всеволод Иванов на один из центральных вопросов времени.
Как же прочитали этот ответ современники?
«После появления рассказов „Тайное тайных“ на меня самым жестоким образом обрушилась рапповская критика. Мне никак не представлялось, что „Тайное тайных“ вызовет целый поток газетных статей, что меня обвинят во фрейдизме, бергсонианстве, солипсизме, проповеди бессознательного и что вскоре, глядя на обложку книги, где были нарисованы почему-то скачущие всадники, я буду с тоской думать: „Это от меня мчатся мои герои“».
Литературная борьба 2-й половины 1920-х годов в самых общих чертах определяется современными исследователями следующим образом: «Литература этой эпохи „полярна“, представляет собой борьбу полюсов, и полюса эти обозначаются все ярче и ярче в полемике РАПП с „Перевалом“. С одной стороны, крайний рационализм, ультраклассовость, понимание искусства как орудия политической борьбы; с другой – отстаивание общечеловеческих ценностей в противовес классовым»233. Среди произведений, ставших для идейных противников аргументами в споре, одно из центральных мест принадлежало книге Вс. Иванова «Тайное тайных». Итоговая победа «рационалистов» над «интуитивистами» оказалась, по мнению одного из авторитетных исследователей этого периода, Г. А. Белой, «губительной» и для литературы в целом («надолго была прервана традиция психологизма, давшего „Тайное тайных“»)234, и для творческой судьбы Иванова («недоверие к силе и мощи художественного образа» обернулось «рассудочностью и декларативностью», «сместилось представление художника о себе самом»235). Поддавшись рапповской критике, обвинявшей писателя во фрейдизме, солипсизме, мистицизме и т. п., Иванов, как отмечали Г. А. Белая и другие авторы работ о нем, не услышал голоса А. К. Воронского и его единомышленников, чьи «статьи о писателе до сих пор остаются лучшими в критической литературе»236.
Реально, однако, все было далеко не так однозначно. Книга «Тайное тайных» оказалась в начале 1927 г. в центре не одной, а сразу нескольких дискуссий: о «живом человеке», о фрейдизме – сознательном и бессознательном в человеческой психике, о путях развития искусства. А поскольку литературная борьба разворачивалась на фоне ожесточенной внутрипартийной борьбы 1925–1927 гг., то зачастую те или иные критические оценки были вызваны к жизни отнюдь не эстетическими вопросами.
Первая критическая статья, напечатанная А. К. Воронским в газете «Ленинградская правда» 5 декабря 1926 г. (т. е. фактически еще до выхода книги), во многом определила контекст интерпретации «Тайное тайных». «Тайное тайных» Воронский называет «показательным для всей литературы „симптомом“». «Наши художники неслучайно, конечно, подходят вплотную к „вечным“, к „проклятым“ вопросам: о жизни и смерти, о судьбе человека, о месте его в космосе, – заметил критик. – Весь вопрос в том, чтобы сочетать это личное с общественным, <…> с широким потоком окружающей современности». Трактовка книги во многом дается в духе популярных идей 3. Фрейда, другое дело, что автор статьи о «Тайное тайных», вкладывает в свою оценку более широкий смысл: «Всеволод Иванов рассказывает о господстве, о неограниченной власти над человеком первоначальной жизненной стихии. Земля, пашня, хлеб, работа, инстинкт размножения и продолжения рода, женщина, ребенок, тоска по любимой <…> это и есть тайное тайных. Герои писателя действуют „бездумно“, „бессознательно“, „понуждаются к тому могучим инстинктом“». Помимо высокой оценки мастерства Иванова, Воронский указывал и на нежелательный для писателя литературный контекст: «…будет худо, если он пойдет по пути, где роковым образом оступались даже такие гении, как Гоголь и Достоевский, и такие поэты, как Есенин»237.
Рецензии на «Тайное тайных», опубликованные в январе-марте 1927 г., в целом ничего нового не содержат. Отмечаются изображение «человека во всей сложности его душевных переживаний»238 (Н. Белинький), «исключительное мастерство», «четкая и энергичная фраза, задушевность тона»239 (М. Рудерман); «простота, выразительность и тонкость»240 (А. Лежнев) и т. п. Указывая на опасность увлечения писателя стихийным, физиологическим в человеке, критики тем не менее выражали уверенность, что не это определит дальнейший «рост большого писателя» (Лежнев). В целом «Тайное тайных» оценивается не только как «симптоматическое явление, но и как подарок литературе»241.
Реакция «рационалистов» последовала довольно скоро и коренным образом изменила общий тон оценок книги. В № 4 за 1927 г. журнала «На литературном посту» напечатана статья А. Зонина «На перепутье», критический пафос которой в целом направлен против Воронского и его идей. «Тайное тайных» в ней лишь аргумент, но аргумент весомый. Возражая Воронскому, Зонин вовсе не желает видеть в Иванове «пример художника, философски разрешающего художественные проблемы». Наоборот, он усматривает в «Тайное тайных» «примитивно биологическое отношение к жизни, сплетенное с фатализмом, и довольно отчетливое осуждение всего нового»242. Напостовский критик, кстати, гораздо более верно улавливает именно социальный аспект книги, ее связь с реальными историческими и духовными переменами в России. Так, проанализировав развитие в книге мотива пустыни и бездорожья, Зонин справедливо указывает на крестьянские корни авторской позиции: «Всеволод Иванов не верит в путь города, т. е. в путь пролетариата»243. Ведущие борьбу с Воронским с 1923 г., напостовцы в 1926–1927 гг. получили новое политическое оружие – обвинение в «литературном троцкизме» – и стремились оторвать от Воронского ведущих попутчиков. Не скрывал этого и Зонин. Достаточно резкая по отношению к Воронскому его статья обнажает тенденцию, которая проявится во всех статьях напостовцев о Вс. Иванове вплоть до 1929 г., – стремление перетянуть писателя на свою сторону. «Мы хотели бы, чтобы один из крупнейших представителей современной литературы пришел к нам»244.
На протяжении всего 1927 г. споры о книге Иванова не утихают. По мнению перевальцев, главными достоинствами рассказов писателя являются «изображение глубинных страстей, которые общи человеку в различных социальных и бытовых ситуациях и мало меняются с течением времени»245, «чувство философского восприятия жизни»246 и т. п. В свою очередь пролетарские критики оценивают действия героев Иванова как совершенные «в порыве патологического наваждения»247, «в силу похоти», «бессознательные и бессмысленные», а рассказы – как «неясные и туманные»248, представляющие «мир реальных призраков с искаженными лицами и безумными глазами»249.
В ходе полемики к группе рассказов «Тайное тайных» добавляются рассказы из книги «Дыхание пустыни». Писатель собирал ее осенью 1926 г., когда книга «Тайное тайных» уже печаталась. В марте 1927 г. она публикуется в издательстве «Прибой» в Ленинграде, а в июне того же года в Москве выходит 2-е издание «Тайное тайных». Несмотря на то что книга «Дыхание пустыни» будет оценена как менее цельная («…нет такого тематического единства, каким отличается „Тайное тайных“, скорее остается впечатление случайных вещей»250), критики отметят «общее впечатление от книг талантливого писателя – впечатление духоты, напряженной безысходности и неразрешенности загадок человеческого бытия на земле»251.
При всех видимых расхождениях все критики в оценках рассказов Вс. Иванова оперируют категориями «сознательного» и «бессознательного», или «подсознательного». Эти категории, в основном понятые по Фрейду, стали опорными в литературной критике с середины 1920-х годов, когда применительно к советской литературе был поставлен вопрос о «живом человеке» – изображении внутреннего мира нового человека. В его решении с самого начала противостояли друг другу две группы – так называемые рационалисты, пролетарские критики, объединившиеся вокруг журнала «На литературном посту», и «интуитивисты» – критики группы «Перевал» во главе с А. К. Воронским. Несмотря на утверждение Воронского, что «фрейдизм, как система взглядов с марксистским искусствоведением не совместим», высказанное им в программной статье «Фрейдизм и искусство»252, напостовцы видели в нем чуть ли не апологета фрейдизма. Тем более, что в той же статье содержалось и следующее положение: «…категория „бессознательного“, или учение о „динамическом подсознательном“, не целиком, а частью, принадлежит к плодотворным гипотезам в области индивидуальной психологии»253. Другое дело, что Воронский предлагал смотреть на эти категории гораздо шире, нежели австрийский ученый. На протяжении 1924–1925 гг. возглавляемый Воронским журнал «Красная новь» публикует статьи, в которых учение Фрейда комментируется достаточно подробно и сопровождается следующими оценками: «В основе своей, как мы видим, этот вклад (Фрейда в науку. – Е. П.)глубоко родственен марксизму»254; «теорию Фрейда <…> следует признать весьма плодотворной»255 и т. п. На страницах «Красной нови» прозвучало и суждение одного из ведущих литературных марксистов В. М. Фриче, предлагавшего посмотреть на фрейдистский психоанализ и «биологизм» героев Иванова с позиций социологического метода: «Если автор „Тайного тайных“ Вс. Иванов рисует человека <…> одержимым бессознанием и совершающим под его властью странные иррациональные поступки, то он совершенно прав, так поступая, ибо его человек стоит близко к природе (крестьянин), одержим природою и в нем „биология“, эта сознанием не организованная часть психики, естественно играет доминирующую роль.
Психика этого в значительной степени асоциального, не прошедшего через горнила коллективизации и индустрии, еще близкого к природе <…> человека – по преимуществу „биологична“…»256.
Авторы журнала «На литературном посту» выступают категорически против «апологии бессознательного»: «…что собой представляет последний этап творчества Вс. Иванова?.. Досужие критики, даже в марксистских мундирах, говорят вот что: „Писатель, видите ли, добрался до вековечных проблем человека – смерть, любовь вообще, писатель забрался на вершины трагического“. А на самом деле, вы имеете расслабленно декадентскую попытку реставрации этакого „космического“ человека. <…> Но ведь в космосе царит какая-то закономерность! Не то у Вс. Иванова: освободившись от назойливой шумихи текущего дня, писатель берет человека, действующего не по мотивам, а по патологическим капризам»257, – утверждал И. Гроссман-Рощин. Позднее, уже в 1928 г., один из ведущих теоретиков концепции «живого человека» критик В. В. Ермилов, предлагая истинное решение вопроса о соотношении сознательного и бессознательного, противопоставлял друг другу писателей по классовому принципу: «…пролетарских писателей вопросы, связанные с подсознанием, интересуют совсем по-другому, чем интересовали они классиков и чем интересуют сейчас тех писателей из интеллигентско-попутнической среды, которые далеки от материалистического мировоззрения. <…> пролетарских писателей подсознательное интересует прежде всего как объект преодоления, как нечто, что нужно заставить повиноваться и служить сознательной воле пролетариата, разумно направленной на переустройство человеческого общества»258. Среди писателей, правильно понявших проблему «живого человека», Ермилов называет С. А. Семенова («Наталья Тарпова») и Вл. М. Бахметьева («Преступление Мартына»), а в качестве примера «иррационалиста» – Вс. Иванова, для которого «„подсознательное“ является именно такой „последней ссылкой“, дальше и глубже которой просто некуда идти»259.
Примерно до 2-й половины 1927 г. в печати обсуждается в основном «Тайное тайных». Опубликованные в ходе дискуссии о книге рассказы «Бог Матвей», «Счастье епископа Валентина» и другие поднимают вторую критическую волну вокруг писателя. Начинается переоценка всего творчества Иванова с позиции «Тайное тайных». Теперь в ранних, еще недавно называвшихся революционными произведениях критики выискивают истоки его ошибочных взглядов. Так, по мнению Ж. Эльсберга, передача «навязчивых ассоциаций человека», «ощущений, его терроризирующих и произвольно им играющих»260, являлась стержневым художественным приемом Иванова на протяжении всех 1920-х годов и следы ее видны уже в «Цветных ветрах» и «Голубых песках». Художественный метод Иванова критиком определялся в целом как «метод литературного сенсуализма».
«Тайное тайных» используется как аргумент и в полемике пролетарских критиков с «психологизмом» попутчиков. Я. Григорьев, выявляя реакционные тенденции в творчестве «старых попутчиков» и объединяя в одну группу «Корни японского солнца» и «Расплеснутое время» Б. Пильняка, «Тайное тайных» и «Дыхание пустыни» Вс. Иванова, «Трансвааль» К. Федина, «Встречу» и «Каин-кабак» Л. Сейфуллиной, подчеркивает, что новые произведения попутчиков уже не определяют направления современной литературы. Путь «старопопутнической литературы» от «бытовой передачи партизанщины к литературному сенсуализму, к произвольному миру ощущений» – это ложный путь к «опаснейшему интеллигентскому социальному нейтрализму и <…> пессимизму»261.
Подвел итоги 1927 г. глава РАПП Л. Авербах. В очередной раз полемизируя с Воронским и другими перевальцами и резко критикуя Вс. Иванова за «физиологизм», «власть роковой силы» и т. п., критик не возражал, что творчество писателя – показатель определенной тенденции в литературе, но при этом утверждал: «…мы всячески оспариваем закономерность этой тенденции. <…> Это закономерность отхода определенных общественных кругов от революции. Отрицая право на эту закономерность, мы боремся против того пути, на который вступил сейчас Всеволод Иванов»262.
После публикации в январе-феврале 1928 г. новых произведений Вс. Иванова: повести «Гибель Железной», рассказов «Особняк» и «Подвиг Алексея Чемоданова» – критика обретает новое дыхание и новые аргументы. Лейтмотивом критических статей о «Гибели Железной» и «Подвиге Алексея Чемоданова» стала мысль об угрозе распространения «новой манеры» писателя на тему гражданской войны. Повесть «Гибель Железной» вызвала к жизни еще одну линию обвинений – в плагиате263.
Повесть «Особняк» в какой-то мере облегчила задачу враждебной писателю критике. Если применительно к книге «Тайное тайных» возникала необходимость, с одной стороны, определить ее место в спорах о мужике, о «живом человеке», о фрейдизме, а с другой – приходилось-таки признать блестящее мастерство писателя, то с «Особняком» все было гораздо проще. Повесть была названа исключительно слабой в художественном отношении, тем яснее прочитывалось ее классово вредное содержание. Наиболее резкая оценка принадлежит поэту-комсомольцу А. И. Безыменскому, одному из яростных оппонентов новокрестьянских писателей: «Сигнализация ли это? Возможно. Но только сигнализация нашему классовому врагу. Ибо ни суть, ни детали, ни перспектива в повести не оставляет никаких сомнений в ее классовой направленности. <…> После книги Иванова „Тайное тайных“ нам это яснее ясного»264.
В 1928 г. защищать Иванова уже мало кто брался. Вступается опубликовавший повесть «Журнал для всех», беспокоясь, впрочем, за судьбу не столько писателя, сколько журнала. Но, повторяем, с повестью «Особняк» все обстояло гораздо легче, чем с «Тайное тайных», и Д. Пажитнов даже высказал радость, что в «Особняке» «намечается явный отход писателя от власти „судьбы“ и „рока“, от „тайн“ подсознательной стихии – к стихии действительности»265.
Впрочем, реплика «Журнала для всех» оказалась единственной. Начинается очередной пересмотр всего творчества Вс. Иванова – уже с чисто классовых позиций. «Партизаны», «Цветные ветра», «Голубые пески» критика теперь рассматривает как моменты эволюции писателя к нынешнему творческому этапу, носящему «буржуазный характер»: «…Буржуазия гораздо более доступна восприятию Всеволода Иванова <…>, он оправдал и благословил наступающего на революцию буржуа»266.
В конце 1928 г., выступая на I Всесоюзном съезде пролетарских писателей, А. А. Фадеев подводит итог спорам о «живом человеке» и определяет две главные линии в области литературы и критики: «…обе эти линии исходят из <…> противопоставления сознательного – бессознательному, интуиции-разуму»267. Иванов назван Фадеевым «наиболее ярким и последовательным представителем первой, так сказать, „иррационалистической“ линии в современной советской литературе… <…> Вся его книга „Тайное тайных“ построена на таком иррациональном подходе к человеку, иррационалистическом объяснении мотивов его поведения»268. Подобное же «сползание на рельсы иррационализма» Фадеев видит в творчестве Б. Пильняка, Л. Леонова, а в качестве теоретиков, «освящающих» эти методы, называет перевальских критиков (А. Воронского, А. Лежнева, Д. Горбова), поэтизировавших, в частности, «худшие стороны есенинской поэзии, прозы С. Клычкова, азиатчину, стихийность» и т. п.
Предполагаемой ответной реплики «Перевала» в защиту писателя не было, да и не могло быть. В 1929 г. «перевальцы» уже не считали Иванова выразителем своей эстетической платформы. Как, впрочем, и Есенина, Пильняка и Леонова. Споря с М. Гельфандом по поводу его статьи о Вс. Иванове, Лежнев попутно дает следующую оценку творчеству писателя: «…кратко формулирую свой взгляд на социальную природу творчества Всев. Иванова. <…>…я разделяю мнение о мелкобуржуазном характере его творчества и о неправильной эволюции его вправо, – о чем я уже, впрочем, писал до Гельфанда»269. В духе «напостовцев» высказывается и Д. Горбов: Всеволод Иванов «грешит <…> чрезмерным выпячиванием подсознательного, которое явно перехлестывает в его образах через голову сознательного, доводя существование действующих лиц его рассказов до уровня сумеречного и даже аффективно-сумбурного полубреда»270. Вместо увиденного в 1927 г. человека, с его «радостями и горестями» (выражение А. Лежнева), Горбов обнаруживает у Иванова нечто прямо противоположное – его половину: «В „Наталье Тарповой“ или „Преступлении Мартына“ высшей ценностью объявлена сознательная половина человека. Всеволод Иванов предпочитает другую. Пусть так. Но в обоих случаях речь идет всего лишь о полчеловеке, а не о цельной личности»271. Интересно, что «человека вообще» не хватает перевальцам в это время и в лирике Есенина, «…не всякого человека любил Есенин, – пишет Лежнев, – а только представителя определенного класса или группы (крестьянства и городской богемы. – Е. П.) <…> Да, я боюсь, что человека-то Есенин не особенно любил»272.
Между тем травля Иванова «напостовцами» продолжалась. В 1929 г. Эльсберг напрямую рифмует «интеллигентское равнодушие» писателя с политическими обвинениями: оно «срастается с теми „потенциально-шахтинскими слоями и механическими гражданами“, которые могут стать в подходящий момент удобным оружием для нового буржуа и контрреволюционера»273. Критика возмущена тем, что Иванов «морально разлагает своего читателя. Он заряжает его упадочностью, неверием, пассивностью, он упорно ведет его в сторону от революционной действительности»274. Наконец, В. Полонский, недавний союзник «Перевала», также открещивается от писателя. В начале 1929 г. в статье «Очерки современной литературы» критик утверждает, что Вс. Иванов является «рупором реакционного социального слоя», «поэтом разлагающегося мещанства»275.
Таким образом, к концу 1929 г. не раздается ни одного голоса в защиту писателя. Вс. Иванов оказывается в полном одиночестве.
Попытаемся понять некоторые причины, приведшие к подобной ситуации. Напостовская критика в целом последовательна. Изменившаяся позиция критиков группы «Перевал» требует объяснения.
В конце 1927 г. А. К. Воронский был отстранен от поста главного редактора журнала «Красная новь». Вс. Иванов остался в составе обновленной редакции. Это вызвало вполне определенную реакцию Воронского, о чем Иванов рассказывает А. М. Горькому (письмо от 28 октября 1927 г.): «На углу Камергерского <…> встретил я Воронского <…>. Я наилюбезнейше улыбнулся, снял шляпу, остановился было… Воронский кивнул чрезвычайно небрежно и величественно прошел мимо. Оказывается, здороваться не хочет.
И все это потому, что я согласился сотрудничать в „Красной Нови“ в новом ея редакционном составе, и потому, что не объяснил причин моего согласия ему. Согласился я работать в „Красной Нови“ потому, что считаю все литературные споры сейчас – напостовщина и прочее – споры мелкие, кружковые <…> и споры эти никак не влияют на развитие русской литературы, ибо литература идет своим необычайно трудным и, я бы сказал, подготовительным путем. <…> И отход Воронского от „Кр(асной) Нови“ произошел не оттого, что он не напостовец или напостовец, а оттого, что он связан с оппозицией» (С. 339–340). После осуждения троцкистской оппозиции в декабре 1927 г. многие ее активные участники были исключены из партии, впоследствии арестованы и сосланы. В их число Воронский тогда не вошел. Решение о его исключении из РКП(б) было принято в 1928 г., а 10 января 1929 г. он был арестован и сослан в Липецк.
Почти 30 лет спустя Вс. Иванов напишет в «Истории моих книг» о Во-ронском: «…понимание совершившегося исторического процесса оказалось у нас на определенном этапе различным»276. Позиция «перевальцев», таким образом, имела вполне понятные политические причины. Однако дело было не только в них. Очевидно, прозвучало нечто в самом творчестве Вс. Иванова 1925–1927 гг., чего не заметили (или не захотели заметить) критики «Перевала», когда они в 1927 г. давали хвалебные отзывы на книгу «Тайное тайных» и видели в ней реализацию многих своих теоретических установок. Во многом это касалось самого понятия «тайное тайных», в которое писатель и критики вкладывали разный смысл. Для «перевальцев» это была «косная, огромная, космическая, неорганизованная слепая стихия жизни» (выражение А. Воронского), для Иванова – душа народа. Внимание Вс. Иванова к реальным проблемам и изменениям русской жизни и русской души в кризисную, переломную эпоху оказалось чуждо как «интуитивистам», так и «рационалистам». Отталкивал их и есенинский контекст книги, на который указал уже в первой статье А. К. Воронский. И хотя сам писатель по разным причинам уже отходил от прежних, крестьянских тем и мотивов, с особой силой и трагической остротой прозвучавших в «Тайное тайных», дальнейшее развитие его творчества не пошло ни по перевальскому пути «моцартианства», ни по рапповской «столбовой дороге пролетарской литературы».
«Последний этап творчества Вс. Иванова безотраден».
«„Тайное тайных“ отошло в прошлое».
«Есть истины более достоверные, чем наши отречения».
Переосмысление Вс. Ивановым ключевых тем и мотивов «Тайное тайных» началось в книге «Дыхание пустыни». Высокая эсхатологическая интонация «Тайное тайных» подверглась ироническому переосмыслению в «восточных» рассказах и «Последнем выступлении факира Бен-Али Бея». Слова «тайное тайных», ни разу не упомянутые в самой книге «Тайное тайных», появились в «Дыхание пустыни» в совершенно ином, явно сниженном контексте. «– Где твои тайны тайных – и для чего ты тело безболезненно колешь? Куда ты направляешься, стерва?…»277 – «вопит» один из героев «Последнего выступления факира Бен-Али Бея». Получилось: нет никаких тайн ни в жизни, ни в душе человека!
По-иному представлена и тема возвращения в отчий дом. В рассказах 2-й части книги «Дыхание пустыни» она по-прежнему решается в трагическом ключе. Герой рассказа «Петел» Егор Иванович, в душе которого «словно открывалась жгучая пустота, – он поехал к отцу в деревню»278, и персонажи других рассказов: Мургенёв («Зверье»), Евсей («Старик») и Ермолай Григорьевич («На покой») – по-есенински возвращаются на родину. Но ожидает их там либо пепелище («Зверье»), либо все те же тоска и отчуждение от родных мест («На покой»). Никто не обретает утраченного Дома. Сама идея Дома-очага профанируется в завершающем книгу рассказе «Мудрый Омар», герой которого хоть и приходит в дом, но путь его описывается Вс. Ивановым теперь следующим образом: «Но по дороге он увидал магазин, душа его заиграла, и он поступил как все властители – он купил жене духи, бывшие Брокар, секретарям толстые чулки из туркестанской шерсти (для зимы); он купил всем трем (женам. – Е. П.)по розовой шляпе с фиолетовыми цветами и желтыми лентами; он купил им трусики и на троих (ибо ему не хватало денег) пару лаковых туфель, а на остальное вина и копченой колбасы»279.
Финал рассказа «Мудрый Омар» прямо отсылает к рассказу «Особняк». Дом русской культуры превращается в «особняк»: сначала в него вселяется бывший торговец кренделями Ефим Сидорович Чижов и покупает старинную мебель у князя, «удрученного революцией», затем дом превращается в тюрьму для великого князя. После расстрела князя жильцом становится комиссар Петров, который обзаводится женой и машиной, веселится и пьет водку, а уже после ареста комиссара – вновь Ефим Сидорович, с семьей, драгоценной мебелью и малиновым вареньем. Особняк, поменявший столько жильцов, выходит на городскую Соборную площадь, при этом нигде в рассказе не упомянуто, что на ней стоит Собор.
Кроме рассказа «Особняк», в 1927–1928 гг. печатались и другие рассказы, так или иначе продолжающие темы «Тайного тайных». Так, «Счастье епископа Валентина», «Блаженный Ананий» и «Бог Матвей» объединяет общая тема «смерти Бога», по-разному представленная в каждом из трех рассказов. В «Счастье епископа Валентина» за основу взят реальный факт создания обновленческой «живой церкви», при этом автором упомянута символическая тропинка к Собору, по которой «можно было понять оскудение и пустоту веры», а настроение главного героя, епископа Валентина, передано в финале повествования словами: «Какая пустыня, какое одиночество!..». В центре рассказа «Блаженный Ананий» – святой, бунтующий против Бога и безблагодатно умирающий в своем скиту. Наконец, в рассказе «Бог Матвей» комиссар Денисюк убивает мужика, называющего себя Богом, сам погибает «как герой», и на его могиле вместо православного креста вкапывают пропеллер подстреленного самолета белых.
Рассказ «Комендант» (1927) – другие заглавия: «Мелитка», «Счастье» – вновь возвращает в центр повествования тему дома. Сумасшедший дом – единственное место в послереволюционной реальности, где обретает покой и уважение деревенская девушка Мелитка, так и не сумевшая «управлять государством» – быть комендантом в важном учреждении, где служат «бумажные души».
В 1927–1928 гг. Вс. Иванов вновь обращается к теме Гражданской войны. Помимо упомянутых рассказов «Зверье» и «Бог Матвей», к произведениям этой тематики относятся рассказ «Подвиг Алексея Чемоданова», повесть «Гибель Железной» и пьеса «Блокада». Каждое из них критика 1920-х годов тесно связала с «углом зрения» «Тайное тайных», понимая под этим «гибель, рок, бессмыслицу, отсутствие перспектив»280. Не без оснований В. Полонский назвал героев этих произведений «загримированными персонажами „Тайного тайных“»281.
Продолжая в конце 1920-х годов многие темы «Тайного тайных», Вс. Иванов представляет их в уже в ином ключе. Какие-то, как тема Дома, подвергаются ироническому переосмыслению; другие – тема земли, например, почти уходят из поля зрения писателя; третьи – тема богоотступничества человека и дыхания пустыни – акцентируются. Эти последние главным образом и определяют 1927–1929 гг. в творческой биографии Иванова.
Путь писателя после 1930 г., который тогдашняя критика назвала «новым поворотом Всеволода Иванова», по сути был уходом от «Тайного тайных». Были на этом пути свои победы и свои поражения. Кое-кто из критиков после появления «Путешествия в страну, которой еще нет» (1930) и «Повестей бригадира Синицына» (1930) поспешил определить его как путь «приближения к идеологии пролетариата»282. Из произведений, написанных Ивановым после 1929 г., опубликованы при его жизни будут очень немногие, большая часть романов, повестей, пьес, рассказов так и останется в архиве.
К названию «Тайное тайных» Иванов сделает попытку вернуться в самом конце своего пути, в 1963 г., собрав в книгу с заглавием «Тайное тайных» не публиковавшийся при жизни незаконченный роман «Сокровища Александра Македонского» (1940–1963), роман «Эдесская святыня» (1946) о поисках веры, пьесу «Двенадцать молодцев из табакерки» (1935), напечатанную, но никогда не ставившуюся, и некоторые рассказы «фантастического цикла». Этот замысел не осуществится.
Е. Папкова. История текста рассказов книги «Тайное тайных»*
История текста рассказов книги Всеволода Иванова «Тайное тайных» может быть лишь отчасти восстановлена по предшествовавшим книге публикациям отдельных рассказов в периодической печати 1920-х годов. Неизвестно, когда именно возникла у писателя мысль объединить рассказы в книгу, как неизвестны точные даты написания произведений, составивших «Тайное тайных». К сожалению, автографы рассказов не сохранились. Об их судьбе можно высказать несколько предположений. Либо – что наименее вероятно – Иванов сжег их в ноябре 1926 г. вместе с незаконченным романом «Казаки» и другими текстами. Либо, разосланные писателем по редакциям газет и журналов в 1925–1926 гг., они хранились там, а впоследствии были утрачены. Так, в фонде «Красной газеты» (Государственный архив общественно-политических документов. СПб.), где был напечатан первый рассказ книги «Тайное тайных», сохранились материалы только 1930-х годов. Можно предположить, что автографы и другие материалы книги остались на квартире Вс. Иванова на Тверском бульваре, 14, где он в 1925–1928 гг. жил вместе со своей женой А. П. Ивановой-Весниной (до брака с Т. В. Кашириной). Анна Павловна прожила там вплоть до окончания войны. Естественно, что в 1930-1940-е годы с рукописями могло произойти все что угодно. В семье дочери, Марии Всеволодовны, ничего из рукописного наследия Вс. Иванова не осталось. Известно также, что Анна Павловна ничего не сдавала в государственные архивы.
Так или иначе, ни рукописей, ни каких-либо других авторизованных источников произведений, составивших «Тайное тайных», нет, поэтому датировать рассказы можно лишь приблизительно – по первым публикациям. Самым ранним являлся, видимо, рассказ «Пустыня Тууб-Коя». Первая публикация состоялась в № 4 альманаха «Круг» за 1925 г. То есть рассказ мог быть написан в конце 1924 г. или начале 1925 г. Далее, исходя из факта первой публикации, следовал рассказ «Поле». Он был напечатан в № 19 за 1925 г. двухнедельного журнала «Шквал» (Одесса). Номер вышел в октябре 1925 г. В январе 1926 г. печатаются «Яицкие притчи» (Н. мир. № 1) и «Плодородие» (Кр. Н. № 1). «Жизнь Смокотинина» публикуется в «Красной газете» в марте 1926 г. и практически одновременно в журнале «Красная новь» (№ 3), «Полынья» – в журнале «Красная новь» в мае 1926 г. Тогда же, в мае 1926 г., в журнале «Молодая гвардия» напечатан первый фрагмент из повести «Бегствующий остров». Целиком повесть опубликована в литературно-художественном альманахе «Пролетарий» (Харьков, 1926). Летом 1926 г. печатаются еще два рассказа: «Ночь» – в июньском номере журнала «Красная новь» (№ 6) и «Смерть Сапеги» – в июле, журнал «Красная нива» (№ 14).
Из хроники публикаций не следует, разумеется, что именно в таком порядке рассказы писались. С уверенностью можно сказать только одно: все произведения, составившие «Тайное тайных», были созданы в конце 1924 г. – 1-й половине 1926 г. Если 28 января 1926 г. Вс. Иванов, подписывая договор с Госиздатом, уже представлял себе объем книги – 10 п. л., то можно предположить, что к этому моменту все рассказы уже были закончены. История текста книги рассказов «Тайное тайных» включает два этапа: первый – работа писателя над отобранными им рассказами, печатавшимися в периодике 1925–1926 гг., с целью объединения их общим замыслом книги; второй – изменения текста в изданиях 1929–1963 гг.
«Я хотел выработать стиль ясной простоты с сохранением внимания к образной детали и строгим отбором образных ассоциаций, подчеркивающих психологическую углубленность рассказа».
Художественное воплощение авторского замысла осуществлялось как в процессе написания отдельных рассказов, так и, на более позднем этапе, при объединении их в книгу и, соответственно, при внесении в них определенной – содержательной и стилистической – правки.
Девять новелл книги «Тайное тайных» расположены автором в последовательности, имеющей глубокую внутреннюю мотивировку. Важную роль играет в книге категория времени.
В начале первого рассказа «Жизнь Смокотинина» имеются два указания на время: «после долгих войн» и «топоры за революцию иступились – голов много порубили ими; (…) осины им (мужикам. – Е. П.) теперь, разучившись, не отличить от сосны…». Можно предположить, что это 1921 г. – начало нэпа. Тема революции с первых строк книги заявляется как трагическая, но наступившее «стоящее время» связано с надеждами: строиться, работать, жить.
Во втором рассказе, «Полынья», время рассчитывается автором по православному календарю: упомянуты конец масленой, прощеное воскресенье. При этом именно в прощеное воскресенье герой впервые кладет за голенище нож – «резаться» с другом.
Действие в рассказе «Ночь» происходит примерно тогда же, когда в «Жизни Смокотинина», но приметы времени даны гораздо четче. Если в «Жизни Смокотинина» деревня, в сущности, живет по прежним законам (тайная милостыня, похороны по православному обряду), то в рассказе «Ночь» уже точно обозначены два мира: свадебный поезд едет сначала в совет, затем в церковь. Более явственно начинает звучать и тема войны: причина смерти Филиппа, по мнению мужиков, «порча от войны, (…) на войне у всех солдат снарядами сердца отбиты».
Следующий рассказ «Поле» вводит в книгу время Гражданской войны: мирный труд крестьян в «святое время», когда, по крестьянскому календарю, надо сеять, противостоит «напряженному моменту борьбы с врагом».
«Плодородие» содержит два указания на время: первое – по православному крестьянскому календарю («на Флора и Лавра закончилась уборка»), а упоминание о Ленине «в склепе» отсылает к моменту захоронения тела В. И. Ленина во временном деревянном мавзолее – январь 1924 г.
С рассказом «Смерть Сапеги» входит в книгу еще один временной пласт – предреволюционное время (жизнь Аники в имении у помещика). Центральное событие рассказа совершается в конкретный исторический промежуток: от момента Октябрьского переворота до декабря 1918 г. (упомянуто восстание при Куломзине против Колчака). Есть в тексте и указание на некое будущее время – «через несколько лет», связанное с темой материнства, детей. В этом рассказе маркировано отношение новых людей – красноармейцев и комиссаров – к прошлому: «…я всех этих притчей о прошлом-то и не люблю»; «Плевать мне на всех предков вплоть до седьмого колена»; «Если помирать, так помирать – приложившись к кресту не по-отцовски». При включении рассказа в «Тайное тайных» автор внес в текст правку, усиливающую звучание темы отцов и детей: «Папаша-то мой похвастаться любил. Говорил же вон твой папаша, что отец-то его – туркестанский генерал-губернатор» (здесь и далее в аналогичных примерах при необходимости полужирным шрифтом обозначается текст, отсутствовавший в первых публикациях).
С «Яицкими притчами» в «Тайное тайных» вводится еще одно время – историческое, представленное как «геройское»: упоминаются «герой Радко Дмитриев», имя которого связано с Первой мировой войной, и «наши-то степи уральские – еройские степи. Разин тут и Пугач гуляли, Маринка, жена Гришки жила, тут Цапаев с атаманом Толстовым сражался и в Яике потонул».
Новелла «Пустыня Тууб-Коя» вновь соединяет революционную эпоху и православный календарь: комиссару вспоминается Пасха – «куличная ночь».
Наконец, заключительная повесть «Бегствующий остров» построена так, что в ней противоречиво сочетаются историческое время – 1685 г., когда введены законы против раскольников; неопределенное фольклорное – сказочное время (история Галкина обозначена в тексте как сказка); в рассказе о Запусе упомянуто, что «распоряжение вождя Ильича об нэпе еще не произошло», т. е. события совершаются вроде бы до 1921 г., при этом сам Запус утверждает, что «в России скоро десятилетие советской крестьянской власти», т. е., следовательно, 1926–1927 гг. Временной алогизм усиливается указанием еще на одно событие: в конце повести сообщается, что раскольник Пономарев «помер потом под Кронштадтом» – видимо, во время восстания в Кронштадте в марте 1921 г. В целом современность охарактеризована в повести как «великое да расстрельное время».
Последовательность расположения рассказов, с нарастающим гулом времени, дает понимание замысла книги. Вс. Иванов, с одной стороны, показывает читателю «расплеснутое время» (заглавие книги Б. Пильняка, 1927) современной жизни, а с другой – постепенно, по ходу книги, восстанавливает историческое время в его сложности и многослойности, включает революцию и Гражданскую войну в ряд других переломных событий национальной истории: царствование Лжедмитрия I, восстания Разина и Пугачева, Петровская эпоха и раскол церкви.
Порядок расположения рассказов в «Тайное тайных» по-своему проясняет ключевые ее темы. Одна из важнейших – это тема утраты пути и евангельский мотив блудного сына, тесно связанные друг с другом.
В той или иной степени всех героев «Тайное тайных», можно назвать блудными детьми XX века. Герой рассказа «Жизнь Смокотинина» Тимофей, сын подрядчика, охваченный непонятной тоской, покидает отцовский дом, становится извозчиком, попадает в тюрьму, пьет, крадет коней, соглашается на убийство… «Жизнь казалась легкой, невсамделишной, все думалось: надо прийти к отцу, поклониться в ноги и сказать, а что сказать – он и сам еще не знал». Лишь после смерти возвращается он в отцовский дом: «И вот Тимофей последний раз лежал дома, под образами, в горнице». Из родительского дома в тюрьму отправляется за убийство странницы Афонька («Ночь»). Уходит из дома в горы Мартын, и там, в горах, в финале рассказа его убивают жители родного села («Плодородие»). Давно покинули родительский дом красноармеец Сапега и рассказчик и умирать собираются, «приложившись к кресту не по-отцовски» («Смерть Сапеги»). И т. д.
На углубление темы утраченного пути ориентирована правка, вносимая в тексты рассказов книги. Так, в конец 1-й главы рассказа «Плодородие» после фразы: «Облепиха путалась в коленях, громадная паутина с жирным пауком посередине села ему на лицо», – указывающей на блуждания Мартына в горах в поисках реальной дороги, добавлен почти экзистенциальный текст, отсутствовавший в «Красной нови»: «Жизнь свою, казалось ему, знал он, знал все свои нужды, знал все, что ему нужно делать… и все ж долго бежал в гору, пока по крыльцам за ошкур штанов густо не потек липкий и словно связывающий ноги пот».
Характерна правка, внесенная в рассказ «Ночь» при включении его в книгу. В варианте «Красной нови» слово матери, лучше других чувствующей глубинную неправду жизни, которая организуется на новых духовных основах, звучало камерно, как реплика к происходящему: «О, восподи… жисть-то как переклубилась» (здесь и далее курсивом обозначен текст первых публикаций рассказов, сокращенный или измененный при включении их в «Тайное тайных»). В книге просторечное слово заменяется на литературное, и реплика превращается в Слово матери, звучащее громко, «будто на весь мир»: «О, господи, жисть-то как переклубилась. И ты туда же».
Финал «Тайное тайных» кажется неожиданным для книги «висельных рассказов» (определение критика К. Рыжикова). На заключительных страницах повести «Бегствующий остров» появляется символический для русской культуры образ Дома-очага – нового дома, который, возможно, создадут комиссар Запус и раскольничья девушка Саша. В этот дом приходит мать девушки – кроткая старица Александра – и заводит речь о детях. Включая повесть в «Тайное тайных», Вс. Иванов внес изменения в финал. В первой публикации повесть завершалась словами: «Старуху я отлично понимаю, а все остальное – ерунда и мокрятина. Дети!..».В тексте «Тайное тайных» слово «дети» снято автором, и новому финалу книги придан характер размышления над вечными вопросами: «Мука-то не оттуда начинается, мука начинается с другого… Поживешь, поездишь, посвистит тебе ветер в уши, ну, глядишь, и поймешь».
Объединяя общим замыслом разные рассказы, Вс. Иванов в некоторых случаях подвергает изменению их заглавия. Открывающий книгу рассказ «Жизнь Смокотинина» в первых публикациях печатался под названиями: «Тайное тайных» (Красная газета. 1926. 14 марта); «Жизнь Тимофея Смокотинина, сына подрядчика» (Кр. Н. 1926. № 3); «Щепа» (Пламя. 1926. № 5). Рассказ «Поле» в первой публикации (журнал «Шквал». 1925. № 19) имел заглавие «Посев», а «Смерть Сапеги» – «Жизнь Аники Сапеги» (Красная нива. 1926. № 14). В итоге первое заглавие открывающего книгу рассказа было перенесено на всю книгу как определяющее ее замысел. «Жизнь Аники Сапеги» Иванов меняет в книге на «Смерть Сапеги», возможно, чтобы избежать повтора и вывести на первый план вторую из важнейших составляющих бытия человека.
Авторская работа над заглавиями характеризуется тем же стремлением к глубине и простоте, которые свойственны книге в целом, и в этом смысле также является «возвращением» Иванова к простоте первых вещей. Сравним заглавия рассказов 1916–1920 гг.: «Анделушкино счастье», «Мать», «Сын человеческий», «Ненависть» и др. – и периода «экзотических рассказов» 1921–1923 гг.: «Вахада, ксара гуятуи», «Берег желтых рыб», «Шо-Гу-анг-Го, амулет великого города», «История Чжень-Люня, искателя корня шень-жень». Лишенные цветистой метафоричности, сдержанные и краткие заглавия книги «Тайное тайных» воскрешали в сознании читателя вечные категории: «жизнь», «смерть», «счастье» («Счастье епископа Валентина», «Счастье» – один из вариантов заглавия рассказа «Комендант» – оба этих рассказа написаны в манере «Тайное тайных») и др.
Изменения коснулись и экспозиционных структур рассказов. В «Тайное тайных» рассказы «Полынья» и «Ночь» начинаются с ритмических зачинов, напоминающих пословицы: «Жизнь, как слово – слаще и горче всего» («Полынья») и «Любовь да тоска на крови стоят» («Ночь»)1. В рассказе «Ночь» зачин появится только в книге «Тайное тайных», в первой публикации он отсутствовал. Оба зачина фольклорного типа, однако реальных аналогов им нет, более того, в русском фольклоре слова «жизнь» и «слово», «любовь» и «тоска» нигде не соединяются внутри одной пословицы.
В свете темы фольклорной образности в «Тайное тайных» обратим внимание и на работу писателя над языком и стилем. Практически во всех рассказах при включении их в книгу наблюдается единое направление авторской правки: нейтральным словам и конструкциям литературного языка придается свойственная народной словесности поэтичность и образность. Сравним:
Первые публикации
стружки, рассыпавшиеся медовым запахом по всем сеням («Жизнь Смокотинина»)
клюв селезня, словно уцелевший лепесток («Полынья»)
он (снег. – Е. П.) скользит поверху, отыскивая нору, куда бы мог скрыться от разъяренного ветра, от бесконечных однообразных полей («Полынья»)
шли недолгие, но хрушкие дожди («Поле») они поднимались в густое синее небо («Плодородие»)
Судить и стрелять их без пощады («Яицкие притчи»)
«Тайное тайных»
рассыпавшиеся по всем сеням медовые запахом стружки
клюв селезня, подобный уцелевшему осеннему лепестку
он скользит поверху, отыскивая нору, куда бы мог скрыться от разъяренного ветра, от бесконечных однообразных полей и, уходя, не верит, что можно скрыться
падали недолгие, но хрушкие дожди они подымались в густое синее небо высотою в пять наивеликих сосен
Судить – истреблять их без пощады
Одновременно идет замена диалектизмов и просторечий в газетных и журнальных публикациях на слова литературного языка в основном тексте книги. Вот лишь несколько примеров: вместо «по-обидному» – «обидно» («Ночь»); вместо «не вылазя» – «не вылезая» («Поле»); «охота на горно-сталя» – «охота на горностая», «шибко пойдет в сети» – «хорошо пойдет в сети», «мастак по плотам» – «мастер по плотам», «морукует он» – «думает он», «разе» – «разве» («Плодородие»); «какой ни на есть набсекомой» – «какой ни на есть насекомой» («Яицкие притчи») и т. п.
К финалу книги возрастает количество слов новой революционной эпохи, особенно это чувствуется в «Пустыне Тууб-Коя» и «Бегствующем острове». В последнем рассказе смешение стилей – к названным выше добавляется еще уголовная речь – производит впечатление некой языковой вакханалии. Вот характерный пример из текста: «Зыряне все в барнаульских длиннеющих тулупах, красными кумачовыми опоясками перетянуты, шапки с плисовым верхом.
– Эх, вы щетки-гребенки, граждане, что ж вы налогу не вносите?! Знаете – идет борьба не на живот, а на смерть на всех фронтах за социальное отечество… а с вас надо старабачить каких-нибудь пять тысяч белок. За такие дела-то… да со мной „не картавь“, я по „херам“ говорить могу.
И понес он, завяжи горе веревочкой…» («Бегствующий остров»).
Раскрывая «тайное тайных» человеческой души, Вс. Иванов много внимания уделяет проработке характеров персонажей. Работа идет в двух направлениях. С одной стороны, писатель снимает фразы и целые фрагменты текста, убирая физиологизм, натурализм, однозначность характеристик, конкретность, с другой, – расширяет текст, нюансирует тонкость и невнятность для самих героев их чувств и мыслей. Типы превращаются в характеры. Так, из рассказа «Жизнь Смокотинина» изымается «бытовой» текст2: «Он хотел было сказать ей (Катерине): „возьми, пошутил, мол“, но ему стало жаль удалого поступка – как он быстро и умело залез ей в кофту, как успел хватить (охватить) половину твердой и прохладной груди. Да если б и сказал возьми, что бы ему делать с другими бабами в подобных случаях».
В рассказе «Плодородие» сокращаются воспоминания Мартына о детстве: «И еще мельком, как этот ствол, мелькнувший под ладонью, вспомнилось ему, как обидно обманули его в детстве: отец дал медный новый грош, и сказал: золотой, иди купи, Мартын, на это пуд пряников. Приказчику в лавке было жарко и скучно и долго – до трех слез – издевался он над мальчонкой!».
В отличие от физиологически-бытовой конкретности сокращенных фрагментов, слова и фразы, добавленные на разных этапах работы (если журнальных публикаций было несколько, изменения в текст вносились автором и после первой, но чаще – перед включением рассказа в книгу), наполнены сложным психологическим и эмоциональным содержанием.
«Полынья»: «Он присел на столбик, скрутил папиросу, и, когда между колен в полушубке зажигал спичку, ветер дернул, вырвал кисет, обидно помахал им в воздухе и швырнул его к полынье, в снега. Богдану стало так тяжело, что он даже не обрадовался тому – на таком сильном ветру, закуривая папиросу, не испортил ни одной спички». Усилено ощущение героем враждебности внешнего мира. В том же рассказе фраза: «Да и полынья не была радостной», – в «Тайное тайных» обретает эпический объем содержания: «Да и полынья не казалась радостной, будто речушка вынесла в ней всю злобу, накопленную в долгие годы».
В рассказе «Ночь» при включении в «Тайное тайных» появляется портрет героя: «…приехал и Афонька – младший сын, конопатый, с растерянной походкой, в синем новом картузе и толстых пуховых перчатках». Отметим и другие характерные изменения, внесенные в текст после 1-й публикации. Было: «Афонька прокричал…» – в «Тайное тайных» стало «Афонька с веселой тоской крикнул…»; к словам: «И он спросил…» – добавлена авторская характеристика: «И снова зависть и непонятное томление охватили его, и он спросил»; к словам «все утешал мать, да и за отцом нужно было следить» добавлена авторская ремарка: «И самого умучали непонятные мысли».
Раскрывая диалектику души своих героев, автор добавляет текст, указывающий на сложность их эмоциональной жизни, стихийность чувств, неподвластность их разумной воле человека.
Для художественного утверждения тайных мыслей и чувств героев Иванов использовал язык, названный критиком А. Лежневым «стилем намеков и недоговоренности»3. Вот лишь некоторые типичные примеры авторской правки:
Первые публикации
Видя ее, стоявшую неподвижно со щепами… даже какое-то умиление почувствовал Тимофей («Жизнь Смокотинина») – …креста-то на тебе нету, – строго сказал ему Митрий Савин.
– И не будет! – закричал Мартын. – Всю деревню переверну, легче без креста («Плодородие»)
– Пали! Считаю до двух. Кто убьет – тому баба («Пустыня Тууб-Коя»)
«Тайное тайных»
Ее, стоявшую неподвижно со щепами… даже какое-то умиление почувствовал Тимофей
– …креста-то на тебе нету, – строго сказал ему Митрий Савин.
– И не будет! – закричал Мартын. – Всю деревню переверну, легче. Мне ради такого дела…никого не жалко! У меня душа горит! Я на все согласен…
– Пали! Считаю до двух. Кто убьет – тому
Как мы видим, фраза при сокращении начинает напоминать вершину айсберга, основная часть которого скрыта под водой. В 1-м и 3-м примерах речь идет о тоске по женщине. Тимофей («Жизнь Смокотинина») испытывает непривычное для него умиление не столько «видя», столько чувствуя рядом Катерину. Комиссар из «Пустыни Тууб-Коя», втайне мечтающий о «песенной любви», не произносит вслух слово «баба». В первой публикации рассказа «Плодородие» реплика героя «легче без креста» напрямую отсылала к поэме «Двенадцать» А. Блока («Эх-эх, без креста!»). Двенадцать красноармейцев идут «без имени святого», они «ко всему готовы, ничего не жаль!». Поведение ивановского Мартына, испытываемое им смутное чувство тоски и жалости в начале рассказа говорит о том, что живы в его душе и жалость, и вера в Бога. Он не произносит: «Легче без креста», – и в тексте «Тайное тайных» остается одно слово «легче».
Вопрос о жалости – «контрреволюционной добродетели» 1920-х годов, как определит ее помещик Манюкин из романа Л. Леонова «Вор» (1927), не раз возникнет перед внутренним взором героев «Тайное тайных». «А не зажалеешь?» – совершенно «некстати» вдруг спрашивает Тимофей («Жизнь Смокотинина»). «С точки зрения человеческой целесообразности любовь вызывает жалость к себе», – утверждает комиссар из «Пустыни Тууб-Коя». Далее в первых публикациях рассказа шел текст: «…и я выходит против», – снятый автором, возможно, опять-таки потому, что чувство жалости, несмотря на пропаганду классового подхода к человеку, не исчезло из памяти крестьянина, ставшего комиссаром отряда.
В текст некоторых рассказов при включении их в книгу Иванов добавляет мотив жалости.
Первые публикации
Когда Афонька, рассматривая его, наклонился, человечек сказал что-то («Ночь»)
Крутая шея и затылок с жирной складкой пониже уха словно перетирали одежду его икр («Плодородие»)
«Тайное тайных»
Когда Афонька, рассматривая его, наклонился, человечек сказал что-то. Афонька не разобрал – что, но понял, какую-то тоскливую жалобу
Крутая шея и затылок с жирной складкой, склонившиеся к его ногам, словно взывали о жалости, а о какой и к кому, он и думать не мог
Усложняя тайную внутреннюю жизнь своих героев – простых мужиков, Иванов ставит их перед вечными, проклятыми вопросами человеческого бытия, на которые искали ответы герои классической русской литературы – интеллигенты Толстого и Достоевского. Может быть, формулировки ивановских мужиков, не умеющих словами выразить свою внутреннюю тревогу и тоску, были слишком просты, но несли они все те же вечные вопросы русской литературы.
Так, в рассказе «Ночь» деревенский парень Афонька убивает старуху. Сколько возмущенных слов произнесли критики, сравнивая героя Вс. Иванова, который убивает «просто так», с Раскольниковым из романа Достоевского, которому «понадобилась целая теория, чтобы оправдать убийство процентщицы»4. Между тем есть и у Афоньки не менее сложные внутренние мотивировки. Описывая старуху: «большие добрые глаза», «ласковый взгляд», «Афонские истории рассказывает», – Вс. Иванов отсылает читателя к исконно русской традиции – странничества человека по земле в молитвенном покаянии и служении Богу, – традиции, всячески разрушаемой в безбожные 1920-е годы. (Характерным примером может послужить герой рассказа Н. Алексиевского «Божий человек», который, поведав о святых местах, лезет в постель к деревенской девке и крадет новую кофту5.) В сознании Афоньки, живущего в мире поколебленных ценностей, где председатель Совета готов перекричать любого попа (или в изменившейся реальности?), странница предстает злобной, похотливой ведьмой, вызывающей желание столкнуть ее с поезда. Услышав же от матери рассказ старухи о кондукторе – «ласковой душе», который «чаем напоил и полтинничек на дорогу дал», Афонька задает вопрос, отсутствовавший в журнальной публикации и появившейся только в «Тайное тайных»: «Ласковая, говоришь, душа?». Афонька знает (или думает), что старуха лжет, и нет, значит, в мире никакой «ласковой души», и после этого открытия одного из законов новой жизни, ему, как пишет автор, сразу становится веселей, «и мир словно полегчал, словно оперился».
Серьезная работа велась Ивановым над начальными строками и финалами рассказов. Первый рассказ книги «Жизнь Смокотинина» в варианте «Красной нови» открывался следующим текстом: «Журавли блуждают в небе осенью, журавли теряют путь – выйдешь вечером, на землю ложится иней, тоска идет с неба – где же человеку с его земным сердцем знать все пути, если летящая к небу птица и та тоскует». Повторенное дважды слово «путь», данное в контексте «утерянный путь», несмотря на его очевидную важность для автора, уходит из начала книги: текст был снят. Начало становится предельно конкретным и связанным с эпохой: «Когда впервые после долгих войн…»
Последние строки рассказа «Жизнь Смокотинина» менялись несколько раз.
«Красная газета»: «Она (Катерина. – Е. П.) туго, чтобы не слезал с плеч, затянула платок узлом на груди – склонилась ко гробу.
Никто теперь не помешал бы ей набрать щепок».
«Пламя»: «Она туго, чтобы не слезал с плеч, затянула платок узлом на груди – склонилась ко гробу.
И никто теперь не помешал ей набрать щеп».
«Тайное тайных»: «Она туго, чтобы не скользил с плеч, затянула платок узлом на груди – склонилась к полу.
И никто теперь не помешал бы ей набрать щеп».
Похороны Тимофея происходят в послереволюционной России в соответствии с христианским обрядом. Заменяя слова «склонилась ко гробу» на «склонилась к полу», Вс. Иванов придает финалу двойственность: Катерина, в соответствии с традицией, отдает земной поклон, прощая Тимофея, и/или наклоняется к полу, чтобы вновь взять щепку. Напомним, что рассказ начинался с нарушения Тимофеем старинного обычая, по которому плотники могут давать щепы кому захотят. После смерти Тимофея никто не мешает Катерине – значит, обычай сохраняется. Так заканчивался первый рассказ книги.
В работе над финалом рассказа «Полынья» акцентировалась еще одна сквозная тема книги – тема сокровенного Слова. Сравним:
«Красная новь»: «Не от слов же быть мне такому храброму».
«Шквал»: «Не со слов же быть мне такому храброму».
«Тайное тайных»: «Не со слова же быть мне такому храброму».
В окончательном варианте заключительная фраза перекликается с зачином: «Жизнь, как слово – слаще и горче всего», – и позволяет рассматривать «Полынью» как рассказ о тайном Слове, вспомнившемся герою и повлиявшем на его перерождение.
С самого начала повествования о Богдане автор роняет, что тот не умеет найти нужного душевного слова: «…часто надо бы сказать заказчику ласковое слово, а у него получалась брань». Первые слова, обращенные к селезню, тоже брань: «Замучаю, курва». Однако в страшный момент близости смерти со дна души Богдана всплывают другие слова: «Богдан остановился. „Господи!“ – прокричал он приказывающе». И далее: «И стало ему до слез обидно на Степку, пригнавшего Богдана на такую обидную смерть к срубу. „Господи!“ – опять прокричал он». Эта первая часть молитвы, обращение к Богу – «имя, идущее от человека к Богу», – писал о. Павел Флоренский: «Это – зов. Обращаясь – именуя, – мы актом воли открываем свою уединенность Именуемому, утверждаем себя как бытие вторичное, усматриваем перед собою высшее себя (…) Зов – это значит мое признание, что не я один существую и что не я – последнее основание всего бытия»6. Может быть, именно потому, что вспоминает Богдан истинное Слово, и происходит его перерождение: огромная злость сменяется кипящим теплом, небывалая доброта овладевает им. Открытый в своей неоднозначности финал рассказа указывает на возможность восстановления связи с Небом – вертикали – в душе человека.
Исправления текста рассказов на пути их включения в «Тайное тайных» проясняли главные темы и мотивы книги, способствовали углублению характеров и созданию того «стиля ясной простоты», к которому стремился Вс. Иванов.
«Вся эта группа рассказов, различных по своей тематике, соединена общей идеей, идеей ложной и фальшивой. Она <…> безусловно, не может быть рекомендована к переизданию».
После разгромной критики 1927–1929 гг. книга «Тайное тайных» была разрушена и больше никогда при жизни писателя не переиздавалась. Отдельные рассказы книги в иной последовательности включались в собрания сочинений Вс. Иванова и различные сборники, добавлялись к текстам других произведений, а некоторые практически исчезли из круга переиздаваемых или приобрели совершенно иное, подчас противоположное первоначальному звучание.
Рассматривая принципы издания рассказов из книги «Тайное тайных», важно разделить цензурно-редакционные изменения, внесенные в текст, и те, что вызваны реализацией собственно авторских установок писателя.
Проведенная сверка прижизненных изданий позволяет говорить, что в 1928–1929 гг. Вс. Иванов сам вносит изменения в текст книги. Подготовка к печати 3-го тома собрания сочинений, куда войдут шесть рассказов «Тайное тайных», видимо, происходит до начала 1928 г., т. е. до публикации рассказов «Особняк» (Журнал для всех. 1928. № 1) и «Подвиг Алексея Чемоданова» (Кр. Н. 1928. № 2), которые окончательно утвердят тогдашнюю критику в буржуазном, враждебном революции характере творчества писателя (эти рассказы не войдут в его первое Собрание сочинений 1928–1931 гг.). Формируя состав 3-его тома, Вс. Иванов включает в него произведения из двух книг – «Тайное тайных» и «Дыхание пустыни», а также некоторые рассказы, печатавшиеся в периодике («Комендант», «Счастье епископа Валентина» и др.), объединяя их общим заглавием – «Счастье епископа Валентина». Этот рассказ – единственный, где появляется сочетание слов «тайное тайных»: «И как тяжело жить, если счастье человека состоит в том, что ты не смеешь судить мир, не имеешь силы убежать от мира и должен подчиняться тайному тайных земли, малую каплю которого знают мужики»7. Приведенный фрагмент текста отсутствует в первых публикациях рассказа и вводится именно при включении его в 3-й том Собрания сочинений. Рассказы этого тома в основном посвящены деревне середины 1920-х годов. Возможно, в замысел автора входило посредством такого раскрытия смысла понятия «тайное тайных» прояснить одну из главных мыслей уничтоженной книги, противопоставив ее трактовкам, которые давали в печати как рапповцы, так и перевальцы. Приведенный пример дает основания утверждать, что в 1928 г. Иванов логику своего творчества видел в дальнейшем раскрытии того понимания мира и человека и тех идеалов и ценностей, к которым пришел в «Тайное тайных». В реальности, однако, все сложилось иначе.
К 1929 г. обличительный пафос статей об Иванове достигает своего апогея. Итог этой антиивановской кампании представлен в «Литературной энциклопедии» (1930), где творчество писателя названо «чуждым социалистической революции»8.
С этого момента начинается «новый поворот Всеволода Иванова» (название статьи 3. Малютина 1931 г.), когда писатель, с одной стороны, сам признает рассказы «Тайное тайных» ошибочными, вызванными «сугубо личными настроениями»9, с другой – последовательно настаивает на включении ошибочных рассказов в издания своих произведений, соглашаясь на различного рода исправления.
Если проанализировать частотность публикаций рассказов из книги «Тайное тайных» в период с 1930 по 1963 г., то можно увидеть, что одни («Жизнь Смокотинина», «Полынья»), естественно с исправлениями, включались в издания разных лет, другие, наиболее крамольные, практически не публиковались. К последним относятся «Поле» – переиздан при жизни писателя один раз в 1934 г. в сборнике с характерным названием «Дикие люди»; «Ночь» – одно переиздание в двухтомнике 1938 г. и «Смерть Сапеги» – переиздан только в 1963 г. Что касается двух последних рассказов книги, то здесь причины запрета крылись, скорее всего, в их так называемой «фрейдистской направленности», о которой много писали в 1920-е годы. С рассказом «Поле» ситуация была иная. Он продолжал в творчестве Иванова линию, идущую от ранних рассказов о земле как источнике жизни человека и народа, повести «Цветные ветра» (1922) и далее к никогда не публиковавшимся произведениям 1940-х годов: роману «Проспект Ильича» (1942), пьесе «Запевало» (1944; впервые: НВИ. С. 397–411), продолжавшим ту же тематику. Образовалась странная ситуация. Зоркая прижизненная критика всегда называла Вс. Иванова среди новокрестьянских писателей. В начале XXI в. в силу разных причин, в числе которых назовем и отсутствие переизданий рассказа «Поле», об авторе «Цветных ветров» и «Тайное тайных» напишут так: «Запах хлеба, исконно опоэтизированный фольклорной культурой, исполнен для Всеволода Иванова угрозой революционному состоянию мира»10.
Дальнейшие издания рассказов книги «Тайное тайных» все больше уводили читателей и исследователей от ее проблематики. Произвольной стала последовательность расположения текстов. Архитектоника «Тайное тайных», как уже отмечалось, исполнена высокой и трагической логики. Ни в одном из последующих прижизненных и посмертных изданий авторская логика не сохранялась: рассказы включались в разные тома (Избранное, 1937–1938 гг.), или разные разделы (издание 1963 г.). Изменение последовательности расположения рассказов книги привело к тому, что перестали прочитываться ее главные сокровенные темы.
Со 2-й половины 1930-х годов в работу над рассказами включились редакторы. Редакционная правка шла в нескольких направлениях: стилистическом – унификации подверглась изумительная метафоричность Иванова; условно говоря, «этическом» – снимались эпизоды, носящие, по мнению редакторов, излишне натуралистический характер, и идеологическом.
Редакторское вмешательство в текст отдельных рассказов можно увидеть уже в некоторых журнальных публикациях 2-й половины 1920-х годов. В качестве примера приведем три публикации отрывков из повести «Бегствующий остров». В журнале «Молодая гвардия» (1926. № 5), где печатаются главы 8-13 повести (без 10), в начало 11-й главы после слов: «Ведь будто в тюрьме сидит человек, Запус-то», – добавлено: «Случаем попал на Белоостров, а обратно пути ему неведомы, и показываться на Белоострове смысла нет: повесят его раскольники как еретика и безбожника; знает он уже, что дикие у них нравы». Изменено отношение Запуса к «бабе» и революции. Из фразы: «Васька было к голбчику, к бабе», – «баба» исчезла. Вместо текста о героях: «Трусость-то, он понимал, какая была (это вы не верьте, что будто есть такие герои – не трусили: из сказок таких выудили), а вот непонятно ему, почему не может девку лапать, пока та губами не поведет так просто – все поймешь. За девку готов сгореть, за девку… Э, да что тут описывать!» – напечатано: «Без пользы он тут прохлаждается, революцию пропускает, а тут еще девка ходит – не поймешь ее», а после слов о Саше: «И уйдет», – добавлено: «Ну какая это жизнь и где тут революция? – одна ирония». Редакторами снимаются слова Запуса о венчании: «Может, поведешь ты, мой друг, нас к трем Соснам, обвенчаешь», авторские фразы о чувствах Запуса: «И будто река в сердце к Запусу хлынула», о теплом отношении к раскольнику: вместо «и даже Мирошку погладить захотелось» – напечатано: «и даже Мирошке погладить захотелось» (судя по контексту, руку Саши).
Практически одновременно с «Молодой гвардией» 12-я и 13-я главы повести печатаются в журнале «Шквал», под заглавием: «Раскольники в городе». Изменения текста этих глав в двух журнальных вариантах одинаковые. Начало 12-й главы отличает не свойственная Иванову ирония по отношению к старице Александре: «…в моленьи ей первое место, и в раю, надо думать рядом с Марией Египетской место уже уготовано». Снята фраза: «…мужа, святого старца, от спасения души уговаривала». Были и анекдотические исправления: вместо «нагой Авдошки, валяющейся на кровати», появилась «нога Авдошки», которая «била по кровати». Обе рассмотренные публикации заканчивались эпизодом, где мать Александра проклинает играющих детей (конец 13-й главы), что полностью искажало общий смысл произведения. В публикации 4-й главы в «Красной панораме», под заглавием «Галкин рассказывает», уже отмеченная тенденция сохраняется: создается отношение к раскольникам как к невежественным и жестоким людям. Ни о какой святости у них не может быть и речи, а потому исчезает рассказ о схимнике Платоне: «Молился Платон в пещерах неустанно. Большим почетом пользовался, ходили многие за советами, – сам он двадцатый год в поляны не спускался. В день съедал сухарь, малую чашку воды выпивал» и т. п. Сличение журнальных публикаций и текста повести в книге позволяет увидеть, что общий характер правки, вносимой в текст, соотносился с тем представлением о религиозной жизни человека вообще, и о старообрядчестве в частности, которое утверждалось в обществе в 1920-е годы. Примерами могут послужить статьи, очерки и рассказы, которые печатались в 1926–1927 гг. в популярном журнале «Безбожник», представляющие старообрядцев виновниками расстрела иваново-вознесенских ткачей в 1905 г.11, «бедовыми людьми», которые славились «поножовщиной» и после молитв «стенка на стенку шли»12 и т. п. В этом же рассказе и в очерке «В лесах и на болотах» (Безбожник. 1927. № 18), заимствовавших заглавие знаменитого романа П. Мельникова (А. Печерского) «В лесах», читателя пугали либо зверскими нравами раскольников: например, рассказ старика Власа о том, как многих женщин, приходивших из деревни рожать в леса, «погубили» староверы, а одну, скончавшуюся в родах, «на дорогу (…) бросили и ребеночка рядом с ней»13; либо тяжелой судьбой женщин из скитов: «Еще печальнее, бледнее, беспросветнее, в вечном недоедании, изнурении постом и молитвой и в возне с горшками и печкой проходит жизнь женщины-староверки»14.
В 1930-е годы редакторское вмешательство в текст приобретает гораздо более масштабный характер. Откровенно идеологическими причинами было вызвано изъятие в издании 1937 г. из текста рассказа «Плодородие» истории, которую рассказывает мужик Турукай, комический двойник главного героя. По своей роли в произведении – переосмыслении через язык народной смеховой культуры «серьезных» идеологических категорий жизни 1920-х годов – этот персонаж, брехун и враль, предтеча знаменитого шолоховского деда Щукаря. Сокращается следующий замечательный фрагмент: «…мне тот же скопец говорил: Ленина-то, говорят, в склепе-то нет, заместо его какой-то солдат лежит, а сам Ленин сейчас по России ходит, надежных людей выбирает, чтоб всему миру войну объявить. Тыщу, грит, начальников набирает, а набрал только пятьсот. Ведь, очень просто, может и в наше село зайти, скажет: а почто Турукаю не быть у меня главкамандующим, если он у меня в партии. Надевай на Турукая ордена и давай ему коня арапской породы, а…» История Турукая пародийна по отношению к многочисленным «народным сказам о Ленине», появившимся после смерти вождя. Безусловно, в конце 1930-х годов она не могла быть напечатана.
Тотальным искажение текста рассказов Вс. Иванова становится в 1950-е годы. Именно в изданиях этих лет варварски правился язык писателя. Вот несколько примеров унификации языка: печаталось «каверза» вместо «заполошная события», «неужто и впрямь» вместо «взаболь», «шли покачиваясь» вместо «зыбались чреслами» («Плодородие»), ресницы «доходили до бровей» вместо «хватали до бровей», «улыбнулась легко» вместо «улыбнулась тягостно-легко», «партизан в кафтане» вместо «кафтоносец» («Пустыня Тууб-Коя») и т. п. По стилистическим и идеологическим соображениям убирались части фраз и целиком фразы: «груди у нее не вместились бы в крынку, она сонно, медленно качалась» («Плодородие»), «В такое-то великое да расстрельное время», «Игумны, матушка, все сбежали, а то и пристрелены», «Все топи и болота мелиорирую, леса повырублю, больше широва, тем склешивее» («Бегствующий остров»). В последней фразе опущены слова, придающие ироническую окраску эпохальным проектам продкомиссара. И т. п. На фоне борьбы с ивановской метафоричностью откровенной издевкой выглядит на полях текста: «ослы, как известно, были задраны волками за отсутствием стадности и наблюдений», – редакторская пометка: «Оставить – стилизация речи»15.
Из всех рассказов книги «Тайное тайных» больше всего переиздавалась одна из «Яицких притчей», «Про двух аргамаков», – семь раз. Однако цена этих переизданий оказалась слишком велика. Для издания 1952 г. рассказ был выправлен так, что абсолютно утрачивался его истинный смысл – трагедия братоубийственной гражданской войны.
Читаем в «Тайное тайных»: «Чрез всех казаков проскакал Егор к брату. „Эх, грит, Митьша, прощай“. И вдарил его шашкой в самые глаза. Потом-то? Напугались казаки такого злодейства, сдались».
А вот исправленный вариант 1952 г.: «Чрез всех казаков проскакал Егор к брату. „Эх, грит, Митьша, прощай, изменник. Стыдно мне за тебя и за все семейство наше казацкое! Помирай от моей руки“. И вдарил его шашкой в самые глаза. Потом-то? Ну, напугались генеральские казаки. Уж коли брат своего брата не пожалел, значит за Егором правда. А с правдой как воевать? Она победит»16.
Этот исправленный текст вошел во все дальнейшие прижизненные и посмертные издания, включая и последнее собрание сочинений Иванова, где он сопровождается следующим комментарием: «При включении в книгу „Повести, рассказы, воспоминания“. М., 1952 – рассказ подвергся стилистической правке»17. Помимо исправления «злодейства» на «правду» в оценке убийства братом брата, к так называемой «стилистической правке» можно отнести следующее: из реплики Митыни в споре братьев исключена фраза: «В церквах, грит, не позволю конюшни доспевать»; сокращению подвергся народный взгляд на новую власть: «Мы толды бальшовиков-то не знали, все больше с молоканами путали: тоже ведь веру свою из Ермании привезли».
В 1958 г. началась подготовка второго Собрания сочинений Всеволода Иванова. Итогом мучительной работы писателя с редакторами стало то, что 3-й том, включающий рассказы книги «Тайное тайных», был рассыпан. Защищая дорогую для себя книгу, Иванов пишет 3 сентября 1958 г. письмо Генеральному секретарю ЦК КПСС Н. С. Хрущеву, в котором, ссылаясь на авторитет A. M. Горького, настаивает на публикации многострадальных произведений: «Основанием для решения Трегубова (в то время заведующий отделом современной художественной литературы Гослитиздата. – Е. П.), приведшего к рассыпке 3-го тома, послужила рецензия В. Друзина, редактора „Литературной газеты“, которому этот том был послан на рецензию, – уже после подписания к печати. Рецензент был выбран с умыслом, т. к. широко известно, что Друзин не может мне простить того, что я решительно выступал во время моей работы в редколлегии „Литер(атурной) газеты“ против беспринципности и бездарности Друзина. „Рецензия“ Друзина, в которой одним росчерком пера из уже набранного тома вычеркивается большая часть входящих в него произведений, не нуждается в комментариях.
Считаю нужным сказать, что о тех именно рассказах, с которыми расправился В. Друзин, М. Горький писал в 1926 г., что он в них видит „настоящее мастерство“ (прилагаю копию письма, само письмо хранится в архиве Института мировой литературы). Упомянутый Горьким рассказ „На покой“ не включен в „Собрание сочинений“ наряду с другими произведениями, о которых я говорил выше. К „последним рассказам“, о которых пишет Горький, относятся рассказы: „Плодородие“, „Жизнь Смокотинина“, „Полынья“, „Счастье епископа Валентина“, которые ошельмованы в рецензии Друзина»18.
Рецензия В. Друзина, в 1926 г. одного из одиозных критиков С. Есенина, действительно носила уничтожительный характер: «…некоторые рассказы и повести Вс. Иванова выглядят как полностью неприемлемые в наши дни и по форме, и по содержанию»19. Далее последовательно разъяснялось, почему тот или иной рассказ «не следует печатать». «Повесть „Плодородие“ (…) утверждает незыблемость извечных законов бытия – попытки отдельных бунтарей изменить жизнь бессмысленны и никчемны. Плодородие земли возможно лишь при старых, устоявшихся формах жизни». «Сумбурен и пессимистичен рассказ „Полынья“». «Рассказ „Жизнь Смокотинина“ изображает человека как безвольную игрушку слепых страстей»20. И т. п.
Сохранившиеся в фонде издательства «Художественная литература» РГАЛИ материалы представляют драматическую историю борьбы Вс. Иванова за рассказы «Тайное тайных», завершавшуюся поражением автора. На машинописях рассказов «Тайное тайных» видны следы двух правок: предварительной, «щадящей» и окончательной, исказившей произведения до неузнаваемости. Так, из текста рассказа «Пустыня Тууб-Коя» изымаются строки со страшными подробностями Гражданской войны: «По челку утонула в груди человека конская нога»; «Серые шинели слились в один матерно мечущийся растрепанный ворох…». Но этого редактору показалось мало, и вместо слов: «Тут надо про смерть» – вписывается: «Тут надо про борьбу»21. Изменяется и сюжетная коллизия рассказа. В книге «Тайное тайных» комиссары Омехин и Палейка, разыгрывая, кому достанется пленница, сестра белогвардейского офицера, стреляли в мышь. В редакторском варианте Омехин благородно отказывается стрелять, демонстрируя революционную стойкость, а затем убивает недостойного комиссара Палейку. Из текста исчез также один из ключевых его фрагментов о ветре пустыни, и т. д., и т. п.
Надо сказать, что этот рассказ, как и «Жизнь Смокотинина», уже изымался в 1946 г. из проекта издания «Избранные сочинения Вс. Иванова». Тогда в «Заключении об „Избранном“» от 19 октября 1946 г. старший редактор отдела современной русской литературы А. Воинов писал: «В этих рассказах поступки всех героев подчинены безудержной, болезненной плотской страсти. (…) Появление пленницы в отряде сделало его совершенно небоеспособным, превратило его в отряд животных, истекающих похотью. В „Жизни Смокотинина“ та же одуряющая болезненная тяга к женщине. Темные силы живут в людях и приводят их к гибели, к маразму»22. Оценки редакторов 1940-х годов, как видим, не уступали злобным вердиктам критиков 1920-х годов. Рассказы из «Тайного тайных» тогда так и не были включены в состав «Избранных сочинений Вс. Иванова». В 1958 г. это все же произошло, но какой ценой!
Еще более радикальной правке подвергся рассказ «Плодородие», в новой редакции превратившийся в повествование о напряженной борьбе партийца Мартына со злобными кулаками-староверами. Предлагая издательству «Художественная литература» рассказ, не публиковавшийся 20 лет, Вс. Иванов предварительно вносит в него исправления. В РГАЛИ (Ф. 613. Оп. 8. Ед. хр. 574. Л. 476–512) хранится текст «Плодородия», который представляет собой разрозненные страницы из 3-го тома СС-1, наклеенные на листы большого формата, с вложенными в них машинописными страницами, содержащими ряд авторских исправлений. Снято посвящение Ф. Богомильскому. В рассказе Турукая о девке (3 гл.) опущена часть фразы: «Ногами машет, вертит, дрыгат, в конец-то…в дождь ударило…», в этой же главе сокращено: «Кое где (…) истошно охали, и тогда сразу тяжелел живот у Мартына». Вместо: «…но времена дикие: если не партия, сожжет еще, а потом такие законы отыщет, погорельцев же судить и будут» – напечатано: «…но времена такие пришли: тут ему и партия, голытьбе только и лафа, такие законы отыщет, еще и судить тебя будут»23. В 6-й главе сокращен разговор Мартына с мужиками о партии («Тюменец замахал руками ~ и мордой в канаву не летит») и заменен словами «Мартын визгливо закричал: – Какой ты указчик. Сам в партию не хошь и нам не указывай». Однако сатирическое описание поездки в город во 2-й части 6-й главы (после *) в этом варианте еще сохранялось целиком, лишь в конец главы было добавлено: «Потом выяснилось, что сто рублей-то дали старики не подрядчикам, а мошенникам. Те задание получили и по службе взрывать были обязаны». Количество напившихся инженеров в 7-й главе сократилось с трех человек до двух. Помимо указанных исправлений и сокращений, наиболее существенным моментом правки стала переделка Ивановым в 8-й главе любовного сюжета на политический: вместо сцены насилия над Еленой введены фразы: «-А будешь, будешь слушать, когда тебе говорят… – кричал Мартын. – Я тебе про хорошее. В город тебе надо. К настоящему делу тебе надо. Эка краля! Господи… Мужик-то у тебя последняя…» И т. п. Последующий текст сцены избиения сокращен. Вместо абзаца: «Мартын заревел ~ рев еще не прекращался» – напечатано: «Мартын пытался объяснить, что ни в чем не виноват – и бабу не тронул и для общества старался. Но никто ничего не слышал и не понимал, били Мартына не только богатеи, но и науськанные ими, ослепленные, озверевшие мужики, били сначала кулаками, затем подхватили и, подкидывая в воздух, бросали спиной на гальки». Однако и этих исправлений оказалось недостаточно для переиздания.
В результате в СС-2 вошел вторично переработанный текст, созданный уже после того, как отчаявшийся писатель обратился с письмом к Н. С. Хрущеву. Основная задача редакторов состояла в том, чтобы окончательно сделать из Мартына и Турукая достойных партийцев, мужиков-староверов превратить в озверевших кулаков, а трагический финал по возможности сделать оптимистическим. В 6-й главе к репликам Мартына: «Говорят вам, – в город надо ехать. В Совете помощи просить», – после слов одного из мужиков, что надо предложить городской власти золото, добавлено следующее возражение героя: «– Эк тебя. Ты все по старинке меряешь! Ан теперь советская власть!»; а репликам других мужиков даны яркие оценочные характеристики: «ехидничал Скороходов», «опять поддакнул ему Любашкин», «опять заорал Скороходов» и т. п. Эпизод поездки мужиков в город (6 гл.) в новой редакции подвергся практически полному сокращению, начиная от сцены приготовления к поездке: «Пиджаки надели погрязней, долго разучивали, как вначале нужно хвалить советскую власть, как благодарить за благодеяния, за агрономов, за школы, за свободу религий…» Но добавлено было, что «Тюменец успел с одним из инженеров снюхаться – золото ему сунул». Этот-то недостойный инженер как раз и «устроил пьянку» и «собрал девок», а не трое, как в «Тайное тайных». Вместо сцены помощи односельчан семье Мартына, который в «Тайное тайных» «так на поле и не заглядывал», герой трудится сам, размышляя при этом: «„Как объединить мужиков победнее и батраков, когда они все еще побаиваются богатеев? Не миновать в волость идти – там-то ячейка есть и знакомец умный есть – посоветует, как приступиться“, – думал Мартын, нарубая сухостойных дров для сушки в овине». Облагородили редакторы и Турукая: из мужика «никчемного», «пустого» он превратился в мужика «веселого нрава», стал мыслить нужными классовыми категориями; добавлено: «Богатеи-то о своем брюхе только и думают, на обчество им наплевать». Исчезают из текста характеристики: «Турукай был каждый день пьян» и «Турукай блевал, нехорошо ругаясь…». Елена в новой редакции рассказа превращается в женщину, стоящую на пороге пробуждения к новому. Финал рассказа в итоге приобрел следующий вид: «Мартына не стало, может быть именно поэтому слова его о городе, о настоящем деле зазвучали в ней с необычайной силой и не пускали домой в долину» То, что Елена идет не домой, а «вверх к приискам», очевидно, символически передавало ее готовность к новой жизни.
Приведенные примеры различных изданий текстов рассказов «Тайное тайных» показывают, как на протяжении многих лет делалось все, чтобы стереть память об ошибочной, позорной книге писателя. Изменялись и сокращались как отдельные части текстов – слова, фразы, целые эпизоды, так и целиком тексты; с целью разрушить структуру книги, менялся порядок их расположения, наконец, некоторые рассказы целиком исключались из изданий.
И надо сказать, что цель была достигнута. Книга как целое на многие десятилетия перестала существовать.
Комментарии
Книга Всеволода Иванова «Тайное тайных» издавалась два раза. Первое издание вышло в свет в декабре 1926 г. в Государственном издательстве (Госиздат) в Москве, тиражом 4000 экземпляров. Обложка выполнена Л. Титовым (см.: Книжная летопись. 1927. № 1. С. 45). Второе издание – в июне 1927 г., там же, тиражом 7000 экземпляров. Обложка 2-го издания оформлена Б. Б. Титовым (см.: Там же. № 26. С. 811).
Расположение текста на странице в 1-м и 2-м издании одинаковое, нумерация в 1-м издании начинается со стр. 3, во 2-м – со стр. 5. Заглавия рассказов выполнены в двух изданиях по-разному: в 1-м издании они расположены непосредственно над текстом, во 2-м – в верхней части страницы. Во 2-м издании заглавие первого рассказа дано с опечаткой: «Жизнь Смокотина» вместо «Жизнь Смокотинина». Кроме этой опечатки, в текстах двух изданий есть еще несколько незначительных разночтений.
В настоящем издании книга Вс. Иванова «Тайное тайных» публикуется по первому изданию.
Раздел «Дополнения» включает произведения Вс. Иванова, тематически и стилистически близкие книге «Тайное тайных»: рассказы 1916–1921 гг., подготовившие появление книги в творчестве писателя и дающие уникальную возможность проследить путь Вс. Иванова к его главной книге; рассказы и повести 1925–1927 гг., написанные в ключе «Тайное тайных» в период подготовки книги к печати и в разгар литературной борьбы вокруг нее. В «Дополнения» также включена переписка Вс. Иванова с А. М. Горьким 1924–1928 гг.
Тексты всех произведений Вс. Иванова печатаются без изменений, с учетом норм современной орфографии. Знаки апострофа «'» заменены на «ъ», слова «притти» на «прийти», «шопотом» на «шепотом», «чорт» на «черт» и т. п. В отдельных случаях, когда автор воспроизводит крестьянскую или диалектную речь, написание сохраняется: «што», «жись», «ево», «верна», «зарастат», «хошь» и т. п. Сохранено написание буквы «ё» в слове «ледово». Особенности авторской пунктуации всюду сохраняются, за исключением тех случаев, где она очевидно противоречит современной синтаксической норме: знаки препинания при причастных и деепричастных оборотах, в сложном предложении, при прямой речи и т. п.
Сохраняются все локальные особенности словоупотребления, в том числе отклонения от норм русского литературного языка. Просторечные и диалектные слова, где это необходимо, сопровождены в примечаниях отсылкой на «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля (В 4 т. М., 1955) и «Словарь русских народных говоров» (Л.: Наука, 1965) с указанием тома или выпуска. Слова казахского языка, употребленные в некоторых рассказах 1916–1921 гг. в искаженном варианте, даются по словарю: Махмудов X., Мусабаев Г. Казахско-русский словарь. Алма-Ата, 1988. Значение слов и выражений, взятых из воровского жаргона, дается по: Балдаев Д. С. Словарь блатного воровского жаргона: В 2 т. М., 1997.
Примечания включают сведения о первых газетных и журнальных прижизненных изданиях, творческую историю и историю текста, историко-литературный комментарий, в котором восстанавливается контекст времени, указывается на аллюзии текста, скрытую или открытую полемику, которую ведет Вс. Иванов с писателями-современниками, отклики в критике 1920-х годов.
Рассказы датируются условно по первым публикациям. Некоторые датировки уточняются по имеющимся биографическим источникам.
Наиболее общие закономерности творческой работы Вс. Иванова над текстами ранних публикаций рассказов при включении их в книгу «Тайное тайных» и при последующих переизданиях раскрываются в статье: Папкова Е. А. История текста рассказов книги «Тайное тайных» (С. 421–440 наст. изд.). В примечаниях к рассказам книги отдельно указываются наиболее существенные моменты истории текста до его включения в «Тайное тайных» и изменения его в прижизненных публикациях. В примечаниях к рассказам и повестям раздела «Дополнения» приводятся существенные варианты и редакции текста.
В статье «История текста рассказов книги „Тайное тайных“» и Примечаниях при цитировании произведений Вс. Иванова в отдельных случаях, чтобы показать динамику работы автора над текстом, приняты следующие условные обозначения:
– зачеркнутые слова, фразы, фрагменты набраны курсивом;
– новый вариант текста – вписанные слова, фразы, фрагменты отмечены полужирным шрифтом.
При публикации переписки Вс. Иванова и А. М. Горького принята следующая система обозначений:
– слова и фразы, зачеркнутые авторами, восстанавливаются в прямых скобках – [];
– слова, не дописанные автором, дописываются в ломаных скобках – <…>; в такие же скобки заключаются и редакторские конъектуры. В случае, когда такое дополнение сомнительно, используется обозначение – (…?)
– авторские подчеркивания набраны курсивом.
Ссылки на письма Вс. Иванова и А. М. Горького 1924–1928 гг. даются в круглых скобках после цитаты с указанием страницы настоящего издания.
Иллюстративные материалы взяты из личного архива Вс. Иванова, а также из фондов РГАЛИ, PO ИРЛИ PAH, OP РНБ, Музея А. М. Горького, Государственного музея К. А. Федина, Курганского областного краеведческого музея и Музея литературы и искусства им. Бухар Жырау г. Павлодара (Казахстан).
Составитель выражает глубокую благодарность за помощь в работе над изданием зав. отделом новейшей русской литературы и литературы русского зарубежья ИМЛИ чл. – корр. РАН Н. В. Корниенко и всем сотрудникам отдела, директору Архива Горького ИМЛИ PAH E.P. Матевосян, директору Музея А. М. Горького СМ. Демкиной, директору Музея литературы и искусства им. Бухар Жырау г. Павлодара P.E. Енгибаровой и сотрудникам музея, директору Курганского областного краеведческого музея Э. А. Самсоновой, сотрудникам OP ИМЛИ PAH, PO ИРЛИ РАН, НИОР РГБ, OP РНБ, Государственного музея К. А. Федина (Саратов), Государственного исторического архива Омской области, Государственного архива Курганской области, Государственного литературного музея (Москва). Отдельную благодарность за помощь в работе над комментариями к повести «Бегствующий остров» автор выражает доценту кафедры философии Санкт-Петербургского университета экономики и финансов К. Я. Кожурину и доценту Тюменского государственного университета А. А. Медведеву. На всех этапах работы над книгой заинтересованное участие принимал сын Вс. Иванова академик РАН Вяч. Вс. Иванов.
Жизнь Смокотинина*
Впервые: Красная газета. 1926. 14 марта. С. 2, под заглавием: «Тайное тайных».
Практически одновременно: Кр. Н. 1926. № 3. С. 52–58. Под заглавием: «Жизнь Тимофея Смокотинина, сына подрядчика»; журнал «Пламя» (Харьков, 1926. № 5. С. 4–5). Под заглавием: «Щепа». Вероятнее всего, Вс. Иванов отослал рассказ, дав ему разные заглавия, сразу в три издания: ленинградскую газету, московский и харьковский журналы. При сопоставлении трех публикаций выявляется целый комплекс разночтений, стилистических и смысловых (см. в настоящем издании статью «История текста рассказов книги „Тайное тайных“» в Приложении).
Раскрывая смысл заглавия «Тайное тайных», которое в газетной публикации имел рассказ «Жизнь Смокотинина», критика 1920-х годов связывала его с «мгновенно возникающей» в жизни человека любовью. «Каждому из них (героев „Тайное тайных“. – ЕЛ.) повстречается в жизни женщина, у которой „длинные каштановые ресницы“ и „единственное движение рук“, „словно реки хлынут в сердце“. Человек уже не владеет собой, он теряет свой рассудок и близок к гибели» (Литературные новинки // Смена. 1927. № 3. С. 7. Подпись: Б. Л.). Такой женщиной, «олицетворяющей судьбу, рок, фатум», прежде всего называли Катерину Шепелову из рассказа «Жизнь Смокотинина»: «Таинственная Катерина молча выполняет свою роль на протяжении всего рассказа, она только два раза произносит „темное слово“: „полно“» (Якубовский Г. Литературные блуждания: психологические приключения трех писателей // Журнал для всех. 1929. № 3. С. ПО). Критика рассматривала чувства ивановских героев преимущественно в духе «разрешения полового вопроса», когда в «новых условиях советской общественности» и в литературе («Любовь пчел трудовых» А. Коллонтай, 1923; «Цемент» Ф. Гладкова, 1925 и др.) утверждались «новые социальные чувствования»: «Не дыхание, замирающее от влюбленного созерцания <…>, а естественное впитывание свободными от дурмана легкими свежего воздуха. <…> Не движение, кокетливо или „властно“ пленяющее тот или иной пол, а свободные естественные двигательные проявления организма» (Залкинд А. Б. Половой вопрос в условиях советской общественности. М., 1926. С. 12). На этом фоне «ушибленный любовью» (Нович И. Критика и библиография // Молодая гвардия. 1927. № 4. С. 207) Тимофей Смокотинин виделся критикам вызывающе несовременным, не знающим «своего места в жизни» (Там же).
Несмотря на многочисленные обвинения в адрес автора 7У, практически каждый рассказ, и прежде всего «Жизнь Смокотинина», прочитывался критиками как пример блестяще сделанной психологической новеллы. Так, И. Нович в рецензии писал: «…нельзя не отметить огромный рост Всеволода Иванова как художника. Иванов вырос в большого мастера художественного слова. Возьмем наугад, без выбора, несколько строк: „нож скользнул, и вдруг все перемешалось в теле Тимофея. Он ясно почувствовал – горький снег во рту, шатающийся сугроб, и месяц скользнул у него между рук…“ В трех строках потрясающая картина. <…> эти образы могут родиться из-под пера писателя не просто в высокой мере талантливого, но и зрелого мастера» (Там же. С. 208). Очень подробно данный фрагмент текста и в целом весь образно-ассоциативный ряд в различных эпизодах рассказа проанализировал в статье Ж. Эльсберг: «Исключительное мастерство Иванова сказывается, прежде всего, в том, что он на эти повторяющиеся образы не накладывает ни одного лишнего мазка и краски, ибо каждый лишний такой мазок может психологическую неясность, смутность, соответствующую жизненной правде, превратить в символическую ясность» (Эльсберг Ж. Творчество Всеволода Иванова // На лит. посту. 1927. № 19. С. 45).
(1) Златоустовские топоры – топоры, лезвия которых сделаны из знаменитой златоустовской стали. Заводы по изготовлению литой стали строились в уральском городе Златоусте с начала XX в., изделия их завоевали известность в России и за ее пределами.
(2) Подрядчик – тот, кто обязался за определенную плату выполнить в срок какую-либо работу.
(3) …непонятными налогами… – Имеется в виду продовольственный налог – твердо фиксированный натуральный налог с крестьянских хозяйств, введенный декретом ВЦИК от 21 марта 1921 г. взамен продразверстки. Переход к продовольственному налогу был первым актом нэпа, считался экономическим стимулом для подъема сельского хозяйства. Ставки налога по каждому виду сельхозпродукции определялись в зависимости от местных условий и зажиточности крестьянских хозяйств. Декретами Советской власти в марте-апреле 1921 г. устанавливался натуральный налог на хлеб, картофель, масло, семена, яйца, молочные продукты, шерсть, кожсырье, льняное и пеньковое полотно и т. д. В апреле 1923 г. решением XII съезда РКП(б) вместо различных налогов и сборов в деревне был введен единый прямой сельскохозяйственный налог (декрет ВЦИК и СНК от 10 мая 1923 г.), который с 1924 г. стал взиматься в денежной форме.
Недовольство налогами обостряется в деревне в 1925–1926 гг. В донесениях агентов ОГПУ Сталину неоднократно встречаются записи возмущенных высказываний крестьян в связи с очередным повышением налога: «Советская власть не может точно сказать, сколько платить крестьянину. <…> Пройдут еще две недели, и там подумают снова, как нас обобрать», – отчет за август 1926 г. по Иркутскому округу (Совершенно секретно. Т. 4. Ч. 1. С. 538); «Налоги в настоящее время совсем задушили крестьян. <…> Власти народной нет, а есть лишь шайка какая-то, которая ни с чем не считается и положением крестьянина не интересуется» (Там же. С. 584).
Ответом на действия власти были не только требования создания Крестьянского союза, но и хулиганство, образование банд. Эти приметы 1920-х годов нашли свое отражение, в частности, в поэме С. Есенина «Страна негодяев» (1922–1923): «И в ответ партийной команде, / За налоги на крестьянский труд, / По стране свищет банда на банде, / Волю власти считая за кнут» (Есенин СЛ. Полн. собр. соч. М., 1998. Т. 3. С. 75).
(4) …лавку для кооператива… – Кооперация – форма организации совместного труда значительного числа людей: рабочих, ремесленников, крестьян, служащая для достижения общих целей в различных областях экономической деятельности. В России кооперативное движение возникло в 60-е годы XIX в. в виде производственных (в том числе земледельческих) артелей, потребительских обществ, ссудно-сберега-тельных товариществ и т. п. Накануне революции 1917 г. число всех видов кооперативов достигло 63 тысяч и объединяло 24 миллиона человек. В 1918 г. В. И. Лениным был выдвинут план социалистического переустройства мелкотоварного, прежде всего крестьянского хозяйства через кооперацию (статья «Очередные задачи Советской власти», 1918). Тогда же возникло около 1,5 тысяч сельскохозяйственных производственных кооперативов – коммун, артелей, товариществ по совместной обработке земли и др. В период «военного коммунизма» на основе декрета СНК от 22 марта 1919 г. произошла реорганизация кооперации – ее огосударствление. Введение нэпа предоставило кооперации определенную свободу действий – декрет СНК от 7 апреля 1921 г. «О потребительской кооперации». В соответствии с ленинским планом нэпа (статья «О кооперации», 1923), кооперация была призвана стать организацией, на основе которой крестьянство в союзе с рабочим классом и под его руководством придет к социализму.
Реально недоверие крестьян к кооперации усиливается к 1925 г. В отчете за октябрь 1925 г. приводятся слова крестьянина дер. Петроны Вятской губернии: «Взять кооперацию, эти кооперативы стремятся только к тому, чтобы больше барышей получить» (Совершенно секретно. Т. 3. Ч. 2. С. 613), отражающие в целом мнение деревни.
(5) …тайная милостыня. – Традиция, отраженная в житии одного из наиболее чтимых в России святых, Святителя Николая Мерликийского, – «Повествовании о трех девицах»: «Великодушный юноша глубоко сострадал нуждающимся и извлек отца и его дочерей из нищеты и греха, словно из огня. Однако святой совершил свое благодеяние не открыто, а подал щедрую милостыню тайно. <…> Николай ночью незаметно бросил узелок с золотом в окно сада и быстро удалился» (Бугаевский Л.В., архимандрит Владимир Зорин. Святитель Николай архиепископ Мерликийский Великий Чудотворец. М., 2001. С. 12). Житие Святителя Николая Мерликийского содержит и «пречудное деяние» об избавлении народа от непосильного бремени налогов – повествование о снижении налога для Ликии императором Константином по ходатайству Святителя Николая, или «Деяние о подати».
(6) Сутунок – чурбан; расколотое пополам бревно (Даль IV, 365).
(7) …взяла большую, аршина в полтора длиной щепу. – Можно предположить, что символический образ щепы, давший заглавие одному из вариантов рассказа, был для Вс. Иванова своеобразным знаком прежнего времени (старинный обычай, который нарушает Тимофей) и нового (люди-щепки в водовороте истории и революции). Современный исследователь Р. Ханинова сопоставляет рассказ Иванова с повестью В. Зазубрина «Щепка» (1922–1923) (Ханинова P.M. Поэтика малой прозы Вс. Иванова: психологический аспект. Элиста, 2006. С. 18). Неизвестно, читал ли Вс. Иванов повесть Зазубрина: в 1923 г. она была отклонена редакцией журнала «Сибирские огни» и при жизни автора не публиковалась, возможность прочтения Ивановым рукописи сомнительна. Однако опубликованный в 1923 г. в журнале «Сибирские огни» № 4 рассказ В. Зазубрина «Бледная правда» Вс. Иванов мог знать: в этом же номере печаталась статья Я. Брауна о творчестве самого Иванова. В начале и конце рассказа «Бледная правда» появляется символический образ человека-щепки: «Революция-мощный, мутный, разрушающий и творящий поток. Человек-щепка. Люди-щепки. Но разве человек-щепка – конечная цель Революции?» (Сибирские огни. 1923. № 4. С. 61).
Критики 1920-х годов рассматривали жизненный путь героя рассказа и персонажей книги в целом как блуждание в мире случайных событий человека-щепки. Так, Г. Якубовский писал: «Достаточно одного легкого толчка, и вот жизнь человека покатилась под уклон. Румяному, ясному и звонкоголосому парню стало скучно, один, другой неверный шаг, и вот он уже преступник, неудачливый конокрад, неудачный наемный убийца, погибающий глупо и нелепо» (Якубовский Г. Указ. соч. С. ПО).
(8) Матица – балка, брус поперек избы, на котором настлан потолок (Даль II, 307).
(9) Мяндач – болотная сосна, редкослойная, рыхлая, несмолистая, дрябловатая Даль И, 374).
(10) Канительте папаши получится… – от «канителить» – длить, медлить, мешкать, волочить дело Даль И, 85).
(11) Жоха (бран.) – черный и грубый мужик; тертый, бывалый, закаленный, опытный дока и наглый плут Даль I, 536).
(12) Голбец (сиб.) – род чулана в крестьянской избе; припечье со ступеньками для выхода на печь и на полати, с дверцами, полочками и с лазом в подполье Даль I, 366).
(13) Цалковый (целковый) (прост.) – серебряная монета достоинством в один рубль, вообще один рубль.
(14) Онуча – обвертка на ногу под сапоги или лапти Даль II, 673).
(15) Бродень (бредень) – небольшой поводок, который люди, идучи бродом, тянут за собой Даль I, 129).
(16) Аргамак – рослая и дорогая азиатская лошадь Даль I, 21).
Полынья*
Впервые, одновременно: Кр. Н. 1926. № 5. С. 17–23; журнал «Шквал» (Одесса. 1926. № 19. С. 4–5).
Публикации в журнале «Шквал» была предпослана редакционная врезка: «Сила рассказа, присланного Вс. Ивановым „Шквалу“, – не в легкой калейдоскопичности интриги. Внимательно и спокойно исследует автор каждое дрожание своего героя, создавая мастерскую картину психологии опасности. „Полынья“, бесспорно принадлежит к лучшим произведениям крупного современного писателя, каким является Вс. Иванов». К заглавию было дано примечание: («Полынья – прорубь во льду»).
При включении в ТТ текст первых публикаций рассказа менялся автором: добавлено несколько важных фрагментов, трижды переделывался финал, внесена стилистическая правка, имеющая общий характер для книги в целом. Отметим некоторые отличия текста в ТТ от варианта Кр. Н. Было: «думал утром Богдан: теперь Степка будет резать его» – стало: «теперь или Степку придется зарезать или Степка зарежет его»; было: «темнело кладбище» – стало: «белело кладбище»; было: «как глаз покойника» – стало: «как глаз мертвого»; было: «веселое спокойствие наполняло его» – стало: «веселая уверенность»; к фразе: «Парни позже хохотали над девкой целый месяц» – было добавлено: «и кожура, мол, и нутро перепорчены».
Сокращения в СС-2 в целом были направлены на изъятие «натуралистических подробностей» и облагораживание героя. Снимались фрагменты: «В Данилове так же – околицы», «водил и Богдан ~ и нутро перепорчены»; часть фразы: «он длинными солдатскими матюками долго звал на помощь» – заменена на: «он, длинно и долго ругаясь», а фраза: «Теперь, если со Степкой резаться…» – приобрела следующий вид: «Теперь удача мне во всем, работать ли, еще ли что, а коли со Степкой резаться…» Образность, в том числе фольклорная, а также «стиль недоговоренности» автора также подверглись унификации с точки зрения литературного языка.
Современная Иванову критика рассматривала содержание «Полыньи» достаточно узко. Ж. Эльсберг, например, так трактовал финал рассказа: «Смысл ответа Богдана матери <…> можно рассматривать только так: только со слова, а не с вещи (с реальности – „ливорверта“) и можно быть храбрым, потому что „слово слаще и горче всего“. Вс. Иванов „Полыньей“ доказывает, что важна не реальность, а ощущение, потому что у Богдана после его приключения у полыньи не прибавилось, а уменьшилось реальных шансов победить Степку, но „слово“, ощущение, представление обусловливают его веселую уверенность, достигают того, чего не в силах сделать „ливорверт“» (На лит. посту. 1927. № 19. С. 49). На мастерскую передачу «ощущения человека, попавшего в полынью и целую ночь просидевшего во льду на волосок от гибели», обращает внимание читателей М. Рудерман: «Автор не уводит читателя в дебри психологизма, не копается в мыслях обреченного на смерть человека» (Комсомольская правда. 1927. 6 февр. С. 4). На значимость темы смерти в книге, и в рассказе в частности, указывали неоднократно. Так, Н. Смирнов отмечал: «Его (Иванова. – Е. П.) герои ищут смерти. <…> Богдан Шестаков <…> не испытал ни страха, ни содрогания: он вдруг почувствовал, что катиться в полынью не так страшно» (Н. мир. 1927. № 8. С. 199).
(1) Жизнь, как слово – слаще и горче всего. – Ключевая фраза-зачин, в переизданиях – эпиграф, создана Ивановым в традиции фольклорной образности, но прямых аналогов среди русских пословиц не имеет. «Жизнь» и «слово» внутри одной пословицы не соединены нигде, кроме сочетания – «живое слово» («Живое слово дороже мертвой буквы», «Живым словом победит»). О двойственности жизни человека и слова (языка) существует много метких народных высказываний: «Жить век – и так и эк», «Жить – мученье, а умирать не хочется» и т. п. Однако размышления народа о жизни в пословицах чаще окрашены горечью, чем сладостью. Двойственность – сила и слабость – слова передана так: «Слово не стрела, а сердце сквозит» (язвит); «Слово не обух, а от него люди гибнут» и др.
(2) Масляная – масленая, или сырная, неделя до Великого поста.
(3) Прощеное воскресенье – воскресение масленой (сырной) недели, когда христианская церковь в евангельском (Мф 6, 14–21) и апостольском чтениях предлагает свои наставления касательно Великого поста. Он должен начинаться прощением людям их согрешений и состоять в нелицемерном исполнении правил прощения, и неосужденном отношении к близким. На этом основывается обычай просить прощения друг у друга и ходить на могилы умерших для той же цели.
(4) Вечерка (прост.) – название вечерних сходок, гулянок (Даль I, 189).
(5) Бондарничать – делать обручную или вязаную деревянную посуду – бочки и др. Даль I, 114).
(6) Кидь – снег, валящий большими хлопьями, густо и лежащий рыхло Даль II, 107).
(7) Престол – Престольный праздник – храмовый праздник в честь христианского святого, которому посвящен данный храм Даль III, 396).
(8) Убродная – от «уброд» – рыхлый глубокий снег.
(9) …увидал Богдан большого сизоголового селезня… – Символический образ селезня соединяет в себе две идущие из древности традиции: птица – душа («Народный язык и предания говорят о душах, как о существах крылатых». – Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. М., 1994. Т. 1. С. 219) и птица – смерть («Народные загадки <…> представляют смерть птицею <…> Из того же воздушного океана, оттуда ниспосылаются семена жизни <…>, прилетала и грозная птица смерти». – Там же. С. 528).
(10) Глыза (сиб.) – мерзлый ком снега Даль I, 359).
(11) Ухобака – от ухабистый парень – разгульный, гуляка.
(12) Волокушка (сиб.) – поносуха, понизовка, поползуха – метель снизу.
(13) Чеботарь – сапожник Даль IV, 586).
(14) Рукотерка – полотенце, ветошка, висящая при рукомойнике Даль IV, 113).
Ночь*
Впервые: Кр. Н. 1926. № 6. С. 72–81.
Как и везде в ТТ, авторские изменения текста работают на кристаллизацию общей концепции книги. Добавлена фраза-зачин, отсутствовавшая в журнальной публикации, усилены мотивы любви и жалости, углублен характер главного героя (см. в настоящей книге статью «История текста рассказов книги „Тайное тайных“» в Приложении).
Кроме этого, дополнительные детали внесены автором в описание поездки Афоньки по железной дороге. «Железный гость» уже в журнальном варианте представлен враждебным деревенскому парню Афоньке («неожиданно сердито» кричит на него сторож на станции, от него ждет Афонька каверзы, «которая позволит ему на всю жизнь опозорить Афоньку» и т. п.), правка еще больше подчеркивала бессилие человека перед внешней враждебной силой. Было: «Но плечи его качнулись вперед» – стало: «Поезд качнул его плечи вперед»; на следующей странице внесено добавление в текст: «Машинист кинул докуренную папиросу, колеса подхватили ее, буфера им одобрительно подлязгнули, и теплушки опять понеслись вперед».
При переиздании в Избранном был изъят «фрейдистский» фрагмент о девке Марфе («И внезапно он припомнил ~ до слез»), сокращена часть фразы: «И тогда с матерками – в бога и мать – стал он плевать…».
Очевиден серапионовский контекст «Ночи» Вс. Иванова – рассказы Н. Никитина «Ночь» (1923) и М. Зощенко «Страшная ночь» (1926). Беспомощность простого человека, утратившего духовную опору в эпоху, когда «все меняется на наших глазах, все колеблется, начиная от самых величайших вещей – от бога и любви – до мизернейших человеческих измышлений» (Зощенко М. Страшная ночь. Л., 1926. С. 50), становится в середине 1920-х годов предметом размышлений «серапионовых братьев» – «народников».
В рассказе Н. Никитина два бронепоезда, белый и красный, несутся в ночи друг навстречу другу и навстречу смерти. Заглавие несколько раз комментируется в тексте. Слова автора: «А ныне закованные в броню поезда дробят рельсы. А с ними песня, как брони. А людей не о чем спрашивать. Вера ушла в ветры, в ночи, в степи, – сомненье же легче трав. Несутся брони-звери… куда?» (Никитин Н. Ночь // Альманах артели писателей «Круг». М., 1923. № 2. С. 245) – перекликаются с текстом письма вольноопределяющегося Неделина о том, что «никто ничего не понимает и над Россией стряслось что-то темное» (С. 242). Человек, потрясенный сознанием того, как «все в нашей жизни случайно <…>, нетвердо и непонятно» (Зощенко М. Указ. соч. С. 195), находится в центре зощенковского рассказа. Подозрение Афоньки, что старуха хочет столкнуть его с поезда, может быть сопоставлено со страхом Бориса Ивановича Котофеева, что «электрический треугольник давно изобретен и только держится в тайне <…> с тем, чтобы сразу, одним ударом свалить его» (Там же. С. 60).
Критика 1920-х годов читала рассказ сквозь символику заглавия: «Наущения ночи, краски тьмы, угля, паровозных искр сгущены до физической ощутимости. Ибо ночь оказалась подстрекательницей. Она разжала когти у озлобленного крестьянского парня, и жуткий этот рассказ – по умело достигнутому Вс. Ивановым эффекту художественного контраста между великой ночью подстрекательницей и маленьким убийцей – светло подчеркивает, что путь зверя в человеке не всегда получает гармоническое разрешение» (Пакентрейгер С. По следам зверя // Печать и революция. 1927. № 3. Цит. по.: Всеволод Иванов: Критическая серия. М., 1927. С. 167–168). Критик другого лагеря, И. Гроссман-Рощин, не сопоставляя напрямую «Ночь» Вс. Иванова и «Страшную ночь» М. М. Зощенко, указывает на один общий для обоих писателей источник – повести Н. В. Гоголя. В повести Зощенко есть прямая отсылка к Гоголю: «Скучно как существовать на земле. <…> Ох, скучно как! До чего скучно» (Зощенко М. Указ. соч. С. 39–40). «Фоном» рассказа Вс. Иванова «Ночь», по наблюдению критика, является пейзаж Гоголя: «„…сырость меня проняла насквозь. Печальная застава с будкою, <…> мокрые галки и вороны, однообразный дождь, слезливое, без просвета небо. Скучно на этом свете, господа“. <…> И непонятно, и загадочно, – недоумевал критик, – разве Вс. Иванов пишет об эпохе, о которой можно только сказать, „как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем?“ Он пишет уже о советской деревне, о волисполкоме. Мрака и невзгод в нашей жизни достаточно, но неужто ничего, кроме тоски» (Гроссман-Рощин И. С. Без мотивов и без цели: «Ночь» и «Особняк» Вс. Иванова // На лит. посту. 1928. № 20–21. С. 45). Процитировав пейзажный фрагмент из рассказа Иванова «Ночь»: «Сразу же за станцией, по обе стороны полотна, начинался лес – сосновый, высокий, но теперь тоже какой-то чужой, без гула и запаха, словно укутанный тиной (курсив Гроссмана-Рощина. – Е. П.)», – критик делает следующий вывод: «Мир в произведениях Вс. Иванова – какой-то чужой, потерявший естественный звук и запах. Мир укутан тиной» (Там же).
В большей части критических статей рассказ трактовался как откровенно фрейдистский: «Все это соединено с основной установкой „Тайное тайных“ на психологический и даже физиологический натурализм, <…> на проникновение в глубины подсознательного, на установление зависимости судьбы человека от инстинктов и несознательных сил души, приводимых в движение случайными и мелкими поводами. <…> В рассказе „Ночь“ Афонька Петров влюбляется на свадьбе старшего брата в его невесту; брат умирает в первую же ночь после свадьбы, а Афонька, томимый неясным и „стыдным“ чувством к вдове брата, находит своим настроениям выход в поездке отдельно от родных к себе в деревню кружным путем на поезде. Там, раздраженный на самого себя, он начинает остро ненавидеть старуху-странницу, примостившуюся с ним на поезде» (Горбачев Г. Современная русская литература. М., 1928. С. 233–234). Далее критик приводил эпизод, в котором в сознании героя возникает «дикое» сопоставление старухи и деревенской девки Марфы. Опорные категории учения Фрейда – любовь и смерть – назывались критиками 1920-х годов центральными темами ТТ: «В рассказе „Ночь“ далеко не случайно сказано: – Любовь да тоска на крови стоят. Любовь и смерть, вернее – любовь, зовущая смерть, – общий, постоянно развивающийся мотив „новых“ рассказов Иванова» (Смирнов Ник. Книжное обозрение // Н. мир. 1927. № 8. С. 199).
(1) Любовь да тоска на крови стоят. – В русских народных пословицах слова «любовь», «тоска» и «кровь» нигде не поставлены рядом. Есть пословицы о губительной силе любви («Где любовь, там и напасть», «И любишь, да губишь» и т. п.), о тоске («Хлеба ни куска, везде тоска», «Тоска западает на сердце глазами, ушами и устами»), об убийстве и смерти («Кровь пути кажет», «Кровь не вода» и т. п.). Фраза-зачин, созданная Вс. Ивановым, скорее, имеет истоки в народных любовных песнях: «Как тоска злая на сердце залегала…» и др.
(2) Совет – Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов – с января 1918 г. до 1936 г. выборные органы государственной власти Советской России. С 1924 г. система советов включала Всероссийский съезд Советов, областные, губернские, уездные и волостные съезды Советов, Советы городов, поселков, сел, деревень.
(3) «Крестьянская газета» – орган ЦК РКП(б), массовая газета для крестьян, выходила в Москве в 1923–1939 гг. Постоянно печатала информацию с мест о положении в деревне. Кроме центрального органа, существовали однодневные «Крестьянские газеты» – уникальный тип изданий 1917-1930-х годов, по своему назначению близкий политическому плакату, листовке.
(4) …словно бы, на поминках брата он видал эту старуху. – Связь образа старухи с мыслями о смерти Филиппа дала основание критику И. Гроссману-Рощину предположить, что «в больном мозгу Афоньки старуха – символ смерти, похитившей брата» (Гроссман-Рощин И. Указ. соч. С. 46).
(5) …Митя, прозванный Архангелом. – Архангел – (начальник ангелов – греч.) – слово по образованию новозаветное. В соответствии с понятием о старшинстве ангелов так назывался «один из первых князей», «князь великий». В произведениях Вс. Иванова среди прозвищ, которые дают героям в деревне, можно встретить нередко иронически переосмысленные слова из Святого Писания (Анделушка – прозвище Михаила из рассказа 1919 г. «Анделушкино счастье»), имена святых великомучеников (Параскева Понедельник – «Смерть Сапеги») и т. п.
(6) Афонские истории рассказывает… – Афон – (Айон – Орос, святая гора) – центр православного монашества, находится на северо-востоке Греции, полуострове Халкидики. На Афоне расположено 20 монастырей, в том числе греческие – Карейский, Лавра Св. Афанасия (X в.), сербский – Хиландар (XII в.), болгарский – Зограф (XI–XIII вв.), грузинский – Иверский (X в.), русский монастырь Св. Пантелеймона (1169). Здесь, вероятно: рассказы о чудесах, о жизни святых праведников и т. п.
Поле*
Впервые: журнал «Шквал» (Одесса, 1925. № 14. С. 3–5), под заглавием: «Посев».
При последующей публикации рассказа в журнале «Красная нива» (1926. № 5) после фразы: «…он совсем не дядя Коля, а Николай Милехин, солдат Красной Армии» – возможно, редакторами, добавлено: «Голову забила земля – тугим и теплым своим паром», а вместо «в момент напряженной борьбы» напечатано «напряженнейшей борьбы».
Критика 1920-х годов восприняла рассказ через ту систему подмененных ценностей, где связь человека с родной землей – источником жизни и духовой опорой – расценивалась как один из бессознательных биологических инстинктов: «В рассказе „Поле“ красноармеец Милехин тянется к родным полям, словно птица в далекие теплые края в дни перелета. Он как бы невзначай, бессознательно доходит до станции железной дороги, садится в вагон первого попавшегося на глаза поезда, едет бездумно домой, бездумно работает в поле и даже не замечает, что становится дезертиром. Он трудится подобно пчеле, ибо понуждается к этому могучим инстинктом» (Воронский А.К. О книге Всеволода Иванова «Тайное тайных» // Ленинградская правда. 1926. 5 дек. С. 5); «Красноармеец Милехин („Поле“), получив отпуск из казармы на четыре часа, незаметно для себя доходит до станции железной дороги, заходит в вагон поезда и уезжает в родную деревню. <…> Так, бессознательно, в момент напряженнейшей борьбы с врагами республики красноармеец становится дезертиром» (Нович И. [Вс. Иванов «Тайное тайных»] // Молодая гвардия. 1927. № 4. С. 207).
(1) …плакат: «Колчак несет колбасу, Советы – свободу». – Александр Васильевич Колчак (1874–1920) – адмирал, один из организаторов Белого движения во время Гражданской войны; в 1918–1919 гг. – Верховный правитель российского государства. Возглавлял борьбу с Советской властью в Сибири, на Урале, Дальнем Востоке. Арестован в январе 1920 г. и расстрелян по постановлению Иркутского ВРК. Содержание плаката скорее всего связано с тем фактом, что с декабря 1918 г. Омским правительством Колчака отменялось постановление Временного Сибирского правительства о государственном регулировании хлебной, мясной и масляной торговли и разрешалась свободная торговля «по вольным ценам».
(2) …в такое святое время… – Описанные в начале рассказа события происходят весной 1919 г. Размышления Милехина о «святом времени» не случайны: приближается Пасха, она в 1919 г. приходилась на 7 (по новому стилю – 20) апреля. Понятен и эпитет «напряженный» по отношению к моменту времени в финальной фразе рассказа: 12 апреля 1919 г. печатаются «Тезисы ЦК РКП (б) в связи с положением Восточного фронта», написанные В. И. Лениным, где сказано: «Победы Колчака на Восточном фронте создают чрезвычайно грозную опасность для Советской республики. Необходимо самое крайнее напряжение сил, чтобы разбить Колчака» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 38. С. 271). Тезисы завершались словами: «Надо напрячь все силы, развернуть революционную энергию, и Колчак будет быстро разбит» (Там же. С. 274).
(3) Максим – первый станковый пулемет, изобретен X. Максимом (1883). «Максим» образца 1910 г. состоял на вооружении русской армии вплоть до 1945 г.
(4) Куть – угол, закоулок (Даль II, 227).
(5) …не лопшись… – от «лопушиться», горячиться, ершиться (Словарь русских народных говоров. Л., 1981. Вып. 17. С. 147).
(6) В кумынию не записался? – Имеется в виду сельскохозяйственная коммуна-одна из форм производственной кооперации в России в первые годы Советской власти. В коммуне обобществлялись постройки, мелкий инвентарь, скот – все средства производства. Землепользование и распределение были уравнительными – не по труду, а по едокам. Коммуны создавались с конца 1917 г., главным образом, на бывших помещичьих землях, в конце 1920-х годов были преобразованы в колхозы. Враждебное отношение большинства крестьян к коммунам в 1920-е годы передают некоторые лозунги того времени: «Да здравствуют свобода, революция, братство и любовь! Да здравствуют советы, долой коммуну! Нет больше капитала!»; «Долой коммуна (так в тексте. – Е. П.), долой всякое насилие! Да здравствует власть советов всех трудящихся!» (см.: Телицын В Л. Бессмысленный и беспощадный? Феномен крестьянского бунтарства 1917–1921 гг. М., 2003. С. 143–144). Партийная печать так комментировала причины, по которым крестьяне не поддерживают коммуны: «Сопротивление кулака было нейтрализовано, но в процессе нейтрализации постепенно исчезает сельскохозяйственный пролетариат и превращается в мелкого собственника, со свойственной ему мелкобуржуазной идеологией.<…> Он так же, как и все остальное крестьянство, остался глух к социализму и решительно отвернулся от „коммунии“» (Козаков А. Общие причины возникновения бандитизма и крестьянских восстаний // Красная Армия. 1921. № 9. С. 28).
Образ «коммунии» часто встречается в литературе начала 1920-х годов. В рассказах Вс. Иванова можно встретить примеры непонимания крестьянами сущности коммун, настороженного и неодобрительного отношения к ним. Показателен диалог мужиков Ерьмы и Кондратия Никифоровича из рассказа «Синий зверюшка» (1921):
«– А может и брешут, Ерьма, про Расею-то?
– Обязательно.
– Мне все одно, брешут ли, правду ли бают…
– Вот придет она сюды, почуешь.
– Кто?
– Кумыния, скажем, и другие полки.
– К нам она придти не может, потому окромя тебя нет по нашей волости стра-дателя. А мы робить хочим и насчет того, чтоб восемь часов в сутки жить, другим рассказывай. <…> А может и брешут на него, никаких кумыний нету, жрать хочет, ну и выдумал. Оно для еды-то не токмо кумынию придумаешь, тут тебе все на голову полезет» (СБ. С. 70–71).
(7) Набродь – от «набраживать» – наталкиваться случайно; напроказить, нашалить (Даль 11,381).
(8) Хрушкий (сиб.) – крупный Даль IV, 567).
(9) Когда расцвела черемуха, начали сеять. – Примета народного крестьянского календаря, см. пословицу: «Пшеницу сей, когда зацветает черемуха» Даль В. И. Пословицы русского народа. М., 1994. С. 565).
(10) …губвоентрибунал постановил… – Губернский военный трибунал. Летом 1919 г., когда происходит арест Милехина, существовали ревтрибуналы и реввоентрибуналы. Революционные трибуналы как органы правосудия были учреждены Декретом о суде № 1 от 22 ноября 1917 г. в целях борьбы с контрреволюцией, саботажем и другими опасными преступлениями. Ведению ревтрибуналов, в частности, подлежали дела о дезертирстве. Революционные военные трибуналы создавались с 1919 г. в Реввоенсоветах армий, фронтов. В соответствии с Положением о реввоентрибуналах, учрежденном декретом ВЦИК от 20 ноября 1919 г., к их компетенции было отнесено рассмотрение дел о преступлениях военнослужащих Красной Армии и военнопленных в районе военных действий, а также о любых деяниях в районе военных действий, которые влекли за собой дезорганизацию и понижение боеспособности Красной Армии. С точки зрения исторической достоверности, применительно к лету 1919 г. название «ревтрибунал» в «Красной ниве» было более точным, чем «реввоентрибунал» в 7У, так как дела о дезертирах поступили в их введение только в конце 1919 г.
Дезертирство из Красной Армии, начинается в 1918 г., а к осени 1920 г., по данным советской печати, «принимает такие широкие размеры, что борьба с ним становится тяжелой; в одной Тамбовской губернии в 1920 г. числится около 250 тысяч дезертиров» (Казаков А. Указ. соч. // Красная Армия. 1921. № 9. С. 33). С. Оликов в статье «Дезертирство в Красной Армии и борьба с ним» (1926) рассматривает две волны дезертирства и различные меры по борьбе с ним. «Первая волна массового дезертирства из Красной Армии начинается во 2-й половине 1918 г. и достигает своей наивысшей точки в начале 1919 г. <…> Стоит только почитать письма красноармейцев-дезертиров и ответы на них, <…> чтобы уяснить себе всю сложность борьбы и все возрастающее влияние тыла, направленное в сторону разложения армии. Деревня засыпана сообщениями о полном отсутствии рабочих рук в семье, о недостатке или отсутствии пособий; о несправедливых действиях местной власти и пр. Сплошь и рядом деревня спрашивала: „Для чего ты воюешь? – Все равно на нас никто не обращает внимания“. О дезертирах деревня отзывалась так: „Твои товарищи все дома, жить им очень хорошо, никто не трогает… приезжай скорей“» (Оликов С Дезертирство в Красной Армии и борьба с ним. М.: Издание военной типографии Управления Делами Наркомвоенмор и РВС СССР, 1926. С. 13–14). В полномочия губкомов (губернских комиссий) в этот период входило выявление дезертиров и возвращение их в ряды Красной Армии. К лету 1919 г. в связи с увеличением количества дезертиров (цифры по Уральскому округу на 1919 г.: февраль – 1050 человек, март – 5974 человека, апрель – 8603 человека, май – 22 632 человека. – Там же. С. 30) происходит ужесточение работы комиссий, что вызывает и другие письма из деревни: «Просись домой, но не удирай, с дезертирами у нас поступают очень строго» (Там же. С. 28). 2 июня 1919 г. выходит Постановление Совета Рабоче-крестьянской обороны, из которого видно изменившееся отношение власти к дезертирам: «В это время находятся трусы и шкурники, уклоняющиеся от мобилизации, бегущие из рядов Красной Армии. Они хотят только пользоваться плодами революции, но не желают защищать землю и свободу» (Там же. С. 57). Борьба с дезертирами переходит от губкомиссий в губревтрибуналы, затем, в 1920 г., – губвоентрибуналы. Эти реалии уточняются в тексте рассказа: «губком» в публикации журнала «Шквал» (1925) был заменен в 1926 г. на губревтрибунал, который осуществлял, в частности, конфискацию имущества дезертиров.
Вторая волна массового дезертирства приходится на октябрь-ноябрь 1919 г. и нарастает к весне 1920 г. 25 апреля 1920 г. выходит «Приказ ЦК по борьбе с дезертирством», к которому прилагается инструкция по ведению борьбы с дезертирством на железных дорогах. В § 6 указаны обязанности уездкомдезертир по борьбе с дезертирством:
«а) Ведение борьбы с дезертирами посредством облав;
б) Постоянная проверка возможными средствами документов у лиц, вызывающих подозрения в принадлежности их к дезертирам, задержание таковых;
в) Периодический контроль всех проезжающих поездов» (Там же).
Плодородие*
Впервые: Кр. Н. 1926. № 1. С. 57–78.
Рассказ упоминается в письме Вс. Иванова А. М. Горькому от 20 декабря 1925 г.: «Мне бы хотелось, чтобы вы прочли, Алексей Максимович, в январской книжке Кр(асной) н(ови) – 926 г. – рассказ мой новый „Плодородие“. Там все мои последние думы…» (С. 327).
Перед включением в ТТ Иванов тщательно работал над рассказом. Наибольшее количество исправлений пришлось на 8-ю главу. После реплики: «– Металу?! – удивленно спросил Мартын», – Иванов убрал значительный фрагмент текста: «Мартыну показалось, что он тихо, по-детски охнул. Он и руку было протянул ко рту. Но рука и волосы бороды были тяжелы, словно из того желтого металла с приисков, и он сразу вспомнил, как видал стариков, встречающихся с неизвестными приисковыми мужиками; вспомнил, как раз встретил тележку, направляющуюся в горы. В тележке, плотно прижавшись друг к другу, сидело три старика – и Мартын даже сначала не узнал их. Лица были жадные, сухие, а потные руки самого старого крепко сжимали завернутую в половик шкатулку. И колени их были острые, словно мертвые. Когда они проехали мимо, не заметив его, Мартын по шапке узнал Митрия Савина. Кажется, подумал тогда Мартын об самогонном аппарате: прячут, дескать.
Горький пот почувствовал он в глазу. Елена казалась еще более, и брови ее были шириною в два пальца. Он зажмурился. Гладкая и веселая осина попалась ему под ладонь». Далее следовал еще один большой фрагмент – воспоминание Мартына о том, как его обманул отец в детстве. Вместо этого развернутого описания в ТТ в текст главы введена одна фраза: «И вдруг он вспомнил, как мужики шептались с неизвестными шатунами из приисков; как однажды он встретил трех стариков, ехавших на трашпанке в горы – лица у стариков были жадные и потные, руки их крепко охватывали шкатулку, прикрытую половиком». Снят был еще один фрагмент, подробно передающий ощущения героя: «И показалось ему – в нем, как и на этих камнях – высох поток. Глотку словно забили нитками, а ноги в икрах заныли и напряглись», – и заменен фразой: «И Мартыну почудилось, что он закричал – и испуганно и насмешливо». Практически переписывается эпизод насилия над Еленой: в частности убрана параллель с жадными лицами стариков. Сокращены слова: «И вдруг – чужое, чем-то похожее на стариков, везущих в горы металл, пустое лицо метнулось перед ним. Елена охнула, опрокинулась, – и с горечью, и с радостью, глотая соленую слюну, упал грудью Мартын на это чужое и пустое лицо». Характерно, что немногие фразы, добавленные в текст журнальной публикации при подготовке к печати ТТ, передают не столько ощущения героя и ассоциативные связи, сколько общее состояние одиночества и тоски: «Кому тут говорить о мутном своем сердце?» (3-я гл.).
Правится речь мужика Турукая, автор убирает из нее диалектизмы и элементы пародии. Было: «Я, брат, мастак по плотам… раньше, до вриволюции меня купцы врасхват на плоты звали, невест-то сколько давали, с приданым… тысшши». Стало в ТТ. «Я, брат, мастер по плотам… раньше до революции меня купцы нарасхват на плоты звали, невест-то сколько давали, с приданым… тыщи».
Наконец, в последней абзац добавляется фраза, отсутствовавшая в журнальном варианте: «Долина опять наполнилась плодородной тишиной», – возвращающая читателя к символике заглавия.
При переизданиях в 1930-1950-е годы текст рассказа «Плодородие» подвергся существенным редакторским исправлениям (см. в настоящем издании статью «История текста рассказов книги „Тайное тайных“» в Приложении).
Критика 1920-х годов на рассказ «Плодородие» не обратила особого внимания. М. Рудерман похвалил рассказ за реалистическое изображения деревни, темных и светлых сторон ее жизни: «Среди мужиков-склочников и проныр живет Мартын в надежде угомонить расходившихся крестьян и организовать партячейку. Он пытается связаться с городом и остановить приток воды из озера, угрожающий наводнением. Но мужики, не получив от города помощи, срывают свою злобу на Мартыне и избивают его до смерти. Через всю повесть проходит мотив любви Мартына к Елене, служащий косвенной причиной его смерти. Мартын, с его вечной тоской по лучшей жизни, с его планами и подходами, удался автору» (Рудерман М. Новинки художественной литературы // Комсомольская правда. 1927. 6 февр. С. 4). Г. Горбачев объяснил «все нелепые и злобные поступки Мартына» его «застарелой, не находящей себе выхода и осознания злобой к эгоистической, крепкой, собственнической, дикой и тупой кулацкой деревне да безнадежной страстью к домовитой жене соседа Скороходова» (Горбачев Г. Указ. соч. С. 235). Итоговый вывод давался в ключе общего представления критики о ТТ: «Вообще герои „Тайное тайных“ чаще всего не понимают происходящего с ними. То, что делается в глубинах подсознания, сублимируется в их сознании в совершенно непохожие переживания» (Там же. С. 235).
Современники указывали на внутреннюю связь героя рассказа с «горьковским окуровским обывателем», при этом акцентируя и различия. По мнению К. Рыжикова, Горький показал «протест мещанина в условиях капиталистического гнета», а Иванов, «живя в революцию, должен показать нам того же мещанина в революционной обстановке» (Рыжиков К. Оптимизм и пессимизм Вс. Иванова // На лит. посту. 1929. № 14. С. 50–51). Но, считает критик, «понимание революции героем Вс. Иванова не имеет ничего общего с пониманием ее революционным пролетариатом, <…> он воспринял ее как революцию окуровскую». После подробного анализа творчества Иванова начала 1920-х годов в ключе «разрушения окуровщины», критик доходит до ТТ и в качестве героя-«протестанта», борющегося с «обстоятельными», называет Мартына из «Плодородия»: «Мартын всячески показывает свое омерзение к окружающей его сытой и сонной жизни: проходя по деревне в Ивановскую ночь и наблюдая картину тупо-животной жизни, <…> в виде протеста плюет в выставленную на росу крынку. Форма протеста – чисто окуровская, озорная» (Там же). По утверждению критика, герой писателя остался тем же, что и в революционный период, но «роли переменились: поражение терпит, а часто и просто гибнет протестант-главный герой Вс. Иванова. И если в былые времена Вс. Иванов радовался со своим героем, наблюдая гибель „обстоятельных“, то теперь он становится тревожным и мрачным, как и его гибнущий герой…» (Там же. С. 58). «Сам Вс. Иванов пришел в окуровский тупик», – делает вывод критик (Там же. С. 60).
(1) Феде Богомильскому – Богомильский Давид Касриелевич (Кириллович) (1887–1967) – издательский работник, член правления издательств «Круг» и «Academia». Федя – прозвище Д. К. Богомильского.
(2) Недоуздок – конская уздечка без удил и с одним поводом Даль И, 516).
(3) Гольцы – чистое, голое, безлесное место Даль I, 372).
(4) Мартын – имена героев ТТ имеют символический характер. Как правило, герои рассказов книги носят имена святых православных мучеников. «Жизнь Смокотинина»: Тимофей – святой мученик, чтец Фиваидской церкви; св. мученик, ученик Св. Вавилы из Сицилии; преподобный игумен Киево-Печерской лавры. Катерина – святая мученица Александрийская; святая Екатерина. «Ночь»: Афанасий – архиепископ Александрийский, святой отец Церкви; святой мученик Киликийский при императоре Диоклетиане; Глафира – святая преподобная дева. И т. п. Исключение составляют имена героев рассказов «Плодородие» и «Смерть Сапеги». В рассказе «Плодородие» имя героя отсылает к широко известному в старообрядческой среде Мартыну-еретику – вымышленному иноку, будто бы пришедшему в Россию из Армении около 1149 г. и проповедовавшему странное учение, которое состояло из смеси армянской и латинской ересей, а также его собственных мудрствований. Выдумка эта понадобилась противникам старообрядчества для того, чтобы доказать, будто сохраняемые старообрядцами двуперстие и многие другие обычаи не есть древнее православное предание, а, напротив, мысли, чуждые русским и принесенные к ним извне армянским еретиком. Фальшивку разоблачили старообрядческие апологеты – диакон Александр Керженский и Андрей Денисов (см.: Старообрядчество: Лица, события, предметы и символы. М, 1996. С. 165).
(5) Ледово – ледник, место, покрытое ледяной корой (Даль II, 244).
(6) Пригон – загон для скота Даль III, 408).
(7) Мусало – морда, рожа.
(8) Бот – одномачтовое, обычно плоскодонное судно, речное или приморское, для перевозки груза Даль I, 120).
(9) Кержаки – прозвище старообрядцев всех согласий, название происходит от реки Керженец в Нижегородской губернии, в окрестностях которой издавна проживало значительное число старообрядцев. На Урале и в Сибири кержаками зовут староверов часовенного согласия Даль II, 105).
(10) Начетчик – церковный чтец, обычно из прихожан Даль II, 497).
(11) Голубец – могильный памятник избушкой Даль I, 371).
(12) Ошкур – пояс на штанах с завязкой или застежкой.
(13) Пучки – название ряда растений семейства зонтичных у некоторых из них стебли, побеги, иногда и корни съедобны (Словарь русских народных говоров. Вып. 33. С. 169).
(14) …голоса звенят ясно, значит, будет вёдро… – Одна из примет крестьянского календаря. Вёдро (вёдра) – ясная солнечная погода. См.: «Рога луны остры и ярки – к вёдру»; «Пушистые иней – к вёдру»; «Дым столбом – к вёдру» Даль В. И. Пословицы русского народа. С. 568).
(15) Слега – жердь, решетина; слеги кладут поперек стропил, под солому, тес, решетят ими кровлю Даль IV, 219).
(16) Кудель – вычесанный и перевязанный пучок льна, приготовленный для пряжи; сверток избитой шерсти Даль II, 211).
(17) Лопашные весла – от «лопашны» – нос лодки Даль II, 267).
(18) Курье (сиб.) – речной залив, старое русло Даль II, 225).
(19) Морда – рыболовная лозовая плетенка с двойной воронкой Даль II, 345).
(20) Кудерочки – кудерки, кудерцы, кудерюшки – завиток, локон, курчавая прядь волос Даль II, 211).
(21) Взаболь – вправду Даль I, 190).
(22) Поветь – надстройка над хлевом, сараем, вид скотного двора, сеновал (Словарь русских народных говоров. Л., 1992. Вып. 27. С. 235).
(23) Туес – берестяная корзина с тугой крышкой и с дужкой или скобкой в ней Даль IV, 440).
(24) Заплот – деревянная сплошная ограда из досок и бревен Даль I, 617).
(25) Ночь шла под Ивана-Купальника. Девки в эту ночь сбирают двенадцать разных трав, кладут под подушку – завечают свою судьбу. – Иван Купала – народный праздник летнего солнцестояния в ночь на 24 июня старого стиля, когда Церковью празднуется рождество Иоанна Крестителя. Сопровождался собиранием целебных трав, цветов, обрядами с огнем и водой, песнями, играми, хороводами и гаданиями. Завечать – загадывать что-либо.
(26) В одной избе ~ сметана делается толще. – Старинные, в основе своей языческие обряды, несмотря на новую эпоху сохраняемые в деревенской России, отразились в литературе 1920-х годов. Ср., например, в прозе Б. Пильняка: «Мать сыру землю опахивают заговорами, и тогда в ночи запрягается в соху вместо лошади голая вдова, все познавшая, а правят сохой две голые девки, у которых земля и мир впереди» – «Мать сыра-земля», 1924 (Пильняк Б. Повести и рассказы. М., 1991. С. 322–323); А. Платонова: «Оказалось, что в ближних к Градову деревнях – не говоря про дальние, что в лесистой стороне, – до сей поры весной в новолуние и в первый гром купались в реках и озерах, умывались с серебра, лили воск, окучивали от болезней скот и насвистывал ветер», – «Город Градов», 1927 (Я. мир. 1993. № 4. С. 95). В наибольшей степени это было присуще произведениям новокрестьянских авторов: С. Клычкова, Н. Клюева, С. Есенина и др.
(27) Жировик – лампа, плошка, в которой горит светильня в масле или жиру (Даль I, 543).
(28) Экая сыть… – Мотив «сытой жизни», «сыти» имеет в произведениях Вс. Иванова 1920-х годов не столько экономический, сколько духовный смысл. В рассказе «Лога» (1922) дан такой же, как в «Плодородии», контраст: закованное «кольцами темной жирной земли», как будто околдованное село, и страдающий, мающийся человек – Аксинья: «Люди вокруг огромные, широкие, как земля, из твердого мяса сбиты. Ходят по полям победителями, высовывая из бород насмешливые улыбки. Они покойны! <…> И дом огромен, темен, как из камня рублен. Пахнет вечным сиплым хлебным духом. Все лето окна настежь – не выходит дух» (СБ. С. 54–56).
(29) Зыбать – колебать, качать, колыхать Даль I, 697).
(30) Белки (алт.) – горы, покрытые вечным снегом (Словарь русских народных говоров. Л., 1966. Вып. 2. С. 215).
(31) Засикилъдите – от сикать, сикнуть – брызгать, пускать воду струей.
(32) Черень – рукоятка, ручка Даль IV, 592).
(33) Поскотина – выгон для скота, пастбище.
(34) – А ты, Турукай, в партию не хошь? – Иронически переосмысленный Ивановым важный вопрос современности о пополнении партийных рядов найдет свое воплощение в написанной в 1927 г. повести А. Платонова «Сокровенный человек», в диалоге Шарикова и Фомы Пухова:
«– Пухов, хочешь коммунистом сделаться?
– А что такое коммунист?
– Сволочь ты! Коммунист – это умный научный человек, а буржуй – исторический дурак!
– Тогда не хочу.
– Почему не хочешь?
– Я природный дурак – объявил Пухов» (Платонов А. Сокровенный человек. М., 1928. С. 135–136).
(35) …Ленина-то, говорят, в склепе-то нет, заместо его какой-то солдат лежит ~ коня арапской породы, а… – Пародийный рассказ Турукая отсылал читателя к народным сказам о Ленине, наиболее известными из которых стали в 1920-е годы тексты, опубликованные Л. Сейфуллиной в начале 1924 г. в статье «Мужицкий сказ о Ленине». В творчестве Вс. Иванова 1920-х годов, в рассказе «Лоскутное озеро», можно найти еще один столь же неоднозначный «сказ о Ленине»: «Пришли, бают, в Ерусалим большавики, наместо Христа-то Ленина, грят, надо, а гроп Восподен заколотить за ненадобностями! И было тому Ленину виденья: явилась багамат и говорит: так мол и так, как ты и Христос новый – твори чуда… Молчи-ит!» (СБ. С. 40).
(36) Гасник (гашник) – ремень, шнур.
(37) Мануфактура – здесь: ткань.
(38) Вон в Артемовке младший ~ Третьему только счастье. – Вариация традиционного сказочного сюжета о трех сыновьях, двое из которых, в начале сказки названные умными, в результате оказываются дураками, а третий, дурак, обретает счастье.
(39) Пимокатное ремесло – от «пимы» – сибирские сапоги из оленьих шкур шерстью наружу; валенки, обшитые кожей или холстом.
(40) Цело – наружное отверстие русской печи.
(41) Талегай (талагай) – лентяй, лодырь, невежда, неуч (Даль IV, 388).
(42) …из города приедут, инструктора какая там, заездят по страде лошадей, обожрут, да и видал их. – Характерная примета времени – обострившееся к 1924–1925 гг. противостояние города и деревни. В сводке № 3 информотдела ОГПУ об экономическом расслоении и состоянии деревни за время с 24 по 31 января 1925 г. в разделе «Антагонизм к городу» указано: «Сибирь. Омская губ. 15 января. На общем собрании деревни Евгеньевка Тарского уезда несколько крестьян высказались следующим образом: „Служащие и рабочие живут хорошо, потому что их интересы защищают профсоюзы, а мы, крестьяне, не организованы и бесправны, как бараны. Служащие получают хорошее жалованье, имеют театры, а мы из последних сил выплачиваем налоги и прозябаем в невежестве“. <…> Зажиточный крестьянин Новой станицы Омского уезда говорит: „У соввласти нет справедливости, кто гнет спину и ночи не спит, чтобы поддержать хозяйство, на том и едут, а разве всех дармоедов накормишь, придется бросить хозяйство, тогда все равны будут“» (Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД: Документы и материалы. Т. 2: 1923–1929. М, 2000. С. 273–274). В отчете Лубянки Сталину о положении в стране за 1925 г. можно прочитать высказывание середняка с. Покорное Аксютинского уезда: «Советская власть всегда указывает на прежних буржуев с отрицательной стороны, а посмотрите, что теперь представляют из себя комиссары центральных органов, получающие по 300 руб. в месяц: они гуляют, веселятся и тоже богатеют» (Совершенно секретно. М., 2002. Т. 3. С. 490).
(43) Монополку-то сами ж открыли. – Постановлением ЦИК и СНК СССР о возобновлении производства и торговли спиртными напитками в СССР (январь 1924 г.) и Постановлением ЦИК И СНК СССР о введении в действие «Положения о производстве спирта и спиртных напитков и торговле ими» от 28 августа 1925 г. была введена государственная монополия на водку (просуществовала до 7 июня 1992 г.).
(44) Ботоло – тот, кто «ботает» некстати: качает ногами, стучит тяжелой обувью; перен., бран. – от «ботать» в знач. болтаться, метаться, шататься, стоять или лежать беспокойно. В Избранном было заменено на «Болото!» Даль I, 119).
(45) На Флора и Лавра… – Флор и Лавр – святые мученики II в., родные братья. Будучи каменотесами, выстроили здание для языческого храма, но посвятили его Христу, за что и были подвергнуты мучениям. Память 18 августа.
(46) Остожъе – срубленные нетолстые деревья с подсеченными сучьями (Даль И, 706).
(47) Пестер – большая высокая корзина, плетеная или шитая, для носки сена или мелкого корма скоту Даль III, 104).
(48) Паужин – перекуска между обедом и ужином, например за чаем. В северных областях «крестьяне в 9 часов обедают (в работе, со светом завтракают), в 2 часа паужинают, в 8 ужинают» Даль III, 25).
(49) Потник – войлок, подкладываемый под седло Даль III, 356).
(50) Горовой – нечистый дух, живущий в горах.
(51) Трашпанка – повозка.
Смерть Сапеги*
Впервые: журнал «Красная нива» (1926. № 14. С. 2–5). Под заглавием: «Жизнь Аники Сапеги».
В ТТ, в отличие от журнального варианта, с первой страницы убрано примечание: «Черный шерл – редкий драгоценный камень». По-другому расставлены акценты в характеристике героя – красного командира Аники Сапеги. В рассказ Аники о своей жизни в заимке (в журнальном варианте – имении) Козловских добавлено описание его снов, ощущений, мыслей: «Ну и замучали (в первых вариантах – „начались“) эти запахи. Валяются ночью на соломе, по колодцам, по телегам, – скрип и гам не меньше чем днем. Днем лошади в хомутах ходят, а ночью бабы». «Необразованность наша и забитость. Запустил бы это руки, думаешь, а дальше своего носа, смотришь, и не уйдешь»; «…ну, а после такого случая – хи да ха, да изгалянье… У меня от того случая судороги начались, и на теле рябь выступила. На бабу посмотрю, и вдруг вид из себя стану такой иметь – ну, хоть в тулупе ходи. И сны замучили, и чудные все сны: голые бабы все и все зря, никакого пораженья им не было… И кончались сны таким образом, что быдто я бревно, и везут меня в жару по тряской дороге. Мученье страшное! Я в одну ночь чуть было передок телеги зубами не перегрыз, ладно – в рот деготь попал».
Исправлению подвергается эпизод, описывающий жертву девушки во имя спасения отца. В первом варианте было: «И тогда я решился на ложь.
– Аника! – закричал я. – Аника, зачем девку обманом берешь? Там наши генерала бьют… ребята генерала бьют… Не обманывай девку-у!
И тогда, должно быть поняв свою ненужную жертву, – завизжала за дверьми женщина. Скоро ее неистовый визг пересилил мой, теперь уже ненужный, крик, – и визг ее походил на звон бьющихся стекол.
И тут – я бы сказал – я увидел деревянный топот – коридора. В светлых окнах отразился черный шерл винтовок».
Эпитет «ненужный», дважды повторенный в тексте («ненужная жертва», «ненужный крик»), исключен автором из текста рассказа. Авторская правка в данном случае проясняла противопоставление, заложенное в системе образов: «буржуазная» девушка, готовая на жертву ради отца, и «новый человек», красный командир, отрекшийся от предков.
Еще два разночтения между первыми публикациями и вариантом ТТ указывают на стремление Иванова придать больший динамизм повествованию. Было: «встретил я на Любинском проспекте» – стало: «наткнулся я…»; было: «спешил мальчик»-стало: «несся вперед мальчик».
«Смерть Сапеги» – единственный рассказ книги, в котором различаются варианты ТТ и СС-7, что указывает на продолжавшуюся работу автора по правке текста. В основном она направлена на упрощение стиля и снятие метафоричности. Так, в СС-7 исключены два первых абзаца, и рассказ стал начинаться словами: «Я отстал от полка». Убраны все сравнения с «черным шерлом». Вместо: «И тогда-то в речевую дороги Аники ворвались нечленораздельные вопли и крики» в ТТ, в СС-7 – стало: «Аника испустил нечленораздельный вопль». Вместо: «Но вот – топот прекратил мой крик. – Казалось, шли одни винтовки» – стало: «Я услышал топот». И т. п.
После СС-7 рассказ более 30 лет не переиздавался. В издании 1963 г. редакторская правка коснулась так называемых «натуралистических мест»: сокращены были «голые бабы», фразы «лежу с барыней», «Ей-богу, не жалуются. Может, даже довольны», эпизод с кобылой Флорой.
Созданный писателем в рассказе образ красноармейца был резко полемичен и по отношению к типичным для литературы 1920-х годов героям, преданным идее, храбро сражающимся и готовым умереть за лучшее будущее народа, и по отношению к прежним – начала 1920-х годов – партизанам и комиссарам самого Вс. Иванова.
О «культе Красной Армии» писал популярный в 1920-е годы психолог А. Залкинд, называя ее таким воинским коллективом, в котором «в худшем случае мы сталкиваемся с неполным осознанием своего трудового происхождения и своего общетрудового назначения, причем рост этого сознания в прямой пропорции уменьшает необходимость принуждения» (Залкинд А. Очерки культуры революционного времени. М., 1924. С. 81–82). Среди писателей, в книгах которых показана «интеллектуальная, эмоциональная и даже общефункциональная жизнь коммуниста» в армии, А. Залкинд называет и Вс. Иванова: «Лишь во вторую очередь он (коммунист. – Е. П.) просто человек, таким мы его знаем в жизни, таким его изображает и новая художественная литература: Либединский „Неделя“, Тарасов-Родионов „Шоколад“, отдельные образы у Пильняка, Иванова и др. „Рефлекс революционной цели“ не угасает и во сне (прорываясь сквозь сновидения)…» (Там же. С. 108). Подобная оценка, еще возможная по отношению к «Партизанам» и «Бронепоезду 14–69», принципиально расходилась с произведениями, созданными Вс. Ивановым на тему Гражданской войны в середине и во второй половине 1920-х годов. Г. Горбачев, характеризуя рассказы 1924–1925 гг. «Долг», «Пустыня Тууб-Коя», «Как создаются курганы», справедливо отметил: «…исчезла стихийная мощь восстающей и хозяйничающей сибирской деревни, сменившись портретами военных полуавантюристов, полуреволюционеров и обработкой частных примеров власти инстинктов и предрассудков над людьми. <…> В „Пустыне Тууб-Коя“ и „Смерти Сапеги“ идея подчиненности человека слепым страстям выдвинута уже резко и четко на первый план» (Горбачев Г. Указ. соч. С. 203–231).
Отмеченное критиком различие между прежними произведениями Вс. Иванова о Гражданской войне и рассказами 2-й половины 1920-х годов шло не только по линии усиления физиологизма и ослабления идейного пафоса. Новый «герой Гражданской войны» Вс. Иванова оказывался «сиротой» – человеком без прошлого, оторванным от всей системы духовных ценностей национальной культуры и во многом в силу этого открытым слепым инстинктам разрушения и похоти.
Тема сиротства человека практически не звучала в ранних произведениях Вс. Иванова о Гражданской войне. Например, партизаны из известного рассказа «Дите» (1921), хотя и показаны жестокими (убивают ребенка киргизки, которого, как им кажется, она кормит больше, чем «их» Ваську), находящимися во власти инстинктов (тоска по бабам, сцены с киргизками), не лишены памяти и веры отцов. Казначей отряда Трубачев, качая ребенка, вспоминает «поселок Лебяжий – родину, причалы со скотом, ребятишек и тонкоголосо плачет» (СБ. С. 216). Командир Селиванов знает, что «нельзя хрестьянскому пареньку, как животине пропадать» (Там же. С. 219). И т. п.
Необычным видится подход Иванова середины 1920-х годов к созданию «героя Гражданской войны» и в контексте современной ему литературы. Так, в рассказе «серапионова брата» Вс. Иванова Н. Никитина «Перед боем» командир дивизии Прохоров оценивает прошлое России (земляные валы новгородского пригорода, старые каменные кресты) и свое собственное («Отца нет. Бедность. Еще трое ребят да мать. Деревня, жадность, стыд») как ненужные «остатки старого». Умирать он готов за другие ценности: «…революция, Октябрь, вьюга. Антон Прохоров – комиссар полка, бригады, дивизии. Ничего не перемешалось, вьюга – всегда вьюга. Но если теперь „убьют“ – знал, за что…» (Никитин Н. Могила Памбурлея. Л., 1925. С. 24–26). Судьба героя-отступника у Никитина, в отличие от Иванова, складывается благополучно: после побега из плена он возвращается к своим.
Критика 1920-х годов оценивала героя рассказа Иванова как «эротомана» (В. Полонский), «насильника», которого «приводит к гибели его необузданная похоть» (М. Рудерман) и т. п. Новые произведения Вс. Иванова о Гражданской войне критики сопоставляли с рассказами И. Бабеля из книги «Конармия» (1926): «В восприятии мира у Иванова много общего с мироотношением Бабеля: жизнь парадоксальна, анекдотична в случайностях, противоречиях, нелепостях своих; человек – животен по преимуществу» (Горбачев Г. Указ. соч. С. 226). Указывал Горбачев и на различия: «Но Бабель радуется этой романтике чудовищного, ищет в ней красоты, оформляет ее в чудесное сверкание подобранных цветовых диссонансов… <…> Вс. Иванов как бы сам живет в этих нелепостях, бессильный их преодолеть; он говорит о них тяжело и испуганно, задерживая читателя на нелепостях, изображаемых нарочито детально и серьезно. <…> Может быть, Иванову не хватает именно бабелевского выработанного культурой чувства относительности, исторической условности всяких ужасов, их преходящего характера, не хватает и бабелевского интеллигентного скептицизма, легкого равнодушия и умного цинизма» (Там же).
(1) Халцедон – полупрозрачный минерал, используется как поделочный полудрагоценный камень. Разновидности: сердолик, оникс и др.
(2) Черный шерл – редкий драгоценный камень, черная разновидность турмалина.
(3) …полк, состоявший большей частью из мадьяр и сербов… – Мадьяры – то же, что и венгры; самоназвание венгров. Во время Гражданской войны в составе Красной Армии сражались интернациональные части, подразделения и отряды, сформированные из иностранных граждан, находившихся в Советской России: австрийцев, венгров, китайцев, немцев, поляков, румын, сербов, хорватов, финнов, чехов и др. Всего в 1918–1920 гг. было создано свыше 500 интернациональных воинских соединений, в которых служили свыше 200 тысяч солдат и офицеров.
(4) …погиб в памятное восстание на Куломзине. – Восстание в Омске 22–23 декабря 1918 г. против Колчака. Рабочие под руководством большевиков захватили тюрьму, железнодорожный мост через Иртыш и пригород Куломзино. Восстание было подавлено: 27 повстанцев убито на месте, 166 расстреляно по приговору военно-полевых судов.
(5) Метранпаж – старший наборщик или руководитель группы наборщиков, верстающий полосы (страницы) набора или контролирующий эту операцию. Упомянутые факты носят автобиографический характер: в 1915–1920 гг. Иванов работал наборщиком в типографиях сибирских городов: Павлодара, Кургана, Омска.
(6) Нонпарель – типографский шрифт, кегль (размер) которого равен 6 пунктам – около 2,25 мм.
(7) Корпус – типографский шрифт, кегль – 10 пунктов, около 3,76 мм.
(8) Аника Сапега – Аника, или Оника, – один из богатырей русской народной поэзии – духовного стиха о борьбе жизни со смертью, озаглавленного «Прение живота со смертью», и духовного стиха об Анике-воине. Аника отличается громадной силой и вместе с тем представляется в стихе нечестивцем, разоряющим города и церкви, поругающим святые образа. Сапеги – княжеский род Великого княжества Литовского и Речи Посполитой – с XVII в., в XVIII–XX вв. – Российской империи и Австрии. Занимали важнейшие государственные посты в Литве: были гетманами литовскими, канцлерами, маршалами, епископами. В XVII в. Сапеги представляли собой грозную силу, перед которой иногда смирялся даже король. Сапеги самовластно хозяйничали в Литве, распоряжались по своему произволу на сеймиках и трибуналах, устраняли неугодных им лиц. В войне 1700 г. со шляхтой потерпели поражение, после чего были осуждены на вечное изгнание из государства. В рассказе, судя по всему, упомянут великий литовский гетман Лев Сапега (1557–1633) – литовский канцлер, воевода виленский, сыгравший большую роль в русско-польских отношениях конца XVI – начала XVII в. Его считают создателем плана, сущность которого состояла в подчинении Московского государства Польше через посредство самозванцев. Организовал в Москве суд главного трибунала.
(9) …предки мои – польские конфедераты. – Конфедераты – члены польских временных союзов вооруженной шляхты или ее части в XVI–XVIII вв. Текст отчасти носит автобиографический характер. В романе «Похождения факира» (1935) Иванов писал о своей семье: «Дед мой с материнской стороны, Семен Калистратович Савицкий, когда ему было заведомо семьдесят лет, рассказывал всем, что ему сто семнадцать, что он ссыльный из польских конфедератов, что он каторжник» (Иванов Вс. Похождения факира. М., 1990. С. 19).
(10) Заимка – часто встречающееся в Сибири название поселения, обычно одно-дворного, и земельного участка, занятого кем-либо по праву первого владения, вдали от освоенных территорий (Даль I, 581).
(11) Параскевья-Понедельник – В прозвище подчеркнута антитеза семантике имени. Параскева – великомученица, именуемая Пятница. Дочь богатых родителей, она посвятила себя еще в юности аскетической жизни. В гонение Диоклетиана по обвинению в христианстве была приведена на суд к правителю области, который за отречение от Христа предлагал взять ее себе в супруги. За отказ ей отсечена голова.
(12) Перо «рондо» – перо с тупым концом для писания особо закругленным рукописным, а также печатным шрифтом – «рондо».
(13) Колки – островные леса, обычно располагались по междуречьям. В Западной Сибири образованы в основном березой (Даль II, 140).
(14) В деревнях мужики встречали нас неприветливо и, если спрашивали: «За какую вы власть?» – отвечали: «Властей теперь много ходит, у нас теперь власть покосная». – В эпизоде отражено настороженное, подчас открыто враждебное отношение сибирских крестьян к представителям различных властей, в 1917–1920 гг. сменявшихся на территории Сибири: с декабря 1917 г. – советская власть; с мая-июня 1918 г. – Временное Сибирское правительство, с сентября 1918 г. – Временное Всероссийское правительство (Директория); с 18 ноября 1918 г. – Омское правительство А. В. Колчака; с января 1920 г. – советская власть. Недовольство деревни вызывала как продразверстка большевиков, так и изъятие продуктов и скота военным командованием армии Колчака.
(15) Бело-зеленое сибирское знамя – знамя Сибирской армии, созданной в июне 1918 г. по распоряжению Временного Сибирского правительства.
Яицкие притчи*
Впервые: Н. мир. 1926. № 1. С. 10–16, под заглавием: «Из яицких притчей».
В изданиях 1950-1960-х годов ошибочно проставлена дата написания обоих рассказов – 1923 г. Некоторые комментарии к этой датировке может дать «Авторское дело Вс. Иванова» из фонда «Издательство художественная литература» (РГАЛИ. Ф. 613. Оп. 10. Ед. хр. 1379), включающее материалы, которые связаны с подготовкой СС-2. В «Аннотации на том 3» и «Редакторском заключении на рукопись 3 тома собр. соч. Вс. Иванова» «Яицкие притчи» отнесены к группе рассказов о Гражданской войне без упоминания ТТ (РГАЛИ. Ф. 613. Оп. 10. Ед. хр. 1379. Л. 17), с датировкой – 1923 г. Можно предположить два варианта: путаница с датами произошла случайно, или Вс. Иванов имел скрытую цель – показать, что большая часть рассказов, предназначенных для 3-го тома, относится не к неблагополучному циклу ТТ, а к более ранним произведениям.
Разночтения между первой публикацией текста и ТТ незначительны. В «Про двух аргамаков» было заменено «бальшеков» на «балшовиков» (в изданиях начиная с 1952 г. употреблена литературная норма – «большевиков»), в рассказе «Про казачку Марфу» в описание «еройской» службы Марфы внесена оценочность: «а дале – позорище для казачки-то невиданный, – и на лошадь вскарабкалась». Из финала «Про двух аргамаков» был убран текст, частично дублирующий финал рассказа «Про казачку Марфу»: «Месяц подымался в розовато-синей тишине пустыни. Месяц блестел, как слеза». Последние два абзаца рассказа «Про казачку Марфу» в ТТ Вс. Иванов отделяет знаком *, делая их образно-эмоциональным финалом «Яицких притчей», и правит: «…поэтому слышно было, как со звенящим, серебряным плеском прыгнула на месяц рыба».
При дальнейших публикациях Вс. Иванов разбивает небольшой цикл «Яицкие притчи» на два самостоятельных произведения. Если в СС-7 при отсутствии объединяющего заглавия общий финал еще сохранен автором, то в дальнейших публикациях он опускается.
Критика 1920-х годов расценила «Яицкие притчи» в составе ТТ как произведения, несущие «отголоски и отблески Гражданской войны» и потому «не характерные и не показательные для Иванова сегодняшнего дня» (Смирнов Ник. Книжное обозрение // Н. мир. 1927. № 8. С. 198–199). Критик из журнала «Смена» отметил «интересную и героическую постановку в „Яицких притчах“ и „Бегствующем острове“ темы о матери» (Литературные новинки // Смена. 1927. № 3. С. 7. Подпись: Б.Л.).
1. Про двух аргамаков*
(1) Казакин – разновидность верхней женской одежды (Даль И, 73).
(2) Перемет – рыболовная снасть, состоящая из веревки с крючками или широко-ячейной сети, натянутых и укрепленных Даль III, 67).
(3) … герой Радко-Дмитриев… – Радко-Дмитриев (1859–1918) – болгарский генерал, получил известность в балканскую войну 1912–1913 гг., некоторое время был болгарским посланником в России. После начала Первой мировой войны и выступления Болгарии на стороне Германии принял русское подданство, поступил на службу в русскую армию. Командовал 8-м армейским корпусом, 3-й Армией, Сибирским корпусом, 12-й Армией. 20 июля 1917 г. снят с командования армией после ряда поражений и зачислен в резерв чиновником при штабе Петроградского военного округа, через некоторое время уехал на юг России для лечения. В сентябре 1918 г. взят Кавказской Красной Армией в числе заложников и после мятежа И. Л. Сорокина вместе с генералом Рузским расстрелян в Пятигорске.
(4) …получил за этот подвиг два Георгия. – Военный орден Святого великомученика и победоносца Георгия – высшая награда за воинские подвиги для офицеров и генералов, учрежден в Российской империи в 1769 г. В 1807 г. учрежден знак отличия Военного ордена (с 1913 г. – Георгиевский крест), который является высшей наградой за воинские подвиги для низших чинов.
(5) …все больше с молоканами путали: тоже ведь веру свою из Ермании привезли. – Молокане – русская рационалистическая секта, образовавшаяся во 2-й половине XVIII в. из секты духоборов и удержавшая многое из ее учения и обрядов. Основатель – Семен Уклеин, крестьянин Тамбовской губернии Борисоглебского уезда. Название «молокане» дано секте в 1765 г. Тамбовской консисторией на том основании, что сектанты в пост пьют молоко. Сами молокане называли себя «духовными христианами», а усвоенное ими название объясняли тем, что их учение есть то «словесное млеко», о котором говорится в Святом Писании. Молокане отрицали таинства и обряды православной Церкви, почитание святых мощей и икон. Единственным источником вероучения служит, по мнению молокан, Святое Писание Ветхого и Нового Завета. Все люди равны по благодати, «старцы» молокан, их наставники в вере – не священники и не учителя, так как не обладают никакими особыми, от Бога данными полномочиями. В этих пунктах учения молокан видели влияние немецкого протестанства.
В словах о вере, привезенной из Германии, прослеживается связь с массовыми представлениями о большевиках – германских шпионах.
(6) Чувал – очаг (Даль IV, 611).
2. Про казачку Марфу*
(1) воронят ей и в сказку вставить нельзя, – ноне в сказках-то ароплан подавай, в кавер-то самолет не верят… – Намек на широкомасштабную кампанию борьбы с русскими сказками, которые инструкцией Наркомпроса 1920 г. изымались из массовых библиотек. Народным Комиссариатом Просвещения разрабатывалась концепция «новой сказки» для «нового ребенка» (См.: Корниенко Н.В. «Сказано русским языком…»: Андрей Платонов и Михаил Шолохов: встречи в русской литературе. М., 2003. С. 71–76). Борьба большевика, нового человека, со старой сказкой нашла отражение в романе «серапионова брата» К. Федина «Братья»: «Мама начинала сказку. Ленка <…> сидела притаившись, и ей чудилось, что стоит шевельнуться, как из черных маминых глаз выскочит волк. <…> А Родион, стуча каблуками, расхаживал из угла в угол, морщил и распрямлял брови, говорил глухо: – Пора кончать со всякой чертовщиной – с ведьмами да с водяными! Ребенок должен расти в здоровой, понимаешь, в настоящей, здоровой… в настоящих условиях… А ты…
Варвара Михайловна с улыбочкой провожала мужа глазами из угла в угол, ждала, когда оборвется глухое гудение его голоса, потом невозмутимо спрашивала:
– А тебе в деревне что рассказывали? Сказки? Или может насчет индустриального труда? <…>
– То в деревне, – зло обрывал Родион. – Было да быльем поросло. Не для того революцию делали, чтобы сказки рассказывать. Я не хочу, чтобы моей дочери…» (Федин К Братья. Л., 1928. С. 252–253).
(2) …пришла ерманская война. – Германия объявила войну России 19 июля (1 авг.) 1914 г.
(3) …Маринка, жена Гришки, жила… – Марина Мнишек – дочь сендомирского воеводы, жена Лжедмитрия Первого. В мае 1606 г. была коронована как русская царица. После смерти Григория Отрепьева неоднократно пыталась вернуть власть над Москвой. В 1608 г. была выслана на родину, однако не уехала, а присоединилась к Тушинскому лагерю, признав Лжедмитрия II «спасшимся» мужем. В 1612 г. находилась под Москвой с сыном Иваном, требовала объявить ее сына наследником престола, подсылала убийцу к князю Пожарскому. Подступившее к Москве земское ополчение заставило Марину Мнишек бежать сначала в рязанскую землю, потом в Астрахань, наконец – вверх по Яику. У Медвежьего острова она была настигнута московскими стрельцами и, скованная, вместе с сыном в июне 1614 г. доставлена в Москву. Здесь сын ее был повешен, а она, по сообщениям русских послов польскому правительству, «умерла с тоски по своей воле».
(4) Чапаев – Чапаев Василий Иванович (1887–1919) – один из самых известных героев Гражданской войны. С 1918 г. командовал отрядом, бригадой и 25-й стрелковой дивизией Красной Армии, сыгравшей значительную роль в разгроме войск А. В. Колчака летом 1919 г.
(5) …с атаманом Толстовым сражался и в Яике потонул. – Толстое Владимир Сергеевич (1884–1956) – один из руководителей Белого движения в Приуралье и Прикаспии, генерал-лейтенант (1919). В марте 1919 г. низложил Уральское «войсковое право», был избран войсковым атаманом, с апреля командовал Уральским казачьим войском. В бою с конной группой Армии генерала Толстова под Лбищенском в ночь на 5 сентября 1919 г. погиб В. И. Чапаев. После разгрома Уральской Армии в январе 1920 г. Толстов отступил с ее остатками в Форт-Александровский, затем эмигрировал.
(6) …генералу Толстову, которого большевики, сказывают, анафеме предали… – Активная, жесткая деятельность атамана В. Толстова весной 1919 г. по укреплению армии (было создано три новых казачьих корпуса, количество штыков и сабель увеличилось к началу апреля 1919 г. до 12 тысяч и т. д.) стала приносить быстрые результаты. Одержанные военные победы Уральского казачьего войска на Юго-Восточном фронте определили политику Верховного командования Красной Армии. 18 октября 1919 г. В. И. Ленин потребовал от М. В. Фрунзе ликвидировать белые казачьи армии (см.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 51. С. 62, 80). Об атамане Толстове, действительно известном своей жестокостью и непримиримостью, большевистская печать писала: «На Яик со всех сторон надвигаются казачьи банды. Они желают задушить власть рабочего и крестьянина, чтобы расправиться с вами. Помните, что вам пощады от генерала Толстова не будет… Яик в опасности!» (Яицкая правда. 1919. 5 мая. Цит. по: Фокин Н. Н. Финал трагедии: Уральские казаки в XX в. М., 1996. С. 201).
Однако «анафеме» большевики предали не столько атамана Толстова, сколько казачество в целом. Начало политике «расказачивания» положено известным «циркулярным письмом» Оргбюро ЦК РКП (б) от 24 января 1919 г.: «…признать единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления» (Известия ЦК КПСС. 1989. № 6. С. 178. Цит. по: Фокин Н. Н. Указ. соч. С. 209). Уже в феврале 1919 г. уральские большевики получили инструкцию по борьбе с казачеством, подписанную начальником политотдела членом РВС Южного фронта Н. Ходоровским, которая предлагала расстреливать всех казаков, ранее занимавших какие-либо официальные должности: станичных атаманов, депутатов Войскового съезда и др.
(7) …и приказал судить – истреблять их без пощады… – Эпизод написан не без прямой отсылки к роману Д. Фурманова «Чапаев» (1923): «…в 18-м году – как же ты там без расстрелов-то будешь? Захватил офицеров в плен, а охранять их и некому, каждый боец на счету – в атаку нужно, а не на конвой, – всю пачку так и приканчиваешь… Да все едино, – они нас миловали что ли?» (Фурманов Д. Чапаев. М.; Пг., 1923. С. 160). В то же время у Фурманова дан эпизод захвата 800 пленных (глава «До Белебея»), где комиссар Клычков беседует с ними о Советской власти, о «нашей правде», о Колчаке, его внимательно слушают, задают вопросы о вступлении в Красную Армию (Там же. С. 157–158).
(8) …от вас дух гнилой по земле прошел? – Эти слова, а также характеристика военного времени: «воевали вы с нами до гнилого духа» (сокращено в СС-2) – встречаются в письме Иванова К. Федину от 2 декабря 1925 г. (возможно, время написания рассказа): «Расплодилась такая непереносная гнусь – как я слышал от одной казачки – Гнилой дух пошел от человека на земле!» (ГМФ 35852).
(9) Опорки – голенища от старых сапог; башмаки, сделанные из сапог с отрезкой голенища.
(10) Ветошний – старый, ветхий.
(11) Кошевка (сиб.) – розвальни; широкие, глубокие дорожные сани (Даль II, 181).
Пустыня Тууб-Коя*
Впервые: Альманах артели писателей «Круг». М; Л., 1925. № 4. С. 199–220.
Разночтения между первой публикацией, публикациями 1926 г. (Иванов Вс. Происшествие на реке Тун. Рассказы. М.-Л., 1926; Иванов Вс. Пустыня Тууб-Коя. Рассказы. М.-Л., 1926) и ТТ незначительны. В ТТ в некоторые эпизоды рассказа введено слово «комиссар»: в плач Елены Канашвилли: «Изверги, палачи! Сегодня комиссар кидался, а теперь стаей хотят»; реплики часовых: «Баба нету <…> Завтра стрелять все равно, комиссар щупал, надо нам мало-мало прижимать»; «…Закия говорит-бежим, все равно комиссар расстрелят». Во 2-ю главу вставлена авторская ремарка: «Связь тут – красное знамя, да и ту источили ветры и дожди».
В характеристике Палейки ослаблен мотив «песенной» романтической любви: во фразе: «Чудак Палейка, песенная синяя твоя душа!» – слово «песенная» заменено автором на «весенняя», оно же снято во фразе: «К дверям мазанки <…> был прибит гвоздиком синий шелковый песенный мадьярский платок Палейка». Из характеристики «агитатора и говоруна» Глушкова была убрана автором небольшая, но значимая деталь: «…брюки он почему-то от стыда не подбирал, и густая желтая пыль была в отворотах».
Авторская правка в ТТ уточняла характер еще одного персонажа рассказа-пленницы Елены Канашвилли. Из ее портрета Иванов убирает сравнение: «Глаза наездничьи, разбежные, такой водяной мохнатый паучок несется по воде его сонных степных озер. Лапки, словно иголочки, и паучка зовут – „мзя“». В речь девушки добавлены слова: «И притом, надо же понимать. Кто служит, вообще как-то действует в жизни вместе с хамами, сам теряет благородство. А у лишенных этого достоинства я услуг не принимаю. Уйдите». Отметим, что в первой публикации рассказа Палейка предлагал пленнице венчание: «Мы, в крайнем случае, где-нибудь и попа наскребем», – впоследствии, уже в других вариантах, из 2-х слов получилось одно – «понаскребем», что сделало фразу непонятной.
В критике 1920-х годов рассказ «Пустыня Тууб-Коя» рассматривался как образец блестящего мастерства писателя: «…в книгах „Пустыня Тууб-Коя“ и „Гафир и Мариам“ <…> преобладает стремление овладеть материалом, веяние живого юмора и глубоко продуманная тема. Особенно характерен, как пример, рассказ „Пустыня Тууб-Коя“, настолько лаконический и виртуозный, что напоминает новеллы Мериме» (Книгоноша. 1926. № 10. С. 5–6). В большей части рецензий, впрочем, герои этого рассказа были охарактеризованы так же, как и персонажи других рассказов ТТ: «Физиологический натурализм, надрывно переходящий в горькую, упадочную философию антиобщественника, господствует в „Поле“, в „Жизни Смокотинина“, в „Пустыне Тууб-Коя“. <…> Вместо утверждающего жизнь человека-строителя на сцену выводится „лишний герой“, силы которого расходуются бессмысленно и дико…» (Книга и профсоюзы. 1927. № 5. С. 22).
Позднее, в критике 1930-х годов, акцент был сделан на символике «синего платка» – «теме принесенной в жертву революционной войне личной жизни» (Перцов В. Этюды о советской литературе. М., 1937. С. 14).
(1) …гиаянье сухого помета аргалов. – Шаянье – от шаять (сиб.) – гореть без пламени, тлеть (Даль IV, 625). Аргал (монг.) – навоз, сухой помет скота, используемый для топлива Даль I, 21).
(2) …кинематографический аппарат «Кок»… – Скорее всего, название вымышленное. В начале XX в. были широко известны киноаппараты фирм Патэ, Парво, Аскания, Винтон, Митчел и др.
(3) Удивительный способ моего воздействия на массы… – В 1919 г. в проекте Программы РКП (б) В. И. Ленин определял задачу кино в социалистическом обществе: кинематограф должен служить «самообразованию и саморазвитию рабочих и трудящихся крестьян» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 38. С. 96). Основополагающим государственным актом стал Декрет Совнаркома РСФСР «О переходе фотографической и кинематографической торговли и промышленности в ведение Народного комиссариата по просвещению» (1919, 27 авг.). В 1918–1922 гг. Ленин подготовил и подписал ряд партийных и государственных документов, среди которых были указания о работе киноучреждений, об использовании кино на агитпоездах и агитпароходах, о финансировании кинопредприятий и др. О задачах кинематографа в послереволюционную эпоху писал ЛД. Троцкий: «Кинематограф развлечет, просветит, поразит воображение и освободит от потребности переступать церковный порог. Кинематограф – великий конкурент не только кабака, но и церкви. Вот орудие, которым нам нужно овладеть во что бы то ни стало» (Троцкий Л. Вопросы быта: Эпоха «культурничества» и ее задачи. М, 1923. С. 46).
(4) В средине ленты, когда гладкий и ровный «трутень» объяснился в любви длинношлейфой даме… – Аллюзия на так называемый «буржуазный» кинематограф 1910-1920-х годов, «наиболее ходкую категорию фильмов – эротико-эстетический декаданс» (Лебедев И. Кино: Его краткая история. Его возможности. Его строительство в советском государстве. М, 1924. С. 87). К этой жанровой категории в 1920-е годы относили фильмы русских режиссеров Е. Ф. Бауэра, Я. А. Протазанова и др. В то же время фильмы, созданные в Европе, с характерными названиями «Голгофа любви», «Жажда любви», «Жрица Венеры», «Истерзанная страстью», «Поэма страсти» и т. п., «безыдейные и примитивные», по мнению тогдашних идеологов, хотя и были рассчитаны на мелкую буржуазию и внедряли в сознание индивидуалистический взгляд на мир, могли быть использованы пролетариатом в «разоблачительных» целях.
(5) Каза – блюдо из мяса Даль II, 73).
(6) Бий (бай, бей) (тюрк.) – уважаемый человек, господин, князь. У киргизов (казахов) этот титул служил для обозначения высших чинов администрации.
(7) Вода мутнеет от крови только в песнях… – Мотив, встречающийся в народных песнях, например: «А теперь, ты, Дон, все мутен течешь, // Помутился весь сверху донизу…» («Как ты, батюшка, славный Тихий Дон…»).
(8) Пасмы (прост.) – космы (Даль III, 22).
(9) И жену… тоже можно расстрелять. – Позиция Омехина в диалоге была понята критикой 1920-х годов как образец поведения борца революции: «Самая яркая фигура в повести – Омехин. Его жизненная философия проста. – „И жену тоже можно расстрелять? – спросил Палейка. – Можно, – подтвердил Омехин“.
Храбрость и сознание пролетарского долга для Омехина выше всего, и эти качества ставят его наряду с партизанами ранних произведений Вс. Иванова» (Рудерман М. Новинки художественной литературы // Комсомольская правда. 1927. 6 февр. С. 4).
(10) Солай (казах.) – так, хорошо.
(11) …словарик иностранных слов, среди которых все были русские… – Аллюзия на широкое использование в послереволюционную эпоху, прежде всего в речи революционных деятелей, слов иноязычного происхождения. В 1-й половине 1920-х годов были изданы: Эльцин Б. М. Популярный политический словарь. М., 1922; Вай-сблит И. В. Полный иллюстрированный словарь иностранных слов. М.; Л., 1926; Политсловарь. Самара, 1925 и др. Списки иностранных слов и их толкования стали прилагаться к календарям-справочникам для рабочих и крестьян; например, к «Спутнику рабочего» (1925), «Крестьянскому календарю» (1925) и др. (см.: Селищев А. Язык революционной эпохи. М., 1928. С. 28–41). Возражения ученых и писателей против засилья иностранных слов расценивались как «шовинистическое неистовство» и «националистические передержки» (см.: Горнфельд А. Новые словечки и старые слова. Пб., 1922. С. 19).
(12) Кошма – войлочный ковер из верблюжьей или овечьей шерсти Даль И, 183).
Бегствующий остров*
Впервые: литературно-художественный альманах «Пролетарий» (Харьков, 1926. С. 205–264). Отрывки: журнал «Молодая гвардия» (1926. № 5. С. 47–62), под заглавием: «Раскольничий гость»; журнал «Шквал» (Одесса, 1926. № 13. С. 4–5; № 14. С. 6–7), под заглавием: «Раскольники в городе»; журнал «Красная панорама» (1926. № 16. С. 4–5), под заглавием: «Галкин рассказывает».
В публикации журнала «Шквал» проставлена дата написания повести: февраль 1926 г.
Первый вариант, опубликованный в альманахе «Пролетарий» как самостоятельное произведение, предшествовал ТТ, и изменения, внесенные в него, были продиктованы общим замыслом книги, в то время как правка в журнальных публикациях, скорее всего, была выполнена редакторами и связана с общей направленностью журналов 1920-х годов (см. в настоящем издании статью «История текста рассказов книги „Тайное тайных“» в Приложении).
Дополнительно отметим еще ряд исправлений текста в первом варианте. Фигура рассказчика – шулера и вора Галкина – стала в ТТ, насколько это возможно, более симпатичной: в начале повести в портрет Галкина добавлено сравнение: «А вместе с тем было в нем пленительное тление мечтательности и какое-то бродячее страдание, какое бывает у старых собак, покинутых хозяином»; снята ирония по поводу раскольников: «…вериги те от одного схимника-пустынника к другому по наследству переходили, – цена-а!»; в главе 14-й добавлены слова раскаяния и реплика повествователя: «А я его, я с ним как поступил! С того времени, к сожалению, я не встречал Галкина». Рассказ Галкина в ТТ получает четкое жанровое определение: было «А передал бы ты што, Петрович» – стало «А передал бы ты сказку что ли».
Публикацию в «Молодой гвардии» предваряла редакционная преамбула, в написании которой, возможно, принимал участие Вс. Иванов: «Повесть эту рассказывает автору карманник и шулер Галкин (поэтому часто и встречаются вперемежку с раскольничьими словечки „блатные“): во времена Петра I ушли от преследований полиции раскольники-изуверы в сибирскую тайгу на неприступный Белый Остров. Развели они там пашни, вверху в горах на Острове поселились схимники, и сношения с внешним миром имели они через зырян, живших на краю тайги. Зыряне выменивали у раскольников на порох и железо драгоценные меха. Но в революции негде было купить зырянам пороху и железа, – не появились они в обычное время к обычному месту – на холмике к трем соснам. Правление Островом переходило из рода в род к начетчикам Котельниковым, в годы революции правила старица-кино-виарх Александра и росла у ней тоскующая по миру дочь Саша» (С. 47).
При подготовке повести к переизданию в СС-2 из текста изымается авторская характеристика эпохи: «В такое-то великое да расстрельное время», упоминание о том, что «от баб матросы не отказались», что «игумны, матушка, все сбежали, а то и пристрелены», о «блудливом совете» и о том, что вопросы о земле раскольники будут решать сами: «Земли много, нарежем, – ответил Запус и подумал тут он: „Сами разберутся, надо забусить“». Облагораживается весь облик комиссара Запуса, а потому сокращаются слова: «такая морда», «по старой привычке за чресла» и т. п. Разговоры Запуса с крестьянами (6-я гл.), с начетником Гавриилом (8-я гл.), с Сашей и Мирошкой (11-я гл.) также подверглись редакторской правке. Блатной жаргон заменен словами литературного языка, особенно в речах Запуса: «Я бабу вашу не загорбил» (в СС-2 – «не тронул»), «объясни, пожалуйста, что ты за талы-гай („шушера“) и где могла <…> такая рожа родиться. Смотреть на тебя жохомно» («муторно»); «Знаете – идет борьба не на живот, а на смерть на всех фронтах за социальное („социалистическое“) отечество… а с вас надо „старабачить“ („собрать“) каких-нибудь пять тысяч белок. За такие дела-то… да со мной „не картавь“, я по „херам“ говорить могу» («не шути») и т. п. Речи и мысли Запуса стали более «идеологически верными»: вместо «и понес» напечатано: «И продолжал: – Может, им и про революцию неизвестно! Может, они думают, что все при царе живут!»; вместо «А Запус весь в расчетах – сколько же можно продналогу собрать с них», – «А Запус весь в расчетах – как ему раскольников упропагандировать» и т. д. Характерная трансформация произошла и со словом «пролетариат»: благодаря сокращению фраза приобрела совершенно иной смысл: «Насчет про-ле-та-ри-ата… Не могу такое слово на морозе говорить, не русское слово. Температура для такого слова – пятьдесят градусов баня».
Кроме идейной направленности, как и в других рассказах книги, пострадала образная сторона повести: «допризорные» автора меняются на литературное «беспризорные», в той же 1-й главе вместо некоего обобщенного образа Чека среднего рода, которое «спросило» и «добавило» (возможно, отсылка к «значительному лицу» Гоголя), появляется вполне реалистический «дежурный по чека»; в фразе «доход от этого брака, как самовар – беззаботный» яркое сравнение заменено словом «бесспорный», «безменный человек» превратился в «неизвестного человека» и т. д.
В истории текста повести «Бегствующий остров» можно выделить два этапа. Первый – публикация ее как самостоятельного произведения в 1926–1927 гг., печатание фрагментов в журналах, включение в ТТ и СС-7 (тексты в двух изданиях идентичны). И второй этап – скорее всего, 1929–1932 гг., когда Вс. Иванов включает повесть в состав романа 1922–1923 гг. «Голубые пески» в качестве его заключительной части. Эта уже 3-я по счету редакция романа была опубликована в 1933 г. под заглавием «Васька Запус, или Голубые пески». Ранее, в 1928 г., писатель добавил в начало и конец романа разделенный на две части рассказ 1928 г. «Подвиг Алексея Чемоданова», с изменением имени главного героя на Василий Запус (см. в настоящем издании примечание к рассказу «Подвиг Алексея Чемоданова»).
Несмотря на высокие отзывы многих современников, роман «Голубые пески» в 1920-е годы расценивался как творческая неудача автора. Центральный герой именовался «лубочным» и «олеографическим» (В. Полонский). Тем не менее уже в этой редакции романа, в финальной легенде о голубых песках и золотой дороге, ведущей к счастью, звучали тревожные размышления писателя о возможности бескровного осуществления в России новой социальной утопии. Вторая редакция завершалась смертью героя, так и не нашедшего ответа на вопрос: «…убивать имеем право или нет?» (Иванов Вс. Голубые пески. М.; Пг., 1923. С. 168).
Перенесенная из финала в эпиграф тема обетованной земли получила в этой редакции статус философского ключа романа. В окончательной, 3-й редакции эпиграф перекликался с заключительной частью, куда без изменений вошла повесть «Бегствующий остров». В каком-то смысле можно говорить о том, что, завершая роман «Голубые пески» и книгу ТТ повестью «Бегствующий остров», Вс. Иванов попытался дать свой ответ на один из вопросов, центральных для XX в. – его истории, культуры и человека.
Естественно, что критика 1920-х посчитала такой финал ТТ неубедительным: «Слишком скомкан конец, рисующий быструю победу любви к жизни, к детям, к любовнику над религиозной идеологией» (Горбачев Г. Указ. соч. С. 232).
Своей повестью «Бегствующий остров» Вс. Иванов вписывается и в современный ему литературный контекст. Расколу и сектантству посвящали произведения Д. Мережковский, А. Белый, М. Пришвин и др. Параллель между расколом церкви XVII в., борьбой приверженцев старой и новой веры, и революцией 1917 г. и последовавшей за ней Гражданской войной не раз проводилась в русской литературе 1910-1920-х годов. Так, в рассказе А. Толстого «День Петра» (1918) драматический диалог между раскольником Варлаамом и царем Петром, в котором старец видит «обреченного на еще большие муки брата» (Толстой А. Полн. собр. соч.: В 15 т. М., 1948. Т. 4. С. 413), знаменует невозможность примирения. В середине 1920-х годов в произведениях писателей, близких Иванову по серапионову братству, также нашла свое воплощение символически трактуемая тема раскола и утраты прежней веры. Н. Никитин в книге «Екатеринбургские рассказы» (1927) писал: «Дух этот старый: от Николы – корабля, от старых разгульных кабаков, золотых россыпей, где скандалы, убийства, смерти. Пустынного раскола дух, пустынных старых лесов, где звон деревянный и крест о восьми концах, и строгое жестокое соленье, и где дух нашел себе отдушину на миру, в кабаке, где, нагуляв, набражничав, исхлестав своей пьяной похабью даже старых кабацких баб, истовые люди опять принимались за пост и моленье, и за дело, где наживались на людях, на хлебе, на конях и на золоте, на всем, что попадало в руки» (Никитин Н. Екатеринбургские рассказы. М., 1927. С. 7).
Совершенно в иной интонации исполнена тема утраты веры в душе человека в произведениях «новокрестьянских писателей» – С. Клычкова, Н. Клюева и др. Сближая себя с хранителями «древлего благочестия»: «Кости мои от Маргарита, / Кровь от костра Аввакума» («От иконы Бориса и Глеба…» // Клюев Н. Сердце единорога. СПб., 1999. С. 6), Н. Клюев писал о грядущей судьбе своих единоверцев: «Керженец в городском обноске, / На панельных стоптанных каблуках… / О родина, ужели в папироске / Больше ласточек, чем в твоих полях» (Республика, 1918 // Там же. С. 385).
Альманах артели писателей «Круг», где в 1920-е активно печатается Вс. Иванов, публикует в 1925 г. отрывок из романа С. Клычкова «Чертухинский балакирь» – «Два брата», в котором автор, размышляя о расколе церкви, о триперстии и щепоти, также проводит параллель с современной ему эпохой: «Из-за одного этого нечего зря лезть на рожон… вера в человеке гораздо глубже сидит! Как перекрестишься, и как возгласишь – не все ли это равно… Вон теперь как пошло: совсем лба не крестят… И тоже, пожалуй, что и это не в счет, потому: в делах веры важно больше не то, что в рот, а… что изо рта…
Сказано же: аще – бога любит, а брата… норовит за ворот… что тому бывает… То-то! <…> Вера в человеке – весь мир!..
Убить ее никогда ничем не убьешь!.. Разве вот сама она сгаснет, как гаснет лампада, в которую набьются с ветра глупые мухи, летя из темноты на лампадный огонь… как сгаснет может и мир!..» (Клычков С. Два брата // Альманах артели писателей «Круг». № 5. М., 1925. С. 124–125).
Очевидна близость подхода к теме названных писателей и Вс. Иванова, героиня повести которого, старица Александра, видя, что срублены три вековые сосны – «Три святителя», с горечью произносит: «Так и старую веру покрушили».
Из современников Вс. Иванова наиболее интересное соединение тем раскола и земли обетованной с современностью дал А. Платонов в рассказе «Иван Жох» (1927). Как и Иванов, поставив рядом историю (XVII в. у Иванова, XVIII в. у Платонова) и новое время (1918 г. у Иванова, 1919 г. у Платонова), писатель показывает мечту раскольников («Благочестия ж нету в Москве – горит оно где-то в опоньской стране на Беловодье». – Платонов А. Сочинения. М., 2004. Т. 1. С. 29) и ее воплощение – Вечный Град – на Дальней реке, просуществовавшую до 1919 г. тайную и самую богатую раскольничью столицу. В качестве новой обетованной земли предстает перед красноармейцами Москва – «город, очаровавший нас неимоверной жизнью, цветущей уже второй год» (Там же. С. 38). Судя по содержанию рассказа, отношение автора к мечте о «царстве покойного богатства и сытой жизни» (Там же. С. 40) далеко не однозначно: и достижение его, и борьба за него во все времена связаны с необходимостью проливать кровь – будь то смерть Ивана Жоха от руки сподвижника, или стремление Сорокина «драться с красными <…> за веру, за Вечный град, за тишину истории» (Там же. С. 41), или смерть того же Сорокина в тюрьме в 1920-м году, последовавшая в результате борьбы за новую утопию.
Критику 1920-х годов в повести «Бегствующий остров» привлекло прежде всего описание Ивановым «странной, проникнутой мистически-религиозными таинствами» жизни: «„Бегствующий остров“ интересен не столько историей встречи Васьки Запуса и Саши <…>, сколько чисто бытовым материалом. Много места уделено описанию верований и обрядов раскольников, их замкнутой жизни и их смятению, когда на Бело-Острове появляется „табачная нечисть“, а в городе укрепляется „басурманская сила большевиков-никониан“» (Рудерман М. Новинки художественной литературы // Комсомольская правда. 1927. 6 февр. С. 4).
Восторженные отзывы в кругу критиков-перевальцев вызвала сюжетная линия Василия Запуса: «Очень характерно, что через несколько лет Всеволод Иванов возвращается к своему „золотому и созревшему колосу“ – Васе Запусу в одной из последних повестей „Бегствующий остров“, повести хрустально ясной; шлифованные ее грани играют радужным светом легенды, какой спустя десять лет окружили память комиссара Запуса, который „до красоты всегда страдание имел“. Легенда наделила его голубым конем, юной девушкой, как черемуха, разузорила судьбу его отважными подвигами сказочно-веселого преобразователя» (Пакентрейгер С По следам зверя // Всеволод Иванов. Критическая серия. М., 1927. С. 160–161). Критики других направлений откликнулись на новую историю о Запусе скорее с недоумением: «Растянутый рассказ Иванова „Бегствующий остров“ повествует о подвигах старого нашего знакомца комиссара Запуса. <…> Впрочем, роль Васьки Запуса в рассказе случайна и мало правдоподобна. <…> Сущность „Бегствующего острова“ – история колонии раскольников <…>, сохранивших средневековый быт вплоть до революции. Только революция способна сдвинуть и пробудить к жизни даже такие законсервированные человеческие массы; об этом сдвиге и рассказано в „Бегствующем острове“. Вс. Иванов злоупотребляет здесь обнажением приема, всю эту историю зачем-то вкладывает в уста подозрительному вагонному спутнику и в заключение напоминает читателю, что это „ерунда все и сказки“» (Якубовский Г. Дома и за границей // Н. мир. 1926. № 11. С. 149).
Как заключительная часть ТТ повесть практически не рассматривалась критикой, отмечено было лишь общее для всей книги стихийное начало: «Основная черта его (Запуса. – Е. П.) характера – стихийность. <…> У Васьки нет какого-либо стойкого взгляда на вещи. Его мятежная душа повинуется всему, в чем есть сила, дерзновение, размах. Той же внутренней тягой к стихийному обладают и герои рассказов „Жизнь Смокотинина“, „Ночь“ и „Смерть Сапеги“» (Рудерман М. Указ. соч. С. 4).
(1) Сара (угол.) – деньги.
(2) Возгласы беспризорных раздались под окном. – После окончания Гражданской войны открывшаяся кампания борьбы за «новый быт» призвана была в короткий срок покончить с беспризорностью. Несмотря на планы новой власти, число беспризорных детей продолжало увеличиваться, о чем с конца 1925 г. как о серьезной проблеме заговорили центральные газеты: «…лучший способ увековечить память М. Фрунзе это – покончить с детской беспризорностью в Союзе, в борьбе с которой не надо жалеть ни усилий, ни народных средств» (Известия. 1925. 11 нояб. С. 6). В феврале-марте 1926 г. открывается широкомасштабная кампания, в которой принимают участие и писатели. Постановлением правительства по борьбе с беспризорностью создается Всесоюзный фонд помощи беспризорным, куда предприятия и граждане перечисляют средства, на передприятиях организуются общества «Друг детей», в газетах открываются специальные рубрики. В феврале 1926 г. газета «Известия» начинает «подписку на нужды борьбы с беспризорностью», что вызывает поток самых различных писем (например, письмо А. В. Луначарского: «Язва беспризорности все еще глубока и широка и является уже не только нашей бедой, но в известной степени и нашей виной». – Известия. 1926. 28 февр. С. 5), стихов («На плач несчастной детворы, / Лишенной ласк, ухода, хлеба, / Которой кров – земля и небо, / Ужель не отзоветесь вы. С моим стихотворением вношу 1 руб. и вызываю всех учащихся педагогических техникумов. Учащийся педтехникума Н. Дудин». – Там же), вызовов на соревнование. Несмотря на общий почин, весна 1926 г. показала, что «борьба с детской беспризорностью – крайне трудная проблема, рассчитанная на много лет. По самым скромным подсчетам, в одной РСФСР имеется 300 ООО беспризорных, на Украине – 400 ООО, а во всех союзных республиках – не менее 400 000. Чтобы обеспечить эту массу беспризорных, нужно 3500 крупных детских учреждений, нужно около 85 миллионов рублей. Решить этот вопрос можно только планомерно, и не в один год, а во много лет», – указывал председатель Верховного Суда СССР А. Винокур (Известия. 1926. 2 марта. С. 5).
(3) Галкин – персонаж с этой фамилией появляется также в рассказе Вс. Иванова «Бамбуковая хижина» (1928).
(4) Они, братец Иванушка и сестрица Аленушка… – Вс. Иванов не случайно называет «тихого убийцу» и «подругу по мастерству» вора Галкина, именами традиционных сказочных персонажей, показывая их трансформацию в новой России. В сходном контексте употреблялось имя героини сказки в стихотворениях «новокрестьянских поэтов». См. у Н. Клюева: «Наша русская правда загибла, / Как Аленушка в чарой сказке…/ Забодало железное быдло / Коляду, душегрейку, салазки» (1928). Эти герои также появляются в рассказе Иванова «Бамбуковая хижина».
(5) …в Мугани водопровод ведут на тысячу верст? – Для орошения водой из реки Араке земель в Муганской степи (Азербайджан) в 1920-е годы начала создаваться система каналов.
(6) …позагорблю слещить… – Загорбить (угол.) – забыть; слещить, лещить (угол.) – совершать карманные кражи. Здесь, вероятно: надо забыть про карманные кражи.
(7) Белуха – самая высокая гора Алтая на территории бывшего СССР.
(8) …о комиссаре таком – Ваське Запусе?.. – В «Истории моих книг» Вс. Иванов вспоминал о своем знакомстве с реальным Запусом: «В Омске, будучи еще красногвардейцем, я познакомился с командиром отряда, направленного из Москвы на Дальний Восток. <…> Командир отряда – Василий Запус, красивый и необычайно веселый человек, даже о каторге вспоминал со смехом. <…>…в Павлодаре о нем остались только рассказы, носившие легендарный характер. И позже о нем рассказывали лишь легенды. То говорили, что он ушел в Синьцзянскую провинцию Китая и составляет там армию, то де скрывается в алтайских горах, где кует ружья необычайной меткости, а заодно и пушки, то будто бы стал под чужим паспортом учителем гимназии и, отбив у городского главы Семипалатинска жену, поплыл с нею на лодке вниз по Иртышу и погиб во время бури. После прихода красных говорили, что он спустился со своим отрядом с Алтайских гор, но потом поссорился с семипалатинской властью, пошел на Омск, по дороге превратился в „зеленого“ и был убит при стычке» (Наш современник. 1957. № 3. С. 146–147). Запус стал центральным героем романа Вс. Иванова «Голубые пески» (1922–1923), рассказа «Человек за бортом» из цикла «Рассказы об Октябре» (1924).
(9) …про кота бессмертного рассказал. – Аллюзия на известный фольклорный сказочный сюжет, упомянутый, в частности, в поэме А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» – «кот-ученый» (см.: Медриги Д. Н. Путешествие в Лукоморье: Сказки Пушкина и народная культура. Волгоград, 1992. С. 28).
(10) Засильник (засельник) – от «заселять» – первопоселенец (Даль I, 634).
(11) …от тысяча шестьсот восемьдесят пятого – проклятого – года… – В 1685 г. были изданы знаменитые «драконовские» 12 статей царевны Софьи и патриарха Иоакима, открывшие новую серию жестоких гонений на старообрядцев.
(12) В Драновитой палате при царевне-паскуде Софье-беспятой пришлось им закричать: «Победим, перепрехом!»… – Речь идет о публичном диспуте о старой и новой вере 5 июля 1685 г. в Грановитой палате Кремля в присутствии царевен Софии и Татьяны и царицы Натальи Кирилловны, матери Петра I. Упорство и страстность раскольников произвели более сильное впечатление на присутствовавших, чем богословская аргументация епископов, и психологически победа склонялась в их пользу. Тогда София прервала споры и пригрозила в случае дальнейших проявлений неуважения к иерархии и власти отъездом царской семьи из Москвы. Старообрядцы оставили палату торжествуя: «Победихом, победихом», – кричали они и поднимали руки: «Тако слагайте персты, веруйте, люди, по нашему. <…> Мы всех архиереев перепрехом и пострамиша» (см.: Зеньковский СА. Русское старообрядчество. М., 1995. С. 165–169). Грамматическая форма «перепрехом» – одно из вышедших из употребления прошедших времен старославянского языка – аорист, 1-е лицо множественного числа, – от глагола «перепьръти» – спорить, одержать верх в споре, тяжбе. В изложении Галкина только второй из глаголов сохранился в исходной форме, а вместо «победихом» (также аорист) употреблено простое будущее время – победим.
(13) Музыка (угол.) – воровской жаргон.
(14) «Стрелял сам саватеек», хоть и мелкозвонов «на кистях» не носил. – В первой публикации повести имеется сноска: «Бродяжил, но кандалов не носил».
(15) Напечатал Петр против них духовный пергамент… – Речь идет о правительственных распоряжениях эпохи Петра I по преследованию раскольников. Указом 1716 г. раскольникам было разрешено открыто жить в селениях и городах, но под условием платежа двойного налога. Пропаганда раскольничьего учения наказывалась смертью или ссылкой. Раскольники не имели права занимать общественные должности, обязаны были носить особую одежду, им запрещалось строить скиты, укрывательство раскольников влекло за собой тяжкие наказания, как противодействия власти. Здесь упомянут «Духовный Регламент» (25 января 1721 г.), по которому «по всей России никого из раскольников» нельзя было «возводить во власти, не токмо духовные, но и гражданские…» (см.: Старообрядчество: светское и церковное законодательство XVII–XVIII вв. Арзамас, 2001. С. 13–27, 127–128).
(16) Семен Выпорков – персонаж вымышленный. В его биографии совмещен ряд черт различных деятелей старообрядчества XVIII в.
(17) …немшоные бани, «четок монастырских» на железном стуле покушал… – Перечислены пытки, в XVII–XVIII вв. применяемые по отношению к старообрядцам. Немношный – не проконопаченный мхом (о деревенском доме).
(18) …находится та пустынь под Ярославлем, хутор купца Федорова. – Хоть известно, что под Ярославлем находились старообрядческие скиты, документальный источник истории купца Федорова не обнаружен. Весь эпизод связан с распространенным у старообрядцев самосожжением (гарью) – мученической смертью в огне, на которую добровольно шли многие из них, чтобы не попасть в руки антихриста. Самосожжению предшествовали многочисленные сожжения старообрядцев как специальный вид казни (согласно 12 статьям царевны Софьи) и как вид массовой карательной операции. Речи Оглобли против самосожжения также имеют исторические источники. В самом старообрядчестве с 1680 г. высказывались протесты против самосожжения.
(19) Белый Остров – поселения с названием «Белый Остров» на территории Тобольской губернии (округа), Тюменской области не существовало. Примерно в 30 км на северо-восток от Тобольска находилась деревня Белая Абалакской волости Тобольского уезда «при речке Арезмянке, на проселочной дороге» (Список населенных мест Тобольской губернии. Издание Тобольского Губернского Статистического Комитета. Тобольск, 1912. С. 36). В советское время деревня вошла в Верхне-Аремзянский сельсовет Тобольского района, Тобольского округа, Уральской области (Список населенных пунктов и Административное деление Тобольского округа, Уральской области на 1 октября 1926 г. Тобольск, 1926. С. 43). В этой деревне был скит староверов.
Самым крупным центром староверия на Тюменщине был Исетско-Ирюмский центр (ок. 70 км к югу от Тюмени). О Танаевской обители старообрядцев часовенного согласия, находившейся в этом районе, см.: Чернышов Л. В. Религия и церковь в Тюменском крае: Опыт библиографии: В 3 ч. Тюмень, 2004. Ч. 2. С. 112. В 1920–1930 гг. в связи с голодом, коллективизацией и репрессиями на Тюменщине происходила миграция старообрядцев (см.: Покровский Н.Н., Зольникова Н. Д. Староверы часовенные на востоке России в XVIII–XX вв.: Проблемы творчества и общественного сознания. М.: Памятники исторической мысли, 2002. С. 30–32).
«Меккой» старообрядцев на Тюменщине являлся так называемый «Остров Авраамия» на Бахметском болоте (20 км от деревни Юшковой, Тугулымской волости, Тюменского уезда), где находилась могила лидера урало-сибирского старообрядчества, старца-беспоповца Авраамия (ок. 1635-после 1702), и развалины его кельи (Остров Авраамия и его поклонники: Из быта раскольников беспоповщинской секты // Сибирская торговая газета. 1898. 14 мая. № 104. С. 2–3; Из старообрядческого мира // Сибирская газета. 1906. 10 дек. (№ 225). С. 3; Темплинг В.Я., Туров СВ. Авраамий (Алексей Венгерский) // Большая Тюменская Энциклопедия: В 3 т. Тюмень, 2004. Т. 1. С. 52).
(20) Аввакумовы слова – протопоп Аввакум Петрович Кондратьев (1620–1682) – у старообрядцев св. священномученик, крупнейший представитель раннего старообрядчества, писатель и публицист. Память 14 (27) апреля. Вероятно, имеются в виду последние слова, произнесенные Аввакумом перед сожжением в городе Пустозер-ске. Умирая, он высоко поднял руку с двуперстным крестным знамением и закричал народу из огня: «Будете этим крестом молиться, – вовеки не погибнете».
(21) …одна надёжа: второе пришествие Христово… со дня на день ждали… – Часть старообрядцев (например, беспоповцы) считала, что «антихриста» надо понимать в «духовном смысле», что царство его в мире уже наступило во время раскола русской церкви. Длится оно будет, согласно книге пророка Даниила, три с половиной года, а конец его описан у апостола Павла: «…его же Господь Исус убиет Духом уст Своих и упразднит явлением пришествия Своего» (2 Сол 2, 8).
(22) Денисов – Андрей Дионисьевич, князь Мышецкий (1674–1730) – начальник «киновии» Выговского поморского общежительства. Происходил из обедневшего к концу XVII в. рода князей Мышецких.
В 17 лет Андрей избрал отшельническую жизнь. Покинув дом, он вдвоем с другом всю зиму провел, скитаясь в лесах, не имея жилища. В 1669 г. познакомившись в одной из пустынь с Даниилом Викулиным, основал вместе с ним Выговское общежительство, формальным главой которого стал в 1702 г. (после ухода Даниила на покой) и пребывал им до самой кончины. На этом посту Андрей Денисов сумел проявить два противоположных качества, в равной мере снискавшие ему непререкаемый авторитет у старообрядцев-поморцев и уважение людей внешних, а именно: твердость во всем, что касалось вопросов веры, и дипломатичность, склонность к компромиссу в том, что касалось сношений с властью светской. Своим духовным и хозяйственным процветанием Выговское общежительство во многом было обязано его умелому руководству. Много путешествуя, он подолгу жил вне общежительства, заводил полезные знакомства в Петербурге и в Москве, организуя караваны с хлебом на Выг, пока еще у монастыря не было своей пашни.
Несмотря на свою большую занятость делами хозяйственными, Андрей Денисов оставил около 119 сочинений, среди них и выдающееся произведение старообрядческой апологетической мысли – «Поморские ответы», главным автором которого он был (по мнению некоторых историков, Денисов был автором и известных «Диаконовых ответов», написанных в 1719 г. Возможно, оба эти сочинения имели общий, пока не обнаруженный источник).
Денисов стал родоначальником выговской литературной старообрядческой школы, существовавшей вплоть до XIX в. и ориентировавшейся на его стиль. Умер Денисов после недолгой болезни, погребен на Выговском монастырском погосте. Позже там была выстроена часовня.
(23) Горбач (угол.) – заключенный, совершивший побег.
(24) Утренний начал – слово «начал» («начало»), которое в дальнейшем будет употребляться Вс. Ивановым не раз, может иметь несколько смыслов: 1) краткое молитвенное правило, которое полагают перед службой. Начал бывает малый (так называемый семипоклонный – то же, что приходные и исходные поклоны) и большой. Малый начал совершается так: три поклона с молитвой мытаря, всегда земной поклон после молитвы «Достойно есть…», после этого «Слава…» (поклон), «и ныне…» (поклон), «Господи помилуй» (дважды), «Господи благослови» (поклон). Эти три поклона (как и первые три) бывают земными и поясными в зависимости от дня. Завершается начал словами: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матери…» и земным поклоном. «Большой начал» включает в себя чтение Господней молитвы («Отче наш»), 50-го псалма, Символа веры и ряда других молитв. Полный текст есть в старообрядческих церковных календарях и молитвенниках; 2) начал прощальный – так у беспоповцев называется обряд, предваряющий допуск к общей молитве брата, ранее за какое-либо прегрешение отлученного от молитвенного общения, но покаявшегося и загладившего вину; 3) начал общительный, или примирительный, – самый простой вид чиноприема от ереси, который бывает у беспоповцев при присоединении к другому, близкому по учению согласию.
(25) Воздвижение, еще значит, не было… – Праздник Воздвижения – древнейший христианский праздник, совершается 14 сентября. Назван в воспоминание великого в церкви Христовой события, бывшего в 313 г., когда после 300-летних гонений св. Елена, нашедши подлинный крест Христов, воздвигла его для общего чествования и поклонения.
(26) Киновиарх – начальник «киновии», т. е. общежительного монастыря. Кажется достаточно странной существовавшая на Белом Острове традиция выбирать женщину киновиархом. (Даже само это наименование по отношению к женщине звучит достаточно странным. Например, сестра Денисова Соломония возглавляла женское Лексинское общежительство, но никогда киновиархом не называлась. Она носила официальное наименование «большухи», которое и впоследствии на Севере часто встречалось.) Женщины, правда, всегда играли большую роль в старообрядчестве. Женское служение в старообрядческих общинах, в основном, утвердилось в советское время, когда большинство старообрядческих наставников было репрессировано. С другой стороны, здесь, быть может, проявилась одна местная традиция, которая и теперь существует в сибирских старообрядческих поселениях. Дело в том, что основное занятие мужчин в Сибири – охота, а наставником и духовным отцом, согласно церковным канонам, не может быть человек, чья деятельность хоть как-то сопряжена с насилием, в том числе он не имеет право охотиться. Поэтому нередко возглавляют общины женщины.
(27) …что есть нескончаемая лестница. – Лестница духовного самосовершенствования, возводящая подвижника на небо. Сущность понятия «лестница», или «лествица», раскрыта в сочинении Иоанна Лествичника (родился ок. 525 г.) «Лествица райская». Сочинение являет собой руководство к иноческой жизни, которая представляет путь непрерывного и трудного восхождения по лестнице духовного самосовершенствования. Ступеней самосовершенствования Иоанн насчитывает 30, сообразно 30 годам жизни Спасителя до вступления его на общественное служение. По изображению «Лествицы» христианское совершенствование начинается отвержением «мира» и борьбой со «страстями». От рассеивающих удовольствий и чувственных наслаждений «дух» обращается к покаянию и смирению, пребывая в постоянном памятовании смерти. Спасительная печаль смягчает сердце подвижника силою слез, освобождает его от себялюбия и снимает с него духовные наросты. Таким путем покаявшийся достигает состояния «молчания», когда он находит слова только для молитвы, песнопений и выражения «любви». Блаженное смирение ведет по стезям последования Христу и отверзает дверь в небесное царство.
Цель сочинения не теоретическая, а практическая, – дать руководство в прохождении духовной жизни монашеской, и, как хорошо удовлетворяющее такой цели, оно издревле пользуется заслуженной славой. В X–XI вв. «Лествица» была переведена на славянский язык в Болгарии. На русском языке «Лествица» в первый раз издана в Москве в 1647 г. В этом издании, переизданном раскольниками в Варшаве в 1785 г., помещены толкования русского происхождения – Нила Сорского, Максима Грека и др.
(28) Лестовка – старообрядческие четки, кожаные или матерчатые.
(29) таскуны-кочерыжники – от «таскун» – беспутный, респутный (Даль IV, 392) или «таска» (угол.) – состояние наркотического или алкогольного опьянения и «кочерыжка» (угол.) – ружейный обрез, пистолет, пулемет.
(30) Зыряне – устаревшее название народа коми.
(31) …соблазнился понюхать у зырянина-купца табаку – Употребление табака считается у старообрядцев очень серьезным грехом. Явно курящих даже не допускают до совместной молитвы.
(32) Яруха – от «ярый» – огненный, пылкий; горячий, бойкий; похотливый Даль IV, 679).
(33) Пащенок (бран.) – молокосос, щенок Даль III, 27).
(34) Юрцованить – возможно, от «юрца», «юрцовка» (угол.) – притон, тюрьма, «юрить» – суетиться, или «юрок» (угол.) – вор.
(35) …черныш да загорыш… – Загорыш (загорелыш, загарыш) – загорелый человек. См. загадку: «Черныш, загорыш, куда поехал? – Молчи, кручено, верчено, там же будешь!» – чугун и глиняная корчага Даль I, 570).
(36) Косуля сары (угол.) – тысяча рублей.
(37) Распоряжение вождя Ильича об нэпе еще не произошло. – Новая экономическая политика (нэп) была провозглашена в марте 1921 г. на X съезде РКП (б), сменила политику «военного коммунизма». Включала замену продразверстки продналогом в деревне, использование рынка различных форм собственности, привлечение иностранного капитала (концессий).
(38) Тырба, тырбанка, дербанка (угол.) – дележ краденого.
(39) Моргай, моргалы (угол.) – глаза.
(40) Сапай, сопай, сопло (угол.) – нос.
(41) Хватай (угол.) – язык.
(42) Остров-кивал – видимо, имеется в виду голова, от «кивать», хотя такого сочетания слов словари уголовного (блатного) жаргона не приводят.
(43) Разверстка – система заготовок сельскохозяйственных продуктов, которая заключалась в обязательной сдаче крестьянами государству по конкретным ценам всех так называемых излишков (сверх установленных норм на личные и хозяйственные нужды) хлеба и других продуктов. Применялась в период Гражданской войны и военного коммунизма 1918–1920 гг. В соответствии с постановлением Наркомпрода от 13 января 1919 г. о порядке разверстки государственные плановые задания исчислялись на основе погубернских данных о размерах посевных площадей, урожайности, запасов прошлых лет. Сбор продуктов осуществляли органы Наркомпрода, продотряды, создававшиеся преимущественно из рабочих. Вначале продразверстка распространялась на хлеб и зернофураж; в заготовительную кампанию 1919–1920 гг. она охватила также картофель, мясо, а к концу 1920 г. почти все сельхозпродукты. В марте 1921 г. решением X съезда РКП (б) продразверстка была заменена продналогом.
(44) Старабачитъ (угол.) – собрать, забрать.
(45) Не картавь (угол.) – не шути.
(46) Чуман – берестяной кузов, лукошко (Даль IV, 614).
(47) На колесах ходить (угол.) – употреблять наркотики.
(48) Кряковка (угол.) – штрафной изолятор.
(49) Бугры (угол.) – место ссылки.
(50) Звонок (угол.) – здесь: осведомитель, доносчик.
(51) Дуга (угол.) – обман, ложь, сведения воровской разведки, требующие перепроверки.
(52) Справочка (угол.) – документы, сведения.
(53) Вериги – железные цепи, надеваемые великими подвижниками веры Христовой на голое тело для смирения плоти.
(54) Язычники-самоядь (самоеды) – старое русское название урало-балтийской народности, близкой к финнам.
(55) …треязычный Аполонзий… – возможно, апокалиптический царь бездны Аполлион (Откр 14, 7).
(56) На-шарап – возможно, от «на шармана», «на шарманку» (угол.) – запросто, без всяких церемоний, не задумываясь.
(57) Никониане – последователи патриарха Московского и всея Руси Никона (в миру – Никиты Минова) (1605–1681), проведшего церковные реформы с целью унификации богослужения и церковных текстов. Деятельность Никона по исправлению книг и обрядов по греческим образцам вызвала протест значительной части русского духовенства, приведший к расколу русской православной Церкви.
(58) Талыгай – тунеядец, лентяй, невежа, неуч Даль IV, 388).
(59) Жохомно – тошно, муторно, противно.
(60) …«больше широва, тем склешевей»… – дословно: «больше наркотиков, тем лучше», от «широво» (угол.) – наркотики, «клевый» – хороший, добротный.
(61) Лататы задать – лататы (угол.) – побег из места заключения.
(62) Сусанин Иван – крестьянин села Деревеньки Костромского уезда, герой освободительной борьбы русского народа против польских захватчиков в начале XVII в.
(63) Дряпка – возможно, «дрябка», от «дряблый», «дрябье» – в значении загнивший, порченый.
(64) Било – металлическая доска, в которую бьют для подачи различных сигналов Даль I, 86).
(65) Сумет – метель, вьюга; сугроб, снежный занос Даль IV, 36).
(66) …оружие на орала перековано! – Неточная цитата из Святого Писания: «И будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и копья свои – на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не буду более учиться воевать» (Ис 2, 4). Орало (церк. – слав.) – плуг.
(67) …воин Андонисий… – Здесь, возможно: искаженное имя Адонис – в греческой мифологии бог плодородия финикийско-сирийского происхождения: прекрасный юноша, возлюбленный Афродиты. Культ Адониса связан с умиранием и возрождением природы.
(68) …в Русь уйдем?.. – В Сибири Русью, Россией часто называли европейскую часть России.
(69) Росшивни – сани.
(70) Могутный – мощный, сильный (Даль II, 337).
(71) Чресла – мн. число от «чересла» (ср.) – поясница, окружность тела над тазом Даль IV, 59).
(72) Они теперь, небось, сидят, место для моей могилы выбирают… – Аллюзия на обряд «красных похорон», возникший в 1918 г. и призванный заменить церковное отпевание. Ритуал «красных похорон» был выработан при похоронах революционных деятелей на Марсовом поле в Петрограде и включал в себя речи ораторов о борьбе, ее неизбежных жертвах и грядущей победе, пение революционных песен и звучание похоронного марша. Описание «красных похорон» можно было встретить в 1920-е годы в различных газетах и журналах, а в литературе – в лирике поэтов «пролеткульта» 1918–1919 гг., поэме В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин» (1924). Сострадание к лишенным христианского погребения отразилось в дневниках и художественных произведениях И. Бунина, М. Пришвина, А. Платонова, Л. Леонова и других русских писателей (см.: Корниенко Н.В. «Сказано русским языком…»: Андрей Платонов и Михаил Шолохов: Встречи в русской литературе. С. 211–219). Новый обряд с трудом входил в народную жизнь, вызывая недоумение и страх. Например, в романе Л. Леонова «Вор» (1927) похороны Тани Векшиной «без песнословий и ладана, по-красному» даже у привыкшего ко многому в новой жизни крестьянина Николая Заварихина рождают сомнение: «Митя… ведь нехорошо? А? <…> А вот лежит… одна. Псалтырь бы почитать. Я не знаю, как по-вашему-то» (Кр. Н. 1927. № 7. С. 4).
(73) Подручник – молитвенный коврик, используемый для того, чтобы полагать на него руки при земных поклонах. Представляет собою особым образом сшитый из лоскутов материи квадрат, простеганный и набитый волосом или иным материалом. Определенный рисунок, по которому сшиваются лоскуты, символизируют девять ангельских чинов. Назначение подручника состоит в том, чтобы при земных поклонах руки во время молитвы сохранялись чистыми. Новообрядческая церковь вместе с отменой земных поклонов при патриархе Никоне потребность в подручниках утратила.
(74) Будем читать и пояснять им Маргарит, Ефрема Сирина… – «Маргарит»-византийский и древнерусский сборник, состоящий из избранных слов, бесед и поучений св. Иоанна Златоуста.
Ефрем Сирин – св. подвижник, проповедник. Жил в IV в., умер в 373 г. Оставил много толкований на Святое Писание и других сочинений, переведенных на греческий язык и читавшихся в церквах, умилительные молитвы и песнопения, сочинения аскетического характера.
(75) Сигун – от «сигать» – прыгать; прыгун, скакун Даль IV, 181).
(76) Проскамедия – игра слов, от «проскомидия» (греч.) – часть литургии, при которой готовят дары на жертвеннике для освящения.
(77) Орден Трудового Красного Знамени – учрежден VIII Всероссийским съездом Советов 28 декабря 1920 г. для награждения за трудовые подвиги и отличия.
(78) Николай Мирликийский – Архиепископ Мирликийский, великий христианский святой (?-342). Прославился чудотворениями при жизни и после смерти. Святой Николая чтится повсеместно в христианской Церкви, западной и восточной, часто даже между мусульман, живущих на Востоке. В русской традиции Николай Чудотворец, Николай Угодник – народный, крестьянский святой. Он часто представляется тихим и кротким странником, заступником бедных и страждущих, целителем, кормильцем. Память 22 мая и 19 декабря.
(79) …неустанно пела акафисты… – Акафист – наименование особенных хвалебных песнопений в честь Спасителя, Божьей Матери и святых.
(80) А девки стриженые, юбки в насмешку над верой колоколом сшиты… – См. письмо Иванова А. М. Горькому от 20 декабря 1925 г.: «…в семьях развал, самый пустяковый блуд, этакие, черт знает, какие девки появились с алиментами, со стрижеными волосами» (С. 327).
(81) Авраамий Палицын – (в мире Аверкий Иванович) (?-1627) – келарь (в монастырях – заведующий монастырским столом, кладовой) Троице-Сергиевой Лавры, известный в русской истории выдающейся патриотической деятельностью в эпоху Смутного времени. Автор «Сказания келаря Авраамия Палицына» – памятника письменности XVII в., описывающего события Смутного времени, главным образом осаду Троицкой Лавры.
(82) Тень-пядень – от «пядь» – старинная мера длины, равная расстоянию между концами растянутых большого и указательного пальцев.
(83) Трижды и трою – троекратно, три раза (Даль IV, 431).
(84) Перепись – первая перепись населения в Советской России проводилась в 1920 г.
(85) Антихристова печать – знак на правой руке и на лбу, которым, по Святому Писанию, будут отмечены поклонники антихриста. В Петровскую эпоху крестообразный знак на левой руке солдат («рекрутское пятно») старообрядцы отождествляли с антихристовой печатью. В советское время антихристовой печатью в народе называли след от прививки оспы, пятиконечную звезду и т. п.
(86) …под Кронштадтом… – Имеется в виду Кронштадтское восстание 1-18 марта 1921 г. – вооруженное выступление гарнизона Кронштадта и экипажей некоторых кораблей Балтийского флота. Вызвано было недовольством политикой «военного коммунизма», усилившимся в конце 1920 – начале 1921 г. в связи с неурожаем, хозяйственной разрухой и голодом. Лозунги восстания: «Вся власть Советам, а не коммунистам!», «Советы без коммунистов!» и т. п. Подавлено частями Красной Армии. Кронштадтскому восстанию посвящена пьеса Вс. Иванова «Блокада» (1928).
(87) Содом – в Библии один из двух городов у устья реки Иордан или на западном побережье Мертвого моря, жители которых погрязли в распутстве и за это были испепелены огнем, посланным с небес. Из пламени Бог вывел только Лота с семьею. Переносное значение: Содом и Гоморра – беспорядок, хаос, разврат.
(88) …на льду самая кунсткамера-то и началась… – Обыгрывается значение слова: кунсткамера – название различных исторических, художественных, естественнонаучных и др. коллекций и место их хранения.
(89) Супони – ремни, которыми стягивают хомут под шеей лошади Даль IV, 361).
Рассказы 1916–1921*
В раздел включены ранние рассказы Вс. Иванова, созданные в сибирский период его творчества и предшествовавшие работе над ТТ.
Первые рассказы писателя, написанные в Сибири в 1916–1920 гг., включают в себя немалый, около 50, корпус текстов. Большая часть их публиковалась в сибирских газетах того времени. Переизданы в книге: Неизвестный Всеволод Иванов: Материалы биографии и творчества. М.: ИМЛИ РАН, 2010. Тематически они очень различны: это легенды об «ушедшей Сибири» («Сон Ермака», «Рао» и др.), стилизации под произведения казахского фольклора («Завещание», «Киргизские сказки» и др.), бытовые жанровые зарисовки из жизни цирковых артистов и бродячих актеров («Гривенник», «Дуэн-Хэ» и др.). Из сибирских рассказов для настоящего издания выбраны те, которые приближаются по своей тематике и стилистике к книге ТТ. Расположенные в хронологическом порядке, рассказы дают представление о творческой эволюции писателя.
Печатаются по изданию: Неизвестный Всеволод Иванов: Материалы биографии и творчества (рассказ «Купоросный Федот» печатается по книге Вс. Тараканова (псевдоним Вс. Иванова) «Рогульки», 1919). В Примечаниях к каждому рассказу дается указание на первую публикацию. Рассказ «Полая Арапия» (1921) в 1920 – начале 1930-х годов издавался несколько раз (см. Примечания). Последнее прижизненное издание датируется 1932 г. Переиздание: Иванов Вс. Бронепоезд 14–69. М.: Вече, 2012. В настоящем издании рассказ печатается по СС-7.
В критике 1916–1920 гг. отклики на рассказы Вс. Иванова этого времени не выявлены. В 1960–1980 гг. исследователи анализировали некоторые ранние произведения Вс. Иванова, выявляя их истоки и внутреннюю связь с творчеством писателя последующих периодов (см.: Беленький Е. На всю жизнь // Судьбы, связанные с Омском. Омск, 1979. Кн. 2. С. 177–210; Гладковская Л. А. Жизнелюбивый талант. Л., 1988. С. 9–26; Минокин М. О раннем творчестве Всеволода Иванова // Русская литература. 1959. № 3. С. 202–203; Янко М. Д. Литературное Зауралье. Курган, 1960. С. 102–108; Пудалова Л. А. Сибирские рассказы Всеволода Иванова: Становление жанра рассказа в раннем творчестве писателя. Дис… канд. филол. наук. Иркутск, 1966).
Защитник и подсудимый*
Впервые: однодневная газета «День служащих» (общество взаимопомощи приказчиков). Курган, 1916. 19 февр. С. 3, с подзаголовком: «Этюд».
(1) … из деревни Студеной, Ободранной волости… – Аллюзия к поэме НА. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо…», где названия деревень «Заплатова, Дырявина, / Разутова, Знобишина, / Горелова, Неелова, / Неурожайка тож» и «Пустопорожней волости» указывают на нужду и бедственную жизнь народа. Связь с поэмой не случайна: Н. А. Некрасов был одним из любимых поэтов курганского друга Вс. Иванова – сибирского поэта-самоучки К. К. Худякова.
Вертельщик Семен*
Впервые: Народная газета (Орган Союза сибирских маслоделательных артелей). Курган, 1916. 20 окт. С. 845–848.
В основу рассказа легли события из биографии Вс. Иванова – работа в типографиях Павлодара в 1910–1912 гг., где писатель, как и его герой, был вертельщиком печатной машины, и Кургана в 1915–1917 гг., в частности в типографии А. И. Кочешева (см.: Янко М. Д. Писатели Зауралья. Курган, 1960. С. 103–104).
(1) …три розовые бумажки, да одну синюю… – Бумажные ассигнации: на красно-розовой бумаге печатались 10 рублей, на синей – 5 рублей.
(2) «Серебром играет улочка…» – В текст этого рассказа и некоторых других, написанных в 1916–1917 гг., Вс. Иванов включал строки частушек тех лет. Об интересе писателя к этому жанру народной словесности свидетельствовала и его заметка «Война и отражение ее в частушках», начинавшаяся словами: «Гигантский мертвый шаг человечества и гибели, как говорят пацифисты, и к лучшему будущему, как говорят идеологи войны, не мог не отразиться на поэзии нашей деревни – частушках. Из бездны страдания пытаются окрылиться при помощи хотя этой примитивной музыкальной силы, как частушка» (Степная речь. 1917. 23 февр. С. 3).
(3) Напередки – впредь, в будущем (Даль II, 455).
(4) Ударил в голову серыми казанками дурман… – «Казанки» – вероятно, от «казаться» – представляться, принимать вид обманчивый или сомнительный Даль II, 73).
(5) Кислушка – брага, приготовленная с небольшим количеством сахара; напиток из кислого меда, настоянного на хмеле Даль II, 111).
В зареве пожара*
Впервые: Народная газета. Курган, 1916. 25 дек. С. 1039–1043, с подзаголовком: «Эскиз».
(1) Разговеться – поесть после поста впервые скоромную пищу Даль IV, 22).
(2) Паек – так места не жалко? – В России в XIX – начале XX в. семьи, из которых кормильцы были взяты на войну, получали пособие от государства, по аналогии с солдатским пайком, называемое пайком. Существовало даже слово «паечницы» – жены ратников Даль III, 9).
(3) Гривна – 10 копеек Даль I, 395).
(4) Доспеть – сделать, смастерить Даль I, 478).
(5) Снится Марье сон. – Первая часть сна героини, представляющая идиллическую картину семейного счастья, возможно, отсылает к сну Дарьи из поэмы Н. А. Некрасова «Мороз, Красный нос» (1863): «И снится ей жаркое лето – / Не вся еще рожь свезена…» (ч. II, гл. XXXIII–XXXIV). Не исключено, что и финал рассказа, в котором «день торжественный и чистый в серебряном одеянии» контрастно противостоит описанию горя матери, восходит к заключительным строкам поэмы о смерти Дарьи, где описан «.. лес / В серебряно-матовый иней / Наряженный, полный чудес, / Влекущий неведомой тайной, / Глубоко бесстрастный…».
Сын человеческий*
Впервые: газета «Степная речь» (Петропавловск, 1917. 1 янв.), с подзаголовком: «Из цикла „Злоявь“». Рассказ имел посвящение: Поев. Ал. Меньшикову.
Автограф рассказа хранится в РО ИРЛИ(Ф. 185. Архив B.C. Миролюбова. Оп. 1. Ед. хр. 1537). Посвящение в автографе отсутствует. В правом углу проставлена дата: 1916 г. Внизу, на последней странице, написано: «Автор: наборщик типографии „Народной газеты“ Всеволод Вячеславович Иванов». Вероятно, Вс. Иванов послал рассказ в 1916 или 1917 г. B.C. Миролюбову – редактору-издателю «Журнала для всех». Рассказ напечатан не был. Между двумя источниками существуют некоторые разночтения стилистического характера. Ср.: «В убогой комнатке, на ветхой деревянной кровати – умирает мать» (РО ИРЛИ) – «В бедной комнате на кровати больная мать» (Степная речь); «Я иду, таскаю кирпичи, помогаю класть каменные колыбели» (РО ИРЛИ) – «И я кладу каменные исполинские колыбели для младенцев человечества» (Степная речь) и т. п. После слов: «И машины поглотили у них истинно человеческое» (Степная речь) – в автографе идет текст: «Я хотел сорвать солнце и разделить между людьми, чтобы при каждом было его светило! Но разве у раба может быть светило – его светило головешка! А я думал!..»
По предположению Л. А. Пудаловой, рассказ посвящался одному из издателей петропавловской газеты «Ишимская степь» (после 1913 г. – «Приишимье»), в которой в 1916–1917 гг. печатался Вс. Иванов (см.: Пудалова Л. А. Указ. соч.). Информацией о цикле «Злоявь» не располагаем.
Помещая вырезку из газеты «Степная речь» в самодельную книгу «Зеленое пламя», Иванов вычеркнул подзаголовок и посвящение.
(1) …змея каст… – Касты – замкнутые эндогамные группы людей, обособившиеся вследствие выполнения специфических социальных функций, наследственных занятий и профессий, принадлежности к определенной этнической или религиозной общности. Характерны для Древнего Египта, Индии, Перу.
Дед Антон*
Впервые: Сборник пролетарских писателей / Под ред. А. М. Горького, А. Сереброва, А. Чапыгина. Пг., 1917. С. 97–107.
Один из рассказов, посланных Вс. Ивановым из Сибири А. М. Горькому. Отправляя рассказ, Вс. Иванов писал: «Посылаю „Деда Антона“. Извиняюсь, если не понравится, – но я буду посылать не избранное, а все рядовое, дабы Вы могли указать мне худые стороны моего письма» (после 17/(30) октября 1916 г. – СС-3 Т. 8. С. 531). В ответном письме приблизительно от 3 (16) февраля 1917 г. А. М. Горький сообщал: «Два Ваших рассказа будут напечатаны в „Сборнике произведений писателей-пролетариев“ и уже сданы в типографию. <…> Вот что, сударь мой: Вы, несомненно, человек талантливый, Ваша способность к литературе вне спора. Но если Вы желаете не потерять себя, не растратиться по мелочам, без пользы, – Вы должны серьезно заняться самообразованием» (Иванов Вс. Переписка с А. М. Горьким; Из дневников и записных книжек. С. 9).
(1) Бахвалиться – хвалиться, хвастаться (Даль I, 55).
(2) Блянба (блямба) – оплеуха, сильный удар кулаком Даль I, 100).
(3) Анадысь – на днях Даль I, 10).
(4) …в бабки его обдул Минька, да всего-то три гнезда. – В игре в мяч: бабка-это палка, колышек, воткнутый в землю на некотором расстоянии от играющих для обозначения границы; гнездо – четыре бабки.
(5) Струбачить – возможно, искаж.: «стобурчить» (диал.) – поднять вверх.
(6) Парнята – парень.
(7) Настримнежим – возможно, от «стремень», «стремнина» – место бурного и стремительного течения воды в реке; или от «стремить» – устремлять, направлять. Здесь: пустить в реку с сильным течением, чтобы испробовать Даль IV, 339).
(8) Бешмет – стеганое татарское полукафтанье; простой суконный кафтан с кожаной оторочкой, обшитый на рукавах, у кисти и в других местах Даль I, 85).
(9) …был отец атаманом в поселке ~ ездил к атаману отдела… – Атаман – звание каждого выборного вождя, начальника, лидера в казачьих обществах. Первоначальное значение слова – «отец-витязь» или «отец мужей». Известны атаманы войсковые, походные, наказные, округов, поселков, хуторов, мелких отрядов.
Отделы – части казачьей области, по количеству населения способные выставить первоочередной полк. Атаманы отделов назначались из генералов-казаков. Вместе со своим Правлением они следили за общественным порядком, утверждали выборных столичных атаманов, контролировали их деятельность, ведали мобилизациями, учебными сборами и пр.
(10) Бродни – высокие кожаные непромокаемые сапоги без каблуков Даль I, 129).
(11) Бастрик – ремень, стяг, которым сено и солома притягиваются на возу Даль I, 53).
(12) Сходка – сход станичный, собрание представителей от казачьего населения станицы и от хуторов для решения важных хозяйственных и административных вопросов, участвуют в нем выборные, в зависимости от величины поселений – «десятидворные», «двадцатидворные» или «тридцатидворные».
(13) Пригон – скотный двор Даль III, 408).
(14) Укрючина – жердь с веревкой, арканом или петлей на конце для поимки пасущихся коней Даль IV, 486).
(15) Рогульки – водяные орехи.
(16) Буркалы – глаза навыкате Даль I, 143).
(17) Схлыздил – попятился, не устоял, струсил.
(18) Болтушка – мучная каша. Этим же словом называют мелко нарезанную свекольную ботву, напаренную и заквашенную в квасе Даль I, 111).
(19) Таганка – от «таган» – железный обруч на ножках, под которым разводят огонь, ставя на него варево Даль IV, 385).
(20) «Казачье солнышко» – месяц. Казаки, как правило, начинали свои военные походы ночью.
(21) Матаня – песня-частушка, в которой поется о матане – милом, милой (Даль II, 307).
(22) …еще закурдачил… – от «закурдычиться» – загуляться.
Купоросный Федот*
Впервые: газета «Земля и труд» (Орган объединенной социалистической мысли). Курган, 1919, 7 апр. Подпись: Вс. Тараканов.
В вырезку из газеты, вклеенную в книжку «Рассказы», фиолетовыми чернилами внесен ряд исправлений стилистического характера, изменено абзацное членение. Авторская правка, внесенная в текст при подготовке книги «Рогульки», помимо стилистического характера (диалектное слово «станавина» заменено на «исподняя» и др.), была направлена на раскрытие «тайного тайных» души героя. Так, фрагмент фразы «…и точно на послухах у кого эта мысль была…» – изменен на: «…и точно спрятана где была эта мысль…»; «И остекливши, сказал…» – на: «И всполыхнув, сказал…»; к словам учителя: «Коли горит голова, лучше не кричать…» – добавлено: «А коли болит душа».
(1) Купоросный – (о человеке) сердитый, упрямый, брюзгливый, ворчливый Даль II, 221).
(2) Миликтриса Кирьбитьевна – Милитриса Кирбитьевна – персонаж русских народных сказок.
(3) …в инакову пору… – в другое время Даль II, 45).
(4) Угаивать – от «гай» – дубрава, роща, лес; иногда лес уже истреблен, остается одно название «гая» Даль I, 340). Здесь, видимо: корчевать.
(5) Причесть – возможно, от «причет» – присловье, поговорка.
(6) Зажига – тот, кто подстрекает к чему-либо, зачинщик Даль I, 578).
(7) Хлопнулся – упал, свалился.
(8) Челдония – от «челдон» – бродяга, беглый, каторжник; русский старожил Сибири; необразованный некультурный человек.
(9) …со стражбой в голосе… – с мукой, страданием в голосе.
(10) Хлуп – букв. – хвостец, кончик крестца у птицы Даль IV, 259). Возможно, слово в реплике Федота связано по смыслу с пословицей: «Глуп как хлуп» (См.: Пу-далова Л.А. У истоков раннего творчества Всеволода Иванова // Всеволод Иванов: Тр. межвузовской конференции, посвященной 70-летию со дня рождения писателя. Омск, 1970. С. 75).
(11) Согра – болотистая равнина, с кочкарником, ельником, вереском. Даль IV, 259). Заглавие «Согры» Вс. Иванов выбрал для газеты, которую намеревался издавать в Омске в 1918 г. (вышел только № 1 от 15 апреля 1918 г.).
(12) Персть – пыль, прах Даль III, 102).
(13) Орясина – жердь, шест Даль II, 693).
(14) Исподняя – нижняя рубаха, юбка Даль И, 55).
(15) Елань – обширная прогалина, голая, открытая равнина, поляна Даль I, 518).
(16) Талагай – лентяй, шатун; неуч, невежа; сторонний чужой мужик, отличный по одежде.
(17) Улыба – ласковый человек.
(18) Вы мне тюрюрю не говорите. – Тюрюрюкатъ – насвистывать, напевать, петь пташкой; тюрюлюкать – играть на дудочке, сопелке. Есть также в словаре Даля слово «тюрить», обозначающее «врать», «путать», «молоть». «„Тюрюря“, употребленная Вс. Ивановым, значит – лживое насвистывание, запутывающее человека, ловкая ложь» (Пудалова Л. А. У истоков раннего творчества Всеволода Иванова. С. 83).
(19) Почесъ – почти.
(20) Брякуша – врун, пустомеля (Даль I, 134).
(21) Ослонять – окружать, обносить чем-либо Даль II, 699).
(22) Оглух – вероятно, связано по значению с «оглохнуть» и «оглумиться» – ошеломить, лишить сознания, памяти.
Анделушкино счастье*
Впервые: газета «Заря» (Ежедневная общественно-политическая и литературная газета). Омск, 1919. 26 янв. (№ 18); 28 янв. (№ 19); 29 янв. (№ 20). Подпись: Вс. Иванов-Тараканов.
Вырезка из газеты «Заря» с текстом рассказа «Анделушкино счастье» (без подписи Иванова) имеется в самодельной книге А. Сорокина «А. С. Сорокин. Сибирский писатель. Сборник» (ГИАОО. Ф. 1073. Оп. 1. Д. 512. Л. 2–5). Сорокин включил в состав своей книги и другие рассказы Вс. Иванова («Гривенник», «Две гранки» и др.), авторство которых приписывал себе.
При подготовке книги «Рассказы» в опубликованный в «Заре» текст Вс. Иванов внес исправления: на с. 10–15 – простым карандашом, на с. 17–18 – фиолетовыми чернилами. Карандашом зачеркнуты следующие фрагменты текста: «А когда ветерок вздохнет… думы благовестные навевает»; «Мысли нелепые, хромые, увалами перескакивали с ровного на ухабистые»; «Говорят – о разном: о сенах, рыбалке, переселенцах. Переселенцев едко и со смаком бранят»; диалог писаря и Ворошилина («По случаю праздника ~ Сбирается народ»). Правка, внесенная чернилами, носит стилистический характер: в ряде мест изменено абзацное членение, исправлены формы слов, в нескольких фразах зачеркнуты отдельные слова.
(1) Лет ему девятнадцать, а походит он на парнишку – В описании Анделушки, вероятно, отразился облик слабоумного младшего брата Вс. Иванова Палладия: «Ему уже девятнадцать лет, но он похож на ребенка. И тонкорук, и тонконог, с вздувшимся животом» (Иванов Вс. Автобиография // Клейнборт Л. М. Очерки народной литературы. Л., 1924, С. 243).
(2) …древлей веры придерживались… – т. е. были староверами.
(3) Фелисада Андреевна – вероятно, прототипом героини стала тетка Вс. Иванова, сестра его матери, Анфиса Семеновна (в автобиографическом романе «Похождения факира» (1935) ее имя – Фелицата Семеновна), в доме которой в Павлодаре Иванов жил в 1909–1910 гг.
(4) Аракчин – у киргизов, казахов, персов – головной убор, шапочка типа тюбетейки, покрывающая самую верхушку бритой головы; здесь: вершина.
(5) Газырчах – возможно, от «каршига» (казах.) – ястреб.
(6) Жил-был премудрый человек, по имени Пафнутий. ~ И така в ней правда вмешшатся и…и… – Истоки старообрядческой легенды о старце Пафнутий не выявлены.
(7) Двоедан – платящий дань двум государям, подданный двух владельцев. В Сибири раскольники назывались и звали себя двоеданами, потому что до 1782 г. платили двойную подать Даль I, 419).
(8) На Петра и Павла… – Праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла, отмечается 12 июля.
(9) Чапан – верхняя крестьянская одежда из домотканого полотна Даль IV, 582).
(10) …псалтыри царя Алексея… – Алексей Михайлович (1629–1676) – русский царь из дома Романовых, обладал мягким, добродушным и отзывчивым характером, что определило его прозвище «Тишайший». При Алексее Михайловиче произошел раскол Русской православной церкви.
(11) За котору стары люди страдали. Жглись. – Речь идет о самосожжениях старообрядцев за веру.
(12) Октоих – богослужебная православная книга. Содержит тексты изменяемых молитвословий восьми гласов (особых напевов) на каждый день недели.
(13) Запрокудить – изгадить, напакостить Даль I, 622).
(14) «Аще ли же образа… ~ плоть Господь состави…» – Неточная цитата из поучений Преп. Иоанна Дамаскина: «Тело есть воистину соединенное с Божеством, еже от Святые Девы начало восприя, не яко вознесшееся Тело с Небесе нисходит, но яко самый хлеб и вино претворяются в Тело и Кровь Божию. Аще ли же образа, како бывает, ищеши, довольно ти есть услышати, яко Духом Святым: имже образом и от Богородицы Духом Святым Себе Самому и в Себе Самом плоть Господь состави: ниже более что вем, но токмо яко Божие Слово истинное, действительное и всемощное есть, образ же неиспытанный» (Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. Кн. 4, гл. 13).
Клуа-Лао*
Впервые: «Рогульки». Омск, 1919. С. 40–46.
В первой половине 1920-х годов Вс. Иванов публикует несколько своих ранних рассказов в московских периодических изданиях. Рассказ «Клуа-Лао» был напечатан в журнале «Огонек» (1924. № 47 (86). 16 нояб. С. 12–15), под заглавием: «Клуа-Лао, дух родины».
Во время своих странствий по Сибири и Дальнему Востоку Вс. Иванов не единожды встречался с китайцами. В автобиографической «Истории моих книг» упоминается, например, китаец-фокусник, владелец одного из ярмарочных балаганов, у которого Иванов работал в 1915 г. «Китайская тема» нашла отражение в рассказах первого петроградского сборника Вс. Иванова «Седьмой берег» (1922); в повести «Бронепоезд 14–69» (1922), романе «Иприт» (1925).
При публикации в журнале «Огонек» в рассказе были сделаны сокращения, которые, в первую очередь, коснулись его религиозной проблематики. Слово «Бог» заменяется на «дух», снимаются все упоминания о православном обряде похорон, эпизоды пения «Вечной памяти», чтения молитв «Отче наш» и «Верую» и т. п. Кроме идеологических сокращений, естественных для безбожных 1920-х годов, сняты фразы, видимо, по мнению редакторов, представлявшие плотогонщиков в неприглядном виде: «– Табаку вот нету, вымок ~ Не тронь»; «Во все горло песни пели. Обнимались, матерились» и др. Сокращению подверглось также упоминание о тоске по родине («А я думал, ты так маишься. По родине, значит…») и фрагмент текста о смерти китайца («Как и десять дней назад ~ гнилого в воде дерева»), возможно, из-за излишней натуралистичности описания. Внесен был ряд изменений стилистического характера: слово «быдто» заменено на «будто», «чо» на «что» и т. п. Из добавленных в текст фрагментов стоит упомянуть лирическое отступление в духе ивановской стилистической манеры начала 1920-х годов, подобные часто встречаются в «Партизанских повестях»: «Чужая, ты, далекая земля. И осетры невиданных размеров, плещущиеся бесстрашно в реках, как облака, и наполненные незнаемыми запахами камни!
Глубокая непройденная веслом, как эта река Тэя, наша жизнь!..»
(1) Распроязви (бран.) – от «язвить» – ранить, оскорбить, причинять боль.
(2) Немаканый (сиб.) – некрещеный.
(3) Беспалых – персонаж с такой фамилией появится в повести «Партизаны» (1921).
(4) Басней – красивее, лучше (Даль I, 52).
(5) «Верую…» – начальное слово «Символа веры», одной из главных христианских молитв, содержащей краткое изложение основ православного вероучения.
(6) «Со святыми-и…у-у-упокой…» – В описании похорон китайца можно увидеть отдельные элементы церковного отпевания усопшего, в частности, во время отпевания после пения заупокойных тропарей следует молитвословие заупокойного канона с пением после 6-й песни: «Со святыми упокой…».
Духмяные степи*
Впервые: «Рогульки». Омск, 1919. С. 47–55. Под заглавием: «Степь духмяная». В журнале «Огонек» (1925. № 33. 9 авг. С. 8–9) печатался под заглавием: «Родная земля».
В книге «Рогульки» заглавие «Степь духмяная» исправлено Вс. Ивановым фиолетовыми чернилами на «Духмяные степи». При перепечатке в «Огоньке» сокращены некоторые фразы, передающие размышления инженера: «Нет границы между умом и сумасшествием», – подумал инженер, набивая трубку; «Но то, предтеча, понял инженер, сильной, влекущей к жертвам мысли, – не уходило»; «…и с трудом выпуская буквы, сказал внесознательно:
– Угол падения равен…»; «– Шалишь, – сказал Янусов. А чем и кто – не добавил».
Образ мудреца, дуваны Огюса, встречается в более раннем по времени написания рассказе «Отверни лицо твое» (Заря. 1919. 7 янв.).
(1) Одна берта баромыс, онусон остановка делать можня (казах.) – одну версту проедем, там остановится можно.
(2) Мазарка – от «мазар», «мазарки» (казах.) – могила, кладбище. Здесь, вероятно: жилище.
(3) Дувана – от «диуана» (казах.) – дервиш, мудрец; странник, скиталец, бродяга; блаженный, юродивый; шаман.
(4) Взыскующий Града – ставшие устойчивым выражением слова из Послания ап. Павла: «Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание; ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего» (Евр 13, 13–14).
(5) Тальник (тало, тал) – кустарная ива, верба.
(6) Чаксы – от «жаксы» (казах.) – хорошо.
(7) Айран – у татарских народов разболтанная простокваша для питья.
(8) Айран копь – от «коп» (казах.) – много.
(9) Аман (казах.) – здравствуй.
(10) Щикур (казах.) – слава богу.
(11) Ичики (ичиги) – азиатская сафьяновая обувь, полусапожки на тонкой подошве; носятся на босу ногу.
(12) Ни-дей-сыз (казах.) – что вы сказали?
(13) Баланка – от «бала» (казах.) – ребенок, мальчишка.
(14) Джут – зимняя бескормица скота в районах отгонного животноводства, вызванная обледенением пастбищ.
(15) Чарайды – от «жарайды» (казах.) – ладно, хорошо.
(16) Пути мои смутны, как сон… – вспомнил он слова какого-то персидского поэта. – Источник цитаты не выявлен.
(17) Стени – тени, призраки. Л. Пудалова в своем исследовании указывала: «…слово „стень“ мне довелось слышать в речи Марии Николаевны Ухаловой, рожд. 1907 г., из г. Ялутовска (район Тюмени) <…>: „Это слово старинное, деревенское, челдонское, слово из поговорок западно-сибирских. У нас, в Западной Сибири, около Тюмени, говорят: „Как стень“, – значит, как скилет, шкилет или как тень. А еще это слово означает то, что кажется…“» (Пудалова Л. А. Сибирские рассказы Всеволода Иванова. С. 107).
(18) Купа – ватное стеганое пальто Даль И, 219).
(19) Нига – от «неге» (казах.) – почему.
(20) Самокладка – народная песня.
Полая Арапия*
Впервые: Правда. 1922. 5 апр. С. 4.
Практически без изменений газетный вариант текста включался в сборники Вс. Иванова: СБ (2-е изд. 1923), «Рассказы» (М., 1923), «Избранное» (Харьков, 1923). В том же году рассказ вышел отдельным изданием: «Полая Арапия». М., 1923. Готовя рассказ в СС-7, Вс. Иванов внес правку, в целом направленную на прояснение отдельных мест в тексте. Во 2-й главе сделана более ясной реплика матери: «– Иди, иди!.. Направлю»; конкретизированы слова Фаддея: «– Начинать придется, – сказал Фаддей. – Жрать. <…> Ерепениться тебе, кустябина. Лопай, а не то вылью. Смотри на меня». В 3-й главе изменение коснулось фраз: «– Слезой не поможем, – сказал Мирон. – Помер и помер»; «– Ешь… тебе оставила. Корка. Хлебушко»; в 5-й главе – «Далеки вы, земли Арапские!» Еще более страшным смыслом наполнились после исправления реплики Егорки: «– Бросай!.. мое… Мой кусок, – моя невеста…», – и мальчишек: «– Сожрет!.. Невесту-то» (6-я глава); а также финал рассказа: «…совал ей в руку молоток. „Сожрут“, – подумал Мирон. Он прижал голову…»
С этими изменениями рассказ перепечатывался в издании: Иванов Вс. Избранные сочинения 1920-1930-х гг. М.-Л., 1932.
Несмотря на многократные попытки автора переиздать «Полую Арапию» в последующие годы, ни одна из них успехом не увенчалась. В «Заключении об „Избранном“ Вс. Вяч. Иванова» от 19 октября 1946 г. разъяснялось, почему рассказ «Полая Арапия», как и рассказы ТТ, «нельзя рекомендовать к изданию»: «Вся картина предельно натуралистична, отвратительна…» (РГАЛИ. Ф. 613. Оп. 10. Ед. хр. 1380. Л. 178). Рассказ никогда не переиздавался при жизни писателя.
Вс. Иванов оставил воспоминания об истории создания очень важного для него рассказа. Этот фрагмент из «Истории моих книг» полностью не был опубликован и приводится нами по правленым страницам: «В 1921 г. по предложению М. И. Ульяновой, работавшей тогда в „Правде“, я ездил в Поволжье, чтобы писать о голоде. Очерки у меня не получились. Я написал рассказ „Полая Арапия“, о голоде. Рассказ этот, даже после напечатания его в „Правде“, издатели брали („печатали“ – здесь и далее курсивом в скобках обозначен зачеркнутый автором текст) неохотно. Приукрашение действительности, столь свойственное редакторам и издателям, начинало действовать. Отдавая должное художественным достоинствам рассказа, они каждый раз считали печатание его „несвоевременным“, словно мы будем казаться сильнее от того, если будем замалчивать („утверждать“) то, что после Гражданской войны у нас не было ни голода, ни разрухи („не было случаев людоедства“)» (ЛА).
Описанные в рассказе события относятся к 1921 г. В результате засухи и неурожая 1921 г., охвативших около 40 % посевных площадей, особенно район Поволжья, голодало более 33 % населения. Катастрофическое увеличение числа голодающих можно проследить по цифрам в центральных газетах того времени: по данным газеты «Известия», в октябре 1921 г. – 21 073 000 человек (из них 8 700 000 детей); в декабре 1921 г. – 23 227 000 человек. Весной 1922 г. количество голодающих достигло 30 миллионов человек. В июле 1921 г. организован Помгол – Центральная комиссия помощи голодающим при ВЦИК (председатель – М. И. Калинин), которая занималась изысканием государственных, общественных, собранных за границей средств для борьбы с голодом.
В периодике 1921–1922 гг. тема голода не замалчивалась, однако рассказ Вс. Иванова, хотя и напечатанный в «Правде», существенно отличался от характерных для того времени газетных статей и публикуемых художественных текстов. Основная направленность заметок, очерков, рассказов, стихов постоянной рубрики «Правды» «На голодном фронте» была связана с помощью голодающим (см. характерные заголовки: «На помощь голодным», «Первое судно на Поволжье», «Семена для голодающих», «Продовольствие из Праги», «Закупка хлеба на изъятие», «Деятельность международного комитета помощи голодающим при Коминтерне» и т. п. – в газете «Правда» за апрель 1921 г.).
Рассказ Вс. Иванова стал одним из первых в советской прозе раскрывших тему голода, чуть позднее были написаны пьеса «Голод» (1922) и рассказы («Хлеб наш насущный» и др.) А. С. Неверова; роман-дневник «Голод» (1923) и рассказы («6.000», «Дело № 11» и др.) С. Семенова; «Повесть о муках голода и любви» (1922) и рассказы Л. Гумилевского; «Третья столица» (1922) Б. Пильняка и др. В «Третьей столице» имеется прямая отсылка к ивановскому рассказу: «И последнее, о людоедстве в России. Это рассказал Всеволод Иванов – „Полой (почему – не белой?) Арапией“» (Пильняк Б. Третья столица. М, 1992. С. 128).
Критика 1920-х годов высоко оценила рассказ и противопоставляла «Полую Арапию» книге ТТ и прозе 1927–1928 гг. – «тупику фатализма», как произведение, наряду с «Бронепоездом 14–69» созданное в «первый революционный период» творчества писателя, «берущий начало в жизни трудовых масс» (Якубовский Г. Литературные блуждания. С. 122). В одной из первых статей о творчестве Вс. Иванова – «Новый Горький» В. Львова-Рогачевского – заглавие рассказа ассоциировалось с дореволюционной Россией, но не «окуровской», мещанской, а народной, эпической: «…этот стихийный поэт рассказывает нам о том, как преображается „Полая Арапия“ с ее стихийными снами, богами, легендами, с ее разбойно-удалыми и детски нежными песнями, с ее метелями и ветрами» (Современник. 1922. № 1. С. 151).
Восторженно писал о рассказе Вяч. Полонский: «Я не знаю <…> другого произведения, которое с такой потрясающей, почти осязательной силой показало бы голодного человека. „Голод“ Гамсуна по праву приобрел мировую известность. Но Гамсун показал мир глазами голодающего интеллигента <…>. Иванов, как и подобало крестьянскому писателю, дал облик голодающей массы, впавшей в первобытное, звериное состояние – на грани людоедства. Этот показ человека поистине страшен. Описания, сравнения, пейзаж даны в „Полой Арапии“ так, как если бы мир изображали те самые люди, которые мясом ближнего пытались утолить голод» (Полонский, 228).
Оценила рассказ и критика русского зарубежья. В статье «Литературные рисовальщики» Вл. Тукалевский отмечал: «Скоро, по крайней мере, словесную картину Вс. Иванова забыть нельзя. А ведь у него и конца-то нет, чтобы „зачеркнуть“ содержание. Так и не знаешь, разбили голову молотком и съели, или не разбили Миронову голову. А ведь у них-то, в Совдепии, не так уж страшно, если убивают и прочее, ко всяким ужасам привыкли. И может быть, в этой наивной стыдливости автора, остановившегося перед „убийством“ своего „героя“, и сказался подлинный художник» (Новая русская книга. Berlin, 1922. № 4. С. 123).
(1) Полая Арапия – заглавие рассказа принадлежит Вс. Иванову, образовано от слов: полый – растворенный, распахнутый настежь; открытый; и «Арапия» или «Белая Арапия» – легендарная неведомая страна из народных фантастических рассказов. Старинные русские книжники отличали от «черных арапов», обозначавших негров, белокожих представителей Аравии. Рассказы о «белых арапах» и стране, где они живут, имели хождение в народе. В ивановском описании Полой Арапии как страны изобилия соединились различные народные утопические легенды о «далеких землях» – Индийском и Опоньском царствах, Беловодье, Анапе, городе Игната и др. (см.: Чистов КВ. Русские народные утопические легенды XVII–XIX вв. М., 1967. С. 237–326).
(2) Жамка – от «жамкать» – сжимать, выжимать, мять; небольшой кусочек чего-либо сжатого, иногда воска (Даль I, 527).
(3) «Собирайтесь, православные, со усех концов!..» – Ироническая аллюзия призыва «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» (см.: Ханинова P.M. Поэтика малой прозы Вс. Иванова: психологический аспект. С. 85).
(4) Сарт – старинное название тюркского населения городов Средней Азии.
(5) Загорбок – [комментарий отсутствует в оригинальном издании]
(6) Каменка – печь; камни на печи в бане, на которые поддают пар Даль II, 81).
(7) Там, в Арапии, народ-то ~ черный и без попов. – Происхождение многих русских народных утопических легенд XVII в. было связано со старообрядцами, возможно, поэтому и в неведомой Арапии нет попов, хотя в целом в описании легендарной страны у Вс. Иванова отсутствует указание на ее праведность и сохранение там древлей, истинной веры.
Рассказы и повести 1926–1927*
В раздел включены рассказы и повести Вс. Иванова, созданные в период работы над книгой ТТ и в гуле критики, обрушившейся на нее. Вместе с ТТ они составляют единый цикл.
На это первым указал В. Полонский в обзорной статье «Очерки современной литературы. О творчестве Всеволода Иванова» (Н. мир. 1929. № 1), объединив в третьей части статьи рассказы из книг ТТ, ДП, а также некоторые рассказы, публиковавшиеся в периодике 1920-х гг.: «Крысы», «Жизнь Смокотинина», «На покой», «Счастье епископа Валентина», «Бог Матвей», «Блаженный Ананий», «Плодородие», «Ночь», «Командир» (в статье опечатка, надо читать: «Комендант». – Е. П.), «Полынья»: «…все эти рассказы о людях, попавших под трактор истории. Отсюда мрачная философия упадка и гибели» (Полонский, 232). Полонский противопоставил указанные рассказы циклу революционных произведений писателя, созданных в 1-й половине 1920-х годов. В четвертой части статьи критик добавил к отмеченному циклу повесть «Гибель Железной» и рассказ «Подвиг Алексея Чемоданова», опубликованные в периодической печати в самом начале 1928 г., характеризуя их героев как «ряженых», «загримированных персонажей» из 7У (Там же. С. 234). В заключительной части статьи, анализируя рассказы «Особняк» и «Бамбуковая хижина», Полонский оценивает их как произведения, показывающие, что «этап „Тайное тайных“ исчерпывает себя» (Там же. С. 235). «Лейтмотивом» цикла «Тайное тайных» критик назвал «тему о гибели человеческой и о том, что человеку не дано знать, – откуда и почему наложено на него бремя жизни…» (Там же. С. 231).
Общность проблематики и образной системы книг ТТ и ДП отмечали и другие критики: «О человеческой жизни, о сокровенных ее тайнах рассказывают две последние книги Вс. Иванова. <…> они, эти две рецензируемые книги, являются прежде всего книгами противоречий» (Смирнов Ник. Книжное обозрение // Н. мир. 1927. № 20. С. 27); «Сборник Вс. Иванова „Дыхание пустыни“ состоит из рассказов неравной ценности. В нем нет такого тематического единства, каким отличается „Тайное тайных“, скорее остается впечатление случайных вещей. Наиболее сильно написан рассказ „На покой“. Сжато и сурово Вс. Иванов развертывает в нем любимую им теперь мысль о непонятности человеческих страстей и инстинктов. Та же самая мысль более или менее отчетливо выражена во всей 2-й части сборника. Ее следовало бы выделить в книгу такого же типа, как „Тайное тайных“» (Локс К. О прошлом и современном // Комсомольская правда. 1927. 24 июня. С. 3). С поэзией С. Есенина и «есенинщиной» как вредным идеологическим явлением сближал рассказы ДП критик Юл. Берзин. Противопоставляя ироничные рассказы «о пустыне» и «эльбрусские рассказы» из 1-й и 3-й частей книги, которые «все же носят печать „небольшой, но ухватистой силы“ (небольшой, конечно, не в смысле мастерского оформления), здоровой жизнерадостности» рассказам «о деревне» из 2-й части, критик отмечал: «…в рассказах о деревне чувствуется уже некоторая усталость, некоторый надрыв, – то, что носит ходовое сейчас название „упадочности“ и ставит эти рассказы близко к другой книге автора „Тайное тайных“» (Берзин Юл. Среди книг и журналов // Красная газета. 1927. 28 апр. Утр. вып. С. 5).
Как «группа „Тайного“» – «серия рассказов и повестей, сгруппированных в сборник „Тайное тайных“ и вокруг него», – представлены те же рассказы и повести, с добавлением пьесы «Блокада» (1928), в «Литературной энциклопедии» 1930 г. Основным социальным фоном этих произведений Иванова названы «будни мещанской провинциальной России, с их ужасающей грязью, тоской, беспросветностью… Обстановка эта выглядит у Иванова почти апокалиптично, для писателя это нерушимая данность, в которой нельзя ничего ни понять, ни объяснить, непобедимый рок, перед которым бессильна сама революция» (Литературная энциклопедия. М., 1930. Т. 4. С. 403). Жанром, типичным для этого периода творчества писателя, яляется «короткая новелла, обычно воспроизводящая одну и ту же примитивную сюжетную схему торжества асоциального начала», которую отличает «решающая тенденция стиля» (Там же).
Сам Вс. Иванов рассматривал рассказы из двух книг, ТТ и ДП, а также произведения этого времени, опубликованные в периодической печати и не вошедшие в две указанные книги, как нечто единое. Подтверждением этому служит 3-й том СС-7, куда писатель включил следующие рассказы. Из ТТ: «Жизнь Смокотинина», «Полынья», «Поле», «Плодородие», «Ночь», «Пустыня Тууб-Коя»; из 2-го раздела книги ДП: «Крысы», «Зверье», «Старик», «Петел», «На покой», а также отдельные рассказы из периодики: «Счастье епископа Валентина», «Бог Матвей», «Блаженный Ананий», «Комендант» и некоторые другие.
В раздел Дополнения настоящего издания включены рассказы из книги ДП: «Крысы», «Зверье», «На покой», – а также опубликованные в периодике 19261927 гг. рассказы и повести: «Счастье епископа Валентина», «Бог Матвей», «Комендант», «Блаженный Ананий», «Гибель Железной». Все они вошли в подготовленные самим писателем 3-й и 5-й тома СС-7 и печатаются по этому изданию. Рассказы «Особняк» и «Подвиг Алексея Чемоданова», опубликованные единственный раз в журналах 1928 г. (см. примечания) и не вошедшие в СС-7, в настоящем издании печатаются по первым публикациям.
Крысы*
Впервые: Известия. 1927. 1 янв. С. 5, с подзаголовком: «Рассказ (Из недавнего прошлого)».
При включении в состав ДП Вс. Иванов изменил финал рассказа. В первой публикации было: «Убежденно помаргивая лоснящимся глазом, он сказал: „Ни кляпа: мы и на кошках проживем“. Демин со страхом взглянул на его бессмысленно-счастливое лицо и (так же бессмысленно-счастливо думая: „конец!“) громко и внятно ответил: „Есть!“». В ДП стало: «Убежденно помаргивая лоснящимся глазом, он сказал: „Факт: ни на небе, ни на земле – мы и на кочках проживем“. Уверенность, которой недавно владел Демин, – видимо, – до безумнейшего предела наполняла матроса. Демин понял: не найти теперь ему ни работы ни хлеба. А матрос все найдет, даже ангорскую кошку… Демин со страхом взглянул на его бессмысленно-счастливое лицо и (так же бессмысленно-счастливо думая: „Конец!“) громко и поспешно ответил: „Есть!“». Фраза матроса, которая в газетном варианте была связана с описанной в рассказе ситуацией, в результате авторской правки приобрела обобщенный, почти философский характер.
В Избранном редакторская правка коснулась одной фразы. Вместо: «Думая освободиться от почтенья, Демин часто ходил со старухой – и многое в ней не смог унизить» – напечатано: «Думая освободиться от почтенья к этой старухе, Демин часто ходил с ней».
В критике 1920-х годов рассказ как самостоятельное произведение анализировался В. Полонским в статье «Очерки современной литературы. О творчестве Всеволода Иванова». Герой рассказа, Демин, по мнению критика, отражает «духовную трансформацию писателя», переход от героев-«строителей» к героям-«жертвам». Комментируя финал рассказа, Полонский писал: «Ваську Запуса, человека, который что-то „делал“, сменил смутный, бестолковый Демин, с которым что-то „делается“. В рассказе „Крысы“ произошла встреча этих двух несходных людей» (Полонский, 232).
(1) …напугало не его предложение, а слово «эра». – Имеется в виду начавшееся после революции и постепенно ставшее одной из черт языковой картины Советской России частое использование в речи слов с эмоционально-экспрессивным значением, в частности, со значением величественности, колоссальности, для характеристики революционной эпохи. Словосочетания: «в мировом масштабе», «великая эпоха», «эра светлых годов» и др. – были призваны подчеркнуть глобальность задач революции (См.: Селищев A. M. Указ. соч. 1928. С. 121–133).
(2) …склады «Ара». – АРА («American Relies Administration») – «Американская администрация помощи» – американская благотворительная организация. В 19211922 гг. занималась оказанием помощи голодающим в России. Осенью 1921 г. Советская Россия заключила соглашение с АРА, по которому ей разрешался «беспошлинный ввоз продуктов питания, в виде почтовых посылок для всех нуждающихся» (Известия. 1921. 30 окт. С. 1). В 1922 г. в распоряжение АРА, возглавляемой будущим президентом США Г. Гувером, было передано правительством от частных лиц 45 миллионов долларов. Директором АРА в Советской России был полковнике Хаскель, его секретарем – бывший американский консул в Петрограде, разведчик Д. Лерс, а его помощником – разведчик М. Филипп. Наблюдением за деятельностью АРА и других организаций помощи голодающим, а также борьбой со шпионами со стороны стран Центральной и Западной Европы и Америки занималось 4-е отделение во главе с B.C. Кияновским, входившее в Контрразведывательный отдел (КРО) Секретно-оперативного управления ГПУ (см.: Совершенно секретно. М., 2001. Т. 1. Ч. 2. С. 992–993).
В центральных советских газетах в 1921 г. в рубрике «Борьба с голодом» регулярно печатались отчеты о деятельности АРА, сопровождаемые высокими оценками работы организации: «Знаменитый проф. США тов. Вертон Келлок, только что вернувшийся из поездки по Самарской и Казанской губернии, вынес впечатление, что русским властям, и в частности АРА, благодаря срочно принятым энергичным мерам, удается ослабить роковые последствия голода и поставить дело помощи и питания городского населения, и в особенности детей, на должную высоту» (Известия. 1921. 6 окт. С. 2). Выводы Вс. Иванова, судя по содержанию рассказа «Крысы», были не столь оптимистичны. Аналогичное ивановскому ироническое изображение сотрудников АРА можно встретить в рассказе Л. Гумилевского «Фанатики» (1923), герой которого, мистер Хауер, заведовавший 136 столовой АРА, своей «холодной брезгливостью» и «усовершенствованиями галантерейной техники» (Гумилевский Л. Собр. соч.: В 6 т. М., 1928. Т. 1. С. 303) близок «важному иностранцу» из рассказа Иванова.
(3) …комиссар из губпробкома… – Губпродком – губернский продовольственный комитет. Продкомы занимались учетом, заготовкой и распределением продовольствия.
(4) Мы ведь, как плетень, три жены одним пояском связаны!.. – Перифраза некоторых русских загадок: «Тысяча братьев одним пояском перевязаны», «Сто братьев одной опояской перепоясаны», «Два брата одним пояском подпоясаны». Как и в ТТ, Иванов использует для характеристики персонажей фольклорную образность. См. далее в рассказе: «…ему и этой тоненькой женщине, суждено, словно полу и потолку, глядеться, но не сблизиться» (ср. народные загадки: «Всегда видятся, а вместе не сходятся», «Кум с кумой видятся, а вместе не сходятся»); «Чего ты, как осина, без ветру шумишь?» (ср.: «Одно проклятое дерево без ветру шумит»).
(5) …к притонам, куда направлялись сутенеры и проститутки. Затем гнойные и сиплые женщины… – Рост проституции в Советской России связывался тогда с нэпом: «Экономическая необеспеченность и нужда трудящихся женщин, их недостаточная сопротивляемость создают ту рыхлую почву, из которой насос новых экономических отношений легко может извлечь более или менее значительные кадры профессиональной проституции» (Гельман И. Проституция и новая экономическая политика // Известия. 1921. 10 нояб. С. 1). Картины нэпманского разгула и продолжающегося в стране голода широко представлены в литературе 1922–1923 гг. См., напр., опубликованное в «Правде» в феврале 1922 г. стихотворение В. Александровского «В Москве», в первой части которого показаны голодные беженцы на платформах вокзала («Каждый стон нестерпимая пытка, / Каждый голос – мольба о конце…»), а во второй – Тверская улица: «А Тверская? Здесь бесится ужас / В пьяном хрипе ночных голосов, / Это – сифилис вышел наружу / Из подвалов, кафе, кабаков» (Правда. 1922. 5 февр. С. 2). В конце 1926 г., когда писался рассказ «Крысы», проблема венерических заболеваний, распространившихся повсеместно, несмотря на проводившуюся на государственном уровне кампанию борьбы за «новый быт», еще не была решена. Так, в январе 1927 г. Президиумом ВЦИК был принят законопроект о принудительном «освидетельствовании лиц, относительно которых есть основания предполагать, что они страдают какой-либо венерической болезнью в заразном ее периоде» (Известия. 1927. 26 янв. С. 2).
Зверье*
Впервые: Красная газета. 1926. 31 окт. Веч. вып. С. 3. Под заглавием: «Верблюды».
Напечатанный в «Красной газете» текст существенно отличается от других публикаций рассказа 1926–1927 гг. (Красная нива. 1926. № 45. С. 2–5, под заглавием: «Станция Ояш»; Крестьянский журнал. 1927. № 6. С. 6–10, под заглавием: «Зверье»). Можно предположить, что он и являлся первым вариантом рассказа. Дальнейшая работа Вс. Иванова над текстом шла в трех разных направлениях. Добавлены фрагменты, устанавливающие связь с реальной историей гражданской войны в Сибири: упоминание об Ижевском и Боткинском полках, состоявших из заводских рабочих, сражавшихся в Белой армии; сцены грабежа красными имущества белых и бегства красноармейцев; слова солдата: «В своих придется палить?»; сцена смерти раненого кочегара, а также упоминание о мировой революции. В образе главного героя усилена рефлексия, введен новый фрагмент: «За войну он привык мыслить, как приказывают, и, хотя часто ошибался, но на душе от таких мыслей легче. Да и здесь, у отца правды все равно не узнать!»; «Если б верблюд на узде был один (ему и в мысли не мелькнуло, что можно развязать или перерезать повода), он вскарабкался б на него и ускакал бы…» Наибольшее количество авторских уточнений связано с развитием темы «родительского дома»: вводится описание родных мест, характера отца, встречи с родственниками, разговор с помощником о том, какие у Мургенёва «хорошие родители», предложение помощника предупредить их об опасности и последовавшее за этим возвращение его домой; разговор с отцом об отъезде и др. Наконец, Иванов дописывает финал рассказа. В варианте «Красной газеты» текст оканчивался словами: «Не опознал и Мургенёв».
В двух журнальных публикациях печатался текст, близкий к тому, который будет включен Ивановым в ДП и СС-7. Укажем лишь несколько расхождений журнальных публикаций с этим, судя по всему, окончательным вариантом: в публикации журнала «Красная нива» вместо «родительский дом» было «его дом»; иной художественный образ появляется при описании размышлений Мургенёва о смерти («смерть представлялась ему таким растущим куском грохота»), в последней реплике Мургенёва вместо «Эх, ты, зверь» – было напечатано: «Эх, ты, зверье». В варианте «Крестьянского журнала», видимо, редактором были сокращены некоторые фрагменты текста: «волостного правления, чем-то похожего на кувшин», «красноармейцы разбирали вагон брошенного белыми полкового имущества»; «„Замерзну, сука!“ – подумал он и вдруг почувствовал ненужный стыд»; помощник не был наделен фамилией, а разъезд – точным номером. Эпиграф: «Пространство между нами увеличивается, но преданность моя не уменьшается», – который предварял рассказ в ДП, в СС-1 не сохранен..
Редакторская правка в изданиях 1938, 1959 и 1963 гг. носила идеологический характер: сокращен разговор о том, что красные подсылают грабителей, выдавая их за белых, чтобы «опозорить», сняты упоминания об Ижевском и Боткинском полках, всемирной революции, размышления Мургенёва о бегстве и о том, что он «виновен в какой-то подлости».
Рассказ «Зверье» – единственный в ДП, где акцент в теме возвращения сделан автором не на мотиве отчуждения человека от родины, а на гибели самого понятия «родительский дом». Говоря о ближайшем литературном контексте рассказа в первую очередь следует назвать лирику С. Есенина и других новокрестьянских поэтов. Скорбные, апокалиптические мотивы есенинской лирики 1920–1922 гг. («Сорокоуст», 1920; «Я последний поэт деревни», 1920; «Мир таинственный, мир мой древний…», 1921) – прочитываются в рассказе Вс. Иванова. Так описание родного луга, мимо которого проезжает Мургенёв и видит окровавленный платок, полузанесенный снегом, воскрешает в памяти известные строки из «Сорокоуста»: «Скоро заморозь известью выбелит / Тот поселок и эти луга. / Никуда вам не скрыться от гибели, / Никуда не уйти от врага» (Есенин С. А. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 81). Характерно, что того противопоставления «родного пепелища» и новой созидательной жизни, которое наметится в стихотворениях С. Есенина 1924–1925 гг. (см. «Русь Советская»: «И там, где был когда-то отчий дом, / Теперь лежит зола да слой дорожной пыли. / А жизнь кипит. / Вокруг меня снуют / И старые и молодые лица…» – Там же. Т. 2. С. 94), в рассказе Вс. Иванова «Зверье» нет: его общий тон абсолютно трагичен и безысходен.
Критика 1920-х годов рассказ «Зверье» упоминала при анализе ДП в целом. Наиболее развернутая характеристика дана В. Полонским, в статье которого герой рассказа, Мургенёв, представлен как типический для «переходного периода творчества» Вс. Иванова: «Если бы в „Бронепоезде“ или „Цветных ветрах“ появился задумчивый персонаж, искатель „правды“, которому многое в происходящей борьбе „непонятно“ и „страшно“, – этот персонаж разрушил бы стройность революционной повести. <…> Не размышляющего Ваську Запуса сменил <…> размышляющий правдоискатель Мургенёв. Васька Запус, не умея объяснить, что и как, твердо, однако, знал, куда идет. Он, кроме того, ни в чем не сомневался. Мургенёв, напротив, во всем сомневается. Мургенёв потерял меру вещей» (Полонский, 223).
(1) Пространство между нами увеличивается, но преданность моя не уменьшается. (Переписка). – Эпиграф присутствует только в двух изданиях рассказа: в журнале «Красная нива» и ДП. Подобного рода эпиграф не характерен для Вс. Иванова 1920-х годов, в произведениях которого эпиграфы (или близкие к этому жанру небольшие фразы в начале текста в ТТ) обычно взяты из фольклора (либо написаны автором в традиции фольклора) или из литературы определенной эпохи, соответствующей содержанию и проблематике текста («Возвращение Будды», 1923).
(2) …станции Ояш… – Железнодорожная станция Западно-Сибирской ж.-д. (Алтайское отделение). О сибирской зиме 1919 г. Вс. Иванов вспоминал в «Истории моих книг»: «На станции Ояш мы наконец встретили партизан. Ночью я сидел среди мужиков в жарко натопленной избе, за столом, возле самовара. Передо мной лежали листы бумаги, которые мы принесли из типографии „Вперед“ (газета, издававшаяся в колчаковской армии. Вс. Иванов некоторое время работал там наборщиком и опубликовал несколько рассказов. – Е. П.). Мужики устали. День был трудный, и где-то на правом фланге крепко сопротивлялись колчаковцы. Время от времени скрипела дверь, мохнатая и узкая, вбегал мужик и, жалуясь на то, что никто никому не помогает, просил подкрепления у командира отряда. Командир вздыхал, ворчал, поворачивался ко мне и начинал, запинаясь на каждом слове и прикрывая рот рукой, диктовать приказ. За ситцевым пологом спали ребятишки; жена, стряхивая с рук муку, готовила блины, и от березовых дров, сваленных возле печки, пахло сочно и весело» (Наш современник. 1957. № 3. С. 141).
(3) …в день Октябрьского праздника. – Видимо, упоминание годовщины революции дало основание редактору «Красной нивы» поместить этот отнюдь не революционный рассказ в номере, целиком посвященном 7 ноября. Рассказ Вс. Иванова звучал ярким дисссонансом всему содержанию номера, который открывался стихотворением И. Садофьева «Кованое время», содержавшим такие строки: «Пропахшим горечью годам / Смешно глядеть в затылок, / Когда по ленинским следам / Идет стальная сила» (Красная нива. 1926. № 45. С. 1).
(4) …шаровары, например, он всегда носил плисовые. – Плис – бумажный бархат.
(5) …грабят-то не белые ~ эти что, как кошки, дуют… – Эпизод целиком снят в изданиях 1959 и 1963 гг.
(6) …Ижевский и Боткинский полки колчаковской армии состояли из рабочих, согласившихся покинуть Урал вместе с белыми… – Реальный факт из истории гражданской войны в Сибири – антибольшевистское восстание рабочих Ижевского завода (состоял из двух отделений – оружейного и сталелитейного) 7 (8) августа 1918 г. и Камско-Воткинского судостроительного завода – 17 августа. Поводом к восстанию послужила объявленная новой властью мобилизация для участия в военных действиях в Казани, занятой частями Народной Армии – одного из первых белых объединений на востоке России. Вскоре восстала вся южная часть Вятской губернии. Руководители восстания собрали под свои знамена до 25 тысяч человек, сформировали из них части (Ижевская и Боткинская Народные Армии) и сражались в окружении 100 дней. В конце ноября 1918 г. ижевцы и воткинцы соединились с Народной Армией. Упомянутые в тексте Ижевский стрелковый полк и Воткинский стрелковый полк сформированы в 1920 г. из частей Ижевской и Боткинской дивизий. В начале 1921 г. насчитывали 640 и 768 человек.
В Избранном текст этого эпизода существенно отредактирован: «За последние два месяца не было случая перехода белых в наступление, и Мургенёв почти не верил этой возможности, когда ему подумалось, что полкам зашли в тыл и они теперь кинулись на явную смерть».
(7) …он, как и все крестьяне, уважал спокойную смерть… – Фраза опущена в изданиях 1959 и 1963 гг. Русский философ И. А. Ильин отмечал, что для русского человека характерно «удивительное религиозно-эпическое и спокойное восприятие смерти – и на одре болезни, и в сражении, которое было отмечено не раз в русской литературе, в особенности у Толстого и Тургенева» (Ильин И.А. О грядущей России. М., 1993. С. 330).
(8) …подойдя к киоту, он одну за другой снял иконы… – Киот – створчатая рама или шкафчик со стеклянной дверцей для икон.
(9) …катался на полу тендера. – Тендер – вагон специальной конструкции, сцепленный с паровозом и предназначенный для хранения запасов воды, топлива и размещения вспомогательных устройств.
(10) …значит всемирная революция не произойдет… – До 1925 г. доктрина мировой пролетарской революции, в основе которой лежала концепция К. Маркса о непримиримой классовой борьбе эксплуатируемых и эксплуататоров, являлась важной составляющей официальной идеологии Советской России. В 1918 г. Н. И. Бухарин писал: «Чем лучше мы будем организованы, чем сильнее будут вооруженные отряды рабочих и крестьян, чем крепче будет пролетарская революция в России, тем быстрее будет идти вперед и дело международной революции.
Эта революция наступит неизбежно, как ни задерживают ее ход немецкие, австрийские, французские и английские меньшевики. <…> Рано или поздно у нас будет Международная республика советов» (Бухарин И. Программа коммунистов (большевиков). М., 1918. С. 61). В 1919 г. в Москве был создан Коммунистический Интернационал, ставший на долгие годы «штабом мировой революции». В «Манифесте I Конгресса Коммунистического Интернационала к пролетариям всего мира», подготовленном Л. Д. Троцким, указывалось: «Наша задача состоит в том, чтобы <…> объединить усилия всех истинно революционных партий мирового пролетариата и тем ускорить победу коммунистической революции во всем мире» (цит. по: Коминтерн и идея мировой революции. Документы. М., 1998. С. 105). Здесь: отклик на партийную борьбу и осуждение троцкистского лозунга «перманентной революции».
(11) Азям – долгополый кафтан, овчинный тулуп (Даль I, 7).
(12) …приказ «верховного главнокомандующего». – А. В. Колчака (см. примеч. 1 к рассказу «Поле»).
На покой*
Впервые: Н. мир. 1926. № 12. С. 26–37.
О работе над рассказом Вс. Иванов писал К. Федину в октябре 1926 г.: «Сегодня кончил рассказ – „На покой“, прочел и ахнул – рассказики-то у меня мра-ачные. И не знаю, как и помочь. А да черт с ними, пускай умирают да режут друг друга. Все умрем, все перерешимся – на то и капитализма» (СС-3. М., 1978. Т. 8. С. 596).
При включении в ДП и СС-7 текст журнального варианта рассказа в очень незначительной степени подвергся авторской правке, в основном носившей стилистический характер и направленной на усиление эмоциональной напряженности. Кроме этого, в описание деревни Ивановым добавлена цветовая характеристика: «На песчаных холмах синели избы деревни с веселым названием Тоша». Вместо слова «стишок», характеризующего четверостишие в тюремной газете, в окончательном варианте стало «стихи».
Возвращение героя домой после Гражданской войны – одна из центральных тем в литературе 1920-х годов. Классический для этого времени вариант сюжета представлен в романе Ф. Гладкова «Цемент» (1925), герой которого, Глеб Чумалов, возвращается с фронта в родное «гнездо», видит заброшенный, пустынный завод, с помощью партийцев и старых специалистов, перешедших на сторону победившего народа, «в вихре железного скрежета» воскрешает производство, одерживая таким образом «большую победу на трудовом фронте». Писатели-попутчики акцентировали трагическое отчуждение героя от родных мест: «Язык сограждан стал мне как чужой, / В своей стране я словно иностранец» (Есенин С. Русь Советская // Есенин С. А. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 95); «Что же это такое, что он, Егор Куранков, приехал к себе домой, а получается, словно в гости, и девки давеча приветили его, словно он парень из чужой деревни» (Алексеев Г. Горькое яблоко // Алексеев Г. Иные глаза. М., 1926. С. 196); «Митя не узнавал места, и место не узнавало Митю» (Леонов Л. Вор // Кр. Н. 1927. № 5. С. 69); «Ему не то, что казалось, что его не допустят до околицы, но не было даже уверенности, что эта околица есть» (Иванов Вс. На покой). Л. Леонов в романе прямо называет евангельскую притчу, лежащую в основе данного сюжета: «Дяденька Леон передать велел… блудному сыну» (Кр. Н. 1927. № 5. С. 78). Характерно, что ни в одном из названных произведений не описана радостная встреча вернувшегося сына; он остается чужим: «Не по притче принимала мать» (Там же. С. 79). Отсюда и различное поведение сына: он или вступает в борьбу с новой властью («Каин-Кабак» Л. Сейфулиной), или покидает родину насегда («Вор» Л. Леонова), или, обуреваемый тревогой, страхом, отчаянием, совершает преступление («Голубые города» А. Толстого, «Горькое яблоко» Г. Алексеева), или с истинно христианским смирением принимает неизбежные перемены на родной земле («Возвращение на Родину», «Русь Советская» С. Есенина). В рассказе Вс. Иванова присутствуют общие для литературы этих лет мотивы, но акценты писатель расставляет собственные. В отличие практически от всех указанных авторов, Вс. Иванов описывает деревню, которая не несет никаких черт новой жизни. Если, например, в романе Л. Леонова Митя видит «враждебных людей и дома с взъерошенными кровлями, точно раздолбанными вороньем, нищету, стихию» (Леонов Л. Вор. С. 79) и успокоение в его душу вносит только природа, то в ивановской послереволюционной деревне с названием Тоша все мирно и гармонично: «Ласковые холмы неустанно кружили вокруг деревни. Прыгали по ним с веселым пчелиным звоном зеленые хлеба. Церкви блистали среди рощ, и казалось, Волга шла под колокольный звон». Авторское описание снимает часто встречавшуюся в прозе 1920-х годов мотивировку тоски и преступления героя. (Ср., например, отчаяние Василия Буженинова от «убожества» и «дрянности» окружающей его не изменившейся с революцией жизни в рассказе А. Толстого «Голубые города»). Все внимание Иванова в рассказе, как и в 7Y, уделено внутреннему состоянию героя Гражданской войны Егора Тумакова, объяснение таинственной тревоги которого не сводится ни к ощущению потери своего места на производстве и, следовательно, в современной городской жизни; ни к отчуждению от родной деревенской жизни; ни к сознанию вины перед Анной, ни к чувству разобщенности с детьми, – хотя, безусловно, все эти причины определяют его поведение. Ключевое слово «покой», давшее название произведению, символически осмысляется героем и автором. В начале рассказа упомянуто, что Ермолай Григорьевич крестился в Христа, отрекся от него и крестился «в комммунизму», но спокойствия в его душе «не рожалось еще», а в конце несколько раз говорится о «чувстве благодарности и успокоения», которое возникает у героя при мысли о неизбежно и справедливо пришедшем наказании за какой-то главный грех, совершенный им в жизни (Ср. покой, обретенный Алибаевым в финале повести Л. Сейфулиной «Каин-Кабак», – покой на пороге принадлежащей ему потребительской лавки).
Единственная высокая оценка рассказа принадлежит А. М. Горькому (письмо от 13 декабря 1926 г.): «Сейчас прочитал в „Нов(ом) мире“ рассказ „На покой“. Разрешите поздравить: отлично стали Вы писать, сударь мой! Это не значит, что раньше Вы писали плохо, однако, несомненно, что писали Вы хуже. Я не помню, чтоб кто-нибудь из литераторов моего поколения сделал такой шаг к настоящему мастерству, как это удалось сделать Вам от „Голубых песков“ к Вашим последним рассказам» (С. 334). Остальные критические отзывы были крайне недоброжелательны. Прямым и весьма ироничным откликом на хвалебный отзыв А. М. Горького (его письмо, с разрешения Вс. Иванова, было опубликовано в статье М. Ольшевца «Писатель в одиночестве. Почему?» 1 января 1927 г. в газете «Известия») стала заметка В. Друзина: «Максим Горький, из далекого итальянского Сорренто внимательно следящий за ростом советской литературы, – особо отметил и похвалил рассказ Вс. Иванова „На покой“» (Друзин В. Среди книг и журналов // Красная газета. 1927. 15 янв. С. 6). О герое рассказа критик писал: «Став коммунистом и рабочим, он не преодолел в себе крестьянина, живущего инстинктами, полустихийно. И нахлынувшая усталость старости заставляет его ослабить контроль рассудка, уехать в деревню и, отдавшись произволу инстинктов сделать ряд поступков, неизбежно приводящих к преступлению» (Там же).
Темным роковым началом, вмешавшимся в жизнь человека, объяснил поведение Тумакова В. Полонский: героя «томит усталость, странная и страшная; отдыхом ее не прогонишь… Сердце его постоянно „ноет“, стоит ему „уверенно“ стать в очередь позади какого-то „чахоточного“, этого последнего, подобно Тумакову, тоже охватит „тоска“ – по причине, которая остается неоткрытой. Затосковавший человек „мучаясь“, не может „понять – что и почему это с ним происходит“…» (Полонский, 229).
(1) …фабрика убыточна и выделывает не то, что необходимо республике, и что ее нужно закрыть… – Описанные в первой части рассказа события отражают реальное положение в начале 1926 г. – первого года социалистической индустриализации страны, которое характеризовалось обострением недовольства среди рабочих, вызванного сокращениями на предприятиях и их закрытием. «На настроение рабочих в январе месяце заметное влияние оказали наметившиеся общехозяйственные затруднения, – сообщалось в Обзоре политического состояния СССР за январь 1926 г. – Перебои в производстве вследствие недостатка сырья и топлива, частичное сокращение рабочих (на отдельных предприятиях) и намечающееся сокращение производства, увеличившееся число случаев задержки зарплаты, рост рыночных цен на продукты – все эти явления вызвали беспокойство среди рабочих» (Совершенно секретно. Т. 4. Ч. 1. С. 24). Из Отчета за февраль: «Наиболее сильное беспокойство в рабочей среде вызывают сокращения как в металлической и текстильной, так и в прочих отраслях промышленности. За отчетный период намечены значительные сокращения по металлической промышленности (Ижевские заводы – до 1 ООО человек, „Красный выборжец“ – 300 рабочих, Балтзавод – 200 рабочих), что создает крайне нервное настроение на этих предприятиях. В текстильной промышленности сокращения на отдельных предприятиях шерстяной промышленности достигают 40 % всех занятых рабочих (ф-ки им. Профинтерна, Камвольный трест)» (Там же. С. 90).
(2) «Что поделаешь, кризис… у всех…» ~ И чем больше он ходил от завода к заводу, от фабрики к фабрике, от окошечка биржи к другому… – Биржи труда были учреждены декретом Совнаркома от 31 января 1918 г. с целью учета и планомерного распределения рабочих рук во всех отраслях народного хозяйства, упорядочения спроса и предложения труда, трудоустройства безработных и выдачи им пособий. В середине 1920-х годов, о которых идет речь в рассказе, безработица приобрела характер национального бедствия. Живший в это время в Москве Вс. Иванов мог наблюдать положение безработных в городе: «На центральной бирже труда за последнее время (отчет за май 1925 г. – Е. П.) числилось зарегистрированных безработных 126.000 чел. <…> На Сокольнической бирже труда (секция строителей) безработных числится 12.000 чел., из которых 90 % крестьяне. Ежедневно прибывает на биржу по 500–600 чел., а посылается на работу 100–150. <…> Тяжелое материальное положение безработных усугубляется отсутствием жилых помещений, что вызывает массовое скопление безработных под открытым небом в Сокольнической роще и на Каланчевской площади» (Совершенно секретно. М., 2002. Т. 3. Ч. 2. С. 322–323). Одной из причин недовольства было отсутствие работы у демобилизованных из Красной Армии участников Гражданской войны. См., например, текст прокламации, напечатанной во Владивостоке к предполагаемой 1 мая 1925 г. демонстрации безработных: «Когда вы были в армии, то вам везде и всюду говорили, <…> что вам везде и всюду будут открыты ворота. Убедитесь теперь сами в правоте многообещанного – получают места в первую очередь не демобилизованные, а вновь испеченные члены РКП, которые много говорят и мало делают…» (Там же. С. 329).
(3) А я вот дважды крестился. Сперва в Христа, а потом в коммунизму. – Мотив отречения от веры, утраты веры как едва ли не главной причины тоски русского человека эпохи революции звучит во многих произведениях 1920-х годов. Деду, учившему «Отче наш» и «Символ веры» и стремившемуся обучить тому же внука, адресует в 1924 г. письмо С. Есенин: «Но внук учебы этой / Не постиг / И, к горечи твоей, / Ушел в страну глухую» (Есенин С. А. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 139). «Кабы мы с тобой от Христа не отреклись, я бы тебя ради Христа просил», – обращается к следователю бывший красноармеец, а ныне бандит Григорий Алибаев (Сейфуллина Л. Каин-Кабак // Сейфуллина Л. Собр. соч.: В 6 т. М., 1928. Т. 5. С. 84).
(4) …накануне сражения с каппелевцами… – Каппель Владимир Оскарович (1883–1920) – один из самых известных генералов Белой Армии. Подполковник (1917), полковник (июль 1918), генерал-лейтенант (октябрь 1918), генерал (1919). Окончил 2-й кадетский корпус Николаевского кавалерийского училища, Николаевскую академию Генштаба. Участник Первой мировой войны. В 1918 г. создал антисоветский отряд добровольцев в Самаре, выступивший против власти большевиков в период мятежа Чехословацкого корпуса, летом 1918 г. вошел в состав Народной армии КОМУЧа, захватил Самару, Симбирск, Казань. В 1918–1919 гг. В. О. Каппель командующий Самарской группой войск; Уфимской группой войск, 3-й армией, Московской группой войск, 1-й и 3-й Сибирскими армиями Восточного фронта. В декабре 1919 г. назначен главнокомандующим Восточным фронтом. Славился своей стойкостью, волей, воинской доблестью.
В рассказе «На покой» воспоминания героя о сражении с каппелевцами и встрече поезда Троцкого выдержаны Ивановым в стиле ставших классическими для советской литературы картин победоносной Гражданской войны. Описание боя с каппелевцами, накануне которого 111 человек, вдохновленные смелостью Тумакова, вступили в партию, перекликается с аналогичным эпизодом в романе Д. Фурманова «Чапаев» (1923) и внутренне полемично по отношению к нему. Ср. у Фурманова: «Эта встреча была ужасна… Батальоны подпустили вплотную, и разом, по команде, рявкнули десятки готовых пулеметов… Заработали, закосили… Положили ряды за рядами, уничтожали… Повскакали бойцы из окопов, маленьких ямок. Рванулись вперед. Цепями лежали скошенные офицерские батальоны, мчались в панике каппелевцы – их преследовали несколько верст… Этот неожиданный успех окрылил полки самыми радужными надеждами…» (Фурманов Д. Чапаев. М., 1923. С. 200).
(5) Должен был проехать Троцкий. Красноармейцы <…> шли к рельсам для того, чтобы прокричать мчащемуся мимо поезду: «ура»… – Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович (1879–1940) – член Политбюро ВКП (б), с марта 1918 г. по январь 1925 г. председатель Высшего военного совета (Реввоенсовета) Советской России, нарком по военным делам. Поезд Троцкого – известный во время Гражданской войны «поезд Предреввоенсовета», близкий к бронепоезду, так как имел вагоны с пулеметами, – сформирован 7–8 августа 1918 г. в Москве, описан Л. Троцким в книге «Моя жизнь: опыт автобиографии» (ч. II, гл. XXXIV): «Два с половиной года <…> я прожил в железнодорожном вагоне, который раньше служил одному из министров путей сообщения. <…> В поезде работали секретариат, типография, телеграфная станция, радио, электрическая станция, библиотека, гараж и баня. <…> Орбита его передвижения: Самара, Челябинск, Вятка, Петроград, Балашов, Смоленск, снова Самара, Ростов и др. <…> Чего искал „поезд Предреввоенсовета“ на фронтах гражданской войны? <…> Это не были просто инспекционные поездки. Нет, работа поезда была теснейшим образом связана со строительством армии, с воспитанием ее, с управлением ею и со снабжением ее» (Троцкий Л. Моя жизнь: опыт автобиографии. М., 1991. С. 395–396).
(6) Горбуль – изогнутый мост Даль I, 377).
(7) Иконы-то сейчас снимать, тятя, али обождешь? – Одним из проявлений борьбы с религиозными суевериями в 1920-е годы в деревнях было снятие крестов с церквей и выбрасывание из домов икон. См., например, в «Возвращении на родину» С. Есенина: «А сестры стали комсомолки. / Такая гадость! Просто удавись! / Вчера иконы выбросили с полки, / На церкви комиссар снял крест…» (Есенин С. А. Поли, собр. соч. Т. 2. С. 91).
(8) Весь день Ермолай Григорьич ходил по соседям, рассказывал о войне, о коммунистах – и рассказы получались такие, словно он читал вслух газету. Мужикам это и нравилось. – Ситуация, не раз описанная в прозе 1920-х годов. Герой, бывший красноармеец, встречает или отчуждение и непонимание, что является еще одной причиной его тоски («Голубые города» А. Толстого, «Горькое яблоко» Г. Алексеева и др.), или доброжелательный интерес («Русь Советская» С. Есенина). В рассказе Иванова соединены оба мотива: мужикам рассказы нравятся, но тревога, тоска и отчуждение героя при этом не исчезают.
(9) Угар выбздаю… – Угар – газ, который образует с воздухом сгорающий уголь, от него люди «угорают»: начинаются головная боль, тошнота, обмороки. Бздавать (диал.) – поддавать пару в русской бане, смачивая раскаленную каменку.
(10) …притянул к себе с силой ветку и сломал. – В рассказе «Блаженный Ананий» (1927) подобное действие героя представлено как символ утраты связи с крестьянскими корнями, с природным миром: «Солдаты трясли деревья, плясали на плодах. Один, городской, с курчавым белым чубом, стал рубить шашкой ветки. Тогда в солдатах проснулась крестьянская душа: взводный ударил чубастого в зубы».
(11) ВИК – волостной исполнительный комитет.
(12) …за такие дела не погладят, – па-артейный… – В печати середины 1920-х годов неоднократно обращалось внимание на тот факт, что виновными во многих нарушениях порядка, в том числе и в серьезных преступлениях, являлись коммунисты (партийные), занимавшие высокие административные посты. Так, в статье «Административное расследование по крестьянским письмам» отмечалось: «Наркомвнудел РСФСР за последнее полугодие (с 1 июля по 31 декабря 1926 г.) произвел расследование по 774 крестьянским письмам, <…> привлек к ответственности 682 лица. В числе привлеченных к ответственности – 5 нач. уездн. милиции, 3 председателя районных исполкомов, 19 председателей волисполкомов, 4 секретаря, 84 председателя сельсоветов» (Известия. 1927. 19 янв. С. 2). Этой проблеме посвящено сатирическое стихотворение Д. Бедного «Так где же настоящие хулиганы?», напечатанное в январе 1927 г. в газете «Известия», которое завершалось характерными строками: «– Коммунист?! / – Коммунист! / – Вот так штука! / Вел хулигана, привел политрука!» (Известия. 1927. 14 янв. С. 3).
(13) …и в исправдомы не попадать… – Исправдом, или труддом, в 1922–1933 гг., – тюрьма для осужденных к лишению свободы на срок более чем 6 месяцев, в которой использовались исправительно-трудовые работы заключенных.
Счастье епископа Валентина*
Впервые: Ленинградская правда. 1927. 20 февр. С. 4, под заглавием: «Архиерей».
Авторизованная машинопись рассказа с заглавием «Архиерей» – датирована 1926 г. (ОРИМЛИ. Ф. 107. Оп. 1. Ед. хр. 8).
Судя по написанию некоторых слов («вечерняго», «грязнаго» и т. п.), машинопись сделана в 1920-е годы. Правка вносилась в нее уже гораздо позже, можно предположить, что в 1936 г. В верхней части первого листа рукою Вс. Иванова написано: «В собр. сочинений 1927 назывался „Счастье еп. Валентина“. Вс. Иванов, 36». Возможно, Вс. Иванов собирался включить рассказ в «Избранное». Правка носила в основном стилистический характер: Было: «медленно идя мимо базара», – стало: «идя мимо базара»; было: «вдруг начинал выказывать унижение», – стало: «внезапно»; было: «прихожане по одному отойдут от него», – стало: «прихожане отступятся от него» и т. п. В некоторые фразы внесены уточнения: «напишет тоскующее письмо»; – «не имея сил нести свой восторг» – было исправлено на: «не имея сдержанности, чтоб спокойно нести свой восторг».
Между машинописью и текстом рассказа «Архиерей» в «Ленинградской правде» есть некоторые разночтения стилистического характера. При публикации сокращены два фрагмента: «Хозяин был сапожник, сутулый, странно некрасивый – от живой церкви он требовал, чтобы иконы убрали „уж больно святые ликами прекрасны“ – хрипел он подряд часто целые часы»; «Тяжело и устало бухал соборный колокол. Среди сугробов шли к голубому собору старухи в длинных черных платьях. Скрипели полозья на базаре».
По сравнению с «Архиереем» «Счастье епископа Валентина» (впервые: Кр. Н. 1927. № 4) представляет собой более позднюю редакцию рассказа. Она существенно больше по объему, что произошло, главным образом, за счет внесения автором дополнительных деталей в описание персонажей. Вс. Иванов углубляет образы Валентина (меняя чин архиерея на епископа), председателя церковного Совета Архипова и мужика Сумишева за счет введения фактов биографии, дополнительных речевых характеристик и психологических деталей. Так, в первой редакции не упоминались отец Архипова, которого «слопали» на восьмой год революции, и «богохульствующие журналы», которые читал председатель церковного совета.
Внося изменения в психологическую характеристику образа епископа Валентина, Вс. Иванов усиливает мотив счастья. Безымянная девушка приобретает символическое имя Софья, с которым связан цветовой эпитет «голубой» (синий): дважды – в начале и в конце рассказа – упоминается шапка епископа, починенная руками девушки «легкими синими нитками»; бледно-голубым цветом окрашены мечты о жизни в светелке. По сравнению с «Архиереем», где в метафоре «голубые локоны собора» соединены надежды героя на чистоту любви и веры, в «Счастье епископа Валентина» появляется еще один значимый метафорический эпитет: «купол собора отдаленно напоминал крыло, голубое крыло». Несколько деталей, опущенных и добавленных писателем, меняют образ мужика Сумишева. Снимается описание шапки мужика: «громадные заплаты пересекали ее во всех направлениях, видимо, она перенесла немало войн и революций», – напоминающее о пережитых исторических потрясениях, а добавляется «восхищение землей, такой шутливой и трогательной» (в СС-7 слово «землей» заменено автором на «миром»).
У двух редакций есть и серьезные композиционные различия. Меняя заглавие и вводя в него слово «счастье», Вс. Иванов мечтами о счастье и начинает рассказ; уже в первых строках появляется «светелка», а во втором абзаце слово «любовь» и мечты о личном счастье. «Архиерей» открывался строками о «Живой церкви» и «тихоновщине», об оскудении веры. Эпизод, где Валентин разговаривает с мужиком о разводе, в «Архиерее» предшествовал отказу от светелки – от счастья. В «Счастье епископа Валентина» диалоги с мужиком о деньгах на развод и с членами церковного совета о деньгах за светелку ведутся практически одновременно.
Сопоставление финалов «Архиерея» журнальной публикации текста под заглавием «Счастье епископа Валентина» и окончательного текста из СС-7 проясняет движение мысли автора.
Финал «Архиерея»: «Архиерей Валентин кашлянул, споткнулся и по тропке шагнул к голубому собору. Весь базар на одно мгновение обернулся к нему. Усталая тоска и жалость ожгла все сердца, – а потом сразу все забыли об ушедшем архиерее».
Финал «Счастья епископа Валентина» (журнал «Красная новь»): «Поземка подхватила одну из ниток, легкое шипение перекатывающихся снежинок встретило ее. И вскоре нитку обмотало вокруг тонкого вечернего цвета прута, беспомощно тянувшегося из огромного сугроба…»
В финал рассказа из СС-7, представленного в настоящем издании, который писался уже после выхода ТТ и появления основной массы критических статей, Вс. Ивановым введены основные темы и мотивы книги: «тайное тайных земли, малую каплю которого знают мужики», пустыня, одиночество человека.
Помимо финальных строк, существуют еще некоторые разночтения между журнальным вариантом и вариантом СС-7. В описание ожидаемого епископом счастья с Софьей добавляются эпитеты: «…счастье, которое его ждало с Софьей, – здесь, в простой и ровной, земной и скотской <…> жизни». Дважды в текст вводятся слова о вере: в реплику Архипова – «…клопов-то, поди, больше гвоздей, господи. И все из-за веры… Я же понимаю! Вера и терпение, – да мне ль не понять?..»; и в мечты епископа: «…над ними огромное российское небо. Тишина, умиление, вера… Он вздрогнул, обомлел».
«Счастье епископа Валентина» продолжает в творчестве Вс. Иванова тему религиозных исканий человека. Позднее, в 1929–1930 гг. писатель поглощен работой над романом «Кремль», центральным событием которого является история печатания Библии в маленьком провинциальном российском городе Ужге. В архиве писателя сохранилась запись 1950-х годов о работе над романом «Кремль», многое проясняющаяся в мировоззрении Вс. Иванова времени написания рассказа «Счастье епископа Валентина»: «…религиозное движение разбилось тогда на несколько „церквей“, как, например, новая церковь, и древне-апостольская, религия не пользовалась большим уважением. В 1923 году или, может быть, в 1924-м, не помню, я пошел на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя. Богослужение вел сам патриарх Тихон, хор был великолепен, – и, однако, храм был почти пуст. Я без всякого труда и толкотни пересек его вдоль и поперек несколько раз и встретил там немало знакомых, в том числе всех руководителей РАППа, – Авербаха, Фадеева, Киршона, которые пришли сюда, конечно, не молиться, а посмотреть, как молится уходящая Русь. Увы, этой уходящей Руси было так мало, и невозможно было подумать, что четверть века спустя, при той же советской власти, при народе, который сплошь стал грамотным и процент людей, имеющих высшее образование по отношению к тем годам, стал безмерно велик, – трудно и невозможно было подумать, что на пасхальную заутреню не только московские соборы, но и ограды их будут битком забиты толпами молящихся.
Религиозное движение интересовало меня. <…> Приложение религиозных вопросов к жизни в эпоху социалистической революции казалось мне страшно интересным. Тема освобождения от религии, равно как и тема прихода к ней, казалась мне достойной разработки. Мне думалось, что если рассказать по-настоящему о том, как наши люди отходят от религии или благодаря каким обстоятельствам приходят к ней, находя в ней иногда единственное спасение от тех горечей и бед, которые их преследуют, – может быть чрезвычайно интересным и для меня как для психолога, и для читателей» (ЛА).
Рассказ «Счастье епископа Валентина» внутренне тесно связан с рассказом А. П. Чехова «Архиерей» (1901). Как и у Чехова, у Вс. Иванова противостоят друг другу вера в Бога, простая и ясная, которая в чеховском рассказе открывает перед человеком «бездонное необъятное голубое небо» (у Иванова – «огромное российское небо»), и необходимость исполнения человеком чуждых людям и Богу внешних обязанностей (у Иванова – служение Живой церкви и борьба с «тихоновщиной»). В центр повествования Вс. Иванов вслед за Чеховым ставит тоскующего, одинокого человека, мучительно и поздно прозревающего и открывающего для себя истинность живой жизни: любви, детских воспоминаний, сокровенного природного мира.
Сам Вс. Иванов, по всей видимости, считал рассказ центральным для своего творчества 2-й половины 1920-х годов. Не случайно 3-му тому СС-7, куда вошли рассказы из книг ТТ и ДП, было дано заглавие «Счастье епископа Валентина». Высоко оценили его и современники. С. Буданцев назвал книгу «Счастье епископа Валентина» лучшей за 1928 г. и «достойной премии», как «самое искреннее свидетельство необыкновенно сложной и напряженной душевной жизни среднего человека, вовлекаемого событиями в революцию» (Прожектор. 1929. № 42. С. 20). Высоко оценив мастерство Вс. Иванова в рассказе, критика 1920-х годов, тем не менее, содержание его прочитывала в духе оценок ТТ В. Полонский отметил «власть рока» и над этим ивановским героем: «Епископ Валентин искал тихого счастья для себя в маленькой комнатушке с милой девушкой Софьей. А ему навязывали какое-то большое дело, которого он не хотел. Он хотел маленького счастьица в тихом уголку. <…> Надо ли говорить, что „счастье епископа Валентина“ – миф. <…> И какую вещь из цикла „Тайное тайных“ ни взять, всюду сталкиваемся мы с нелепицей, с разрушением надежд, с торжеством губительного начала, которое лежит вне воли человека» (Полонский, 231).
(1) Ризница – место при церкви, где хранятся церковная утварь, драгоценности.
(2) …просматривал изредка богохульствующие журналы… – В 1920-е годы выходили «Безбожник» (1925–1941), «Безбожник у станка» (1923–1931), «Антирелигиозник» (1926–1941), «Атеист» (1925–1930) и др. журналы.
(3) …уездный городишко И. вот уже полгода превращен за ненадобностью в волость. – Волость – до районирования 1929–1930 гг. – низшая административно-территориальная единица, входившая в состав уезда. Уезд – административно-территориальная единица, входившая в губернию.
(4) …слуга бога и живой церкви, борется с тихоновщиной… – Живая церковь-одна из основных групп «обновленческого» течения в Русской православной церкви, созданная при прямом участии власти в мае 1922 г. Программа «обновленцев» предусматривала отказ от якобы омертвевших канонов и догм, упрощение богослужения, демократизацию церкви, ликвидацию монашества, закрытие монастырей и пр. Советское государство уделяло огромное внимание разложению православной церкви как силы, духовно противостоявшей новой власти. С этой целью, в частности, стимулировалась деятельность «обновленческого» движения, сформировавшегося еще в дооктябрьское время (его возглавляли священники А. И. Введенский и А. И. Боярский). Весной 1922 г., когда Л. Троцкий становится во главе кампании по изъятию церковных ценностей якобы для помощи голодающим, активизируется деятельность власти, направленная на раскол руководства Православной церкви. В секретной записке в Политбюро от 12 марта 1922 г. Троцкий писал: «Вся стратегия наша в данный период должна быть рассчитана на раскол среди духовенства на конкретном вопросе: изъятие ценностей у церквей. Так как вопрос очень острый, то и раскол на этой почве может и должен принять очень острый характер» (цит. по: Русская православная церковь и коммунистическое государство. 1917–1941 гг.: Документы и фотоматериалы. М., 1996. С. 79). В апреле 1923 г. в храме Христа Спасителя обновленцы провели поместный собор, приняли решение (в мае) о лишении патриарха Тихона сана и звания. 14 мая через газету «Известия» представители обновленческой церкви потребовали «суда над виновниками церковной разрухи», прямо не называя имени патриарха Тихона. В мае этого же года произошел арест патриарха, скончавшегося в 1925 г. (см.: Там же. С. 75–154).
Действие рассказа Вс. Иванова, скорее всего, происходит в 1925–1926 гг.: в тексте есть указание, что отца Архипова «слопали» на восьмой год революции. Описание трудной бытовой стороны жизни епископа Валентина соответствовало реальности. Так, в Приложении 12 «Православные церковники» к Обзору политического состояния СССР за январь 1925 г. отмечалось: «Деятельность церковников обновленческой группы за отчетный период времени заключалась в общем в противодействии наступающей тихоновщине, причем таковое не везде было для них успешно. Дезертирование нестойких обновленцев продолжалось и в некоторых губерниях носило значительный характер… <…> Материальное положение обновленцев вообще хуже, чем у их противников, не говоря уже об отдельных попах, часто даже епархиальные управления не располагают достойными средствами. Так, например, Владимирское УЦУ не может никак провести сбор по 3 коп. с церкви, в Гомельской губ. ЕУ не может оплатить коммунальных услуг по занимаемому им помещению…» (Совершенно секретно. Т. 3. Ч. 1. С. 109).
(5) …налог за исполнение песнопений… – «Декретом об отделении церкви от государства и школы от церкви» от 20 января 1920 г. церковь была лишена права владения имуществом. Необходимые для совершения богослужений здания и «предметы религиозного обихода» отдавались церкви на условиях «бесплатного пользования» и подлежали налогообложению. В течение 1920-х годов различными декретами и постановлениями вводились дополнительные налоги, среди которых был и названный в рассказе Иванова «налог на песнопения». Упоминание о нем содержится в Письме Митрополита Сергия в Президиум ВЦИК от 19 февраля 1930 г. о нуждах Православной Церкви в СССР: «…2. Сбор авторского гонорара в пользу Драмсоюза необходимо поставить в строго законные рамки, т. е., чтобы сбор производился только за исполнение в Церкви тех музыкальных произведений, которые национализированы или же по авторскому праву принадлежат какому-либо лицу, а не вообще за пение в Церкви чего бы то ни было, в частности при богослужении: чтобы исполнение служителями культа своих богослужебных обязанностей не рассматривалось как исполнение артистами музыкальных произведений, и потому церкви не привлекались бы к уплате 5-ти % сбора со всего дохода, получаемого духовенством…» (Русская православная церковь и коммунистическое государство. 1917–1941 гг. С. 268).
(6) Николай Мирликийский – см. примеч. 77 к рассказу «Бегствующий остров».
(7) Мария Египетская – христианская святая, VI в. По преданию, в молодости была блудницей: присоединившись к паломникам, которые шли в Иерусалим, обратилась к вере и 47 лет прожила в покаянии в пустыне заиорданской. Память 1 апреля.
(8) Причт – священно- и церковнослужители одного прихода, паства.
(9) Развожусь, батя. – В соответствии с первым брачным кодексом 1918 г., узаконены расторжение брака (развод) и гражданский брак («Декрет ВЦИК и СНК о гражданском браке, о детях и о введении книг актов гражданского состояния» от 8/31 дек. 1918 г.).
Бог Матвей*
Впервые: газета «Уральский рабочий». 1927. № 32. 9 февр. С. 3, под заглавием: «Испытание».
Авторизованная машинопись рассказа (НИОР РГБ. Ф. 673. К. 2. Ед. хр. 12).
Вероятнее всего, эта машинопись и является первым вариантом рассказа, который Вс. Иванов отправил в газету «Уральский рабочий». В присланный текст, очевидно, редакторами внесены исправления. Сокращены мысли Денисюка о революционных и церковных праздниках («И еще было огорчительно ~ Денисюку было противно»); упоминание о том, что комиссар отсылал матери вырезки из газет о своих наградах («…он был представлен к ордену ~ отсылал матери домой»); фразы, указывающие на снисходительное отношение бога Матвея к комиссару («Денисюк сразу же ~ чем раньше, снисхождением…» и «И он опять так посмотрел ~ длинных губ Матвея»); слова политрука о революции, пиявках и беспощадности («…часто говорил о себе – эту поговорку и добавил…»); «ненужные мысли о крестьянских избах, об иконах, о хозяевах» («Денисюк вдруг разглядел ~ о хозяевах. Он…»); описание чувства Денисюка, что солдаты на него смотрят «не с прежним любовным добродушием» («И Денисюку показалось ~ взволновало его»); описание падения птичьего пера («…от крыла отделялись перья ~ тепло падало на землю»); большой фрагмент о страхе Денисюка («Надо было пожать плечами ~ пред революцией и собой…»); описание мыслей политрука об иконах («Политрук, т. Полтавский ~ Денисюк заснул быстро»); описание пения псалма, мысли Денисюка о том, что если солдат не попадет в бога, то он убьет его, комиссара («…а они были такие ~ воткнет ему, под легкие, штык»); мысли Денисюка о грозе («…говорил, что будет ~ быть грозе!»); упоминание об одежде в конце рассказа («…удалось обновить ~ и он»). Сокращения показывают, что неприемлемыми оказались религиозная подоплека рассказа и «ненужные мысли» комиссара и политрука.
Публикуемый в настоящем издании вариант из СС-7, практически совпадающий с напечатанным в журнале «Красная новь» (1927. № 3), отличается от автографа в основном стилистически. Например, было: «приходил праздник» – стало: «выходил»; было: «воевать приказываю бросить» – стало: «приказывает…», было: «листья – горячие, странно пахнущие угаром», – стало: «…горячие, хрустящие, пахнущие странно: угаром». И т. п.
При подготовке СС-2 сокращениям и исправлениям в тексте подверглись «ненужные» слова, мысли и жесты комиссара. В авторских рассуждениях о его храбрости слова: «и орал „погибнем за революцию“» – заменены на «с возгласом „за революцию“»; а «неприличный жест», – на «вызывающий». Полностью опущена фраза: «ненужная и глупая мысль о культурно-просветительной работе пришла Денисюку». Предположение комиссара, что солдат Петров воткнет в него штык, заменено на: «возьмет да бросит винтовку и убежит из окопа». Сокращены эпизод, когда комиссар стреляет повторно в труп бога Матвея, и заключительное сопоставление могильных холмиков крестьянского бога и комиссара.
Крамольность рассказа «Бог Матвей» прочитывается на фоне газетных публикаций февраля 1927 г., посвященных 10-й годовщине Красной армии. В газете «Уральский рабочий», где печатался рассказ, на протяжении всего февраля постоянно звучит мысль о нависшей над СССР угрозе войны и в связи с этим необходимости укреплять Красную армию: «Празднование в этом году проводится под знаком создания общественного мнения в широких кругах рабочих и крестьян по вопросам международного положения, опасности войны против СССР и укрепления Красной армии» (Уральский рабочий. 1927. 9 февр. С. 6).
Очевиден также контекст активно проводившейся в 1920-е годы борьбы с религией. В массовом журнале «Безбожник» тема «смерти бога» навязчиво обыгрывалась и в редакционных статьях («…вера в бога и в потусторонний лучший мир, где все страждущие и угнетенные найдут вознаграждение за свои страдания на земле, умирает». – Ликнайцкий Б. Смерть бога // Безбожник. 1926. № 5. С. 15), и в публикуемых художественных произведениях (например, в рассказе А. Безработного «Рожоная» герой стреляет в иконы. – Там же. № 6. С. 4).
В ключе «борьбы с религией» прочитали рассказ его первые критики-читатели, крестьяне коммуны «Майское утро», и вынесли единогласное заключение: «Из рассказа видно, как должен поступать неверующий большевик, когда его надувают религией. В нем показано, как белые на войне „околпачивали красных религией“. В деревне этот рассказ прочтут с интересом и поймут его» (Топоров В. Крестьяне о писателях. М., 1930. С. 131).
Критика откликнулась на появление рассказа лишь спустя два года, прочно связав его пафос с ТТ Н. Рыжиков в статье «Оптимизм и пессимизм Вс. Иванова» упомянул «Бога Матвея» в числе рассказов «пессимистического периода» (На лит. посту. 1929. № 14. С. 54). В. Полонский отметил присущую рассказу, как и ТТ, двойственность. С одной стороны, критик приветствует «рост мастерства» («Иванов научился пользоваться деталью – она играет в его рисунке огромную роль. Он ею оживляет картину, его описание делается динамическим, оно живет, дышит, движется». – Полонский, 229), с другой стороны, указал критик, герой рассказа, комиссар Денисюк, так же, как и другие персонажи ТТ, является «марионеткой, игрушкой стихийных сил»: «Кто-то, стоящий за спиной, которого не видно, руководит их судьбой, обрекает на лишения и горести» (Там же. С. 230).
(1) …не пришлось ни одного революционного праздника… – Действие рассказа, видимо, происходит в 1918–1919 гг. В это время праздновались: 12 марта – годовщина Февральской революции, 18 марта – годовщина Парижской Коммуны, 7 ноября – годовщина Октябрьской революции. К революционным праздникам также относились: 22 февраля – образование Красной армии, 1 мая – День Интернационала.
(2) Культурно-просветительная работа – работа по просвещению масс, которая включала в себя лекции, беседы, организацию библиотек, клубов, театральные постановки, освоение кинематографа и прочие мероприятия. Советское государство отводило этому направлению работы важное место в перестройке сознания масс, главным образом в освобождении от религиозного дурмана. В Программе РКП (б), принятой на VIII съезде в марте 1919 г. и разработанной В. И. Лениным, указывалось: «Партия стремится к <…> фактическому освобождению трудящихся масс от религиозных предрассудков <…>, организуя самую широкую научно-просветительную и антирелигиозную пропаганду» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 38. С. 433). На протяжении 1920-х годов эта работа принимала все более масштабный характер: «…пробуждаясь к культуре, русский рабочий так легко освобождается от своей часто внешней бытовой связи с церковью. Для крестьянина это, правда, труднее…» – отмечал Л. Троцкий в 1923 г. (Троцкий Л. Вопросы быта: Эпоха «культурничества» и ее задачи. М, 1923. С. 44).
(3) Еще немного, и не станет нечистивого; / Посмотришь на его место, / И нет его. / А кроткие наследуют землю / И насладятся множеством мира. – Неточное изложение 36 Псалма из Святого Писания: «И еще мало, и не будет грешника: и взыщеши место его, и не обрящеши. Кротции же наследять землю, и насладятся о множестве мира» (Пс 36, 10–11). Блаженный Феодорит епископ Киррский дает псалму следующее толкование: «Ибо будь уверен, что утвердившиеся на божественном уповании, и избравшие жизнь скромную, проведут ее в спокойствии и мире, находя для себя постоянное услаждение в чистоте совести, а полагающиеся на кратковременное благоденствие испытают скорую превратность, и преданы будут конечному забвению» (Псалтирь с объяснением значения каждого стиха блаженного Феодорита епископа Киррского. М., 1997. С. 168).
Комендант*
Впервые одновременно: Красная нива. 1927. № 31. С. 2–4, под заглавием: «Счастье»; Красная панорама. 1927. № 37. С. 2–6, под заглавием: «Мелитка».
Авторизованная машинопись рассказа (НИОР РГБ. Ф. 673. К. 2. Ед. хр. 16).
В предшествовавших СС-7 журнальных публикациях Вс. Иванов несколько раз менял заглавие: «Счастье», «Мелитка», «Комендант», – окончательный вариант заглавия, появившийся в СС-7, акцентировал тему нового слова, ключевую в рассказе. Кроме изменения заглавия, Иванов при подготовке СС-7 сократил небольшой фрагмент текста, имевшийся в обеих журнальных публикациях. После слов: «мчались по улице с портфелями», – следовал текст: «наполненными всякими властями. Мрачные приезжали на автомобилях, открывали в пустынях столицы, пускали в море пароходы… Другая жизнь, другие семечки».
Хранящуюся в НИОР РГБ машинопись рассказа можно датировать приблизительно 1926 г. Судя по варианту заглавия – «Мелитка», этот текст предшествует СС-7. Как это часто происходило в работе Вс. Иванова над своими рукописями, писатель не вносил в текст отдельные исправления, а полностью переписывал его. Не исключено, что перед нами первоначальный вариант рассказа, впоследствии переделанный автором. Ср. начало рассказа: «По деревне (ходила – здесь и далее так обозначен текст, зачеркнутый автором в машинописи) скиталась девка Нюрка (которую еще больше не уважали, чем Мелитку) еще более достойная презрения, чем Мелитка. У нее были еще более мутные глаза, и еще более вялая походка». В СС-Г. «Девка Нюрка считалась в деревне хуже Мелитки. У нее глаза еще мутнее, и еще более вялая походка». Иначе выглядел и финал рассказа: «И вот она опять была в том же городе Карналухове. Сначала она сидела за решеткой, но затем ее выпустили. Походка у нее тихая, но гордая и счастливая. У нее блаженное лицо, ясные глаза, и все встречные в том доме, где ее держат, почтительно кланяются, сторонятся, зовут Милитиной Кирилловной. Она ими довольна и всех их хвалит, и они ее хвалят за то, что она теперь такой бравый и исправный, и вежливый и достойный комендант. Двор обнесен деревянным забором. В саду живет лисица, говорят сумасшедшая, рассказывающая сказки. Солнце печет лениво и тепло, тишина над городом и в саду». Имеются также разночтения в описании снов героини. В машинописи абзац: «Ветер у ворот ~ Господи, господи, – забормотала Мелитка», – выглядел так: «К воротам уже нельзя было выходить. Ветер становился все суше и суше, он жег гортань и слепил глаза. Мелитка кружила по двору, и за ней ходили ребятишки и кричали на различные голоса: „комендант, комендант…“. Однажды она вышла на двор, ей приснился тяжелый сон. И тут в пустынном дворе она ясно услышала это визгливое и грохочущее слово: „комендант“, похожее на кирпичи». Первоначальный текст значительно более сжат, лишен фантастического элемента, мотива богоостав-ленности человека. Ср. также фрагмент отъезда Мелитки в город из последней части рассказа. В тексте машинописи: «…повезли на телеге в город. Она сидела и все выпрямлялась и становилась все гордже и гордже. Она начала понукать лошадь, требовала, чтобы ямщик гнал и чтоб с ней обращались почтительнее. Ямщик испуганно оглядывался, а затем остановил встречных, и они, еще два мужика, подошли и вдруг один из них ударил ее в ухо. Ямщик остервенело крикнул: „Кто же тебя, сука, бить просил“. Мужик смотрел еще неизвестно почему злобно, и кулак у него дрожал. Они кинулись на Мелитку и связали ее». По сравнению с этим текстом, в окончательный вариант автором введены упоминание о полях, реплика героини: «Загною!», усилена ненависть к ней мужиков. По своей внутренней направленности эпизод близок к заключительной сцене рассказа «Плодородие».
Рассказ «Комендант» был откровенно полемичен по отношению к современной писателю прозе о новой женщине. См., например, статью А. Пономаревой «Женщина в отражении художественной литературы (К международному дню работницы и крестьянки)» в журнале «Книга и профсоюзы» 1927 г. Рассматривая произведения послереволюционного десятилетия («Виринею» Л. Сейфуллиной, «Мать» Ф. Березовского, «Выручила» М. Ильина, книгу А. Неверова «Так велит жизнь» и др.), сборники рассказов «из жизни тружениц» («К новой жизни», «Красные платочки», «За власть Советов» и др.), автор выделяет книги, говорящие «о роли женщины в создании нового быта деревни», «свидетельствующие о росте самосознания деревенской женщины» и потому пригодные «для громких читок и бесед с работницами в красных уголках» (Книга и профсоюзы. 1927. № 2. С. 41). Мечтавшая о «женихе, любви, хозяйстве и уважении», Мелитка никак не соответствовала требуемому эпохой «образу женщины, вчерашней покорной рабы, смело и грубо рвущей семейные путы» (Там же. С. 40).
Из современных Вс. Иванову критиков только В. Полонский обратил внимание на рассказ, поставив его в один ряд с 7Т и отметив сквозной мотив «слова» у писателя: «…на ее пути встретилось слово „комендант“. <…> Слово погубило Мелитку. Полетела прахом жизнь человеческая. <…> Ее поместили в сумасшедший дом. <…> Тут ее впервые приласкала жизнь; ей перестали сниться каменные сны; ушла ее тоска, – и взгляните, как изображает Мелитку наш автор после того, как она вышла из НЕ сумасшедшего, житейского круга. <…> Где же, по Иванову, собственно, сумасшедший дом?» (Полонский, 231).
(1) Молебен – короткое богослужение в виде благодарности или просьбы.
(2) В этом городе произошел такой случай ~ медленной волжской воды. – Аллюзия к знаменитому гоголевскому описанию лужи в «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».
(3) Знакомая кухарка… – В статье «Удержат ли большевики государственную власть» (1917) В. И. Ленин писал: «Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас управлять государством. Но мы <…> требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами, <…> чтобы к обучению этому начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 34. С. 315). В современной Иванову массовой литературе ленинская кухарка превратилась в своеобразный идеал новой деревенской женщины. См., например, в рассказе М. Величко «Генеральской курицы племянник» выступление на мужичьем сходе солдатки Махонькиной: «Ленин что сказал? Каждая кухарка осударством управлять, а оно, нужно знать, – куда это сказано! Вот меня избрали председателем, я и говорю – не все мужикам править» (Крестьянский журнал. 1927. № 1. С. 13).
(4) «Эх, ты, фаетона…» – Возможно, прозвище дано по принципу контраста неповоротливой, с ногами «как бревна», Мелитины и фаетона – легкой, изящной небольшой коляски.
(5) «– Ра-асчет… – зашуршало по шатающимся столам ~ шарахнулись к чернильницам». – Данный эпизод с яркой звукописью, и в целом описание учреждения с однообразно звенящими печатными машинками, буквы в которых летают, «как мухи», учреждения, где служат «бумажные души», видимо, восходят к поэтике «Петербургских повестей» Н. В. Гоголя. Очевидны переклички с повестью М. А. Булгакова «Дьяволиада» (1925), также берущей истоки в гоголевском фантастическом мире ожившего неживого. Ср. у Булгакова: «– Тсс! – змеей зашипел Скворец, что вы?» (Булгаков М. Дьяволиада. М., 1926. С. 12); «Зал <…> опустел. Лишь машинки безмолвно улыбались белыми зубами на столе» (Там же. С. 29); «Белые змеи бумаги полезли в пасти машин, стали свиваться, раскраиваться, сшиваться» (Там же. С. 35).
(6) …синий и низкий дом. – Возможно, цвет сумасшедшего дома связан с переосмыслением романтического символа «синей птицы». Ср. близкое употребление цветового эпитета в рассказе А. М. Горького «Голубая жизнь» (1925), где «создатель голубой тишины» – врач сумасшедшего дома, а «голубые мысли и слова» Миронова – проявление безумия.
Блаженный Ананий*
Впервые: Альманах артели писателей «Круг». М., 1927. № 6. С. 112–132.
Гранки с правкой автора из альманаха «Круг» (ОР ИМЛИ. Ф. 100. Оп. 1. № 10).
Правка в гранках коснулась портретных характеристик персонажей. В 1-ю главу добавлено описание внешности Марии Александровны: «…казались розовыми. Медлительное, немного усталое тело мачехи, украшало неподвижное крапчатое платье. В длинных мочках – бирюзовые серьги». В 3-й главе при описании девок в гостинице «громадные груди» были заменены на «громадные руки». В 5-й главе, одна из девушек первоначально не напоминала Саше сестру Анания и выглядела так: «Полураздетая девка, свесив на перила потные огромные груди, блевала со стонами в сад». Появление перед Сашей Марии Александровны в конце 7-й главы вновь сопровождается указанием на деталь, в первоначальном тексте отсутствовавшую: «Он оттолкнул ангела. Бирюзовые сережки порхнули в небо. Перед ним…» Кроме этого, в начале 2-й главы «обрыв» был заменен Ивановым на «Вяземский овраг»; в 6-й главе в рассказ о последних минутах жизни Анания добавлена фраза: «…длинного уха розовело. И вдруг омерзение, владевшее им, исчезло, запашистое теплое дыхание…»
Тексты в альманахе «Круг» и СС-7 идентичны.
Рассказ «Блаженный Ананий» Вс. Иванов послал А. М. Горькому. В письме от 13 октября 1927 г. Горький хвалил рассказ: «„Ананий“ – отличная вещь» (С. 338). Отвечая Горькому, 28 октября 1927 г. Иванов писал: «Очень рад, что „Блаженный Ананий“ вам понравился – рассказ мало кому нравится, и те люди, мнением которых я дорожу, говорят, что в нем есть болезненный уклон и даже извращенность. Мне обидно потому, что рассказ этот я люблю больше всех своих работ» (С. 339).
Горький был одним из очень немногих, кто похвалил рассказ. Отзывы критики 1920-х годов оказались крайне недоброжелательными. В. Фриче в статье с характерным заглавием «Мастерство впустую» писал: «…мы должны признаться, что предпочли бы этой удивительной истории, где отец живет с дочерью, брат жаждет сестры, мачеха любит пасынка, а пасынок мачеху, и где гуляют голые проститутки, хотя бы не столь „художественный“ рассказ какого-либо из наших пролетарских писателей <…> на тему о том, как красный председатель <…> превращает свое учреждение в образцово-показательное» (Правда. 1927. 7 авг. С. 6). Как произведение «группы „Тайного“» рассматривал рассказ М. Гельфанд, анализом «Блаженного Анания» подтверждая свою главную мысль: «Самые биологические импульсы здесь абстрагированы от человека; образы почти не индивидуализированы и целиком исчерпываются тем или иным неодолимым импульсом» (Гельфанд М. От «Партизан» к «Особняку»: К характеристике одной писательской эволюции // Революция и культура. 1928. № 22. С. 73). Г. Якубовский отмечал: «Произведение это написано так, словно автор стремился подобрать из ряда вон выходящее, чудное, странное, а не типичное. Фигуры „блаженного“ и его отца как будто взяты из клиники; мачеха, пасынок и ряд других – из музея восковых фигур. <…> У автора <…> целью приходится считать показ бессмыслицы, нелепицы. Эротическим угаром чадит из произведения, в котором блуждают призрачные тени» (Якубовский Г. Литературные блуждания. С. 119). В. Полонский увидел в рассказе проявление «роста мастерства» писателя, не преминув при этом упомянуть «философию упадка и гибели»: «…совершенствуя свои приемы работы, Иванов сделал громадный шаг назад, в сторону разложения своего, когда-то революционного мировоззрения» (Полонский, 229).
(1) Паз – узкая длинная скважина, щель, стык при соединении досок (Даль III, 8).
(2) Блаженный звал одну Марфой, другую Марией. – Марфа и Мария, сестры Лазаря, упоминаемые в евангельском рассказе о посещении Христом Вифании.
(3) Иеромонах – монах в сане священника.
(4) Теперь лежу, как Илья Муромец, тридцать лет. ~ А на тридцать третий год придет ко мне бог и скажет: «Вставай, Илья, царство спасать надо». – Илья Муромец – главный богатырь русского народного эпоса. Известен в былинах с постоянным эпитетом – «старый казак». Вероятно, из потребности объяснить, почему Илья Муромец уже не молодым совершал свои подвиги, создано сказание о нем как о сидне, не проявляющем своих сил до 30 лет. К имени Ильи Муромца прикрепился широко распространенный сказочный сюжет о богатырях-сиднях. В большей части былин об Илье богатырь получает силу калик перехожих. Встречаются былины, где народ рассказывает и о том, как к Илье приходит Христос с двумя апостолами (см.: Буслаев Ф. И. Народный эпос и мифология. М., 2003. С. 225–226).
Особняк*
Впервые: Журнал для всех. 1928. № 1. С. 24–34, подзаголовок: «Повесть». Беловой автограф (ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Ед. хр. 517).
Текст в автографе написан на левой половине листов большого формата, справа, также рукою Иванова, даны зарисовки к портретам-характерам действующих лиц. В нижней части 1-го листа красным карандашом размашисто написано: «„Особняк“ р-з из „Тайного тайных“ Вс. Иванов». Датировать рукопись можно условно не ранее 1925 г. – не позднее 1927 г.: книга ТТ уже сдана в печать (или задумана, с соответствующим заглавием), а 2-й вариант «Особняка», который будет опубликован в «Журнале для всех», еще не написан. Между автографом и журнальным вариантом есть существенные различия. В автографе текст намного короче, еще нет деления на главы, некоторые действующие лица носят другие имена: невеста – Катя Епич в начале текста, в конце становится Лизочкой, великий князь носит имя Константин, комиссар – товарищ Васильев, уральский город также имеет название – Челябинск. Из числа персонажей 1-го варианта в окончательный текст не попал только один, кстати, единственный, внушающий симпатию, – гимназическая подруга матери Чижова, давшая семье приют в своем доме подле кладбища; о ней дважды сказано – «кроткая душа». События, образующие сюжет, по существу те же; с единственной разницей: из череды исторических событий, перечисленных в окончательном тексте в начале 5-й главы – «мятежи, восстания, продразверстки», – в автографе не упомянуто ничего, но зато назван голод. Отличаются начальные абзацы двух вариантов и, соответственно, мотивировки поведения героя. В автографе «Особняк» начинался так: «Ефим Сидорович Чижов, живший в одном из уральских городков, в семнадцатом году нажил много денег на том, что возил в Питер перед самой революцией баранки и продавал их там. Однажды он остановился в номерах „Европа“, в одном из переулков подле Николаевского вокзала, баранки подплесневели, в последнее время их стали возить все хуже и хуже, Ефим Сидорович чистил их сам. В это-то время и произошла революция. Ефиму Сидоровичу она не понравилась, но так как она торговле не мешала, то он и забыл о ней. Нажившись на баранках, он купил в оренбургских степях скот и пригнал его в Челябинск. Так он пригонял скот два-три раза. И деньги его увеличивались, и так как их надо было хранить, то он надумал купить домик, он подыскал особнячок в два-три этажа, в пять комнат, за сходную цену». Здесь еще нет характерного для ТТ «вдруг» – неожиданного психологического толчка в душе героя, с которого начинаются все дальнейшие действия. В финале 1-го варианта после записи в загсе «озверевший» Чижов вдруг набрасывается на Лизочку (она при этом понимает, что «так и нужно»), а лишь затем усаживается у окна за самоваром. В финале окончательного текста Ефим Сидорович все время держит себя спокойно и солидно.
Вторая часть автографа включает вариант текста, близкий к журнальному. Она начинается на стр. 2-е момента раздумий Чижова о возможной наживе в оренбургских степях, а обрывается на повествовании о невесте. На первой странице слева, в колонку, располагаются записи писателя, раскрывающие некоторые черты характеров и дающие портреты героев. Они, вероятно, сделаны после написания 1-го варианта текста и предназначены для его переработки. В записи о Ефиме Сидоровиче, например, уже дается его психологический портрет: «…обилие желаний смутило его, и он, чтобы отделаться, стал их исполнять, и чем ярче он их исполнял, тем они сильнее мучили его». Некоторые портреты удивительно емки и точны. В развернутом виде они войдут в окончательный текст.
В ЛА хранится машинопись повести «Особняк» с авторской правкой. Судя по характеру правки, она вносилась в текст уже после появления шквала критических статей, трактующих повесть как проявление «враждебной классовой идеологии» (А. Безыменский), т. е. не раньше начала 1929 г. Видимо, писатель надеялся таким образом повторно опубликовать «Особняк».
Машинописные листы, текст на которых совпадает с журнальным вариантом, в некоторых местах разрезаны, наклеены на листы линованной бумаги, где рукою Вс. Иванова вписан новый текст. Из этих новых фрагментов наиболее интересны реплика Ефима Сидоровича на первой странице: «…прожить данные ему годы без лишних тревог, беспокойств и водки. „Ну что ж, подумал он, – значит, время подошло; теперь, значит, быть тебе Ефим Сидорович, клыкастым да щетинистым“», – перекликающаяся с исправленным финалом повести. В новом финале герой имеет два особняка: в один, сельский, он возвращается, а о городском продолжает мечтать, хотя комиссар из него уже выселен и арестован. После прежнего заключительного абзаца Вс. Иванов вписывает: «– Что ж касаемо городского особняка, – неслышно шептал Ефим Сидорович, так на то и шторм, чтоб валы возвращались. Мы вернемся, будьте покойны.
Величие, что и говорить, сладкое, крылатое!
А все-таки, сказывают, село приютило его ненадолго; и на мебель, клыкастый и щетинистый, недолго он любовался; и недолго жена с белопенными плечами миловала его: кренделя в столице подвели, знакомцы старинные выдали! Кренделя-то легли на шею петлей. Где уж тут о городском особняке думать. Жизнь, как горы: то ты на причудливой вершине, где весь мир, кажись, под ногами, то ты в тусклой и мертвенно-спокойной пропасти». Кроме финала, опровергающего мысль о «торжестве реакционного хозяйчика Чижова» и, следовательно, о глубокой реакционности Вс. Иванова, которую всячески муссировала критика 1920-х годов, писатель внес в текст ряд фраз, проясняющих его отношение – негативное – к главному герою. Так, в размышлениях Голофеева слова «Ефим Сидорович его продаст» исправлены на «Ефим Сидорович – подлец»; в диалог Чижова и Маркелла Маркеллыча о доносе на великого князя введена характеристика: «пристально и с презрением глядя в лицо Ефиму Сидоровичу»; туда же включена негодующая реплика адвоката: «А кто донес?!». Кроме этого, автор внес в текст конкретизацию: городская газета получила название – «Уральская правда», – описанные события, таким образом, происходили в Екатеринбурге («Уральская правда» – орган Уральского областного и Екатеринбургского комитетов РСДПР).
Возможно, именно этот вариант «Особняка» Вс. Иванов предложил в издательство «Художественная литература» в 1958 г. при подготовке СС-2. Повесть предназначалась автором для 3-го тома: разрезанные машинописные листы с рукописными вставками Иванова хранятся в архиве издательства (РГАЛИ. Ф. 613. Оп. 10. Ед. хр. 1380. Л. 150–163). Исправления, внесенные в уже переработанный текст, носили сугубо идеологический характер. Сокращались фрагменты о доносах, написанных Чижовым от лица «бедноты» («Писал он ~ виноват тут тоже отчасти»; «Едва сдав заявление ~ и он составлял новое заявление» и т. п.); описание «невеселой» жизни комиссара и размышления Чижова о том, что «эту власть можно обмануть» («Комиссар, видимо, скучал: много пил, поигрывал в карты ~ обманывал раньше учреждения или торговцев»). Были удалены все упоминания об оппозиции и бесславном отъезде комиссара на Север. Вместо этого вставлен текст: «Точно неизвестно, – из-за доносов ли Чижова или по другой причине комиссара Петрова направили работать на Север» (Там же. Л. 152). В очередной раз выправлялся финал: «Спекуляция его подвела и легла на шею петлей. Где уж тут о городском особняке думать. Жизнь как горы: вообразил себя стяжатель на причудливой вершине, а на самом-то деле барахтался он в тусклой мертвенной пропасти, откуда нет и не могло быть выхода для таких, как он» (Там же. Л. 150) Однако и с этими исправлениями «Особняк» напечатан не был. На первой странице текста рассказа из издательского архива имеется запись, сделанная 12 сентября 1958 г.: «Рассказ отклонен».
В духе исправленного финала изложен замысел «Особняка» в «Истории моих книг»: «В манере „Тайное тайных“ я написал повесть „Особняк“ – о мещанине, тщетно мечтающем победить революцию. Разбогатевший на спекуляциях мошенник возмечтал приобрести собственность и облюбовал понравившийся ему особняк – символ ближайшей победы над большевиками. Правдами и неправдами спекулянт добивается осуществления мечты и, разумеется, терпит крах. Но кое-какие успехи у него были, и эти-то успехи должны служить нам предостережением – таков был смысл повести „Особняк“.
Мои намерения были изображены рапповской критикой как гимн мещанству, успешно защищающему свою собственность!» (ЛА)
Критика 1920-х годов была достаточно прозорлива, чтобы увидеть в «Особняке» не только гимн мещанству, но и – совершенно справедливо – иронию над революцией. Полемику вокруг рассказа открыла статья А. Безыменского в «Комсомольской правде», где автор открыто назвал повесть «сигнализацией классовому врагу» и призвал к «большевистской зоркости» и «непримиримости <…> к вылазкам врагов» (Безыменский А. Тайное тайных, или яснее ясного // Комсомольская правда. 1928. 22 нояб. С. 3). Безыменский и вместе с ним критики журналов «На литературном посту» и «Революция и культура», в целом отождествляя позиции героя и автора, наперебой говорили о «буржуазности» Вс. Иванова. М. Гельфанд в статье «От „Партизан“ к „Особняку“» утверждал: «То обстоятельство, что социальные вожделения Е. С. Чижова осуществляются наперекор совершенно не отвечающей им действительности, особенно ярко подчеркивает буржуазный характер нынешнего творческого этапа Вс. Иванова» (Революция и культура. 1928. № 22. С. 75). Беря под защиту не столько Вс. Иванова, сколько «свой» «Журнал для всех», критик Д. Пажитнов осудил «непристойный шум» вокруг повести, которая, на самом-то деле «сигнализирует нам, сигнализирует всему рабочему обществу: смотрите, как устраиваются, растут, подымаются Ефимы Сидорычи Чижовы!» (Журнал для всех. 1928. № 4. С. 114). Критики из «На литературном посту», впрочем, наивными не были и, возражая Д. Пажитнову, легко показали при помощи сопоставления ивановского «Особняка» с «ярким и интересным» рассказом Н. Тихонова «Река и шляпа», что один писатель, Н. Тихонов, изображая мещанина, «знает, что существует жизнь», которая «весела, радостна, красочно-фантастична», а Вс. Иванов «рисует всю современную жизнь, скучной, невеселой <…>, в которой можно жить и побеждать только доносом, только обманом» (Библиография // На лит. посту. 1929. № 1. С. 70–71. Подпись: Н.Н.). То, что «ивановский апофеоз ироничен» (Лежнев А. Разговор в сердцах. М., 1930. С. 179) разглядели и В. Полонский, и Д. Тальников, и другие, но в целом «социальный пессимизм» автора назвали «крупнейшим социальным недостатком рассказа, <…> с которым писателю надо бороться» (Тальников Д. Литературные заметки // Кр. Н. 1929. № 1. С. 235). Журнал «На литературном посту» поместил карикатуру Кукрыниксов на автора «Особняка», которая сопровождалась стихами А. Архангельского под заглавием «Особнячок»: «Беги скорей, читатель, без оглядки: / С Ивановым бывает нынче так: / Живых людей хватает он за пятки / И тащит в свой ужасный особняк. // И мрачно всем выматывает жилы, / И ловко превращает в слезы смех, / И веет тленным запахом могилы, / Открытой, к сожалению, „для всех“» (На лит. посту. 1929. № 11–12. С. 124).
Определенный итог обсуждению «Особняка» подвел весной 1929 г. журнал «На литературном посту»: «…факт уже налицо: Вс. Иванов восстал против революции ради защиты „чумазого“, – он оправдал и „благословил“ наступающего на революцию буржуа, революцию изобразил в образе комиссара Петрова – рвача, пьяницы и матерщинника» (Рыжиков К. Оптимизм и пессимизм Вс. Иванова // На лит. посту. 1929. № 14. С. 60).
(1) Началось это все с того ~ с большой прибылью – В эпизоде использован реальный факт из биографии друга юности Вс. Иванова, сибирского поэта К. Худякова, который в 1917 г. повез из Кургана в Петроград на продажу крендели и свою книгу стихов «Сибирь»: «Поезд шел долго, крендели мы не догадались высушить, он повез их свежевыпеченными, и они по дороге начали плесневеть. По приезде он сидел несколько дней в номере гостиницы и счищал ножичком плесень с кренделей. Крендели он продал, но книги „Сибирь“, моего издательства привез обратно» (Иванов Вс. Кондратий Худяков // СС-3. Т. 8. С. 277). Сходство биографического эпизода из жизни реального лица и вымышленного героя случайное: ни характер, ни судьба К. Худякова ничем не напоминают биографию героя повести Е. С. Чижова.
(2) …привезли в город великого князя Б., – как носились слухи, – претендента на русский престол. ~ Великий князь Б. вначале был поселен во дворце Строгановых, огромном, украшенном колоннадой, здании на Соборной площади. – Великий князь Б. (в автографе – Константин) – образ собирательный. Судьба героя отразила реальную трагическую судьбу великих князей династии Романовых: Михаила Александровича (1878–1918) – брата Николая II, казнен большевиками в Перми (по другим данным – 13 июля 1918 г. в Мотовилихе); Сергея Михайловича (1869–1918) – двоюродного дяди Николая II, казнен 18 июля 1918 г. под Алапаевском; Дмитрия Константиновича (1860–1919) – троюродного дяди Николая II, расстрелян в январе 1919 г. в Петропавловской крепости; Николая Михайловича (1859–1919) – двоюродного дяди Николая II, расстрелян там же; Павла Александровича – дяди Николая II, расстрелян там же.
Если допустить, что Вс. Иванов с самого начала работы над рассказом имел в виду Екатеринбург, то сюжет о великом князе в рассказе «Особняк» можно считать своеобразным откликом писателя на страшную смерть императора и членов царской семьи в Екатеринбурге в июле 1918 г. Описанный в рассказе особняк, выходящий на Соборную площадь, имеет некоторые черты дома Ипатьева – «Дома особого назначения» в Екатеринбурге, где до расстрела находилась под стражей императорская семья: «На Вознесенском проспекте <…> располагалась просторная Вознесенская площадь, обязанная своим названием выдержанному в голубых и белых тонах барочному Вознесенскому собору, высившемуся в центре ее. <…> Огромный Харитоновский дворец, с его балюстрадой из неоклассических колоннад-портиков, заполнял всю северную сторону площади. <…> Особняк, купленный И. Ипатьевым в 1908 г. <…>, был одним из самых изысканных частных домов в Екатеринбурге, <…> находился прямо напротив Вознесенского собора» (Кинг Г., Вильсон П. Романовы: Судьба царской династии. М., 2005. С. 191–194).
Семья Строгановых, крупнейших российских купцов и промышленников XVI–XX вв., дворца в Екатеринбурге не имела. Дома Строгановых были в Петербурге, Москве (и ближайших районах), Новгородской, Псковской губерниях (см.: Кузнецов С. Дворцы и дома Строгановых: Три века истории. М., 2008. С. 8–23).
(3) …съездил на польскую войну… – Имеется в виду польская кампания 1920 г. – заключительный этап Гражданской войны.
(4) …по оппозиционному делу… – Партийная оппозиция оформилась в конце 1923 г. Сентябрем 1923 г. датируется письмо Л. Троцкого в ЦК РКП(б) и «Заявление сорока шести», подписанное участниками ряда оппозиционных групп («децистами», «левыми коммунистами», представителями «рабочей оппозиции»). В конце октября 1923 г. Пленум ЦК осудил действия Троцкого и Платформу сорока шести. На протяжении 1923–1926 гг. на Пленумах ЦК и ЦКК ВКП(б), XIV съезде ВКП(б), XV конференции ВКП(б) деятельность оппозиции осуждалась как фракционно-рас-кольническая, антипартийная. После январского 1926 г. Пленума ЦК ВКП(б) Г. Зиновьев, Л. Каменев и др. объединились с Л. Троцким, образовался союз «объединенная левая оппозиция». На июльском Пленуме ЦК и ЦКК она выступила с платформой, подписанной 13 видными ее руководителями: Троцким, Зиновьевым, Каменевым, Пятаковым, Лашевичем, Евдокимовым, Мураловым и др. Платформа была проникнута неверием в возможность построения социализма в СССР. Участники Пленума рассмотрели вопрос о деятельности лидеров объединенной оппозиции и отметили, что после XIV партийного съезда ее деятельность не только не прекратилась, но и усилилась. Был выведен из состава Политбюро Зиновьев, Лашевич исключен из кандидатов в члены ЦК. 14 ноября 1927 г. вопрос об антисоветских действиях лидеров троцкистско-зиновьевского блока рассматривали ЦК и ЦКК ВКП(б). Троцкий и Зиновьев были исключены из партии; многие активные деятели блока выведены из состава ЦК и ЦКК. В январе 1928 г. Троцкий с семьей выслан в Алма-Ату. Кроме лидеров, осенью 1927-весной 1928 г. были сняты с постов, арестованы и сосланы многие участники оппозиции и поддерживающие ее деятельность.
Подвиг Алексея Чемоданова*
Впервые: Кр. Н. 1928. № 2. С. 37–44.
В качестве самостоятельного произведения рассказ был опубликован один раз. В 1928 г. при подготовке СС-7 Иванов включил его в состав романа 1922–1923 гг. «Голубые пески», указав в предисловии к пятому тому: «Повесть „Голубые пески“, на основании вновь поступивших ко мне материалов, сильно переделана» (СС-7. Т. 5. М., 1929. С. 5). Первая часть рассказа, до слов: «Н–ский полк…», с незначительными исправлениями включена Ивановым в 1-ю главу книги 1-й романа «Голубые пески» – «Президент больших телег». Писатель сократил 1-й абзац и провел ряд замен: имя «командира Н–ского стрелкового полка Алексея Митрофановича Чемоданова» – на имя «Василий Запус», «полк» – на «отряд матросов», «уральские степи» – на «сибирские», Олонки – на Ишим, станцию Нанья – на Омск. Вторую часть рассказа, начиная со слов «Утро было свежее, звонкое…», Иванов вставляет в 8-ю главу 2-й книги «Огород Богородицы». При этом сокращается весь абзац: «Н–ский полк ~ и на ячейку, и в бригаду». Эта часть рассказа состоит из двух эпизодов: воспоминание Чемоданова о поющей женщине и описание сражения, в котором герой погибает. В первый эпизод добавляется часть фразы: «…рассказал Лубе о Христине Васильевне, некогда встреченной им в городе Ишиме. Луба смотрел на Запуса сочувственно и ничего не понимал – да и Запус не понимал, зачем он это рассказывает», – и опускается фрагмент текста: «Видимо, в бригаде ~ скрытая каверза Лубы». «Бригада» в новой редакции меняется на «ревком», «красноармейцы» – на «красногвардейцев» «рота» – на «отряд». Вводится упоминание об атамане Трубачеве – герое романа «Голубые пески». Последний абзац рассказа, с заменой «подвиг Алексея Чемоданова» на «историю жизни Васьки Запуса и описание его гибели» и топонима «Астрахань» на «Голодная степь» переведен в «Эпилог» романа.
В последующих изданиях романа (1933, 1937, 1958) указанные изменения сохранены.
История текста рассказа «Подвиг Алексея Чемоданова» и тесно связанная с ней история текста романа «Голубые пески» еще раз указывает на то, что в 1928 г. Вс. Иванов стремился по-другому написать историю Гражданской войны в России, показав ее с тех новых позиций, которые дала ему работа над книгой «Тайное тайных». Это прекрасно поняла критика 1920-х годов, что и вызвало однозначную реакцию – неприятие. «…Последние произведения Вс. Иванова („Подвиг Алексея Чемоданова“ и „Гибель Железной“. – Е. П.) не дают основания говорить о желаемом повороте», – писал в одной из первых рецензий В. Ермилов, споря с теми, кто в темах Гражданской войны увидел возвращение Иванова к прежним, революционным мотивам его творчества (Ермилов В. Еще о творческих путях пролетлитературы // На лит. посту. 1928. № 6. С. 17). «Этот рассказ представляет собой блестящее достижение Вс. Иванова, – если предположить, что автор поставил своей задачей разоблачить бессилие „ratio“ перед всесильным господством подсознательного», – иронизировал критик, при этом указывая на особенность творческой манеры писателя, которая впоследствии будет названа исследователями конца XX в., в частности Вяч. Вс. Ивановым, одной из черт «фантастического реализма»: «В общем, казалось бы, в совершенно реалистическое описание вдруг вторгается некий, по существу своему резко противоречащий всему реалистическому тону, неожиданный, непонятный, „небывалый“ факт. <…>…у Вс. Иванова (в отличие от „остранения простого“ у Л. Н. Толстого) мы имеем опрощение странного, в смысле „обуднивания“ его, протаскивания в будни загадочного и алогичного» (Там же. С. 18). Таким фактом, необычайным для атмосферы 1919–1920 гг., по мнению критика, является пение таинственной женщины.
Как «загримированных персонажей „Тайное тайных“» рассмотрел героев рассказа В. Полонский: «Его (Чемоданова. – Е. П.) беспокоят те самые мысли и ощущения, томившие героев „Тайное тайных“» (Полонский, 234).
Истребительной критике подверг рассказ А. А. Фадеев в программной статье «Столбовая дорога пролетарской литературы». Назвав Иванова «наиболее ярким и последовательным представителем <…> „иррационалистической линии“ в современной советской литературе», Фадеев резко отрицательно оценил «задачу» писателя в рассказе: «…показать, что человек, сам руководимый велениями „психической первичной силы“, никогда не в состоянии понять того, что происходит, потому, что все окружающее живет по тем же стихийным, не поддающимся объяснению законам». О возможном «дальнейшем пути» Вс. Иванова Фадеев писал: либо «…он перейдет все-таки к более реалистическим мотивировкам, либо, углубляя эту манеру, он неизбежно скатится к откровенному мистицизму» (Октябрь. 1928. № 12. С. 178).
(1) Не дивитесь, друзья, / Что не раз между вас / На пиру веселом я призадумывался… – Романс «Друзьям» (1826) на стихи С. Е. Раича (1792–1855).
Гибель Железной*
Впервые: Кр. Я. 1928. № 1. С. 3–57.
«Недавно окончил повесть „Гибель Железной“» (С. 342), – сообщал Вс. Иванов А. М. Горькому в письме от 10 января 1928 г. Очевидно, что об этой же повести идет речь в письме Горькому от 28 октября 1927 г.: «Работать мне здесь над большой вещью, вы угадали, – трудно, и не потому, что у меня нет помещения или нет денег. <…> У меня нет спокойствия, нет уверенности в себе и, должно быть, плохо развито чувство честолюбия» (С. 340).
Работа над новым произведением о Гражданской войне совпала по времени с постановкой в МХАТе самого знаменитого произведения писателя на эту тему-пьесы «Бронепоезд 14–69». Созданная в начале 1927 г., к 10-летию советской власти, на материале одноименной повести 1921 г. пьеса была поставлена в рекордно короткие сроки – три месяца и, несмотря на временное запрещение Главреперткома (август 1927), с успехом шла в Москве. О двойственном отношении автора к своему произведению свидетельствуют признания в письмах Горькому: «Главрепертком запретил пьесу как недостаточно революционную. Что им еще революционнее может быть – бог их знает…» (письмо от 6 сентября 1927 г. – С. 338); «Я боюсь только одного, чтоб это не было настолько патриотично и фальшиво, что через год и смотреть будет невозможно» (28 октября 1927 г. – С. 339). Еще в сентябре 1926 г. Вс. Иванов писал Горькому о постановке «Белой гвардии» («Дни Турбиных») М. А. Булгакова: «Пьеса <…> будет иметь большое общественное значение вроде „Власти тьмы“<…> Пьеса бередит совесть, это жестоко. И хорошо ли не знаю. Естественно, что коммунисты Булгакова не любят. Да и то сказать – если я на войне убил отца и мне будут каждый день твердить об этом, приятно ли это?» (С. 331–332). При всех своих несомненных достоинствах пьеса «Бронепоезд 14–69» «совесть не бередила». Возможно, потребность написать о Гражданской войне по-другому и продиктовала Вс. Иванову замысел повести «Гибель Железной», откровенно полемичной по отношению к революционному «Бронепоезду», особенно в его переделанной после запрещения редакции.
Над «Гибелью Железной» Иванов работает в 1927 г. – в гуле критики ТТ, но от добытого в рассказах о Гражданской войне опыта он явно не собирается отказываться. «Почему-то нужно было показать триумфальное шествие революции, – почему, впрочем, вопрос праздный, понятно почему, но триумфальное шествие мнилось без потерь. Из-за этой ложной скромности редко показывались страдания народа во время гражданской войны, а они-то и подчеркнули бы героизм народа», – так позже, в 1950-е годы, он откомментирует свою позицию (ЛА).
Об истоках замысла «Гибели Железной» Вс. Иванов писал по-разному. В 1928 г., готовя 5-й том СС-7, писатель сопроводил текст повести вступлением: «В „Гибели Железной“ частично использованы воспоминания тов. Дегтярева „Политотдел в отступлении“, напечатанные в журнале „Пролетарская революция“. Романтическая интрига и характеры частью выдуманы, частью сделаны по истории N-ского Сибирского полка из бывших алтайских партизан. Некоторые фамилии из воспоминаний тов. Дегтярева прельстили меня своим непонятным мне очарованием, владельцев их я не видал и не знаю, и мне было б больно, если б очерченные моим пером герои „Гибели Железной“ своими поступками как-то огорчили однофамильцев из „Политотдела в отступлении“ – заранее приношу им свои извинения» (СС-7. М., 1929. Т. 5. С. 5).
Спустя почти 30 лет в «Истории моих книг» Вс. Иванов рассказывал об истории создания повести иначе: «На Украине красноармеец поведал мне о подвиге Железной дивизии – героическом штурме города, сильно укрепленного белыми.
Эти воспоминания красноармейца я положил в основу повести „Гибель Железной“, использовав также 2–3 абзаца из мемуаров одного военного» (Наш современник. 1958. № 1. С. 170). Написано это, конечно, с учетом факта, что «один военный», Леонид Сергеевич Дегтярев (1894–1940), в 1937 г. был арестован, обвинен в участии в эсеровском мятеже в июне 1918 г. в Москве и в создании террористической организации, а 14 февраля 1940 г. расстрелян.
В очерке Л. Дегтярева, в 1920 г. начальника политотдела 58-й стрелковой дивизии, рассказывается об одном из завершающих эпизодов Гражданской войны – борьбе с белополяками на Украине. Хронологические рамки очерка – от 26 апреля (взятие Житомира поляками) до середины июня 1920 г. (упомянуто взятие Красной Армией Киева в ночь с 11 на 12 июня). Дегтярев документально описывает события – длительное отступление политотдела, потерявшего связь с дивизией, отмечает «импровизацию, неорганизованность и т. д. – к сожалению, черты, свойственные частям того времени», обращая внимание на «часто встречающиеся враждебное отношение крестьян к красноармейцам (Дегтярев, 222), панику, бестолковую суету (Там же, 221, 230), дезертирство, бунт пластунского полка (Там же, 237), растерянность командиров» (Там же, 231) и т. п. Документально точное описание Гражданской войны, возможно, и привлекло внимание к очерку Вс. Иванова, в 1918–1920 гг. наблюдавшего военные события в Сибири.
«Повесть <…> назвали берсонианской и фрейдистской, а попытку использовать мемуары – плагиатом» (Наш современник. 1958. № 1. С. 170), – вспоминал Иванов в «Истории моих книг». Практически сразу после публикации «Гибели Железной» началась кампания обвинения Иванова в плагиате, инициированная автором очерка. В марте 1928 г. возмущенный Л. Дегтярев отправил статью в «Красную новь», а затем в «На литературном посту», но не получил ответа. 14 июля в «Комсомольской правде» была напечатана статья И. Ломова «Изуродованная история», в которой автор, сопоставив «идентичные» эпизоды и фразы из очерка и повести, делал вывод: «Иванов взял весь исторический ряд боевых и бытовых эпизодов, со всеми живыми людьми из воспоминаний т. Дегтярева и только присочинил к ним психологию, эротику и романтику по готовым рецептам литературных традиций» (Комсомольская правда. 1928. 14 июля. С. 3). Еще через месяц газета публикует письмо самого Дегтярева «Заговор молчания», автор которого, во многом повторяя Ломова и указывая на ошибки, допущенные невоенным человеком Ивановым (разведка скачет с большим черным знаменем и т. п.), подчеркивает главное отличие своего очерка от повести Иванова: «Основной идеей очерка <…> было показать роль партийной организации и политической работы в войне 1920 г. <…> И вот этой организующей роли партии <…> не понял Иванов. В этом главное искажение исторической правдивости» (Там же. 12 авг. С. 2).
Следующим этапом дискуссии о плагиате стала статья в журнале «На литературном посту» с характерным заглавием «Не плагиат, но хуже». Ее автор, скрывшийся за инициалами В.Е., признает талант Иванова, создавшего «эмоционально сильное и действенное произведение», в отличие от «слабых и неярких записок Дегтярева». И если бы нашелся другой писатель, который сумел бы показать «исключительно интересный процесс <…>, как политработникам-коммунистам удалось восстановить дисциплину в бригаде и завоевать доверие крестьян», то использование документальных материалов «можно было бы только приветствовать» (На лит. посту. 1928. № 17. С. 13). Но Иванов пошел по иному пути, делает вывод критик, распространив психологический метод 7У на социальный материал. Следование по избранному пути, недвусмысленно предупреждал критик, приведет к тому, что писатель Вс. Иванов «в СССР нужен не будет» (Там же).
Использование документальных материалов – «литературу факта» – во 2-й половине 1920-х годов широко пропагандировали прежде всего теоретики и критики группы ЛЕФ: «…автор статей заготовляет факты, цифры, выражения, беллетрист больше заготовляет изобразительные средства, детали описания, удачные слова, но оба работают не сразу, а имея на руках какой-то полуфабрикат. Конечно, беллетрист тоже нуждается в фактах, и вещи Толстого основаны на большом историческом материале, и без него сделаны быть не могут» (Шкловский В. Техника писательского ремесла. М.-Л., 1928. С. 26). Не удивительно, что напостовцы, не развивая дискуссию о плагиате, обратили внимание на главное – «враждебность позиции Иванова основным организующим силам современности – партии и пролетариату» (На лит. посту. 1928. № 17. С. 14).
Действительно, Вс. Иванов использовал большие фрагменты из текста записок Дегтярева: эпизоды встречи бригады с красноармейцами, переодетыми в петлюровцев; бунт пластунского полка, диалог с начальником бронепоезда, встреча с агентом ЧК и др. Совпадали хронологические рамки событий, имена действующих лиц (Гавро, Кабардо), топонимы (Борисполь, Фастов, Коростышевские леса и др.). При этом Иванов существенно меняет исходный текст, создавая произведение, открыто полемичное по отношению и к очерку Дегтярева, и к тогдашней литературе о Гражданской войне в целом. Половецкую республику, которая упоминается в одной строке очерка («вошли в область знаменитой Половецкой волости, известной своими бандами и своей Половецкой республикой, „независимой“ при всех властях» – Дегтярев, 233), писатель превращает в мощный символический образ, отразивший реальные попытки создания религиозных крестьянских правительств в послереволюционное время и в целом передающий народное, мужицкое понимание революции. «Мужицкий царь» Бессонов наделяется именем, биографией и трагической судьбой. Выдержанное в поэтике абсурда описание поездки политотдела с трупом Бессонова по восставшим деревням еще более подчеркивает страшное безумие происходящего. 58-я стрелковая дивизия, нигде в очерке Дегтярева не названная Железной, становится у Иванова воплощением мужицкой мечты о справедливости и, в отличие от реальной, целиком погибает при штурме Киева. Автор очерка, уверенный в себе начальник политотдела 58-й дивизии, в повести представлен как бывший парикмахер И. Плешко, сомневающийся во всем, мечтающий о любви и красивых, старых словах, не выносящий крови и насилия. Полностью изменен Вс. Ивановым финал очерка. У Дегтярева в заключительной главе политотдел в Борисполе соединяется с дивизией, радостное событие ознаменовано детским праздником, перед красноармейцами открываются крестьянские амбары: «С этого момента начинается блестящее наступление на поляков от Днепра до Вислы, полное самых прекрасных страниц» Дегтярев, 245). У Иванова все иначе. В 22-й главе не без иронии описывается, как «в полном составе <…> политотдел мчится к ней (дивизии. – Е. П.) по шоссе», однако само воссоединение (гл. 23-я) передано автором в стиле мрачного гротеска: несокрушимую дивизию представляют красноармейцы, на лицах которых, как «у очень старых людей», написано нежелание «спать, есть, разговаривать»; хмурые начальники; солдаты, играющие в карты на фоне пыльного садика с деревянным обелиском «Памяти жертв белогвардейского террора» в сочетании с сушившимися синими подштанниками. К обозам с хлебом красноармейцы бегут, как «к убийце бежит толпа». Мысль о том, что тяжелый путь «великих партизан», «стариков-сибиряков» был напрасным, очевидно звучит в 25-й главе ивановской повести. Как и в очерке Дегтярева, упомянуто, что «мужик <…> закрома открыл», но далее у Иванова следует гибель мужиков, в описании которой символически переосмыслен образ хлеба: мужики идут на смерть, «как идут спокойные хлеба в печь»; «ветер – теплый, пахнущий хлебом», наполняет голову умирающего Болдырева. Вместо руководящей роли партии Иванов показывает, как комиссар Плешко во время решающего сражения сидит в палатке политотдела, дожидаясь приказа, видит гибель красноармейцев – «мужиков» (слово «мужицкий» повторено на двух страницах пять раз), «охотников», «рыбаков», а сам так и не вступает в бой. В финале повести акцентированы ключевые темы ТТ – тема матери, не сумевшей уберечь сына от гибели, духовной пустыни, богоотступничества человека.
Было бы удивительно, если бы подобное произведение, появившееся к 10-летию революции, не признали «клеветническим».
Повесть «Гибель Железной» публиковалась в несколько этапов. 20-я и 21-я главы печатаются в январе 1928 г. в «Красной газете» и сопровождаются следующим редакционным предисловием: «В повести рассказывается о том, как политотдел Железной дивизии, состоящий в большинстве из сибирских партизан, при разгроме Житомира поляками остался в тылу противника. Начальник политотдела т. Плешко сформировал из разгромленных частей сводную бригаду, которая двинулась на розыски Железной, отступившей под натиском поляков к Киеву.
Бригада мечется в тылу противника, ищет Железную, претерпевая всяческие несчастья и удачи. В районе так называемой „Половецкой республики“ бригадой был пойман и убит глава „республики“ бандит Бессонов…» (Красная газета. 1928. 15 янв. С. 4).
Напечатанный в «Красной газете» текст отличался от опубликованного в «Красной нови». В повести бригада (политотдел) идет по территории Украины, на это в газетной публикации есть два указания: «Запах от сушившихся онучей, слякоть и грязь и все отвратительное зловоние полей и тесные грязные хаты – то, что всегда называется прекрасной Украиной», «А ведь пишут: окрестности, красота… Украина!» (в «Красной нови» слово «Украина» исправлено на «гадость»). В «Красной газете» также отсутствовали фразы: «Они бегут, чтобы увезти его (золото и серебро. – Е. П.) с собой в Сибирь, а Железную надо заманить к „половецким“, разбить»; «Феоктисте нужна была любовь! Она любила и, наверное, хотела чем-то доказать свою любовь, хотя бы тем, что перед мужиками надеть бриллианты Железной дивизии».
Включая повесть в СС-7, Вс. Иванов внес в текст журнальной публикации (и идентичный ему текст отдельного издания 1928 г.) ряд исправлений: «При малейшей измене – расстрел»; «…усталая крестьянская масса, состоящая большей частью из сибиряков… трудно ее вести»; «Возможен совершенно неожиданный конец этим разговорам. Конец и от мужиков, которые к нам бегут и у нас остаются». И т. п.
При включении повести в СС-2 текст подвергся основательной редакторской переработке. Ее смысл точно передан в редакторском заключении на 2 том от 28 февраля 1958 г.: «Сделаны купюры политически неверных мест и внесены исправления. <…> автор отказался от ряда натуралистических мест. Исключены некоторые характеристики и эпизоды, снижающие образы положительных героев» (РГАЛИ. Ф. 613. Оп. 10. Ед. хр. 1379. Л. 26–27). К «политически неверным» фрагментам, очевидно, были отнесены следующие: «Железная дивизия бежала» – заменено на «отступила» (2-я глава); «Я и в партию-то <…> пошел из-за красивых слов» – заменено на: «красивой мечты» (5-я глава). Исключены фрагменты текста: «Да и что можно назвать изменой: бегство, дезертирство, предательство! План действий, составленный им, неясен; направление сводной бригады по киевскому шоссе совершенно необоснованно» (4-я глава); «Назначенный комиссар и комиссар по продовольствию сбежали. В бандиты сбежали, иначе куда!» (9-я глава); «Когда бригада двинулась, мужики (надо думать, напуганные безмолвием и вежливостью солдат и тем, что село не разгромлено) вышли за околицу…» (22-я глава); «Над нею реденькое, как плохой ситчик, небо. И умирать под этим небом и тонуть в этой скучной реке противно и тяжело» (25-я глава); «Вот прошли охотники из-под Иркутска. Он увидал одного торговца пушниной – этого-то зачем потянуло на смерть» (Там же); «Они идут спокойные, покрытые сединой, как идут спокойные хлеба в печь» (Там же); «Железная дивизия погибла целиком» (Там же). И т. п. Символический образ Железной дивизии в результате редактуры был упрощен и обеднен: «…Железная дивизия не пропала и не пропадет, хотя она сейчас и без политотдела, без коммунистов. И даже не важно, если Плешко и его друзья не вернутся к дивизии, а сгинут вот тут в лесах в какой-нибудь Половецкой республике. Железная дивизия есть справедливость, та хорошая мужицкая справедливость, которая лучше всякой грамоты охранит картофельное поле, пашню, покос».
В результате редакторской правки из описаний «положительных героев» были исключены слова: «И у этого человека, страдающего ишиасом, большой семьей и вечным недовольством жизнью, было тоже веселое <…> лицо!» (Пыхачев); «Вот Пузыревский – тупой и исполнительный»; «Вот мы все плохие люди, и я плохой человек прах их знает, по каким гнусным девкам я шлялся… но все же» (Щербаков). И т. п.
В первом критическом отклике на «Гибель Железной» (Читатель и писатель. 1928. 11 февр. С. 9) отмечалось, что повесть воспринята как ожидаемый от Иванова «решительный ответ на все вопросы, поставленные в связи с оценкой „Тайное тайных“ как опасного пути писателя. <…> То, что автор взялся снова за тему гражданской войны, с первого взгляда могло бы послужить хорошим признаком, – писал критик Кремнев. – К сожалению, <…> ни в каком другом произведении Иванова „подсознательное“ <…> не играло такой большой роли. <…> Это только резче подчеркнуло всю трагичность сегодняшней позиции автора». В обзоре периодики журнала «На литературном посту» за февраль повесть Иванова сопоставлялась с романом А. Фадеева «Разгром»: «Тема здесь взята очень схожа с „Разгромом“. Но если „Разгром“ – произведение, сделавшее в известном смысле „эпоху“, то „Гибель Железной“ вызывает целый ряд тревожных сомнений» (1928. № 4. Подпись: Н.Н.). Сравнивая поведение Левинсона и Плешко в разных ситуациях, критик подчеркивал, что первый «всегда был спокойным организатором, не поддававшимся панике, спокойно ориентировавшимся в неблагоприятных обстоятельствах», в то время как второй «барахтается в волнах событий, слепо идет на те или иные решения» (Там же).
Безусловно, создавая «Гибель Железной», Иванов вступал в полемику с «Разгромом», написанным за год до его повести и ставшим своеобразным образцом в раскрытии темы Гражданской войны. Сюжет повести Иванова очевидно схож с фадеевским: путь политотдела (у Фадеева – партизанского отряда) и главное сражение, завершающееся гибелью всей дивизии (у Фадеева – большей части отряда). Но если применительно к произведению Фадеева критики имели полное право писать: «Озаглавленная „Разгром“ <…> повесть А. Фадеева могла бы быть озаглавлена и иначе – поэма о рождении нового человека» (Фриче В. Заметки о современной литературе. М., 1928. С. 132), – то повесть Вс. Иванова оснований для столь оптимистических выводов не давала. Ее финал, с интонацией народного плача-причитания и образом пустыни, резко контрастировал с устремленными в будущее заключительными строками романа «Разгром»: «Левинсон обвел <…> взглядом это просторное небо и землю, сулившую хлеб и отдых…» (Фадеев А. Разгром. Л., 1927. С. 213).
В центре художественного исследования Фадеева – новый человек, призванный «изменять то, что есть, и управлять тем, что есть» (Там же. С. 148). В соответствии с таким решением онтологического вопроса создает Фадеев, вслед за Горьким, центральный образ командира Левинсона, с горящим факелом ведущего отряд через трясину, – вспомним бездействие Плешко во время сражения. Как бы полемизируя с Фадеевым, Иванов наделяет своего центрального героя практически всеми качествами, присущими «никчемному» Мечику: постоянными сомнениями, склонностью к самоанализу, мечтой о любви, отвращением перед кровью и насилием, – но при этом не делает его ни эгоистом, ни предателем. «Способность жить не своей, а общей жизнью коллектива и есть основная черта „настоящего героя“», – писал В. Фриче о романе «Разгром» (Фриче В. Указ. соч. С. 137). Образ «настоящего героя» в «Гибели Железной» иронически переосмыслен автором: слово часто употребляется в несвойственном ему сниженном контексте: «Пора ягод и героев»; «Герои героями, а кто командовать массой будет» и т. п. Наконец, еще одна линия полемики со знаменитым фадеевским романом связана с вопросом о роли мужика в Гражданской войне. Железная дивизия у Иванова – прежде всего мужицкая дивизия. Сравним у Фадеева: «Не люблю я их, мужиков <…> кровь другая: скупая, хитрая, трусы они все…» – рассуждает Морозка (Фадеев А. Разгром. С. 135).
С течением времени «Гибель Железной» все больше рассматривалась советскими критиками как произведение «враждебное, разрабатывающее с чуждых нам классовых позиций тематику гражданской войны» (Варшавский С. Борьба продолжается // Залп. 1932. № 2. С. 45). Автор статьи, построенной на противопоставлении писателей, которые «дали в основном правильное отображение гражданской войны» (Д. Фурманова, А. Серафимовича, А. Фадеева, Вс. Вишневского), и «реакционных писателей» – М. Булгакова («Белая гвардия») и Вс. Иванова («Гибель Железной», «Блокада») – «проводников новобуржуазной идеологии», вновь и вновь подчеркивал «власть инстинктов, ощущений и подсознательных влечений», «господство стихии» и «мрачный фатализм» произведения Иванова.
Говоря о литературном контексте повести Иванова, нельзя не упомянуть поэму С. Есенина «Страна негодяев» (1922–1924), в которой, как и в «Гибели Железной», речь идет о борьбе с бандитизмом – характерной примете времени. В 1920-е годы бандитами чаще всего называли восставших против Советской власти зажиточных крестьян – «кулаков» и казаков, «защищавших свое имущество», образы которых в литературе рисовались, как правило, самими негативными красками. В поэме С. Есенина, напротив, вскрывались иные, подлинные истоки крестьянского бандитизма: «Банды! Банды! / По всей стране / Куда не взглядись, куда не пойди ты – / Видишь, как в пространстве, / На конях / И без коней, / Скачут и идут закостенелые бандиты. / Это все такие же / Разуверившиеся, как я…» (Есенин СА. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 109). За год до начала работы Есенина над «Страной негодяев» Вс. Иванов в рассказе «Лоскутное озеро» (1921) рассказывал о мужике-дезертире Андрейше, который, после того как не осуществилась мечта крестьян, спасаясь от кровопролития красных и белых, уйти на «спокойные земли», «пашню понюхать» (СБ. С. 103), идет в «чернобандисты». Вероятно, в 1925 г. Иванов дописывает вторую часть рассказа – «Чернобандисты», где жестокие и к ячеешникам-большевикам из Кумынии, и к простым крестьянам бандиты показаны мужиками, тоскующими по «избяным запахам», вспоминающими о покосах. Их по-прежнему «трава-земля зовет» (Иванов Вс. Пустыня Тууб-Коя. М.-Л., 1926. С. 107).
Авторская характеристика бандитов из рассказа, которому Вс. Иванов дает новое заглавие «Андрейша», переходит в повесть «Гибель Железной»: «бандиты сами сенокосом занялись». Мужики-бандиты из Половецкой республики и мужики-красноармейцы Железной дивизии сближаются Вс. Ивановым в своем желании работать на земле («давеча мужики дивизионные жалуются: к уборке не попасть»).
Непохожий на бандита «обыкновенный мужик» из деревни Калитва в романе А. П. Платонова «Чевенгур» – еще один персонаж, родственный по духу ивановским бандитам из села Бессоновка. Внутренняя близость существовала и между произведениями Платонова и Иванова, время работы над которыми практически совпадало. В 1927 г., по свидетельству Т. В. Ивановой, на недолгое время произошло сближение двух писателей: А. Платонов бывал дома у Вс. Иванова на Тверском бульваре, 14, хорошо знал его жену А. П. Иванову-Веснину, дружеские отношения с которой сохранились вплоть до 1940-х годов (см. об этом: Папкова Е. А. Муза автора «Тайное тайных» // Текстологический временник: Вопросы текстологии и источниковедения. М.: ИМЛИ РАН, 2012).
Вс. Иванов начала 1920-х, с его экзотичностью, яркостью красок, колоритными кряжистыми фигурами мужиков, безусловно, далек от А. Платонова. Но у Иванова периода ТТ есть с Платоновым важные точки соприкосновения. Буйная природа в произведениях Иванова как будто тускнеет: «…бригада шла Половецкой республикой, проселочными скучными дорогами, среди полей. Изредка попадались болотца, серые какие-то топи, и небо над унылыми и тощими полями было серое и скучное» («Гибель Железной»). Сравним: «…там, где ночью было страшно, лежали освещенные и бедные простые пространства <…> уже открывались воздушные виды на чевенгурские непаханые угодья, на сырость той уездной речки, на все печальные низкие места, где живут тамошние люди» (Здесь и далее роман А. Платонова цит. по: Платонов АЛ. Чевенгур. М., 2005. С. 191). В этом покинутом Богом мире, под «серым», «реденьким, как плохой ситчик» (Иванов), «безвыходным», «равнодушным» (Платонов) небом не лают собаки («от войны <…> разучились»), а люди маются, тоскуют и ищут правду. По пустынным дорогам этой России ходит мужик, называющий себя богом (Иванов «Бог Матвей» – Платонов «Чевенгур»), здесь в одиночестве поют неизвестные полоумные женщины (Иванов «Подвиг Алексея Чемоданова» – Платонов «Чевенгур»), а звуки Пасхальной заутрени и воспоминания о Пасхальной ночи (Иванов «Пустыня Тууб-Коя») не будят в душах людей света, они зовут «к тревоге и желанию, а не к милости и миру» («Чевенгур». С. 39).
Простые люди – крестьяне и бывшие крестьяне, «прочие» – оказываются в послереволюционной реальности в роли «строителей страны»: идеологема 1920-х годов обрывается в заглавии повести Платонова «Строители страны» и в тексте повести Иванова: «Мы все строители. <…> Раз живешь, значит строитель». Но в отличие от предлагаемой официальными идеологами «картины будущего», также совпадающей в некоторых деталях у Иванова и Платонова («поезда с ситцем и сукном, едущие в кооперативные деревни» – «Чевенгур». С. 242; «село будет освещено электричеством, и девки в шипящих новых ситцевых платьях, – грудастые и широкозадые, – в обнимку с парнями, горланя и смеясь, пойдут по улицам» – «Гибель Железной»), которая не трогает душу, тоскующие, задумавшиеся герои обоих писателей начнут «строить» свой коммунизм, осуществлять свою мечту. «Повесть „Строители страны“ переросла в конце 1927 года в широкое эпическое повествование об истоках и последствиях богозабвения в национальной истории, о страшных безднах и тупиках устроения мира на новых религиозных догмах» (Корниенко Н. История текста и биография А. П. Платонова (1926–1946) // Здесь и теперь. 1993. № 1. С. 116), – эта исследовательская формула пути Платонова и «Чевенгуру» помогает осмыслить и путь Иванова к повести «Гибель Железной», создававшейся в том же 1927 г.
(1) …поляки ворвутся в город… – Действие повести происходит во время советско-польской войны 1920 г. 25 апреля 1920 г. польские войска, объединившись с правительством Украинской Директории (военный договор между С. Петлюрой и Ю. Пилсудским подписан 24 апреля 1920 г.) начали наступление в направлении Одессы и Киева, нанося удары 12-й и 14-й армиям Юго-Западного фронта. 58-я стрелковая дивизия, ставшая одним из прототипов Железной, входила в состав 12 армии; город – имеется в виду Житомир.
(2) Падет Житомир… – Взятие поляками Житомира произошло 26 апреля 1920 г.
(3) Урянхайские дебри – обширные леса в Иркутском районе Сибири.
(4) …вызвал Плешко с крестьянской конференции… – В период установления советской власти на Украине проходили беспартийные крестьянские конференции. Об одной из таких конференций, состоявшейся в первых числах марта 1920 г., в сводке № 26 начупревкома от 3 марта 1920 г. сообщалось: «Работа конференции прошла с оживлением, везде принимались резолюции коммунистов; крестьянство выражает готовность поддержать всеми силами советскую власть и помочь в устранении разрухи. Заметно недовольство продовольственной политикой, указывалось на низкую цену на хлеб, на низкие нормы, оставляемые для хозяйства…» (цит. по: Шумов С, Андреев А. Махновщина. М., 2005. С. 170).
(5) Особый отдел – орган борьбы с контрреволюцией во время Гражданской войны. 19 декабря 1918 г. бюро ЦК РКП (б) постановило Военный контроль и фронтовые ЧК слить в единый орган – Особый отдел ВЧК, были образованы армейские Особые отделы. Положение об Особых отделах утверждено ВЦИК 6 февраля 1919 г. Право контроля за деятельностью Особых отделов было предоставлено Реввоенсоветам.
(6) Курс советских денег упал на пятьдесят процентов. – Белогвардейцы, захватывая области, ранее занятые большевиками, обычно аннулировали советские денежные знаки. Наоборот, приход Красной Армии означал признание недействительными всех несоветских денег. Больше всего от денежной инфляции страдали крестьяне, у которых «застревали» деньги правительств, часто менявшихся на Украине. Например, приказом № 8 от 20 января 1920 г. комендант Никополя Скалдицкий устанавливал, что «к приему подлежат деньги, кредитные билеты романовские, керенские, советские, украинские, думские, донские и купоны всех образцов» (цит. по: Шумов С, Андреев А. Указ. соч. С. 140).
(7) Чересседельник – часть конской упряжи – ремень, идущий от одной оглобли к другой и поддерживающий их (Даль IV, 593).
(8) …мужичонко Болдырев с любопытством смотрел на автомобиль, словно бы гадая: проскочит автомобиль под пулеметами али нет! – Аллюзия на известный эпизод из 1-й главы поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души» – спор мужиков о том, доедет телега до Казани или нет.
(9) Стреляли, знаете, по мосту ~ Пузыревский! – Этот эпизод комментировался в критике следующим образом: «Дегтярев мог уехать в автомобиле с начальствующим составом дивизии, но он „не согласился, не желая бросить на произвол судьбы своих политработников“.
Верный своему методу обработки Вс. Иванов факт отказа Дегтярева уехать в автомобиле переносит на Плешко, но дает этому факту совершенно иное объяснение (далее цитируется текст эпизода из повести. – Е. П.). <…> Ведь в этих строках содержится явная полемика с Дегтяревым. Вс. Иванов как бы говорит ему: вовсе у вас не было никакого сознательного решения остаться с политработниками. Просто на вас подействовало мгновенное представление – пули неприятеля могут попасть в машину, у вас возникло ощущение тошноты при виде крови <…>, и вы отказались поехать. Так Вс. Иванов развенчивает целеустремленность, волевую напряженность Дегтярева, обобщая и роль партии в гражданской войне» (На лит. посту. 1928. № 17. С. 12–13).
(10) Пластунский полк семнадцатой дивизии… – Пластуны – личный состав пеших команд и частей Черноморского и Кубанского казачьих войск в XIX – начале XX в.
(11) Вот Пузыревский – тупой и исполнительный ~ может пригодиться! – В СС-2 характеристики Пузыревского и Пыхачева были убраны редактором.
(12) Непредставительный, неудобный вид у комиссара! – Критики 1920-х годов обратили внимание на внешний облик героев «Гибели Железной». И. Н. Ломов, задавая вопрос: «Зачем нужно было Иванову делать революционера непременно уродливым?» – объяснял «деформацию фигур героев в сторону патологии» влиянием литературной традиции и желанием «подчеркнуть скучную интеллигентскую идейку, что „здоровый дух“ живет и в „больном теле“…» (Комсомольская правда. 1928. 14 июля. С. 3).
(13) При малейшей измене – расстрел. – В журнальной публикации слово «расстрел» отсутствовало. Вс. Иванов добавил его в текст СС-1, оно сохранилось в издании: «Обыкновенные повести» (Л., 1933) и вновь было снято редакторами в СС-2.
(14) …как ни страшны бандиты… – См. «Краткий обзор положения на Украине» от 15–30 апреля 1920 г.: «Украина переживает в настоящее время очередную волну восстаний. В Харьковской, Донецкой и Черниговской губерниях восстания носят определенно заносный характер и перекинулись туда из соседних Курской, Екатеринославской и Киевской губерний, в которых восстания носят уже вполне организованный характер. Так, в Екатеринославской губернии, главным образом Александровском и Павлоградском уездах, орудуют махновские партизаны. <…> В Киевской губернии оперирует ряд профессиональных бандитов (Струк, Кацуро), <…> плюс новоявленные батьки петлюровского оттенка. В Полтавской губернии орудуют несколько банд, причем одна из них (около 200 штыков) петлюровского характера, а остальные – мелкие шайки, не представляющие ввиду неорганизованности никаких опасностей. В Херсонской губернии расположилась банда Тютюнника в 2500 штыков, 700 сабель, занявшая г. Вознесенск. <…> В Екатеринославской губернии постоянным очагом махновщины является Александровский уезд с Гуляй-Поле („Махнополь“) <…> Махно „работает“ под лозунгом „беспартийных советов“, „самостоятельной Украины“ и уничтожения „коммуны“. Главный элемент его армии составляет все-таки беднейшая крестьянская молодежь…» (Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД: В 3 т. М., 1998. Т. 1. С. 25–260).
(15) …плакатами, на которых ~ польские паны в невероятных конфедератках, захлебываясь, вопили стихами Бедного… – Конфедератка – польский национальный мужской головной убор в виде четырехгранной шапки без козырька с кисточкой наверху.
Бедный Демьян (настоящее имя – Ефим Алексеевич Придворов) (1883–1945) – автор популярных в 1920-е годы сатирических и агитационных стихов, фельетонов, басен, песен. Произведения Д. Бедного с ноября 1917 г. выпускались в виде отдельных прокламаций, афиш и плакатов. В 1918–1920 гг. Д. Бедный работал в Окнах РОСТА.
(16) …книжки не просматривали? Рекомендую просмотреть и составить список. Могут быть полезные! – В очерке Дегтярева упомянут «полковой клуб какого-то полка, который представлял собой длинную телегу с двумя громадными, нарисованными на фанерах плакатами. При этом клубе оказалась маленькая библиотека» Дегтярев, 224).
Возможно, текст содержит аллюзию на наркомпросовские программы 1920-х годов, направленные на изъятие из библиотек старых книг, в том числе религиозных, сказок и русской классики, и заполнение их политической, антицерковной и антирелигиозной литературой, работами руководителей партии и т. п., задачей которых являлось воспитание нового человека. Часто они не были понятны читателю-крестьянину (см.: Корниенко Н. В. Массовый читатель 1920-1930-х гг. // Москва. 1999. № 6. С. 121–142).
(17) Плотный широколицый человек с гранатой… ~ Я агент транспортного чека! – Диалог с агентом транспортного ЧК с небольшой авторской правкой взят из очерка Дегтярева, ср.:
«Вдруг из двери комнатушки вылетает ко мне какой-то небольшой плотный человек с револьвером в одной руке, с ручной гранатой – в другой и весь увешенный оружием <…>. Обычный диалог:
– Кто вы?
– А вы кто?
– А вы?
– Нет, скажите вы?
– Я – агент транспортной чрезвычайной комиссии, – заявил он» (Дегтярев, 242). Дегтярев искренне восхищается «маленьким, всеми позабытым агентом», который «выполняет свой долг весьма добросовестно. Все вокруг него бежало и скрылось, вплоть до милиции, которая должна была охранять мирных жителей и их советскую власть, а вот одинокий агент чеки сидит себе на станции. Каждую минуту может на станцию явиться пара бандитов и убить его да еще причинить зверские мучения. <…> К сожалению, я не помню фамилии этого маленького честного советского труженика» (Там же, 243). Вс. Иванов, напротив, дает ему ироническую характеристику: «…хорошо бы с пяток таких героев насобирать».
(18) Петлюровцы – сторонники власти украинского политического деятеля Симона Васильевича Петлюры (1879–1926). С. Петлюра, член Украинской социал-демократической рабочей партии, был в числе организаторов Центральной Рады (1917) и Директории (1918) – центрального органа власти Украинской Народной Республики, которую возглавил с февраля 1919 г. В войне Советской России с Польшей Петлюра выступил на стороне Польши. В 1920 г. эмигрировал. Убит в Париже террористом, мотивировавшим свой акт местью за еврейские погромы на Украине.
(19) Мараловодство – разведение маралов, парнокопытных животных семейства оленей, для получения пантов – рогов, из которых изготавливают лекарства.
(20) …чех Гавро, командир интернациональной роты… – Об интернациональных частях см. примеч. 3 к рассказу «Смерть Сапеги». Л. Гавро являлся командиром 3-го Интернационального стрелкового полка, сформированного в сентябре 1919 г., а в 1920 г. входившего в состав 58-й стрелковой дивизии. О несоответствии облика и характера прототипа и литературного персонажа с возмущением писал Дегтярев в письме в «Комсомольскую правду»: «Можно ли <…> так охаивать людей революции, как это сделал тов. Иванов <…> По В. Иванову, тов. Гавро – чех, „сутулый и чем-то похожий на монгола“. Ходит он „оборванный, в лаптях и рваном картузе“. <…> Между тем, тов. Гавро красавец, прекрасно сложен, всегда был чисто и аккуратно одет, вспыльчив, горяч, беззаветно храбрый командир. Сейчас он работает на ответственном посту в НКВД» (Комсомольская правда. 1928. 12 авг. С. 2).
(21) Правительств с двадцать насчитается… – 31 октября 1917 г. власть на Украине переходит к Центральной раде, которая 7 ноября 1917 г. провозглашает Украинскую Народную Республику в составе Федерации России, а 11 января 1918 г. объявляет УНР независимым от России государством. 26 января 1918 г. Киев взят советскими войсками, создана Советская Украина. 1 марта 1918 г. в город вступает германская оккупационная армия, восстанавливается власть Центральной Рады. 29 апреля 1918 г. правительство Центральной Рады разогнано немецкой военной армией. К власти приходит гетман П. П. Скоропадский, глава провозглашенной им Украинской державы. 14 ноября 1918 г. начинается антигетманское восстание, поднятое СВ. Петлюрой. 14 декабря войска петлюровской Директории занимают Киев, провозглашено восстановление УНР. 6 февраля 1919 г. вновь устанавливается советская власть до 30 августа 1919 г., когда к власти приходит А. И. Деникин. 16 декабря 1919 г. советские войска вновь занимают Киев, вплоть до начала польской интервенции. Помимо названных официальных правительств, существовало также правительство Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР), созданное в Восточной Галиции Е. Петрушевичем, К. Левицким и др. (ноябрь 1918 г.); правительство Махно на части юга Украины (1918–1920 гг.) и т. п.
(22) От Половецкой республики… – В очерке Л. Дегтярева упомянута «Половецкая республика», находившаяся весной 1920 г. на правом берегу Днепра. Трудно дать однозначное истолкование этому названию. Согласно Второму универсалу УНР (4 марта 1918 г.) предполагалось перераспределение земель Украины. Половецкая земля территориально распространялась на Старобельский, Славяносербский, Бахмутский уезды с центром в Славянске (см.: Прщак О. Що таке Iсторiя Украiни // Вiсник АН УРСР. Киев, 1991. № 3. С 34, 37). Возможно, речь в повести идет об одном из крестьянских независимых правительств, которое возникло на этой территории. Есть упоминание о бандах Половецкого уезда в Оперативной сводке штаба украинской группы войск о положении на фронтах от 13 июля 1919 г.: «В Половецком, 20 верст юго-западнее Фастова, <…> бандами выставлено сторожевое охранение, население неспокойно…» (Гражданская война на Украине. Киев, 1967. Т. 2. С 226).
В то же время можно предположить, что в повести Иванова представлен собирательный образ, впитавший в себя реалии прошлой и настоящей жизни России. В 1840-1860-е годы в разных географических пунктах России возникали и функционировали крестьянские общежития на началах коллективной собственности на средства производства, кооперативных форм труда и быта. Таковы общежитие «Любовь Братства», основоположенное сельским дьяконом Николаем Поповым; общежитие, созданное Михаилом Поповым в качестве опыта претворения в жизнь своего учения об «Общем уповании»; общежитие «Союзное братство», устроенное последователем Михаила Попова, крестьянином Иваном Григорьевым, и др. (см.: Клибанов А. И. Народная социальная утопия в России. М., 1970. С. 327).
Известно, что создатель учения об «Общем уповании» М. Попов, которого крестьяне называли «праведный царь Михаил Акинтьич», в конце 1830-х годов был сослан в Сибирь, где в селе Обетованном продолжал дело создания крестьянского общежития. В том же селе продолжал свою деятельность также сосланный в Сибирь еще один защитник народного идеала Правды – Тимофей Бондарев (1820–1898). Ни одна из этих «утопий» не просуществовала долго, но память о них хранилась в народе, и теоретически Иванову, исходившему в 1910-е годы всю Сибирь, эти факты могли быть известны. Примечательно, что один из героев «Гибели Железной», крестьянин из Барнаульского уезда, носит имя Тимофей Болдырев.
Что касается более близких к времени написания повести «Гибель Железной» попыток создания независимых крестьянских правительств, возникавших во время Гражданской войны и действительно часто имевших религиозную основу, то и здесь можно предположительно назвать некоторые факты, возможно послужившие материалом для писателя. Несмотря на то что действие повести происходит на Украине, корни Половецкой республики стоит поискать не только там, но и в Сибири. Из предисловия Вс. Иванова, предваряющего публикацию повести в 5-м томе СС-7, следует, что в основу сюжета, помимо описания похода 58-й дивизии, легла история одного из полков алтайских партизан. Возможно, судьба Половецкой республики и образ крестьянского царя – анархиста Бессонова вобрали в себя, если говорить об Украине, реалии Пашковецкой республики – независимого анархического правительства, возникшего весною 1919 г. на территории Пашковской волости Украинской Народной Республики (см.: Тютюнник Ю. Зiмовий Похiд 1919–1920 р. Коломия, 1923. С. 15), а также историю мятежа Григорьева (май 1919 г.) и т. п. Повсеместно в 1919-1921-е годы вспыхивали крестьянские восстания против всех властей с попытками создания своей истинно народной власти и в Сибири, среди них наиболее близко к описанному в «Гибели Железной» восстание на Алтае в мае-октябре 1920 г. под руководством Ф. Д. Плотникова, называвшего себя «Главнокомандующим Сибири». Участники отстаивали идею автономной Сибири, требовали созыва «Крестьянского союза» и Всероссийского земского собора. Известно, что Плотников объявлял себя защитником религии (см.: Сибирская Вандея 1919–1920 гг.: Документы. М., 2000. С. 140–267).
В ивановском описании Половецкой религиозной республики запечатлелся и феномен многочисленных сектантских коммун этого времени. В начале 1928 г. журнал «Антирелигиозник» печатает материалы П. Зорина «Работа сектантов в Воронежской губернии», где автор, в частности, пишет: «Особенно крупный рост сектантства наблюдался в два периода: в 1918–1920 гг., т. е. в годы Гражданской войны, когда пополняли ряды сектантов шкурники, спасаясь от военной службы, и белогвардейцы, пытавшиеся через сектантские общины организовать враждебные советской власти силы для борьбы с советами; другой период – 1923–1925 гг., – когда углубился раскол православной церкви. <…> В результате этого раскола часть верующих православных стала терять уважение и веру в попов, но веру в бога они еще не потеряли» (Антирелигиозник. 1928. № 1. С. 18). Возможно, Вс. Иванов, с его интересом и религиозной жизни народа, знал или слышал о деятельности этих коммун, наиболее известными среди которых были «Гефсимания» (1921), «Вифания» (1922), «Царство света» (1922) и др. (см. об этом: Морозов И. Сектантские колхозы. М.-Л., 1931. С. 22–38).
(23) Начбронепоезда, румяный и длинноногий юноша… ~ Бригада заняла Могалево. – В очерке Дегтярева эпизод выглядел следующим образом: «Только в полдень, часов в 12, появился, наконец, дымок бронепоезда, который привез патроны и снаряды.
Вызвал к себе командира бронепоезда.
Помчались, вначале шли очень скоро, верст 30–24 (так в тексте. – Е. П.) – в час. Проехали полустанок, и сейчас же за бугорком, за поворотом открылось село Рома-новка; за ним, по верхней дороге, шедшей из Жидовцев на Фастов, тянулся длиннейший обоз. В бинокль можно было приблизительно определить по размеру обоза, что это наш обоз, отступающий от Фастова в полном порядке. Увидев эту картину, бронепоезд начал отнекиваться от дальнейшего передвижения» (Дегтярев, 229).
(24) …о Бессонове, бандите, главе Половецкой республики. ~ А он анархист. – В очерке Дегтярева глава Половецкой республики не упомянут. Скорее всего, фамилия героя вымышленная. Среди прототипов можно назвать анархиста Н. Махно и многих руководителей крестьянских восстаний в Сибири и на Алтае. Например, в начале мая 1920 г. было напечатано «Воззвание боевой комиссии алтайской федерации анархистов к крестьянам и рабочим Алтайской губернии», подписанное П. Леоновым, И. Новоселовым, Г. Роговым. В июле 1920 г. на Алтае же было поднято анархическое восстание, в главе которого стояли Н. Кожин и Ф. Плотников, под лозунгами требования «Всероссийского земского собора» и «Крестьянского союза» вместо враждебных крестьянам советов.
Судьба Плотникова завершилась не менее страшно и фантасмагорично, чем судьба крестьянского царя Бессонова в повести Вс. Иванова: 20 октября 1920 г. после убийства Плотникова командир отряда особого назначения приказал труп везти для показа кулакам и эсерам села Боровское, где был центр восстания. Труп не повезли, но отрубили голову и провезли через восставшие села на клинках шашек (см.: Сибирская Вандея 1919–1920 гг.: Документы. С. 28–77, 147–267).
(25) Плешко догнал Гавро ~ он был пьян. – Редакторы СС-2 потребовали от автора переработки этого эпизода. В «Редакторском заключении на рукопись II тома», подписанном В. Карповой, отмечалось: «Исключены некоторые характеристики и эпизоды, снижающие образы положительных героев. Так, прежде после эпизода, когда командир, Кабардо, движимый искренним чувством, отдает выданные ему сапоги красноармейцу, говорилось, что Кабардо был пьян. Теперь автор исключил такое объяснение, нарочито снижающее ясный и цельный образ Кабардо» (РГАЛИ. Ф. 613. Оп. 10. Ед. хр. 1379. Л. 27). В результате был сокращен фрагмент текста: «Плешко догнал Гавро ~ вы правы, надо…»
(26) …проходил месяца два тому назад с продовольственным отрядом. Мужики меня здешние поймают, гвоздями к дому какому-нибудь прибьют, – мы были жестоки. – В эпизоде отражено враждебное отношение крестьян к представителям советской власти, забирающим продовольствие у населения насильственными методами. В официальных документах причина поведения крестьян объяснялась иначе: «Отсутствие политработы по деревням, темнота крестьянства довела до того, что слово „коммунист“ становится ненавистным им. <…> По деревням происходит ряд избиений коммунистов» (Из информационной сводки <…> за 1-15 августа 1920 г. // Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. Т. 1. С. 296). В СС-2 этот фрагмент заменен более нейтральным: «…мы были суровы».
(27) За селом они увидали пластунский полк ~ Щербаков смолчал. – Весь эпизод грабежа и бунта пластунского полка взят Вс. Ивановым из записок Дегтярева. Ср.: «У самой околицы деревни я застал весь пластунский полк в сборе. Командир говорил полку речь о бандитах и о поведении красноармейцев в деревне и указал, как на пример нарушения порядка, на учиненный несколькими красноармейцами его полка грабеж в одной избе. Оказалось, что ночью красноармейцы, угрожая оружием и избиением, заставили хозяйку сознаться, что у нее есть деньги, запрятанные в подвале. Деньги в количестве нескольких десятков тысяч рублей были, таким образом, разысканы и отобраны вместе с кой-каким имуществом. Это стало известно командиру, который тут же и учинил свой суд. Указав на недопустимость подобного поведения, командир назвал по фамилии виновников, велел им слезть с лошадей и встать впереди полка. Тут же он стал чинить над ними допрос. Двое более старших красноармейцев начали было отпираться, но младший сознался, что один из старших красноармейцев советовал и предложил ему это сделать и что он вместе с ним это, действительно, и сделал. Суд командира был короткий; обстановка не давала возможности задерживать выяснением формальных улик. Хозяйка признала, что, действительно, эти два красноармейца ее ограбили. Тогда он велел одному из красноармейцев возвратиться в строй, как признанному невиновным, а другим отойти вперед еще несколько шагов, ближайшему эскадрону он скомандовал: „По преступникам, эскадрон, пли!“
Но эскадрон не двинулся. Наступил самый решительный момент. Было ясно глубокое разложение пластунского полка, чем объяснялась его полная небоеспособность. Полк отказался повиноваться своему командиру. У меня мелькнула мысль немедленно возвратиться в свой отряд для того, чтобы разоружить пластунский полк. Но командир полка справился сам. Он понял, что если он уступит сейчас, то это будет означать его гибель и гибель его полка. Он вскинул свою винтовку на руки и предложил преступникам бежать. Старший красноармеец стоял молча, не двигаясь, и первым же выстрелом он его уложил на месте. Зато младший с криком побежал вперед, пытаясь спастись, но пуля догнала его, и через несколько шагов он упал. Тогда командир подошел еще ближе и, видя, что красноармеец еще шевелится, выстрелил в него из револьвера. Гробовое молчание царило в полку. После этого командир скомандовал: „Справа, по эскадрону, шагом марш!“, и эскадрон двинулся вперед, а через несколько минут он затянул песню. Между тем, обозные пластунского полка кинулись раздевать трупы и рыть им могилы. Их одежда разошлась по рукам обозников» (Дегтярев, 236–237).
Введенная Ивановым характеристика внутреннего состояния Плешко: «Чувствуя, как его наполняет мутящая и кислая тошнота и как губы его дрожат от страха и презрения к тому, что он сейчас совершит», «Томящее и омерзительное чувство гадливости продолжало расти», – была сокращена в СС-2.
(28) …красноармейцы устраивают в школе спектакль и что Анна Осиповна играет буржуазную обольстительницу… – Ироническая аллюзия на эпизод из романа «Чапаев» Д. Фурманова, где описана важная культурно-просветительная работа, которую выполнял в армии театр Анки.
(29) …и вышло очень нелепо и быстро, что за сараем, в каких-нибудь пятидесяти шагах от школы, она отдалась ему, а после этого сразу попросила у него папироску и не закурила. – В письме в «Комсомольскую правду» Л. Дегтярев так прокомментировал этот эпизод: «Дело не в том, что такого случая быть не могло, а в том, что такой поступок не вытекает из тех черт, которыми Иванов наделил своего Плешко, как сознательного и твердого волей начдива. У Иванова т. Плешко как будто не понимает, что партия к поступкам руководителя партийной организации предъявляет иные, чем к рядовому красноармейцу, а именно – повышенные требования <…> Такого начдива мы бы немедленно сняли» (Комсомольская правда. 1928. 12 авг. С. 2).
В СС-2 этот эпизод был сокращен.
(30) …папахи с «жовто-блакитными» лентами, какие обычно бывали у петлюровских частей. – Желтый и синий (блакитный) – национальные цвета Украины. Желто-блакитные знамена в 1920 г. принадлежали армии Петлюровской Директории.
(31) Курджумы – от «курджун» – переметная сума, прикрепляемая сзади седла (Словарь русских народных говоров. Вып. 16. Л., 1980. С. 117).
(32) У большой киево-переяславской дороги ~ сказал Плешко, пряча наган. – В статье И. Ломова «Изуродованная история» этот эпизод, взятый Ивановым из текста Дегтярева, приведен в качестве одного из доказательств «плагиата». При совпадении внешних фактов очевидна полемическая заостренность повести Вс. Иванова: героическому поведению Дегтярева противопоставлены чувства омерзения и стыда, которые испытывает Плешко. Ср.:
«В ста шагах появилась большая дорога – Киев – Переяслав. По ней двигался какой-то конный отряд человек в сто с несколькими тачанками. Впереди, в нескольких шагах двигалась его разведка. Поразило больше всего большое черное знамя. На всякий случай кричу красноармейцу-кучеру: «стой!» и вытаскиваю из кобуры револьвер.
«Отряд анархистов… но откуда здесь могут быть анархисты?» – недоумевающе проносится в голове. Отряд нас тотчас же заметил. В две секунды рассыпался в лаву и поскакал на нас и в обход вправо и влево. Замелькали какие-то странные папахи с «жовто-блакитними» лентами, какие обыкновенно бывают в петлюровских частях. Хотел крикнуть: «поворачивай назад!» Да поздно. Уже окружили. Вперед подскочил командир отряда с шашкой наголо. Около него, в трех и пяти шагах вокруг, человек десять конных, тоже с шашками наголо.
«Будь, что будет! – думаю, – а живой в плен не дамся». Держу наган в руке на взводе.
– Кто вы такие? – спрашивает командир отряда.
Что скрывать? На шапке у меня красноармейская звезда, в кармане партийный билет. В эту секунду на дороге черное знамя развернулось, и я прочел: «Долой пионеров!».
«Свои, что ли, – черт их знает! Но, во всяком случае, коммунист должен умереть с достоинством». Говорю твердо:
– Начальник политического отдела 58-й Краснознаменной дивизии.
– Документы есть?
– Конечно!
Достаю удостоверение, передаю через красноармейца-кучера. А револьвер наготове.
Долго и внимательно осматривал он мое удостоверение.
– А вы кто такой? – спрашиваю я.
Он испытующе и странно посмотрел на меня, не выпуская из рук моего удостоверения, сквозь зубы самодовольно и торжествующе процедил:
– А мы – петлюровцы!
«Попался!» Екнуло сердце. Побледнел. Спасения нет. Дуло револьвера нацелено. Еще одна терция и раздастся мой выстрел. Но что-то удержало. Хотелось прожить лишнюю секунду жизни. Впился в него взглядом, судорожно ловя малейшее движение. «Если он скажет еще одно слово или повернется, или шевельнет рукой, я спущу курок ему в упор на четыре шага. Едва ли успею сделать второй в себя, но все равно зарубят тогда». Целый рой мыслей молниями пробежал в голове.
Никто не шевелился. Командир как бы замер на месте, любуясь последними минутами ненавистного врага. Окружающие в некотором отдалении, по-видимому, не совсем понимая командира, с таким же напряжением ждут его взгляда.
Так в томительном напряжении стояли несколько десятков секунд. Черное знамя на дороге еще раз развернулось, и я прочитал: «Долой контр-революционеров!» Черт его знает, что такое: лозунг не петлюровский. А может быть, это трофей от разбитого отряда или какого-нибудь волостного исполкома?
Первым из оцепенения вышел командир отряда:
– Командир отряда Полтавской губчеки, – сообщил он. Теперь ли ему верить или тогда? Заявляю:
– Ваша шутка могла стоить вам жизни и, конечно, мне. Вряд ли ваши ребята могли бы разобраться, если бы я в ответ на шутку застрелил вас.
Оказалось, отряд занимался борьбой с бандами в Переяславском уезде; довольный своим молодечеством и победами, возвращался в Полтаву. Что же касается шутки, то это обычный их прием по деревням для развязывания языка всем сочувствующим Петлюре.
Командир отряда, узнав, что я еду в Борисполь, предупредил, что около Борис-поля сидит банда и что одному мне он не советует ехать туда.
Я удивился, почему же он, посланный на борьбу с бандами, не очищает Борис-поля от банд. Он ответил, что у него есть более важные задачи в других уездах» (Дегтярев, 238–239).
(33) Жатка – машина для скашивания сельскохозяйственных культур.
(34) Бригада, хмурая, молчаливая, медленно заняла площадь… – В 10-й главе очерка Л. Дегтярева соединение политотдела (у Иванова часто – «бригады») описано совершенно в иных тонах: «Конечно, взаимные восклицания, радость, восторг, что наконец-то вместе. <…> Политотдел моментально заработал» Дегтярев, 244–245).
(35) …пошли к крепости… ~ Из Киево-Печерской цитадели врывается вой польских орудий. – «Оперативный приказ войскам 58-й дивизии 12-й Армии об освобождении г. Киева и о дальнейших боевых задачах дивизии» был подписан 12 июня 1920 г. Этот кульминационный эпизод повести Дегтярев комментирует так: «Не поняв основного смысла событий, запутавшись в своих собственных противоречиях, В. Иванов вынужден одну выдумку нагромождать над другой. Не зная, что делать со своей дивизией, он губит ее на штурме Киева, превращая для этого последний в крепость. <…> такая выдумка вредна, так как она вводит в заблуждение неискушенных читателей» (Комсомольская правда. 1928. 12 авг. С. 2).
(36) …учитель Волчихинской церковноприходской школы… – Церковноприходские школы – начальные школы при церковных приходах в России. Находились в ведении Синода. Название закреплено в 1884 г. Правилами для церковноприходских школ. Срок обучения – 2 года (в некоторых – 4 года), с начала XX в. – 3 года (в некоторых – 5 лет). Упразднены после 1917 г. Упомянутый факт имеет автобиографический характер: отец Вс. Иванова, Вячеслав Алексеевич Иванов, предположительно в 1904–1905 гг. служил учителем в церковноприходской школе с. Волчиха Барнаульского уезда. Сам Вс. Иванов учился в той же школе.
(37) …поляк и русский лежат недалеко друг от друга… ~ Они, мертвые, в рай понесут части своих орудий. – Возможно, аллюзия на эпизод из известного Вс. Иванову романа М. Булгакова «Белая гвардия» (1923–1924) – сон Алексея Турбина, где убитый в Первую мировую войну вахмистр Жилин рассказывает о своем разговоре в раю с Богом и удивляется тому, что для неверующих большевиков, которые должны погибнуть в сражении под Перекопом, приготовлены в раю казармы: «Один верит, другой не верит, а поступки у вас всех одинаковые: сейчас друг друга за глотку, а что касается казарм, Жилин, то тут так надо понимать, все вы у меня, Жилин, одинаковые – в поле брани убиенные» (Булгаков М. А. Собр. соч.: В 5 т. М., 1989. Т. 1. С. 236). Об оценке пьесы «Дни Турбиных», поставленной по роману, см. письмо Вс. Иванова А. М. Горькому от 25 сентября 1926 г.
(38) …партизаны с Алтая. – На защиту «трудового народа Украины» против «заклятого врага рабоче-крестьянской власти» – польской буржуазии призывались жители Алтая и Сибири. В Постановлении Сибревкома «О призыве на действительную военную службу очередного возраста военнообязанных, родившихся в 1901 г.» от 9 июня 1920 г. говорилось: «Население Сибири не должно оставаться безучастно в этой борьбе…» (цит. по: Сибирская Вандея 1919–1920 гг.: Документы. С. 28).
(39) …из Бухтарминской долины. – Бухтарминская и Уймонская долины в Сибири, оказавшиеся в середине XVIII в. между границами России и Китая, т. е. на нейтральной территории, и в силу этого имевшие свое общинно-артельное управление, во 2-й половине XVIII в. приобрели популярность у сибирских крестьян. Слух о существующей мужицкой земле, без чиновников и попов, достиг к концу века и европейских губерний. Есть сведения о том, что именно эти две долины называли в народе Беловодьем (см.: Чистов К. В. Указ. соч. С. 274–275).
Переписка Вс. Иванова и А. М. Горького 1924–1928*
В настоящее издание включена переписка Вс. Иванова и А. М. Горького 1924-начала 1928 г., относящаяся к периоду работы Вс. Иванова на книгой 7У и произведениями, близкими к ней.
При жизни Вс. Иванова его письма к А. М. Горькому не публиковались. Большая часть писем Горького Иванову включена в издание: Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1955. Т. 29; М., 1956. Т. 30.
Впервые 25 писем Вс. Иванова и 9 писем А. М. Горького, не вошедшие в Собрание сочинений, были напечатаны в журнале «Новый мир» (1965. № 11. С. 231–258. Публикация Архива А. М. Горького ИМЛИ РАН, подготовка текста и комментарии СИ. Доморацкой). В издание «Литературное наследство. Т. 70: А. М. Горький и советские писатели: Неизданная переписка» (М., 1963) письма А. М. Горького к Вс. Иванову не включались. Наиболее полно переписка Горького и Иванова представлена в книге: Иванов Вс. Переписка с А. М. Горьким; Из дневников и записных книжек (М., 1969. 1-е изд.; 1985. 2-е изд.). Письма Иванова к Горькому напечатаны в СС-3. Т. 8 (М., 1978. Подготовка текста и примечания Л. А. Гладковской).
Все письма, представленные в настоящем издании, сверены с подлинниками, хранящимися в Архиве А. М. Горького ИМЛИ РАН, и печатаются без купюр. Текст, подчеркнутый авторами, выделен курсивом.
При подготовке настоящего издания были уточнены некоторые даты.
Письмо А. М. Горького (в настоящем издании № 8), в предыдущих изданиях датированное сентябрем 1925 г., было отправлено 18 сентября 1926 г. Датировка проведена по почтовому штемпелю на конверте («18.9.26. Sorrento Napoli. 25.9.26. Москва») и сопоставлению с письмами Вс. Иванова от 25 сентября и Горького от 15 октября 1926 г. (письма 9, 10). Ранее датированное 25 августа 1925 г. письмо Иванова (№ 7) датируется нами 25 августа 1926 г., что подтверждается сопоставлением содержания писем. (В.47, письмо хранится без конверта, на самом письме год не указан.)
В примечаниях учтены комментарии С. И. Доморацкой, Л. А. Гладковской, Ю. И. Шведовой.
1. Вс. Иванов – А. М. Горькому*
(4 декабря 1924)
Автограф: АГ. КГ-п-30-1-12.
(1) Я и Пильняк работаем сейчас в «Круге», редактируем. – Артель писателей «Круг» возникла в 1922 г. В правление артели входили А. Воронский, Б. Пильняк,
B. Казин, К. Федин, Ф. Богомильский, Вс. Иванов и др. При артели было организовано издательство с одноименным названием, которое занималось выпуском литературно-художественной русской и переводной литературы. Было выпущено шесть номеров альманаха «Круг», небольшая критическая библиотека (сб. статей А. Воронского, Д. Горбова, А. Лежнева, В. Полонского), «Библиотека пролетарских писателей» (Р. Акулынин, Е. Бражнев, А. Зуев, Д. Семеновский, А. Ширяевец и др.). В 1930 г. писательская «артель» вошла в ФОСП (Федерацию объединений советских писателей), а издательство «Круг» влилось в издательство ФОСП «Федерация». О совместной работе в «Круге» в декабре 1924 г. см. письмо Б. Пильняка А. Воронскому и Вс. Иванову (Пильняк Б. «Мне выпала горькая слава…»: Письма 1915–1937. М., 2002. С. 287–289).
(2) …книгу последних Ваших рассказов? – В издательстве «Круг» (1922–1929) рассказы Горького не выходили.
(3) …забавную повесть. – По-видимому, речь идет о повести «Чудесные похождения портного Фокина» (Прожектор. 1924. № 12–14).
(4) …заведует литчастью журнала «Кр(асный) журнал», а бывший вообще-то «Синим». – «Красный журнал» – двухнедельный иллюстрированный, литературно-художественный и научно-популярный журнал, приложение к газете «Гудок». Выходил с ноября 1924 г. В указанный период Вс. Иванов сотрудничал с журналом, возможно, в связи с участием в его редакции В. Шкловского. В декабре 1924 г. журнал публикует рассказ Вс. Иванова «Крепкие печати» (1924. № 3. 20 дек. С 2–4) и новогоднее поздравление и пожелание: «Желаю в этом году счастья для поселка Лебяжьего Семипалатинской области, что на Иртыше» (1924. № 4. 31 дек. С. 15).
«Синий журнал» – издавался в Петербурге с 1910 до 1918 г.
(5) …печатается в Госиздате. – Речь идет об издании: Иванов В., Шкловский В. Иприт. Роман. Вып. 1–9. М.: Госиздат, 1925.
(6) В марте я поеду за границу. – Поездка Вс. Иванова за границу, в Германию и Францию, осуществилась только весной-летом 1927 г. См.: Никулин Л. О мятежной и гордой молодости // Всеволод Иванов – писатель и человек. М., 1975. С. 161–169.
2. А. М. Горький – Вс. Иванову*
(27 декабря 1924)
Автограф: АГ. ПГ-рл-17-3-11.
(1) Стомонякову, главе Берлинского внешторга… – Б. С. Стомоняков был торговым представителем РСФСР (затем СССР) в Германии в 1921–1925 гг. Договор между Торговым представительством РСФСР в Германии и Горьким на издание Полного собрания сочинений писателя был подписан 13 июня 1922 г. и «предусматривал включение в издание всех уже написанных Горьким произведений, а также тех, которые будут написаны им в течение срока действия договора (с 1 сентября 1922 г. по 1 июня 1927 г.)…» (Прохоров Е. И. Текстология художественных произведений М. Горького. М., 1983. С. 152).
(2) …передал его Госиздату. – 23 декабря 1922 г. между Торгпредством и Госиздатом был заключен договор, по которому Торгпредство обязалось передать Госиздату весь материал, предоставленный Горьким (Там же. С. 153).
(3) Ионов (Бернштейн) Илья Ионович (1887–1942), с 1924 г. – заведующий Государственным издательством РСФСР.
(4) …прикрыт «Рус(ский) современник» и прихлопнута «Всемирная литература»… – «Русский современник» – литературный журнал, созданный в Петрограде в 1923–1924 гг. А. Н. Тихоновым, другом Горького и его помощником по литературно-издательским делам. Вышло четыре номера, последний – в конце декабря 1924 г. Подробнее см.: Примочкина Н.Н. М. Горький и журнал «Русский современник» // Новое литературное обозрение. 1997. № 26. С. 357–370.
«Всемирная литература» – издательство, основанное в Петрограде в 1918 г. по инициативе Горького и Тихонова. После отъезда Горького за границу Тихонов стал руководителем издательства. В декабре 1924 г. по распоряжению И. И. Ионова «Всемирная литература» прекратила свое существование и стала частью иностранного отдела ленинградского Госиздата. Акт о ликвидации издательства подписан 2 января 1925 г. (Голубева ОД. Горький-издатель. М., 1968. С. 108).
Ионов имел прямое отношение к запрещению журнала и закрытию издательства.
(5) Монье, «Cvatrocento» <…> издание Пантелеева? – В автографе описка, следует: «Quattrocento». Имеется в виду книга: Монье Ф. Опыт литературной истории Италии XV века: Кваттроченто / Пер. с фр. К. С. Шварсалона. СПб.: Изд. Л. Ф. Пантелеева, 1904. Книга хранится в личной библиотеке Горького в двух экземплярах. На первом из них – пометы Горького (ОЛЕГ. 3563, 3564).
(6) Пильняк? Это, пока еще, вне искусства, вне литературы. – К творчеству Б. Пильняка Горький в это время относился отрицательно, о чем писал многим адресатам: К. А. Федину, В. А. Каверину, С. Н. Сергееву-Ценскому и др. Горький называл Пильняка неумелым подражателем A. M. Ремизова и Андрея Белого, считал его стиль небрежным, предостерегал молодых писателей от его влияния. Не скрывал он своего отношения и от самого Пильняка (см., напр., письмо от 10 сентября 1922 г. // ЯН. С 311).
(7) И Шкловского нельзя похвалить за его искажение «200». – Книга В. Б. Шкловского «ZOO. Письма не о любви, или Третья Элоиза» вышла в берлинском издательстве «Геликон» в 1923 г. Второе издание (Л.: Атеней, 1924) хранится в Личной библиотеке Горького (ОЛЕГ. 3354).
3. Вс. Иванов – А. М. Горькому*
(7 октября 1925)
Автограф: АГ. КГ-п-30-1-13.
(1) ….плохой роман «Северо-сталь»… – В 1924–1925 гг. печатались фрагменты романа: Красная нива, 1924, № 12. С. 280–282, под заглавием: «Сказание о мулатском царе и графе Рошфор»; Зори, 1924, № 9. С. 2–3, под заглавием: «Из ЦК РКП», № 11. С. 1–2, под заглавием: «Автомобиль и человек»; № 12. С. 2–4, под заглавием: «Жена»; Кр. Н., 1924, № 5. С. 44–62, под заглавием: «Из романа „Северосталь“»; Рупор, 1924, № 6. С. 12–13, под заглавием: «Поповка»; Ленинград, 1925, № 8. С. 6, № 9. C. 10, № 10. С. 3–4, под заглавием «Повесть о восьми». Полностью роман опубликован не был.
(2) Лето я провел частью на Волге, а частью ездил по Киргизской республике. – О поездке Вс. Иванова на Волгу см.: Малое Ф. Витязь соловьиного слова // Всеволод Иванов – писатель и человек. М., 1975. С. 138.
(3) Киргизы народ смешной и стали непохожими – на тех, что я написал. – Киргизской (казахской) теме посвящены рассказы Вс. Иванова «Киргизские сказки» (1916), «Дите» (1921), «Лога» (1921), «Киргиз Тимирбей» (1921), отчасти повесть «Цветные ветра» (1922).
(4) Этакая Уральская Семирамида. – Семирамида Шаммурат Шамирам – царица Ассирии. С ее именем связаны «висячие сады» (сады Семирамиды) – одно из «семи чудес света».
(5) Уральск с его основания посетили два писателя. Пушкин… – А. С. Пушкин останавливался в Уральске 21–23 сентября 1833 г. Войсковой атаман В. Покатилов дал в его честь два обеда (см.: Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина: В 4 т. М., 1999. Т. 4. С. 94–96). Вс. Иванов упоминает этот эпизод в заметке «Что я больше всего ценю», практически повторяя текст письма: «В прошлом году я ездил по Уралу. В одном из городов, по случаю моего приезда, местный критик закончил статейку обо мне следующими словами: „Наш город со дня его основания посетили два писателя – Пушкин и Иванов“» (Журналист. 1926. № 4. С 22).
(6) Из центра был тут А. Пинкевич и Тан-Богораз. – Пинкевич Альберт Петрович (1883–1939) – профессор, доктор педагогических наук. Тан-Богораз Владимир Германович (1865–1936) – русский советский этнограф, языковед и фольклорист.
(7) А вот Сережа Есенин пьет немилосердно. Изо дня в день. Ко всему тому у него чахотка, и, бог знает, что с ним будет месяца через три-четыре. – Информация о чахотке, видимо, исходила от самого С. Есенина. 5 мая 1925 г. он посылает из Баку телеграмму Г. А. Бениславской: «Еду домой буду дней через десять найдите лучшего врача по чахотке = Есенин». Однако уже 11–12 мая в письме ей же опровергает свои подозрения: «Лежу в больнице. Верней, отдыхаю. Не так страшен черт, как его малютки. Только катар правого легкого. Через пять дней выйду здоровым» (см.: Белоусов В. Сергей Есенин. Литературная хроника: В 2 ч. М., 1970. Ч. 2. С. 180–187). О взаимоотношениях Вс. Иванова и С.Есенина этого времени см.: Папкова Е. А. Всеволод Иванов и Сергей Есенин: Новые материалы // Есенин и мировая культура: Материалы международной научной конференции, посвященной 112-летию со дня рождения С. А. Есенина. Москва; Константиново; Рязань, 2008. С. 283–305.
(8) Шкловский летом летал на самолете в агитполете до Царицына… – Агитполеты самолетов Авиахима проходили летом 1925 г. с целью пропаганды достижений советской авиации. Самолет совершал облеты небольших городов, опускался там, экипаж проводил митинг и беседы, иногда лекции, раздавал листовки и литературу, совершал несколько полетов и катал местных жителей. В. Шкловский описал агитполет в главе «Аэроплан летел как ушибленный жук» в книге «Третья фабрика» (Шкловский В. Третья фабрика. М., 1926. С. 123–124). См. также: Галушкин А.Ю. К истории личных и творческих взаимоотношений А. П. Платонова и В. Б. Шкловского // Андрей Платонов: Воспоминания современников. Материалы к биографии. М., 1994. С. 172–183.
(9) Радек (Собельсон) Карл Бернгардович (1885–1939) – советский партийный деятель. С ноября 1917 г. зав. отделом Центр(альной) Европы Наркоминдела и отдела внешних сношений ВЦИК. В 1926 г. – ректор Коммунистического университета трудящихся Востока, сотрудник газет «Правда», «Известия» и др. На XV съезде ВКП(б) в декабре 1927 г. исключен из партии вместе с другими деятелями троцкистской оппозиции.
(10) Сейчас Шкловский служит на кинофабрике… – В это время В. Шкловский работал на 3-й фабрике Госкино (см.: Шкловский В. Третья фабрика. М., 1926. С. 160).
(11). очень хочется поехать в Японию – увязывается со мной Пильняк. – О предполагаемой «Поездке писателей на Восток» сообщала «Красная газета» 10 января 1926 г.: «Из Москвы по телефону. Писатели Б. Пильняк, Вс. Иванов, проф. Конрад и артистка Малого театра Щербиновская в середине января едут в Японию с целью ознакомления с японской литературой и искусством. Из Японии они на пароходе обогнут Азиатский материк, причем особенно подробно предполагают ознакомиться с Индией. Поездка продолжится до августа» (Красная газета. 1926. 10 янв. С. 2). Поездка Б. Пильняка в Японию состоялась в феврале-сентябре 1926 г., описана в романе «Корни японского солнца» (Л., 1927). Вс. Иванов в 1920-е годы в Японии не был. К началу поездки Б. Пильняка относится его письмо Вс. Иванову от 23 февраля 1926 г. (см.: Пильняк Б. Письма. Т. II: 1923–1937. С. 255).
4. Вс. Иванов – А. М. Горькому*
(30 ноября 1925)
Автограф: АГ. КГ-п-30-1-14.
(1) Серебровский – начальник Азнефти. – Серебровский Александр Павлович (1884–1938) – советский партийный и государственный деятель. В 1920-1930-е годы председатель «Азнефти» в Баку, председатель правления Всероссийского нефтесиндиката и зам. председателя ВСНХ СССР.
(2) В прошлом году хоть напостовцы воевали… – На протяжении 1923–1924 гг. шла открытая конфронтация между пролетарскими писателями, объединившимися вокруг журнала «На посту», и курируемыми А. К. Воронским писателями-попутчиками, которых в это время поддерживали партийные деятели, главным образом Л. Д. Троцкий и Н. И. Бухарин. Напостовцы были убеждены, что поддержка попутчиков наносит колоссальный вред развитию пролетарской литературы и коммунистическому сознанию. В статье «Нейтралитет или руководство (К дискуссии о политике РКП в художественной литературе)», подписанной Л. Л. Авербахом, А. И. Безыменским, Ил. Вардиным и др. и опубликованной в «Правде» 19 февраля 1924 г., в выступлениях на Совещании в отделе печати РКП (б) «К вопросу о политике РКП(б) в художественной литературе» (9-10 мая 1924 г.), других дискуссиях напостовцы отстаивали идеи «большевистской фракции в литературе», «диктатуры партии в области литературы», требовали перенесения внимания, главным образом, на пролетарскую литературу и всяческое содействие ей и т. п. (см.: В тисках идеологии: Антология лит. – полит. документов. 1917–1927. М., 1992. С. 203–310). 11 января 1925 г. Вс. Иванов писал К. Федину по поводу проходившей в Москве 7–9 января 1925 г. Всесоюзной конференции пролетарских писателей: «Собрались тут пролетарские писатели со всей России. Напостовцы нагнали на всех такого страху, что аж Луначарский потек с докладом» (СС-3. М., 1978. Т. 8. С. 590). Партийная резолюция «О политике партии в области художественной литературы» (опубликована 18 июня 1925 г.) на некоторое время снизила накал литературной борьбы.
(3) Писатели – вдарили по кино и по театру. – В 1924 г. выходит фильм «Аэлита» по роману А. Н. Толстого (реж. Я. А. Протазанов). Работой над сценарием по роману «Города и годы» для Пролеткино осенью 1925 г. занят К. Федин (сценарий не завершен), с кино связана в это время деятельность В. Б. Шкловского и И. Э. Бабеля. Пьесы А. Н. Толстого «Бунт машин» (1924), «Анна Кристи» (1924) ставят московские и ленинградские театры. В 1924 г. Толстой совместно с П. Е. Щеголевым пишет пьесу «Заговор императрицы», отрывки из которой публикуются в периодике (Жизнь искусства. 1924. № 53; 1925. № 1). Сам Вс. Иванов 9 октября 1925 г. сообщает К. Федину: «Сценарий пишу. Скучно и не особенно выгодно. Надо б пьесу. Хотел, подражая Щеголеву и Т(олстому), написать „Кирилл I“ и вывести там К. Либкнет и Р. Люкс(ембург) – говорят, непочтительно. А мне бы сгодились» (ГМФ 35854).
(4) …пишу комедию… – Имеется в виду комедия «Алфавит» (1926). При жизни Иванова не печаталась и не ставилась. Впервые: НВИ. С. 170–211.
(5) …пять лет Серапионов. – Литературная группа «Серапионовы братья» была образована в феврале 1921 г.
(6) Сын у меня родился три месяца назад… – Сын Юлий от брака с А. П. Ивановой-Весниной, умер в младенческом возрасте.
(7) П. Романов – Романов Пантелеймон Сергеевич (1885–1938), популярный в 1920-е годы писатель, автор романа «Русь» (1922–1926), многочисленных сборников рассказов: «Крепкий народ» (1925), «Три кита» (1925), «Хорошие места» (1926), «Русская душа» (1926) и др. В 1925–1927 гг. издательство «Никитинские субботники» выпускает первое Собрание сочинений П. Романова в 7 т. В рецензии на сборник «Крепкий народ» А. З. Лежнев отмечал: «…рассказы П. Романова показывают у автора мастерское владение бытовой речью, умение дать типичное и характерное в маленькой сценке. Его средства остры, но несколько однообразны. <…> Взятый порознь каждый рассказ превосходен» (Правда. 1925. 16 окт.).
(8) …роман о Разине… – Речь идет о романе писателя Алексея Павловича Чапыгина (1870–1937) «Разин Степан» (1926–1927). Впервые опубликован: Былое. 1925. № 1–6; Кр. Н. 1926. № 1-12.
5. А. М. Горький – Вс. Иванову*
(13 декабря 1925)
Автограф: АГ. ПГ-рл-17-3-8.
(1) …состряпали какой-то «дефективный» роман? Прислали бы, сударь? – Речь идет о романе «Иприт», написанном Вс. Ивановым в соавторстве с В. Б. Шкловским (см. письмо 3). Иванов не стал посылать его Горькому (см. письмо 6).
(2) вытащить Вас и Федина сюда. Да еще бы Зощенка. Да Булгакова. – Вс. Иванов смог посетить Горького в Сорренто лишь в конце 1932 – начале 1933 г. К. Федин, М. Зощенко, М. Булгаков у Горького в Сорренто не бывали.
(3) …внука четырех месяцев. – 17 августа 1925 г. родилась внучка Горького Марфа.
(4) …пильняковы сухие вихри… – Об отношении Горького к творчеству Пильняка в этот период см. примеч. 6 к письму 2.
(5) Лига наций – международная организация, созданная в 1919 г. в результате Версальского соглашения. Ставила своей целью разоружение, предотвращение военных конфликтов, урегулирование спорных вопросов дипломатическим путем, улучшение качества жизни на планете. Прекратила свое существование в 1946 г.
(6) …книга Войтоловского «По следам войны». – Имеется в виду издание: Войтоловский Л. По следам войны: Походные записки. 1914–1917. М.; Л.: Госиздат, 1925–1927. Т. 1, 2. Книга хранится в Личной библиотеке Горького (ОЛЕГ. 820). На обоих томах – пометы Горького и дарственные надписи: «Далекому другу Максиму Горькому с тоской и любовью Л. Войтоловский» (Т. 1); «Перу и сердцу Максима Горького с глубокой признательностью. Л. Войтоловский. 18 / XII – 26. Ленинград. Улица Красных Зорь, д. № 8, кв. 6» (Т. 2). В письме речь идет о первом томе.
(7) И Федорченко, и Барбюс… – Имеются в виду книга С. Федорченко «Народ на войне» (М., 1923) (ОЛЕГ. 7495) и роман А. Барбюса «В огне». Роману Барбюса посвящена статья Горького «Замечательная книга („В огне“ Анри Барбюса)», напечатанная в июле 1919 г. в журнале «Коммунистический Интернационал» (Горький в журнале «Коммунистический Интернационал» / Вступ. ст., послесл., подгот. текста и примеч. Л. Н. Смирновой // Публицистика Горького в контексте истории. М, 2007. С. 367–370).
(8) …Ромен Роллан празднует свое 60-летие. Образован комитет: Дюамель, Роникер, Стефан Цвейг и я. – Р. Роллан писал М. Горькому 23 ноября 1925 г.: «Мой друг Эмиль Ронигер сообщил мне – (или, вернее, я случайно узнал), – что Вы с Дюа-мелем и Стефаном Цвейгом взяли на себя инициативу издания „Liber Amicorum“, которая будет мне преподнесена в честь моего шестидесятилетия. Я бесконечно тронут и от всего сердца благодарю Вас, дорогой друг» (Архив А. М. Горького. Т. XV: М. Горький и Р. Роллан: Переписка (1916–1936). М.: Наследие, 1995. С. 133). «Liber Amicorum» («Книга друзей») вышла в Цюрихе и Лейпциге в 1926 г. В ней была напечатана статья М. Горького «О Ромене Роллане» (Там же. С. 398).
Дюамель Жорж (1884–1966) – французский писатель; Ронигер Эмиль (18831957) – швейцарский писатель и издатель; Цвейг Стефан (1881–1942) – австрийский писатель. Переписку Горького с Ж. Дюамелем, Э. Ронигером и С. Цвейгом см.: Архив А. М. Горького. Т. VIII: Переписка А. М. Горького с зарубежными литераторами. М., 1960. С. 11–50, 403–404, 428–430.
(9) Так у Горького.
(10) …вы бы и написали ему адресок. – О необходимости поздравить Роллана от имени молодых русских писателей Горький писал также И. А. Груздеву (9 января 1926 г.), К. А. Федину (28 января 1926 г.). Федин с уверенностью обещал организовать приветствие (См.: ЛН. С. 501). Груздев 28 апреля 1926 г. сообщал Горькому об обсуждении поздравительной телеграммы Роллану во Всероссийском союзе писателей: «Составители после долгих совещаний представили такой текст, что, мол, несмотря на наши разногласия, мы Вас приветствуем и т. д. <…> Оказалось, что по объективным условиям неудобно и невозможно, чтобы писатели СССР безоговорочно приветствовали писателя буржуазного. Не знаю, чем кончилось дело, я ушел, мне было очень не по себе» (Архив А. М. Горького. Т. XI: Переписка А. М. Горького с И. А. Груздевым. М.: Наука, 1966. С. 45–46).
6. Вс. Иванов – А. М. Горькому*
(20 декабря 1925)
Автограф: АГ. КГ-п-30-1-15.
(1) …роман «Казаки». – Роман был уничтожен автором (см. письмо А. М. Горькому от 22 января 1927 г. в настоящем издании). Пересказанный в письме сюжет в трансформированном виде вошел в роман «Кремль», над которым Вс. Иванов работал в конце 1920-х годов.
(2) Сведений об отправлении поздравительного адреса Р. Роллану писателями из Советской России не обнаружено.
(3) Писал ли я Вам, что сбираюсь в Японию… – См. примеч. 12 к письму 3.
(4) ….с женой, она у него актриса, 17 лет работавшая в Малом театре и до сего дня там. – Сербиновская Ольга Сергеевна (1891–1975) – вторая жена Б. Пильняка, актриса Малого театра.
(5) У Вас, Алексей Максимович, внучек… – Ошибка, у Горького была внучка.
(6) Я еду на пару дней в Питер. – О предполагаемой поездке на празднование годовщины «Серапионовых братьев» Вс. Иванов 25 января 1926 г. сообщал К. Федину: «Теперь о нашем юбилее. Кто поедет, еще неизвестно, мы сообщим в четверг. Приеду я вместе с Н. Никитиным, Пильняк не знаю – растрясется или нет» (СС-3. М., 1978. Т. 8. С. 594). Поездка состоялась.
(7) …альманах (увы, 2-ой только)… – Второй альманах «Серапионовы братья» не вышел. В декабре 1925 г. Федин начал собирать материал для него. См.: Серапионовы братья в зеркалах переписки. СПб., 2004. С. 378–382.
(8) Шкловский ~ делает работу очень для него чужую. – См. примеч. 10 к письму 3, примеч. 8 к письму 4.
7. Вс. Иванов – А. М. Горькому*
(25 августа 1926)
Автограф: АГ. КГ-п-30-1-16.
Слова в письме Вс. Иванова: «захочется же людям быть спокойнее» – подчеркнуты Горьким красным карандашом.
(1) …послал Вам свои две последние книжки. – Какие именно книги были посланы, установить не удалось. В «Книжной летописи» за 1-ю половину 1926 г. (№ 1-27) зарегистрирован выход четырех книг Иванова: «Нежинские огурцы. Рассказы» (М.; Л.: ЗиФ, 1926), «Происшествие на реке Тун. Рассказы» (М.; Л.: Госиздат., 1926); «Гафир и Мариам. Рассказы и повести» (М.; Л.: Круг, 1926); «Как создаются курганы» (Л.: Прибой, 1926). В Личной библиотеке Горького сохранилась книга Вс. Иванова «Пустыня Тууб-Коя. Рассказы» (М.; Л., 1926) с дарственной надписью: «Алексею Максимовичу Горькому Вс. Иванов 26 марта, 1926 г. Москва» (ОЛЕГ. 1012).
(2) Написал я пьесу. Комедию, – да не знаю, как пойдет. – «Алфавит».
(3) …небольшие рассказики пишу. – Весной и летом 1926 г. Иванов работал над рассказами, вошедшими в книгу ДП.
(4) Сбираюсь туда в декабре, примерно. – См. примеч. 6 к письму 1.
(5) Посылаю Вам фотографию… – Фотография хранится в АГ. КГ-п-30-1-16.
(6) …снятая хатенка – верстах в 130… – Информацией об этом эпизоде жизни Вс. Иванова не располагаем.
8. А. М. Горький – Вс. Иванову*
(18 сентября 1926)
Автограф: ПГ-рл-17-3-22.
(1) …книжки Ваши я своевременно получил… – См. примеч. 1 к письму 7.
(2) …благодарственное послание. – Письмо не разыскано.
(3) Читаю Ваши рассказы в «Кр(асной) н(ови)»… – К этому времени в журнале были опубликованы рассказы Иванова «Плодородие» (1926. № 1); «Жизнь Тимофея Смокотинина, сына подрядчика» (1926. № 3); «Полынья» (1926. № 5); «Ночь» (1926. № 6); «Оазис Шехри-Себс» (1926. № 8).
(4) …Воронский ~ отметил: Вы стали писать лучше. – В марте 1926 г. А. К. Воронский писал Горькому: «Всеволод опять начал хорошо писать» (Архив А. М. Горького. Т. X: Горький и советская печать. Кн. 2. С. 29).
(5) Что делает Леонов? – По-видимому, ответом на вопрос Горького была книга Л. Леонова «Рассказы» (М.; Л.: Госиздат, 1926), посланная Л. Леоновым с дарственной надписью: «Дорогому Алексею Максимовичу Пешкову от искренно любящего автора. 27 окт. 1926. Москва» (ОЛЕГ. 1167).
В 1925–1926 гг. Леонов работал над романом «Вор» (Кр. Н. 1927. № 1–7; отдельное издание – М.-Л., 1928).
(6) Восхищаюсь «Разиным» Чапыгина… – Роман А. П. Чапыгина «Разин Степан» (печатался в 1925–1927 гг.) Горький считал «колоссальным созданием истинного художника», одной из книг, начинающих «на Руси подлинный исторический роман», «новый тип исторического романа» (из писем Горького А. П. Чапыгину и ОД. Форш – ЛН. С. 648, 584). Об этом Горький не раз писал автору романа, М. М. Пришвину и другим корреспондентам (см.: Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1955. Т. 29. С. 426; М., 1956. Т. 30. С. 8–9, 24,380).
(7) А что такое Василий Андреев? – Андреев Василий Михайлович (1889–1942) – ленинградский писатель, автор повестей «Боецкий путь» (1923), «Славнов двор» (1925), «Товарищ Иннокентий» (1934), «Глушь» (1935), «Комроты шестнадцать» (1938), рассказов, пьесы «Фокстрот» (1926). Арестован 27 августа 1941 г. Умер, находясь под следствием (Подробнее о нем см.: Распятые. Писатели – жертвы политических репрессий. СПб.: Северо-запад, 1993. С. 33–36). В 1926 г. вышли в свет книги В. Андреева «Расколдованный круг. Рассказы» (Л.: Госиздат, 1926) и «Рассказы» (Л.: Госиздат, 1926).
(8) И – Михайло Козырев? – Козырев Михаил Яковлевич (1892–1942) – писатель-сатирик, секретарь литературного объединения «Никитинские субботники», автор романов «Неуловимый враг» (1923), «Подземные воды» (1928), «Город энтузиастов» (1931), повести «Ленинград» (1925) и др. Арестован в 1941 г., погиб в саратовской тюрьме. В 1-й половине 1926 г. вышли в свет книги М. Козырева «Гражданин Репкин. Рассказы» (М., 1926), «Чорт в Ошпыркове. Рассказы» (М.; Л: ЗиФ, 1926); «Неизданные произведения» (М., 1926), «Рассказы» (Л.: Круг, 1926). Издательство «Круг» 27 июля 1925 г. извещало Горького: «На днях выходят три томика н(аших) изданий: Леонов, Огнев и Козырев, будут Вам, как и все последующие, высланы дополнительно» (АГ. КГ-изд-29-22-2).
(9) …увяз я в романе… – В это время Горький работал над романом «Жизнь Клима Самгина», который начал печататься в Берлине в 1927 г.; одновременно публиковался отдельными главами в газетах и журналах (см.: Горький М. Полн. собр. соч.: Художественные произведения: В 25 т. М., 1974. Т. 21. С. 565).
(10) …Джозеф Конрад, поляк родом… – Конрад Джозеф (Юзеф Теодор Конрад Коженевский; 1857–1924) – английский писатель, родился в Бердичеве на Украине. Его отец, Аполлон Коженевский, принимал активное участие в борьбе за независимость Польши и в восстании 1863 г.
В эти годы на русском языке было издано Собрание сочинений Д. Конрада в 6 томах (М.; Л: ЗиФ, 1925–1926), а также книга «Фрея семи островов. Повесть. Сердце тьмы. Роман» (М.-Л., 1926). В ЛЕГ в Москве хранится книга: Конрад Д., Хьюфер Ф. М. Романтические приключения Джона Компа (Romance) / Пер. Р. Райт и Н. Вольпин. Л.: Сеятель, 1926 (ОЛЕГ. 1986).
(11) …Панаиот Истрати, полугрек, полурумын… – Румынский писатель Панаит Истрати (1884–1935) – сын румынской прачки и греческого контрабандиста – жил во Франции и писал на французском языке. По рекомендации Р. Роллана сотрудничал в журнале М. Горького «Беседа». В 1926 г. в СССР вышли книги П. Истрати «В сумрачной долине», «Найдуки», «Дядя Ангел» и др. Три книги писателя (романы «Домница из Снагова», «Неррансула» и автобиография «Мои скитания»), вышедшие в СССР в 1927 г., хранятся в ЛБГ, две из них выпущены издательством «Круг» в серии «Новости иностранной литературы» (ОЛЕГ. 1957–1959).
(12) …Берковичи – румынский еврей. – Берковичи Конрад – американский новеллист, по происхождению еврей, родом из Румынии. В 1926 г. вышли книги К. Берковичи «Цыганские рассказы» (М., 1926), «Гицца. Рассказы» (Л.: Госиздат, 1926). В Личной библиотеке Горького хранится издание: Берковичи К Поющий ветер: Цыганские рассказы / Пер. с англ. А. В. Кривцовой. М.: Круг, 1927 (ОЛЕГ. 1765).
(13) …Иосиповичи, автор интересного романа «Гоха-дурак». – Имеется в виду книга: Адес А., Иосиповичи А. Книга о Гохе-дураке. Л.; М, 1924. Рецензия на книгу была напечатана в журнале «Русский современник» (Смирнов А.А. [Рецензия] // Русский современник. 1924. № 3. С. 280). Этот номер журнала Горький внимательно прочитал (см. письмо А. Н. Тихонову от 23 октября 1924 г.: Горьковские чтения. 1959. М., 1959. С. 48–50).
(14) …идет «Ревность» Арцыбашева. – Пьеса «Ревность» (опубл.: Земля. 1913. № 13) шла в Неаполе на итальянском языке театре «Politeama» в постановке группы драматических актеров под руководством Татьяны Павловой. 22 февраля 1926 г. Горький присутствовал на спектакле (II Giornale d'ltalia. 1926. № 47. 24 Fevr.; Летопись жизни и творчества. Вып. 3: 1917–1929. М.: Изд-во АН СССР, 1959. С. 471).
(15) …некий «Сэр Галаад». – Сэр (Сир) Галахад (один из рыцарей «Круглого стола») – псевдоним, под которым на немецком языке в 1925 г. вышла книга «Путеводитель по идиотам в русской литературе» («Idiotenfuhrer durch die russische Literatur»). Д. А. Лутохину, автору рецензии на эту книгу в журнале «Воля России» (1926. № 7), Горький писал 11 сентября 1926 г.: «О книжке Сэра Галаад рецензию Вашу читал. На днях ознакомлюсь с самой книжкой и, кажется, тоже напишу что-то» (Архив А. М. Горького. Т. XIV: Неизданная переписка. М.: Наука, 1976. С. 415). Это намерение писатель не реализовал. 14 марта 1928 г. Лутохин сообщал Горькому, что «сэр Галахад» – «псевдоним венской журналистки Frau Echstein» (АГ. КГ-п-46а-1-127).
(16) Храню письма эти. – В Архиве А. М. Горького сохранились два письма из бюро газетных вырезок «Аргус» с предложением своих услуг. На одном из них, без даты, рукой Горького синим карандашом помета «Бюро вырезок» (АГ. КГ-ин-А-риз-6-1-3). На втором, от 31 августа 1926 г., Горький написал красным редакторским карандашом: «Л. Н. Андрееву». Вероятно, оно было адресовано Леониду Андрееву. К этому письму приложена вырезка из неустановленной газеты от 11 августа 1926 г. – статья Эдварда Кушинга (Edward Cushing) о пьесах Андреева и его романе «Сашка Жигулев» «Not Andreyev's Best» (АГ. КГ-ин-А-риз-6-1-1).
(17) Спасибо за портрет. – См. примеч. 5 к письму 7.
(18) …похожим на Гиббона, историка. – Гиббон (Gibon) Эдуард (1737–1794) – английский историк, автор труда «История упадка и разрушения Римской империи». В Личной библиотеке Горького в трех экземплярах имеется издание: Гиббон Э. История упадка и разрушения Римской исперии. Ч. 1–7. Изд. Д. Белля 1877 года/ Примеч. Гизо, Венка, Шрейтера, Гуго и др.; Пер. с англ. В. Н. Неведомской. М.: изд. К. Т. Солдатенкова, 1883–1885 (ОЛЕГ. 6839, 6840, 6841). На первом из них (на всех семи томах) – пометы Горького. В ЛБГ хранится также книга: Лютое М. М. Жизнь и труды Гиббона. С его портр. и fac-simile. СПб.: тип. B.C. Балашов к К°, 1899 (ОЛЕГ. 6957). Горький высоко ценил Гиббона, считал его одним из ярких исключений в ряду якобы беспристрастных историков, писал, что Гиббон «был чудовищно талантлив и обладал качеством художника, редкой способностью оживлять прошлое, воскрешать мертвых» (Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1953. Т. 26. С. 217). В комментируемом шутливом высказывании, однако, имеется в виду не талант историка, а его внешний облик: круглое полное лицо с двойным подбородком. Портрет Гиббона помещен в указанных выше книгах: первом томе его исторического труда и книге М. М. Лютова.
9. Вс. Иванов – А. М. Горькому*
(25 сентября 1926)
Автограф: АЛ КГ-п-30-1-17. Публикуется впервые.
(1) …не получил от Вас всего трех писем. – Предположение Иванова не лишено оснований. В архиве Горького хранятся машинописные копии его писем Иванову, перлюстрация с автографа (АГ ПГ-рл-17-3-30, ПГ-рл-17-3-31, ПГ-рл-17-3-32, ПГ-рл-17-3-33). На письме от 30 января 1927 г. сделана пометка простым карандашом: «К делу…» (подпись неразборчива).
(2) Два дня назад шла в «Художественном» «Белая гвардия». – Речь идет о пьесе М. А. Булгакова «Дни Турбиных», первые две редакции которой сохраняли заглавие романа – «Белая гвардия». Задолго до премьеры, в ходе репетиций, пьеса подверглась ожесточенной критике (см.: Смелянский A. M. М.Булгаков в Художественном театре. М., 1989. С. 63–108; Чудакова М. О. Жизнь Михаила Булгакова. М., 1988. С. 271–273). 17 сентября 1926 г. после очередной репетиции было вынесено решение: «Главрепертком считает, что в таком виде пьесу выпускать нельзя. Вопрос о разрешении является открытым» (Чудакова М. О. Указ. соч. С. 271). Вс. Иванов пишет А. М. Горькому о своем посещении решающей генеральной репетиции (закрытом общественном просмотре) 23 сентября, на которую были приглашены представители Главреперткома и правительства.
(3) «Власть тьмы, или Коготок увяз, всей птичке пропасть» – пьеса Л. Н. Толстого (1887).
(4) …к комсомольской писательской среде. – О «болезненных» явлениях в РКСМ заговорил Н. Бухарин на XIV съезде РКП (б) в декабре 1925 г.: «…есть и другие, менее устойчивые элементы, в особенности остающиеся за бортом, которые попадают под влияние упадочных тенденций. Отсюда рост всевозможных анархических настроений…» (XIV Съезд ВКБ (б) о комсомоле. М.; Л., 1926). Слова Вс. Иванова «а вот гибнут» из письма А. М. Горькому, возможно, связаны с самоубийством в феврале 1926 г. поэта-комсомольца Г. Хвастунова, которое пролетарская критика приписала влиянию идеологически вредной поэзии С. Есенина. О завершении романтического, оптимистического периода в комсомольской литературе, росте «упадочных настроений» см.: Корниенко Н.В. «Покрой есенинский мне узок…»: Есенинский текст и комсомольская поэзия в 1925–1926 гг.: (Поэтика и проблематика творчества С. А. Есенина в контексте есенинской энциклопедии. Москва; Константиново; Рязань, 2009. С. 178–217).
(5) «Белую гвардию» разрешили. Я полагаю, пройдет она месяца два-три, а потом ее снимут. – После изменения названия, снятия и переделки ряда сцен 25 сентября 1926 г. пьеса была разрешена Главреперткомом к постановке только в МХАТе. Премьера состоялась 5 октября 1926 г. В марте 1929 г. пьеса М. Булгакова снята с репертуара. О спектакле Вс. Иванов пишет К. Федину 28 сентября 1926 г.: «„Злоба дня“ Москвы – „Белая гвардия“, сей советский Карамзин утверждает, что и Эразмы „могут чувствовать“. Пьеса действительно превосходная, и играют на такой простоте и так здорово, – что лучше нельзя» (СС-3. М., 1978. Т. 8. С. 595).
(6) …рассказ «Повесть о непогашенной луне»… – В № 5 журнала «Новый мир» за 1926 г. печаталась «Повесть непогашенной луны» Б. Пильняка. В героях повести о смерти командарма на операционном столе, куда он лег по приказу вождя страны, читатели могли узнать И. В. Сталина и М. В. Фрунзе. Весь тираж журнала был конфискован. Б. Пильняку запретили печататься в центральных изданиях. 13 мая 1926 г. состоялось заседание Политбюро, посвященное публикации в «Новом мире» повести, на котором было заслушано сообщение секретаря ЦК В. М. Молотова и объяснения редакторов журнала И. И. Скворцова-Степанова и В. П. Полонского, а также А. К. Воронского и начальника Главлита П. И. Лебедева-Полянского. В № 6 «Нового мира» (С. 184) редакция признала публикацию повести «явной и грубой ошибкой» (см.: Пильняк Б. Письма. Т. И: 1923–1937. С. 273–278; Динерштейн Е. Политбюро в роли верховного цензора (к истории одной публикации) // Новое литературное обозрение. 1998. № 4. С. 391–397).
(7) …попал рассказ в моменты борьбы с оппозицией… – См. примеч. 4 к рассказу «Особняк».
(8) Книгу я Вам пошлю. – См. письмо 12.
10. А. М. Горький – Вс. Иванову*
(15 октября 1926)
Автограф: АГ. ПГ-рл-17-3-9.
(1) …прилагаю газетную вырезку. – Публикуя письмо Горького, Иванов сделал сноску: «Приложена газетная вырезка из итальянской газеты с переводом – „Руководство для настоящего фашиста“. Среди тринадцати „заповедей“ есть такие „перлы“: „Делай вид серьезного человека, потому что на свете много дураков, которые по поведению одного судят всю партию“, или: „Империализм – символ мощи и порыва, это – рука народа“, или: „Люби отца и мать, люби сколько хочешь, но старайся иметь детей только твоей расы“» (Иванов Вс. Встречи с Максимом Горьким. М., 1947. С. 43). В машинописной копии (перлюстрации) рукой неустановленного лица красными чернилами сделана приписка: «В приложении дана вырезка из итал(ьянск)ой газеты с фашистскими лозунгами» (АГ. ПГ-рл-17-3-30). Вырезка не сохранилась.
(2) «vade mecum» – (лат., буквально: иди со мной) путеводитель, справочник.
(3) …скандал, устроенный Воронову. – С А. Воронов – русский хирург, работавший во Франции, автор книги «О продлении жизни» (М.: Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1923). Занимался опытами по омоложению человеческого организма путем пересадки человеку половых желез обезьян. Опыты Воронова сначала привлекли внимание общественности, но затем были отвергнуты научным сообществом. Это, вероятно, и имеет в виду Горький, когда пишет о скандале.
(4) «Обезьяний процесс», устроенный Брайаном… – Нашумевший судебный процесс, состоявшийся 10–21 июля 1925 г. в г. Детройте (штат Теннесси, США). Учитель Д. Скопе, нарушив запрещение, существовавшее в ряде штатов США, излагал школьникам эволюционное учение Ч. Дарвина о происхождении человека от человекообразной обезьяны. Главным обвинителем на процессе выступал один из лидеров Демократической партии У. Брайан. Суд приговорил Д. Скопса к денежному штрафу.
(5) …борьбы «низколобых» с «высоколобыми»… – В статье «Годовщина исторического постановления» (1931) Горький писал: «…борьба „низколобых“ – то есть обывателей, средней буржуазии – против „высоколобых“ – то есть интеллигентов – в С. Ш. С. Америки <…> выражается в таких явлениях средневековой дикости, как, например, знаменитый „обезьяний процесс“ и запрещение в некоторых штатах преподавания дарвинизма в школах» (Горький М. Собр. соч.: В 30 т. Т. 26. С. 120–121).
(6) «Сэр Галаад», автор гнусной и безграмотной книги о России, о русской литературе… – См. примеч. 14 к письму 8.
(7) … «Пощечина мертвецу» – Ан. Франсу… – Горький имеет в виду статью Луи Арагона «Дали вы уже оплеуху мертвецу?» в сборнике «Труп» (1924), выпущенном писателями-сюрреалистами в Париже по случаю смерти Анатоля Франса (1844–1924). Ромен Роллан в письме Горькому от 12 декабря 1924 г. так охарактеризовал этот сборник: «…оскорбительный памфлет, проникнутый смертельной ненавистью к Франсу и появившийся на следующий же день после его смерти. Этот памфлет, озаглавленный „Труп“, принадлежит перу Пьера Дрие Ла Рошеля, Супо, Луи Арагона, Поля Элюара и Жозефа Дельтея. Дело тут вовсе не в злобной критике, с которой люди обрушиваются порой на пережившего себя великого человека после его смерти. „Труп“ действительно вырыт из могилы, осквернен, смешан с грязью. Самым свирепым из шести писателей (среди которых нет ни одного незначительного, а по меньшей мере трое – первостепенные величины) оказался Луи Арагон, статья которого озаглавлена „Вы уже дали пощечину мертвецу?“» (Архив А. М. Горького. Т. XV: М. Горький и Р. Роллан: Переписка (1916–1936). М., 1995. С. ИЗ).
(8) …ненависть к Р. Роллану… – Говоря о ненависти к Роллану, Горький, вероятно, имел в виду подборку резко отрицательных высказываний некоторых французских писателей о Роллане, помещенную в журнале «Europe» (1926. № 38. 15 февр.) в разделе «Petite antologie de la sottise». 23 ноября 1925 г. P. Роллан писал Горькому: «Моя духовная независимость дорого мне обошлась. Я потерял всех друзей юности и почти всех друзей зрелости. <…> Я раздражал их предрассудки или смущал их осторожный карьеризм, боявшийся скомпрометировать себя» (Архив А. М. Горького. Т. XV С. 133).
(9) …скандал, устроенный Полю Маргерит. – Горький ошибся: судебные преследования возбуждались не против Поля, а против его брата Виктора Маргерита. Роман «Холостячка» (1922), в русском переводе «Моника Лербье» (1924), критиковали во французской печати за порнографию. В. Маргерит был лишен ордена Почетного легиона. А. Франс выступил в его защиту (Архив А. М. Горького. Т. XV. С. 380, 384).
(10) Дюамель Жорж – см. примеч. 8 к письму 5; Мартен дю Гар Роже (18811958) – французский писатель, лауреат Нобелевской премии 1937 г., автор романа «Семья Тибо» (т. 1–8, 1922–1940); Ромен Жюль (наст. имя ЛуиАнри Фаригуль, 1885–1972) – французский писатель, поэт и драматург; Мак-Орлан Пьер (наст. имя Пьер Дюмарше (1882–1970) – французский писатель.
(11) Лоуренс Дэвид Герберт (1885–1930) – английский писатель, автор романов «Сыновья и любовники» (1913), «Влюбленные женщины» (1920), «Любовник леди Чаттерлей» (1928) и др.; Кортрем – о ком идет речь, установить не удалось.
(12) Нитчше – так у Горького.
(13) …стихи последней книги «Красной нови» ~ стихи о медведице… – В № 10 «Красной нови», о котором идет речь, поэзия была представлена поэмой Э. Багрицкого «Дума про Опанаса», стихотворениями С. Клычкова «Лихо», П. Орешина «Черемуха», А. Пришельца «Коноплянка»; стихами о медведице Горький назвал стихотворение Я. Дубнова «Надежда Петровна».
(14) Трудно все-таки не осудить Толстого и Щеголева. – Имеется в виду пьеса А. Н. Толстого и П. Е. Щеголева «Заговор императрицы» (1925).
11. А. М. Горький – Вс. Иванову*
(13 декабря 1926)
Автограф: АГ. ПГ-рл-17-3-27.
(1) «Голубые пески» – роман Вс. Иванова (Кр. Н. 1922. № 3–6; 1923. № 1, 3; отд. изд.: Голубые пески: Роман. М.: Круг, 1923).
12. Вс. Иванов – А. М. Горькому*
(22 января 1927)
Автограф: АГ. КГ-п-30-1-19.
(1) … «Известия» отказались напечатать. – Речь идет о заявлении, в котором Вс. Иванов приносил Горькому «глубочайшие извинения» и высказал сожаление по поводу того, что дал разрешение напечатать письмо Горького к нему с отзывом о рассказе «На покой». Это письмо было использовано в статье М. Ольшевца «Писатель в одиночестве. Почему?» (Известиях. 1927. 1 янв.). 19 января в «Известиях» было напечатано «Письмо в редакцию», в котором М. Горький высказал свое неудовольствие фактом публикации различными литераторами его писем.
13. А. М. Горький – Вс. Иванову*
(30 января 1927)
Автограф: АГ. ПР-рл-17-3-10.
(1) …письмо Груздева ~ уничтожаете рукописи и т. д. – И. А. Груздев сообщал Горькому из Ленинграда: «Говорят, что душевно очень неустроен и Всеволод Иванов. Будто бы сжег свои рукописи и т. д. Я знал, что настроен он был плохо, но в эти рассказы верю мало. Всеволод не Федин и не Зощенко, неврастенией его не возьмешь. Но правда, что в Москве он засиделся. Хорошо, если бы Вы убедили его проехаться „по Европам“» (Архив А. М. Горького. Т. XI: Переписка А. М. Горького с И. А. Груздевым. М., 1966. С. 94).
(2) …письмо Гладкову, – сократившему критическую часть письма… – В «Учительской газете» (1926. № 49. 11 дек. С. 3) Ф. В. Гладков опубликовал отрывок из письма Горького от 30 ноября 1926 г. (См.: ЛИ. С. 85–86, 88). Прочитав письмо Горького, опубликованное в газете «Известия» 19 января 1927 г., Гладков оправдывался, что «дал несколько строк <…> имеющих исключительно общественное значение» (Там же. С. 86). Под сокращенной Гладковым «критической частью» своего письма Горький, скорее всего, имел в виду следующее: «Вы спрашиваете: „вполне ли“ я с вами? Я не могу быть „вполне“ с людьми, которые говорят: „мы, пролетарии“ с тем же чувством, как, бывало, другие люди говорили: „мы, дворянство“ <…> В частности, позиция, занятая рабочим, вовсе не требует, чтоб он воровал, хулиганил, насиловал девиц и бил докторов» (Там же. С. 85).
(3) …письмо к Войтоловскому, опубликованное Демьяном Бедным… – Письмо Горького к Л. Войтоловскому опубликовано в составе предисловия Д. Бедного к книге: Войтоловский Л. По следам войны. М.; Л: Госиздат, 1927. Т. П. Войтоловский прислал книгу Горькому (см. примеч. 6 к письму 5).
(4) …вырезки бесцеремонно искажали мои слова. – О каких публикациях идет речь, установить не удалось.
(5) Сергееву-Ценскому потребовалось почти 20 лет для того, чтоб… написать «Валю» («Преображение»). – Горький следил за творчеством С. Н. Сергеева-Ценского с первой половины 1900-х годов. «Валя» – роман С. Н. Сергеева-Ценского, первая часть его эпопеи «Преображение». В 1923 г. автор выслал Горькому его первое отдельное издание: Сергеев-Ценский С. Н. Преображение: Роман: В 8 ч. Ч. 1: Валя. Симферополь: Крымиздат, 1923. Горький восторженно воспринял эту книгу, о чем в 1923–1924 гг. писал автору, Ф. А. Брауну, М. Ф. Андреевой, В. А. Каверину и др. (см.: Горький М. Полн. собр. соч.: Письма: В 24 т. М., 2009. Т. 14. С. 198–199, 214, 221, 277, 306). 20 ноября 1923 г. Горький сообщал М. М. Пришвину свое мнение о «Преображении»: «Я оцениваю этот роман как крупнейшее литературное событие за последние двадцать лет» (Там же. С. 267). Подробнее об отношении Горького к творчеству Сергеева-Ценского см.: Баранова Н.Д. М. Горький и советские писатели: (Идейно-творческие взаимосвязи в 20-е годы). М., 1975. С. 45–48, 66–84.
(6) Книжку еще не получил. Прочитав ее – напишу Вам… – Получил ли Горький книгу ГГ, установить не удалось. Письма с оценкой ТТ Горький, по-видимому, не написал. Книга в Личной библиотеке Горького не сохранилась.
14. Вс. Иванов – А. М. Горькому*
(24 августа 1927)
Автограф: АГ. КГ-п-30-1-20.
(1) …вынужден был покинуть «Красную новь». – В августе А. К. Воронский писал Горькому: «В „Нови“ я числюсь, но давно уже фактически не работаю» (Архив А. М. Горького. Т. X: М. Горький и советская печать. М., 1965. Кн. 2. С. 57).
(2) Ясно, что письма перехвачены соответствующими учреждениями. – См. примеч. 1 к письму 9.
(3) Лев Никулин – Никулин Лев Вениаминович (1891–1967) – писатель, автор приключенческих романов «Никаких случайностей» (1924), «Тайны сейфа» (1925) и др. О совместной поездке с Вс. Ивановым в 1927 г. в Европу см.: Никулин Л. О мятежной и гордой молодости // Всеволод Иванов – писатель и человек. С. 161–169.
(4) В первых числах ноября в Художественном идет премьера моей пьесы «Бронепоезд». – Премьера пьесы Вс. Иванова «Бронепоезд 14–69» состоялась 8 ноября 1927 г. вМХАТе.
(5) Воронский грустит – и очень похоже, что его и из «Круга» вышибут. – 15 декабря 1927 г., уже после решения освободить А. К. Воронского от обязанностей члена редколегии журнала «Красная новь» (13 октября 1927 г.), он подал заявление об отставке с поста председателя Правления издательства «Круг». 22 декабря 1927 г. просьба А. К. Воронского была удовлетворена.
15. Вс. Иванов – А. М. Горькому*
(6 сентября 1927)
Автограф: АГ. КГ-п-30-1-21.
(1) …получил Ваше письмо… – Письмо Горького не сохранилось.
(2) …пьесу «Бронепоезд» Главрепертком запретил… – 11 августа 1927 г. инспектор МХАТ Ф. Н. Михальский писал К. С. Станиславскому: «Вот новости из Реперткома: „Турбины“ категорически не допускаются. В „Бронепоезде“ необходимы поправки во всех действиях и полная переработка последнего акта. В нашей же редакции его не допускают» (Виноградская И. Жизнь и творчество К. С. Станиславского: Летопись. М., 2003. С. 558). 13 сентября Станиславский обращается к А. В. Луначарскому с просьбой ускорить решение Главреперткома по поводу «Бронепоезда»: «…я бы хотел Вам заявить также и о том, что „Бронепоезд“ еще не разрешен окончательно цензурой. От автора, уехавшего на отдых за границу, требуются значительные и сложные переделки. Ему послана телеграмма, но пока его приезд лишь ожидается» (Там же. С. 563–570). Режиссер-постановщик пьесы И. Я. Судаков вспоминал: «Я не подчинился требованию реперткома и не прекратил репетиций, а пошел к председателю реперткома тов. Гундобину, спрашиваю его: „Почему запрещена пьеса?“ Он ответил: „В пьесе не отражена роль партии в партизанском движении на Дальнем Востоке“». Не имея возможности привлечь Иванова, который был в это время в Париже, к доработке, Судаков нашел подходящий текст в повести «Бронепоезд 14–69» (1921). «Через неделю было получено разрешение… Темп репетиций не был нарушен» (см.: Всеволод Иванов – писатель и человек. С. 155–157). В Музее МХАТа хранится цензурованный экземпляр «Бронепоезда», на титульном листе которого отмечено, что 13 октября 1927 г. пьеса разрешена к постановке только в МХАТе (Музей МХАТ. Ф. 1. Оп. 93. № 1179).
16. Вс. Иванов – А. М. Горькому*
(2 октября 1927)
Автограф: АГ. КГ-п-30-1-22.
(1) …японский журналист Отокичи Рода… – Курода Отокири был корреспондентом газеты «Осака майнити» в Москве в 1920-х годах.
17. А. М. Горький – Вс. Иванову*
(13 октября 1927)
Автограф: АГ. ПР-рл-17-3-24.
(1) «Ананий» – рассказ «Блаженный Ананий», напечатанный в альманахе «Круг» (М., 1927. Кн. 6. С. 112–132). Критикуя шестую книгу альманаха, Горький писал А. Н. Тихонову 1 августа 1927 г.: «Кроме Иванова, всё – незначительно» (Горьковские чтения. 1953–1957. М., 1959. С. 56).
(2) …разоблачение «визита» Шульгина в Россию! – Имеется в виду нелегальная поездка политического деятеля, бывшего лидера правых в Государственной Думе, монархиста В. В. Шульгина в Советскую Россию в 1925–1926 гг., о которой он рассказал в книге «Три столицы. Путешествие в красную Россию» (Берлин: Медный всадник, 1927). После того как выяснилось, что приезд Шульгина в СССР, все его перемещения по стране и встречи проходили под контролем ОГПУ, доверие к нему в среде эмигрантов было подорвано. Об участии работников ОГПУ в организации поездки Шульгина по России и последующем разоблачении этой акции В. Л. Бурцевым см.: Никулин Л. Мертвая зыбь: Роман-хроника. М., 1965. С. 272–284.
18. Вс. Иванов – А. М. Горькому*
(28 октября 1927)
Автограф: АГ. КГ-п-30-1-23.
Слова в письме Вс. Иванова: «Как, например ~ а мечтательный бандит» – подчеркнуты Горьким красным карандашом.
(1) …Станиславский хвалил пьесу. – Режиссером спектакля по пьесе Вс. Иванова был И. Я. Судаков, однако работа шла при участии К. С. Станиславского. П. А. Марков вспоминал, что «Станиславский своими беседами и немногими репетициями давал ключ к общему сценическому решению всего спектакля» (Марков П. Книга завлита. М., 1976. С. 236). В сентябре-октябре 1927 г., перед общественным показом пьесы 31 октября представителям Главреперткома, театральной общественности и членам правительства, шли интенсивные репетиции. Одна из них проходила 27 октября, очевидно, об этом пишет Иванов Горькому (см.: Виноградская И. Указ. соч. С. 543574). См. примеч. 2 к письму 15.
(2) …я согласился сотрудничать в «Красной нови» в новом ее редакционном составе… – 30 мая 1927 г. Оргбюро ЦК утвердило новую редколлегию журнала «Красная новь» в составе А. Воронского, Вл. Василевского, Ф. Раскольникова, В. Фриче. 6 июня 1927 г. Воронский отправил в Оргбюро ЦК заявление с просьбой освободить его от возложенных на него обязанностей. Решение было принято только 13 октября. Десятый номер журнала стал последним, который Воронский подписал как редактор, № 11 вышел под редакцией Вл. Василевского, Ф. Раскольникова, В. Фриче; в № 12 в составе редакции значилось уже имя Вс. Иванова. О том, что решение далось Вс. Иванову нелегко, он писал в набросках к «Истории моих книг»: «…толкование свершавшегося исторического процесса оказалось у нас различным. Вскоре после премьеры моей пьесы „Бронепоезд“ в МХАТе мне предложили редактировать отдел прозы в журнале „Красная новь“. [Я принял это предложение не без колебаний.] Воронский недавно был лишен поста редактора „Красной нови“. Мне тяжело было принимать пост, который долго занимал мой бывший друг. Да, бывший! С Воронским я уже не встречался; его привлекали другие писатели, и вся моя литературная работа была, кажется, ему не по душе. Все же симпатии мои к нему не совсем угасли. Я раздумывал. И лишь когда мне разъяснили, что в силу своих троцкистских убеждений, – безотносительно к тому, буду ли я редактировать „Красную новь“ или не буду, – Воронский не сможет вернуться в журнал, я вошел в состав редколлегии „Красной нови“. При ближайшей встрече Воронский не подал мне руки. Так распалась наша долголетняя дружба». На полях машинописной страницы с этим текстом Вс. Иванова написал: «Я даже написал ему письмо, на кот<орое> он не ответил» (ЛА).
(3) …связан с оппозицией. – А. К. Воронский подписал «Заявление 46-ти» в октябре 1923 г., названное на XIII конференции РКП (б) «троцкистским манифестом»; «Заявление 57-ми» 25 мая 1927 г., письмо в ЦК и ЦКК ВКП(б) 14 декабря 1927 г., в котором большая группа оппозиционеров протестовала против исключения Л. Троцкого и Г. Зиновьева из партии. В состав 75 наиболее активных членов оппозиции, решение об исключении которых было принято 12 декабря 1927 г., А. К. Воронский не вошел, его исключили из ВКП(б) в 1928 г. (см.: Белая Г. А. Дон Кихоты революции – опыт побед и поражений. М., 2004. С. 524–528; Динерштейн Е. А. К. Воронский. В поисках живой и мертвой воды. М., 2001. С. 186–315; Вор опекая Г.А. В стране воспоминаний. М., 2007. С. 212–217).
(4) Бабель в Италии. Он у вас был? – И. Бабель посетил Горького в Сорренто весной 1928 г. (см.: ЛН. С. 42–43).
(5) Вчера мне принесли анкету для газеты ~ Я ответил – «скука…» – Речь идет об анкете «Писатели о кино». Ответ Вс. Иванова «И на том спасибо» опубликован в газете «Кино» (1927. 8 нояб. С. 3). Текст о скуке, который Иванов упоминает в письме Горькому, в статью не вошел.
19. А. М. Горький – Вс. Иванову*
(8 ноября 1927)
Автограф: АГ. ПГ-рл-17-3-23.
(1) …все недостатки «влиятельного критика». – Содержание этого фрагмента письма стало известно А. К. Воронскому, и он с болью и обидой писал об этом Горькому 26 ноября 1927 г. (см.: Архив А. М. Горького. Т. X: А. М. Горький и советская печать. Кн. 2. М.: Наука, 1965. С. 59–60). Купюра, сделанная при публикации письма Воронского, касается Вс. Иванова; она приведена в книге Е. А. Диннершейна «А. К. Воронский. В поисках живой воды» (М., 2001. С. 211). Ответ Горького от 4 декабря 1927 г. Воронскому см.: Архив А. М. Горького. Т. X. Кн. 2. С. 61.
(2) …я тоже не хотел печататься в «К<расной> Н<ови>»… – О том, что «уход А. К. Воронского из „К<расной> Нови“ будет гибель журнала», Горький писал, в частности, А. Н. Тихонову 15 июня 1927 г. (АГ. ПГ-рл-44-10-54). 28 июня 1927 г. он сообщал тому же адресату: «Телеграфировал Крючкову, что ввиду ухода А.К. из „Кр. Нови“ я в этом журнале печататься не буду» (АГ. ПГ-рл-44-10-55).
(3) …но теперь – буду. – В № 5–8 «Красной нови» за 1928 г. под заглавием «Отрывок из второй части трилогии „Сорок лет“» напечатан фрагмент романа «Жизнь Клима Самгина».
(4) …приезжайте в Италию – См. примеч. 2. к письму 5.
(5) …если оный Бабель не побывает у меня… – См. примеч. 4 к письму 18.
(6) …неприятная штучка, именуемая смертью. – 31 декабря 1927 г. Горький писал Л. Леонову: «Что я хворал – верно. Простудился, и – воспаление правого легкого. Было очень скверно, задыхался» (Горький М. Собр. соч. Т. 30. С. 58–59).
(7) … «Фанфару» Вы мне пришлите, пожалуйста. – Горький ошибочно принял ироническую фразу Иванова за название газеты. См. примеч. 5 к письму 18.
(8) Ошибка Горького. Правильно: «8.XI.27». Дата уточняется по почтовому штемпелю на конверте и сопоставлению с письмом 18.
20. Вс. Иванов – А. М. Горькому*
(10 января 1928)
Автограф: КГ-п-30-1-24.
(1) …нельзя ли нам «Клима Самгина» пустить на месяц раньше «Нового мира»? – Отрывки из романа А. М. Горького печатались в журналах «Красная новь» и «Новый мир» практически одновременно. Отрывок из второй части трилогии «Сорок лет» – Кр. Я, 1928. № 5. С. 3–63; № 6. С. 3–58; № 7. С. 15–83; № 8. С. 34–97. Вторая часть трилогии «Сорок лет»-Я. мир. 1928, № 5. С. 5–35; № 6. С. 5–50; № 7. С. 5–57; № 8. С. 5–54; № 9. С. 16–61.
(2) …его рассказ «Иной период». – Рассказ писателя Дмитрия Ивановича Еремина (1904–1993) опубликован: Кр. Я. 1928. № 2. С. 66–88.
(3) …роман Олеши «Зависть»? – Роман Юрия Карловича Олеши (1899–1960) опубликован: Кр. Я. 1927. № 7. 8.
(4) Недавно окончил повесть «Гибель Железной»… – Опубликована: Кр. Я. 1928. № 2.
(5) …пишу «Записки Неизвестного Солдата»… – Отдельно не печатались. В качестве вставной новеллы «Подлинная история неизвестного солдата, спасшего Францию» вошли в роман «Кремль» (1929–1930). При жизни писателя роман не публиковался.
(6) …у меня родилась дочь. – Иванова-Веснина Мария Всеволодовна (1928–1974), от брака с А. П. Ивановой-Весниной.
(7) …праздновать Ваш юбилей. – В марте 1928 г. в стране широко отмечалось шестидесятилетие со дня рождения А. М. Горького. К юбилею опубликованы статьи и воспоминания Вс. Иванова: «М. Горькому. В связи с 35-летием литературной деятельности» (Известия. 1928. 29 марта; Учительская газета, 1928, 30 марта); «В голодный год: Из встреч с М. Горьким» (Советская Сибирь. 1928. 29 марта); «Сентиментальная трилогия» (Кр. Я. 1928. № 3).
Е. Папкова. Главная книга Всеволода Иванова*
(1) Воронский А. К. Искусство видеть мир. М., 1987. С. 356–357.
(2) Троцкий Л. Литература и революция. М., 1923. С. 42.
(3) Там же. С. 52.
(4) ЛН. С. 378.
(5) Там же. С. 562–563.
(6) Лежнев А. Путь к человеку // Прожектор. 1927. № 3. С. 22.
(7) Браун Я. У синего зверюшки в лапах // Сибирские огни. 1923. № 4. С. 156.
(8) Свентицкий А. Писатель без человека // Зори. 1924. № 8. С. 11.
(9) Львов-Рогаческий В. Новый Горький (Всеволод Иванов) // Современник. 1922. № 1. С. 156.
(10) Тукалевский Вл. Литературные рисовальщики // Новая русская книга. Берлин, 1922. № 4. С. 1.
(11) Н. А-в. [Андреев Н.Е.] Среди книг и журналов // Воля России. Прага, 1932. № 1. С. 100.
(12) Правда, 1922, № 41. 28 июня. Цит. по: Воронский А. К. Указ. соч. С. 361.
(13) Там же. С. 359.
(14) См.: Гроссман-Рощин И. Наш путь // На лит. посту. 1927. № 20. С. 25–26; Григорьев Я. Кризис старых попутчиков // Там же. С. 27–32; Гельфанд М. От «Партизан» к «Особняку»: К характеристике одной писательской эволюции // Революция и культура. 1928. № 22. С. 70–77; Эльсберг Ж. Настроения современной интеллигенции в отражении художественной литературы // На лит. посту. 1929. № 3. С. 38–39; Рыжиков К. Оптимизм и пессимизм Всеволода Иванова: (Опыт социологического объяснения) // На лит. посту. 1929. № 14. С. 49–60 и др.
(15) Литературная энциклопедия. М., 1930. Т. 4. С. 402–403.
(16) Троцкий Л. Указ. соч. С. 42.
(17) Цит. по: Большая цензура. Писатели и журналисты в Стране Советов. Документы. М., 2005. С. 189–190. Письмо датируется не ранее 21 июля 1930 г.
(18) Там же.
(19) Дневники, 43.
(20) Белая ГА. Дон-Кихоты революции – опыт побед и поражений. М., 2004. С. 412–413.
(21) Цит. по: Иванова Т. Мои современники, какими я их знала. М., 1984. С. 58.
(22) РГАЛИ. Ф. 2118. On. 1. Ед. 92. Л. 1.
(23) Иванов Вс. История моих книг // Наш современник. 1957. № 3. С. 145.
(24) Там же.
(25) ЛА.
(26) АГ. П-каКр. Новь. 1-27-1.
(27) Письма хранятся: АГ. П-ка Кр. Новь. 1-26-1-1-26-8. Впервые: НВИ. С. 680–691.
(28) СС-2.М., 1958. Т. 1.С. 63–64.
(29) ЛА.
(30) Письмо подписали: И. Бабель, М. Волошин, С. Есенин, М. Зощенко, С. Клычков, О. Мандельштам, М. Пришвин, Б. Пильняк, Н. Тихонов, А. Чапыгин и др. Текст письма составлен Б. Пильняком (см.: Пильняк Б. Письма: В 2 т. Т. 2: 1923–1937. М., 2010. С. 158–161).
(31) К вопросу о политике РКП(б) в художественной литературе. М., 1924. С. 106–107.
(32) СС-3. Т. 8. М., 1978. С. 590.
(33) Слоним М. Портреты советских писателей. Paris, 1933. С. 72.
(34) Известия. 1922. 22 февр. С. 3.
(35) Письмо-протест К. А. Федина и Вс. В. Иванова в редакции газет / Публ. В. В. Перхина // Из истории литературных объединений Петрограда-Ленинграда 1920-1930-х годов: Исследования и материалы. СПб., 2006. № 2. С. 22.
(36) Иванов Вс. Переписка с A.M. Горьким; Из дневников и записных книжек. М., 1965. С. 16–17.
(37) Наседкин В. Последний год жизни Есенина. М., 1926. С. 18.
(38) Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. (9 кн.). М., 1997. Т. 5. С. 244.
(39) ГМФ 35853.
(40) ЛА.
(41) С. А. Есенин в воспоминаниях современников. М., 1986. Т. 2. С. 76.
(42) СС-3. М., 1978. Т. 8. С. 594.
(43) Цит. по: Лысое А. Березовый меридиан: Леонид Леонов и Сергей Есенин. Ульяновск, 2005. С. 41–42.
(44) Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. М., 1964. Т. 45. С. 376.
(45) Там же. С. 367.
(46) Там же. С. 364.
(47) Троцкий Л. Вопросы быта: Эпоха «культурничества» и ее задачи. М., 1923. С. 35.
(48) Перед II Сессией ВЦИК: Кодекс законов о браке, семье и опеке // Известия. 1925. 11 сент. С. 5.
(49) Вольфсон Ф.И. К дискуссии о проекте семейного кодекса // Кр. Н. 1926. № 1. С. 178–179.
(50) Шквал. 1926. № 1.С. 5.
(51) Там же. № 12. С. 8.
(52) Троцкий Л. Вопросы быта: Эпоха «культурничества» и ее задачи. С. 54.
(53) Безбожник. 1926. № 1. С. 1.
(54) Крестьянский журнал. 1923. № 1. С. 3.
(55) Там же. № 2–3. С. 8–9.
(56) Виттельс Ф. Фрейд: Его личность, учение и школа / Пер. с нем. д-ра Г. Б. Гаубмана. Л., 1925. С. 31–32.
(57) Фрейд 3. Тотем и табу: Психология первобытной культуры и религии. М.; Пг., 1923. С. 7.
(58) ЛА.
(59) Ярославский Е. М. Мораль и быт пролетариата в переходный период // Молодая гвардия. 1926. № 5. С. 147, 152.
(60) Залкинд А. Б. Очерки культуры революционного времени. М., 1924. С. 165.
(61) Брак и быт: Доклад тов. Коллонтай 25.1. в Доме Союзов // Известия. 1926. 27 янв. С. 5.
(62) Сальц А. О революционной законности // Известия. 1925. 24 нояб. С. 5.
(63) Платов А. Брак не игрушка // Известия. 1926. 31 янв. С. 4.
(64) Совершенно секретно. М., 2002. Т. 4. 4. 1. С. 312.
(65) Там же. М., 2001. Т. 3. Ч. 1. С. 122.
(66) Там же. С. 234.
(67) Там же. М., 2002. Т. 3. Ч. 2. С. 764.
(68) Там же. Т. 4. 4. 1.С. 313.
(69) Там же. Т. 3. Ч. 1.С. 333.
(70) Там же. Т. 3. Ч. 2. С. 592.
(71) Спасский И. На переломе // Печать и революция. 1925. № 5. С. 306.
(72) Деревня об Октябре // Известия. 1925. 10 нояб. С. 4.
(73) Журналист. 1926. № 4. С. 22.
(74) ЛА.
(75) СС-3. Т. 8. С. 606.
(76) ГМФ 35845.
(77) НВИ. С. 698.
(78) НВИ. С. 699.
(79) НВИ. С. 698–699.
(80) ГМФ 35849. Серапионовский альманах, о котором шла речь, не вышел. В архиве К. Федина текстов, возможно присланных Ивановым, нет.
(81) РО ИРЛИ. Р. 1. Оп. 24. Ед. хр. 503. Л. 4.
(82) ЛА.
(83) Иванов Вяч. Вс. Избранные труды по семиотике и истории культуры. М., 2000. Т. 2. С. 513.
(84) См.: Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2. 4. 2: XIV–XVI вв. Л-Я. Л., 1989. С. 427–430.
(85) Карский Е. Ф. Белорусы. Т. 3: Очерки словесности белорусского племени. Пг., 1921. С. 55.
(86) Сперанский М.Н. «Аристотелевы врата» и «Тайная тайных» // Статьи по славянской филологии и русской словесности: Сб. статей в честь академика А. И. Соболевского. Л., 1928. С. 16.
(87) Памятники литературы Древней Руси: конец XV – первая половина XVI в. М., 1984. Кн. 6. С. 537–539.
(88) Иванов Вс. Цветные ветра. М., 1922. С. 99, 121.
(89) Памятники литературы Древней Руси. С. 559.
(90) Новикова М. Мозг и душа // Безбожник. 1926. № 16. С. 5.
(91) СБ. С. 62.
(92) Платонов А. П. Сокровенный человек. М., 1928. С. 75.
(93) Лежнев А. Путь к человеку // Прожектор. 1927. № 3. С. 22.
(94) СС-3. Т. 8. С. 590.
(95) Свентицкий А. Писатель без человека // Зори. 1924. № 8. С. 11.
(96) Адамович Г. Три прозаика // Звено. 1926. 23 мая (№ 173). С. 1.
(97) Адамович Г. [«Тайное тайных» Вс. Иванова] // Звено. 1927. 27 февр. (№ 213). С. 1–2. Цит. по: Адамович Г. С того берега. М., 1996. С. 105.
(98) Г. Адамович. [«Тайное тайных» Вс. Иванова], 1927
(99) РГАЛИ. Ф. 611. Оп. 2. Д. 106. Л. 1
(100) Троцкий Л. Литература и революция. М., 1923. С. 54.
(101) Там же. С. 80.4
(102) Браун Я. У синего зверюшки в лапах // Сибирские огни. 1923. № 4. С. 179.
(103) Там же. С. 180.
(104) Львов-Рогачевский В. Новый Горький (Всеволод Иванов) // Современник. 1922. № 1. С. 166.
(105) Там же. С. 167–168.
(106) Воронский А. К. Всеволод Иванов // Воронский А. К. Указ. соч. М., 1987. С. 211.
(107) Там же. С. 210.
(108) Григорьев Я. Кризис «старых» попутчиков // На лит. посту. 1927. № 20. С. 30–34.
(109) Эльсберг Ж. Настроения современной интеллигенции в отражении художественной литературы // На лит. посту. 1929. № 2. С. 23.
(110) Тальников Д. Литературные заметки IIКр. Н. 1929. № 1. С. 250.
(111) Цит. по: Бухарин Н. Злые заметки. М.; Л., 1927. С. 9.
(112) Воронский А. Указ. соч. С. 230.
(113) Полонский, 232.
(114) Там же. С. 231.
(115) Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М., 1985. Т. 9. С. 305–306.
(116) Там же. С. 310.
(117) Там же. М, 2008. Т. 10. С. 126.
(118) Смирнов Ник. Книжное обозрение // Н. мир. 1927. № 8. С. 199.
(119) Горбачев Г. Современная русская литература. М., 1928. С. 225.
(120) Бунин НА. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 2006. Т. 3. С. 344.
(121) Там же. С. 345.
(122) Всеволод Иванов – писатель и человек: Воспоминания современников. 2-е изд., доп. М., 1975. С. 5.
(123) Федин К. Горький среди нас. М., 1967. С. 61.
(124) ЛЯ. С. 497.
(125) Горький и его эпоха: Исследования и материалы: В 2 т. М., 1989. Т. 2. С. 4.
(126) Архив A.M. Горького. Т. VIII: Переписка A.M. Горького с зарубежными литераторами. М., 1960. С. 337.
(127) Горький A.M.Полн. собр. соч.: Художественные произведения: В 25 т. М., 1973. Т. 17. С. 136.
(128) Там же. С. 402.
(129) СБ. С. 130–131.
(130) Воронский А.К. О Горьком // Воронский А. К. Указ. соч. С. 41–42.
(131) Воронский А.К. О книге Всеволода Иванова «Тайное тайных» // Ленинградская правда. 1926. 5 дек. С. 2.
(132) Вешнее В. Горькое лакомство // На лит. посту. 1927. № 20. С. 43–45.
(133) Гроссман-Рощин И. С. Без мотивов и без цели: «Ночь» и «Особняк» Вс. Иванова // На лит. посту. 1928. № 20–21. С. 46–48.
(134) НВИ. С. 92.
(135) Иванов Вс. Переписка с A.M. Горьким; Из дневников и записных книжек. М., 1985. С. 7.
(136) Там же.
(137) Вопросы литературы. 2007. № 2. С. 343.
(138) Горький A.M.Полн. собр. соч.: В 25 т. Т. 17. С. 239.
(139) Якубовский Г. Современная русская литература. Л., 1928. С. 121.
(140) Эльсберг Ж. Творчество Вс. Иванова IIНа лит. посту. 1927. № 19. С. 48.
(141) Библиография // На лит. посту. 1928. № 5. С. 93. Подпись: НН.
(142) ЛИ. С. 252.
(143) Кр. Н. 1927. № 7. С. 52.
(144) Там же.
(145) Цит. по: Ермилов В. За живого человека в литературе. М., 1928. С. 53.
(146) Кр. Н. 1927, № 7. С. 31.
(147) Эльсберг Ж. Настроение современной интеллигенции в отражении художественной литературы. С. 23.
(148) Там же.
(149) Ермилов В. Указ. соч. С. 67–68.
(150) Красный журнал для всех. 1925. № 1. С. 24.
(151) ДП. С. 17.
(152) Смирнов Ник. Указ. соч. С. 199.
(153) Авербах Л. О Литературных дискуссиях текущего года // На лит. посту. 1927. № 14. С. 10–11.
(154) Там же.
(155) Там же.
(156) Федин К. А. Собр. соч.: В 12 т. М., 1986. Т. 12. С. 31.
(157) Там же. Т. 11. С. 19.
(158) Эренбург И. Новая проза. Цит. по: Фрезинский Б. Судьбы серапионов: Портреты и сюжеты. СПб., 2003. С. 538.
(159) «Свела нас Россия…»: Переписка К. А. Федина и И. С. Соколова-Микитова. 1922–1974. М., 2008. С. 16–17.
(160) Там же. С. 17.
(161) Там же. С. 18.
(162) НИОРРГБ. Ф. 673. К. 46. Ед. хр. 41. Л. 1.
(163) «Свела нас Россия…» С. 28. Имеются в виду слова Горького: «Ты-то цыпленка не станешь хряпать».
(164) Освальд Шпенглер и «Закат Европы». М., 1922. С. 64–65.
(165) Там же. С. 69–70.
(166) Там же.
(167) Бобров С. Контуженный разум // Кр. Н. 1922. № 2 (март-апрель). С. 239. Подробно о дискуссии в периодике см.: Корниенко Н. В. Нэповская оттепель: Становление института советской литературной критики. М., 2010. С. 17–22.
(168) Правда. 1922. 5 окт. С. 3.
(169) Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 367.
(170) Там же. С. 364.
(171) ЛИ. С. 495.
(172) Там же. С. 496.
(173) Федин К. А. Трансвааль. М.; Л., 1927. С. 54. Далее все цитаты из книги даются по этому изданию с указанием страниц в скобках.
(174) Правда. 1927. 22 апр. С. 3.
(175) Саарек любит социализм // Комсомольская правда. 1928. 16 дек.
(176) Молодая гвардия. 1927. № 3. С. 226.
(177) Кр. Н. 1926. № 12. С. 261–262.
(178) Серапионовы братья в зеркалах переписки. С. 341.
(179) Цит. по: Сибирские поэты и их произведения в автографах // ГИАОО. Ф. 1073. On. 1. Д. 367. Л. 16.
(180) Там же. Л. 18.
(181) Цит. по: Минокин М. Встречи и переписка со Всеволодом Ивановым // Архив Государственного омского литературного музея. 29/21.
(182) Там же. М., 1995. Т. 1. С. 186.
(183) Там же. Т. 3. С. 63.
(184) Литературные новинки: Вс. Иванов «Тайное тайных» // Смена. 1927. № 3. С. 7. Подпись: Б.Л.
(185) Пакентрейгер С. По следам зверя // Печать и революция. 1927. № 3. Цит. по: Всеволод Иванов: Критическая серия. М., 1927. С. 166.
(186) Корниенко Н.В. «Сказано русским языком…»: А. Платонов и М. Шолохов: встречи в русской литературе. М., 2003. С. 227.
(187) ГИАОО. Ф. 1073. On. 1. Д. 512. Л. 11. Источник газетной вырезки не выявлен.
(188) Кр. Н. 1927. № 4. С. 43.
(189) Есенин С. А. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 219.
(190) Там же. М., 1998. Т. 3. С. 9.
(191) НВИ. С. 44.
(192) Иванов Вс. Цветные ветра. Пг., 1922. С. 181.
(193) Там же. С. 185.
(194) Воронский А. К. Литературные силуэты: Сергей Есенин // Кр. Н. 1924. № 1. С. 289.
(195) Там же. С. 271–272.
(196) Есенин С. А. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 34.
(197) Бухарин К. Злые заметки. М.; Л., 1927. С. 9.
(198) Звезда. 1927. № 1.С. 129.
(199) Кустов П. На сенокосе // Красная нива. 1927. № 30. С. 1.
(200) Иванов Вс. Рассказ об одном рассказе: «Дите» // ЛА.
(201) Семенова С. Русская поэзия и проза 1920-1930-х годов: Поэтика – Видение мира – Философия. М., 2001. С. 43.
(202) Есенин СА. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 126.
(203) Там же. С. 130–131.
(204) Клюев Н. Избранное. М., 1998. С. 245.
(205) НВИ. С. 52.
(206) СБ. С. 93, 95.
(207) Там же. С. 221.
(208) Там же. С. 220.
(209) Там же. С. 228.
(210) Там же. С. 62.
(211) Там же. С. 63.
(212) Писатели об искусстве и о себе. М.; Л., 1924. С. 59–60.
(213) Чистов К. В. Русские народные социально-утопические легенды XVII–XIX вв. М., 1967. С. 249.
(214) Буслаев Ф. И. Народный эпос и мифология. М., 2003. С. 20.
(215) См.: Горнфельд А. Новые словечки и старые слова. Пб., 1922; Винокур Г Культура языка: Очерки лингвистической технологии. М., 1925; Селищев А. Язык революционной эпохи. М., 1928; и др.
(216) Горнфельд А. Указ. соч. С. 15.
(217) Селищев А. Указ. соч. С. 127.
(218) Там же. С. 127–130.
(219) Зазубрин В. Щепка // Зазубрин В. Бледная правда. М., 1992. С. 27.
(220) Платонов А. Сокровенный человек. М., 1928. С. 133.
(221) Есенин С. А. Страна негодяев // Есенин С. А. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 66.
(222) Есенин С. А. Ключи Марии // Есенин С. А. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 201, 206.
(223) Клычков С. Два брата: Отрывок из романа «Чертухинский балакирь» // Альманах артели писателей «Круг». 1925. № 5. С. 148.
(224) НВИ. С. 31.
(225) СБ. С. 94.
(226) Там же. С. 95.
(227) Там же. С. 104.
(228) Там же. С. 93
(229) Иванов Вс. Бронепоезд 14–69. М., 1923. С. 43–44.
(230) СС-3. Т. 8. С. 591.
(231) Народная словесность. М., 2002. С. 188.
(232) Василевский В. Другу // Красная нива. 1927. № 27. С. 13.
(233) История русской литературы XX в. (20-50-е гг.): Литературный процесс. М., 2006. С. 29–30.
(234) Белая Г. А. Дон-Кихоты 20-х годов. М., 1989. С. 137–138.
(235) Там же.
(236) Там же.
(237) Воронский А.К. О книге Всеволода Иванова «Тайное тайных» // Ленинградская правда. 1926. 5 дек. С. 3.
(238) Звезда. 1927. № 3. С. 197.
(239) Комсомольская правда. 1927. 6 февр. С. 6.
(240) Прожектор. 1927. № 3. С. 22.
(241) Звезда. 1927. № 3. С. 197.
(242) На лит. посту. 1927. № 4. С. 13.
(243) Там же.
(244) Там же.
(245) Лежнев А. Человек и его горести // Печать и революция. 1927. № 2. Цит. по: Всеволод Иванов: Критическая серия. М., 1927. С. 177–178.
(246) Пакентрейгер С. Указ. соч. Цит. по: Всеволод Иванов: Критическая серия. С. 167.
(247) Нович И. Критика и библиография // Молодая гвардия. 1927. № 4. С. 207.
(248) Ловенгард Л. Вс. Иванов «Тайное тайных» // Книга и профсоюзы. 1927. № 3–4. С. 37.
(249) Смирнов Ник. Указ. соч. С. 199.
(250) Локс К. О прошлом и современном // Комсомольская правда. 1927. 24 июля. С. 3
(251) Смирнов Ник. Указ. соч. С. 199.
(252) Кр. И. 1925. № 7. С. 261.
(253) Там же. С. 249.
(254) Залкинд А. Фрейдизм и марксизм // Кр. Н. 1924. № 4. С. 184.
(255) Григорьев И. Психоанализ как метод исследования художественной литературы // Кр. Н. 1925. № 7. С. 224.
(256) Фриче В. В защиту «гармонического» человека // Кр. Н. 1928. № 1. С. 243.
(257) Гроссман-Рощин И. С. Наш путь // На лит. посту. 1927. № 20. С. 25–26.
(258) Ермилов В. Еще о творческих путях пролетлитературы // На лит. посту. 1928. № 6. С. 17.
(259) Там же.
(260) Эльсберг Ж. Творчество Всеволода Иванова // На лит. посту. 1927. № 19. С. 47.
(261) Григорьев Я. Кризис «старых» попутчиков // На лит. посту. 1927. № 20. С. 27.
(262) Авербах Л. Культурная революция и вопросы современной литературы. М.; Л., 1928. С. 132.
(263) См. в настоящем издании примечания к повести «Гибель Железной».
(264) Безыменский А. Тайное тайных, или Яснее ясного // Комсомольская правда. 1928. 22 нояб. С. 3.
(265) Пажитнов Д. Мещанин Чижов и напостовские «гуси»
(266) На лит. посту. 1928. № 4. С. 112.
(267) Рыжиков К. Оптимизм и пессимизм Всеволода Иванова // На лит. посту. 1929. № 14. С. 60.
(268) Фадеев А. Столбовая дорога пролетарской литературы // Октябрь. 1928. № 12. С. 177. Там же.
(269) Лежнев А. Разговор в сердцах. М., 1930. С. 186.
(270) Горбов Д. Поиски Галатеи. М., 1929. С. 278–279.
(271) Там же. С. 279.
(272) Лежнев А. Разговор в сердцах. С. 155–156.
(273) Эльсберг Ж. Настроение современной интеллигенции в отражении художественной литературы // На лит. посту. 1929. № 3. С. 39.
(274) Рыжиков К. Указ. соч. С. 60.
(275) Полонский, 235.
(276) СС-2. Т.1. С. 71. 14. Иванов В.
(277) ЦП. С. 63.
(278) Там же. С. 95.
(279) Там же.
(280) Полонский, 234.
(281) Там же. С. 233.
(282) Малютин 3. Новый поворот Вс. Иванова // На лит. посту. 1930. № 20. С. 59.
Е. Папкова. История текста рассказов книги «Тайное тайных»*
(1) При переизданиях рассказов они были оформлены как эпиграфы.
(2) Цитируется по публикации в «Красной газете», в скобках – вариант из журнала «Шквал».
(3) Лежнев А. Человек и его горести. Цит. по: Всеволод Иванов: Критическая серия. С. 174.
(4) Гроссман-Рощин И. Без мотивов и без цели // На лит. посту. 1928. № 20–21. С. 46.
(5) Безбожник. 1927. № 4. С. И.
(6) Флоренский П. Философия культа: (Опыт православной антроподицеи) // Философское наследие: В 136 т. М., 2004. Т. 133. С.392.
(7) СС-1.1.З.М., 1928. С. 16.
(8) Литературная энциклопедия. М., 1930. Т. 4. С. 403.
(9) Письмо Вс. Иванова И. В. Сталину (не ранее 21 июля 1930 г.). Цит. по: Большая цензура: Писатели и журналисты в Стране Советов: Документы. М., 2005. С. 189.
(10) История русской литературы XX в. (20-50-е гг.): Литературный процесс. М., 2006. С. 24.
(11) Путинцев Ф. Факты о старообрядцах // Безбожник. 1926. № 3.
(12) Горный А. В лесах // Безбожник. 1927. № 1. С. 17.
(13) Там же.
(14) Безбожник. 1927. № 18. С. И. Подпись: Ф. Безбожник.
(15) РГАЛИ. Ф. 613. Оп. 8. Ед. хр. 573. Л. 288.
(16) Иванов Вс. Повести, рассказы, воспоминания. М., 1952. С. 167–168.
(17) СС-3. Т. 2. М., 1974. С. 621.
(18) Цитируется по машинописной копии.
(19) ЛА. РГАЛИ. Ф. 613. Оп. 10. Ед. хр. 1380. Л. 178.
(20) Там же. Л. 177.
(21) СС-2. Т. 3. М., 1959. С. 218.
(22) РГАЛИ. Ф. 643. Оп. 7. Ед. хр. 343. Л. 14.
(23) Здесь и далее вторая редакция рассказа «Плодородие» цит. по: СС-2. Т. 3. С. 401–432.
Произведения Вс. Иванова
Дневники – Иванов Вс. Дневники. М.: ИМЛИ РАН, 2001
ДП – Иванов Вс. Дыхание пустыни: Рассказы. Л.: Изд-во «Прибой», 1927
Избранное – Иванов Вс. Избранное: В 2 т. М.: Худ. лит., 1937-1938
НВИ – Неизвестный Всеволод Иванов: Материалы биографии и творчества. М.:
ИМЛИ РАН, 2010 СБ – Иванов Вс. Седьмой берег: Рассказы. 2-е изд. М.; Пг.: Круг, 1923
СС-7 – Иванов Вс. Собрание сочинений: В 7 т. М.-Л.: Гос. изд., 1928–1931
СС-2 – Иванов Вс. Собрание сочинений: В 8 т. М.: Гослитиздат, 1958–1960
СС-3 – Иванов Вс. Собрание сочинений: В 8 т. М.: Худож. лит., 1973–1978
ТТ – Иванов Вс. Тайное тайных: Рассказы. М.-Л.: Госуд. Изд-во, 1927 [1926]
Книги и периодика
Даль – Даль В.И Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1955
Дегтярев – Дегтярев Л. С Политотдел в отступлении // Пролетарская революция. 1924. № 12. С. 212–247
Кр. Н – «Красная новь», журнал художественно-литературной критики и публицистики. М., 1921-1942
ЛИ – Литературное наследство. Т. 70: Горький и советские писатели: Неизданная переписка. М.: Наука, 1963
На лит. посту – «На литературном посту», журнал марксистской критики. М., 1926-1932
Н. мир – «Новый мир», ежемесячный журнал художественной литературы, науки, искусства и публицистики. М., 1925.
ОЛБГ – Личная библиотека А. М. Горького в Москве: Описание: В 2 кн. М.: Наука, 1981
Полонский – Полонский Вяч. Очерки современной литературы: О творчестве Всеволода Иванова // Новый мир. 1929. № 1
Совершенно секретно – «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934). М.: Ин-т рос. истории Рос. акад. наук [и др.], 2001 –
Архивохранилища, библиотеки, музеи
АГ – Архив А. М. Горького ИМЛИ РАН (Москва)
ГАКО – Государственный архив Курганской области (Курган)
ГИАОО – Государственный исторический архив Омской области
ГМФ – Государственный музей К. А. Федина (Саратов) ЛЛ – Личный архив Вс. Иванова (Москва)
ЛБГ – Личная библиотека Горького (Москва)
НИОР РГБ – Научный отдел рукописей Российской государственной библиотеки (Москва)
ОР ИМЛИ – Отдел рукописей Института мировой литературы РАН (Москва)
ОР РНБ – Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург)
РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства (Москва)
РО ИРЛИ – Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (Санкт-Петербург)
Примечания
(1) Все объяснения слов в скобках – автора, а не рассказчика.
