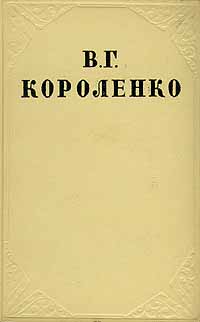
Девятый том составляют публицистические статьи и очерки: «Павловские очерки», «В голодный год», «Дом № 13», «Бытовое явление», «Случайные заметки», а также статьи, посвященные «Мултанскому жертвоприношению», «Сорочинской трагедии», «делу Бейлиса» и др.
Владимир Галактионович Короленко
Собрание сочинений в десяти томах
Том 9. Публицистика
Павловские очерки*
Вместо вступления
Размышления о павловском колоколе
Село Павлово лежит над Окой, на нескольких горах и по оврагам. Горы эти дают свои названия разным частям Павлова: Семенова, или, как называют ее иногда по-старинному, Семенья-гора, Дальняя Круча, Троицка-гора. На Троицкой горе стоит старая церковь, видная издалека, с пароходов, бегущих книзу по излучинам Оки. Около церкви разбит небольшой садик, в садике находится квадратная площадка с шатровым навесом, заменяющая колокольню. Под этим навесом, на толстой деревянной перекладине, висит громадный колокол, каких не много увидите вы даже и в больших городах.
Небольшая калитка в церковной ограде выводит из сада прямо к обрыву Троицкой кручи, а с этого обрыва видны, как на ладони, Ока, заокские луга с деревнями и самое Павлово.
Раннею еще осенью, приехав в Павлово на пароходе, я ходил с трех часов утра в понедельник по павловским улицам, присматриваясь к картинам. и прислушиваясь к разговорам кустарной «скупки», которая происходит раз в неделю и начинается еще при огнях. Тогда цены начали уже сильно «низнуть», как говорят в Павлове, и поэтому картины и разговоры, не особенно привлекательные и в обыкновенное время, теперь произвели на меня впечатление угнетающее. Когда взошло солнце и огни в скупщицких подвалах погасли один за другим, меня потянуло из этой человеческой свалки в кривых улицах куда-нибудь на простор, в уединение. Я еще не знал Павлова, но случайно пустынные взвозы и кривые переулки вывели меня к собору на горе; тропинка в церковном садике привела к калитке. Переступив ее, я очутился на круче и остановился, восхищенный открывшимся передо мною видом.
Солнце было еще невысоко. Вчера выпал дождь, и луга за Окой в разных местах курились плотными белыми туманами, из-за которых кое-где сверкали окна далеких, тоже кустарных деревень. Ока нежилась в берегах, синея и сверкая искрами далеко под береговыми ярами. По ней грузно сновал паром от одного берега к другому, точно большой водяной жук, между тем как легкие лодки мелькали взад и вперед, как комарики. И паром, и лодки были нагружены рабочим народом. Народ сновал по улицам Павлова, под моими ногами. Кучи кустарей, толпившихся ранее, подобно муравьям у муравейников, около скупщицких подвалов, теперь редели, и муравьи расползались по улицам, по базару, скучиваясь у возов с деревенскими продуктами, у лавок. Гул этой толпы едва достигал сюда, уменьшенный, как и самые фигуры.
Картина была полна жизни, солнечного блеска и оживления. А когда, вдобавок, откуда-то сверху, из ничтожного, едва заметного облачка посыпался вдруг редкий дождик и капли, сверкая, протянулись в синем воздухе золотыми нитками, то казалось, что это радостное, благосклонное утро шутит и заигрывает с бодрою, полною рабочего оживления страной.
Но это была только иллюзия. В действительности, впечатления, которые я принес с собою на Троицкую кручу, были спутаны и неясны. Кустарное село имеет несомненно свою собственную физиономию, и я не мог сказать о ней, по первому впечатлению, что «таких много». Но выражение ее мне как-то не давалось…
Вчера один мой знакомый, живущий в Павлове, восторженный поклонник кустарной формы промышленности, сводил меня к мастеру-ковалю. В доме нам сказали, что хозяин в кузнице, а кузница в саду. И действительно, маленькая, черная и покривившаяся набок кузница едва виднелась среди цветников. Ни одной грядки с картофелем или капустой здесь не было. Все небольшое пространство пестрело цветами, которых запах смешивался с запахом дыма из кузницы. Худой, весь черный коваль, с впалою грудью и непомерно развитыми руками, представлял странное зрелище среди этого цветущего и благоухающего царства.
– Да вот, – сказал он, заметив мое удивление, – никакой более охоты не имею… Иные к вину привержены, кто кочетиные бои уважает, а я больше насчет цветов.
И он с гордостью оглядел свое цветущее царство, а мой знакомый с гордостью посмотрел на него.
– Вы видите, – сказал мой знакомый: – собственная семья, собственный дом и собственный садик с цветами… Здесь есть все элементы, указывающие, что рабочий остался человеком, а не превратился в винт сложного механизма.
Теперь я искал глазами этот садик и не мог разыскать. Не только этого, но и других «собственных» садиков не было видно. «Собственные» дома, правда, виднелись в изобилии, а один из них вскарабкался даже на кручу и виднелся в нескольких саженях под моими ногами. Но что это был за домик! Какая-то игрушка, с крохотными стенами, крохотною крышей, игрушечною трубой, из которой вилась совсем игрушечная струйка дыма, и совсем уже смехотворными оконцами. И таких «собственных» домов, на отшибе, без плетня, без кола, виднелось всюду очень много. Кустарь хватается за последнюю возможность самостоятельной жизни с такими же усилиями, как эти домишки за каждый выступ глинистого обрыва. Но как жить и вместе работать в такой конурке?
И все Павлово, расстилавшееся подо мной по оврагам, по горам и обрывам, производило такое же впечатление. Как мало здесь новых домов! Свежего, сверкающего тесу, новых бревен, которые бы показывали, что здесь строятся, что новое вырастает на смену дряхлого и повалившегося, – совсем незаметно. Зато разметанных крыш, выбитых окон, подпертых снаружи стен сколько угодно. Среди лачуг высятся «палаты» местных богачей, из красного кирпича, с претенциозною архитектурой, с башенками, шпицами и чуть ли не амбразурами… Когда же над этим хаосом провалившихся крыш и нелепых палат взвилась струйка белого пара и жидкий свисток «фабрики» прорезал воздух, то мне показалось, что я, наконец, схватил общее впечатление картины: здесь как будто умирает что-то, но не хочет умереть, – что-то возникает, но не имеет силы возникнуть…
. . . . . . . . . . . . . . .
На площадку, заменяющую колокольню, взошел какой-то молодой человек в черном подряснике, с длинными волосами, и стал раскачивать огромный стержень колокола, собираясь звонить к ранней обедне. Чугунное сердце завизжало и заскрипело в гнезде, причетник с усилием тянул веревку, а под конец сам весь подавался за стержнем. Я со страхом ждал первого удара, думая о том, какая масса звона хлынет сейчас на меня из-под этой громады.
И вдруг какой-то дребезжащий стук, а за ним жалкий, надтреснутый хрип пронесся над моею головой, упал с кручи и замер в лугах, за Окой. За этим ударом последовал другой, за ним третий, и все такие же жалкие, такие же надтреснутые и хриплые. Тяжело было слушать эти разбитые стоны и выкрикивания меди; казалось, вот-вот с последним ударом большой колокол издаст последний глухой хрип и оборвется.
– Сломан, – сказал мне в промежутке старик, сидевший невдалеке, на скамейке, которого я не заметил ранее, – сломан колокол-те. Оттого и хрипит…
И сам он тоже закашлялся, причем этот кашель, в котором слышалась многолетняя разъедающая железная пыль, удивительно напоминал хрипы колокола.
Я оглянулся. Действительно, внизу в теле огромного колокола виднелась большая зазубрина, от которой кверху змеилась широкая трещина.
Старик поднялся со скамейки и, между тем, как ветер трепал на нем жалкую одежонку, он с досадой махал рукой по направлению к колокольне.
– Ну, будет уж, будет. Чего тут… Так вот и Павлово наше, – сказал он мне, поворачиваясь, чтобы уйти. – Бухает, бухает, а толку мало.
И он опять махнул рукой, закашлялся и побрел шагом человека, которому, в сущности, и идти-то некуда («все толку мало»). А я остался, слушая, как усердствует звонарь, и думая про себя: «Неужели это и есть настоящее впечатление, которого я искал? Неужто этот старик, проживший здесь свой век, сказал правду, и этот грузный, надтреснутый колокол есть настоящий символ, прообраз знаменитого кустарного села?.. Павлово, – один из оплотов нашей „самобытности“ против вторжения чуждого строя, – неужели оно тоже бухает без толку, предсмертным, надрывающим хрипом? Как будто в „кустарном“ бытовом строе тоже есть своя зияющая трещина…»
Таково было первое впечатление, произведенное на меня кустарным селом.
Очерк первый
«На скупке»
Зимой этого же года я опять отправился в Павлово. На железнодорожной станции в Гороховце мне попался попутчик, молодой виноторговец, недавно открывший в Павлове склад. Мы наняли просторные сани и поздним вечером отправились в путь.
Случайный мой спутник недавно вернулся из Парижа и весь был еще под впечатлением выставки. Он рассказывал о парижской толпе, о веселых французах, которые мчатся по бульварам, распевая шансонетки, о том, как публика, при виде этого дебоширства, только сторонится, благосклонно улыбаясь. Как, выходя с заводов, рабочие устраивают импровизированные процессии, во главе которых подростки, сидя на плечах товарищей, размахивают красными знаменами и все поют, и поют. Как при нем в ресторан вбежал какой-то господин, скинул зачем-то сюртук и, взобравшись на стол, стал тараторить, горячась и жестикулируя. Рассказчик плохо знал язык, но, все-таки, понял, что речь шла о правительстве, и оратор кого-то сильно ругал… Потом отзвонил, надел пиджак и ушел, как ни в чем не бывало. И никто ничего, как будто так и надо.
Даже наши, русские, в Париже «осмелели»: все остались недовольны наградами. Администрация русского отдела, после экспертизы, повывесила в павильонах, рядом с экспонатами, объявления о наградах: «медаль де-бронз», «медаль д'аржан», или там почетный отзыв. А наши громадными буквами внизу: «рефюзе», значит не желаем, отказываемся. После этого начальство сколько упрашивало: «Снимите, бога ради! Что такое за срамота: весь отдел в заплатах»…
Каюсь, я не особенно внимательно слушал эти характерные рассказы. Меня укачивало тихое поскрипывание полозьев по мягкому снегу, и туманная, неопределенно клубившаяся даль наводила дремоту. В темноте русской ночи, в русских розвальнях, среди русского кочкарника, покрытого русским снегом, эти рассказы о солнце, песнях и вольном озорстве парижан производили такое несообразное впечатление, как будто среди зимы у меня над ухом жужжит летний комар. Я едва ли даже восстановил бы теперь в памяти эти рассказы человека, лица которого я почти не видал в темноте, если бы впоследствии мне не пришлось много раз вспоминать эти рассказы по контрасту с впечатлениями кустарного села.
Со второй половины пути мой спутник тоже замолк. Ночь была темна, снег едва белел по сторонам, а вдали по горизонту, казалось, клубились неясными очертаниями какие-то дымные столбы, без огней. Это были, должно быть, кустарники и перелески. Такие же темные столбы стали попадаться у самой дороги, но это были уже не кусты, а фигуры и группы людей, с кошелями за спиной. Это мастера из деревень спешили к утренней скупке и сторонились с дороги, утопая выше колен в снегу.
– Эй, дяденьки, дяденьки! – остановил нас чей-то грубовато-насмешливый голос при одной такой встрече. – Не подвезете ли мастера, Христа ради?..
– Аверьян это, – сказал ямщик с усмешкой в голосе. – Затейливый мужик… Говорун!..
Я попросил остановиться, и сзади нас догнал здоровенный мужик с котомкой за плечами. Он весело скинул со спины кошель, бросил его, брякнув замками, в сани и сам уселся, свесив ноги наружу.
– Вот и отлично, спасибо добрым господам. Погоди, брат ямщик, погоди. Дай мужику цыгарочку закурить.
В его грубоватом голосе слышалась ирония деревенского остряка и балагура. Огонь спички осветил широкое лицо с лохматою бородой и искрящимися насмешкой глазами. Закурив трубочку, он поднес спичку и взглянул мне в лицо.
– Не евреи ли будете?
– Нет, не евреи.
– Эхма! Жалко! А я думал, не моего ли еврея опять мне бог дает.
– Зачем вам так понадобился еврей?
– Продавал я тут одному, – сказал он, ухмыляясь и почесывая в затылке. – Да вишь уничтожили его, чтобы вовсе им в Павлове не торговать. Вот теперь и об жиде заплачешь!
Он пыхнул цыгаркой и сказал:
– А по-моему, никакого от них утеснения мастерам не было. Может, где-нибудь в прочих местах… А к нам приехал, купил, деньги отдал, – опять милости просим. Скупщики возненавидели… Он – еврей, за два процента десять верст пешком пробежит, а иным прочим, народам пятнадцать процентов подавай, потому что мы на рысаках ездим.
Он докурил трубку, выбил ее об отводину саней и сказал:
– Кто знает, отчего это цена, бог с ней, все низнет! Кто говорит – Москва цены сбила. Конечно, может и это быть. У нас говорится: «В Москве заест, – в Павлове стопорит». Вот все равно на станке: в одном месте заест, – все колеса станут. А тут еще еврея запретили… Теперь у скупщика они закупают. Ну! Еврею нужен барыш, скупщику барыш, а уж кустарю и полбарыша не осталось. Так ли я говорю, господа?..
– То-то вот, – продолжал он, впадая опять в прежний насмешливый тон. – И так можно говорить, и этак можно говорить. А как оно взаправду выходит, мы, деревенщина, не смекаем, а павловские господа-мастера и подавно.
Он помолчал и опять заговорил с ноткой насмешки:
– Вы как об них понимаете, о павловских мастерах? Мы так понимаем, что павловский народ вовсе бездушный. Хаживали мы к ним… Думаем себе: все-таки, не нам, деревенщине, с павловскими равняться. Народ несколько, все-таки, пообломанный, а на поверку выходит нестоящее дело. И разговоры у них все про кулачные да про кочетиные бои. Много-много что про диакона заговорят. Дескать, та-акую октаву вытянул, – во! Стекла задребезжали, свечи потухли. А этого, чтобы как следует о жизни своей подумать, – этого нет.
– А вы, деревенские, думаете? – спросил я с любопытством…
– Ну… тоже со всячинкой… Мало и мы думаем, правда это. Известно, мужики – темнота. Иной век проживет и в землю уйдет, ни разу не думавши. Ну, а уж который ежели задумается, так не о кочетах, да не об диаконе… вот что! Тут уж, господин, мысли пойдут вовсе другие. Деревенский народ не обломан, конечно. Личка на нем не та, а весом-то он потяжеле павловского выйдет.
– Послушай, как тебя? – вмешался доселе молчавший мой попутчик.
– Аверьяном люди добрые звали, величали Иванычем, по прозванию Щетинкин.
– Ты, Аверьян Иваныч, не по старой ли вере?
– Нет. Мы сами по себе. И не люблю я их… У них, господин, книги старинные, с застежками. Ну, много ли их всех-то? Долго ли их перечитать. А новых им не надо. А мы, как бы то ни было, всякую книжку прочитаем, нам это наша вера дозволяет. Иная книга такое расскажет, что другому, может, и читать-то не надо бы, который без разума человек… А вы, позвольте спросить, к скупке едете?
– К скупке.
– Покупаете?
И опять, раскуривая трубку, он посветил мне в лицо, взглянув с насмешливою пытливостью.
– Нет. Я еду к скупке только из любопытства. Сам не покупаю.
– У нас про скупку сказочка есть…
Он затянулся и, посмеиваясь, покуривая и сплевывая, рассказал следующее:
– Давно дело-то это было. Задумал как-то чорт устроить ад на земле, стало быть, на сем свете. Обернулся немцем и подсыпался к графу, который проживал за границей. Что, дескать, людишки у тебя все одною землей занимаются? Устрой да устрой у себя в имении завод. И доход пойдет, да и почетнее тоже. Послушался помещик, сам остался за границей, а немца послал в имение заводы строить. И построил немец первый завод в Павлове, на Семеньей горе, железо делать.
Вот живет помещик за границей, получает доход хороший, И вздумалось ему как-то раз проведать свои имения и посмотреть, как работают на заводах. А был он доброй души человек. Вот приехал он в Павлово и пришел на завод, как раз на ту пору, когда из сварочной печи вынимали раскаленную «сварку»[1]. Глядит помещик: печь пламенем пышет, так что и подойти невозможно, люди в дыму и в копоти. А сварка красная вся, шипит, трещит, окалиной во все стороны так и брыжжет. Подтащили ее крючьями к наковальне, как грохнет по ней стопудовый молот, как пыхнет от нее пламя да искры… С нами крестная сила! И людишек-то из-за огня не видно.
Испугался добрый граф… «Подать немца сюда! Не знал я, откуда у меня доходы»… Глядь, а немец точно скрозь землю провалился.
Завод уничтожили, горно потушили, да искры из-под заводского горна уже разлетелись кругом с Семеновой горы по всему Павлову. Застучали в избушках молоты, завизжали пилы, зашипели паяльники, закипело мастерство и разлилось, как пожар, по всей округе. По деревням-то хоть землю не бросили, а павловцы совсем забыли про пашню.
Прошло сколько-то годов, только опять тот самый чорт и загляни в Павлово: дескать, как там народ теперь живет? И видит, живут павловцы отлично: народ кормится, лапти скинули, в сапоги обулись. Наработают сколько кто управится, потом приедут, покупатели, купят. А то и сам мастер лошадку запряжет, да, благословясь, на базар свезет, в Нижний там или еще куда. Сосед попросит, он и соседский товар захватит, продаст, деньги привезет. Так и шло, а, может, и доселе так бы велось или бы и еще как-нибудь…
– Как-нибудь, Аверьян Иваныч?
– То-то что вот. Все мы как-нибудь да как-нибудь, ан бес-то скорее нашего спроворит. Стало чорту за обиду. Дескать, из-за чего же я-то бился, этакое неподходящее дело теперь выходит. Стал он думать, как дело на свой лад поправить.
И придумал.
Был в Павлове мастерок один. Работать не любил, а деньги любил. К этому человеку дьявол и подъехал: «Хочешь, говорит, я так тебя поставлю: в понедельник вставать тебе пораньше, а за то всю неделю спи сколько хочешь?» Ну, тот, конечно, рад. Ладно. «Сделай, говорит, себе подвал, чтобы прямо на улицу, да с крепкими затворами».
Сделал.
Вот раз, зимняя ночь-полночь на дворе, первые петухи только скричали, народ спит, будит он мастера. А дело как раз с воскресенья на понедельник. «Вставай!»
Потянулся мастер, вспомнил обещание, встал. «Свети огонь!» Засветил фонарик, пошли на улицу.
Отперли кладовую, а в кладовой-то пусто. Поставили огонь на прилавок, сели сами, сидят. Огонь на пустую улицу светит.
«Что будет? – думает мастер. – Что такое это выдумано: сиди в пустом подвале сложа руки, да чтоб от этого деньги завелись? Чудно что-то». И люди смеются… На другой понедельник мастер и вставать не хотел, да все-таки послушался. А между тем, слух прошел, и стал на огонь народ выползать, все одно мухи на свечку. Первые полезли похмельщики. С воскресенья-то глаза налили, ночь-полночь – уж у них тоска, глотка по рюмке тоскует, надо похмеляться, а не на что. Вот один, другой похватали замки, несут.
– Чем так-то сидеть, возьми вот замки, за что дашь!.. Смерть наша приходит.
А дьявол под бок толкает мастера: «Бери!»
Ну, и пошло! Мастер неделю спит, в понедельник до зари встает, огонь зажигает, садится в подвале. Народу показалось хорошо: чем самому возить на базары да с купцами торговаться, пускай же они возят, а мы в то время сколько наработаем…
Вот оно, старики говорят, как скупка началась. А дьяволу что и нужно!.. Теперь вот про себя я вам скажу: охоч я на работу… Неделю работаю, встаю в три часа, ложусь в одиннадцать. Стучу молотком, песни пою. Лягу на подушку – камнем засыпаю. А как суббота на исходе, тут радоваться надо, спи, отдыхай в охоту, Аверьян Иваныч. А не спится. Не спится, всю ночь мечешься: что-то будет в понедельник, не упадет ли цена, возьмут ли товар? Как бы не насидеться без хлеба о детишками, на железо бы хватило, да ковалю отдать. Тоже ждать не станет. Настоящий нам ад каждый понедельник на покупке.
Вот, ежели угодно, посмотрите нонче. Где еще до зари, часов, никак, с трех, пойдут скупщики с фонарями, отопрут подвалы, сядут. А мы тучами к ним, как мухи на падаль. «Батюшка, возьми! батюшка, не оставь только!» Мечемся, лезем, друг дружку давим. А кого, спрашивается, тешим? Все его, первого заводчика. Вот вы смотреть станете. Вам со стороны виднее: не увидите ли где его, первого заводчика? Небось толкается тут да смеется… А нам не видно.
Нам не то что он, сам Микола угодник приходи, мы и того не разглядим, под бока натолкаем. Сторонись, дескать, наше дело: с товаром к прилавку прем… Эхма, не взыщите с Аверьяна: болтаю я все! Такого мать родила. И отец-покойник, сказывают, такой же был; где бы другому плакать, а мы все смеемся…
– Это что за огни? Павлово, что ли?
– Самое Павлово. Вишь, огней сколько. Говорил я вам: не спит народ, – не до сна под понедельник-то им.
Копыта лошадей стучали по льду Оки. Горы Павлова сливались с сумраком ночи, и огни, казалось, висели на разных высотах в воздухе, надвигаясь на нас. Потом, скользя и спотыкаясь, лошади стали карабкаться по уклону и из темноты выделились и проплыли над нами угрюмые «палаты» с темными окнами.
– Слава тебе, господи, приехали, – весело сказал Аверьян. – Спасибо и вам, подвезли мастера. А сами где остановитесь?
– В гостинице где-нибудь.
– И отлично. Гостиница у нас первейшая, Париж и Лондон. Вот она самая. Тпру-у, милые! Стой, ямщичок…
Лошади остановились у двухэтажного дома.
– Пожалуйте! Париж и Лондон, все к одному месту. А просто сказать, – постоялый двор. Прощенья просим. Ежели взаправду выйдете на покупку, может, еще увидимся, – сказал Аверьян.
– А долго еще до покупки?
Аверьян посмотрел кверху, где, в вышине, слабо виднелось несколько звезд, потом оглянулся по улицам:
– Часа полтора осталось, не боле. Вишь народ набирается.
Действительно, улицы были полны шороха и той особенной нешумливой суеты, которая как будто приглушается покровом ночи. Мимо нас то и дело проходили группы деревенских кустарей с кошелями за спиной. По сторонам улицы стояли сани, хозяева спали на них, а лошади чавкали сено. Невидимый топот, невидимые голоса и возрастающее в темноте оживление вливались из переулков, наполняя глубокую, теплую и сыроватую ночь.
Аверьян, вскинув на плечи кошель с замками, быстро исчез, смешавшись с ночною толпой. Мой попутчик тоже распрощался и стал где-то недалеко стучаться в окно. Мне предстояло разыскивать себе ночлег в «Лондоне и Париже», зиявшем передо мною раскрытыми воротами, в глубине которых, где-то неизмеримо далеко, блуждал одинокий фонарик.
С великим трудом и даже с немалою опасностью поднялся я во второй этаж по узкой лестнице. Передо мной раскрывались внезапно то какие-то пропасти, откуда слышалось тихое чавканье и жалобные вздохи лошадей, то вдруг отверстие в стене ставило меня в непосредственное соседство с наружною пустотой, где белели старые крыши. Где-то все мелькал фонарик, где-то кто-то тихо, но свирепо ругался, где-то стучали копыта лошадей и полозья саней терлись по деревянному помосту. Вообще, царило то же движение в темноте наряду со сном, как на улице.
Наконец, при помощи спички, я нашел какую-то дверь, куда и решился войти.
– Ну, что стал, проходи вперед! – не особенно приветливо встретил меня сиплый голос откуда-то из темноты каморки, в которой я очутился.
Я прошел вперед, в такую же каморку. Дальнейшие изыскания привели меня в комнату побольше, но всюду, на лавках, на диване, на полу, валялись человеческие фигуры вповалку. Все это сопело, бормотало во сне и шевелилось при тусклом свете стенной лампочки с закоптелым стеклом.
Постояв несколько секунд в нерешимости, я двинулся назад, так как пристроиться здесь не было никакой возможности.
– Послушайте, там нет места, – робко обратился я в темноту, откуда прежде последовал неудачный совет.
– А? Что? Да ведь это валенщики.
– Ну, так что же, что валенщики, а, все-таки, места нет, – ответил я, стараясь придать своему голосу возможно более убедительности.
– Они скоро уедут. Да вы кто, евреи, что ли? Ложитесь пока вот сюда.
Кто-то завозился на кровати и на ней уселась какая-то невероятно длинная, похожая на привидение, фигура. Фигура посидела, позевала, потом, как будто окончательно решившись, поднялась, вглядываясь в меня при тусклом освещении из соседней комнаты.
– Евреи будете? Ну, ложитесь, ложитесь с богом на мое место.
Я не счел удобным рассеивать заблуждение, вследствие которого получалась, наконец, возможность пристроить куда-нибудь свою скитальческую особу. Место, куда я лег, не раздеваясь, было согрето моим предшественником, подушка пахла чем-то кислым, а по стенам что-то очень подозрительно шуршало. Но, взглянув, с какими усилиями мой предместник вонзал теперь свою сухопарую фигуру между других тел на полу, в соседней комнате, я нашел, что понятия об удобствах весьма относительны.
Через некоторое время стали уходить валенщики, холодя каморку и хлопая дверями. Потом кто-то, будто во сне, натыкается на мою лежанку, падает вперед, упирается в меня руками и говорит: «извините-с». Осторожно, ощупью обойдя мое ложе, незнакомец начинает мыться где-то надо мной, и брызги летят мне в лицо. Умывшись, он, в пролете двери, подвязывает очень тщательно щеку платком, и еще через несколько минут, я вижу его уже за самоваром, с хозяином помещения, в котором узнаю моего благодетеля. Последний одет в ситцевую рубаху, повязанную шнурком, на ногах – отопки, на шее – высокий старомодный, галстук, придающий его фигуре вид отчасти хищный, отчасти же унылый. Они сосредоточенно пьют чай и ведут отрывочные разговоры.
– Кто? – спрашивает подвязанная щека, кивая в мою сторону.
– Еврей.
– Допустили опять?
– Не слыхал что-то. Видно допустили…
Несколько минут они пьют молча. Потом хозяин мрачно ставит стакан и говорит с угрюмою сосредоточенностью:
– Прежде от одних евреев сколько ренты получал: покупаешь ему, укупориваешь, отправляешь. Теперь ничего нет. Вот ноне прилечь негде, набилось народу. Да народ пустой: валенщики! дивиденду от них грош… И что такое? Правительство, например, хлопочет облегчить бедному народу, а тут делается стеснение…
Лихорадочные глаза хозяина сверкают сдержанною злостью. Собеседник, по-видимому мелкий приезжий скупщик, равнодушно допивает из блюдечка.
– Торговцу от них теснота, – говорит он спокойно. – Лучше же русскому человеку получить доход… А, впрочем, наше дело маленькое. Нам хватит. Пожалуйте-ка мне столик. Пора!
Он одевается и уходит со столиком и фонарем в руках, а хозяин уныло продолжает наливать чашку за чашкой, что-то бормоча по временам про себя. Его раздражение усиливается, когда я тоже выхожу к свету и он убеждается, что я не еврей.
Выйдя на улицу, я с первых же шагов натыкаюсь на его бывшего собеседника. Он сидит у стены дома, за столиком, на котором горит фонарь, тщательно закрывает воротником больную щеку и просматривает взглядом образцы, которые как-то вяло еще подают ему кустари. Они отходят от него с насмешками и остротами.
– Даром огонь засветил!
– Чай, свечка-то копейку стоит!
Несколько таких же столиков с фонарями, точно светляки, виднеются вдоль темной улицы.
Я посмотрел на небо. До свету, по-видимому, еще далеко. Небо было темно, последние звезды исчезли, мелкая изморозь сыпалась сверху, и ветер прорывался с реки в переулки.
Кто-то осторожно толкнул меня локтем. Кучка кустарей стояла кругом, протягивая образцы.
– Где принимать будете? – тихо спрашивал один; видимо, они опять сочли меня за еврея, приехавшего сюда контрабандой.
– Опознались, ребята! – сказал насмешливый голос, по которому я узнал Аверьяна. – Это мой барин, скупку посмотреть приехал, да вот теперь на небо и смотрит: не видно ли, дескать, где-нибудь самого-то главного скупщика?..
– Аверьян сказочку свою, видно, рассказывал, – засмеялся один из деревенских кустарей.
– Рано еще, господин, – продолжал Аверьян. – Без попов обедни не служат, а настоящие-то попы еще не вышли. Это вот, – насмешливо кивнул он на огоньки, – только дьячки да причетники.
– Вышел Молотков, сказывают, вышел! – сказал кто-то, пробегая мимо, и кучка кустарей метнулась за ним. В то же время в другой стороне улицы показался фонарь и за ним, все увеличиваясь и прихватывая за собой встречных, потянулся целый хвост народа.
Фонарь остановился у широкой сводчатой двери подвала. Загремели болты, открылась какая-то темная нора. Скупщик прошел туда, опустил прилавок, перегородивший широкий вход, поставил на него фонарь и уселся, освещенный огнем на фоне этой пещеры. Толпа тотчас же плотно сомкнулась за ним, теснясь и чуть не влезая друг на друга.
Это значит, что «богачи» засветили огни и началась настоящая скупка.
Обстановка скупки придумана как бы нарочно для того, чтобы во всяком стороннем человеке вызвать жуткое чувство. Темная нора, прилавок, трепетный огонек сального огарка в фонаре, освещающий фигуру за прилавком, и напряженные лица кустарей, напирающих с улицы. Скупщик одет в теплой шубе, кустари дрожат от пронизывающего ветра. Он сдержан, холоден, спокоен, – они взволнованы. Он развертывает образцы и равнодушно отодвигает одни, назначает цену за другие. Соответственно с этим на физиономиях мастеров сменяются выражения: надежды у тех, кто подходит, – страха у тех, чьи образцы в руках скупщика, – вражды на лицах отходящих… «Вот паук, раскинувший свою сеть у входа в пещеру», – невольно приходит в голову при виде этого человека, сидящего у фонаря за прилавком в середине загороженного входа.
Но с другой стороны, – если бы скупщик не засветил сегодня своего огня, многие кустари впали бы в уныние. Если бы не вышло их трое или четверо, уныние достигло бы значительных размеров. Если бы не явился ни один, все Павлово принуждено было бы голодать целую неделю и, пожалуй, прекратить работу за недостатком материала.
Итак, выходя, он оказывает этой толпе благодеяние. Он скупит эти замки и ножи, а отсюда, из его подвалов, они разойдутся по всему белому свету, попадут в Турцию и в Персию, и на далекие недоступные рынки неведомых стран Средней Азии.
Он здесь не один. Рядом, вдоль улицы и в переулках, горят такие же огни, идут те же разговоры. Он знает, что все его соседи будут сбивать цену до той степени, до какой только масса будет подаваться. И он должен не отставать от соседей, иначе его товар выйдет дороже и Москва возьмет у других.
И вот он окидывает толпу острым, проницательным взглядом. Он ее давно изучил; он видит, как люди жмутся, точно испуганные бараны, и думает, что «нонче народ станет уступать до последнего». Это его не радует и не печалит, он просто принимает это к сведению.
– Рука, что ли, Иван Иваныч? – и кустарь кидает образцы на прилавок.
Скупщик медленно разворачивает и равнодушно отодвигает товар.
– Не рука.
Может быть, он и мог бы взять этот товар, но ему нужно укрепить свое положение и расшатать положение другой стороны. Для него отодвинутые образцы – несколько гривенников барыша, для кустаря, работавшего их целую неделю, это новая неделя сравнительной обеспеченности или голода. Кустарь схватывает образцы и судорожно выбивается из толпы, чтобы бежать к другому огню, а в оставшейся толпе этот эпизод уже посеял некоторую долю неуверенности и уныния.
– Рука, что ли? – спрашивает следующий.
– Почем отдашь?
– По-прежнему, Иван Иваныч, как всегда.
– Без полтины.
– Много дороже слышали…
– Надо было отдавать.
И он опять завертывает образцы и отодвигает их, обращаясь к следующему.
Это он пробует, до какой степени народ подается. Через некоторое время, после нескольких уступок, после того, как кустари обежали другие огни, он уже отлично знает положение сегодняшнего рынка.
Вот перед ним старик, деревенский кустарь, с которым он ведет дело давно и с которым пускается иногда в приятельские разговоры.
– Не сойдутся опять образцы у тебя с товаром. Личка[2] у вас плоха, – говорит он.
– Личка у нас ноне, Иван Иваныч, – первый сорт. Ноне мы рабочих нажали несколько. Забудут спать-то.
– Почем?
– По шести гривен.
– Уступай, Потапыч, уступай.
– Уступлено, Иван Иваныч, сами знаете, по восьми брали.
– Знаю, что по восьми. Да еще уступить надо. Ноне, сам видишь, до слез уступает народ.
Уступают до слез! Скупщику не нужны эти слезы. Зачем они ему? В общем, человек все-таки человек, и слеза народа иному скупщику, может быть, даже неприятна. Но он ее выжмет. Ему нужна уверенность, что дальше уже не идет уступчивость, что больше не выжмет ни он, ни его сосед, что предел уступчивости народа достигнут для данного рынка. Конкуренция – пресс… Кустарь – материал, лежащий под прессом, скупщик – винт, которым пресс нажимается. Мне самому пришлось видеть, как во время приемки[3], которая следует за скупкой, торговец взял в руки связку образцов, оглядел их, посмотрел записанную цену и швырнул с досадой в общую кучу.
– Еще упала цена! Все уступают, да уступают. Этот замок полгода назад шел по рублю, ноне вон по шести гривен валят. Из-за чего работают только, дьяволы, – за такую цену отдавать!
– Разве это вам невыгодно? – спросил я, удивленный этою досадой на дешевизну покупки.
Оказалось, что в данном случае, действительно, ему было невыгодно: на прежних базарах он запасся большим количеством товара, и если бы цена поднялась, он продал бы дешевый товар дороже. Теперь цена еще упала, и ему придется, наоборот, дорогой товар пускать по более дешевой цене. Но он, конечно, жмет на скупке так, как всегда; необходимо дожать до последней возможности.
К огню подходит молодой мастер и молча, угрюмо кидает товар на прилавок. Он, видимо, уже обегал другие огни, слышал цены, но из него скупщический пресс выжимает не слезу, а угрюмое ожесточение. Скупщик окидывает его проницательным взглядом и с особенным вниманием присматривается к образцам. Мастер с оттенком презрения наблюдает эту процедуру. Он знает, что образцы у него. безукоризненны, что скупщику это известно, что именно потому-то он и не может отдать товар так дешево, как отдают другие. Каждое продолжительное понижение цены понижает также общее качество товара; форма остается та же, но вес и работа – другие. Он – артист своего дела, гордый своим искусством, один из тех, которые до последней возможности не идут на компромиссы…
– Почем?
– Знаете сами, почем брали.
– Теперь дешевле.
– А как?
– Полтина.
Мастер сам берет образцы с прилавка, не дожидаясь, пока их завернет скупщик.
– За полтину этот товар отдавать – солому надо есть. Не научились еще дети у нас.
– Научатся, – говорит скупщик хладнокровно.
Много, конечно, нужно упражняться в жестоком деле, чтобы так спокойно кинуть ближнему такое слово. Но в этой железной торговле вырабатываются и железные сердца, не знающие жалости.
Мне пришлось однажды зайти в дом кустаря. Он сидел, больной, на своей постели, встретив меня каким-то лихорадочно-беспокойным взглядом. Разговаривая, он все посматривал в окна и на двери.
– Вы о чем-то беспокоитесь? – спросил я.
– Беспокоюсь, верно. Баба у меня с образцами послана. Болен сам. Это в нашем деле, господин, беда большая, что бабу послать к торговцу… Запугивают их… Ну, вот идет, кажись, погоди-ка…
В избу вошла молодая женщина, села в изнеможении на лавку и как-то виновато опустила руки на колени.
– Почем? – спросил мужик угрюмо.
– По шести,
– Так и знал. Это, господин, пятаком дешевле самой низкой цены. Говорил ведь я цену тебе?
– Не берет. Нипочем, говорит, завтра этот товар не возьмут, в последнее и брали.
И вдруг, как-то встряхнувшись и вытирая рукавами слезы, молодая женщина заговорила с истерическою торопливостью:
– Да еще дает пять с полтиной и смеется: «Бери, грабь, загребай с меня деньги лопатой». – «Полно, говорю, вам над беднотой над нашей смеяться, Василь Василич! Какая это цена!» – «Да ведь отдают!» – «От нужды отдают, мол. Плачут, да отдают!» – «Какая, говорит, ваша нужда: в своих домах живете, в калошах ходите, по праздникам белый хлеб покупаете. Вот будет нужда, как в прочих местах уже дошел народ: по пяти семей в одну избу натолкаетесь, на десять человек одна шуба, а о пшеничном хлебе и думать забудете».
Женщина посмотрела на меня и на мужа обезумевшими, испуганными глазами.
Мне нужно было повидать одного знакомого скупщика и сказать ему несколько слов, но кругом была тесная толпа…
Я видел через головы освещенное огнем лицо моего знакомого и надеялся, что меня подвинет к нему общее течение. Но в это время какой-то рослый деревенский кустарь, которого образцы были забракованы скупщиком, стал пробиваться из толпы, прижимавшей его к прилавку. Я видел, как с величайшим усилием он ворочал спиной и задевал кошелем по лицам ближайших соседей. Те лишь беспомощно отворачивали лица, так как рук поднять не могли. Вдруг прилавок затрещал, фонарь на нем вздрогнул, толпа колыхнулась, и совершенно неожиданно я увидел почти у самого своего носа красное лицо с вытаращенными глазами.
Оба мы очутились на середине улицы. Кустаря, повидикому, нисколько не смутил этот пассаж, и только узнав меня, он несколько сконфузился.
– А что, Аверьян Иванович, – засмеялся я, – пожалуй, ему теперь, действительно, весело смотреть на вас.
– Просим прощения, помяли вас маленечко. Что и говорить: большое ему удовольствие. Не повредил ли, упаси господи, вашей милости.
– Это все пустяки. Но скажите, неужели трудно устроить дело иначе, чтобы всем было легче подходить: по очереди, с одной стороны?
– Да оно, конечно. Суемся мы, все равно, как слепые мухи. Я уж вам докладывал: темнота наша. Однако, надо мне бежать к другому огоньку, к Портянкину Сеньке. Давал он по шести с пятаком. Надо отдать пойти, пока не закупился. Сейчас я вас разыщу.
Через четверть часа он, действительно, нагнал меня, и мы вместе пошли по темным улицам, на которых я насчитал около тридцати скупщицких огней. Из них только пять или шесть принадлежали крупным местным торговцам; остальные светились на столиках, поставленных где-нибудь на улице, под стенами домов. За такими столиками торговалась мелкота, вроде моего знакомого по постоялому двору, а кое-где мастера-кустари, присоединяющие к работе за станком также и скупку. Это та часть кустарной массы, где мелкий скупщик еще не вылупился окончательно из мастера. Вот он принанял двух-трех рабочих; ему повезло, он нанимает еще. Сколотив несколько десятков лишних рублей, он начинает скупать товар у других кустарей и в один из понедельников зажигает огонь и садится за столик. Почти все огни, горящие теперь в крупных кладовых, загорались таким образом на маленьких столиках, прямо из-под горнов кустарей.
Аверьян называл мне имена этих торговцев, сопровождая свои объяснения бесцеремонными прибаутками и крепкими словцами. Вообще, видимо, и он, и другие кустари, кучками собиравшиеся теперь на улицах, после того, как они отдали образцы, относились к этой мелкоте с большим презрением. Впрочем, и из торговцев покрупнее редкого звали за глаза иначе, как Петькой, Васькой или Митькой.
– Этому вот милостивому государю кошку дохлую на прилавок бросили, – сказал Аверьян, останавливая меня невдалеке от одного огня.
Милостивый государь, которому кустари выразили таким оригинальным образом свое внимание, сидел за своим прилавком, сохраняя выражение такого достоинства в лице, как будто ему никто и никогда не бросал на прилавок дохлых кошек. Только когда к огню подходили кустари, которых здесь было меньше, чем у других, и которые, отходя, ругались бесцеремоннее, в его лице и фигуре проявлялась неожиданно какая-то чисто ноздревская подвижность, беспокойная и как будто даже злая.
– Горшок еще с кашей на ворота повесили на-днях, – прибавил из темноты какой-то кустарь к сообщению Аверьяна…
– Ну-у?
В восклицании Аверьяна слышался восторг.
– Ах, ты, братец мой! Да кто ж это ему, а?
– Да уж кто ни сделал, а сделали, – политично ответил кустарь, придвигаясь к нам и отчасти опасливо, отчасти с любопытством посматривая на меня.
– Приезжие будете?
– Приезжий.
– Торгуете?
– Не торгует он… Посмотреть наши порядки приехал, – перебил Аверьян. – А ты, дядя, не опасайся, говори, ничего.
– Нам что опасаться, наше дело сторона, а что действительно горшок на воротах висел, сами видели.
– С пшеном, что ли?
– Ну, ну!
– Молодцы, ребята! Ну, а он что же?
– Леший его знает. Чай, велел снять, да ссыпал куда. Потом нашему же брату опять на треть отвалит…
Аверьян отвел меня несколько в сторону, кустарь, сообщивший о горшке, последовал за нами, а через минуту к нашей группе присоединилось еще несколько человек, освободившихся уже от образцов.
– Этак-то лучше, все-таки, – сказал Аверьян, оглядываясь на отдалившийся теперь огонек. – Как бы не услыхал. Ему ведь я ноне образцы-то отдал.
– Видите ли, господин, – обратился он ко мне. – Теперь вот скупка у нас идет, а вот рассветет начисто, начнется приемка. Понесем товар по образцам сдавать, да деньги получать по расчету, сколько кому причтется. Тут вот главная-то у нас путаница и пойдет.
– Товар, что ли, бракуют?
– Бывает и это. А главное в расчете. Променом, вот, донимают, да третьей частью. Сейчас, например, разделывает он десять человек, приходится на всех сто рублей, да еще там сколько-нибудь. Вот вынимает он сотельный манет и дает одному, – разделывайтесь, ребята, как знаете.
– Это мы так говорим, что связал он нас сотельной бумажкой, – пояснил другой кустарь из кучки. – Теперь, чтобы развязаться, надо ему по две или хоть по полторы копейки отдать промену. Редкий у нас скупщик без промену торгует.
Я вспомнил, что уже читал об этом своеобразном явлении павловского рынка. Исследователи останавливались перед ним в недоумении. Действительно, при условии конкуренции между скупщиками, легко сообразить, что в общем, все-таки, масса сделает соответствующую поправку и скупщику, торгующему с променом, станет продавать дороже, чем тому, кто платит без вычета. Эти соображения я высказал и кустарям.
– Так-то оно так, – сказал один. – Да ведь поди-ка каждый раз усчитай, сколько оно там придется. Иной, конечно, смекнет, а другой и ошибется.
– Мутную воду любят, вот что. Намутит, напутляет, да тут счистит пятак, там утянет другой, – глядишь, уж и гривештик. Конечно, не разживется этим, а нашему брату иной раз просто слезы с ними, с путаниками. А то еще так делают, вон как Кульков. Тот уж и рассчитывает с променом. «Вот, мол, вам, ребята, следует столько-то, да промену с вас столько-то. Получите». Да опять ту же сотельную в руки. Как, мол, так, и промен взял, и не меняешь, такой-сякой? – «Да ведь вы уж с меня, дескать, за промен подороже и берете, а денег помельче у меня нет. Ступайте вот к Рогожкину, он вас развяжет». А Рогожкин сродник и благоприятель, опять с нас за развязку по полторы копеечки утягивает. Вот этаким способом с нашего брата по две шкуры и спускают.
– Ну, а горшок с пшеном тут при чем же?
– А это опять статья особая. Горшок обозначает другое. Это, господин, насчет третьей части. У которых скупщиков свои лавки есть, те при расчете третью часть товаром выдают, чаем там, железом, а Портянкин вот пшеном стал выдавать. Цену-то ставят дорогую, а товар дают самый последний.
– И опять вам это легко сообразить и прикинуть в цене,
– Ну, не-ет. Тут уже ему приволье, тут его не уследишь, все одно щуку в мутной-то водице. Сейчас он, например, чаем выдает. Подите-ка, поспросите по Павлову, какой чаек, дескать, пьют кустари, в какую цену? Все по два рубля, не менее-с. И сами скупщики тоже говорят: господами живете. Какая бедность! Чаем все двухрублевым балуетесь! А вы, господин, этого чаю и в рот, пожалуй, не возьмете, вот он нам какой двух-то рублевый достается. Ну, конечно, надоест. Смекнем тоже, начнем и сами цену выправлять на замках. Глядь, уж у него чаю и нет. «Пшено, говорит, ребята, у меня о-отличное». Ну, отличное не отличное, а все по началу ничего, есть можно. А как во вкус-то народ войдет, он закупит гнили, да в два-три понедельника в народ и пустит. Смотришь, хворают у нас ребятишки от каши, а наконец того замечаем, уж и куры от этого пшена дохнут. Вот за это за самое и повесили Портянкину горшок.
– Для сраму, значит, – добродушно пояснил из кучки какой-то старичок с серенькою бородкой и моргающими глазами.
– Вы, Аверьян Иваныч, ему, кажись, сегодня образцы сдали?
– Да ведь вы вот не взяли, – шутливо отвечал Аверьян, – кому ж мне и сдавать-то?
– Да это что, – как-то грустно сказал серенький старичок, моргая глазами и улыбаясь… – Промен там или треть – это редкий скупщик не пользуется. А ведь Портянкин этот прямо отъемом еще берет.
– Верно, отъемом тоже… бывает…
– Как еще?
– Что вы все как да как? – резко сказал Аверьян, несколько сконфуженный раньше моим замечанием. – Да просто, как вот на большой дороге, – отнял, да и все тут.
– Закинет товар в кучу, – пояснил старик, – навалит еще на него; потом, при расчете, полтину или семь гривен и не додаст. – Как так? тут, мол, не все. – «Знаю, говорит, что не все, да я тебя, подлеца, сколько ждал, ты все не шел, так вот штраф с тебя. А ежели, говорит, несогласен, – пошел, бери свой товар да убирайся, места у меня не простаивай». А где его разыщешь, в куче? Да и скупка кончилась. Заплачешь или обругаешься, да с тем и уйдешь.
– А то еще на гуся берет, – опять после короткого молчания выступил старичок, и на этот раз на его сером лице появилось что-то вроде улыбки.
– Ну-ну, – подтвердили другие.
– На гуся, ей-богу, с меня взял. С зятем я был, с Тимошей. Рассчитал нас, ан рубля с четвертаком нет. Неверно, мол, Семен Семеныч. А у нас, господин, обычай такой, что к празднику, к Вознесеньеву дню, гусей мы покупаем. Так вот и говорит: гуся я ноне купил, да гусь-то, говорит, поджарай.
Все, даже и сам старик, засмеялись.
– Поджарай, говорит, а цену я дал за него хорошую, полтора рубля. Так вот на гуся с вас теперича я, говорит, и отчисляю. Четвертак еще вам уступки делаю, на бедность на вашу.
– Это уж не со всяким сделает, – сказал, протискиваясь плечом, низкорослый широкоплечий парень с черными сверкающими глазами. – На меня бы, я б ему, подлецу, в этом случае такого гуся показал… С дураками, господин, этак-то можно.
– Чего с дураками! – заговорило несколько голосов зараз. – Сам больно умен. Небось ребятишки пить-есть запросят, да как на неделю-то муки да соли не хватат, тут и сам накланяешься.
– Не увидит от меня этого, – сказал парень, поводя своими глазищами, в которых горело выражение страшной ненависти.
– А ты послушай, паренек, не знаю, как тебя звать. Я тебе скажу присказку, – сказал Аверьян. – Отхватил как-то котище ухо у крысы одной. Села крыса в норе и плачется. Как тут подбегает к ней мышонок, да давай над ней же смеяться. «Эка, говорит, дд-у-ура! Ухо коту отдала. Да на меня бы, да я бы!..» Откуда ни возьмись на те слова котище тут как тут. Сцапал мышонка в рот целиком и держит в зубах, только хвостик мотается. «Что ж ты, миляга? – говорит тут крыса из норы. – Ты бы, чудачок, не дался. Чать, сам-от дороже уха. Ухо мое – куда ни шло…»
Все засмеялись. Парень плюнул и быстро пошел прочь. Старичок как-то передернул плечами и прибавил со вздохом:
– Да, по-нашему так-то: что смирнее, то и лучше.
– Как не лучше, известно, лучше, – подхватил Аверьян. – Шел как-то один по дороге. И попадись тут навстречу грабитель: «Давай, говорит, пальто». А мужичок этакой же смиренной был. Снял пальто и говорит: «Спасибо, мол, мне же и легче». – «Вот оно что, – говорит охальник. – А я и не знал, чем тебе угодить. Так скидай же, милый человек, вдобавок, и жилетку…» Однако, господин, пожалуй, и скупке скоро конец, а архиерея вы нашего еще не видали. Пойдем-ка-те, я вам самого главного покажу.
– Это к Дужкину, значит, – сказал кто-то в кучке кустарей, расступаясь, чтобы дать нам дорогу. – Что ж, посмотрите, господин. Ноне он сам сидит.
Мы с Аверьяном пошли вниз по улице. Сверху, над крышами, немного светлело, ветер становился пронзительнее, и изморозь крутилась порывистее и сильнее.
На одном из углов Стоялой улицы помещается винный склад братьев NN. С одним из них я именно и ехал вчера в Павлово. Склад уже был открыт; из-за горки с разноцветными бутылками, выставленными в окне, яркий огонек светил на улицу, освещая то фигуры проходящих, то одни снежинки изморози, крутившиеся в темноте.
– Эх! Вот где милостивые-то люди живут, – услышал я за собой тихий возглас, когда мы приблизились к складу.
Я оглянулся с невольным изумлением. Говорил маленький старичок с острой бородкой и в женской шали, тот самый, у которого Сенька взял на гуся рубль с четвертаком, уступив ему четвертак на бедность. Теперь глаза смиренного человека умиленно смотрели на освещенные окна и стеклянную дверь винного склада братьев NN.
Я невольно посмотрел туда же. У прилавка стоял мой вчерашний спутник, молодой еще человек; лет тридцати, в пальто и мягкой шляпе. Два приказчика, почтительно наклонившись из-за прилавка, о чем-то разговаривали с хозяином. Оба были одеты прилично и обладали спокойными манерами сознающих свое достоинство «городских» сидельцев. По стенам стояли рядами бутылки разных цветов, величин и калибров, – каждая за бандеролью, – и вся картина ярко освещалась несколькими лампами… Контраст с подвалами скупщиков, правда, был значительный, но я все-таки продолжал с недоумением оглядываться, разыскивая глазами – к кому бы здесь могло относиться название милостивых людей…
Не было сомнения – «благодетели» стояли у прилавка винного склада, и я испытал невольное разочарование. Восклицание смиренного человека пробуждало во мне надежду, что, наконец, среди этих жестоких картин я наткнулся на «светлое явление». И вдруг – в качестве светлого явления – чуть не кабацкая стойка!
– Вино, что ли, дешево продают? – спросил я не без некоторой жесткости в голосе.
Смиренный человек потупился.
– Быват, конечно, и винишко тоже покупай, – сказал он своим угасающим голосом, смиряясь еще более… – Тоже когда, – и выпьем, грешное дело… Бывает это, что говорить напрасно.
Очевидно, мысли смиренного человека направились в сторону «самообличения». Но из объяснений Аверьяна я понял, почему виноторговля братьев NN составляет в Павлове «светлое явление», – до известной степени совершенствующее павловские понятия. Стоит, например, нескольким мастерам, «связанным» одним сотенным билетом по тому способу, как описано выше, зайти в виноторговлю, и их «развяжут» бескорыстно. Это восхищает мастеров, за это косятся торговцы, лишающиеся грошового барыша, а главное, сознающие некоторую деморализацию, вносимую этим примером.
– Уж мы и то удивляемся, – пояснил смиренный человек.. – Возьмите, мол, с нас хошь, скажем, полтину, мы ничего, мы со всяким удовольствием, потому – прочим надо отдать полтора, а то и два…
Глаза смиренного человека улыбнулись, и он прибавил с радостным изумлением:
– Не-ет. Не берут! Конечно, нижегороцкой народ образованной! У нас, говорит, не меняльная лавка! Есть, говорит, в выручке – разменяем. Нет – не взыщите! А ни за что деньги брать – это надо самим срамиться и хозяина срамить. Мы, говорит, не согласны.
Я невольно опять посмотрел в окна склада. В это время в лавку вошли двое покупателей – какой-то молодой человек в пальто, вероятно из торговцев, и деревенский крестьянин, приехавший на базар с возом. Младший приказчик с спокойным изяществом обратился к мужику, который вошел первым, и, сняв с прилавка посуду, подал покупателю. Старший принял деньги и выдал сдачу.
Все это было мне так знакомо и так обычно: мало ли приходилось видеть винных складов и магазинов с такими же вот сидельцами, и таких же хозяев, вроде моего вчерашнего спутника. Но теперь я глядел на все это с павловской Стоялой улицы, и все представлялось мне в каком-то новом свете. Я вспомнил рассказы вчерашнего моего спутника о Париже. Теперь сам он казался даже и мне представителем какого-то другого мира. Как будто здесь, на этом самом месте, должно бы, по-настоящему, стоять «царское кружало» времен по крайней мере Алексея Михайловича. Эти ряды бутылок, обезличенные, заранее обандероленные и ждущие такого же безличного покупателя, эта спокойная вежливость вместо хищной настороженности и готовности вступить с покупателем в ожесточенную борьбу, которая теперь целым рядом поединков между каждым скупщиком и каждым мастером кипела на всем протяжении кустарного села, – вот что, очевидно, отличало этот обильно освещенный уголок от остального Павлова, выделяя из общего фона.
– Ну, идем, что ли! – вывел меня из задумчивости Аверьян, не понимавший, конечно, моего настроения. – А то опоздаем!
И его дюжая фигура нырнула в темноту. Смиренный человек, кинув умильный взгляд в сторону «милостивого» учреждения, последовал за нами.
Скупка кончалась. Кустари, сдавшие образцы, беседовали кучками на улицах в ожидании приемки. У огня Дмитрия Васильевича Дужкина народу было несколько больше, чем у других. Но и здесь, в освещенное пространство то влетали вдруг целые кучки темных силуэтов, то опять так же быстро снимались, и огонь светил с косогора на улицу полным светом. По большей части это приходили мастера, обегавшие уже остальные огни и возвращавшиеся сюда, чтобы отдать за предложенную ранее цену.
– Ну, вот глядите, – сказал мне Аверьян, осторожно останавливая меня за рукав в затененном месте, куда не хватал огонь с прилавка.
Но в это время последние фигуры перед огнем опять исчезли, и из-за прилавка к нам повернулось сухое лицо с вытянутым носом, тонкими, но широкими и характерно сжатыми губами и небольшою бородкой, странно торчавшею от самого горла. Два черных выразительных глаза уставились в меня чутко и пытливо. Мне стало неловко от этого пристального взгляда, хотя я и не знал, действительно ли он видит меня в темноте, или просто повернулся на шорох. Аверьян тоже как будто смутился. Он отодвинулся от меня, стянул горстью шапку с головы и выступил на свет.
– Возьмите, что ль, образцы у меня, Митрий Василич?
В тоне шутника-мастера я не мог разобрать, заискивает он у скупщика или насмехается над ним. Может быть, даже – для меня он насмехался, для того, к кому обращался, – заискивал.
Голова на тонкой шее повернулась к нему, в него уставились черные глаза, глубокие и страстные, и скупщик сказал сдержанно и сухо:
– Проходите мимо, не требуется.
И опять с какою-то странною торопливостью, точно два насторожившиеся зверька, глаза его перебежали в мою сторону.
Аверьян отошел, почесывая в затылке, между тем как к прилавку опять подходили рабочие.
– Сердится все, вот уж которую неделю, – говорил он мне, останавливаясь невдалеке и озабоченно оглядываясь назад. Было заметно, что гнев этого человека с лисьим лицом и острыми глазами беспокоил даже беззаботного Аверьяна.
– Ну, да нам тоже больно-то и наплевать. Не привыкать нам, Щетинкиным, к ихнему гневу.
Он тряхнул головой и прибавил уже с прежним веселым оттенком в голосе:
– Отца-покойника годов десять и к прилавку не допускал.
– За что?
– Все за язык. Больно, говорит, востры Щетинкины эти, зубасты. Покорность любит… Меня, говорит, мастерством не удивишь, я, говорит, себе из последнего мужика мастера сделаю, а лучшего мастера ни в грош поставлю. У меня своя наука… Да, – сказано Дужкин, так Дужкин и есть… Гнет не парит, сломает – не жаль. А уж ежели через руки его прошел, так весь век из его рук и смотрит. И то сказать, – прибавил кустарь со вздохом, – нашего брата не научи, мы и хлеба, пожалуй, есть не станем.
– Так вы бы, Аверьян Иваныч, язык попридержали… Пошли бы тоже в науку…
– То-то вот, говорил раз гусь свиненку: почет нашему брату оказывают, на барский стол на блюде носят. А свиненок и отвечает: тебе пускай почет, а уж мы таковские, и в грязи поваляемся. Отец-покойник, бывало, в сердитый час примется меня трепать. «Оверька, говорит, каторжный! Когда я тебя, проклятого, научу, чтобы ты хорошим господам уважил? Держи, подлая душа, язык за зубами». А я ему: «Ладно, батюшка. Этак же, читал я в книжке, учил старый рак своего подросточка: „Что ты, окаянный, все задом пятишься? Ступай передом“». – «Ну, мол, тятенька, прогуляйся сколько-нибудь сам, а я уж за тобой, не отстану…» Сам таковский был. Сам сколь, бывало, ни укрепляется, все не выдержит. Раз было совсем в милость к Митрию Василичу попал. А наконец загнул-таки словцо… на десять лет после того к Дужкину и ходу не было.
– Что же такое он сказал?
– Приносит раз образцы. Так и так, Митрий Василия, возьмите-ка замочков. – «Ладно, мол, Иван Елистратыч. А как цена?» – «А вот как, – отец отвечает, – по семи гривен». – «Нет, дорого, ноне на двугривенный меньше». – «Невозможно, мол. Мне обида, а вам, пожалуй, много лишку этак сойдет». Ну, это еще ничего. На это слово Митрий Василич отвечает: «Вы, говорит, мастера и все этак: торговец грабит, торговец лишку берет! А того не сообразите, что торговцу побольше вашего и требуется». – «Это как?» – отец спрашивает. А между тем, народу круг прилавка много… – «А вот как, – говорит Митрий Василич, – отвечай по правде: ты за сколько душ подати несешь?» – «Ну, мол, за три, что дальше-то?» – «И те, небось, в недоимке?» – «В недоимке, мол, не потаю». – «А я за пятнадцать вношу в правление полностью и недоимки на мне не бывало. Что ты скажешь на эти слова?»
У отца борода торчком стала, да сам, все-таки, боится ответить.
– Вот что, говорит, Митрий Василич, сказал бы я тебе слово, да ты рассердишься.
– Не осерчаю.
– Ан осерчаешь!
– Говорят, не осерчаю.
– Побожись!
Побожился при народе. Потому что – насчет слова любопытен он до крайней степени. Ну, отец и говорит:
– Умный ты человек, а на этот раз я тебе ответить могу. Теперь я стану спрашивать, а ты отвечай…
– Ну, мол, хорошо. Я тебе завсегда отвечу.
– Много ль годов ты у меня замки покупаешь?
– Да лет, мол, с десяток будет.
– Так. Две части даешь деньгами, а третью железом из лавки?
– Верно.
– Почем железо ставишь?
– По рублю по восьми гривен.
– А сам помногу ли в Нижнем покупаешь?.. Хоть говори, хоть не говори, сами знаем: по восьми гривен стоит тебе с провозом. Значит, что рублю лишку тебе с меня на каждом пуде сходит. Ну-ка, прикинь на счетах, сколько тебе с меня за десять-то лет сошло? Вот мои и подати!.. Тебе я их вношу полностью, а в правление еще не донес.
Промолчал, только еще желтее стал. Да десять годов после этого отца к прилавку и не допускал… Вон он какой, Дужкин, Митрий Василич. И заметьте: с того ли отцова слова, с другого ли чего, а только промену не стал брать, ни из третьей части не торгует. Купит, деньги отдаст, в расчете никогда не обидит. На это, нечего говорить, аккуратен.
Он помолчал и прибавил:
– Звание свое соблюдает! Скупщиком не велит звать. «Торговец павловского изделия»… Сам срамников не одобряет. «Бестолковые, говорит, выгоды на грош, а между прочим, сословие срамят».
– Однако, господин, прощенья просим. Мы тут с вами болтаем, а люди уже и товар сдают. Вон уж и Портянкин огонь погасил. Итти надо.
– Рано еще, гляди, – сказал смиренный человек. – Чай еще станут по домам пить…
– Чего рано тебе! – раздался вдруг около нас бойкий женский голос. – Чего тебе рано, тебе все рано!.. Только вот стоять на улице, да зубы скалить. Ну, ну, пошевеливайся! Сдал, что ли, образцы-то?
И бойкая жена смиренного мужа, протиснувшись плечом между мной и Аверьяном, схватила смиренного человека за рукав и стала теребить из стороны в сторону.
– Сдал, что ли, образцы-то? Говори, говори, мучитель!
– Сдал.
– Весь товар продал?
– Весь.
– Ну, слава-те господи, владычица небесная!.. Что ж ты торчишь, коли так? Ступай, ступай… К Овсянкину еще надо…
– Да ты того… Аннушка, – роптал смиренный человек, слегка упираясь. – Еще настоишься на холоду, что ты, бог с тобой, торопишься?
Аверьян, с большим вниманием наблюдавший эту сцену, толкнул меня локтем.
– Эй, тетка! – крикнул он вслед расходившейся бабенке. – Много ли под тебя Овсянкин дает, под этакую бойкую?
– Да уж много ли, нет ли, – обернулась баба, скаля белые зубы и не выпуская в то же время из рук покорного мужа, – а всё мы чего-нибудь стоим, бабы-те. Вас вот, небось, пьяниц, и в залог не принимают.
– Закладывать бабу повел, – мотнул головой Аверьян в сторону удалявшейся пары.
И он объяснил мне, в чем дело.
В один из прошлых базаров смиренному человеку не удалось сдать свой товар за сколько-нибудь подходящую цену. На этот случай в Павлове есть два-три благодетеля, готовые выручить человека за скромное вознаграждение в размере двух процентов в неделю. Один из таких благодетелей, Овсянкин, к которому сейчас направились супруги, оказал кредит смиренному человеку, конечно, под обеспечение того же непроданного товара. Теперь, сдав образцы, мастеру предстоит взять товар у ростовщика, сдать его скупщику, получить деньги и расплатиться со своим кредитором. Но так как должник, очевидно, не пользуется особенным доверием благодетеля, то последний не отдает ему товара, пока не получит долга. Из этого безвыходного положения павловская практика нашла, все-таки, выход: смиренный человек оставляет под залогом… свою законную супругу, которая дожидается на холоду, у крыльца ростовщика, пока муж сдает товар и рассчитывается с скупщиком.
– Этакой-то залог еще вернее, – прибавил Аверьян. – Поди-ка он теперь, замешкайся или наипаче – в кабак, – сохрани господи, – заверни! Да она ему, на холоду-то настоявшись, голову за этакое дело сорвет. Что, небось, господин, вам это удивительно? – спросил Аверьян, поглядывая на меня исподлобья иронически прищуренными глазами. – Я чаю, в прочих местах вы про этакое дело и не слыхивали?
На этом мы распрощались с Аверьяном. Он отправился к Портянкину, а я пошел на свою квартиру, на постоялый двор. Совсем уж рассвело, хотя солнце всходило неизвестно где, за туманными холодными облаками. Я был уже на лестнице, по которой с таким трудом взбирался ночью, когда над Павловым раздался первый хриплый удар большого колокола.
Мои нервы были напряжены частью от бессонницы, частью от зрелища этих своеобразных форм кустарного быта, так свободно распускающихся на павловской почве, наряду с цветками в «собственных садиках» кустарей. Поэтому я быстро взбежал наверх, разыскал свою дверь и, отказавшись от самовара, кинулся на диван в опустевшей комнате, где ночью спали валенщики. Мне хотелось тотчас же заснуть, пока еще в голову не полезли назойливые мысли обо всем, что я только что видел.
Но, едва успев задремать, я опять внезапно проснулся, как будто кто назвал меня по имени.
В комнате, тщательно прибранной после ночного беспорядка, было совершенно тихо. Тикали часы, где-то за дверями женщина убаюкивала ребенка, напевая вполголоса песню. Очевидно, меня старались не беспокоить тем не менее, я понял, кто меня разбудил от начинавшейся дремоты: удары большого колокола один за другим глухо толкались в тусклые окна, и стекла в старых рамах как-то жалобно звенели в ответ.
Я зарылся с головою в подушки. Но и тут как будто от стен или откуда-то из-под полу все бухали надтреснутые, больные звуки.
И вместе с ними в голове толпились фигуры, сцены, разговоры скупки, толпились беспорядочно и назойливо, как это бывает в бессонницу. И, наконец, как это тоже бывает иногда, я пришел к неожиданному, но вместе неотразимому заключению, состоявшему в том, что мне необходимо познакомиться с Дмитрием Васильевичем Дужкиным.
Мы видели, как балагур Аверьян объяснял происхождение скупщицкого сословия: первый огонек в первом скупщицком подвале зажжен врагом человеческого рода, который теперь, в холодные зимние утра, после воскресенья, простирает над скупкой свои темные крылья, смотрит на смятенные павловские улицы, на которых мечется испуганный народ, на огни у входов в подвалы, слушает взаимные покоры и проклятья, любуется делом жадности, вражды и раздора, плодами своей выдумки. А надоест на улицы любоваться – взмахнет лукавый темными крылами, летит на Троицкую, на Семенову гору, где в домах тускло светятся всю ночь огоньки, где «напуганные» бабы ожидают мужей, где у домов благодетелей-закладчиков дрожат заложенные дети…
Один павловский старожил, человек, стоящий по уму и развитию выше кустарной массы, рассказывал мне эту историю более реально:
– Был в давние годы в Павлове Белозеров, знаменитый по округе боес[4]. А в то время в Павлове жили свободно, больше достатков было, и веселились больше, утешаясь кочетиными да кулачными боями. А за замками покупатели наезжали из Москвы и из других мест сами; замок был в цене, за мастерами покупатели ухаживали: пожалуйста, мол, сделай ножей или замочков. «А сколько тебе, добрый человек, надобно?» – «Да дюжин, что ли, хоть двадцать». – «Что больно много? Будет тебе половину, другим тоже нажить сколь-нибудь надобно…» Вот как, по преданию, тогда разговаривали мастера. Наезжали московские купцы в Павлов, хлеб-соль с мастерами водили, и между прочим уважали кулачные бои. Любит московский купец хорошую «стенку». Белозерова они полюбили и стали выписывать в Москву. А потом один купец, Егоров, и научил любимца: покупай павловский товар да вози сюда. Он и стал покупать. Давно это было, еще до француза. После француза кинулись за Егоровым другие… И долго фамилия Белозеровых стояла во главе павловской скупки…
Как бы то ни было, вскоре после того, как один за другим загорелись скупщицкие огни, почувствовали павловцы, что где-то и в чем-то дали они крепкого маху. Исчез от их глаз покупатель, перестал появляться в Павлове, заслонили его стеной свои доморощенные «скупщики», и быстро над деревянными домами поднялись каменные палаты… Пожар от мелких искр, разлетевшихся с Семеновой горы, разливался все шире и шире, ставились горны, укреплялись тиски, и пилы заводили свою скрипучую песню по деревням, по селам, по мелким поселкам. Забыли кустари то время, когда покупатели наезжали к ним, и кланялись, и просили. Теперь сами они слетались уже на огни скупщиков, как слепые мухи на пламя свечки…
И все свои невзгоды мастер олицетворил в скупщике. Далекий рынок, с его меняющимися настроениями, с его колеблющимся спросом, безличный, бесстрастный и стихийный, как океан, исчез от глаз. Между ним и кустарным селом стала фигура соседа, скупщика, юркого, пронырливого, вечно настороже, готового воспользоваться малейшим промахом, неудачей, нуждой… Он явился для Павлова представителем того процесса российской коммерции, которая давно уже выработала известное правило: «не обманешь – не продашь».
Кустарная масса помнила, что там, назади, где-то недалеко, оставлена какая-то возможность иного «мирского» уклада. Так, порой, когда дорога впереди становится все уже и неудобнее, сбившийся путник смутно вспоминает, что недавно было распутье, и начинает догадываться, что он выбрал не то направление. Но вернуться уже трудно… Масса темна, мудрено ли, что все свои беды без исключения она тотчас же приписала скупщику.
На берегу Оки, спускаясь своим грузным подножьем к самой воде, стоит огромное белое здание, состоящее из двух корпусов, связанных поперечною галлереей. Балконы этого дома свесились на реку, а нижняя часть без окон, с тяжелыми воротами, приспособлена как будто к защите от каких-то нападений, может быть, от нападений весеннего половодья, когда волны буйно плещутся в стены, а, может быть, и от чего другого… От здания веет стариной, грузною основательностью, презрением к пустым украшениям и какою-то мрачною опасливостью… Не строят теперь таких палат павловские богачи, и старинное хмурое здание как будто посмеивается над вычурною претенциозностью соседних новейших построек с башенками и лепными карнизами.
Теперь павловские старики смотрят на эту старинную хоромину и вздыхают…
Это – акифьевские палаты. Богаты и славны были Акифьевы и высились над всеми остальными богачами, как высится теперь над селом их старинное жилище. Много молотков стучало, много работало горнов, и пил, и рук мастерового народа, созидая это богатство. По Павлову и окрестностям, говорят, ходили даже акифьевские деньги, и не поминают теперь стариков Акифьевых иначе, как добрым словом: «Вот были торговцы, вот были коренные благодетели народу!» При ком стояли высокие цены? – при Акифьевых. Кто расплачивался с мастеровыми, не утягивая трудовых копеек? – Акифьевы! Кто помогал в нужде мастерам, «подошедшим», как говорят в Павлове, от болезни, пожару или иного невзгодья? – все они же, Акифьевы! Когда в голодный год торговцы стакнулись и подняли цену на муку до рубля пятнадцати копеек, Акифьевы выписали из дальних мест огромную партию хлеба и пустили ее на базар. Акифьевы рубль – и торговцы, хочешь не хочешь, до рубля подаются. Акифьевы восемьдесят пять, торговцы тоже восемьдесят пять. Догнал старик таким способом цену до шести гривен. «Ну, мол, теперь, ребята, сами покупайте».
Вот какими рисует Акифьевых народная память, когда Акифьевы отодвинулись в прошлое.
На Троицкой круче, которую я описывал уже в начале моих очерков, несколько раз впоследствии приходилось мне сидеть в тихие вечера со стариками-мастеровыми. С Троицкой кручи хорошо смотреть на село, на реку, на дальние села и на синие леса, дремлющие в дальних туманах… Хорошо отсюда старикам смотреть своими тусклыми глазами и в глубь воспоминаний. И прежде всего, эти воспоминания останавливаются на белом акифьевском доме.
– Выйдет, бывало, старик на крылец, на ту вон галдарейку, что над водой свесилась, выйдет божий старичок ранним утречком… А вдоль по берегу, вон туда далеко, до самой дальней кручи все его поленницы дров лежали… «Погляди, говорит, Аннушка, – а хозяйку его Анной Митревной звали, – погляди: вон птички божьи мою пшеничку клюют». Хе-хе-хе! Птички божьи – это людишки, беднота павловская дровишки у него грешным делом потаскивают. Ничего! Только с телегой не езди, а на руках волоки… не препятствовал. «Птички, говорит, небесные»…
А, между тем, в свое время не было здания, которое павловцы разнесли бы с таким удовольствием, как акифьевские палаты… Жаль, что у нас на Руси прошлое так быстро исчезает из глаз и стирается в памяти. Теперь только смутные обрывки устных преданий об этой борьбе, первой борьбе кустарной массы с первым напластованием скупщицкого сословия, носятся в тумане прошлого… А, между тем, было это не так давно: не далее тридцатых годов XIX столетия. Однако, все же сохранились еще некоторые эпизоды этой истории павловского раздора. Вспоминают, старики о том, как Флягин, Черников, Цветов и еще несколько павловцев, наиболее решительных представителей бедноты, во главе с умным и настойчивым Капустиным, дерзновенно ворвались в акифьевские палаты, вымеряли все стенки, описали мебель, имущество и промысла всех богачей и представили все это в помещичью контору… Было это во времена крепостного права. Говорят, что помещик убедился этими своеобразными жалобами мира, оскорбленного нарушением равнения, и Акифьевым, Балашовым, Емельяновым, Рябининым грозила беда, если бы не заступилась контора, которую скупщики купили. Дело на этот раз повернулось на сторону богатеев, а семеро самовольных приставов, производивших «буйственным и непорядочным обычаем» опись, попали даже в арестантские роты.
Но пример был показан, и за первой волной двинулась другая. Эта была спокойнее, ровнее, тише и подкатилась незаметно, но зато вернее…
На этот раз за Акифьевых принялись другие слои павловского общества. Это были крупные мастера и богатые торговцы, остававшиеся крепостными, а значит, и членами павловского мира, между тем как Акифьевы давно выкупились и приписались к нижегородскому купечеству. Может быть, тут были и те самые торговцы мукой, с которыми боролись Акифьевы, может быть, просто маленькие капиталы рвались на простор из-под давления крупных, как бы то ни было, новые враги Акифьевых соединились с беднотой, взяли на себя ее дело.
И пошли по Павлову новые раздоры, забухало кустарное село новым междоусобием. Акифьевские палаты представляли из себя нечто вроде уединенного форта в обширном городе, занятом неприятелем, а так как стоял он на купленной земле, то павловский мир решил: лишить скупщиков воды и не подпускать никого из палат к берегу… Взвыли Акифьевы, взвыли сродники их Долгановы, и Рябинины, и Емельяновы, а мир, подбиваемый Белозеровыми, Дичковыми, Калякиными, стоял на своем: вдоль берега Оки расставлены были миряне с крепкими дубинами и гоняли от воды скупщицких людей. Присмирели богатые палаты. Темною ночью, украдучись, ползком пробирались их люди с кувшинами к реке и быстро убегали в раскрытые на тот случай ворота… Но воды, добываемой таким образом, не хватало. Надумали тогда отправлять свою бочку далеко, на Дальние кручи, за границы села, где никто не вправе был воспретить им подъезд к реке. Тогда мир решил не допускать провоз воды по улицам. И вот однажды, когда Долганов сам вез лагун воды для своих домочадцев, павловцы напали на него, опрокинули лагун и вылили воду… Приведенный в отчаяние Долганов кинулся на колокольню и ударил в большой колокол… И забухало Павлово сплошным набатным звоном… Надеялся, должно быть, Долганов поднять одну половину мира на другую, рассчитывая на самую бедноту, которую задабривали подачками, ворованными дровишками и дешевым хлебом. Но напрасно гудел с Троицкой кручи отлитый Акифьевыми же колокол: по улицам бушевала враждебная гроза, а робкая беднота оставалась в домах.
В сороковых годах, наконец, Акифьевы уступили, и так называемые «купцы» покинули или, вернее, были выселены из Павлова. Уехали Акифьевы и их сродники, а на прощание Емельянов сказал павловцам:
– Вспомните нас, дураки! Для этого дела нужны руки, да головы, да еще капиталы. Руки у вас остаются, а головы и капиталы унесем мы с собою из вашего села в другие места.
Вздохнули павловские миряне, но… замки и ножи надо было все-таки продавать, а рынок, разросшийся широко, как море, был незнаком и далек от павловцев так же, как море. И тотчас из среды того же мира поднялся на очищенном месте новый скупщицкий слой.
Увидали павловцы, что променяли кукушку на ястреба. Акифьевы были уже сыты. А теперь на их месте закипела жадная, неотъевшаяся еще толпа, освобожденная от акифьевской конкуренции и принявшаяся за то же дело. Далеко назади осталось распутье, где еще была возможность сохранить цельность мирского уклада. Павловский кустарный мир куёт, рубит, строгает и слаживает замок за замком от зари до глубокой ночи… Но куда этот замок поплывет, в какие земли, к каким народам, про то кустарь не знает…
А так как к тому времени кустарное производство разлилось еще шире, и в разных городах замок столкнулся с замком, и нож встретился с ножом, и стало им все теснее, то кустарь и падение цен от конкуренции опять отнес целиком на счет новых скупщиков. Новые богатеи опостылели пуще прежних, а к прежним несутся сочувственные вздохи… «Были коренные благодетели!..»
Некоторые древние старики вспоминают еще и теперь, как в их молодые годы ходили по домам акифьевские клевреты и тихо, озираясь, повещали бедноту, что приехал Николай или Василий Алексеевичи, – шли бы ночью к акифьевским палатам. Бабы брали саночки и, будто за даровыми дровишками или щепой, прокрадывались к реке. Тут, на льду, меж пустыми зимующими барками, как воры или контрабандисты, прикрывшись рогожами, чтобы не выдал их огонек, принимали бывшие владыки павловского рынка замки и ножи, прибавляя против цен, уставленных новыми скупщиками. Кустари кланялись и вздыхали, проклиная «смутьянов».
Нигде в такой мере не сохранился прежний характер наших старинных городов и пригородов, как в этом кустарном селе… Чем-то древним веет на вас в этих узких и кривых улицах, от этих мрачных палат, от этого резкого деления на «бедноту» и «богатеев», которое вы встречаете здесь на каждом шагу. Так и кажется, что попал в семнадцатое или даже шестнадцатое столетие… Загудит вдруг набатный колокол, и подымется «конец» на «конец», улица на улицу, гора на гору…
Настоящая старина, с голытьбой и богачами, с самодурством, с наивно-грабительными приемами торга и даже с кабалой… Только та старина была своевременная, так сказать, свежая. А в Павлове старина залежавшаяся, затхлая, сохранившаяся каким-то случаем в затененной яме. С павловской улицы и нижегородская виноторговля кажется чем-то вроде светлого явления…
Пришли шестидесятые годы, приближалась воля.
В одной из узких павловских улиц, позади собора и варыпаевских палат, построенных в «патриотическом» стиле последнего времени и украшенных золотыми орлами, есть небольшой каменный домик, старинной, грузной и основательно-неуклюжей стройки, с деревянным флигелем на улицу. Совершенно случайно пришлось мне узнать, что этот домик, ничем особенным не кидающийся в глаза, отличающийся одинаково как от претенциозных «палат» богачей, так и от деревянных лачуг кустарной массы, играл когда-то в истории Павлова хотя не громкую, но своеобразную роль.
На стене во флигеле, где теперь живет вдова его бывшего владельца, умершего в 1879 или 1880 году, висит его портрет: чрезвычайно интеллигентное лицо, мыслящий взгляд, черты мягкие и несколько расплывчатые, – такова была наружность павловского крепостного крестьянина Елагина. На полках, покрытые пылью, лежат его книги. Я развернул несколько из них, – это были: «Новая Элоиза», «Дух законов». А на стене, рядом с портретом Елагина, среди старинных гравюр, изображающих эпизоды из «Павла и Виргинии», висел прекрасно исполненный портрет Роберта Оуэна…
Своеобразная история этого крестьянина-кустаря, читавшего Руссо и Вольтера, преклонявшегося перед Оуэном, уходит от нас и как-то сразу покрывается полным мраком. Его бумаги, которых было много, разошлись, как кажется, по лавкам, с весовым хлебом и селедками, его сын уехал куда-то в Америку и там умер… И память его живет еще только в сердце простой малограмотной женщины, которая вышла за вдовца Елагина еще очень молодой и теперь среди нужды тяжелых будней с грустью и некоторым благоговением вспоминает о том, что целая полоса ее жизни прошла рядом с другою жизнью, непонятною и далекою от ее настоящего.
Просты, бесхитростны и слишком скудны ее рассказы. Я узнал из них, что у Елагина был в Павлове кружок единомышленников, с которыми он делился, в глухую полночь крепостного рабства, своими мечтами о воле. Они уходили из Павлова на дальние кручи, в леса и овраги, окружавшие Павлово, – читали и слушали страстные, запретные речи. Здесь они читали и обсуждали первые вести о воле, занимавшейся дальним еще рассветом над Россией. На Руси давно уже пели петухи и занималась заря, но в павловской глухой яме стояла еще тьма, и самые газеты считались чем-то предосудительным и запрещенным.
Но воля все-таки подошла, озарила она и недоумевающее Павлово… Елагин вынул из тайников свои книги, а его запрещенные речи стали раздаваться свободно. В маленьком белом домике собирался теперь по вечерам небольшой елагинский кружок, здесь обсуждались новые вопросы, вытекавшие из нового положения, читались газеты… Свет из елагинских окон светил далеко за полночь на темную улицу, и долго, вызывая недоумение в запоздалых прохожих, неслись неясным жужжанием горячие споры. А на утро новые вести, новые взгляды и мнения расходились по селу, возвещая о том, что старое кончилось.
Ближайшими членами елагинского кружка были, между прочим, Федор Михайлович Варыпаев и Николай Петрович Сорокин, два человека, которым вскоре суждено было занять видное место в истории павловского буханья. Тогда это были два единомышленника и друга. Вскоре им суждено было сделаться смертельными врагами…
Федор Михайлович Варыпаев, член когда-то известной в Павлове, но потом обедневшей семьи, начал карьеру за замочным станком, с молотком и пилою в руках. Заодно с беднотой он всю неделю стучал и пилил от зари до зари, а в понедельник, с кошелем за спиною, метался от прилавка к прилавку, пробираясь к огням… Лукавый «заводчик», ширяя в темные часы над скупкой, видал в толпе метавшихся людишек также и эту могучую фигуру, и ненависть к скупщикам осталась в ней на всю жизнь.
После долгих лишений, тяжелой борьбы, может быть, унижений, Варыпаев пробился на дорогу. Благодаря уму, вкрадчивости и энергии ему удалось завязать непосредственные сношения с Москвою. «Ах, подлецы, ах, подлецы! – говорил по этому поводу скупщик Белозеров. – Этак они скоро с Америкой пересылаться начнут!» Посягательство Варыпаева скупщики сочли посягательством чуть ли не на божественный порядок.
Но делать уже было нечего, – Варыпаев ускользнул от их влияния; его мастерская расширилась, потом разрослась в фабрику; он вывел свою ладью на широкую воду и в этой ладье увез с собою на простор свою ненависть и стремление к мести. Рослый, широкоплечий богатырь, он обладал неопределенным, высматривающим и в то же время ласкающим взглядом, из-за которого порой только, точно из-за мглистой тучи, сверкала неожиданная молния… Голос у него был тихий, почти детски-слабый, в котором, однако, чувствовалась возможность угрожающих нот… Говорил он мало, сдержанно, неохотно.
Очень скоро кустарная беднота почуяла в его сердце отголоски своей ненависти и наметила его, как своего будущего избранника.
Николай Петрович Сорокин, наоборот, происходил из зажиточной семьи и имел родственные связи с богачами. Добродушно-лукавый, шумливый, самолюбивый и экспансивный, он любил и умел поговорить, знал отлично законы и охотно выказывал это знание. В его характере были тоже черты настойчивости, упорства. На своем знамени вначале он поставил слово «крестьянин», разумея под этим всю совокупность бывшего крепостного павловского мира в его отношениях к помещикам. Отсюда его либерализм, его искреннее одушевление, заставлявшее многих считать Николая Петровича Сорокина страдальцем за интересы крестьянского мира. Но теперь уже ясно видно, что Сорокин боролся, претерпевал гонения и бескорыстно, страстно, упорно стоял до конца за интересы павловских богачей в той, впрочем, их части, которая совпадала до известной степени с интересами крестьянства вообще. Как бы то ни было, шестидесятые годы подходили к концу среди легких схваток двух партий. Как прибывающая волна, растет в массе новое настроение. На сходе, собиравшемся не в полном составе, по назначению старшин, уже слышатся раскаты грозы, гудят протестующие голоса, расторгаются предписанные вперед решения. Однажды старшина Прядилов, выведенный из терпения непривычным сопротивлением, крикнул непокорному сходу:
– Что вы понимаете, орда!
Сход колыхнулся и зашумел. «Как, мы орда? мир, по-вашему, орда?» – и мастеровые буйно кинулись к старшине. Мировому посреднику удалось кое-как восстановить согласие…
На смену шестидесятым годам наступали семидесятые. Туман, поднятый падением крепостного уклада, рассеивался, положение борющихся партий определялось все более и более…
Вдова Елагина рассказывала мне, что в это время Иван Петрович Елагин, перед самыми выборами, горячо убеждал своих друзей отказаться от кандидатуры. Сам он решительно устранился от борьбы и того же требовал от других, в особенности от Варыпаева. «Обществу нужны свежие, сильные люди, – говорил он, – а мы с тобой попьем чайку в комнатах, да идем пить чай на балкон… устарели мы, не годимся…»
Может быть, силы крепостного мечтателя, действительно, ушли на грезы о воле среди глухих потемок да на беседы, – и по себе он судил о других. Может быть, он предвидел, что его кружок способен только еще более разжечь, а не утишить пламя этой вражды, разделяющей павловский мир, – вражды неосмысленной и потому неисходной. Может быть, он тоже думал о павловском колоколе, бухающем надтреснутым звоном, и о том, что колокол нужно перелить с новым металлом, а павловскому миру нужны новые идеи и новые люди, которых в нем нет налицо.
Варыпаев будто бы дал требуемое обещание и согласился содействовать полной законности выборов, отказавшись от честолюбивых замыслов. Между тем, приблизился сход 1871 года, от которого ведет свое счисление «варыпаевская партия». Здесь загадочный человек впервые развернул свои силы.
Предстояло решение важных дел, и главное из них было окончание сделки с помещиком. Вопрос этот сильно затянулся, между прочим, из-за усадебных и лавочных мест на площади. Спорные места не представляли для бедноты ни малейшего интереса, – их оспаривали у помещика отдельные лица из общества, понятно, принадлежавшие к «богачам», и из-за этого тормозилась самая сделка. Опеке малолетнего владельца эта затяжка была выгодна, так как до заключения сделки доходы с оброчных статей поступали в пользу вотчины… Зато общество много теряло. Составлялись один за другим проекты выкупа, но примирить столкнувшиеся интересы было довольно трудно.
Сколько можно рассмотреть в тумане, окутывающем этот, узел павловского раздора, кажется, что две павловские партии решились заключить перемирие, нечто вроде компромисса. Решено было, что места выкупает общество. В чью пользу? В свою, – толковал Варыпаев и беднота. В нашу, – говорили про себя торговцы. Для заключения окончательной сделки созван был сход, на котором вновь произошло бурное столкновение…
Несколько слов о том, что такое павловский сход.
На верхушке одного из семи павловских холмов есть старое, в высшей степени ветхое и облупленное здание. Это не что иное, как общественное павловское управление, своим жалким, до неприличия ободранным видом свидетельствующее о полном пренебрежении к внешности. Впрочем, и внутренность этого общественного здания немногим лучше, – общая печать некоторой затхлости и запустения тяготеет над ним, отличая его местными, чисто павловскими чертами.
Позади дома – большой двор, покатый к зданию, обнесенный заборами, поленницами дров, сараями, из-за которых смотрят во двор окна соседних домов. У здания – крыльцо с деревянным навесом, ведущее в правление. Сход собирается на этом дворе. Когда более тысячи домохозяев сомкнутся плотною кучей голов, когда на ветхом крыльце появятся сельские власти и с высоты станут «вычитывать» толпе указы или постановления, толпа загудит и мир закачается, точно море под дыханьем ветра, – вам опять кажется, что вы присутствуете при чем-то не нынешнем, необычном и старинном.
Как и на скупке, меня поразило здесь то, что павловская практика не выработала самых простых и самых удобоприменимых приемов. Как на скупке, всякий стихийно пялится вперед, пробираясь к огню, лезет на соседа, давит его и толкает, так и здесь вся толпа жмется к ступеням, откуда голос слышнее и легче достигает до слуха властей на крыльце.
– Согласны, согласны! – гудят одни.
– Несогласны, несогласны! – кричат другие, и это «согласны, несогласны» сливается вместе, переплетается, смешивается, стоит в воздухе сплошным гулом. Как это никому не пришло в голову, что удобнее опрашивать мнение отдельно, – сначала тех, кто согласен, и уже после – кто несогласен? Может быть, впрочем, это и приходило многим в голову, но ни одна из партий, стоящих у власти, не считает удобным именно для себя применить это простое средство, которое повело бы к значительно большей ясности результатов голосования. Теперь эти результаты извлекаются, так сказать, слухомером, из общего галдения; понятно, что неточностью этого приема пользуется тот, кто может… Когда же раздаются протесты, то нет ничего легче, как выставить протестантов бунтовщиками. Обе партии, каждая в свое время, пользовались этим политическим ходом против своих противников.
Сход, о котором идет речь, представлял именно такую картину. С крыльца кинуто было толпе, для выбора в уполномоченные, три имени: Варыпаева, Сорокина и Соколова.
– Согласны, согласны!..
– Несогласны! – загудела дружно толпа, покрывая сравнительно редкие голоса. – Одного Варыпаева!.. Соколова и Сорокина не надо!..
– Пиши: согласны, – сказал председательствующий Соколов.
Через четверть часа толпе, беспокойно волновавшейся и шумевшей, был прочитан приговор, в котором утверждалось избрание Варыпаева вместе с двумя представителями «богачей», которые, понятно, должны были получить перевес.
Толпа колыхнулась и кинулась к крыльцу. Старшина и писарь скрылись.
Поднялось волнение. На этот раз мир, казалось, прорывает плотины покорности [и] дело становится нешуточным.
Шумный сход разошелся поздно, и по селу пошли сразу два приговора; обе партии для подписи поднимали спящих с постелей. Но бумага «варыпаевцев» вся покрылась именами, тогда как у противной партии не набралось и половины.
В это время в Павлово приехал мировой посредник Беклемишев, и обе стороны кинулись к нему, требуя одни – усмирить бунт, другие – восстановить права большинства.
– У нас больше грамотных, – говорило правление.
– Чем же мы виноваты, – возразила беднота, – головы у нас такие же, а руки неграмотные… Неужто из-за этого мы безгласны?
Обе стороны засылали к посреднику своих предводителей. От бедноты явился Варыпаев и стал просить созвать сход для избрания старшины, которому вышел срок.
– Вы уже назначили кого-нибудь? – спросил посредник.
– Сход назначит, – ответил Варыпаев смиренно и глядя на посредника своими непроницаемыми, покорными глазами.
– Однако, все-таки…
– Может быть, станут просить, старого, не знаю… – и глаза Варыпаева стали еще мягче, еще непроницаемее. – Главное, надо соблюсти закон.
– Это верно, – заметил посредник.
В это время пришел Белозеров, самый видный из представителей противной партии, и посредник обратился к нему с тем же вопросом.
– Назначили кого-нибудь?
– Назначили, – наивно ответил тот.
– Вы назначили? – усмехнулся посредник.
– Мы назначили.
– А не сход?
Белозеров удивленно и наивно взглянул на посредника…
После некоторых переговоров сход объявили на ближайшее воскресенье… В этот день к воротам приливали все большие толпы народа. Пожарные и десятники не успевали проверять билетов, которых у многих не было.
– Народ как град посыпался, – с тревогой жаловались посреднику. – Идут без билетов, сломают ворота.
Посредник велел открыть ворота для всех, народ хлынул широкою толпой, и двор перед правлением, в первый еще раз после многих лет, увидел павловский сход в полном составе.
Это была уже полная победа бедноты. При имени Варыпаева в избирательный ящик посыпалась масса шаров. Они падали одни за другими, и звук падения становился все глуше. Но вот к ящику подошел суровый «богач» Белозеров. Его шар громко застучал в пустом неизбирательном ящике. На дворе раздался хохот.
Варыпаев был выбран подавляющим большинством.
– Мир – не один человек, – сказал он на следующий день Елагину. – Мир выбирает, надо слушаться, надо послужить миру.
С этих пор между друзьями водворилась холодность. Елагин до конца держался в стороне, и, быть может, не раз перед его спокойным взглядом потуплялись взгляды дельцов, выдвинутых новым бурным периодом павловской истории. А фигура Варыпаева надолго появилась на павловском горизонте.
В 70-х и начале 80-х годов имя Варыпаева пользовалось широкой газетной известностью, и павловское буханье того времени отдавалось по всей России. Газеты были полны описаниями павловской «классовой борьбы», и павловские «вопросы» разделяли газетные лагери.
За Варыпаева стояли консервативные газеты, за Варыпаева был «патриотизм», «благонамеренность» и вся беднота. Варыпаев имел влияние в Петербурге, там слушали с удовольствием павловского старшину-демагога, являвшегося в последнее время в шитом бархатном кафтане, говорившего вкрадчивым голосом «простые» речи, в которых охотно признавали «голос простого русского человека». Влияние это в губернии сказывалось уже сильнее, а в родном селе это был неограниченный, почти самодержавный властитель, которого твердая рука чувствовалась во всех мелочах общественной павловской жизни.
Плохо приходилось противникам Варыпаева. Тогдашние газеты полны описанием случаев, когда их хватали не в меру усердные становые и исправники и сажали в кутузку без всяких других оснований, кроме того, что они заведомо неблагонамеренные, тогда как Варыпаев признанный патриот. Либеральные мировые посредники с трудом выручали этих несчастных из мрачных узилищ, где они содержались вместе с ворами и мошенниками… Один из бывших друзей Варыпаева, впоследствии самый настойчивый из его врагов, Сорокин, описал в одном из журналов историю своей борьбы с павловским владыкой. Кончилась она для него очень печально. Два раза собирались подписи для ссылки его в Сибирь, но оба раза «общество» отступило перед явною несправедливостью этой меры. В «Московских ведомостях» появилась громовая статья П. И. Мельникова, направленная против Сорокина. Он обвинялся в том, что будто бы «обивал пороги министров с карманами, набитыми запрещенными изданиями»… Варыпаев представлял из себя в то время знамя патриотизма и благонамеренности. Сорокина сослали административно…
Так было ранее. Теперь обстоятельства круто изменились. Варыпаев, одряхлевший, поседевший, больной – не у дел и под судом[5]. У кормила павловского правления стали богачи. Скупщики имеют в нем важное решающее значение, а «неблагонамеренными» стали теперь варыпаевцы. Бывший всесильный владыка живет уединенно, не вмешиваясь в дела, отягченный обвинениями врагов и… благословениями голытьбы на Троицкой, на Семеньей и на других горах кустарного села, где стучат молотки и дымятся горны в кузницах. Да, тяжелы могут быть эти благословения человеку с загадочным взглядом и бурным прошлым, стоящему у края могилы, если только, положа руку на сердце, он не может сказать про себя, что в этом мутном для постороннего наблюдателя лабиринте интриг, столкновений и борьбы ему служило путеводною нитью посильное стремление помочь этим людям, благословляющим его, бессильного и гонимого.
Может ли сказать это Федор Михайлович Варыпаев?
Я не знаю. Я знаю только, что это время было временем самого пламенного раздора, что оно запятнано несправедливыми гонениями, что в борьбе пускались в ход всякие средства, что эти годы отмечены сбивчивостью, темнотой и неясностью в делах, что они омрачены жесточайшею смутой и озарены кровавым заревом страшного пожара, что коренные вопросы павловского быта даже не ставились борющимися партиями, что из тумана, в котором бьются эти партии, слышится тоже надтреснутое, болезненное буханье, лишенное гармонии и смысла, что, наконец, павловское общество не вышло из него более счастливым, спокойным и богатым…
Теперь тишина и порядок. И среди этой тишины и порядка ведутся речи о том, чтобы превратить Павлово в город. Тогда замостят центральные улицы, зажгут фонари, длинные кузницы вынесут за черту «города», на окраины, и в светлой думской зале скупщики, в полном порядке, поведут речи о нуждах бывшего села кустарей.
То, что я хочу теперь рассказать, происходило в самый разгар павловского буханья, вскоре после страшного павловского пожара, истребившего половину села. По селу ходили слухи, самые невероятные взаимные обвинения. Над пособием, выданным от правительства, кипела жестокая свалка…
Была ранняя весна. Она недавно еще взмыла весенним половодьем, взломала льды, подтопила кручи и горы и залила широко, далеко поемные луга на заречной стороне… Кустарные села и деревни в окрестностях Павлова казались островами, плававшими в прозрачном тумане над гладью разлива.
На небольшой круче села Тумботина, отделенного половодьем от глинистых павловских гор, стоял молодой человек. Он недавно еще протащился несколько часов по самой ужасной дороге, продрог, потерял калошу и узнал, что в Тумботине придется еще ждать перевоза.
Серединой реки неслись последние поредевшие льдины, павловские горы, широко раскинувшиеся над рекой, синели в легкой дымке, в ясном небе причудливо вырезались куполы павловских церквей, домишки кустарей лепились по склонам, отсвечивая далеко стеклами своих окон, над водным простором свободные чайки взмахивали круто изломанными белыми крыльями, а далеко под самым берегом, в низинке, где кустарное село сбегает к реке, маленькие фигуры людей мелькали и суетились около первого еще в этом году парома.
Молодой человек смотрел на все это и забывал скучную дорогу по грязи, забыл о том, что он продрог и промок… Первый паром должен был доставить его в родное село, куда он вез с собою новое дело…
В жизни каждого человека есть свой весенний праздник, когда душа парит, как птица над буйным разливом, а все мелочи и неприятности будней стряхивает с себя, как легкие пушинки, которые ветру удается выхватить из ее крыльев. Этот праздник – то время, на которое работала юность, когда все, о чем мечтал, к чему готовился, что мелькало в золотом тумане юношеских грез, вдруг выплывает из этого тумана и раскидывается перед восхищенными глазами так близко, так ясно, как Павлово раскинулось перед глазами Николая Петровича Зернова. Взмах крыла, – или, выражаясь реальнее, первый паром, – и вот неопределенная юность с ее мечтами уже назади, а впереди подвигается, и ширится, и идет навстречу самая жизнь, к которой так долго готовился, которую так страстно желал…
Николай Петрович Зернов, стоявший весной 1872 года, на страстной неделе, в виду Павлова на Тумботинской круче, был именно в таком положении.
Николай Петрович Зернов и его друг, связанный с ним общим делом, Фаворский, оба родились, получили первые впечатления и выросли в кустарном селе. Отец Зернова был местный почтмейстер, отец Фаворского – протопоп. Таким образом, судьба давала возможность двум мальчикам, игравшим на кручах Павлова с чумазыми мальчишками кустарей, получить основательное образование и заглянуть в свет подальше того, что видно с самых высоких павловских гор. В то время, как товарищи их раннего детства давно уже стучали молотками в убогих мастерских, бились с «низнувшими» ценами и проталкивались в темных улицах к скупщицким огням, Зернов и Фаворский учились в гимназии и затем оканчивали курс – один в технологическом институте, другой – в университете по юридическому факультету.
Но оба они не забывали родного села. Оба с детства видели собственными глазами и собственными ушами слышали тяжелое, надтреснутое павловское буханье. С детства они привыкли различать в нем знакомые оттенки, с детства вырастали в их сердцах симпатии и антипатии среди разделенного смутой павловского мира.
Образование расширило их кругозор, но не истребило симпатий. И вот теперь оба друга, юрист и технолог, несли обратно в родное село свои знания. Юрист и технолог являлись сюда основателями двух учреждений, с которыми связали свою деятельность в лучшую пору своей жизни. Связь была так крепка, что вместе с нею порвалась у одного из друзей самая жизнь.
Дело было маленькое и скромное, называлось оно «устройством в селе Павлове складочной артели» (Зернов) и «ссудо-сберегательного товарищества» (Фаворский). Дело было очень прозаичное и негромкое, но друзья смотрели, на него, как на зернышко первого посева, как на дело будущего.
Оно било в самую суть вопроса; если возможно умиротворение павловских раздоров без окончательной гибели самой кустарной формы, то это решение и эта возможность лежит именно там, где его искали в семидесятые годы многие «верующие» люди и в их числе «два павловских студента».
Это было дело веры, дело любви и примирения. Зернов и Фаворский являлись в Павлове третьей партией, пускали в ход новую идею, мечтали образовать такой островок, куда могли бы спастись все утомленные бестолковою борьбой, которой не виделось конца. Старые партии действительно утомили уже Павлово, и – увы! – еще долго суждено было им утомлять несчастный кустарный мир. Они походили на двух человек, схватившихся в узком проходе. Побеждал то один, то другой, то одному, то другому приходилось плохо, но оба все-таки не двигались ни на шаг.
Зернов и Фаворский мечтали, что они укажут настоящую, более просторную дорогу. Заблудившийся в потемках павловский мир они, видевшие дальше, чем можно видеть с павловских гор, хотели понемногу вернуть к распутью, оставшемуся далеко назади и с которого он свернул на ложную дорогу. Они хотели уничтожить или, вернее, обойти ту стену, которая отделяла мир кустарный от остального божьего мира. Они хотели вывести из-за нее кустарей и указать им этот мир, широкий, разнообразный, заманчивый, с его далекими перспективами, с его изменчивыми запросами.
Дело состояло в том, чтобы дать плоть и кровь тому «как-нибудь», которое смутно мелькает перед Аверьянами. Нужно было организовать новую ячейку производства, связать ее со сбытом живою нитью, и когда эта живая связь примется и окрепнет, сказать ей: теперь живи и множься и покрывай кустарный мир. В тебе живая душа этого мира, больного и умирающего.
Вот что стояло за маленьким делом, которое вез с собой молодой человек, ожидавший на Тумботинской круче первого парома.
Все способствовало, казалось, практическому начинанию двух идеалистов, потому что в то время была вера, а формула всякой веры: «на земли мир, в человецех благоволение» – казалась основным законом жизни. Трудностей не боялись, скорее грешили излишним пренебрежением к трудностям. Все, что загромождает сущность вопроса, тогда устраняли, как легкую шелуху, и, разыскав мыслью «основные причины», брались за них в предположении, что устраненные детали вовсе уже не существуют.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Все, что я написал в этой главе, заимствовано мною из старого письма. От потемневшего листочка бумаги, взятого из беспорядочной, неразобранной груды таких же старых листков, пахнуло на меня этой весной; там описан и этот разлив, и первый паром, и ожидание Николая Петровича Зернова в виду родного села…
«Здравствуй, дорогой мой А. Е., – так начинается это письмо. – Ну, вот я и в Павлове… Как встретила меня мама, ты можешь себе представить, – самого тебя не раз встречали так же… В каждом движении столько любви, столько беспредельного обожания… И, право, совестно и больно, что в сердце, занятом другим, не находится столько же ответной любви…»
А дальше, после описания трудного переезда и грязи и ожидания парома, идут подробности встречи с друзьями и знакомыми в Павлове. И тут же непосредственно – мысли, толки, предположения об ожидающем деле, о надвигающейся практике и ее прозаических мелочах. Пятидесятикопеечные еженедельные взносы тяжелы для кустарей, членов артели… Есть параграфы, которые надо будет устранить… Торговцы хихикают, принимая во внимание незначительность капиталов артели сравнительно с их капиталами, и, не стесняясь, высказывают на стороне те препятствия, на которые артель неизбежно натолкнется при ведении дела. Они соглашаются, что со временем для артели дело будет выясняться все более и более, но до тех пор артель, не имеющая, по уставу, права покупать чужие изделия и пополнять ими свой «ассортимент», уже разлетится на этом камне. Мастера, которых изделия необходимы, могут и не попасть в члены артели, тем более, что их постараются «придержать», и т. д. и т. д.
Это уже – проза и практика житейской борьбы, которая охватила с первого же дня новое дело… Против мечтаний об основном законе жизни, о мире и благоволении выступает суровая рать стройно сомкнувшихся жизненных фактов, выступают «экономические» законы, в своем благоразумии короткой данной минуты претендующие на вечное, незыблемое значение.
Но, кроме экономических законов, предстояли еще и другие трудности. К слабому детищу мирного идеализма тянулись уже более опасные объятия борющихся партий, стремившихся завербовать к себе юного новобранца… Между тем, дело это должно было стать делом не борьбы, а мира: не ненависть, а примирение вносилось в павловскую жизнь этим начинанием. И Николай Петрович Зернов твердою рукой постарался на первых же порах оградить нейтральность своего детища. Ни главнейшие из скупщиков, ни сам всесильный уже в то время Варыпаев не вошли в состав артели, и это произошло не по их собственному желанию…
С тех пор прошло почти двадцать лет… Двадцать лет, это почти половина жизни. Что же случилось с молодым человеком, стоявшим на Тумботинской круче?
Каково продолжение нашего романа? Как кончился идеалистический опыт, чему он нас учит своею удачей или своими ошибками? Каковы его окончательные и неопровержимые выводы?
Может быть, при первом столкновении с действительностью мечты разлетелись, как хрупкое стекло, и никакого романа не вышло? Или он вступил в борьбу с суровым экономическим законом, во имя утопии, и суровый закон неопровержимо доказал свою силу, а мечтатель смирился и побрел за другими по избитой дорожке? Или, наконец, молодая идиллия перешла постепенно в благоразумную зрелую прозу: мечты никогда не осуществляются целиком, действительность оборвала лепестки у цветка юности, но из-под них вынырнул скромный плод, маленький и некрасивый, но все же заключающий в себе семена дальнейших всходов?
Ни то, ни другое, ни третье… Зернова нет уже на свете, и, вместо романа, передо мною беспорядочная груда пожелтевших бумаг, в которой мелькают разрозненные цифры, отдельные замечания, вписанные твердою рукой, дружеские и деловые письма… Но все это обрывается, как внезапно лопнувшая струна…
В Павлове было две партии. Зернов не примкнул ни к одной, и потому обе с затаенною враждой смотрели на новое начинание. Зернов не вступал в борьбу за Варыпаева с «богачами», он не трогал «скупщиков», но самая идея, на которой покоилось скупщицкое сословие, подвергалась нападению. С другой стороны, он не заступался за «богачей», не ратовал против варыпаевского влияния на сходе, но клал основание учреждению, которое било дальше варыпаевской оппозиции «богачам» и звало бедноту под новое, менее боевое, но более обещавшее знамя…
Как бы то ни было, в тревожное время, когда Павлово еще не успокоилось после пожаров и раздорного буханья, когда по селу ходили самые тревожные слухи, вызванные бестолковою демагогической борьбой, кто-то пустил против Зернова «шип по-змеиному» в виде ложного политического доноса…
Время было тревожное. Произвели обыск. У Зернова не нашли ничего; «недоразумение» длилось недолго, однако достаточно для того, чтобы дело Зернова сразу завяло. Кружок Зернова, на время разгромленный и деморализованный, или отсутствовал, или потерял значение, а в это время разнуздалось и пошло врознь все, что прежде сдерживалось рукой организатора в неокрепшем деле.
Прошлым летом в доме одного мастера, держащегося теперь совершенно в стороне от всяких общественных дел, я встретил старушку… Это была самая обыкновенная старушка с чулком в руках и с тем особенным выражением строгого спокойствия на лице, которое иногда встречается у таких старушек. Не знаешь, чему приписать это выражение: может быть, ей надо считать петли и она сосредоточена на этом счете, а может быть и то, что тяжелое горе и горькая скорбная дума о жизни наложили эти морщины, придали неподвижность этому взгляду.
От хозяина я узнал, что это – мать Николая Петровича Зернова, приехавшая в Павлово прямо с похорон сына. После своей неудачи он жил еще более десяти лет, даже служил где-то на железной дороге. Но все, знавшие его прежде, видели, что это уже не жизнь, что в ней недостает главного нерва. Когда же, вдобавок, у него умерла жена, – заметное и прежде нервное расстройство перешло в настоящую острую душевную болезнь.
Судьба порой особенным образом заботится о своих любимцах, со вкусом истинного художника располагая все аксессуары так умело, что образ выступает наиболее цельно и ярко. Такую трагическую заботу проявила она и относительно Зернова. Любовь и заботы близких людей успели победить болезнь, сознание его прояснялось, он выздоравливал. Но в то время, когда однажды он сидел в Петербурге у окна, из четвертого этажа против его квартиры выбросилась на мостовую женщина. Николай Петрович вскрикнул и с этой минуты не приходил уже в сознание…
Очерк второй
Скупщик и скупщицкая философия
Светлый, летний вечер. Солнце освещает покатую улицу, меж крыш мелькает река, с другой стороны виднеются горы с лачугами. Дымятся кое-где кузницы. Из раскрытых окон несется на улицу визг пил и стук молотков. Рабочий день еще не кончен, до понедельника далеко.
На лавочку перед воротами своих палат садится Осип Иванович Портянкин, крупный скупщик и торговец. Это человек толстый, с несколько оплывшими чертами лица. Глаза его, скользящие вдоль спокойной улицы, светятся ленивым юмором.
Действительно, Осип Иванович большой юморист.
Как-то в лавку Осипа Ивановича зашло «начальство». Производилось официальное «исследование» по поводу заявления о бедствии в Павлове, и начальство с учеными целями присутствовало при скупке и приемке. Осип Иванович, по своему обыкновению, рассчитывался при посредстве «промена» и «третьей части».
– Не надо бы промену брать, – сказало официальное лицо.
Осип Иванович посмотрел на него ироническим взглядом и сказал спокойно:
– На роду мне написано брать с них, подлецов, промен. Ничего не поделаешь.
– Ты бы хоть меня постыдился.
– Не стыдимся мы денежку наживать. Да и что нам тебя, ваше благородие, стыдиться?
Говорят, начальник, уже в силу своей особенной профессии видавший всякие виды, потупился и слегка покраснел под этим твердым взглядом павловского юмориста.
Таким же взглядом смотрит он теперь вдоль тихой улицы по которой ласково скользят солнечные лучи, золотя мураву на косогорах, наседку с цыплятами, разгребающую железный мусор и опилки, воробьев, купающихся в мягкой пыли. В этом взгляде из прищуренных заплывших глаз так и сквозит какая-то дремлющая, несколько циничная насмешка. Как будто этот человек знает что-то нелестное и об улице с ее тихим покоем, и о наседке, и о воробьях, и даже о солнце, льющем свои золотые лучи. Они одинаково светят и на беспечного воробья, и на кошку, которая тихо крадется под забором, сверкая на глупую птицу жадными глазами. Мгновение – и глупая птица уже в ее лапах, и мягкая пыль обагряется глупою птичьею кровью.
Осип Иванович отлично знает, что гораздо лучше быть хищником, чем жертвой.
Кроме того, он уверен, что все думают так же, но только одни хотят и умеют занять это удобное положение под солнышком божиим, а другие тоже хотят, но не умеют.
У него есть и умение, и желание.
И вот почему его умные глаза светятся, или, вернее, лоснятся, этим насмешливым довольством, и вот почему под этим взглядом порой становится так неловко.
Обежав вдоль улицы, взгляд Осипа Ивановича падает на противоположную сторону. Там, на такой же лавочке, у таких же ворот, оказывается сидящим другой павловец, молодой скупщик Александр Семенович Чайкин, в просторечии называемый Леской, который смотрит на Осипа Ивановича таким же «павловским» взглядом.
Глаза соседей встречаются, и обоим становится не по себе, как будто каждый подглядел что-то в другом. Они отводят глаза, но через минуту обоих тянет опять посмотреть на противоположную сторону.
– Что, радуешься, – спрашивает равнодушно Осип Иванович, – дядьев-то обокравши?
Чайкин так же равнодушно отвечает:
– Что тут! Какие мы еще воры! А вот у кого лошади по неделе не распряжены стояли, помнишь ты, Осип Иванович?
И молодой «Лёсынька» напоминает старому «Ваньке» один из эпизодов его собственной биографии.
Разговор, с его тонкими намеками, понятными одним павловцам, мгновенно пресекается. Противники чувствуют, что оба достойны друг друга и оба одинаково твердо и не потупясь встречают эти шутки. А это действительно только шутки. Через минуту, пыхтя и отдуваясь, выходит с подсолнухами в кармане супруга Осипа Ивановича и садится рядом с мужем.
– Переходи-ко-те к нам, Ликсан Семеныч, – говорит она Чайкину. – Вместе веселяе.
Чайкин, как ни в чем не бывало, переходит через улицу, и… начинается беседа откровенных павловских мудрецов о других таких же мудрецах, умеющих устраивать дела…
Вот, например, к старику Акифьеву или Долганову является с ирбитской ярмарки молодой приказчик. Дела шли превосходно, вышла, как говорят в Павлове, настоящая «упайка», товар «шел ходом», и приказчик сдает при отчете крупную сумму.
Расчет покончен, старик отворяет стол и кидает туда дрожащею рукой пачки денег. В это время приказчик, не говоря ни слова, кладет перед ним еще одну пачку в три тысячи.
– Это что? – спрашивает хозяин, вскидывая глазами на потупившегося приказчика.
– Это-с, – скромно говорит тот, – еще сверх того… Позвольте сказать: утаил, да совесть взяла. Не будет ли милости вашей, для награждения добродетели…
Скупой старик быстро сгребает пачку и щелкает замком:
– Нет, нет… Не умел взять без ведома, не взыщи, не дам!.. Глуп, глуп, Ванюша…
И он окидывает Ванюшу взглядом сожаления. Оказывается, что «глупый Ванюша» украл не три, а целых тринадцать тысяч… и впоследствии сам становится скупщиком и конкурирует с бывшим хозяином…
И, вспоминая такие истории, лежащие в основе скупщицкого накопления, – собеседники благодушно смеются…
Однако надо быть справедливыми и к скупщицкому сословию. Всем известно, что среди рабочих есть лентяи и пьяницы; однако существенная черта того коллективного типа, который носит название рабочего, вовсе не то, что он пьянствует и ленится, а то, что он трудится и производит. Для характеристики рабочего класса мы должны обращаться не в кабак, а в мастерскую, – не к тем, кто, главным образом, пьянствует, а к тем, кто, главным образом, работает, и по их положению судить и делать те или другие выводы.
Очевидно, то же, думал я, нужно применить и к скупщику… Толкаясь среди базара, глядя на эти картины отсталого строя, слушая гневные или цинические рассказы о проделках павловского капитала, – я думал все-таки, что должна же быть и другая сторона явления. Пока нет других форм обмена, – скупщик выполняет эту необходимую общественную функцию… Он является единственным посредником между мастером и потребителем, и явление нужно посмотреть в этой его сущности и притом в наиболее сильном ее проявлении.
С этим решением, как помнит читатель, я и заснул на постоялом дворе, в туманное зимнее утро после скупки. И в моем воображении носился образ Дмитрия Васильевича Дужкина, человека, соблюдающего свое звание.
Слыхали ли вы когда-нибудь об экономическом человеке?
Экономический человек выдуман учеными людьми собственно для научного употребления и изготовлен по чисто отрицательному рецепту. Для этого взяли обыкновенного человека и у него, как лепестки у махрового цветка, оборвали и отбросили прочь все душевные свойства, все побуждения, все невинные глупости, все страсти, чувства, стремления, кроме простейших стремлений к стяжанию богатства, к так называемой экономической выгоде.
Если бы этот человек размножился и заполнил землю, это было бы большою потерей в экономии природы, но от этого очень много выиграла бы политическая экономия. Человеческая природа проиграла бы оттого, что все ее цветки, вся игра ее красок, все благоухания сразу бы исчезли. Но экономическая наука покрыла бы все остальные знания, стала бы наукой наук, приобрела бы точность и пророческие способности астрономии: все неуловимое, все бесконечно-сложное и потому бесконечно-беспорядочное движение в человечестве сразу стало бы упрощенным и стройным, все мы задвигались бы по одинаково описанным, определенным орбитам, и законы человечества стали бы непреложны и непререкаемы, как законы тяготения.
Вот что, собственно, прельщало некоторых ученых людей, мечтавших уже о весьма точной гармонии подлежащих несложному учету сил и интересов. К счастию, не все мечты, рождающиеся в иных даже очень ученых головах, осуществимы…
И, однако, экономический человек все-таки существует. Нет такого образа, нет такого намека на образ в запасе человеческой мысли, которые бы не поторопилась уже гораздо ранее, когда-нибудь, где-нибудь осуществить вечно творящая природа. Таким образом, задолго еще до того, как перед взглядами ученых людей обрисовался во всей полноте идеал экономического человека, сам экономический человек, сухой и лишенный всех излишних украшений, уже слонялся по белу свету среди остальных детей общей матери, смотрел кругом своим острым взглядом, зловеще сверкавшим на все яркие лепестки и роскошные придатки жизни…
Только неисправимая мотовка-природа, любящая цветы, переливы и благоухания, стремящаяся к излишеству и сложности форм, вместо их упрощения, всюду, где только появляется это благоразумнейшее, по-видимому, из ее детищ, брезгливо отворачивается от него и протестует: вокруг него все тускнеет, омрачается, вянет и усыхает, и даже самое богатство обращается в сухой, костлявый, истомленный неутолимым голодом призрак…
Впрочем, это только присказка. Дело идет просто о некоторых чертах из биографии Дмитрия Васильевича Дужкина…
Жил-был в Павлове кустарь Василий Иванов, по прозванию Дужкин.
Это было еще в то время, когда мастерам жилось посвободнее, нож и замок шли с рук порядочно, мастерство не шло на убыль и цены держались довольно крепко. Чаще тогда слышались в Павлове песни, мастера покупали себе хорошие шубы, женам дарили платки и узорные ситцы, утешались по праздникам кулачными боями, в домах стены распирались от толпы, глазевшей на бой кочетов, да, правду сказать, не раз к празднику беспечные мастера прихватывали и будней, а «расход вели по приходу». Мастерство всегда в руках, думали они, и не чаяли, не гадали о черных днях и невзгодах.
Василий Иванов не отличался особенными талантами, работал самый простой нож, не требующий никакой ловкости или сноровки. Но зато при продаже торговался так, что выводил из терпения самых терпеливых скупщиков, и не имел никаких личных слабостей. Никогда не видали его в кабаке, мимо всяких гулянок он проходил с суровым видом осуждения, появляясь только в церкви по праздникам, да на базаре в понедельник. Все остальное время он работал в своей мастерской. Одевался бедно, жил скупо и всякую копейку откладывал, урезывая себя, даже в то сравнительно обильное время, во всем самом необходимом.
– Нас у него было двое, – говорил мне об отце Дмитрий Васильевич, – я да братец старший – покойник теперь. Любить он нас, полагать надо, любил. Ну, а жалел… маловато. С осьми лет уж мы у него с молотком познакомились. Скричат вторые петухи – будит, а ложились часов в одиннадцать. И если по-нынешнему об нем говорить, так надо сказать – скупой… Ну, а в старину говорили – бережливый. Баловства мы от него не видали. Чаем нас поил раз в неделю: после вечерен в субботу. Брату, как он больше помогал, четыре чашки, кусок сахару. Мне, как я помогал меньше, две чашки, полкуска. Теперь вот господа кустари изволят жаловаться: чай плохой торговцы отпускают… И многие господа кустарей жалеют, о кустарях многие господа заботятся. Бедные, несчастные… Ба-лов-ство-с!.. Об нас, позвольте спросить-с, заботились? Нас, позвольте спросить, жалели собственные родители?.. Две чашки, полкуска-с!.. Вот как!
На лице Дмитрия Васильевича, когда он произносил эти слова, было какое-то странное выражение: жалел ли он о своем детстве, проведенном в железных тисках беспощадной наживы, или с сыновнею нежностью вспоминал сурового родителя, который умел любить, не жалея?.. На бледном лице рассказчика проступил крепкий румянец. Такой румянец и на таких лицах вспыхивает не сразу, но зато долго не угасает. Он перекрестился на икону и закончил твердо:
– И посейчас благодарю своего родителя, царствие небесное, что научил уму-разуму, как надо на свете жить…
И затем продолжал свой рассказ.
Посредством этой системы, путем неуклонной энергии и истинно-геройских лишений, отец скопил первую тысячу ассигнациями. Прибавив последний рубль к накопленным ранее, он поставил свечу своему угоднику в церкви, крепко помолился, еще крепче подумал сам и позвал старшего сына для совета. Мастер-кустарь задумал открыть свою торговлю.
Это был шаг очень серьезный.
– Думаете, сразу пустил в оборот всю сумму? – спросил у меня Дмитрий Васильевич, лукаво улыбаясь при этом воспоминании. – Как бы не так! Не-ет… Старинные люди не любили пыль в глаза пускать. В старину любили потихоньку, да чтобы крепче. Подумали они, потолковали с братом, потом сняли тихонечко лавчонку нехитрую, попросили у соседа лошадь с телегой, да, благословясь, в Нижний… Купили на пятьсот ассигнаций железа и с господом… открыли торговлю, клёпань да проволоку мастерам по мелочи продавать. В старину, милостивый государь, это не так легко зачиналось, как ныне, это дело в старину было серьезное-с.
Я легко представил себе, что это действительно было дело серьезное. При взгляде на сына, рассказывавшего мне эту поэму отцовской наживы, я читал даже в его лице историю неприветного детства. В глазах горел огонь, на щеках стоял крепкий румянец, обнаруживавший железную натуру отца. Но в сухих чертах, во всей тощей фигуре из одних костей и сухожилий, сказался непосильный ранний труд и лишения. Он напоминал растение крепкой породы, выросшее в глухом углу, без тепла и света.
Понятно, что первый шаг к выделению старика Дужкина из своей среды, к переходу из мастеров в торговцы, среда эта встретила не особенно дружелюбно. «Дужкин с молотком распрощался, Дужкин выходит в торговцы! Тысячник, миллионщик!» – иронизировали павловские Аверьяны, саркастически кланяясь новому торговцу, пуская ему вдогонку насмешки и остроты. Среда вообще мирится с существующим фактом превосходства, но не терпит и ненавидит такой факт, возникающий у нее на глазах.
Старый Дужкин шагал обдуманно и осторожно. Попрежнему, задолго до свету, он зажигал рабочую лампочку, задолго до свету подымал заспавшегося ребенка, который не смел ослушаться и, прощаясь с обрывками золотого детского сна, как и у других детей полного грез, тщательно скрывал от сурового отца горькие слезы. Не всюду у мастеров светились окна в те часы, когда светились они у начинавшего торговца Дужкина, когда за его станком стучали уже три молотка.
Потом, под благовест к ранней обедне, Дужкины шли в свою лавку, и бледный мальчик с черными глубокими глазами помогал здесь отцу или брату до вечера. Вечером до одиннадцати часов опять работа, а там короткий сон и опять оборванные грезы.
Да, мало жалости встретил Дмитрий Васильевич Дужкин в свои молодые годы!.. Суровая рука «экономического человека», не знавшего слабости родительского сердца, не давала развернуться ни одному лепестку в юной душе, беспощадна вгоняя ее в колею наживы, вырабатывая ее по своему суровому образу и подобию.
Между тем, торговля шла хоть тихо, но верно вперед. И вот, однажды опять старик помолился в церкви, опять заперся со старшим сыном и говорил с ним всю ночь; сын отпрашивался и даже плакал, а отец сурово приказывал и настаивал. Василий Дужкин, уже ранее занявшийся мелкою скупкой для ближайших рынков, решил снарядить старшего сына в путь на дальние рынки, в Польшу и Украину. Сам он был уже слишком стар и не мог бы вынести трудного путешествия с возами; но его энергия искала еще нового применения, хотя бы в сыновьях. Он обдумал все дело, а сын должен был привести его в исполнение.
– Ну-с, милостивый государь, – рассказывал мне Дмитрий Васильевич с сверкающими от восторга глазами, – это дело зачиналось еще посерьезнее. Теперь, конечно, когда все поставлено, любой приказчик его оборудует. А тогда все равно, что Америку открывали. И опять родитель покойник отделил на это дело половину капитала, а другую оставил в старом, уже испытанном деле. И поехал старший брат с возами в Польшу, а с братом я, а с нами еще приказчик, человек бывалый и верный, каких теперь верных людей, по совести вам скажу, тоже что-то не открывается.
Поехали и… проторговались.
Поздно ли приехали, или по какой другой причине, только товар не пошел, денег затрачено много, и все понапрасну. Брат, который и ехал уже со страхом и со слезами, совсем пришел в отчаяние. Он знал, что значат напрасно потраченные деньги, и боялся показаться отцу на глаза после неудачи.
Но тут выручил верный человек. «Что ж, Семен Василич, – сказал он, – теперь уж одно: либо весь капитал топить, либо весь выручить. Под лежачий камень вода не потечет. Айда, а там авось и в Харьков к ярмарке поспеем». И двинулись они опять со своими возами с Польши на Украину.
Что страху набрались, что передумано, что богу намолились, едучи с возами по полям, шляхам и по степям Украины, в жаркие пыльные дни и в звездные росистые ночи. Что будет, что подаст господь?.. Страшно неведомое, новое дело… Просыпаясь в телеге, в глухую полночь, мальчик слышал не раз тихий и сомневающийся говор брата и успокоительные замечания бывалого приказчика. Впрочем, младший Дужкин еще не понимал всей серьезности положения. Он только расправлялся, как захиревший цветок, вынесенный на свежий воздух, вдыхал полною грудью веяние степного ветра, слушал разговоры степи с чарующими ночами юга, и в его душе слагалось что-то, чего он не знал в мастерской, что мелькало только отрывками в грезах недоконченных снов в суровом родительском доме.
Да, вот почему и теперь у Дмитрия Васильевича лучший хор певчих из всего Павлова, а, пожалуй, мог бы даже соперничать с архиерейскими. Этот лепесток так и остался в душе необорванным…
Украина и харьковская ярмарка выручили. Убыток весь наверстался, и старику привезли еще, хотя и незначительный, барыш. Главное, степные шляхи были уже проторены дужкинскими колесами, и вскоре в Польше и в Харькове открылись две дужкинские лавки. В Польше торговал приказчик, в Харькове брат с Дмитрием Васильевичем; отец оставался в Павлове, порой наезжая в Харьков и в Польшу.
Тут-то, в харьковский период жизни, Дмитрию Васильевичу пришлось пережить тяжелые искушения, грозившие разрушить все плоды сурового отцовского воспитания. Точно захиревшее растение, выросшее под железным колпаком и вдруг вынесенное на простор, на солнце и на волю, – молодая душа стала расправляться и даже играть неожиданными переливами.
Началось это, вероятно, еще тогда, когда мальчик шагал с детскою беззаботностью за скрипучими возами по широким шляхам; когда чудные зори умирали за темнеющею степью, когда безбрежный небесный шатер загорался огнями и синяя ночь веяла на землю миром в человецех и благоволением. Там, у красных огней, от которых темнело небо и невольная жуть падала на сердце, среди чумаков, с их вольною поэзией и чудными ночными рассказами, у ребенка рождалось желание чего-то нового, другого, чего он не знал за станком, чего не могла дать ни лавка, ни нажива, ни самая счастливая торговая удача.
И вот, тайком от старших, мальчик смастерил себе скрипку и сначала робко, потом все смелее, в свободные часы, где-нибудь на задах или в далеком огороде, пробовал в звуках излить неопределенные чувства, теснившиеся в душу, которая невольно раскрывалась навстречу. И порой, наверное, ясно звучало в этой душе то, что теперь Дмитрий Васильевич бесповоротно признал одним баловством: «на земли мир, в человецех благоволение»…
В Харькове Дужкины наняли лавку у богатого помещика и домовладельца Дорошенка. У последнего был сын Борис одного возраста с Дмитрием Дужкиным. Теперь, по прошествии многих лет, лавка или, вернее, магазин кустарных изделий Дужкина находился в том же доме, и жизнь двух мальчиков, а теперь взрослых людей, Дужкина и Дорошенка, протекала двумя близкими параллельными линиями.
Дом, где жил сам Дорошенко, находился напротив, и Митя, сидя в лавке среди железных замков, под железным надзором отца и брата, смотрел, как его сверстник, – потомок славного рода, баловень семьи, – начинал свое счастливое существование. К нему ходили учителя, из открытых окон летними вечерами неслись звуки музыки.
– Я поигрывал на самодельной скрипочке, Дорошенко тоже играл на скрипке, – говорит с ироническою улыбкой Дмитрий Васильевич. – Только я самоучкой, а к нему ездили лучшие учителя. Потом его отдали в гимназию… а я свою гимназию проходил: за прилавком замки продавал…
Мальчики встречались изредка на улице, видели друг друга из окон в окна. Но молодой Дорошенко долго не замечал даже существования молодого Дужкина, тогда как тот отлично знал молодого Дорошенка. Все, что прельщало его противоположностью с железными тисками наживы, с узким и суровым режимом мастерской, лавки, железной торговли, – все, что манило неопределенными грезами в степях, – все это теперь получило определенный образ. Ему хотелось, во-первых, иметь такую же скрипку. Вначале он чувствовал, что молодой Дорошенко далеко уступал ему, самоучке, разыскивавшему мелодию по слуху, на дрянном инструменте. Но прошел год, и «ученый» музыкант далеко обогнал своего соперника. Мальчику хотелось тоже учителя. Были ли с его стороны робкие просьбы в этом смысле, были ли попытки молодой жизни пробиться из железных тисков, или он затаил все это в себе, не пытаясь даже осуществить мечту, – не знаю. Но только и теперь еще в страстно сверкающих взглядах Дмитрия Васильевича, – когда он насмехался над гимназиями, мне чудилась когда-то, давно, отложившаяся в глубине души, подавленная драма неудовлетворенных стремлений.
– Да-с… Он в гимназии обучался, а я-с… я свою гимназию проходил… за прилавком-с… Потом он – в университет, а я… с возами, по матушке России, в Польшу, да в Украину… Стало быть, тоже университет, только по другой части. Хе-хе-хе…
Дмитрий Васильевич много, горячо и охотно говорил мне о своем воспитании, об отце, об его системе, об ее непреложности, о вынесенных из опыта взглядах на жизнь, на образование, на людей, на кустарное дело. Но на этом периоде своей биографии он останавливался мало и неохотно, так, как говорится иногда о неприятной болезни. Тонкая улыбка пренебрежения играла у него на губах, и все, что я пишу о степи, о скрипке и о юных порывах, только промелькнуло в этом рассказе.
Как бы то ни было, все это несомненно было, оказало свое влияние и наложило известный отпечаток на дальнейшую жизнь. Долго ли «это» продолжалось, сказать трудно; однако, когда умер отец и братья разделились, «это» еще не совсем смолкло в душе молодого павловского торговца.
Между тем, Борис Платоныч Дорошенко вернулся из-за границы, где он изучал… кустарный вопрос. Молодой, блестящий, талантливый, он открыл в Харькове ряд публичных лекций по этому вопросу, и лекции эти производили настоящий фурор. Время было либеральное, после недавней «эмансипации» перед обществом раскрывалась перспектива дальнейших реформ, такая же заманчивая, как баловнические грезы дужкинского детства, а порой и такая же неопределенная. Во всяком случае, всюду в воздухе, как основная нота, как господствующий тон всех стремлении, звучит все тот же призыв; на земли мир, в человецех благоволение, – который теперь кажется Дмитрию Васильевичу баловством из самых опасных.
– Бориса Платоныча Дорошенка изволили знать? – говорил мне Дмитрий Васильевич Дужкин, с глазами, сверкающими каким-то ироническим восторгом, между тем как на его губах змеилась насмешливая улыбка. – Вот уж кого любо было послушать! Нас же ругает: и башибузуки-то мы, и турецкие зверства делаем, и в египетском рабстве кустарей держим… И мы же заслушивались, сидя в публике, и даже сами, поверите ли, хлопали в ладоши. Человек знаменитый, красноречивый, личность фигурная! Публика плещет руками, барыни платками машут, восторг! Собственные мои приказчики мне же уши оборвали: «Вот, мол, Митрий Васильевич, как бы и у нас в Павлове надо. А то все вы по старине, все во старине, а на одной старине далеко ли уедешь?.. Вот Борис Платоныч как по науке рекомендуют…» Хорошо! Стал уж я у собственных приказчиков за последнего человека!..
Дмитрий Васильевич замолчал и некоторое время сидел, барабаня пальцами по столу и как будто вглядываясь в свои воспоминания об этом времени.
– Да-с, – сказал он, продолжая улыбаться тонкими сухими губами. – Тоже ведь были и мы молоды, а я, – должен вам объяснить, – по своему характеру даже весьма пылок был. Тоже хотелось эти самые, знаете ли, артёлки заводить, господ мастеров благодетельствовать. Только как я практический человек, то меня, спасибо им, сами почтенные господа мастера отпугали, и даже, могу сказать, довольно скоро. Потому что, не хвалясь, скажу, голова у меня, милостивый государь, не опилками набита. Да-с… Если не скучно послушать, я вам могу рассказать, как это у нас вышло.
Я, конечно, был очень рад выслушать эту любопытную историю. Дмитрий Васильевич пристально посмотрел на меня и неожиданно спросил:
– Кто я, по-вашему-с? Как вы меня назовете? Скупщик и фабрикант. Так ли-с?
– Конечно,
– А Полетава Семен Семеныча знаете?
– Знаю.
– Ему какое будет название? Мастер? Кустарь?
– Да.
– А он двадцать человек рабочих держит. Почему же так, что он кустарь, а я не кустарь? По-моему, так выходит, что ежели я фабрикант, ежели я сок выжимаю, то и он, Семен Семеныч, то же самое делает, в аккурат. И даже по понедельникам огонь засвечает и, по силе возможности, делает покупку. А не в понедельник, то на неделе покупает. Стало быть, тот же скупщик. Так ли я рассуждаю, по-вашему?
– Пожалуй.
– Хорошо! А ежели кто пять рабочих содерживает, это как? Ведь ежели от меня далеко, – у меня, скажем, их двести, – то от Полетава вовсе близко. А все он будет кустарь? Это бы дело надо маленько разобрать. Теперь я вам про того же Полетава скажу. Иду я этто по улице, к музею, скажем, например, посмотреть: какие такие умные люди в музее[6] еще боле ума набираются… И идет со мной рабочий, с фабрики моей. Хорошо! Попадается теперича встречу Семен Полетав. И сейчас шапку в одну руку, другую здороваться ко мне… «Здравствуйте, Дмитрий Василич, как в своем здоровье пребываете?» А рабочему моему, который рядом идет, и головой не кивнул. Почему? Не такой же человек? Так это еще, милостивый государь, теперь-с! А дайте-ка в настоящую силу войти, он тогда станет вроде Ивана Грозного!
Он засмеялся своим дребезжащим смехом, между тем как глаза его сверкали, и продолжал:
– Теперь еще вот что я вам скажу: вот у нас цены низнут, процентов на двадцать упали… А у меня на фабрике плата все та же. Хвалиться не стану, – не из милости это делаю, – из расчету. Я всякого к себе на фабрику не поставлю, хоть будь он семи пядей во лбу. Я народ тоже сортирую, у меня с выбором каждый принят. Иной раз из дальней деревни выпишу, мужик-мужиком, стать у станка не умеет. Ничего, выучу, к делу определю, если только человек но разуму подходящий. Так мне каждый раз цену им менять не приходится. Хорошо! Теперича у каждого, например, моего коваля – молотобоец или подручный меньше с них получают, а только плату я назначаю сам. Так что ж вы думаете? Не боле вот недели назад говорят мне мастера: «Обидно нам. Мы теперь себе подручных найдем: народ бедствует. За два рубля с охотой пойдут». Слыхали? «Мука, говорят, дорога стала». Так! Вам муки надо! А им, говорю, не надо?.. Вот видите: пусти-ка любого, да он вот как на своем же брате поедет, что на кляче!
Он улыбнулся еще язвительнее и перешел к рассказу:
– Был тут у меня один… Иван Михайлов. Руки у него очень порядочные, голова глупая была, а уж голос… просто цены тому голосу нет. А я большое пристрастие имею к пению. И теперь еще, как услышу пение стройное да задушевное, – слезы на глазах, душа в умилении. Ну, а в те времена, конечно, и душа была помягче, и все такое-с. Так вот, по такой-то причине этого я мастера побаловывал: и не нужно бы когда замков его брать – беру. Только ходи ко мне на спевки, да чтобы в церкви аккуратно… И бывал я, знаете, в разных там местах… Конечно, не как господин Дорошенко, а все же видел кое-что, доводилось! И все, бывало, смотрю, как люди делают, до чего люди доходят, и нет ли чего по нашему делу полезного. И вижу я в одном месте: штампа! замочная! Стук – и готово, стук – и готово! Скоро, чисто, аккуратно, отчетливо! Ах ты, господи, думаю себе, я не я буду, а в Павлове у себя эту штуку заведу. Первым делом – штампу введу заграничную, а около заграничной штампы совокуплю артель. А? Штука-то какая? Там господин Дорошенко пока еще говорит, а уж мы и на практике проведем это самое дело. Вот-с, надумавши это, тихим манером подошел к штампе, посмотрел клеймо: где, мол, такая штука делана. Замочек тоже добыл для образца. Отлично! Привожу штампу к себе, в Павлово.
Вот, думаю, как мне надо сделать: призову мастера из лучших, изготовим мы матрицы, или, сказать попросту, формы, выучу одного штамповать, потом примусь за другого, там за третьего. И вот этаким манером потихоньку да помаленьку, без шуму, составлю артель. Наштампует один клёпани сколько надо, – ступай, отделывай, а в то время припущается к штампе другой. И пойдет у меня около этой штампы круговая работа. А там, мол, посмотрим.
Только вот беда-то в чем. Требуется прежде всего форму сделать, потому что штампа одна сама по себе еще не действует, а надобна к ней своим порядком для каждого предмета матрица, или форма, вещь опять особая. Ну, да ведь наш русский мастер, да еще кустарь, – слава-те, господи! – блоху и ту, сказывают, подковал. Вот отлично! Призываю к себе слесаря одного. «Так и так, можешь?» – Показываю замок, объясняю. – «Этакой, говорит, штуки, да чтоб я не сделал. В момент! Давай, хозяин, задаток!» – «Задаток, говорю, задатком, что ни возьми, да только сделай!»
Ну, делал, делал, – не сделал. «Штука-то, видишь ты, говорит, не наша, с хитростью», – сам затылок чешет. – «Эх, говорю, Степанушка-а! Видно, хлопать-то больно легко. На, вот, тебе деньги сполна, за всю работу, да смотри, чтоб никому ни словечка, что мы с тобой осрамились. Ведь засмеют». А уж у нас так повелось: чуть что новенькое, да еще, храни бог, не удалось, Аверьяны одни проходу не дадут, засмеют… А я этого не люблю.
Призываю, поэтому, другого. «Сделаешь?» – «В самом превосходном виде, лучше заграничного. Это что! Это нам ничего не составляет!» – «Сделаешь ли, смотри?» – «Говорить не о чем, сделаю».
Не сделал. Путлял, путлял, недели с три провозился. Сработал махину, только разве орехи давить. Ах ты, господи! Уж у меня сердце за это время накипело. И что, мол, это вы за народ за такой. Все у вас только изо рту течет: нахвастаете, а на деле оправдать не можете!
Ну, наконец-таки, нашелся! Татарин, машинистом в Гороховце служил, – слесарь первейший! Зазвал я его к себе с базару. «Садись, Василь Василич, – все ведь они по-нашему Василь Василичи, – водки хочешь? – пей, закуски хочешь? – жри! А вот и дело: сделаешь аль нет?»
Посмотрел прежнюю работу, помолчал, подумал. Ну, слава-те, господи, хоть не хлопает зря, думаю себе. Авось, выйдет толк.
– Ладно! – говорит. – Пятьдесят рублей дашь, сделаю.
Дело-то, положим, пяти рублей не стоит… Ну, да бери, Васенька, только не выдавай!
Недели три мучил злодей, – выпить крепко любил, даром что магометовой веры. Приедешь к нему, думаешь: не готово ли, а он, заместо этого, пьян валяется, лыка не вяжет. Ах, мухи тебя заешь! Ну, все-таки принес, наконец, приладил матрицу к штампе, раз, р-раз! Просто точка в точку!
Отдал деньги, да еще сверх уговору напоил пьяного, да на своей лошади домой отправил…
После этого призываю Ивана Михайлова, стало быть, уже по другому делу, насчет артёлки. Начнем с богом!
– Ну, сладенькой ты мой, вот какая штука! Давай, станем учиться!
Выучился мой Иван Михайлов, пошла у него работа как следует, замок новенького фасона, идет хорошо, и цену я ему даю тоже хорошую. Теперь надо мне другого приучать.
Только между этими делами примечаю: начинает что-то мой Иван Михайлов портиться. Просто сказать, зазнается мужик. Дескать, и голос у меня, и в церкви я надобен, и на штампе стукать умею, – самый, значит, я первейший человек. На спевки не ходит, пьян напьется, грубить начинает, а я все терплю, все, заметьте себе, терплю! Захар Васильевич, староста церковный, тот даже удивляется на меня: «Вы, говорит, молодой человек, еще обращения настоящего с этим народом не знаете. Теперь бы, по-нашему, весьма полезно ему в шею хорошенько накласть! Послушайтесь опытного человека. Самое теперь время, а то, пожалуй, упустите, потом уж и поздно будет!» А я: «Что вы это, Захар Васильевич? Нельзя этак грубо. Что мы здесь, на кулачном бою, что ли? Надо по нынешнему времени иначе. По настоящему времени надо словом убеждения!»
Вот призываю милого дружка: «Ванюша, нехорошо, голубчик! Образумься несколько. Ведь это же выходит довольно с твоей стороны безобразно!» Вот мой Ванюша после этого так уж поправился, что в церковь пьяный вкатился, старосту скверно обругал, мне язык кажет. Еще бы малость, так, пожалуй, от хорошего убеждения меня же ударил бы. Как раз бы потрафил.
Ну, тут уж я маленечко опоминаться стал, действительно. Драться все-таки не стал, потому что, по-моему, глупые это люди, которые дерутся. А призвал его к себе, тихонько да вежливенько: «Иван Михалыч, господин Шупов, получите с нас расчет, да уж больше, сделайте милость, к нам не ходите. От наших ворот имейте поворот!» – «Как, да что?» – «Ничего-с, только мы вам, а вы нам более не нужны. Получите следуемое „сполна“».
– Да я, говорит, больше не буду!
– Дело ваше, как хотите, так сами себя и ведите, мы с вас воли не снимаем. А только, – говорю я ему, – послушай ты теперь, что я тебе говорить стану, да запомни, за-апомни! Я вашего брата мастерового весьма знаю, и манера ваша мне известна: шапки ты теперь на улице передо мной ломать не станешь. Бог с тобой, не надо. А вот зачнешь меня на улице остановлять, да срамить на народе, да проходу не давать. Ну, этого не делай! Не ругай ты меня, Иван Михайлов, я тебе говорю: ни в глаза!.. От нужды никто не застрахован. В нужде я тебя достану, в нужде ты от меня кровавыми слезами заплачешь…
Дмитрий Васильевич перевел дух. Даже теперь, когда он передавал эти подробности, его голос дрожал и понизился до шопота. Я посмотрел в худое лицо, пылавшее страстным гневом, и испугался за беспечного певца Ивана Михайлова…
– Ну, послушался, понял! И действительно, с этих пор я своею дорогой иду, он своею. Шапки не снимает, да и не ругается, больше все куда-нибудь в переулок норовит. Стал я немножечко стороной у мастеров поспрашивать: «То-то, мол, Ванька меня, чай, теперича костит?» – «Нет, не было этого, не слыхивали».
А между тем наковальня от штампы так у него и осталась. Я ничего, ни слова об этом, что-то будет дальше. Приходит раз к прилавку, несет замки: «Не возьмете ли?» – «Не требуется нам на этот раз, не взыщите». В другой – то же самое: проходите мимо!
А на ту пору и подойди нужда! Да не такая, как теперь, а уж именно что настоящая нужда, от какой нужды упаси господи! Цены базар от базару все низнут, да все низнут. Месяц назад по рублю кои замки покупал, те уж по восьми гривен. По восьми возьмешь, через неделю уж по семи целую гору накидают. Мы и то закачались маленько, и с капиталами. А простому рабочему народу – зарез!
Вот еще в начале этой самой истории идет мой Иван Михайлов, тихий да смирный. «Вот, мол, Дмитрий Васильевич, принес я вам наковальню вашу, – из ума она у меня вон, только теперь вспомнил».
– Это, говорю, хорошо, что вспомнили. Это обозначает, что есть еще в вас сколько-нибудь совести. Это я похвалю.
– А замочков не возьмете ли у меня?
– Замочков мне ваших не надо.
А сам примечаю: подается мужик, отмяк, в настоящее чувство входить начинает. Хорошо-с.
Вот и подошла, наконец, самая коренная нужда, бедствие, туча, наказание Давидово. Сами мы даже испугались, народ ревом ревет, детишки пухнут. Идет опять Иван Михайлов и голову повесил.
– Не надо ли, мол, замочков?.. Возьмите, Дмитрий Васильевич.
Смотрю я на моего Ванюшу: только, мол, от него и будет, или еще что-нибудь скажет?
– Да что уж! Бери, ради Христа! Прости, Митрий Василич. Ввек сам не буду, детишкам закажу, даже до седьмого колена, чтоб имели всякое почтение к тому человеку, который превыше…
И смотрю я: из глаз у мужика слезы ручьем.
Н-ну! Это дело другое-с!.. Взял! И нужды в тех замках не было, а взял. Потому что, понимаете ли вы это, – замок не нужен, так человек нужен. Человека я себе по гроб приобретаю.
– Так-то, говорю, Ваня. – Уж не Иван Михайлов! Которого я человека приближаю, все уж полуименем зову. – Ты, говорю, Ваня, понимай! Потому что и в священном писании сказано: богатство порождает добродетель, бедность уничтожает. А еще сказано, и ты понимай, что это правильно: всякий человек должен кому-нибудь покоряться… Понимаешь! Кому-нибудь, а уж должен покоряться. Ты вот сейчас мне покорился, а я, думаешь, никому не покорствую? Нет, и я покоряюсь, покоряюсь, Ваня! Гнусь вот как, побольше еще, чем ты теперь передо мною… Потому что я тебя, Ваня, умнее!..
С этого самого времени приобрел я себе мужика; работает у меня на фабрике за первого работника и на клиросе даже за регента действует, когда придется. И много еще, после того случаю, я дураков таких захомутывал. Теперь о глупостях о своих и вспоминать забыли. «Спасибо, говорят, Митрий Василич, что научил нас, глупых, уму-разуму». – «Спасибо и вам, и вы меня тоже научили, как надо с вами, ребятушки! Потому что у каждого человека свое дело, свое и понятие. Вы свое от меня узнали, я от вас свое!..»
Суровый родитель мог спокойно почивать в своей могиле. Молодые глупости, все эти бреши и изъяны, нанесенные душе его сына чужедальнею стороной, заманчивым простором божьего мира, музыкой, гимназиями, университетами, лекциями Бориса Платоновича Дорошенка, – все это рассеялось… Родимое село опять захватило своего питомца и поставило его в колею. Душа отряхала ненужные придатки, возвращаясь к выполнению отцовских традиций, простых, незатейливых и суровых.
Однако, что-то там было еще назади, что влекло если не симпатии молодого скупщика, то его ревнивое внимание. Он продолжал с затаенным интересом следить за карьерой своего соперника, занимавшегося тем же делом, с теоретической его стороны. Проходя свою гимназию и свой университет, колеся по России, Польше и Украине, он закалился, высох на солнце, затаил все, что прежде рвалось наружу, но все же прикидывал свой опыт, свои познания к тому, что говорил, что писал его красноречивый, образованный соперник. Это была своего рода борьба, в которой одна борющаяся сторона даже не знала о своей роли… Своя профессия попросту и без затей стала для Дужкина от этого еще дороже…
– Вот я вам случай на этот счет расскажу из собственной моей практики. Приезжал к нам сюда корреспондент один. Долго ли прожил у нас, коротко ли, а обругал всех. И обругал, я вам доложу, на славу, хлестко. Скупщики – разбойники натуральные, башибузуки турецкие, на святой Руси болгарские зверства делают. Хор-ро-шо-с. Прочитали мы, молчим, – не впервой, привыкли!
Только попадись эта газета в Твери молодому купцу. Отец денежки копил, а сын в университете обучался. Старик умер, сын прямо из университета – за дело. Капитал агромаднейший, хочется и образование свое показать, и главного приказчика себе подыскал, который окончил курс гимназии.
Вот прочитали они газету и возмутились. Ка-ак! В России болгарские зверства! Мы этих скупщиков в лоск уложим!
Призывают для начала одного приказчика, из простых, настоящих, который из мальчиков лямку тянул, и посылают к нам, в Павлово, с таким расчетом, что, дескать, купить на тысячу рублей товару, а между тем временем и присмотреться, как нас уничтожать, с которой стороны за нас, за разбойников, приниматься… А как я еще с стариком дело имел, то и послали парня этого ко мне, с письмом: дескать, имеем нужду в павловском товаре, так помогите. И список составили, и даже проставили цены, по своим соображениям, по ученым, чтобы и кустаря как-нибудь, сохрани господи, не обидеть.
Отлично. Посмотрел я список, подивился про себя. Однако, как это дело не мое, – помог. Купили, укупорили, отправили. Через сколько-то времени едет приказчик опять, и опять список, – товар другой, цены другие. – «Ну, что, мол? Как расторговались?» Ухмыляется парень: – «Плохо». – «Хлебнули шилом патоки?» – «Маленько. Рублей на шестьсот убытку». – «Так. А кто у тебя хозяин? Никак из университета?» – «Так точно». – «А главный приказчик?» – «Гимназист». – «Отлично. Стало быть, университет да гимназия. А мы с тобой люди простые, не ученые, не балованные?» – «Где нам-с». – «Ну, так давай-ка ты список сюда». Да по списку этому карандашом, чирк, чирк, – и захерил все. – «Ну, давай теперь мы с тобой свой список составим, не по-ученому, а по простому нашему разуму. Вот за это – и дороже можно дать, потому что товар теперь в ходу, а этого вот и даром, ежели дадут, не бери, – не надобен, нипочем».
Купил ему таким способом весь сортамент, присланные деньги извел, да еще от себя на такую же сумму прибавил. Вези, друг милый, да поучи маленько ученых людей!
Через небольшое время опять ко мне парень на двор, с письмами да с поклонами. «Велели кланяться, благодарят за наставление, просят впредь наукой не оставлять». – «Поняли, значит?» – «Как не понять, помилуйте-с. То убыток был, своего не выручили, а теперь в полгода с барышом растоварились». – «То-то, мол, скажи, пусть газет не читают. По газетам хорошо разговоры разговаривать, по наукам лекции читать, а торговое дело надо по старине вести, как люди ведут…»
Дмитрий Васильевич помолчал, нервно побарабанил пальцами и резко повернулся опять ко мне.
– То же самое и Борис Платоныч, господин Дорошенко. Слушал я его, слушал, – ну, а как стал свой университет проходить, и думаю: погодите, Борис Платоныч, высоко летаете, куда-то сесть придется…
И действительно, после смерти отца дела красноречивого противника скупщиков пошатнулись. А тут под рукой хорошо изученное «дорогое» кустарное дело, а тут под рукой и помощник, тихо, смиренно, с затаенным горьким смехом в душе предложивший свои «непросвещенные», скромные услуги. И вот опять теоретический университет попадает под руководство университета «практического». «Фигурная личность», блестящий оратор, громивший скупку и поселявший сомнение даже в скупщицкой душе, Борис Платонович, уронивший Дужкина даже в глазах его собственных приказчиков, очутился, наконец… хотя и не прямо, не непосредственно, но все же очутился за скупщицким прилавком, и трепетный огонек у входа в мрачные пещеры осветил также и дорошенковскую долю этой операции.
Дмитрий Васильевич отплатил своему сопернику истинно по-христиански: он берег его интересы так ревниво, как не берег даже своих; при каждой новой удаче бывшего оратора на губах скупщика являлась такая радостная улыбка, как будто барыши приходились на его собственную долю. Нет, за себя он не мог радоваться такою радостью. Тут была доля старого чувства, тут отдавалась дань юности, ее задавленным стремлениям, ее горькой зависти, ее нравственным унижениям и глухой борьбе. Скупщик отдавал ученому барыши по счету на бумажки, а себе брал у прежнего Дорошенка, у красноречивого оратора, у строгого проповедника, иные барыши, без счета. Он говорил себе с торжеством, что он, а не они правы, что они пошли его путем, значит, путь этот верен, что его родитель не напрасно вырвал суровой рукой из юного сердца трепетавшие в нем когда-то ненужные придатки и обманчивые грезы! Это было торжество и вместе оправдание, – оправдание и давно умершему экономическому человеку, лежавшему в могиле, и новому экономическому человеку, который выходил теперь на свой путь уже без малейших сомнений, даже, без малейших остатков горечи, превратившихся в сознание удовлетворения и торжества…
И вот в один прекрасный день, почтительно, но с явною улыбкой, немолодой уже Дужкин взглянул в глаза немолодому Дорошенку и сказал своим жестким голосом:
– А что, Борис Платоныч, помните ли вы ваши прежние речи? Пожалуй, ведь и сами теперь… тоже болгарские зверства производите?
Оратор сдался. Он зачеркнул все, что говорил когда-то в том самом городе, в присутствии того самого человека, который теперь пристально смотрел ему в глаза.
Была как-то кустарная выставка в Харькове… Выставка не удалась, все лезло врозь, экспоненты остались недовольны, недовольна осталась публика, недовольны газеты. Триумфатором вышел один Дмитрий Васильевич Дужкин. Он получил награды, почетные отзывы, его товар обратил на себя всеобщее внимание, и, наконец, в том самом городе, а, может быть, даже в той самой зале, где некогда раздавались громовые речи против «египетского рабства» кустарей, – теперь Дорошенко торжественно сознался в своих прежних заблуждениях. Нет, благородное скупщицкое сословие является необходимым звеном в кустарном организме. Это – просвещенные коллекторы, совершенствующие производство!
И Дмитрий Васильевич, разгорячившийся от молодых воспоминаний и недавнего торжества, смотрит мне в глаза, и взгляд Дмитрия Васильевича как будто спрашивает у меня, молчаливого слушателя этой драмы: «Ну, чья же школа лучше?»
– А Николай Петрович Зернов? – спросил я как-то невольно. – Ведь и Николай Петрович тоже… из университета?
Дмитрий Васильевич привскочил со стула.
– Что ж такое Николай Петрович? – позвольте спросить. Ничего и не вышло.
– Да, но отчего?
– Отчего? А вот я вам скажу отчего.
Он нервно взял стоявший на столе стакан и поставил его передо мной, крепко стукнув донышком.
– Видите: стакан. Не велика штука, нехитрая, какие тут узоры, – вон грань одна, больше ничего. Так. А тридцать лет назад делался этот стакан с кромочкой. Значит, тогда спрос один был, теперь спрос другой. Дай вам теперича стакан с кромкой, вы скажете: нет, не желаю, дайте мне новейшего фасона. Верно?
– Верно.
– Так то стакан. А теперь возьмите замок, – тут сколько сортов, да сколько фасонов!.. Сейчас вот медная штучка приделана, только и есть разницы. А между тем эта штучка пускает замок в ход, от этой штучки поплывет этот замок рекой, а уж другой который-нибудь остановляется. Так ли я говорю? Ведь на это есть спрос, штука весьма, скажу вам, капризная! Вот я о себе, не хвастаясь, скажу: по Харьковской, да по Московской губернии все знаю, настоящий профессор. Чуть маленько один товар позамялся, уж у меня ушки на макушке, – отчего? Другой опять тронулся шибче, – какая причина? Сейчас соображаю: тут попридержу, там повыпущу! Потому что в том мы полагаем свою выгоду и места эти нам стали известны… Сколько теперь этого железного товару через руки прошло. Ведь он, замок-то, всякий бывает. Есть замок по рублю за штуку, и есть замок по сороку копеек десяток. Опять есть замок с секретом, а есть и такой, что возьмите вы их десять, только один отпирается. Значит, в одно место требуется одно, в другое место – другое.
– Куда же, однако, – спросил я, – может требоваться замок, который вовсе не открывается?
Дмитрий Васильевич посмотрел на меня взглядом снисходительного превосходства и сказал не без некоторого пафоса:
– Россия, милостивый государь, государство агромаднейшее… тут всякая дрянь сойдет!
И, не останавливаясь дальше на этом предмете, продолжал с увлечением:
– Так вот-с! Которому человеку это выгодно, кто этим с малых лет занимается, тот может все уследить. А другому как узнать? Вот и говорю я Николаю Петровичу: – «Не выйдет у вас». – «Нет, выйдет». Ну, хорошо, я об себе не стал утверждать, пусть я не понимаю, а только говорю, что не выйдет. И не вышло!
Почему не вышло?.. А вот почему-с. Был тут, например, мастер один, Рябов пофамилии. Делал замок, называемый рябовский, и был тот замок «введенный». Хочешь, не хочешь, а без рябовского замка торговать невозможно, потому что придет оптовый покупатель, спрашивает: «Дай ты мне, говорит, на пятьсот рублей чего хочешь, да на пятнадцать целковых рябовского замка». Не дашь, и остального товару не продашь, в другое место покупатель уйдет. Работа, что говорить, чистая была, известная, и свое клеймо!
Вот приходит раз этот Рябов, приносит замки. Я и говорю: теперь, Михайло Петрович, вашего замка у меня довольно, а надо мне вот какой, скажем хоть, для примера, балагурский.
– Как так? – говорит. – Мне, говорит, балагурский не столь уже выгоден. На своем я сорок копеек получаю, на балагурском четвертак. Какая же мне надобность? Не желаю.
– Как хотите, – говорю, – а покамест должен я переждать с вашим замком.
На следующей неделе тащит опять свои. Делать нечего, человек нужный, беру. – Сделайте одолжение, Михайло Петрович, приносите мне балагурских.
– Не желаю.
– Воля ваша, неприятно мне это, да уж хоть разладиться с вами, а больше теперь брать не могу.
Потому что уж я замечаю: замялся этот замок, задерживается в лавках. Думаю, может, на короткое время стал, а там и опять пойдет; ну, а бывает и то, что вовсе из моды вышел. Значит, мертвое дело. А мастер только свистит.
– Наплевать! У нас теперь артель. В артель сволоку. И то давно зовут.
– Как вам угодно. И нежелательно мне с вами расставаться, а больше мне не под силу.
Ну, и ушел в артель. И горюшка себе не знает: наделает и сдает свои замки, наделает и сдает. А там все берут, да все берут. Навалил груду, а между тем замок этот на рынке и вовсе стал, кончилась мода, а они и не заметили. Набрали всякого добра много, возят с места на место: на ярмарке торгуют, в Москве, в Петербурге, в Урюпине шилом патоки хлебнули… Наше дело требует сноровки, где шажком, где ползком, где и поклониться. Вот я вам опять-таки случай расскажу, со мной и дело-то было. Приезжает каждый год в ярмарку купец из Сибири, Кабалов, ежели слышали. И каждый год все на тысячу рублей у меня товару берет; не то что павловским товаром торговлю ведет, а так, между другими предметами и наш годится. Только раз и говорит мне этот купец: «Ваш мне товар ни шьет, ни порет; ни барышу от него настоящего, ни убытку: возьмешь его – сойдет, пожалуй, не возьмешь – и без него обойдется дело. Уж и то думаю, тысячу рублей не на другое ли что оборотить?» Намотал я эти слова на ус. На следующую ярмарку, жду-пожду, не является ко мне приказчик ихний. Плохо дело, – на тысячу рублей не продать, тоже изъян. Иду к самому в гостиницу. «Спит, через час приходите». Прихожу через час – на биржу уехал. Я на другой день. «Принимают?» – «Спит, приходите через час». – «Ничего, я в передней обожду, человек небольшой». Сел, сижу себе смирненько. Вот, слышу, проснулся, оделся, через малое время выходит в пальто. Увидел меня, кивнул только головой.
– А, это вы?
– Я-с. По делу.
– Некогда, завтра приходите.
– С нашим удовольствием.
На утро опять та же история: «Приходите послезавтра», – а продежурил я у него на этот раз уже два часа. На третий день, как увидел меня на месте, так даже удивился.
– Все ходишь? – говорит.
– Хожу, по приказанию вашему.
– Я, – говорит, – думал: ты обидишься и ходить бросишь.
– Помилуйте, говорю, молод я еще на людей обижаться, которые более меня стоют.
Посмотрел на меня старик, усмехнулся, протянул руку:
– Видна, говорит, птица по полету. Вы, говорит, молодой человек, имеете ум. Люблю умных людей. Не угодно ли со мной в гостиницу отправиться, там и о деле потолкуем.
Отправились, столковались. И до настоящего времени, вот уже двенадцатый год, все берет товар. И не надо бы иной раз, а берет. Вот как наше дело идет-с. Всякое дело своего ума требует, а в нашем деле ум требуется покорный.
Да это и во всяком деле так-с… Да это и во всей жизни так. Страх – начало премудрости, это сказано недаром. Умный человек сам себя в страхе держит, сам на себя покорность налагает. Глупого человека чем удержишь? – нуждой-с! А без страха один разврат, непокорство, баловство! Товарищества, артели, помощь бедным… – Куда это вы, господин мастер, спешите? «Иду в артель деньги получать». За что? Для чего? Баловство одно! – закончил Дмитрий Васильевич, стоя передо мной и страстно сверкая своими глубокими черными глазами. – Баловство! Потачка! Рубь сберечь – вот чему народ учить надо.
– Но из чего же сберечь, Дмитрий Васильевич?
– Из чего?
Дмитрий Васильевич посмотрел на меня глубоким взглядом.
– Из чего? А вот из чего-с! Я вам сейчас расскажу из чего-с.
– Все-таки был я, милостивый государь, счастлив и от бога взыскан, что мне еще ив нынешний век люди попадались. Настоящие. Стар-ринного закалу, негордые, имеющие разум, который дается от бога. Вот я вам про такого и расскажу.
Был тут, не в дальнем селе, коваль один, – много лет на меня тот человек работал. Мужик хороший, аккуратный, дело из рук не валилось, пьяного я его не видал, в глупостях этих, которые теперь в народе встречаются, тоже не замечал никогда. Ну, и тоже надо сказать, много лет и добродетели в нем настоящей не замечал, потому что настоящая добродетель все одно, как червонец на дороге. Сколько раз мимо пройдешь, а ногой, пожалуй, наступишь, и не видишь. А случай подойдет, он вдруг блеснет и объявится…
Так было и тут.
Приходит раз мужичок этот ко мне, сдал клёпань, веселый. «Ныне, говорит, Митрий Васильич, радость у меня».
– Что такое?
– Вы меня, Митрий Васильич, знаете, не пьяница я, в карты не играю, как иные прочие, баловством тоже никаким не занят. Бабу мне бог послал – золото! Работали мы, работали, труждались, можно сказать, неустанно, добились до настоящей суммы, которую себе положили. Вот они – получил теперича от вас последнюю десятку; сколько годов мы ее, родимую, дожидаемся! Теперь я, Митрий Васильич, обеспеченный человек: избу строю, кузница у меня станет в огороде новая, дров, углей – на год запасу. Теперь я, говорит, сам себе господин.
Посмотрел я на него. Не понравились мне, признаться, его похвальные речи.
– Это все, говорю, хорошо. Дай тебе бог. А только, Мишанька, говорю, ты не загордился ли? Этак же один говорил: «построю житницы… душе моя, яждь, пий, веселися». А господь слушает, да говорит про себя: «погоди-ка, гордый человек, я тебя ноне ночью возвеселю». Потому что богу это неугодно, что человек сам себя от страха освобождает. И что ж вы думаете? Прошло сколько-то времени, приходит ко мне тот Мишанька, облявается слезами.
– Вот, говорит, Митрий Васильич, какое дело вышло. Исполнилось по вашему слову, посетил меня господь за грехи: дом сгорел, кузница новая сгорела. От нее и огонь пошел. Пал огонь на поленницы да на уголь, – запас весь как есть пригорел, синь-пороха не осталось; сами с бабой еле живы от господа убежали, струмент, и тот не пощадила сила господня. Потому что посетил нас в самую полночь… Теперь беднее я бедного, вот перед вами весь тут, как меня видите.
Плачет! Да и заплачешь. Подумайте сами: сколько лет копил – и все в один миг прахом пошло.
– То-то, говорю, Мишанька. Раненько возликовал. Видно, хочет господь тебя испытать горькою долей. Приемли, Мишанька, со смирением.
– Да, уж, видно, говорит, его, батюшку, не переспоришь. Возьмите меня, Митрий Васильич, к какому ни то делу. Сделайте милость.
– Что ж, говорю, приставить, конечно, можно, отчего не приставить. Только, как у тебя даже и инструмент господь отнял, то, видно, уж тебе не в мастерах быть, а в сторожа ко мне идти.
Заплакал мужик, Подумайте: мастер, век в своей кузнице на себя работал, а тут в сторожа! А делать нечего, спорить не стал. Нужда!
Приставил я его двор караулить, два рубля сорок в неделю, бабе тоже дело нашлось. Два сорок, на своих харчах! Много ли денег-то?.. после прежнего-то достатка?
Хорошо. Вот приставил я его и посматриваю, как мой Мишанька смиряться будет, как сам себя поведет. Ничего! Караулит усердно. И смиряется… Прежде в комнатах у меня сиживал, чай вместе пивали, а теперь на чернорабочем положении, у ворот с дубинкой сидит; а увидит хозяина издали – встает, шапку в руки. Вижу, мужик с понятием. И на стороне тоже прислушиваюсь: не ропщет ли? Нет, ничего не слышно.
Только начинаю вдруг замечать одно обстоятельство. Всю неделю мой Мишанька укрепляется, по субботам слабеет. Раз прохожу – плачет сидит у ворот. Что такое, думаю, а сам, конечно, виду не показываю. Другой раз вижу, – уже и баба с ним, – выбежала из стряпущей, села рядом с мужиком – разливаются, конечно, потихоньку. И так у них пошло: как суббота, да смеркнется, гляжу: они за свое: сидят рядышком и плачут… Долго я понять не мог… Ну, наконец понял.
В комнате, где мы разговаривали с Дмитрием Васильевичем, сгустились сумерки, а свечей еще не приносили: Мне видны были только общие, неясные очертания его фигуры; он товставал, то нервно ходил по комнате, утопая в дальнем углу и затем приближаясь ко мне. Теперь он стоял передо мною, и его бледное лицо, с черными глазами, пятном выступало из темноты. Его голос как будто отмяк. Рассказ о Мишаньке, о его смирении, о субботних слезах, видимо, доставлял этому человеку некоторое эстетическое волнение…
– Понял я! Уразумел, в чем дело. Вспоминал мой Мишанька благополучную жизнь в своем дому, на своей воле. Церковь-то у нас под боком. Вот как смеркнется, да заблаговестят, ему и вспомнится, как, бывало, в прежнее время, молот под печку, инструмент сложит, приоденется, да к вечерне, да свечечку к образу Михаила-архангела.
А теперь нельзя! Карауль!.. Вот поэтому-то всю неделю мужик укрепляется, а в субботний вечер, как суета стихнет, рабочие разойдутся, – у него на сердце накипит и подымется. Церковь видна: в окнах огни светятся, из домов народ потянулся, колокола бом да бом, бом да бом! А ты, сторож, сиди у ворот, потому что нет своей воли, нет свово дому, и должен ты, сторож, чужие вороты караулить…
Вот и сидит, дела справляет аккуратно и плачет…
Застал я раз Мишаньку на этаком случае, – не успел он и слез обмахнуть, – да и говорю: «Что, Михаил Мосеич?.. Прискорбно вам у меня служить, так ведь мы не держим. Люди вы вольные!»
Встал он, поклонился. Попросил прощения… Я догадываюсь; да не подаю вида… Что будет дальше?
Проходит этак с полгода. Мишанька мой караулит, по субботам поплакивают с бабой, но уж украдкой. Только в один день, праздничным делом, говорит мне прислуга: «Михайло пришел, просит его допустить». Я, грешный человек, подумал: «ну, зароптал Мишанька иль прибавки станет просить». Да нет-с, ошибся!
– Вот, говорит, Митрий Васильич, господин хозяин. Много доволен вашими милостями. Пособил мне господь от милостей ваших сберечь двадцать пять рублей, четвертной билет. Извольте принять от меня на сохранение. У вас целее будут.
Видали? Из двух-то сорока в неделю четвертной билет! Ну, думаю, Мишанька, – человек ты, видно, настоящий… Однако, виду не показываю, взял билет, спрятал. А ему на бумажку номер выписал. О расписке – ни слова.
Еще сколько-то времени прошло, опять четвертной билет. И все, заметьте, на том же положении, и все ведь по субботам тихонько плачет. Взял я и этот билет, положил к прежнему в пакет, а на пакете написал: «сии деньги принадлежат Михаилу Моисееву». На всякий случай: в животе и смерти бог волен.
Ну, еще через пять месяцев опять билет, – стало быть, это уже составилось семьдесят пять рублей. Как принес он мне эти деньги, я отворяю столик, вынимаю прежние.
– Помнишь, Мишанька, номера?
– Помню, – говорит.
– Посмотри, те ли?
– Они самые.
– То-то. Я твоих денег в оборот не пускал, как при тебе положены, так и лежали все. Да и никогда я таких денег не потревожу, такие для меня деньги… святые-с.
Дужкин остановился. В темной зале стояло некоторое время молчание…
– И долго он у вас караулил таким образом? – спросил я. Дмитрий Васильевич не ответил.
Сумрак в неприютной палате скупщика все сгущался. Дмитрий Васильевич ходил по комнате и опять говорил. Видимо, он увлекался изложением заветных взглядов, и слова, жесткие, точно отчеканенные, определенные и суровые, так и лились у него с языка. Но я уже не вслушивался… Я понял Дмитрия Васильевича, и подробности его программы не могли уже сказать мне ничего нового… Это была обыкновенная программа экономического человека.
Когда внесли свечи, – его речь как-то сразу оборвалась… Казалось, свет отрезвил моего собеседника, и в его пытливом, пристальном взгляде я прочитал что-то вроде тревожного вопроса: уж не высказал ли он слишком много?
Я стал прощаться.
– Прощайте-с… – сказал Дмитрий Васильевич, провожая меня до дверей. – Да! вот мы так и думаем об этом деле… Теперь опять появились эти глупости в нашем селе, может слышали? Ломбарду просят… И человек нашелся, который им прошение пишет… рефераты читают в Москве, в Петербурге… Что ж! Мы тоже не без языка, тоже можем кое с кем потолковать. Говорил уж исправнику: вы знаете ли, кого мы тут в Павлове имеем? Весь даже затрясся, как услышал. «А! То-то, спохватились, да не поздно ли?»
– Однако, Дмитрий Васильевич, неужели такая страшная вещь – прошение от кустарей, что это может беспокоить исправника?
– Замечаем мы: с этих самых пор, как завелся этот музей да прошения, народ волками смотрит…
Мы попрощались.
Заключение
Когда я вышел из ворот дужкинского дома и прошел несколько шагов по улице, от забора отделились вдруг две темные фигуры и подошли ко мне.
В одной я узнал Аверьяна. Деревенский остроумец, зачем-то оставшийся до вечера в Павлове, пожимался от холода и имел угрюмый вид.
– Что, наслушались дужкинских речей? – сказал он, догнав меня и идя рядом.
– Наслушался, – ответил я. – Да и есть чего послушать: человек умный.
– Коли не умный! – сказал Аверьян.
Со стороны небольшой фигурки, вприпрыжку бежавшей за нами, послышался вздох. По этому вздоху я узнал смиренного человека.
– А, и вы здесь!
– А то где же? – грубо перебил Аверьян. – Сколь времени дожидались. Видно, у скупщика чаем вас потчевали, да, видно, сладко…
– Да вы зачем же ждали? Мне почем было знать.
– Будет вам уж по скупщикам ходить. Пошли бы нашу бедноту посмотрели, мы бы вот и свели вас куда надо… Идете, что ль?
Мы пошли кривыми переулками и взъемами и скоро вышли в поле, на какую-то гору. Ветер вздымал струйки сухого снега и крутил их в воздухе, перекрывая холодные звезды. Последние огоньки крайних избушек как-то сиротливо светили на широкий пустырь, угрюмо расстилавшийся в морозной дали. Мы подошли к каким-то рытвинам, ямам и развалинам.
– Вот тут первый завод ставлен, от него и ямы остались, – сказар Аверьян.
Я остановился в невольном раздумье. Так это Семенья гора, а это первый очаг павловского производства? Здесь стоял первый заводский горн, здесь громыхал молот, здесь добрый помещик видел своих людишек в аду и думал их вывести, потушив заводские огни?..
Резкий ветер, налетавший из клубившейся морозною пылью пустой и темной дали, не позволил мне предаваться долгим размышлениям, тем более, что Аверьян уже шел по направлению к ближайшим огням и нетерпеливо звал меня за собой.
Через несколько минут он исчез, согнув свою могучую спину, в какой-то лачуге, и вышел оттуда с небольшим человеком, в огромной шапке, в таких же огромных валенках и в переднике. Человек этот почтительно поклонился, поздоровался со всеми за руку и предложил мне себя в провожатые.
Затем мы начали свой обход.
Я не стану утомлять вас подробностями. Сам я, обойдя несколько домов, где меня встречали очень радушно, а иногда с какою-то безотчетною надеждой, попросил у Аверьяна пощады… Но неумолимый Аверьян шел из дому в дом, от лачуги к лачуге, развертывая передо мной картины одну безотраднее другой…
Прежде всего мы подошли к крохотной избушке, лепившейся к глинистому обрыву. Таких избушек в Павлове много, и снаружи они даже красивы: крохотные стены, крохотные крыши, крохотные окна. Так и кажется, что это игрушка, кукольный домик, где живут такие же кукольные, игрушечные люди.
И это отчасти правда… Когда мы, согнув головы, вошли в эту избушку, на нас испуганно взглянули три пары глаз, принадлежавших трем крохотным существам.
Три женские фигуры стояли у станков: старуха, девушка лет восемнадцати и маленькая девочка лет тринадцати. Впрочем, возраст ее определить было очень трудно: девочка была как две капли воды похожа на мать, такая же сморщенная, такая же старенькая, такая же поразительно худая.
Я не мог вынести ее взгляда… Это был буквально маленький скелет, с тоненькими руками, державшими тяжелый стальной напильник в длинных костлявых пальцах. Лицо, обтянутое прозрачной кожей, было просто страшно, зубы оскаливались, на шее, при поворотах, выступали одни сухожилия… Это было маленькое олицетворение голода!..
Да, это была просто-напросто маленькая голодная смерть за рабочим станком. Того, что зарабатывают эти три женщины, едва хватает, чтобы поддерживать искру существования в трех рабочих единицах кустарного села. Но жизнь все-таки тлеет, и все-таки под ее влиянием и здесь, в крохотной избушке, старое старится, молодое растет. Но только голод и непосильная работа страшно уравняли старое и молодое; одни глаза девочки, смотревшие мягко, жалобно, с безмолвным вопросом и как будто с немою просьбой о пощаде, сразу указывали возраст этой крохотной кустарной работницы.
Такой детский взгляд выносить очень трудно. Старики много знают или уж очень много забывают. Наконец, старики, так или иначе, погрешали уже против жизни. Но дети неповинны в ее неправдах, и потому у них сохраняется какое-то странное инстинктивное сознание или, вернее, воспоминание о своем естественном праве. За что они страдают? Где тут правда? Когда такой глубоко-сознательный детский взгляд устремляется на вас и в нем светится раннее страдание и этот упорный вопрос, вам нечего ответить, и вы невольно отворачиваетесь, чтобы только избегнуть этого безмолвного, тяжелого упрека…
Эти три существа работают с утра до ночи, занимаясь отделкой замков. Нищета есть везде. Но такую нищету, за неисходною работой, вы увидите, пожалуй, в одном только кустарном селе. Жизнь городского нищего, протягивающего на улицах руку, – да это рай в сравнении с этою рабочею жизнью!
– Вот она в корню у меня, – указала старуха на старшую дочь. Та отличалась от обеих тем, что гораздо более походила на живого человека, хотя ее лицо тоже было бледно и нездорово. Тем не менее она отдавала даже некоторую дань кокетству, если не одеждой, которая была также бедна, то хоть прической, по-городскому, с чолкой…
Пусть осуждает, кто может!
Я отдал девочке несколько денег, и вышел, отвернувшись, чтобы не видеть жалкой улыбки, странно заигравшей на этом ужасном лиде. Но я все-таки унес ее взгляд с собой, на темную павловскую улицу.
Я не привожу вам цифр их работы и заработка. Кругом – на окнах, на лавке, на стенках – я видел груды отделанных по белому замков, а только что описанная картина говорит о результатах этой работы красноречивее, чем могли бы сказать самые точные цифры. Если же кто заподозрит меня в преувеличении, то описанная мною избушка, да и много таких избушек, стоит все на том же месте. Стоит только спросить вдову Прянишникову (она же Блударева) – на Семеньей горе. Мне не раз приходилось жалеть о том, что я не живописец, но никогда я не жалел об этом так сильно, как в этот раз. Да, достаточно было бы нарисовать эти три фигуры, и, мажет быть, мне незачем было бы тратить так много слов на изображение павловского кустарного строя.
Выйдя из этой избы, мы подошли к большому, двухэтажному темному дому. Мрачное старое здание село передними подгнившими венцами, как обессилевшее животное, упавшее на колени. Окна уже врастали в землю, а крыша наклонилась вперед,
И опять дети!
Наш провожатый отворил дверь, и мы вошли в сени. Огня нигде не было видно, но откуда-то из темноты слышался несмолкающий детский плач. Удары в запертую дверь прозвучали резко и громко, отдаваясь в верхней нежилой части старого дома.
Послышалось быстрое шлепанье босых детских ног, остановившееся у двери. Голос другого, плачущего ребенка не смолкал. Он то всхлипывал, то «заходился» от неудержимого плача.
– Тятька, ты? – спросил из-за двери мальчик, по голосу лет пяти.
– Отопри!
– Да ты кто?
– Иван Афанасьев.
– Не знаю я. Тятьки нету. Ах ты, господи!.. Молчи ты, Митенька, молчи.
Ноги зашлепали быстро в глубь избы, и слышно было, как мальчик уговаривает братишку. Через минуту опять он подбежал к двери.
– Вы здесь еще?
– Здесь.
– Не пущу я. Тятька ушел.
– Куда?
– Пальто в залог утащил.
– Зачем без свету сидите?
– Свечка догорела. Мамка пошла свечку просить, да вишь долго не идет. Боюсь я.
И голос мальчика тоже вздрагивает. Но в это время маленький опять заливается, наш собеседник бежит к нему, а мы стоим в нерешительности.
– Мамынька, темна-а… – слышится горький плач.
– Молчи, вот тятька придет.
– Темна, темна-а… А, мамынька, темна-а-а… – продолжает заливаться тоненький жалобный голос, и этот крик я опять уношу с собой на улицу, пускаясь дальше за Аверьяном.
Мы подходим к третьему дому. Изба просторная, светлая, на стенах обои, небольшое зеркальце, кровать с занавеской. Но навстречу мне сверкает испуганный взгляд, очевидно задавленного судьбою, пришибленного человека. Узнав, зачем мы пришли, он успокаивается и из мастерской приглашает нас за перегородку, где у стола сидит его жена и ковыряет шилом громадный валенок. Она полой кафтана стирает пыль со стула и приветливо приглашает нас садиться. Женщина еще молода, и на ее лице из-под бледности и печали проглядывают следы красоты. Во всей квартирке еще видны следы недавнего достатка.
– Что вы это делаете – для себя или по заказу?
– Людям, на сторону. Вот чем кормиться пришлось, – говорит она, стараясь улыбаться. Сначала улыбка эта действительно освещает лицо, но тотчас же губы молодой женщины вздрагивают, и смех покрывается плачем.
Над этою семьей висит неотвратимая невзгода: недавно в доме, в передней избе, где мастерская, рухнул потолок. Это происшествие, надо заметить, очень часто теперь в кустарном селе: я был в Павлове раза четыре, и из них два раза в мою бытность проваливались потолки. Стоит, стоит, да вдруг рухнет. Обвалилось в одном месте, там в другом, там в третьем…
На этот раз задавило мальчика и сильно ушибло хозяина. Его испуганный, пришибленный взгляд – это взгляд человека, которому грозит долгая болезнь, при невозможности работать, то есть гибель, потому что в кустарном строе нет даже слабых попыток обеспечить рабочего от случайности. Настигло человека невзгодье – и гибель идет на семью неотвратимыми, неумолимыми шагами. А кругом такие же избушки, грозящие таким же падением, только жмутся от страха и ждут своей очереди.
На полу, в куче тряпья, наваленного у перегородки, что-то зашевелилось.
– Что это у вас в рунье?[7] – спросил Аверьян.
– А это Марьюшка-дурочка. Вчерась пришла.
– Дурочка это, в руньях лежит и стонет, – говорит мой провожатый, указывая на груду тряпья с таким видом, как будто я, сторонний человек, могу и не понять объяснения женщины. – Она, дурочка, в полях больше находится. Да, видно, познобилась.
– На колокольне ночевала, – говорит женщина, кидая по направлению к «рунью» взгляд сожаления. – Что делать, не выгонишь… Самим есть нечего, а жалко.
Губы ее опять слегка вздрагивают. Муж бессильно разводит больными руками.
– Да вон, поди ты! Еще лечит меня, даром что дурочка. Покушай, говорит, мелку, мелку покушай. И кушаю, а то доктора совсем отступились. Вишь, дом был разваленной. Все прикапливали маленько, – вот поправим, вот поправим. А он, видишь, не дождался, да и упал… О, господи!
Несмотря на всю тяжесть положения, в этой семье живет еще какая-то надежда, и центром ее, как кажется, является эта бодрая, красивая женщина, зашивающая валенок и призревшая дурочку. На что эта надежда? На здоровые руки жены, на дурочку, от лечения которой мужу становится легче, да на бога… От людей трудно ждать помощи инвалиду труда в кустарном селе…
Наш путь из этой избы лежал опять мимо темного дома, поэтому мы опять завернули в сени, надеясь, что хозяин уже вернулся. Но надежда не оправдалась; в окнах не было огня, и из глубины опять слышался плач:
– Мамынька, темна-а, темна-а…
Описывать ли дальше наш обход по Семеновой горе? Описывать ли эту бедноту за станками, этих голодающих людей, детей, плачущих в темноте, этих кустарных стариков, с горбами на правых лопатках, со впалою грудью с левой стороны, с отупевшим, испуганным взглядом?
Я думаю, довольно. Я не хочу терзать читателя, как терзал меня безжалостный Аверьян. Я и без того боюсь уже, что меня заподозрят в тенденциозности и преувеличениях.
Поэтому я спешу оговориться. Да, таких домов – меньшинство, пожалуй, незначительное. Да, такие картины вы встретите не на каждом шагу. Но они есть, и вы их все-таки встретите немало, и этого, мне кажется, довольно, потому что это нищета трудовая!
Наконец, истомленный безотрадными картинами, раздав уже все бывшие при мне деньги и чувствуя себя совершенно беззащитным, я наотрез отказался следовать за мучителем Аверьяном.
Мы стояли на льду реки Тарки. Холодная изморозь все сеялась сверху, мелькая сеточкой на диске полной луны, вставшей над горами. На нас с крутого обрыва глядели кустарные домики, разваленные крыши, какие-то бревна, торчавшие в хаотическом беспорядке.
Смиренный человек, как и я, смотревший на эту картину, глубоко вздохнул и сказал, обращаясь ко мне:
– Ох-хо-хо. То слепой и жалится, что зги не видать…
А затем, помолчав, прибавил:
– А что я, позвольте сказать вам, Владимир Глахтионыч, думаю… Я думаю, не те ли времена идут, о коих временах сказано: живые позавидуют мертвым?
– Перебой первородный, – подтвердил провожатый, тоже глядя кверху, из-под своей лохматой шапки, на причудливую картину кустарного села, в этом месте как будто валившегося на нас с беспорядочных обрывов.
Мы постояли молча. Я понимал настроение кустарей: ведь здесь для них весь божий мир. А их мир покачнулся и грозит падением. Мудрено ли, что им это кажется чуть не настоящим светопреставлением…
– Ну, полно каркать, – первый прервал наступившее молчание Аверьян. – Вы лучше вот что: пойдем-ко-те еще в одно место, где маленько повеселее.
Я согласился и конец вечера провел в сравнительно достаточной рабочей семье. Здесь меня угощали чаем за столом, где хозяева сидели вместе с рабочими. Набралось еще постороннего народу, и мы долго толковали о судьбах кустарного села. Семенова гора – почти сплошь все варыпаевцы. Старики рассказывали о бывшем старшине и о борьбе его с богачами, и у молодежи сверкали глаза при этих недавних еще воспоминаниях… До сих пор все-таки жив еще этот павловский раздор, до сих пор это самое чувствительное место, на котором тлеют павловские страсти.
Рано утром, задолго до света, я опять ехал, лежа в санях, по той же дороге, на которой несколько дней назад встретил Аверьяна. Только теперь огоньки Павлова, его горы, купола церквей и лачуги на обрывах остались сзади, а навстречу мне надвигалась, клубясь, развертываясь, отступая и колыхаясь, неопределенная тьма зимней ночи. И в этой тьме виднелись мне опять картины, разговоры, сцены кустарного быта… Аверьян с его сказочкой, «лукавый заводчик», ширяющий на своих крыльях над смятенными улицами, трепетные огни у входа в подвалы, суровые фигуры скупщиков и жмущиеся к огням толпы кустарей… Затем – смиренные кустарные человечки, могучая фигура павловского старшины, бухающий колокол, суровые стяжатели, лучшие из представителей скупщицкого принципа, и бедный Мишанька, тихо плачущий по субботам у ворот дужкинского двора, в виду сияющего огнями божьего храма…
1889–1890
В голодный год*
Вместо предисловия
В конце февраля 1892 года, в ясный морозный вечер, я выехал из Нижнего-Новгорода по арзамасскому тракту. Со мною было около тысячи рублей, отданных добрыми людьми в мое распоряжение для непосредственной помощи голодающим, и открытый лист от губернского благотворительного комитета, которому угодно было, с своей стороны, снабдить меня поручениями, совершенно совпадавшими с моими намерениями. Таким образом, при своей поездке я предполагал совместить две задачи: наблюдение и практическую работу. Для того и другого я, как оказалось, очень наивно отвел себе один месяц…
Вместо одного – три месяца пришлось мне провести в уезде, не отрываясь от этой затягивающей работы, и затем опять вернуться туда, до нового урожая… Теперь передо мною мелко исписанная книжка. Это – мой дневник: факты, картины, мысли и впечатления, которые я, усталый и порой глубоко потрясенный всем, что доводилось видеть и чувствовать за день, заносил вечером, по старой профессиональной привычке, в эту истрепавшуюся дорогой книжонку, где-нибудь в курной избе, в гостинице уездного города, в помещичьей экономии. Восстановляя их теперь, я надеюсь, что они не лишены некоторого интереса. Пусть это неполно, сбивчиво, необработано и нецельно. Зато – это прямое отражение той самой жизни, которая, со всеми своими парадоксами, проходила перед моими глазами…
Я знаю, чего ждет читатель от корреспондента из голодных местностей, в особенности от корреспондента-беллетриста: сгущенной яркой картины, которая сразу заставила бы его, городского жителя, пережить и перечувствовать весь ужас голода, растворила бы его сердце, заставила бы раскрыться его кошелек… Я знаю умных людей, приезжавших из столиц и с удивлением замечавших, что, например, в Нижнем-Новгороде на улицах не заметно никаких признаков, по которым можно бы сразу догадаться, что это – центр одной из голодающих губерний. Такие же умные (без всякой иронии) люди привозили из деревень в Нижний-Новгород самые противоречивые и спутанные известия… Даже на месте, в волостях, только привычный глаз отличит по первому взгляду голодающую деревню от сравнительно благополучной. Ребятишки катаются с гор на салазках, курится над трубами жидкий дымок, в окна глядят на проезжего равнодушные лица… А где же самый голод?
Я знаю, что, прочитывая мои листки, читатель будет, пожалуй, не раз спрашивать с таким же удивлением: а где же голод? голод, который должен потрясти, ошеломить, вывернуть человека наизнанку? «Голод, это – когда матери пожирают своих детей», – писал еще недавно один господин. При Борисе Годунове матери, действительно, ели детей; на базарах, по свидетельству историков, продавали порой человеческое мясо; три женщины в Москве заманили мужика с дровами во двор, убили его, разрубили на части и посолили… Вот голод!..
С этого времени мы прожили почти три столетия, но и тогда напрасно было бы подозревать каждую мать в пожирании детей, и не каждый мужик с дровами подвергался опасности быть убитым и съеденным, а если бы тогда были корреспонденты, то и им пришлось бы отмечать факты далеко не на каждом шагу. Человеческое воображение устроено таким образом, что все исключительное, выходящее из ряда, запечатлевается в нем сильнее и ярче. Когда нынешнее бедствие отодвинется в прошлое, то наверное, оглядываясь на него, мы увидим над общим уровнем мрачные памятники, символы, которыми народная память отметит современную невзгоду. Дай бог, чтобы в конце девятнадцатого века они не были так ужасны, как три века назад. Надо, однако, помнить, что это именно только символы, траурные кресты, которыми отмечены крайние грани бедствия, а главная масса народного горя, сущность явления не в них. Поменьше свирепости, господа!.. Нужно, наконец, научиться признавать и видеть народное горе и бедствие там, где ни одна мать не съела еще своего ребенка… Я не имел несчастия присутствовать при агонии голодной смерти и не намерен нарочно разыскивать эти картины и терзать ими нервы читателя.
А голод, в его настоящем значении, я все-таки видел и хочу рассказать здесь, что именно я видел, как люди голодали, как людям помогали или отказывали в помощи, какие при этом возможны ошибки и отчего они происходили…
В течение двух предыдущих лет, странствуя приблизительно теми же местами, я, случайный наблюдатель-беллетрист, имел случай отметить грозные признаки. С какою-то систематическою беспощадностью, которая невольно внушает суеверную идею сознательной преднамеренности и кары, природа преследовала человека. По иссыхающим нивам то и дело проходили причты с молебнами, подымались иконы, а облака тянулись по раскаленному небу, безводные и скупые. С нижегородских гор беспрестанно виднелись в Заволжье огни и дым пожаров. Леса горели все лето, загорались сами собою; огонь притаивался на зиму в буреломах и тлел под снегом, чтобы на следующую весну, с первыми сухими днями, вновь выйти на волю и ходить пламенными кругами до новой зимы. Помню, как в течение целых недель из Нижнего видны были на горизонте над лесами огненные столбы в вышине, над густой пеленой темного дыма. Днем дым клубился, как мглистое море, а ночью будто невидимые руки подымали к небу зажженные факелы…
Голод подкрадывался к нам среди этого зноя и дыма, среди этой засухи; он был у нас, ходил по деревням уже два года, но мы его не замечали, потому что еще ни одна мать не съела своих детей. Статистическое бюро губернской земской управы получило в том году более семисот сорока корреспонденций от местных жителей из сел и деревень. Кроме обычных рубрик для цифровых ответов, каждая карточка, посылаемая корреспонденту, имела уже значительное место для особых отметок. Листки вернулись обратно, сплошь покрытые «особыми отметками» самого мрачного свойства. Деревенская интеллигенция, независимая в своих мнениях по данному вопросу и не заинтересованная в том, чтобы все казалось «благополучно», первая почуяла надвигающуюся грозу. Она не привыкла делиться своими мыслями и опасениями, не имея для них привычного исхода. Когда все семьсот сорок четыре ответа были сведены в одно целое, получилось ужасающее изображение падения хозяйства, промыслов, инвентаря, а с весны истекшего года из-под всего этого проглянул уже страшный облик настоящего голода…
Вот картина, в которой простодушная речь одного из корреспондентов губернской управы, сельского священника, возвышается порой, под влиянием приближающегося бедствия, до истинного воодушевления. Заполнив цифрами соответствующие рубрики карточки и обращаясь к изображению близко известного ему быта, корреспондент пишет, между прочим:
«В заключение, по поводу недорода хлебов в нашей местности и лесных пожаров, как священник, проповедник евангельской истины, скажу следующее: недород хлеба ощущается третий год, идет беда за бедой на обывателей земли за беззакония. Явилась гусеница, ест хлеб саранча, едят черви, доедают жуки, погибла жатва в поле, истлели зерна под глыбами земли, опустели житницы, не стало хлеба. Стонет скот и падает, уныло ходят стада волов, томятся овцы, нет для них пажити… Миллионы деревьев, десяток тысяч лесных дач погорели. Огненная стена и столбы дыма были кругом. Кто виновник всего этого? Хотя сверкали полосы молний с неба во время гроз, но не жгли и не убивали…
Слышится голос пророка (Софония 1, 2–3): „Все истреблю с лица земли, говорит господь: истреблю людей, скот и зверей, истреблю птиц пернатых и рыб…“ И сколько погибло пернатого царства во время лесных пожаров, сколько рыбы в прудах от мелкой воды и от тяжести льда, а равно и от мочки мочал»…
Остановившись на время, чтобы высказать несколько совершенно основательных соображений по частному вопросу о мочке мочал в прудах, корреспондент продолжает опять в прежнем тоне:
«Скрылись от предел наших лоси, убежала куница, погибла белка. Заключилось небо и стало медяно, нет росы, пришли засуха и огонь. Погибли плодовые травы и цветы, нет ни малины, ни черники, ни клюквы, ни морошки, ни брусники, все торфяники и болота выгорели и погибли.
Землемерная вервь, – восклицает он в заключение, – куда ты идешь? Измерить долготу и широту пожарища-пустыни. Где ты, зелень лесная, свежесть воздуха, аромат бальзама соснового леса, которым исцелялись больные? Все погибло!»
Я привел эти выдержки, как чрезвычайно характерные и рисующие настроение живого человека, в душу которого заглянул ужас надвигающегося бедствия. Семьсот сорок четыре местных жителя разнообразных профессий в семисот сорока четырех почти единогласных отзывах нарисовали картину, впечатление которой обобщил автор цитированных строк. «Что чувствую, то и говорю, – пишет он в конце, вспоминая внезапно, что он не ветхозаветный пророк, а русский бесправный человек, подлежащий административным воздействиям и пишущий вдобавок на официальном бланке, – о чем спрашивают, то и отвечаю: прошу за откровенное слово не подвергать меня ответственности». Опасение на этот раз, пожалуй, напрасное: то, что чувствовал автор ответа, чувствовали с ним вместе почти все, кому доводилось видеть вблизи нивы и деревни.
Замечательно единодушие в этом отношении, которое водворилось на короткое, впрочем, время. «Бедствие ужасно, необходимы самые широкие и быстрые меры», – говорил с необычайным одушевлением в губернском собрании председатель васильской уездной управы А. А. Демидов. В июле на экстренном уездном земском собрании в Лукоянове необходимая цифра ссуды была исчислена в четыре миллиона семьсот тысяч рублей (для одного уезда!). Я привожу эти два случая, как наиболее характеризующие настроение того времени, когда «урожай 1891 года» был еще на полях и всякий мог его видеть. Это печальное зрелище убеждало всякого. Еще за несколько месяцев перед тем тот же председатель васильской управы, А. А. Демидов, известный местный ретроград, возражал против всякой помощи с той самоуверенностью, которая присуща подобным господам: «Господа! мы давно уже слышим это нытье и печалование о нужде и грозном голоде. Мы слышали это уже и прошлой весной в нашем уезде. Знаете ли, как мы распорядились (с ударением и расстановкой): не дали ни зерна, никто не умер, и поля оказались засеянными». И вот, этот же самый человек и в той же зале сам уже бьет тревожный набат, и теперь все, конечно, верят, что бедствие идет ужасное, тем более, что, как оказывается, не все поля оказались засеянными и в прошлом году…
Да, это был какой-то испуг. Чудовищную цифру в четыре миллиона с лишком для Лукояновского уезда высчитали и отстаивали в земском собрании двое влиятельных гласных, земские начальники господа Пушкин и Струговщиков. Нужно признаться, что статистические приемы господ земских начальников были ребячески наивны. Признав полный неурожай, они отрицали наличность каких бы то ни было запасов, и потому могущих прокормиться собственными средствами считали не более одного процента. На остальные девяносто девять процентов населения была рассчитана ссуда по тридцати фунтов, прибавлены семена, и вот перед собранием встала чудовищная цифра, от которой в Нижнем пришли в ужас. К счастию, губернская управа располагает статистическими данными, более точными, и статистическое бюро быстро свело размеры лукояновской нужды до более благоразумных пределов (шестьсот тысяч). Интересно, однако, что первоначальные тревожные сведения энергично поддерживались земскими начальниками, с уездным предводителем М. А. Философовым во главе. Последний в письме своем к начальнику губернии особенно подчеркивал «расстройство хозяйства и истощение запасов в предыдущие годы». «Можно безошибочно сказать, – писал он 1 июня 1891 года, что если помощь не придет своевременно, то, кроме голодной смерти, преступлений и пр., – ожидать ничего нельзя»[8]. Но еще интереснее, что те же лица явились вскоре главными деятелями в уездной продовольственной комиссии, которая приобрела такую известность именно приданием голода. И во глазе ее выступил опять… тот же Философов!
Жатва убрана, поля обнажены, «урожай» печально уехал на возах в закрома, и земля ничего уже не говорит глазу… Не знаю, прав ли я, или нужно искать каких-нибудь других, менее извинительных мотивов, но только с этих именно пор очевидность нужды и необходимость миллионов сразу заменяются в убеждении земцев-дворян представлением об особенном благополучии уезда. Поля убраны, ничтожная жатва свезена, цифра урожая закреплена в сведениях статистического бюро, обсуждена представителями земских управ (в том числе лукояновской), признана единогласно в губернском собрании (в том числе лукояновскими гласными), предложена и принята в уездных продовольственных комиссиях, – и в том числе опять в лукояновской, сделавшей с своей стороны частные замечания, еще усилившие безотрадную картину… Одним словом, цифры урожая признаны всеми компетентными учреждениями в губернии…
Но к этому времени совершенно неожиданно стали вновь раздаваться на Руси «трезвые» голоса, программу которых с такой характеристичной краткостью формулировал один из щедринских героев: «ён достанет!» Читателю хорошо известна эта нота по многоголосому хору ретроградной печати. Сначала, впрочем, она звучала довольно неуверенно в письмах (покойного ныне) Фета.
В октябре в «Московских ведомостях» появилось первое письмо Фета, в котором он делился с редакцией и с публикой сведениями о мужиках той местности, где находится его имение. Оказалось, что «обычный пьяный разгул» в этом году превзошел прежние годы, что кабатчики во все стороны посылали на тройках за водкой, так как обычного запаса в этот год не хватило; что безобразия заставляют трепетать перед возможностью пожаров, но, – что всего важнее, – инженеры (строящейся железной дороги), изготовив тачки и лопаты, предложили местным крестьянам работать по двадцать три рубля в месяц пешему крестьянину и тридцать пять рублей конному рабочему. Явились рабочие, но на третий день, сказав: «Мы не каторжные», ушли с работы, говоря: «Я по миру отправлюсь и наберу рубль в день, и лошадь накормлю, да еще и водочки выпью».
Это была как бы программа дальнейшей невежественно консервативной лжи по вопросу о голоде: вместо голодающего народа в ней выдвигался образ лентяя, обманщика, пьяницы и попрошайки. Вслед за этим крестьяне были обвинены в поджогах, и обвинитель спрашивал, неужели продовольствие будет доставляться и в те селения, которых жители «с увлечением предаются истреблению уцелевших запасов?»
Все это шаг за шагом было опровергнуто фактами и цифрами из самых компетентных источников. Местный губернатор написал о железной дороге: оказалось, что на ней нет отбою от рабочих, хотя плата совсем не так выгодна, как казалось господину Фету; земский начальник Землянского уезда реабилитировал мужиков от повального пьянства и увлечения поджогами. Всего превосходнее, однако, для характеристики всего последующего, – ответ поэта землянскому земскому начальнику. Признавая весьма отрадным факт личного присутствия земского начальника в якобы пьяном селе (где «он не видел ни одного пьяного и даже по виду нельзя было сказать, что здесь было престольное празднование»), – автор писем в «Московских ведомостях» все-таки рассчитывает, что его оппонент «станет на его сторону», и вот по каким тончайшим соображениям: «Мы хотим сказать, что народная жизнь состоит из двух вод, из которых одна, подобно Роне, пробегает через Женевское озеро, не смешиваясь с его струями. Продолжая сравнение, мы всякое создание ощутительных экономических ценностей приравняем к Женевскому озеру, а мир отвлеченных знаков (?!) тех же ценностей сравним с Роной. Для первых (?) ценности представляют основу, а денежные знаки – цель; для других, наоборот, денежные знаки – основа, а ценности – цель»… и т. д. Как видите, понять что-нибудь в этом замечательном ответе совершенно невозможно. Ясно только, что все это старый отблеск крепостнических традиций. В этом смысле эта наивная полемика крепостника-поэта заслуживает помещения в хрестоматиях. Всюду, где бы ни приходилось нам, провинциальным наблюдателям, встречаться с подобными отрицаниями очевидного факта, всюду видим мы те же типические черты. Первая из них, это – легкость, с какой люди делают (по счастливому выражению Н. Ф. Анненского) «массовые выводы из единичных наблюдений». – Вторая – невежественное презрение к тем, обобщающим, наоборот, массовые наблюдения в единичные осторожные выводы; затем явная фактическая неправда и, – наконец, на все доказательства упрямое бормотание о каких-то «двух водах», противопоставляемое всяким очевидностям… И все это, освещенное блудящими «вечерними огнями», при свете которых все еще бродят на Руси призраки крепостного прошлого…
У нас, в Нижегородской губернии, которую я буду иметь почти исключительно в виду на протяжении этих очерков, тоже встали вдруг эти призраки. Они рассеяны всюду, нельзя даже сказать, чтобы «понемногу», – но главный приют их, это – дальний угол нашей губернии, по рекам Алатырю, Теше и Рудне, в Лукояновском уезде. Если г. Фет, с настойчивостью, достойной лучшего дела, спорил даже с администрацией своей губернии, то деятелям Лукояновского уезда нужно было еще более решительности: они вступили в спор сами с собою. От цифры четыре миллиона семьсот тысяч компания земских начальников с предводителем во главе быстро спустилась вниз, не остановившись даже на цифре губернского земства… Затем имена господ Философова, Пушкина, Струговщикова и других членов продовольственной комиссии украсили собою постановление, которым от уезда, «без объяснения причин», отстранялась половина ассигнованной правительством ссуды (триста тысяч).
Теперь лукояновская полемика давно уже закончена, и если вы дадите себе труд просмотреть ее всю хоть бы по журналам нижегородской продовольственной комиссии, то перед вами предстанет замечательная картина маловероятного спора: вначале земские начальники бьют тревогу и требуют четыре с половиной миллиона. Земство, с цифрами и выкладками в руках, успокаивает их и сводит ужасающую цифру до размера шестисот тысяч (в семь с половиной раз меньше!). Тогда земские начальники, признав все цифры, не возражая против выкладок, – внезапно, по какому-то необъяснимому капризу, – не желают уже шестисот тысяч и требуют только триста. Почему? Напрасно у них просят хоть какого-нибудь объяснения… «В Женевском озере две воды»… – писал г. Фет. «У бога всего много», – благочестиво заявляет г. Философов, председатель лукояновской уездной комиссии. Всяких цифр он избегает… Самое требование доказательств господа лукояновцы считают за оскорбление; лукояновская комиссия призодит в движение небо и землю, апеллирует к кн. Мещерскому, отвергает триста тысяч, отказывается даже от предложения взять хоть пятьдесят тысяч пудов про запас, на всякий случай, во избежание возможных последствий ошибки…
И вот, вся читающая Россия присутствует при замечательном примере какой-то особенной уездной автономии в продовольственном вопросе. Внезапно, неожиданно и вследствие совершенно необъяснимых побуждений уездный продовольственный комитет (учреждение, заметим в скобках, тоже совершенно импровизированное и тогда еще законами не предусмотренное) опровергает сам себя, против каждого положения своих же членов выдвигает противоположение, опрокидывает все расчеты, принятые в губернии, устанавливает свои «физиологически необходимые» нормы питания и вступает в систематическую и упорную борьбу с губернским центром… И взгляды всех мужиконенавистников во всей России обращаются с надеждой на дальний уезд, где кучка земских начальников с предводителем во главе храбро борется за отстранение помощи от голодающего народа…
Такова в самых общих чертах история, которая в шутку называлась у нас «историей отложения Лукояновского уезда», но которая наводит несомненно на размышления совсем не шуточного свойства… «Как солнце в малой капле вод», – в этой истории отражаются глубокие признаки крепостническо-дворянской реакции в нашем «пореформенном строе».
Губернатором в Нижнем в этот памятный год был весьма известный генерал H. M. Баранов, моряк, «герой Весты» и громкого процесса, окончившегося его отставкой; потом адъютант генерал-губернатора Гурко, петербургский градоначальник, почти опальный архангельский губернатор… человек несомненно даровитый, фигура блестящая, но очень «сложная», с самыми неожиданными переходами настроений и взглядов… Еще в декабре и начале января он сам стоял почти на лукояновской точке зрения, и потому командированные им чиновники в своих «докладах» опровергали «необычайный голод» и подтверждали «необычайное пьянство». Но к февралю начальник губернии круто переменил свои взгляды, согласился с неопровержимыми выводами земской статистики (во главе которой стоял H. Ф. Анненский) и перешел на сторону «кормления». С этих пор и его чиновники стали опровергать необычайное пьянство и подтверждать наличность голода… Так как лукояновские деятели, наоборот, от признания голода перешли к его отрицанию, то губерния вступила в конфликт с уездом.
Это был период «возрождения дворянства». Новый институт земских начальников привлекал внимание и возбуждал крепостнические надежды. Министром внутренних дел был покойный Дурново, сам из «предводителей». Поэтому трудно было сказать, кто останется победителем в этом споре.
Узнав, что я намерен отправиться именно в Лукояновский уезд, чтобы там открыть столовые на деньги, поступившие в мое распоряжение через редакцию «Русских ведомостей», генерал Баранов сильно поморщился.
– Но ведь вы знаете… уезд совершенно крепостнический… Будут доносы… исправника Рубинского я уже сменил, но вся полиция на их стороне…
У генерала Баранова был для меня готов другой план. Один из его родственников, камергер, отправлялся в экспедицию по Васильскому, Сергачскому и Княгининскому уездам. Результаты этой экспедиции он намеревался представить в виде доклада в какие-то высоко официозные сферы. Если бы я захотел помочь в составлении этого доклада…
Я поблагодарил генерала Баранова, но решительно отклонил план «удобного путешествия» в свите камергера. По моему мнению, «крепостнический уезд» наиболее нуждался в частной помощи и представлял наиболее интереса для наблюдения. Кроме того, я предпочитал пуститься в это плавание под собственным флагом.
В конце февраля я выехал из Нижнего по направлению к крепостническому уезду, куда и приглашаю за собою читателя… За исключением небольших, необходимых по ходу повествования, отступлений, читатель найдет здесь подлинное отражение того, что я видел, в хронологическом порядке.
Голод в деревне и борьба уезда с губернией, – такова основная канва, на которой располагаются мои впечатления этого тяжелого года…
I
ДОРОГОЙ. – ТАЙНОЕ ОБЩЕСТВО. – «МИР» И ПОМОЩЬ
Полночь 25 февраля… Наша утомленная тройка остановилась в д. Беленькой, на арзамасском тракте. Холодный ветер гнал высоко по небу белые облака; луна светила прямо в темные окна спящей, занесенной снегом избы, куда стучался наш ямщик, выкрикивая как-то безнадежно: «Хозявы, а хозявы, хо-зя-вы!..»
Кругом избы на улице стоит множество саней с хлебом. В избе хоть топор вешай. Отовсюду, с полатей, с лавок, снизу и сверху несется богатырский храп. Это возчики, везущие хлеб в Лукоянов… Пока хозяин суется спросонок с фонарем по темному двору, вяло снаряжая нас в дальнейший путь, а мой попутчик отдыхает на полатях, пока покормят лошадей, – я сажусь к столу, на котором коптит плохенькая керосиновая лампа, чтобы набросать в своем дневнике эти первые строки.
Я не думал, что мне придется раскрыть свою книжку так скоро, но судьба сразу же вводит меня в круг «продовольственных» встреч и впечатлений. Сегодня утром, когда я явился на двор, где нанимают «вольных ямщиков», – к хозяину, торговавшемуся со мной, как-то боком подошел мужичок, с лица очень похожий на татарина, и, внимательно прислушавшись к нашему разговору, предложил мне себя в попутчики. Хозяин сначала очень холодно отклонил это предложение, однако, когда к моему крыльцу под вечер подъехали сани, – я увидел в них этого самого Потапа Ивановича Семенова, которого встретил утром. Оказалось, что я не сумел поторговаться и заплатил значительно дороже, чем бы следовало с одного. Это дало возможность сбавить плату Семенову, и общая цифра достигла нормы. Таким образом, Потап Иванович едет до некоторой степени на мой счет, что подало ему повод свалить на меня же и плату ямщикам на чаек и тому подобные мелкие расходы. Из этого я должен был понять, что Потап Иванович человек благоразумный и обстоятельный…
В течение двадцати минут, которые я употребил на сборы и на прощание, Потап Иванович тоже не терял времени даром. Он успел расположить багаж в повозке таким образом, что кованый угол его чемодана пришелся как раз у меня за спиной, а моя подушка – за спиной Потапа Ивановича. Это было устроено с такой быстротой и уверенностью, что понравилось даже мне самому… Я очень люблю цельность подобных типов и наивную непосредственность их почти детского эгоизма. Поэтому в течение первого же получаса пути мы разговорились, как старые знакомые.
Я узнал, во-первых, что Потап Иванович вовсе не татарин, а крестьянин из-под Арзамаса, вероятный потомок какого-нибудь «эрзи». Во-вторых, что он очень религиозен и мечтает о посещении Киева.
– Мощи там хорошенькие, – говорит он. – Пуще всего, – жена донимает: вези да вези. Так ее душа желает…
Потап Иванович не прочь удовлетворить это благочестивое желание, если только на них обоих выдадут удешевленные билеты.
– Можно это? – спрашивает он, уставляясь в меня своими острыми глазками.
– Не знаю, – ответил я.
– Сказывают, голодающим дают, на заработки.
– Так ведь это голодающим и на заработки!
– Ну, ничего! Авось выдадут.
Боже мой! Потап Иванович и не подозревает, очевидно, сколько самых жестоких выводов относительно «якобы голодающих» мужичков можно бы, при желании, вывести из его наивного притязания на дешевый проезд к «хорошеньким мощам»… Вот и выдавай этим «мошенникам» даровые билеты!..
Дальше я узнал от Потапа Ивановича, что он мясник, деревенский богач, делающий хорошие дела с дешевой скотиной, которой он прирезал с осени и на зиму «не есть числа», и, кроме того, что он состоит членом одного тайного общества.
Да, не шутя! В селе Остоженке[9] образовано, – по инициативе, впрочем, господина земского начальника, – настоящее тайное общество, заседания которого происходят в самой таинственной обстановке. Общество носит название «сельского попечительства» и имеет целью составление и исправление списков на предмет выдачи земской ссуды.
– У нас, – говорит мне Потап Иванович не без самодовольства, – отлично устроено: священник, староста, хороших мужиков с пяток. Советуем… Собираемся мы раз в неделю, у меня, у священника, иной раз хоть и в конторе. И сейчас, брат ты мой, не то что двери – оконницы на запор. Ник-кого чтобы ни под каким видом ни ногой! Никто не моги слышать, что говорим мы. Клятву тоже промеж себя положили, икону снимали.
– Это все зачем же?
– А чтобы проносу не было, как же! У нас так: у кого нога ногу мало-мало еще минует, – тому не даем. Сейчас я, например, говорю: Ивану Малаеву не надо, продышит… Так ведь он, Малаев, узнает, злобиться на меня будет. Так вот гля этого, гля, собственно, злобы… А то, брат, ноне народ такой, – меланхолически и как-то таинственно придавил он: – нонешние времена народ не годится вовсе. Священнику вон окна побили.
– За что?
– А за то! Сказал: тому не надо, другому не надо. Больно смело говорил. Теперь осторожнее стал. Не знаю, мол, – попечительство так изделало, больше ничего… На всех злобились… Ноне, брат, народ не прежний: по селу едешь и то тебе из окна кулаком грозят… Хорошо это?
– Ну, а это за что?
– Ни за что, – еще более меланхолично прибавил он. – За то, что работаю и имею достаток. Меня, напримерно сказать, одна-те зоря на работу гонит, другая выгонит, вот я и богат… А они этого не понимают…
Я вспомнил о сундуке и подушке и подумал, что если в деревенской жизни Потап Иванович располагает вещи по той же системе, то, пожалуй, можно бы найти и другие причины столь красноречивых доказательств любви к нему односельцев. Однако я промолчал. Рассказ о тайных заседаниях сельского попечительства, состоящего из таких же Потапов Ивановичей и вершающего судьбу большинства, которое ждет решения с замиранием сердца и с затаенной злобой, – показался мне и поучительным, и интересным. Так вот что значат порой сельские попечительства!!.
– Ну, а себе вы назначили пособие? – спросил я.
– Не… Мне дай бог и свое-то приесть.
– Хорошо! А круговая порука?
– А разве будет круговая-те? – как-то вдруг насторожившись, спросил он.
– Я не знаю. А вам разве не объявляли?
– Нет! У нас не вычитывали. Ежели б круговую объявили, мы тогда как-никак отбились бы и от пособия!
– То есть, как же это?
– Так, не дали бы приговору, богатые-те мужики…
– А бедняки?
– А бедняки как знают. Нам разве охота за них платить… судите сами.
Он помолчал, закрываясь шубой от резкого ветра, и потом прибавил:
– Нет, пожалуй, нынешний год не отбиться бы. Вот чем не отбиться, что народ разлютуется. Ноне, брат, так бывает, что овин без хлеба, и сушить бы нечего, а горит… Понял?
Я понял. Опять мы едем молча, то и дело обгоняя обозы. Сани стучат отводами об отводы, лошади жмутся на узкой колее, пристяжка то и дело утопает в сугробах. И это по всей дороге от самого Нижнего.
– Боже ты мой, какую силу хлеба везут! – замечает Потап Иванович.
– А что, – спрашиваю я, – ежели бы этого хлеба не везли вовсе?..
– То-то вот, – с озабоченностью на выразительном лице говорит он. – Беда бы. Я так полагаю: большое количество народу извелось бы… Который человек сроду не воровал – и тот стал бы похватывать, а кто прежде воровал, тот уж пошел бы на грабеж, на разбойство, на этаки вот штуки пустились бы… Надо бы уж как-нибудь в острог попадать, кормиться нечем…
– А вы вот хотели бы от ссуды отбиться…
– То-то не отбиться бы. Да у нас, слава богу, не вычитывали круговой-то. А то было бы здору в обществе, не приведи бог! Общество у нас несмирное, вдобавок…
– Хорошо. А кто же тогда платить будет за ссуду? Ведь отдавать ее придется…
– Отдавать, – замялся он… – Так вот вы говорите – отдавать! А не возьмут!
– То есть, кто же не возьмет?
– Да никто и не возьмет потому, что взять нечего. Я вот вам скажу, только бы мне в стороне остаться, а то почему не сказать… Народ больно изгадился, не годится вовсе. У меня бабушка померла лет с восемь назад, а была древняя: француза помнила и имела прозорливость. Говорила так: пойдет по миру змей огненный, весь свет исхрещет. Стало быть, – генеральская межева или вот еще тянитьё…
– Это что за тянитьё?
– Вот, – указал он на телеграфную проволоку, звеневшую на ветру у дороги. – Потом, слышь, стала кричать с печки: ай воля, ай воля! Не чаяли мы и воле быть, а пришла, по ее слову. Потом, опять, насчет вина: «ай вольно вино!» И верно: вышла воля вину… зинули народы-те на винище, а там, говорит, и последним временам недолго уж стоять, после воли-те…
Он остановился, видимо, сам запутавшись в этом мрачном лабиринте из тянитья, межевания, воли, винища, выкрикиваний бабушки и собственных соображений… Сколько, однако, публицистов, которые, обсуждая нынешнюю невзгоду, не могут выбраться из того же лабиринта! Это соображение заставило меня терпеливо выслушать несвязную речь деревенского философа, рассуждающего о недугах деревни, и затем я направил разговор на прежнюю тему.
– Так почему же, все-таки, не отдадут ссуды?
– Где отдать! Мы вот мясничаем, по дворам ходим, так нам видно: где прежде бывало две коровы, два теленка, две лошади, два жеребенка, свинья, пять-шесть овец, – одним словом, весь двор во скоте… – теперь пусто: одна лошадь, одна корова, а много и таких: нет ничего. Теперь годов пять-шесть вот какого урожаю нужно, чтобы народу-те мало-мало на крестьянскую степень стать без возврату ссуды. А то где уж… С круговой-то порукой и то не взыскать бы, а без поруки подавно… Эх, ветер-то какой, проносный!..
Дальше мы едем уже молча, Потап Иванович все запахивался, ворча и жалуясь на «проносный» ветер, который все время свистел нам в уши, кидал в лицо мелкою, острою морозною пылью, застилавшей неясные дали глубокой ночи. Где-то далеко и смутно темнели леса. По дороге, сплошь избитой «шиблями», как здесь называют ухабы, – мы то и дело обгоняли обозы. Впереди, назади, почти без перерыва тянутся они темными лентами, теряясь в холодной мгле… Куда они идут, как распределятся, кому принесут помощь?.. И воображение невольно бежит за этими вереницами темных точек, ныряющих по ухабам и утопающих в неопределенной мгле.
Воля, «генеральское межевание», винище, телеграфная проволока… Поговорите с любым «умственным человеком» старого закала, и едва ли он представит вам что-либо более связное для объяснения нынешнего бедствия. Все это, конечно, пустяки, туман мысли, случайные ассоциации, в лучшем случае – симптомы, поставленные на место причин и механически связанные наивною деревенскою мудростью. Не пустяки, однако, то обстоятельство, что и народная мысль часто связывает все это в известную перспективу, которая тянется от прошлого к будущему, отодвигая начало бедствия подальше стихийных случайностей одного-двух годов. Не пустяки этот рассказ о тайных заседаниях попечительства, о разбитых окнах, самовозгорающихся овинах. Правда, Потап Иванович, как и вообще люди, привыкшие, проезжая по селу, видеть сжатые кулаки в окнах своих добрых соседей, склонен, по-видимому, к некоторой нервности и преувеличениям. По общему отзыву, количество преступлений в нынешнем году даже уменьшилось. Однако глубокая рознь, разъедающая деревенский мир, составляет несомненный факт, и иллюстрируется он далеко не одними Потапами Ивановичами…
Много столетий мы, «командующие классы», только брали от крестьянского мира все, что надлежало. Для этого многовековая практика выработала отличный привод, называющийся круговой порукой. Предполагая в общине нечто цельное, с полною гармонией внутренних интересов, мы брали, что надлежало, с первого Ивана, у которого можно взять, предоставляя всем им установить равновесие, как знают. И деревенский мир устанавливал эту гармонию все равно как, хорошо или худо. В этом, приблизительно, сущность круговой поруки.
Но вот наступило время, когда роли поменялись. Давать, давать сейчас, непосредственно, приходится уже нам, а принимать – крестьянскому миру. Мы должны помочь той его части, которая более всего в этом нуждается. Как найти истинную нужду, кому именно дать ссуду и сколько? Кто же знает это лучше самих крестьян? И вот механизм начинает действовать в обратном порядке: мы даем «миру», мир должен распределить в своей среде. Оказывается, однако, что это дело гораздо более трудное. Привод, как шестерня с задерживающим рычагом, действует хорошо только в одну сторону. Брать этим способом легко, давать – трудно. Отовсюду мы слышим жалобы: гармония интересов в среде крестьянского мира оказывается фикцией! Помощь попадает не туда, куда надо, получают не те, кому, по нашему мнению, следует получить. Мир в целом, со своим «равнением по душам», становится между голытьбой и помощью. Первую партию муки, присланной в начале осени, крестьяне тотчас же раздробили на микроскопические доли. Досталось каждому по пяти фунтов! «Пошло на распыл», – острили по этому поводу. В одном уезде исправник, получив сто рублей от благотворительного комитета, сдал их на руки властям большого села для помощи наиболее нуждающимся. «Мир» с быстротой паровой машины разделил деньги опять «по душам»: пришлось на душу по семи копеек. Земские начальники расстроили себе нервы, проверяя списки. «Проверка списков» – это домовые обыски у любого мужика, провинившегося, только в том, что он просит ссуду; это – заглядывание в горшки, это взлом половиц, это экскурсии в подполье… Представьте только себе взаимные отношения на этой почве. Один земский начальник нашей губернии, огорченный всей этой процедурой до окончательной потери терпения, приговорил старуху, «неправильно просившую ссуду», по статье о незаконном прошении милостыни и настаивал в съезде на обвинении… Сколько горьких речей, сколько желчи и укоров по адресу народа!.. Они обманывают, они скрывают хлеб, у такого-то найдена мука, у такого-то картофель… А между тем, если бы, вместо гоньбы по закромам и преследования частных случаев, захотели лучше вдуматься в систему самых отношений к народу, то, наверное, пришли бы к заключению, что деревня не так уж виновата. Вся эта система требует живого обновления. У деревни привыкли брать, давать не умеют. Хотят дать одним, которые не в состоянии платить, а уплаты требуют с других. Представьте только, что в городе, где вы живете, ввели бы принудительные и притом довольно крупные пожертвования, и скажите, как бы вы отнеслись к этому. Деревня жертвует не мало, – по-своему и добровольно. Посмотрите на эти массы нищих, у каждого окна получающих кусок хлеба… Но принудительного пожертвования, хотя бы и в пользу своих односельцев, она избегает теми средствами, какие у нее под руками. В этом отношении средний деревенский мужик похож на среднего горожанина: он хочет платить только за себя… А так как ссуду потребуют со всего мира, то есть с плательщика, то и взять ее считает себя вправе плательщик, которому, вдобавок, тоже пришлось очень плохо. Полумистическое представление о каком-то особенном народном «укладе», где богатый или средний член общины охотно и сознательно берет на себя бремя своего неимущего собрата, – увы! – только фикция. Факт состоит в том, что и в общине кипит уже разлад и антагонизм интересов, что теперь это явление проступает с особенной яркостью, что с ним надо считаться…
Однако – факт, хотя и совсем другого рода, состоит также и в том, что хозяин, сонный и сердитый, вошел уже со своим фонарем со двора, где он налаживал что-то очень долго, – и сообщает, что все готово. Потап Иванович с недовольной и кислой миной лезет с теплых полатей, возчики начинают шевелиться. Итак, надо кончать. Вероятно, мне придется еще не раз возвращаться к этому вопросу, так как в нем, сколько я могу судить, общий фон нынешних отношений… То обстоятельство, что мне, беллетристу по профессии, приходится набрасывать в деревенской избе эти торопливые строки об общине и круговой поруке, а читателю придется их перечитывать, – тоже, быть может, является фактом, заслуживающим некоторого внимания. Да, надвигаются вновь эти неотвязные вопросы серой мужицкой жизни, основательно забытые, отодвигаемые на задний план даже в литературе и теперь так властно заявившие вновь о себе…
Опять дорога, опять морозная мгла, еще темнее, так как луна закатилась, опять обозы, то и дело стучащие отводами по нашим саням…
– Куда?
– В Лукоянов с семенами…
Ну, и мне тоже в Лукоянов…
II
В АРЗАМАСЕ. – ЗЕМСКИЙ НАЧАЛЬНИК. – ОПЯТЬ ДОРОЖНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ. – НЕЧТО ОБ ОППОЗИЦИИ И ФАНТАСТИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ГРАНИЦЕ УЕЗДА
Часа в два следующего дня я в Арзамасе. Скучно. Ночь без сна, день – продолжение ночи. Те же холодные тучи, серое небо и «проносный» ветер. Вдобавок, трудно найти город скучнее и тоскливее Арзамаса. Видавший некогда лучшие дни, но оставленный вне железных дорог и пароходного сообщения, – город падает и пустеет. Вот почему Арзамас в лице своих представителей все брюзжит в губернских собраниях и жалуется на судьбу. Арзамас забыт, интересы Арзамаса приносятся в жертву… В последнее время мелькнула надежда: общественные работы… Почему бы не провести Арзамасскую линию? Увы, напрасно! Арзамасу нужна железная дорога, но… Арзамас едва ли нужен железной дороге[10].
Широкие улицы, громадная площадь и церкви, церкви – весь город уставлен огромными церквами. На улицах пусто, кое-где мелькнет редкая фигура прохожего, праздничные флаги треплются на ветру, делая это зрелище унылого города еще более тоскливым.
Две гостиницы. В одной, – как говорил мой спутник, – останавливается «разнословие», грязно и шумно. В другой пусто и скучно. Ужасный воздух, занавески с траурными каймами пыли во всякой складке; в вентиляторе, когда я попытался открыть его, оказалось еще прошлогоднее птичье гнездо. Зато в коридорах стены украшены старыми изодранными картинами: это работа Ступинской художественной школы, пользовавшейся широкой известностью в начале XIX столетия. В лучшие времена Арзамас был приютом муз… Все прошло, и изодранные картины в промозглом коридоре еще усугубляют ощущение дремотной арзамасской тоски.
На черной доске в коридоре я прочитал знакомую фамилию: Вронский, и на следующее утро имел удовольствие видеть у себя первого еще земского начальника, так сказать, на месте действия. Молодой человек с высшим военным образованием, он только несколько дней назад принял должность. Не знаю, как это делается в других губерниях, но у нас на земских начальников возложено все продовольственное дело на местах. Очень может быть, что это несколько неожиданно с точки зрения закона, который предполагает в уезде другие хозяйственные органы, но у нас так это выработалось практикой этих месяцев: земский начальник – исследователь, хозяин, опекун, благотворитель. Он составляет списки, он их проверяет, он организует у себя склады хлеба, он его раздает. Теперь представьте себе в этом положении человека, который знает деревню и ее быт настолько, насколько можно его знать тому, кто сначала учился в гимназии или корпусе, потом в военном училище, в академии или в университете. Деревня, это – каникулы или дача на летние месяцы; и вот с такой подготовкой человек очутился в разгаре самых жгучих и сложных вопросов деревенского быта…
Я видел отставных корнетов, которые чувствовали себя в этом положении совершенно беззаботно. Господин Вронский, которого я встретил в Арзамасе, наоборот, по-видимому, сильно угнетен и встревожен, что я приписываю влиянию более серьезной теоретической подготовки. По его мнению, дело поставлено плохо. Списки нуждающихся составлены безобразно. При первой же проверке наткнулся на богатого мужика, получающего по первому разряду. Рассердился и, разумеется, посадил под арест. На следующий день приходит жена, плачет, просит отпустить: мужик вовсе и не просил ссуды, его внесли в список по мирскому равнению, он только не отказался… Очевидно, надо отпустить. Списки составляли сельские попечительства или комитеты из деревенских «оптиматов». Выходит плохо, – значит, прежде всего нужно упразднить комитеты. Но чем же заменить их, чтобы вышло хорошо? В селе Остоженке (вымышленное мною название того самого села, о тайных заседаниях в котором рассказывал мне Потап Иванович) обратился к священнику. Староста составит список, священник сделает свои отметки. Тот и руками и ногами. Во-первых, он сам член того же попечительства, а во-вторых, у него уже побили окна, хотя он мог прикрываться попечительством[11]. Что же будет, когда он возьмет всю ответственность за правильность списков на себя?
Господин Бронский склонен к простейшему бюрократическому способу: лучшими помощниками он считает старшин, которые, получая жалованье, дорожат местами. Старосты в один голос умоляют об одном: «Ради бога, нельзя ли как уволиться?» Иные из них получают десять рублей в год, другие по двенадцати в месяц. Порой на огромное село – староста один; другой раз в небольшой деревушке четверо старост. На структуре деревни отражается до сих пор крепостное прошлое: в огромном селе был один владелец, образовалось одно общество, и один староста выбивается из сил; в деревеньке было четыре помещика, и вот она до сих пор сохраняет это деление, и каждое общество выбирает своего старосту…
Это замечание кажется мне характерным: застой, который мы так ясно ощущаем во всех сферах нашей жизни, быть может, с особенной силой проявляется в деревне. Свободное развитие и творчество новых форм жизни остановилось на акте освобождения, и теперь сдавленная со всех сторон жизнь деревни застыла в старых перегородках…
– Итак, – спросил я в заключение, – как же все-таки быть?
– Сам еще не знаю… Надо изменить систему… Одно для меня и теперь очевидно: обысков следует положительно избегать.
– Позвольте, – о каких обысках вы говорите?
– Об обысках в домах у крестьян, в амбарах, ну, всюду, где может быть хлеб. Это называется проверкой имущества… Недавно у бабенки при такой проверке отыскали хлеб… Стала кричать: «Ваше ли дело по подклетям шарить!..» Конечно, – закончил земский начальник со вздохом, – посадил под арест, а все-таки… действительно, скверность…
Выпив наскоро стакан чаю, унывающий земский начальник торопливо простился и побежал куда-то по неотложному делу, оставив меня с уверенностью, что никакой общей системы не существует. Все делают земские начальники, от них все и зависит. Пожелает кормить, – накормит, не пожелает, – проморит голодом. Захочет устроить попечительство, – устроит; захочет уничтожить уже существующее, – уничтожит. У каждого «своя система»… В одном участке с 12 июля до десяти раз менялись земские начальники. Итак, пережить десять смен разных более или менее мудрых систем. Несчастный, должно быть, участок…
Днем я посетил лесничего Россова, с которым познакомился во время одного из своих путешествий по Нижегородскому краю. У ворот его дома толпа мужиков; просят «уволить от работы». Это – по части общественных работ. Лентяи и пьяницы? Совсем нет. В продовольственной комиссии нашли справедливым «наряжать» рабочих поровну из разных земских участков. Таким образом, наряду с привычными лесными работниками очутились коренные земледельцы, не умеющие направить надлежащим образом пилу. Приходят они верст за девяносто, и в то время, как другие зарабатывают копеек сорок – пятьдесят, они могут выработать не более десяти – пятнадцати, тогда как прокормиться стоит, по нынешним ценам, копеек двадцать. Разумеется, просят «уволить», и нельзя не уволить, потому что работа, действительно, требует сноровки. А самовольный уход может повлечь лишение пособия, как уклонившихся от предлагаемого заработка…
По рассказам г. Россова и его жены, до начала выдачи ссуды в город хлынули нищие из деревень… Женщины с грудными детьми, старшие дети хватаются за платье, плачут, просят, падают в ноги… Вот что устранено пособиями, а ведь это было только начало…
– Страшно и подумать, что было бы, если бы не эти обозы, – сказал г. Россов, указывая в окно на возы, которые и во время нашего разговора тянулись, скрипя, по засыпающим улицам Арзамаса…
Двадцать восьмого, в час дня, я опять выезжаю из Арзамаса и опять на вольных. Мой новый попутчик – крестьянин, хлебо- и лесоторговец, возвращающийся домой после расчетов с одной из уездных управ. Фигура топорная, сколоченная грубо, но добродушная. Человек солидный, думающий и неглупый.
День светлый, лошади бегут тихой рысцой, – станция длинная. Мы опять говорим о голоде и о деревне. На этот раз я имею дело с человеком довольно развитым, и потому «тянитьё» и выкрикивания бабушек в разговоре отсутствуют. Иные суждения моего собеседника метки и характеристичны, но и здесь, как всегда, деревенская мысль не поднимается выше непосредственных наблюдений.
– Самое есть первое зло в деревне – кабак… Вот верно написано в «Сельском вестнике». Уж именно кто-то написал – практичный человек: «Прежде, говорит, работали мы на барина, на помещика… Страдали! Теперь, говорит, работаем уже на барыню (это водочка!). Слово с ней сказать – семь копеек. Два слова – вдвое». То есть это так верно написано, – в аккурат! Второе есть зло, что хуже прежнего разбою… Как бы умно вам это высказать, – процент! На рубль теперича процентщик берет три копейки, пять копеек в месяц под залог. А что составляет залог? Хлеб на корню, озими. Не поплатился в срок – озими отнимает в свою пользу… Теперь вот господь и их ударил порядочно.
– А что?
– Да как же! Под озими у них задано по три рубля, а озими не уродились; ну, мужички поступились: берите, батюшки…
Он смеется в воротник своей шубы… В это время мы минуем большое село. Внизу, по суходолу, в стороне от дороги вытянулся небольшой порядочек. Крохотные оконца крохотных избушек, без дворов и огородов, отсвечивают в синеватой мгле наступающего зимнего вечера. Это кельи.
– Третье есть зло, – говорит мой спутник, указывая на них, – вот эти самые кельи. Это вот проживают тут солдатки, безмужницы, девки старые, вдовы и тому подобные, без наделу которые женщины… Вот они у себя устраивают всякие штуки… Самая язва тут и есть. Тут, в избах этих, пряники едят, семечки щелкают, на гармониях зудят, песни играют и даже, хуже всего, – водку пьют… Девки пятнадцати-шестнадцати лет – и те балуются. Вот зло какое, вот бы что искоренить!.. Греха тут сколько. Отец не пускать, мать опять, слабостью, заступаться! Раздор! А там за девкой приударит какой-нибудь молодец, богатого отца сын. Матери-то и лестно: думает – жених, а он вовсе и не жених, ищет себе одного расположения. Возьмет свое и отчаливает. Эх, и говорить неохота, скверность! Лет не более пятнадцати, как это гнездо у нас завелось, а теперь вот в нашем селе вряд наберется домов двадцать, где хозяева держат свой дом в руках. А то… Даже, скажу вам, незаконного младенца девушка принесет, и то за стыд не считают. Дескать, не моя одна, вон и у таких-то, и у таких-то…
Порядочек с кельями, вызвавший эти страстные обличения, и все село давно скрылись из виду, а мой спутник все еще продолжает негодущие речи…
– А отчего же завелось это гнездо? – спрашиваю я.
– Надзору нет…
– А земские начальники?
Он отворачивается и смолкает. В молчании чувствуется «политика». Во всех официальных обращениях «институт земских начальников» выставляется, как акт особенной царской заботы о народе, но деревня, по-видимому, воспринимает его иначе. Люди, подобные моему спутнику, уже отвыкли от «патриархального обращения». Даже полиция относится к ним с известной почтительностью. И вот теперь земский начальник, отставной корнет или прогоревший местный дворянин, может, – в упоении своей новоявленной власти, – тыкать его, посадить в кутузку, оттаскать за бороду. Примеры бывали: резвая дворянская молодежь на первых же порах показала и свою власть, и полную безответственность. Поэтому, как самая реформа, так и первые шаги земских начальников глубоко оскорбили деревенских людей того типа, как мой спутник. Они сами порой вздыхают о каком-то особенном «надзоре». Но это надзор каких-то утопических патриархов, благочестивых, солидных, умеющих вести свои дела и могущих научить других… А тут власть дана людям, нередко беспутничавшим и разорявшимся на глазах у таких вот деревенских философов… И деревенские философы чувствуют, что с реформой, вместо укрепления строгих нравов и старинного порядка, идет что-то совсем другое… А громко выражать свое мнение по нынешним временам опасно…
Солнце закатывается, снега синеют, кой-где сверкают замерзшие проталины. Дорога развертывает все новые виды и картины. Для человека, который умеет читать эту книгу, она говорит много.
Вот, качаясь, точно челнок на волнах, ползет навстречу воз соломы. Тощая лошадь, усталый мужик, жалкий возишко…
– Откуда? – спрашивает мой спутник.
– Из Голицына.
– Голицыно-то за Лукояновым сорок верст, – поясняет он мне, – да до дому ему верст еще тридцать… Вот и судите: это он за семьдесят верст съездил, взад-вперед сто сорок верст, да за воз заплатил рубля три. Вот оно что стоит ныне скотину-то сберечи. Из плохих годов самый плохой этот год. В прошлом годе плохо же было, так хоть корма-то были, скотина дышала. Ныне так соткнулось с обеих сторон, что ни людям, ни скотине продышать нечем… Ударил господь батюшка, по всему народу ударил. Присмирели православные…
– А говорят, в вашем уезде пьют больше прежнего?
– Пустое говорят. Унялись, кабаков сколько позакрыли. Да вот, посмотрите: вон обоз едет с куделью. Хвощане это. Каждый год кудель от нас возят. Ежели бы вы их в прежние годы посмотрели, – то и дело пьяные попадались. Лежит себе, да еще поперек воза, и песни орет. Кинет его на шибле, – он и летит с возу торчком. А ныне поглядите-ка: ни одного пьяного. Нет, что тут пустяки толковать: присмирели, все присмирели под гневом господним… Потускнел народ… Так потускнел, иной раз и смотреть-то жалко…
После этого мы некоторое время ехали молча…
Зимняя заря погасла далеко впереди, снега посинели, луна ныряет меж высокими, холодными облаками… Какие-то летучие тени пробегают по снежным полям и сугробам, отблески по подмерзшим гладким проталинам вспыхивают и гаснут. Холодный ветер шипит, кидает мелким снежком, забирается под шубу, наводит тоску.
– Граница уезду близко, – говорит Брыкалов, кутаясь в свою шубу.
– Где?
– Вон там, за второй гатью, под лесом.
Еще с версту… Только теперь, у этой границы, я начинаю ясно чувствовать томящую неопределенность своего положения… Куда я еду? Что стану делать, с чего начинать, у кого просить содействия и помощи в незнакомом месте, в непривычном деле?
Незадолго перед своим отъездом из Нижнего я узнал, что лукояновская продовольственная комиссия и уездное благотворительное попечительство (два учреждения, состоящие из одних и тех же членов) высказались против учреждения столовых в уезде. Высказались сначала неясно и глухо. «Признавая в принципе полезным», – комиссия находит, что для столовых нужны деньги и люди. Денег нет, людей тоже нет, значит, и делать нечего… Тогда из губернии указаны на месте люди, которые согласились взять на себя ведение столовых, и этим людям, по представлении ими смет, высланы через уездное попечительство деньги на открытие столовых. Но тут случилось нечто совсем уже неожиданное: попечительство, вместо того чтобы передать деньги по назначению, секвестровало их и разделило по земским участкам. Вышло так, что люди, найденные в уезде стараниями губернского комитета, оказались без денег, которые именно им высылались; деньги, посланные на определенное дело, оказались изолированными от людей, которые их просили. Было ясно, что дело столовых в уезде далеко не в авантаже и что те же неведомые мотивы, которые заставили отстранить от уезда триста тысяч пудов казенной ссуды, отстраняют теперь от населения и благотворительную помощь. К печальному настроению, вызванному во мне безотрадными картинами и свистом холодного ветра, присоединилось нерадостное соображение, что вот за той чертой, в конце длинной гати, я силою судеб окажусь в невольной оппозиции к местным уездным властям…
Оппозиция, – какое, право, страшное слово! Я написал его в своем дневнике и невольно думаю: уж не вычеркнуть ли, в самом деле?.. Но нет, не вычеркну, а лучше поясню, что значит это слово в провинции, да, пожалуй, и не в одной только провинции. Вот что говорил мне один добрый знакомый «из оппозиции» несколько лет назад, когда я только еще знакомился с положением дел в губернии, где судьба заставила меня свить прочное гнездо:
– Бросьте вы, батюшка, эти термины: оппозиция, партии, консерваторы, либералы. Ничего вы с ними у нас не разберете. Смотрите проще; одни у нас воруют и желают сохранить за собой эту возможность: это наш консерватизм. А мы и желали бы прекратить воровство, да не можем. Вот вам и вся либеральная оппозиция.
События показали, что это самобытное определение совершенно справедливо. Одно время вся русская пресса говорила о хищениях, произведенных г. Андреевым, нижегородским уездным предводителем дворянства и председателем уездной управы. Четыре должности занимал этот видный дворянин и по четырем должностям совершил растраты, констатированные гласно. События, наконец, назрели, закипела борьба, отголоски которой отражались даже в столичной прессе. В конце концов «оппозиция» как будто восторжествовала: Андреев, окончательно уличенный в воровстве, удалился в лоно частной жизни, не забыв произнести стереотипную, отчасти даже избитую от частого употребления фразу, которая для этих случаев, так сказать, освящена традицией:
– Теперь я слагаю ответственность… Не ручаюсь за спокойствие уезда… – А вскоре после этого он получил очень хорошее казенное место…
Отсюда, конечно, следует, что «уездная оппозиция» – дали, вообще говоря, довольно безобидное. Лукояновская же оппозиция по вопросу – кормить голодающих или усиленно взыскивать с них недоимки, – ставит самих лукояновских деятелей в оппозицию к губернскому центру. Итак, я окажусь, за этой пограничной чертой, в оппозиции к уездной оппозиции… Трудно даже разобрать, что это, в самом деле, выйдет: благонадежно это или неблагонадежно?.. Страшно или совсем не страшно?.. И являюсь ли я в уезд в качестве благонамеренного человека, действующего «согласно с видами начальства», или в качестве неблагонадежного крамольника?.. Предводитель дворянства и тесно сплоченный отряд земских начальников – власть, и при том особо покровительствуемая свыше… Значит, мне придется идти против власти. Это опасно… Губернатор тоже власть, и на сей раз я действую до известной степени согласно с его видами… Это успокоительно… Но жандармский генерал Познанский – заведомый противник кормления… Хлеб он приравнивает к прокламациям, а столовые считает очагами революции… И в этом смысле пишет доклады министру внутренних дел, недавнему предводителю дворянства из ретроградного лагеря…
Все эти разнородные и противоречивые соображения заволакивали для меня «политический горизонт» такой же неопределенной игрой теней, какая пробегала перед моими глазами по снежной равнине… Конечно, предприятие мое совершенно законно… Но что такое закон в нашей русской жизни, особенно в сколько-нибудь тревожные периоды? Это только препятствие, связывающее энергию власти, – одна из категорий «крамолы», которую нужно прежде всего убрать с дороги.
– Знаете ли, – спрашивал меня один наблюдательный человек, – кто более всех пострадал от неурожая, кроме, конечно, мужика?
– Не могу догадаться.
– Закон.
И это верно: как только голод был признан, так и началось усиленное упразднение существующих законов в пользу чисто щедринского кустарного законодательства местных властей. Так, вятский губернатор, знаменитый в свое время Анастасьин, объявил, нимало, не медля, сепаратную таможенную политику для «своей» губернии. На границе были расставлены «таможенные» мужики с здоровенными дубинами, которые, по приказу мудрого властителя, ловили «контрабандистов» с купленным на базарах хлебом…[12] В одно из заседаний нижегородской продовольственной комиссии явился посол соседней Костромской губернии для переговоров о закупке хлеба на нижегородских базарах. У нас запретительного законодательства не было. Но представителю костромской державы пришлось выслушать несколько горьких упреков в отсутствии таможенной взаимности, так как и на западной границе нашей губернии тоже оказалась цепь таможенных с дубинами…[13] Костромской посланник оправдывался тем, что общего закона по всей губернии не было, но какой-то земский начальник объявил сепаратную таможенную систему в одном своем участке…
Только уже в январе 1902 г. вятский законодатель Анастасьин милостиво сообщил, что «запретительные меры» им сняты (журнал 9 января 1902 г.).
Таковы причуды российской законности… Сколько почтенных и совершенно «лояльных» обывателей, живя в «сердце России», и не подозревали, что могут когда-нибудь стать контрабандистами. А довелось. Ночь, вьюга, на небе тучи, перекликаются дозорные, а глухими и неудобными дорогами прокрадываются контрабандисты с кулями русского хлеба через границу… двух смежных русских губерний!.. Представьте себе теперь положение закона, «перед лицо» которого эти своеобразные таможенные привели бы этих неожиданных контрабандистов. Где состав преступления, как поставить обвинение, кто, наконец, обвиняемый, обвинитель, преступник?.. Кого судить: таможенного мужика с дубиной или контрабандиста, такого же мужика с кулем хлеба?.. Первый поставлен своим уездным местным начальством. Да… но и второй тоже отправился с благословения своего начальника и даже имеет билет… А закон? Да есть ли еще, полно, какие-нибудь общеобязательные законы в России?
В Лукояновском уезде пока нет таможенной стражи на границе, однако, когда я, проехав длинную-длинную гать, приблизился к границе Арзамасского и Лукояновского уездов, – в голове у меня роились самые странные мысли. Было это, если не ошибаюсь, в самую полночь, – час фантастический! По небу быстро неслись белые легкие и причудливые облака, а по снегам бежали их летучие, неуловимые тени. Унылая равнина, болото с кустарником, перерезанное длинною гатью, а за ней – покосившийся столбик, обозначающий «мысленную черту», разделяющую два уезда… И мне вспомнились дикие толки, ходившие в последнее время по Нижнему о Лукоянове. Говорили, между прочим, о какой-то диктаторской власти, которою облекся г. Философов… Прибавляли при этом, что сам губернатор неосторожно облек уездного предводителя этой опереточной диктатурой, а предводитель обратил ее против губернатора, и теперь М. А. Философов к каждому своему распоряжению прибавляет магическую фразу: «На основании данной мне неограниченной (!) власти»… Магическая фраза гипнотизирует и величественного предводителя, и обывателя, привыкшего смотреть на всякие неожиданности власти, как на мистическое наслание свыше. И меня, скромного корреспондента, предупреждали совершенно серьезно, что моя нехитрая миссия потерпит неудачу. Находясь в оппозиции с губернией, – Лукоянов понимает все навыворот; так до мысленной черты за гатью и далее по рубежу, например, в Сергачском уезде, – выдается пособие в размере одного пуда на человека, а столовые насаждаются усердием местной администрации. Кто пожелал бы препятствовать этому, – оказался бы неизбежно в оппозиции местным властям. Но за мысленной чертой, к которой подвигала меня тройка вольных лошадей, выдают вдвое и втрое меньше, и всякий, кто желает открыть столовую, – столь же неизбежно попадает в оппозицию властям лукояновским. Далее: в губернии признана полезной просвещенная гласность, которой открыты все двери: прииди и виждь! За мысленной чертой, пролегающей передо мною на равнине, на гласность смотрят недружелюбным оком и, во имя «спокойствия уезда», желали бы закрыть для нее границу. И вот, когда, наконец, уныло звеня колокольном над спящим болотом, тройка подвинула меня вплоть к покосившемуся пограничному столбику, мне вспомнились ходившие еще в Нижнем толки, будто моей скромной особе оказано специальное внимание и, на основании фантастической «диктаторской власти», гласность в моем лице не будет впущена «за границу уезда». Нелепость, разумеется… Не большая, однако, чем таможенные кордоны на границах двух уездов, чем многое, о чем мне придется повествовать в этой скорбной книге… И – что хотите, а я, все-таки, скользнул взглядом за мысленную черту, окаймленную кустарником, и в моем воображении мелькнула фантастическая картина: «Стой, кто едет через границу?» – Гласность. – «На основании диктаторской власти, – поворачивайте оглобли»…
Однако, – никого… Черта пустынна, и только летучие пятна скользят по снежной равнине. Я вздохнул. «Нелепость» казалась мне одно мгновение довольно заманчивой. Что станете делать, – все характерное кажется порой привлекательным с профессиональной точки зрения. И гать, и столбики остались назади… Я – «на месте» и думаю про себя, что стыдно заниматься подобными фантазиями в такое время, когда надо делать насущное и трезвое дело… Но я решился быть откровенным: пусть читатель знает, какие нелепости бродят порой в голове провинциального бытописателя в глухую полночь на границе иного уезда…
Пока я предавался этим фантастическим и печальным размышлениям, впереди замелькали редкие огоньки у подножия темного широкого бугра, а в небе зарисовались силуэты ветряных мельниц.
– Это что за село? – спросил я у моего спутника. Он выглянул из-за своего воротника.
– Это? Да это Лукоянов. Поближе-то вон приселочек, а подальше и город…
III
В ЛУКОЯНОВЕ. – ЛУКИНСКИЕ НОМЕРА И «КОНСПИРАТИВНАЯ КВАРТИРА». – ЗЛОБЫ ДНЯ УЕЗДНОГО ГОРОДА; ИСПРАВНИК РУБИНСКИЙ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВАЛОВ. – НЕЧТО О ЛУКОЯНОВСКОМ ЮМОРЕ, О ЗЕМСТВЕ И О СТОЛОВЫХ. – ЕЩЕ ОДИН НЕДОУМЕВАЮЩИЙ ЗЕМСКИЙ НАЧАЛЬНИК
Итак, я в Лукоянове!
Когда я проснулся на следующее утро, зимнее солнце весело глядело в окна, покрытые сплошными узорами от крепкого мороза. Кругом было как-то удивительно тихо, только где-то поскрипывал вентилятор, да в дальней комнате стучала половая щетка. Очевидно, во всей гостинице я был единственный «проезжающий».
Гостиница эта очень оригинальна. Принадлежит она Н. Д. Лукину, местному городскому голове, и существует, по-видимому, для одного лишь базарного дня, когда деревня затопляет город серою массой полушубков. В эти дни впоследствии я очень любил из своего якобы «номера» сквозь неплотно притворенную дверь слушать нестройный гул и говор мужицкой толпы, грубый, несвязный и простодушный, прерываемый порой то внезапным и шумным спором, то обрывком тотчас же смолкавшей песни, то чьи-нибудь жалобой, то чьими-нибудь воплями и слезами. Остальную неделю в гостинице царит та самая удивительная тишина, которая охватила меня в первое мое «лукояновское» утро. «Чистой публики» совсем мало; проезжающие, вроде меня, – залетная случайность, вызванная «тревожными обстоятельствами» голодного года. Вчера ночью, когда мои вещи внесли наверх по широкой лестнице, я был удивлен тем обстоятельством, что, вместо обычной обстановки «номеров для приезжающих», попал непосредственно в биллиардную. Какое-то неуклюжее и довольно жалкое сооружение на тощих ногах, с жестоко изодранным сукном, занимало середину комнаты. Вдоль стен стояли небольшие трактирные столики, покрытые скатертями, с неизбежными спичечницами и перечницами, а также стулья. Кругом, в непосредственном соседстве, виднелись такие же точно комнаты, с той же обстановкой, кроме, впрочем, биллиарда.
– А где же номера? – спросил я.
– Сьчас!
Двое сильно заспавшихся, но весьма радушных парня, с очень толстыми физиономиями, способными привести в соблазн какого-нибудь «исследователя голода» (центр голодающего уезда и вдруг – такие щеки!), проворно вытащили из угловой комнаты один столик и несколько стульев, водрузили на их место железную кровать с матрацем, – и номер оказался к моим услугам… Должен сказать, впрочем, что он оставил во мне самые лучшие воспоминания: выбеленные известкой стены, печка, разрисованная по железу «пукетами», и довольно чистый воздух – показались мне гораздо лучше обоев с клопами, пыльных гардин и промозглой атмосферы обыкновенных уездных да и губернских «номеров для господ приезжающих»… Раза два во все мое пребывание здесь военные писаря приходили «чкалить» на биллиарде, да раз в неделю, по базарным дням, вся гостиница густо насыщалась запахом овчины, онучей, водки и пота – специфическим запахом серого мужика, постепенно выветривавшимся и выгоняемым в течение недели в вентиляторы, трубы и форточки. Вот и все «беспокойство» моего своеобразного и тихого, в сущности, приюта.
Впоследствии, когда «тревожные обстоятельства» усилились, и в Лукоянов стали наезжать все новые и новые «члены по продовольственной части», – еще несколько столов и стульев должны были уступить место кроватям, еще две-три горницы превращены в «номера». Тогда «мужика» перестали вовсе пускать наверх, – о чем я очень жалел, – и весь говор и шум, споры и расчеты, жалобы, ругань и дружеские излияния под хмельком, – одним словом, весь мужицкий гомон и все мужичьи запахи приютились внизу, на черной половине, но зато они стояли там так плотно и густо, что мне казалось, будто нашу пустую и легковесную чистую половину наверху, со всеми «членами», занимавшими каждый по номеру, – когда-нибудь может просто взорвать на воздух… Биллиардная в это время тоже пустовала и служила нейтральным местом встречи для нас, обитателей «номеров», местом, где мы оглядывали друг друга, знакомились и осторожно заговаривали о «тонких материях» местной политики, нащупывая почву и выведывая постепенно, к какому «лагерю» тяготеет тот или другой новый сосед… Впрочем, лукинские номера, как и городской дом со въезжей квартирой, вскоре как-то естественно и по ходу вещей приняли определенную окраску: их наезжая публика стояла решительно за губернию, то есть за кормление, за лечение и за столовые… Другой лагерь составляли приверженцы местной автономии, обладавшие особенным помещением, называвшимся в шутку «конспиративной квартирой». Название было, впрочем, очень метко. Дело в том, что лагерь этот был весьма не обширный и совершенно замкнутый в себе, но зато чрезвычайно предприимчивый и сплоченный. Квартира была нанята уездным предводителем M. A. Философовым, и здесь останавливались господа земские начальники (кроме одного), а также, происходили заседания уездной продовольственной комиссии и благотворительного попечительства – двух учреждений, состоявших из одних и тех же лиц, и в которые никто из посторонних не допускался решительно. Это было нечто вроде «совета десяти», устанавливавшего в секретнейших заседаниях и уездную политику, и взгляды, обязательные для города и обывателей… И долгое время город робко внимал предписаниям конспиративной квартиры… Однажды, во время объезда членом губернского присутствия И. П. Кутлубицким губернии с целью ревизии, податной инспектор г. Золотилов сообщил ему, что в селе Атингееве существуют какие-то заболевания, весьма похожие на тифозные. Впоследствии оказалось, что в уезде свирепствует действительный тиф, в том числе и в селе Атингееве. Однако в то время обыватели об этом говорили только шопотом, и данный разговор происходил между двумя чиновниками с глазу на глаз, за стаканом чаю. Представьте же себе удивление г. Золотилова, когда он узнает, что об его словах имелось «суждение» в конспиративной квартире, и в «заседании 28 января читано письмо земского начальника 6 участка от 24 января, № 144, о том, что, по заявлению г-на податного инспектора Золотилова г-ну Кутлубицкому, в селе Атингееве люди умирают от голода (!), между тем, по тщательном исследовании, это заявление не подтвердилось и, кроме того, в том селе имеется бесплатная столовая удельного ведомства»… Постановлено: «Принять к сведению»[14].
Только! Однако этот «политический акт» поразил обывателей, как громом, и поднял чрезвычайно престиж конспиративной квартиры. Во-первых, обыватель убедился, что и «стены имеют уши». Во-вторых, они все-таки могут не дослышать и на место несомненного факта подставить «ложные слухи»… В-третьих, – да, в-третьих, г. Золотилов счел себя вынужденным написать своему начальству предупредительное объяснение, а в городе о щекотливых предметах остерегались с тех пор говорить даже и шопотом.
Как видите, «конспиративная квартира» держала себя, как настоящий тайный совет десяти (не сочла даже нужным спросить самого податного инспектора, что именно он говорил и на каком основании), а впоследствии, уже при мне, здесь были задуманы, обсуждены, редактированы и пущены в ход самые ядовитые «политические ноты» и против губернии, и против обитателей скромного Лукинского дома, – ноты, высиженные в глубокой тайне, и о коих заинтересованные лица узнавали по большей части лишь долго спустя… Это были своего рода навесные выстрелы. Появится дымок, в противном лагере водворяется смутная тревога: что-то опять задумано, пущен какой-то новый выстрел. Один из таких выстрелов, имевший целью бедную прессу, отдался эхом далеко за пределами губернии, и «конспиративная квартира» неожиданно очутилась под убийственным огнем, открывшимся по всей газетной линии… Это было начало печальной известности «лукояновцев». Пишущая и читающая Россия оказалась на стороне лукинского дома и против «конспиративной квартиры».
Да, – такова была эта комическая война… Очень жаль, что разыгрывалась она на слишком трагическом фоне и что бедному обывателю, по обязанностям совести или службы не имевшему порой возможности стать вне действия этих «двух огней», – приходилось порой так плохо… что вот, например, земский врач С-в после голодного года попал прямо в лечебницу для душевнобольных.
Лукоянов принадлежит к числу тех городов, многочисленных у нас на Руси, по первому взгляду на которые вы не отличите – город это или просто большое село. Раскинувшись довольно широко по склону отлогого холма, вокруг единственной церкви, занимающей середину огромной площади, – он разбегается просторными, мало застроенными улицами и по окраинам переходит уже прямо в деревню, заселенную крестьянами землепашцами. Центр чисто земледельческого уезда, он не щеголяет, как Арзамас, постройками, и только разве традиционное здание с железной крышей, каменной оградой, решетчатыми воротами и часовым, глядящее из-за реки Теши предостерегающим взглядом, – сразу заставляет догадаться, что это «населенное место» должно считаться административным центром. Вокруг города по холмам стоят ветрянки, изредка лениво помахивающие крыльями (отдых этим крыльям в нынешнюю зиму!), широкий тракт с аракчеевскими березами уходит вдаль, взбираясь красивою лентой с возвышения на возвышение, и лежат волнистые поля, покрытые снегом… Тиха и невзрачна столица дальнего, серого земледельческого уезда…
Вдобавок, и звание столицы оспаривается у Лукоянова другим центром – Починками. Это большое село, расположенное южнее и не забывающее своего титула «заштатный город». Там издавна приютились и канцелярия предводителя, и воинское присутствие, и земская управа, оттуда, собственно, исходит по меньшей мере половина тех «политических мер», которые доставили уезду всероссийскую известность. На этом основании лукояновский городской голова Н. Д. Лукин, с которым я познакомился вскоре по приезде, горячо настаивает на отстранении от Лукоянова этой чести, всецело уступая ее Починкам…
В Лукоянове в это время было затишье, и город отдыхал от непривычного обилия впечатлений. Правда, недавнее еще устранение, в видах продовольственной политики, исправника Рубинского, примкнувшего к «предводительской партии», – произвело «волнение умов», которое еще не вполне улеглось. Но из главных руководителей уездной оппозиции никого не было налицо, и потому назревающие события еще дремали в ожидании ближайшего съезда (назначенного на 7 марта), и городок (сочувствовавший, впрочем, губернии) пассивно ждал.
Господин Рубинский – своего рода лукояновская достопримечательность. Это даже не человек, – а целая программа! Старый полицейский служака весьма распространенного типа, до мозга костей проникнутый известной формулой «все благополучно», видавший всякие виды, судившийся и осужденный (кажется, даже не однажды), между прочим, и за превышение власти, крутой и не дающий потачки мужику, на которого, конечно, смотрит, как на сплошного пьяницу и лентяя, – он органически не способен был выносить никогда еще невиданного в уезде зрелища: «пьяницу и лентяя» собираются кормить; говорят, у него, исправника, в уезде – голод и болезни. Как, – значит, исправник допустил!.. Значит, у исправника неблагополучно? И у старого полицейского служаки зачесались руки. Голод, болезни!.. Пусть только дадут исправнику волю, – он ему (пьянице и лентяю) покажет лечение! Перепороть пол-уезда («так бывало у нас в старину») – и голод как рукой снимет! И он внесет не только подати, но еще и недоимки. Я думаю, это был у г. Рубинского совершенно бескорыстный, органический, утробный порыв, протест уездно-полицейской традиции против невиданного баловства, нежностей, беспорядка… И если бы, в угоду исправнику Рубинскому, губерния отступила от своих взглядов, бросила бы «нежности» и признала свою ошибку, то господин Рубинский наверное бы успокоился… Но губерния полагала, что исправник есть лишь власть исполнительная и что, скорее, он обязан подчиниться общему направлению… Оно, пожалуй, и правда, но все двадцать пять лет полицейской службы со всеми осужденными и неосужденными превышениями власти поднимались в нем глухим протестом…
В уезде начались странные вещи. С одной стороны – первоначальные очень мрачные сведения предводителя и земских начальников, подтверждаемые многочисленными свидетелями, а также цифрами урожая, заставляют предполагать, что дело очень плохо. С другой – все «исследователи», проезжающие через уезд на почтовых и пользующиеся любезно сообщаемыми сведениями полиции, – свидетельствуют единогласно, что вместо голода замечаются разгул и развитие роскоши. Проглянет где-нибудь тиф… И вдруг – нет никакого тифа. Официально, на бумаге, даже и в первоначальных рапортах той же полиции – нужда. В натуре – благополучие. Дело доходило в этой занимательной игре до истинных курьезов. Получается, например, от приехавшего в уезд помощника врачебного инспектора Решетилло телеграмма о том, что в большом селе Саитовке – страшный тиф. Цифры – поражающие! Едет в уезд отправленный тотчас же губернатором врачебный инспектор г. Ершов (тоже «старый служака»), – и удивленная губерния получает известие, что никакого тифа нет, общая цифра больных ничтожна и вообще «санитарное состояние уезда благополучно». Подписал доктор Ершов, подписал местный земский врач г. Эрбштейн, подписал, наконец… сам доктор Решетилло! А затем – новые известия, и опять тиф показывается в другом месте, чтобы опять исчезнуть по волшебному манию полиции… Таково чудотворное действие старой традиционной формулы «все благополучно».
Кто же, однако, был прав, и которая подпись послушного доктора Решетилло удостоверяла истину (надо заметить, что г. Решетилло тоже в свое время привозил в губернию самые свежие полицейские сведения о полном благополучии уезда)? Впоследствии генерал Баранов публично в заседании комиссии извинялся перед доктором Решетилло в том, что не поверил первой его телеграмме о тифе. Однако еще убедительнее свидетельство противной стороны.
Был в Лукояновском уезде старый земский врач, Эрбштейн, целиком примкнувший к «предводителю». Мне пришлось выслушать его речь в собрании, где он «опровергал» мнение о тяжелом положении уезда.
«Вы думаете, – страстно говорил он, обращаясь к отсутствовавшим в земском собрании противникам, – что вы открыли нам что-нибудь новое! Да ведь у нас это давно».
И он привел ряд цифр следующего содержания. Отзывается, что в Лукояновском уезде тиф свил себе прочное гнездо еще с 1885 года, а с 1886 года идет непрерывное возрастание эпидемии:
Заболело | Умерло |% смертности
В 1886 году: 398 | 24 | 6
В 1887 году: | 462 | 28
В 1888 году: 1 083 | 55 | 5
В 1889 году: 1 115 | 69 | 6
В 1890 году: 993 | 68 | 7
В 1891 году: 3 731 | 198 | 5
В 92 (за 4 м-ца): 3 988 | 200 | 5
Эти цифры заболеваний от одного тифа и притом цифры официальные!.. Признаюсь, когда я выслушал эту удивительную таблицу, то сначала не верил своему слуху. «Да что же, собственно, доказывает г. Эрбштейн?» – спросил я у ближайшего своего соседа из публики. «Он говорит, кажется, что все благополучно и что санитарные отряды присланы напрасно…»
Сначала в устах земского врача это показалось мне превосходящим всякое понимание, но только сначала. Впоследствии я имел случай познакомиться и с самим врачом Эрбштейном. Мне показалось, что это человек, быть может, и не дурной, но… врач несомненно «лукояновский», а этим сказано много. Для него «все это» перестало быть новостью. «Не новость» – в этом все разрешение загадки. Вы, свежий человек, натыкаетесь на деревню с десятками тифозных больных, видите, как больная мать склоняется над колыбелью больного ребенка, чтобы покормить его, теряет сознание и лежит над ним, а помочь некому, потому что муж на полу бормочет в бессвязном бреду. И вы приходите в ужас. А «старый служака» привык. Он уже пережил это, он ужасался двадцать лет назад, переболел, перекипел и успокоился. Да разве это новость? Он вам тотчас же расскажет такие картины, перед которыми ваша – бледная виньетка. И ему странно, что вы горячитесь, и ему неприятно… Неужели он виноват в чем-то? Тиф? Да ведь у нас это всегда! Лебеда? Да у нас это каждый год! И давно отупевшие нервы «старого служаки» уже ничего не воспринимают из этой области, и даже тот факт, что в неурожайный год цифра заболеваний за четыре месяца превысила уже всю прошлогоднюю, – его не останавливает и ничего не говорит его чувству! А когда он видит суету и хлопоты свежих людей («попробовали бы, дескать, погорячиться этак тридцать лет»), его это искренно сердит… Ну, и происходят чудеса, с появлением и исчезновением эпидемии!
Однако, конечно, это было очень неудобно, так как нужно же на чем-нибудь утвердиться. Губерния слышала раньше из уезда ужасные вопли о голоде, и губернская земская управа сама успокаивала напуганных: не бойтесь, не четыре с половиной миллиона, – вам нужно только шестьсот тысяч. Теперь уезд вдруг успокоился и успокоился так излишне, что не желает уже и шестисот тысяч. Давайте ему триста, и притом без всяких резонов. И это – в то самое время, когда губерния уже признала наличность голода и «развивает энергию» в борьбе с бедствием, губерния насторожилась и начала терять терпение.
В это-то время и разыгрался эпизод, роковой для «старого служаки» исправника. В уезде побывал управляющий контрольной палаты г. Алфераки и, вернувшись, передал губернатору, что там все благополучно: веселятся, выпивают, покупают наряды, а ссуда… – тратится государством совершенно напрасно… Откуда сие? Из разговоров с полицией и земскими начальниками.
Это превысило меру губернского терпения. H. M. Баранов потребовал объяснений: когда именно лукояновские власти вводили губернию в заблуждение, – тогда ли, когда сами писали о бедствии и требовали помощи, или теперь, когда находят ссуду напрасным разорением государства. Разговор с г. Алфераки поставлен был официально, игра была раскрыта. Низшие полицейские уступили, исправник Рубинский пал…
Так была на сей раз побеждена, в лице лукояновского исправника, традиционная формула «все благополучно», старая, добрая формула, которою Русь жила столь многие годы… Исправник Рубинский пал за нее, за то самое, чем жил и чем выслуживался во всю свою длинную и многотрудную карьеру…
Есть в городе и еще одна знаменитость, еще одна жертва тревожных обстоятельств голодного года. Это Н. Д. Валов, отстраненный, по высочайшему повелению, от должности председателя уездной земской управы. История эта в свое время облетела все газеты, и Валов приобрел всероссийскую весьма позорную известность.
Ночью, когда я въехал в Лукоянов, – мой спутник указал мне крайний дом, довольно скромного вида, в котором сквозь занавеску, несмотря на поздний час ночи, мерцал свет…
– Дом Валова, – многозначительно сказал он. – Послал человеку господь испытание… Старуха мать убивается шибко.
Я с любопытством взглянул в окно, светившее одиноким огоньком на пустую и спящую улицу… Да, что чувствуют там, за этой занавеской, в этом доме, над которым нависла тяжесть всенародного позора!..
Впоследствии оказалось, что никакой особенной вины за Валовым не было, и он стал жертвой своеобразной «уездной политики». В разгар пресловутой «новой дворянской эры» господа дворяне чаяли, как ее завершения, – полного упразднения земства. Вражда к земским учреждениям высказывалась цинично и открыто: один земский начальник А. Л. Пушкин, племянник великого поэта, закрыл собственной властью несколько десятков земских школ, придравшись к «недостаточному кубическому содержанию воздуха». Это «кубическое содержание» господа лукояновские дворяне находили очень остроумным. Платить земские сборы считалось чуть не изменой сословию. Один М. А. Философов, предводитель дворянства, накопил земской недоимки восемнадцать тысяч, и господа лукояновцы только злорадно улыбались, когда, под председательством этого доблестного предводителя, земское собрание билось над мучительным вопросом: откуда взять денег для уплаты голодающим учителям и другим земским работникам.
Под влиянием такого настроения и радужных надежд господа дворяне решили, что будет всего лучше, если в земской управе будут, пока что, стоять «три пустых стула». Эти «три пустых стула» стали лозунгом выборной кампании. При благосклонной и – надо прибавить – совершенно незаконной поддержке губернатора (увы! – все того же H. M. Баранова!) «либеральную партию» в уезде удалось разгромить[15], и вместо деятельных и энергичных прежних земцев в управе (как раз перед голодным годом!) действительно оказались три пустых стула, на коих восседали три ничтожества, дворянские ставленники из купцов. H. Д. Валов смиренно принял из «господских рук» роль первого нуля в опустошенном земстве и, по словам моего спутника, очень гордился милостью к нему дворян. Однако, когда началась продовольственная кампания, когда господа лукояновцы требовали на свой уезд четыре споловиной миллиона и возник вопрос: кто будет распоряжаться закупками: земская управа или земские начальники и предводители, то те же лица, которые провели Валова в председатели и из власти которых он не выходил все время, – решили устранить его и заменить «своим», дворянином. Они выдвинули против Валова тяжелые и совершенно неосновательные обвинения в недобросовестности…
H. M. Баранов еще раз сыграл в руку лукояновских дворян: не выслушав Валова, не попытавшись даже проверить тяжелые обвинения, он «всеподданнейше доложил» изветы его неожиданных противников, и 4 ноября 1891 года появилось высочайшее повеление об устранении Валова. Вместе с тем предписывалось губернскому собранию расследовать дело «на предмет предания Валова суду»…
Предполагалось, разумеется, что данные для предания суду и для обвинительного приговора, несомненно, существуют, иначе губернатор не решился бы испрашивать высочайшее повеление.
Губернское земство очень серьезно отнеслось к своей задаче. Оно командировало одного из своих гласнык, юриста по профессии, А. М. Меморского, в Лукояновский уезд с поручением собрать все материалы по делу и истребовать у обвинителей доказательства злоупотреблений Валова. Привезенный г. Меморским обильный материал дал совершенно неожиданные результаты: вперед обвиненный, отягченный страшным позором человек оказался невинным в каких бы то ни было злоупотреблениях. Губернское земское собрание, более чем наполовину состоявшее из земских начальников и предводителей, высказалось единогласно в оправдательном смысле и, – что всего интереснее, – в этом решении участвовали те самые лукояновские деятели – господа Пушкин, Струговщиков, Приклонский, – которые впервые выдвинули ложное обвинение.
В январе 1894 года Валову объявлено официально, что «высочайшее повеление от 4 ноября 1891 года не будет иметь последствий для его дальнейшей государственной и общественной службы»[16].
– Только тем и виноват, что доверился дворянам, – говорил мне мой спутник, указавший в ночь моего приезда огонек в окне Валова…
И за это более двух лет над ним тяготело позорное обвинение, впоследствии официально признанное неосновательным, а во главе лукояновского земства на место безличного Валова был водворен А. В. Приклонский, открыто заявлявший о своей вражде к земству. Интересно, что созданию этого «порядка вещей» содействовал внезаконными средствами тот самый Н. М. Баранов, которому вскоре после этого пришлось вступить в борьбу с тесно сплоченной котерией мужиконенавистнического дворянства… Но, быть может, еще интереснее, что никому не пришло в голову расследовать виновность тех, кто ложным и непроверенным обвинением вызвал «высочайшее повеление», которое пришлось отменять…
Однако я забежал вперед. А пока скромный городишко, никогда не мечтавший о такой широкой известности, – пустынен и тих. Активная политика отхлынула, рассеявшись по уезду, и где-нибудь в усадьбах, может быть, надумываются новые «мероприятия»; но в городе злобы дня затихли, и единственная новость – скромное торжество в «городском доме» – открытие лукояновской столовой, на которое я получил от городского головы Н. Д. Лукина любезное приглашение… Эта была еще первая столовая, которую мне довелось видеть, и, признаюсь, зрелище показалось мне довольно невзрачным (в то время я не представлял еще себе, каких столовых я сам наоткрываю в уезде и какова будет их обстановка!). Посетители – сгорбленные старухи, старики, убогие, дети – с испитыми лицами и в лохмотьях. По этой жалкой толпе я составил себе наглядное понятие о будущем контингенте моих нахлебников… Так вот кого мы будем кормить в столовых!.. Какой нелепостью сразу же, с первого взгляда представились мне все толки о том, что столовые отвлекают от работы! Кого?.. Вот этих убогих и увечных?
Однако и это жалкое учреждение, открытое первоначально на 49 человек, потребовало немало усилий со стороны городского головы и вызвало целую переписку. Дело в том, что против этой необычной формы помощи существовало даже и в губернии некоторое предубеждение. Если не ошибаюсь, первоначально у нас появились столовые для учащихся, по инициативе местного общества грамотности. Это симпатичное начинание не встретило никаких возражений и, наоборот, вызвало полное сочувствие. Впрочем, виноват: возражение было и шло опять-таки из Лукояновского уезда. На просьбу о содействии, обращенную к земскому начальнику и члену продовольственной комиссии А. Л. Пушкину (племяннику великого поэта!) и сопровождаемую высылкой денег (так были уверены в успехе просьбы) – последовал ответ, насквозь проникнутый тем своеобразным юмором местного лукояновского свойства, о котором я упоминал уже выше. Прочитанный, к великому изумлению присутствующих, в официальном заседании общества – ответ этот сделался затем достоянием печати. Господин Пушкин в шутливом тоне сообщал, что деньги высылает обратно, так как в кормлении учеников не видит ни малейшей надобности… К тому же их вообще слишком много учат, и потому стараниями господина Пушкина число учеников в той школе, где он состоит попечителем, уже доведено с шестидесяти до сорока!..[17]
Затем появились столовые от уделов, и, наконец, известное сообщение Особого комитета, оказавшее громадную услугу делу частной благотворительности, значительно расчистило ей дорогу, в том числе и в форме столовых. Губернатор генерал Баранов бесповоротно отказался после этого от первоначального предубеждения и, наоборот, стремился всюду оказать нужное содействие. Уступая обстоятельствам и как будто еще не собравшись с мыслями, лукояновское попечительство согласилось в принципе допустить столовую сначала в Починках, затем, после изрядной переписки – и в Лукоянове. Мысль о городской столовой, настоятельно необходимой еще с осени, настойчиво проводилась городским головой, который, – заметим кстати, – не имел высокой чести присутствовать в попечительстве и был вынужден являться в качестве простого стороннего просителя. Так как словесные просьбы дела не подвигали, то г. Лукин начал писать. В уездное попечительство он обратился в январе. Казалось бы, можно отпустить деньги для начала и затем потребовать смету и отчеты. Дело такое нехитрое и притом ведь речь идет не о теоретических выкладках, а о голодании живых людей. Но попечительство, – хотя и не канцелярия, – отнеслось к делу совершенно по-канцелярски: оно затребовало предварительную смету и подробнейшие сведения, а затем… «разъехалось» на две недели!.. Нужно заметить, что заседания происходили два раза в месяц, а в промежутках центральный орган лукояновской благотворительности отсутствовал совершенно. Смета господина Лукина идет затем в заштатный город Починки (так как попечительство собиралось поочередно то в одной, то в другой столице). Оттуда – новый запрос – и опять пауза на две недели. А голодные ждут.
Наконец, 1 марта столовая Н. Д. Лукина все-таки открыта. Гораздо более затруднений встретило предприятие того же рода господина Филатова, и, познакомившись с ним, я нашел его в полнейшем недоумении. Дело в том, что понемногу лукояновское попечительство собралось с мыслями и, в противоположность с губернией, окончательно утвердилось в мнении, что задача благотворительного попечительства состоит в посильных препятствиях открытию столовых. Уже 19 февраля на просьбу господина Струговщикова о разрешении новых столовых около Починок – последовало весьма характеристическое постановление: «Так как, – говорится в журнале уездного попечительства, – принятие этого предложения вызовет необходимость в открытии повсеместно столовых, а по невозможности открыть таковые везде вызовет несправедливое распределение благотворительных сумм между нуждающимися (?!), вызывая неудовольствие населения и нарекания на лиц, обязанных наблюдать за правильностью ведения дела», – то «постановили» предложение господина Струговщикова отклонить. Затем решено вблизи Лукоянова столовых не открывать и вообще все это дело поставить под непосредственное ведение земских начальников. Постановление это было весьма предупредительно направлено против попытки господина Филатова, принявшего предложение губернского комитета и представившего смету на шесть столовых. Деньги, присланные на этот предмет господину Филатову, попечительство секвестровало.
Господин Филатов написал об этом члену губернского присутствия И. П. Кутлубицкому, и это письмо несколько для него неожиданно появилось в печатных журналах Нижегородского губернского благотворительного комитета. Таким образом, совершенно невольно, г. Филатов самым фактом принятия невиннейшего предложения и дальнейшим естественным ходом вещей поставлен в некую оппозицию на месте. Таковы бывают неожиданные и часто неудобные последствия запутанной местной политики!
Как бы то ни было, г. Филатов недоумевает и ждет следующего заседания – седьмого марта. До седьмого марта уездное попечительство обмерло: предводитель – в имении, земские начальники – в участках, земская управа – в Починках, да она, вдобавок, ничего не значит. Уезд имеет два центра, но продовольственное дело не имеет ни одного центра, действующего постоянно. Это самым горестным образом испытывают на себе бедняги возчики земского хлеба. По арзамасской дороге, из-за реки Теши в город въезжают возы за возами… Это те самые, обозы, которые я обгонял недавно. Они вливаются в улицы, стягиваются к площади, и… мужики в недоумении суются по городу, останавливают прохожих, расспрашивают… Никто их не встречает, никто не привечает, как будто они никому не нужны…
История этих обозов оказывается тоже довольно интересной. Уездная продовольственная комиссия телеграфировала, что в уезде нет возчиков, и… мирно разъехалась до следующего заседания. Тогда губернатор с обычной быстротой нашел возчиков и сразу двинул эту реку хлеба. Река хлынула, и вот она на площади… Но уездной комиссии нет, ее представителя в городе нет, хлеб принимать некому, деньги за извоз платить тоже некому…
Дело, наконец, уладилось. Получена телеграмма и деньги для расплаты из губернии на имя земского начальника господина Костина. Он должен принять вес эти сотни тысяч пудов и отпустить весь этот народ, заполнивший своим беспомощным недоумением и улицы, и площадь города. Почему именно г. Костин (это один из многих земских начальников, сменявших последовательно друг друга в злополучном первом участке)? Да просто потому, что он в городе, во-первых, и что, как приезжий, переведенный на время из Балахнинского уезда, не участвует в местной обструкционной политике. Но судьба самого г. Костина поистине плачевна: нужно проверять списки, нужно выдавать ссуду голодным, толпами осаждающим его квартиру, нужно самому разобраться в этой огромной и сложной операции, наконец, и судебно-административные дела, связанные «столпами», – глядят на него из угла и тревожат: может быть, здесь есть что-нибудь спешное, безотлагательное, угрожающее. А тут г. Костин внезапно превращается в приемщика сотен тысяч пудов хлеба, который нужно взвешивать, выдавать квитанции, рассчитываться!.. И вдобавок еще – забота о собственном, брошенном участке в Балахнинском уезде… Положение, которому, я уверен, не позавидовал бы даже и земский начальник, виденный мною в Арзамасе. А между тем, закон предполагает другие хозяйственные органы в уезде, – органы, не обремененные вовсе ни судебными, ни административными делами…
Однако читатель, надеюсь, получил уже достаточное понятие о злобах дня, густо насытивших атмосферу столицы уезда… Будет пока о городе, пора и в деревню.
IV
НОВЫЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЫ. – МЕРЛИНОВКА И МЕРЛИНОВСКАЯ ТРАГЕДИЯ. – НА БЕЛЕЦКОМ ХУТОРЕ. – ПЕРВЫЕ СПИСКИ
Под вечер, 2 марта, я выехал из Лукоянова на Федоровский (или, иначе, Белецкий) хутор землевладельцев господ Ненюковых, к новому моему знакомому П. А. Горинову, охотно согласившемуся руководить моими первыми, неопытными еще шагами и оказавшему мне впоследствии большие услуги своим действительным знанием дела и доброжелательной готовностью к помощи.
В 30-х годах водворилась в уезде видная фамилия Лубяновских. Вообще Лукояновский уезд считал в рядах своих помещиков немало блестящих и очень известных фамилий: Разумовские, Репнины, Кочубеи, Витгенштейны… Повидимому, однако, землями над Тешей и Рудней в дальних и глухих краях не особенно дорожили. По крайней мере из этих фамилий до настоящего времени сохранили здесь крупные владения одни Кочубеи, а, например, князь Витгенштейн уступил в 30-х годах уже настоящего столетия пять селений Ф. П. Лубяновскому за какие-то услуги по установлению права владения князя в польских местностях. Новый владелец, по свидетельству знающих людей, был настоящий хозяин дореформенного, крепостного типа. «Вступив в управление имением, – пишет о нем местный автор, о. Г. Г-в, – он прежде всего обратил внимание на быт крестьян, на их житье, стараясь, по возможности, поддержать его и исправить недостатки. Например, не было у крестьянина лошади, – он покупал ему, изба была ветха и плоха, – он обществом заставлял строить» и т. д. Зато «лентяев и пьяниц нимало не жалел, отдавая без разбора целые семьи в солдаты». Одним словом, образ Ф. П. Лубяновского рисуется и в этом описании, и в устных рассказах о нем в виде известной типической фигуры «попечительного помещика» и крепостного благодетеля своих крестьян, входившего во все их нужды. Даже и религиозное чувство народа подлежало этой регламентации и особым «нарядам». «Заботясь о материальном положении их, быть может, даже с излишком, – пишет тот же автор, – помещик обращал внимание и на религиозный быт прихода. Например, вотчинная контора иногда делала наряды, чтобы крестьяне шли к исповеди и причастию или молебствовать по случаю бездождия. Впрочем, – прибавляет автор, – иначе и быть не могло». Крестьянин, как не свободный, не мог располагать своим временем даже и для молитвы: «Издельная господская работа хотя и отбывалась в три дня недели, но бывали случаи, что на нее наряжали не в очередь, и крестьяне не могли отказаться. Потому-то время для говения и указывала вотчинная контора».
Картина, здесь нарисованная, соблазняет очень многих[18]. Стало общим местом, что крепостные времена совсем не знали голодовок. Людей продавали, как скотину, людей гоняли даже в храм божий, как безвольное стадо, но зато люди были сыты, тоже как стадо у хорошего хозяина. Однако многие общие места показывают только, что у нас очень короткая память. Крепостная Россия тоже голодала; голодовки эти под конец крепостного строя становились тяжелее и чаще, и это обстоятельство служило даже одним из аргументов в пользу необходимости реформы. Не пускаясь здесь в подробности этой истории (которые читатель может найти, между прочим, в интересных статьях господина Шафранова о «Неурожаях хлебов в России»[19]), позволю себе привести только один красноречивый отзыв знаменитого адмирала Мордвинова.
«Настоящее дело, – писал Мордвинов по поводу споров о голоде 1822 года, совершенно подобных нашим современным спорам, – может быть изложено в кратких словах:
Голодные просят хлеба на прокормление и зерен на обсев полей… Господин сенатор Баранов, посланный в Белоруссию для дознания нужд жителей ее, предлагает не давать голодным ни хлеба, ни денег на покупку оного. Точные слова его суть: „денежное и хлебное пособие дворянским имениям отнюдь доставлять не должно“. Вместо же требуемого помещиками для прокормления крестьян своих пособия, сенатор сей признает за лучшую меру употребить против них (то есть помещиков), жестокие строгости, с приведением оных в действо без всякого отлагательства…»[20]
Как видит читатель, – это в сжатом виде та же современная история. Только при крепостном праве казна имела дело с дворянами-душевладельцами, просившими пособий для прокормления «своих» крестьян. Теперь же «жестокие строгости, с приведением оных в действо без отлагательства», отрицатели голода желают направить непосредственно против крестьянской массы… Сущность явления та же: массовое голодание и нежелание признать печальную истину. И если прежде голодовки указывали на застой отжившего крепостного строя, то и теперь они указывают на такой же застой, требующий столь же радикального обновления… Закон жизни есть безостановочное движение вперед…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В данном случае от причин, нам неизвестных, имение Ф. П. Лубяновского рушилось вскоре же после смерти первоначального владельца. Наследники в имениях не жили, хозяйство пришло в полное расстройство, на месте неустойчивого благополучия и изобилия появились прорехи, непорядки и разорение. Наконец, лет тринадцать назад огромное некогда и цельное имение пошло с молотка, как безнадежно заложенное в Петербургском банке.
Покупать земли в глухом и дальнем уезде охотников было немного, местное дворянство само перезаложилось и ждало той же участи, и потому имения, разбитые на отдельные участки, пошли «в розницу». Покупщиками явилась целая группа лиц недворянского происхождения, не побоявшихся приняться за реставрацию упавших и запущенных экономий; дело требовало, несомненно, бодрости и энергии, но зато земли достались очень дешево.
Таким образом, в разных местах уезда появились «хутора» новых землевладельцев, – на месте развалившихся усадеб выросли новые дома, провалившиеся крыши заделаны, появились каменные скотные дворы. При первом взгляде на такой хутор вы видите, что это нечто новое, возникающее, еще не вполне установившееся, но растущее, не обомшелое, но уже кое-где приобретающее бытовой тон и слившееся с окружающей местностью, как ее органическая составная часть. А затем новая группа стала приобретать в уезде силу и значение. Так, Влад. Адрианович Горинов, владелец именно такого хутора (Ушаковского) и бывший управляющий хутора господ Ненюковых, – выбран был председателем уездной управы.
Я знаю, что в уме читателя уже встает яркая фигура Колупаева или Дерунова. На сей раз, однако, напрасно, и, говоря по совести, я думаю, что набросанная гениальною кистью, – эта фигура слишком уж выдвинута на первый план в литературе и публицистике и потому несколько извращает настоящую перспективу. Что касается до меня, то, говоря относительно, я не вижу особых причин для предпочтения старого типа землевладельца новому. Если же брать специально тот уголок России, который я стараюсь по возможности правдиво изобразить перед читателем, то здесь еще менее причин для такого предпочтения.
Я знаю, например, что господину Пушкину даже славная семейная традиция не помешала написать известное уже юмористическое письмо о том, что учеников не надо кормить и что их «слишком много учат», а также – употребить «кубическое содержание», как предлог для закрытия школ! Я знаю также, что школы и больницы до самого последнего времени подвергались систематическим нападкам со стороны именно противников «гориновской партии», и падение гориновской управы рассматривалось в уезде, как начало истребления «гориновщины», то есть училищ, больниц и врачебных пунктов…
Наконец… Когда под вечер тройка хуторских лошадей вынесла нас за город, то в нескольких верстах у самого тракта мы въехали в убогую деревушку. На краю деревни черным пятном на снегу выделялось пожарище, торчала труба, печально глядели обгорелые стены какого-то завода.
– Что это? – спросил я, пораженный печальным видом этой руины.
Мой спутник, П. А. Горинов, брат бывшего председателя, улыбнулся как-то многозначительно и сказал:
– Мерлиновка! А это – бывший панютинский завод…
Я с любопытством глядел на утопавшее в сумерках печальное зрелище. Какая тяжелая, грустная, какая, наконец, отвратительная драма витает над этой развалиной…
Вся читающая Россия помнит недавнее еще крушение «нижегородского дворянского банка», и теперь передо мной расстилалась арена одного из самых непривлекательных эпизодов этой банковой эпопеи. 12 ноября 1889 года в этом месте, в пустующем заводе, вспыхнул пожар. Имение принадлежало дворянину Панютину, директору банка, одному из самых видных дворян не только своего уезда, но и всей губернии. В это время уже было известно, что в банке неладно и, между прочим, много говорили о том, что Мерлиновка заложена незаконно в сумме, вдвое превышавшей ее покупную стоимость. Приближались выборы, о неладах в банке начинали толковать газеты, дело всплывало. Залог во что бы то ни стало нужно было очистить от этого незаконного излишка. В это время в имении появился некто Балаков, арендатор. Два бездействующие завода (винный и крахмальный) со всеми строениями были заложены торопливо, с какой-то лихорадочной поспешностью, в сумме, гораздо выше их настоящей цены, и, как только сделка была заключена, над крышей завода взвился в темноте огонь… Огонь не дал себе труда выждать год, месяц, неделю… Никого это, впрочем, не удивило, а сила и значение дворян вообще и Панютина в частности были таковы, что никто не ожидал от этого никаких последствий. Однако через несколько дней как-то внезапно в уезде появился губернский прокурор… Арендатор с приказчиком были арестованы… Затем губерния была взволнована известием об аресте самого директора… Толковали, волновались, негодовали, грозили, хлопотали, но драма развертывалась быстро и до конца: в банке сразу открылись огромные хищения, грубые, шитые белыми нитками, торопливые… Жена Панютина отравилась тотчас после его ареста. Сам он умер в тюрьме от тифа, банк взят в правительственное заведывание…
Затем (уже в 1893 году) в Арзамасе последовал приговор присяжных: поджог признан, признано также участие в нем умершего владельца… «К сожалению, – писали по этому поводу в газетах[21], – как и всегда в подобных случаях, – хроникеру этого периода в жизни нашего края приходится отмечать факты, хотя и побочные, но подчас более некрасивые, чем самое дело, подавшее к ним повод. Провинциальное болото всколыхнулось, и тотчас из глубины его выглянул специфический продукт провинциальной жизни – ложный донос. Теперь, когда все пришло к своему лирическому концу, когда события завершились, стало известно также, сколько гнусностей было написано и послано по этому поводу приверженцами очень сильной еще тогда партии банковских воротил, надеявшихся на могущественное действие тайных изветов. Так, один из лукояновских же землемеров (г. Столыпин), не ограничиваясь прокуратурой и следственной властью, побуждения которых заподозревались вообще самым беззастенчивым образом, – подал ложный донос даже на свидетелей по делу, донос, ныне выглянувший на свет божий…» Но дело шло своим чередом, тайные доносы не могли закрыть явных хищений, представители судебной власти не отступили перед подпольной борьбой и шли своей дорогой… Следствие обнаружило попутно грандиозные злоупотребления, и Панютин сам сознался в подлогах… На месте губернской феерии водворилась трагедия. Когда подлог стал признанным фактом, – поджог сделался по меньшей мере вероятностью, и общественное мнение отвернулось и от Панютина, и от его защитников. Такова печальная история мерлиновского пожарища, мимо которого несла нас наша тройка… Судьбе угодно было, чтобы и эта дворянская драма центром своим принадлежала тому же злополучному Лукояновскому уезду…
Прелестное яркое утро 3 марта застает меня на Белецком хуторе. Расположенный на «вершинке»[22], под лесом, хутор весь занесен снегами. В окно виден снеговой вал, чуть-чуть торчат рядами верхушки плодовых деревьев засыпанного метелями сада, и вдаль тянется березовая аллея, запушенная инеем. По аллее, осторожно ступая по снегу почти вровень с крышей, осторожно пробирается лошадь, запряженная в сани. В санях сидит священник в шубе и «чапане» поверх шубы. Лошадь взбирается на самый гребень вала, раздумывает одну минуту, потом, внезапно решившись, пускается вниз с таким видом, как будто ей предстоит ринуться в пропасть. Через минуту сельский батюшка из села Пичингуш отряхает иней с шапки и с своей бороды и радушно здоровается со мною. Он уже знает, зачем именно я приехал, и, справившись кое с какими делами по соседству, заехал нарочно пораньше, чтобы не упустить меня. Батюшка явился, чтобы походатайствовать о своей голодающей пастве.
Меня это приятно удивляет. Я раздумывал еще так недавно о печальном «отсутствии людей» в Лукояновском уезде, и вот оказывается, что теперь люди сами ищут меня. На хуторе, принадлежащем госпоже Ненюковой и управляемом ее родственником, П. А. Гориновым, меня встретили очень радушно, и я сразу почувствовал себя точно дома. Моих «лукояновских» сомнений и неприятного ощущения одиночества как не бывало. Здесь на дело смотрят просто, готовы оказать всякую услугу… А вот и сельский батюшка с опасностью, если не для жизни, то для саней, пробирается на хутор, через валы и сугробы.
В тот же день, известив письмом господина земского начальника о намерении своем открыть несколько столовых в его участке[23] Теперь (1907 г.) это назвали бы «явочным порядком»., я вместе с Петром Адриановичем и с местным священником составил список в большом селе Елфимове. Оттуда уже вчера вечером приходили крестьяне с просьбой не миновать их села. Составление списка прошло быстро, гораздо скорее и лучше, чем я ожидал. Так как у меня пока денег немного, то я ясно ставлю себе цель – вначале действовать осторожно и подбирать самые крайние слои нужды, которым прежде всего грозят последствия голода. Для первых двух сел мы определили приблизительно цифры около сорока в каждом. Объяснив «старикам» цель своего приезда, мы приступили к делу. Писарь дал нам два списка: один так называемый «посемейный», по которому священник читает фамилии домохозяев по порядку. В другом – я разыскиваю цифры выдаваемой на семью ссуды. Этот последний список носит характерное заглавие: «Список крестьянам села Елфимова, нужда коих действительно граничит с голодом». Цифры ссуды людям, «нужда коих действительно граничит с голодом», невольно обращают внимание. На тысячу шестьсот пятьдесят человек (мужского и женского пола) в селе Елфимове до марта месяца полная ссуда (тридцать фунтов) выдавалась лишь… шести человекам! В марте и эти счастливцы исчезли. Теперь они плакали, спрашивали меня о причине этого обстоятельства. Оказалось впоследствии, что они переведены на даровую ссуду из комитета наследника цесаревича, причем этот случай найден удобным для сокращения им выдачи до пятнадцати фунтов…[24] Вообще, ознакомившись впервые с елфимовским списком, я понял, на что рассчитывала «лукояновская оппозиция», отказываясь от шестисот тысяч первоначальной сметы, и впечатление от ближайшего ознакомления с этим делом становилось все тяжелее… Действовал тут опять «племянник великого поэта», А. Л. Пушкин.
Когда наш список был окончен, я встал.
– Ну, спасибо, старики, что помогли, – сказал я…
– Благодарим и вас, что потрудились, ваше благородие…
Я увидел, что толпа сомкнулась вокруг меня, как будто разочарованная и ожидая еще чего-то… Наконец, несколько голосов заговорило сразу:
– А кто же поможет нам, мужикам-те, прочиим жителям, ваше благородие?..
Я увидел, что здесь есть недоразумение. Село ждало больше от моего приезда, и впоследствии священник передавал мне отзывы нескольких мужиков, что я приехал с пустяками. К сожалению, это была правда: что значили мои сорок человек из тысячи шестисот пятидесяти голодающих, из которых только шесть человек получали по тридцати фунтов. Затем непонятные и немотивированные сокращения ссуды на март и видимое стремление ограничить и эту скудную помощь, все это вызвало целый поток ропота, стонов и жалоб…
Не желая принимать на себя самозванную роль, я постарался рассеять иллюзию елфимовского мира: я не благородие, жалоб принимать не могу, власти изменить эти порядки не имею. Все, что могу сделать, – это… посоветовать обратиться с просьбою к господину земскому начальнику и в продовольственную комиссию.
Мы вышли из сборной избы среди тяжелого молчания…
На следующий день мы опять составляли списки в селе Пичингушах – том самом, откуда ко мне приезжал священник. Здесь картина та же в общем, только значительно более бурная. Мордва народ вообще менее сдержанный, и притом дело здесь усложняется несомненными злоупотреблениями сельских властей. В избе стоит гул жалоб, которых я никак не могу прекратить. На мои заявления, что я не вправе принимать их жалобы, что я приехал только по своему делу для открытия столовой, – мордва находит очень остроумный ответ: мы не вам говорим, мы так, промежду себя… И жалобы, упреки, едкие замечания стоят в воздухе во все время моей работы. Мордва, очевидно, надеется, что приезжий «его благородие» все-таки кое-что запишет…
Здесь впервые пришлось мне узнать, что сам земский начальник даже в таких больших селах, каковы Пичингуши, – лично не был ни одного разу! Но кто же тогда составлял эти списки, послужившие основанием для общей лукояновской сметы и для самонадеянного лукояновского спора с статистикой губернской управы, руководившейся точными данными? Неужели вот этот самый плутоватый староста-мордвин и этот писарек, его сын, которые теперь жмутся, не зная, куда девать глаза под градом упреков, которыми их засыпали ободренные моим присутствием односельцы?.. Да, несомненно, – именно они… Итак, под этим «практическим знанием своего участка» скрывалась все она, старая знакомая статистика волостных и сельских писарей, о которой было столько, по большей части, юмористических разговоров!.. Открытие довольно, признаться, печальное: почти все списки в уезде составлены старостами и старшинами и никем не проверены на местах!
– Князькин Максим, – читаю я по списку.
– Бедный! – иронически кричат со всех сторон. – Пособие получает на всех! Или вот еще Кирдянов, тоже бедный. У одного сын в Елабуге первый приказчик, другой получает двести рублей, без чаю не садится… Кум старосте, вот главная причина.
Я останавливаюсь и смотрю на старосту. Хитрый мордвин потупился, мальчишка писарь испуган. Очевидно, оба раздумывают, могу или не могу я принимать эти жалобы, власть я или не власть…
– Что-о, скажешь, неправда! – кричат мужики. – Неси сюда почтовую книгу, мы тебе покажем, кто у тебя получает… А бедному не нужно!.. Бедный вином не поит, бедному не даете по нападке…
Староста молчит…
Я опять стараюсь прекратить все эти жалобы и опять внутренно должен признать всю их справедливость: ссуды получают богатые и состоятельные, а сокращения ложатся на бедноту… По словам старосты, во всей Маресевской волости с марта никто уже не получает полной ссуды (то есть по тридцати фунтов). Почему? – неизвестно. Вот старуха Еремаева, 74 лет, слепая. Отзыв о ней: «кабы не приютил ее Михайло Тимофеев, должна бы она страдать под небом». Не получает. Почему? – опять неизвестно. Вот Нуйкин Андрей, отставной солдат. Сын ушел без вести («такой лобан, негодяй»), старик еле ходит, остались на руках сноха и дети… Получили в феврале по двадцати фунтов, на март отказано… Вот Паськин Степан. Семья – десять человек. В декабре и январе получал на восемь едоков (четыре пуда), в феврале на шесть, на март назначено полтора пуда. Опять почему? – не может объяснить, даже староста смотрит на этот факт с тупым недоумением. Очевидно, списки, составляемые этими экономистами, подвергаются еще сокращениям в участковом или волостном центре, уже прямо «со-слепу», как говорили мужики, на основании каких-то отвлеченных соображений земского начальника… Все это производит невероятную кутерьму. – У нас тут так набуторено, сам архиерей не разберет., – так обобщил один из стариков общее впечатление этого сельского списка…
V
БУНТОВЩИКИ-ВАСИЛЕВЦЫ
Ясный день с признаками весны. Мы направляемся в «заштатный город Починки» отчасти для того, чтобы прицениться к хлебу для столовых, частью же меня влечет любопытство: по средам и четвергам в Починках – знаменитый в уезде базар, смущавший многих своей грандиозностью и обилием продажного хлеба «в голодающем уезде».
Тройка хуторских лошадей, запряженная гусем, выносит нас из сугробов полевой дороги на простор «починковского» тракта. Здесь мы прежде всего встречаем большое село, Василев-Майдан, населенный «кочубейством». С этой интересной этнографической группой (давними переселенцами из Западного края), резко отличающейся от коренного населения, я еще надеюсь познакомить читателя в дальнейших очерках, а пока остановлюсь на некоторых чертах из истории Василева-Майдана, отмеченных тоже своего рода оригинальной типичностью.
Дело в том, что в этом огромном селе живут исконные «бунтовщики», давно известные в уезде. С самого освобождения крестьян василевцы не платят выкупных платежей (внося, впрочем, государственные и земские повинности), а с 1878 года, когда они переведены на обязательный выкуп, – уплатили всего девять рублей шестьдесят копеек этого сбора. История эта, отчасти рассказанная ныне местным летописцем на страницах «Нижегородских губернских ведомостей», прошла через несколько разнообразных периодов и до настоящего времени мало подвинулась к какому бы то ни было решению. Василевцев убеждали, василевцев приводили к покорности, василевцев секли… А василевцы знают одно: бунтуют, да и только. И бунт, и укрощение бунта равно отмечены чертами несомненной самобытности и даже, если хотите, почти бессознательного юмора. Однажды, лет, если не ошибаюсь, восемнадцать назад[25], за василевцев решили приняться вплотную. Нужно было достигнуть двух целей: во-первых, заставить василевцев фактически принять надел, во-вторых, из этого логически должна была истекать необходимость платить выкупные. И вот в село «нагнали» особо организованную команду сотских, целый сермяжный баталион, который расквартировали на иждивение василевцев, подлежавших усмирению. Меры усмирения состояли в следующем. Рано утром сотские запрягали лошадей в сохи и выводили хозяина. Один из «усмирителей» вел под уздцы лошадь, другие два тащили за сохой ее владельца. В таком виде оригинальный отряд выезжал на надельную землю. Здесь усмиряемых разводили по полосам, затем сошник вставлялся в землю, передний сотский брал опять лошадь под уздцы, двое других клали руки хозяина на рассоху. Видя, что таким образом дело клонится к некоему символу «обработки надела», василевец производил, с своей стороны, некий символ бунта: чтобы доказать, что он «наделу не принимает» и желает бунтовать, невольный пахарь, вместо того чтобы идти за сохой, ложился на землю. Тогда над «бунтующим» тотчас же открывалось заседание волостного суда, который, по распоряжению «энергичного» губернатора, выезжал для этого на василевские поля. Живо составлялся соответствующий приговор, который тут же, пользуясь удобным положением бунтовщика, и приводили в исполнение: василевца драли, потом поднимали под руки и опять ставили к сохе, а он опять ложился. И так далее. При этом, и ложась, и поднимаясь, василевец имел сомнительное удовольствие видеть кругом, на нивах, своих односельцев-мирян, «бунтовавших» с таким же благодушием и усмиряемых с таким же успехом… К вечеру и усмиряемые-василевцы, и усмирители-сотские возвращались с оригинальной работы домой и более или менее мирно садились за общий ужин…
Сколько времени длились эти экзекуции, – сказать трудно, во всяком случае «бунт» продолжается до сих пор. Откуда и как он начался? Быть может, удастся в архивах разыскать письменную историю этого истинно русского «возмущения». Теперь же приходится довольствоваться седыми и, надо сказать, почти легендарными преданиями. Имение некогда принадлежало очень крупному землевладельцу Лубяновскому, о котором говорилось выше. При выкупе произошли пререкания. Крестьяне, сначала не соглашавшиеся на предложенные условия, вынуждены были впоследствии мириться с худшими. Как передают они сами, им отвели в надел, пеньки из-под вырубленной лесной площади, вместо удобной земли. Правда ли это, или нет, – не знаю. Во всяком случае вышла какая-то путаница и замешательство, которые крестьяне понимают именно в этом смысле. Далее темное предание говорит о каких-то двух таинственных личностях, которые, будто бы, явились в село, оставили тут «золотую грамоту» и уехали. Уехали и потонули «в тумане минувшего». А василевцы грамоту прочли, поняли из нее, что помещику уступать не следует, и на том себя утвердили. И с тех пор «бунтуют».
Были ли на самом деле эти два таинственных незнакомца, или их вовсе не было? Признаюсь, после того, как мне пришлось ознакомиться с некоторыми чертами лукояновской истории вообще, – я сильно сомневаюсь в реальности этих фигур. В глухих местах бродят слишком часто разные призраки, своего рода олицетворения таинственной путаницы, в которой некому разобраться. К тому же в лукояновских уездах, кажется, слишком уж склонны к изобретению таких удобных незнакомцев…
Автор статьи в «Губернских ведомостях», о которой я говорил выше, приводит еще одну своеобразную черту василевской истории. В некоторое время в обществе явился раскол: одна часть крестьян, которой надоело бунтовать, решила покориться и выказала готовность платить. Тогда… это совершенно естественно – местной полиции представился случай обнаружить распорядительность. И недоимки стали поступать все успешнее, пока… не остановились вовсе. Оказалось, что к поддавшимся василевцам была применена круговая порука, и с них стали брать, что было можно, за остальных. Увидало тогда меньшинство, что «бунтовать» во всяком случае выгоднее, и опять перестало платить.
Каковы же, однако, сами эти «бунтовщики» в остальных отношениях? Местный священник, благочинный Г. Н. Гуляев, пастырь непокорного стада (и притом, – позволю себе прибавить, – пастырь в истинном значении этого слова), рекомендует их, как отличных прихожан, смирных и кротких людей. Не правда ли, это опять неожиданная черта во всей этой оригинальной истории?.. Как бы то ни было, по пословице: «добрая слава лежит, худая бежит», василевцы пользуются своей бунтовской репутацией не только в уезде, но и в губернии. Годы этого «бунта» и этих усмирений легли бременем на василевцев, хозяйство расшатано, валится кое-как, через пень-колоду, и василевские нищие ходят с сумами далеко по окрестностям даже в обыкновенные годы.
Как же избавиться от этого хронического недоразумения? У лукояновской продовольственной комиссии явилась на этот счет своя «идея», заимствованная, очевидно, у почтенного Мымрецова: василевцев решено «не пущать», и с 1873 года им не выдают паспортов на отхожие заработки. Теперь они вновь обратились в уездный съезд земских начальников с просьбой, ввиду неурожая, разрешить им отход на промысла, но 9 октября земский начальник известил волостное правление, что в этой просьбе съездом отказано. Года за два василевцев вдобавок посетил страшный пожар (пламя «слизнуло» почти все село целиком). За пожаром пришел и голод, и вот эта минута сочтена удобной для окончательного усмирения. Предполагалось лишить бунтовщиков огня и воды, не выдавать ни паспортов, ни зерна ссуды… Боже мой, но ведь они уже доказали свою закоренелость и теперь могли добунтоваться прямо до голодной смерти!
К счастью для василевцев и к чести губернских властей проект отвергнут, выдача паспортов разрешена губернатором, и рука помощи не минула непокорного села. Несколько лет назад кто-то, кажется именно кто-то из бывших земцев, человек простой и умеющий говорить с мужиком по-человечьи, убедил василевцев, что их положение не ухудшится, если они станут пахать надельную землю. И они стали пахать, но выкупных все-таки не платят, тем более что не имеют надежды уплатить всю накопившуюся годами недоимку… Таким образом, первая половина программы, над которой так долго и тщетно трудилась некогда почтенная команда кутайсовских сотских, все же исполнена. Теперь вдобавок василевец видел руку помощи, протянутую к нему среди невзгоды. Послужит ли это к прекращению «бунта»? Едва ли, конечно, если не будет сделана попытка устранения коренных причин неурядицы…
VI
«ЗАШТАТНЫЙ ГОРОД». – «СТОЛОВАЯ». – ОПЯТЬ «СПОКОЙСТВИЕ УЕЗДА». – БАЗАР И ПАРАДОКСЫ ГОЛОДНОГО ГОДА
«Заштатный город» Починки был настоящим городом при Екатерине. В архиве одной из местных церквей недавно найден документ, в котором протоиерей Георгий Алексеев описывает сильными чертами «бывший в 1795 году мая 3 дня происходивший в первом, во втором и в третьем часах пополудни превеличайший, престрашнейший пожар в городе Починках, в котором по сгорении собора, двух церквей, духовного правления, соляных амбаров, полиции, цейгауса и разного строения до шести сот дворов, оказалось, что в огненном пламени жизнь свою положили два священника, Александр и Иоанн, и крестьян обоего пола тридцать человек, да обжегшихся по причине отвсюду разлившихся пламени с ветром и вихрем человек до сорока… В которое время и я, грешный протопоп, хотя опален был огнем, однако богу, давшему мне силу и способность, благодарение: ибо между самого горящего строения пробежав к реке Рудне, жизнь свою спас»[26].
Надо думать, что именно этот пожар решил участь Починок и обратил их в село. Однако Починки не забывают прошлого и предпочитают именоваться «заштатным городом». В нем помещается уездная земская управа, происходят собрания земства и – один раз в месяц – заседания уездной продовольственной комиссии. Таким образом, Починки по праву могут считаться второй столицей Лукояновского уезда, и, говорят, отсюда, собственно, исходит то, что впоследствии стали называть «лукояновским духом».
Дух этот чувствуется здесь и сильнее, и гуще. В Починках господа лукояновские дворяне собираются охотнее, чем в Лукоянове, тут им и уютнее, и свободнее. Здесь, в особом доме помещается канцелярия предводителя дворянства, М. А. Философова. Здесь же пребывает и действует коллежский советник Ильин, письмоводитель предводителя, он же секретарь воинского присутствия, он же непременный член всех учреждений, куда только может проникнуть ловкий человек, считающийся «правой рукой» самого предводителя. От усиленных приемов какого-то лекарства лицо его приобрело темносиний цвет, и потому его зовут «синим письмоводителем». Кличка, отчасти напоминающая «Синюю бороду», звучит чем-то таинственным и грозным. И действительно, это особа грозная для злополучных сельских властей. Если господин Философов получил свою опереточную диктатуру от генерала Баранова, то диктатура, которою облечен его письмоводитель, является уже далеко не опереточной для крестьянского населения. Он облагает это «подвластное население» данями и пошлинами, которые порой официально требуются канцелярией предводителя. Так, он открыто взимает с волостных правлений плату за призывные бланки, которые по закону рассылаются даром. Он обложил пятикопеечным сбором всех призывных, вынувших дальний жребий, наконец, от времени до времени, раза два-три в год он циркулярно рассылает по волостным правлениям билеты на лотерею, на которой разыгрываются какие-то неведомого происхождения муфты, ротонды и тому подобные предметы… «Приказано брать и берешь», – со вздохом говорят старосты, которым «синий письмоводитель» предоставляет редкий случай выиграть дамскую муфту или шляпку городского фасона. Господа лукояновские дворяне усердно закрывали школы и больницы. Нельзя, однако, не признать, что наряду с этим канцелярия их представителя стремилась ввести в деревню «городскую культуру»…
Дом, где помещается канцелярия предводителя, принадлежит крестьянскому обществу, у которого он был снят в аренду. Любопытно, однако, что общество ничего не получает за это помещение: «письмоводитель», заплатив за первый год, затем прекратил это баловство, а всякому, кто заикался о правах общества, умел зажать рот и дать почувствовать, что, с наступлением «новой дворянской эры», оспаривать завоевания «первенствующего сословия» довольно неудобно.
Впоследствии, отчасти благодаря «голодному году», все это выплыло на свет божий. Один из земских начальников, г. Бобоедов, состоял в открытой вражде с господином Философовым и «уездной продовольственной комиссией». По этому самому он пользовался поддержкой «губернии». Во время одного из объездов своего участка он наткнулся на следы незаконных поборов со стороны канцелярии предводителя. Простодушные старшины, как оказалось, заносили их в официальные книги! Началось дело, и, наконец, в октябре 1894 года коллежский советник Ильин предстал перед судом. К удивлению публики, собравшейся на заседании суда, на скамье подсудимых оказался уже не коллежский советник Ильин, а рясофорный инок Арзамасского Высокогорского монастыря. Почтенный отшельник не отрицал незаконных сборов и, нимало не щадя своих покровителей, доказывал только, что незаконные сборы были заведомым обычаем в лукояновских дворянских учреждениях. Суд вынес смиренному монаху обвинительный приговор, отчасти, быть может, смягченный тем, что подсудимый уже удалился от греховного мира[27]. Во всяком случае коллежский советник Ильин сошел со сцены, а крестьянскому обществу удалось отвоевать свой дом, чуть не перешедший, благодаря давности владения, в собственность первенствующего лукояновского сословия…
Однако вернемся к прерванному повествованию…
В Починках (если не ошибаюсь, по инициативе госпожи Е. Н. Струговщиковой) открыта огромная столовая на двести пятьдесят человек. У двери ее – целая толпа: нищие, нищенки, старики, старухи, дети. Это еще не попавшие или не имеющие надежды попасть в столовую. Вот захожий странник, сгорбленный под котомкой, с посохом в руке, с огромной бородой и острыми, внимательными глазами. Много исходил он свету, но, видимо, здесь наткнулся на новое, еще невиданное учреждение и исследует его своим, наблюдательным взглядом, оценивая шансы поживиться и на свою странницкую долю. А вот и простодушные лица детей… Они плохо сознают, что происходит кругом. Они только голодны и смотрят на хлеб бесхитростными, грустными, широко открытыми глазами.
Ни наружного вида, ни подробностей организации этой столовой я описывать не стану. Все это уже известно читающей публике из брошюры Л. Н. Толстого и многих других описаний. Все столовые более или менее повторяли в главном свой первообраз. Здесь же я напомню только, что самое возникновение этого «опасного» учреждения в средоточии лукояновской оппозиции – следует считать результатом минутной слабости уездного попечительства. На дальнейшие просьбы о разрешении новых столовых оно отвечало уже решительным отказом, – «для избежания нареканий на лиц, заведующих продовольствием в уезде».
Теперь несколько слов о знаменитом базаре.
Впрочем, и тут я не стану повторять всем известных описаний сельского базара: скажу только, что базар в Починках, действительно, огромный, а к весне, перед началом распутицы, на нем стали появляться сотни возов овса…
Вот в этом все дело; овес есть все-таки хлеб. Итак, в голодающем уезде на базаре появляется хлеб. Это зрелище поистине соблазнительное, и вот почему «починковский базар» стал вдруг фигурировать во всех донесениях из Лукояновского уезда и каждый раз, как кто-либо из «губернии» приезжал, чтобы «увидеть голод» в уезде, господа лукояновские деятели вели его на этот базар: смотрите! И приезжие из губернии по большей части смущались: в самом деле – продают, покупают, толпы народа, сотни возов овса!
По этому поводу я опять позволю себе небольшое отступление.
Был ли, в самом деле, у нас голод, был ли у нас подлинно страшный неурожай, была ли необходимость в помощи населению двадцати губерний? Повидимому, совершенно праздный вопрос! Однако, положа руку на сердце, знаем ли мы теперь правду о голоде? Можем ли мы, – читающая, мыслящая, рассуждающая и даже «командущая» часть русского общества, – можем ли мы сказать, что имеем окончательное и бесповоротное мнение по этому вопросу, знаем это так, что уже не остается места ни колебаниям, ни сомнениям, ни спорам? Было ли нашествие двунадесяти язык в 1812 году? Да, было, в этом мы все уверены совершенно. Но когда отодвинется несколько трудный наш год, когда «голод» сойдет с газетных столбцов, когда закроются все комитеты и прекратятся официально разрешенные сборы, – скажем ли мы тогда с такою же уверенностью: недавно на Руси было великое бедствие, которое должно нам послужить уроком. Или же факт останется опять в области спорных вопросов? Одни станут говорить: «был голод», а другие – «была только либеральная или какая-нибудь другая интрига».
Кто-то, кажется г. Авсеенко, в одном из своих романов сравнил нашу русскую жизнь с гороховым киселем: как глубоко ни хлестни по этому киселю, – борозду мигом затянет, и никакого следа не будет… Нет, следы, конечно, будут, следы не могут не остаться в самой глубине народной жизни, но наверху, в сознании «господствующих» слоев общества, возможно и то, и другое…
Прежде всего, признали ли мы единодушно существование бедствия теперь, когда собираем пожертвования, говорим, открываем столовые и раздаем ссуды? Вот небольшой, но характерный факт. Уже в Лукоянове я получил письмо от лица, живущего в Нижегородской губернии, в уезде, постигнутом неурожаем. Письмо следующего содержания: «Посылаю вам сорок пять рублей, полученных со спектакля в пользу голодающих. Живо представляю себе ваше удивление, а может быть и иное чувство, перед нашим личным неумением оказать помощь непосредственно… Но ведь так трудно разобраться во всех этих фактах. Вот я, например, видел печеный хлеб из N-ской волости. Глядеть жутко; какая-то тяжелая, клейкая масса из разной дряни. Но через несколько дней меня уверяют, что это был обман: нарочно испекли для начальства! К одному из земских начальников являются и говорят, что умирают с голоду. Он едет в деревню, посещает подряд дома и привозит отличный ржаной хлеб и порядочный пшеничный. Я сам отведывал»… и т. д.
Я попрошу читателя пока заметить одну характеристическую черту: «посетил подряд дома и привез порядочный хлеб»… Подряд из всех, или из половины домов, или из одного-двух, – об этом даже не упоминается. Нашел хлеб, может быть, в одном доме… И довольно!
Далее. Не так давно, в Нижнем, меня встретил на улице знакомый помещик и обрадовал известием, что «голода решительно нет».
– Помилуйте, сам думал, что есть, но теперь имел случай убедиться. И разубедил меня мужичок, односелец. Считался бедняком, получал ссуду, и я сам знал его, как бедняка. Что же вы думаете, недавно приходит ко мне покупать лошадь. «Да откуда же у тебя деньги?» – «А сколько надо?» – «Тридцать пять рублей…» – «Извольте!» – Заворачивает полу и, к моему удивлению, вынимает тридцать пять рублей. Вот вам и голодающий!
А шедший со мной чисто уже городской скептик прибавил:
– Вот видите, а ведь это помещик и видел сам.
Этот прием мы уже несколько знаем: это «массовые выводы из единичных наблюдений». Один-единственный факт, который человек видел сам, сразу закрывает для него тысячи фактов, обставленных какими угодно достоверностями, но о которых он только «читал в книге» или которые видели другие. А вот и еще: мне пришлось купить у мужика 275 пудов хлеба для столовых по одному рублю семьдесят копеек. Цена ужасная, и уже ее одной достаточно, кажется, чтобы представить себе положение массы людей, вынужденных покупать хлеб по такой цене. Но это сообщение общего характера и потому редко привлекает внимание. А вот то обстоятельство, что хлеб куплен у мужика, тотчас же кидается в глаза.
– У мужика – двести семьдесят пять пудов! Ну, какие же они голодающие!
Я был изумлен неожиданностью заключения, но теперь уже не удивляюсь. Вот другой пример в том же роде: едем деревней. День морозный, на току раздаются гулкие удары цепов. Молотят рожь, разбирая для этого старые одонья.
– Кто молотит?
– Мужик.
– Чей хлеб?
– Свой.
И вот опять повод для изумленья: какие же они голодающие?
Если вскрыть этот весьма ходячий и весьма простой силлогизм, то он представится в следующем несложном виде: «Кто продал хлеб для столовой?» – Мужик. – «Кто будет обедать в столовой?» – Мужик.
Итак, мужик продавал свой хлеб и мужик идет в даровую столовую. Мужик молотит старые одонья и мужик просит ссуду. Обманщики!
Однако стоит только немного договорить:
– Тот самый мужик, который продал хлеб, пойдет в столовую? Вот в том-то и дело, что не тот самый, что хлеб продал Федот, а в столовую пойдет Иван, а если и Федот так не тот, а другой… В том-то и дело, что «мужика», единого и нераздельного, просто мужика – совсем нет; есть Федоты, Иваны, бедняки, богачи, нищие и кулаки, добродетельные и порочные, заботливые и пьяницы, живущие на полном наделе и дарственники, с наделами в один лапоть, хозяева и работники… В том-то и дело, что нам народ кажется весь на одно лицо, и по первому мужику мы судим о всех мужиках. Когда мы с ним кокетничали, когда у нас были в моде славянофильство и народность, тогда стоило первому трактирному половому, первому прасолу изречь какую-нибудь более или менее характерную сентенцию, – и мы уже кричали: вот что думает, вот как судит мудрый русский народ… ну, хоть о либерализме. И этого было достаточно, чтобы умилиться перед «народною мудростью» и чтобы посрамить либерализм на основании столь высокого авторитета. Теперь время другое, и, увидя у первого кабака первого пьяницу, мы уже готовы кричать: «Вот он, русский народ! Пьяница и оболтус! Русский народ спился, русский народ не голодает, а пропивает ссуды…»
– Ах, вы из уезда? Ну, что, скажите: видели голод?
Вдумайтесь в тон и смысл этого вопроса, и вы опять увидите под ним представление о чем-то едином, простом, цельном и несложном, как статуя. – Видели монумент Пушкина на Тверском бульваре? – Да, видел. Действительно, стоит на Тверском бульваре, и откуда ни зайди, – отовсюду ясно, что это именно монумент, единый и цельный, отлитый из металла. – А голод? Нет, помилуйте, где он?
Так разговариваем мы в губернском городе, в крае, постигнутом неурожаем, с приезжими из уездов. И сколько людей – столько ответов, и все слагаемые, которые мы, – по крайней мере, значительная, если не большая часть нашего общества, не умеет суммировать. «Иван Иванович видел настоящий голод в такой-то волости: сидит в печальной позе и проливает горькие слезы». – «Помилуйте, да Семен Семенович сам был в этой волости: никакой там голод не сидит и слез не проливает, а наоборот – „народное пьянство“ распевает разгульные песни. Он сам видел, как мужик Семен Гордеев валялся пьян на улице». – А стоит губернскому жителю явиться в столицу – и там накидываются на него, как на настоящего эксперта из голодающей губернии. – Скажите, наконец, правду: есть голод?.. – Я у себя в губернском городе не видал… – Не видали, странно…
Теперь возвратимся к починковскому базару. Огромная площадь, толпа народа. Ряд деревянный, ряд «красного товара», ряд железный, конный, наконец – возы овса. Представьте себе теперь, что на такую площадь попадает «исследователь» с такими же представлениями о голоде, с таким же представлением о мужике, как о едином и всегда себе равном субъекте, всегда «на одно лицо» и с одинаковыми свойствами. И вот вместо пустыни, по которой бродят одни только истомленные скелеты, такой наблюдатель видит базар, а на базаре возы, а на возах овес. Боже мой, как не обрадоваться этому открытию! И он едет в губернию с отрадным известием: «сам видел возы с овсом!» А «практики, знающие близко народную жизнь», пожимают плечами: «Мы говорили! Охота верить статистике или газетчикам!..» И при этом непременно забудут, что сами тоже еще недавно били тревогу…
Я уверен, что эти истории, и именно так, происходили по всей неурожайной полосе и что они посеяли много сомнений. У нас, по крайней мере, починковский базар расплодил их бесчисленное множество.
Вот почему стоит немного остановиться на этом явлении.
Господа, «знающие близко народную жизнь», сделали открытие: в уезде есть овес! Однако если бы они предварительно ознакомились в самой лишь необходимой мере с тем, что для них знать было обязательно, то они увидели бы, что другим это давно было известно. На странице XVIII изданного губернской земской управой труда «Урожай 1891 года» они нашли бы даже точную цифру: на одних крестьянских землях чистый сбор овса по уезду показан в 70½ тысяч четвертей, или 423 тысячи пудов. Прибавьте к этому овес из экономии, запасы крупных и мелких торговцев, разложите все это на возы, и вы получите такой обоз, которого хватит не на одну починковскую базарную площадь… Таким образом, со своим шумным открытием «практическое знание народной жизни» стучалось в давно открытую дверь и открывало давно открытую Америку.
Однако в работах статистиков есть и другие цифры. В официальном «Сборнике центрального статистического комитета» (Урожай 1891 года) вы увидите в таблице, показывающей сбор ржи (табл. III), красноречивую цифру 00 против Лукояновского уезда. Сборник губернской управы дает цифру несколько высшую, но во всяком случае – совершенно ничтожную…
Итак, статистика ясно говорит господам, «знающим практически народную жизнь»: у вас есть овес и нет ржи, поэтому население станет продавать овес и спрашивать рожь. И действительно, овес выезжает на базары и становится рядами телег, а место ржи занимают мешки с лебедой… Но господа практики чему-то удивляются и почему-то торжествуют…
Теперь статистика продолжает: но вашего овса не хватит на покупку необходимого количества ржи. Расчет очень простой: у вас 168 тысяч человек в уезде. Считая весьма умеренно по пуду ржи на человека, нам нужно 168 тысяч пудов в месяц, а до 1 марта (когда происходит этот разговор), – нужно было бы 1 200 000 пудов. Вы выдали до этого времени всего 69 тысяч. Итак, свыше миллиона пудов ржи население должно выменять на свой овес. Для этого (считая два пуда овса за пуд ржи) необходимо более двух миллионов пудов овса. А у вас его только 423 тысячи! Это-то мы и называем нуждой.
Результат очевиден. К весне, когда тайные и явные, скрытые и открытые запасы хлеба уже исчезли, – овес с лихорадочной поспешностью вывозится на базары. Статистика видит в этом исполнение своих предсказаний и рекомендует увеличение ссуд, чтобы помочь бедному овсу, изнемогающему от обилия предложения и теряющему цену, в то время как гордая рожь становится все недоступнее и дороже… А господа практики в базарном изобилии овса усматривают признак довольства и… сокращают ссуды!..
Дальнейшее еще более понятно. Овес напрягает последние усилия, и семена в свою очередь наводняют рынок. Статистика скорбит, «практика» еще более торжествует, в деревнях едят лебеду и… мрут «натуральною», только отчего-то ужасно возрастающею смертностью… А овес все плывет на базары, и когда подходит время посева, то оказывается, что теперь необходимо уже выдавать в ссуду овес на обсеменение полей, покупая его по дорогой цене у скупщиков, которые подобрали его очень дешево в период базарного изобилия!
Вот каковы эти «голодные парадоксы», и вот как трудно приступать к ним с одним глазомером, с одною решительностью, с презрением к истинному знанию, основанному на наблюдении и обобщении, с одним невежеством, состоящим в незнании собственного незнания…
И вот откуда эти колебания и сомнения, – был ли у нас голод: каждое отдельное наблюдение (сам видел) обобщается и опрокидывает первоначальные представления, а статистика частью заблаговременно уже искоренена, частью же находится не в авантаже… У нас, в губернии, она не искоренена и сделала свое дело там, где ее захотели слушать. И, однако, достаточно было немотивированного мнения лукояновских «знатоков народной жизни», чтобы точная и несомненная смета уступила в уезде место фантазиям, основанным, как мы уже видели, на ученых трудах волостных писарей и «живых наблюдениях» по кабакам и базарам…
Отчего это так вышло, об этом мы поговорим еще в главе об организации продовольственного дела.
Часа в четыре мы выехали из Починок. Базар поредел. Едем тихо: на дороге много «обгону», пристяжка то и дело вязнет в глубоком снегу… Пьяных, как и на базаре, не видно; не слышно песни: возвращаются налегке, – видно, что продавцов на базаре больше, чем покупателей.
Вот на дороге остановка: распряженные сани с незначительной кладью, на санях сидит мужик, на снегу лежит лошадь, положив, как собака, голову на передние ноги, и по временам тяжело, глубоко вздыхает… Возы осторожно объезжают застигнутого бедою мужика, наши лошади пугливо жмутся и, объехав, подхватывают сразу, убегая в панике от молчаливой драмы, понятной даже и лошадиному сердцу.
Я оборачиваюсь назад. Неуклюжая починковская колокольня еще видна над снегами, по дорогам тянутся черными точками возы разъезжающегося базара… В лицо дует холодеющий ветер… К ночи еще будет мороз. Две-три ночи теплых, – и дороги станут непроезжими, и уже трудно будет доставлять хлеб туда, куда – по ошибке ли, или по принципу, вольно или невольно, – не успеют доставить его раньше.
Вот опять красивая перспектива непокорного Василева-Майдана, с церковью на высоком холме… Вечерняя заря угасает за синеющими снегами. Ветряные мельницы стоят, рисуясь на золоте заката, не шелохнув крылами, точно в самом деле мертвые великаны. Ямщик развлекает меня рассказом о том, как ныне дешево можно жениться, да кстати, не подозревая этого, разрешает еще один парадокс голодного года. Говорят, в уезде много свадеб. Это опять фактически неверно: свадеб меньше, но все же женятся. И что всего страннее: женятся бедняки. Ямщик бесхитростно разрешает загадку: девки дешевы. В тех местах за них берут «кладку» рублей по пятидесяти, по сто. Теперь можно взять девку из хорошей семьи за бесценок, только с хлеба долой. Подумывал было сына женить, – теперь не женишь, потом опять вздорожают.
– Так что же?
– Неохота ее-то по миру пускать… Первый-то год лелеем мы все-таки их, а тут в доме, кроме лебеды, ничего! Нехорошо!
Так вот комментарий к этому «обилию свадеб», которое тоже приводилось, в качестве аргумента, в пользу «благосостояния уезда» и которое, вдобавок, по точной справке, оказывается такой же уткой, как и усиление пьянства, как и хорошая торговля[28].
VII
НАКАНУНЕ СРАЖЕНИЯ. – ГУБЕРНСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ И УЕЗДНОЕ «ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО»
Шестого марта, то есть уже на следующий день после описанного в прошлой главе базара, – я тащился по рыхлой дороге в Лукоянов, с чувством той неопределенности и как будто тоски, которая обыкновенно сопровождает первые шаги в незнакомом месте и по незнакомому делу. На следующий день, в «конспиративной квартире» предстояло заседание, о котором в уезде носились глухие толки. Возвращаясь вчера с базара, я встретил две тройки, увязавшие в снегу. Ямщики были украшены бляхами, обозы торопливо сворачивали с наезженной колеи, и мужики обеими руками сволакивали с голов свои шапки. Мне объяснили, что это местное начальство всяких рангов выезжало на границу уезда встречать губернатора. Тревога оказалась фальшивой: губернатор остановился «на Ваду», недалеко от лукояновской границы, в Арзамасском уезде. Дороги быстро портились, и потому на сей раз все дело ограничилось этой диверсией со стороны губернии. Зато говорили, что со стороны уезда готовится какой-то новый и уже генеральный сюрприз по адресу губернии, имеющий разразиться в ближайшем заседании. Это, конечно, подстрекало в значительной степени мое любопытство, но мое звание «писателя и корреспондента» внушало моим новым знакомым сильные сомнения («неужто допустят?»). Фантасмагория, которую я уже описывал («на границе уезда»), – все еще продолжалась, и это придавало моей поездке в Лукоянов, на склоне зимнего дня, 6 марта, некоторый интерес своего рода «политической» пикантности, которая во мне лично, признаюсь, возбуждала в гораздо большей степени ощущение весьма понятного любопытства, нежели удовольствия. Такие своеобразные упражнения уездных политиков гораздо приятнее наблюдать со стороны, не становясь в то же время лично мишенью для этой политики…
Как бы то ни было, в серый денек, около трех часов, почтовая пара втащила меня на обнажившийся уже из-под снега пригорок, на котором стоят знакомые читателю «номера», и тот же знакомый читателю молодой человек с цветущею физиономией встретил меня с каким-то таинственным видом.
– А ваш номерок угловой-с… занят.
– Кем?
– Члены по продовольственной части-с… Из Москвы, из Петербурга и из Арзамасу…
Как ни было мне досадно, что мой номерок оказался занят, но я очень обрадовался, узнав, кто эти члены: это были Александр Иванович Гучков с братом и на время приехавший из соседнего уезда земский начальник г. Штевен.
А. И. Гучков – сын московского фабриканта, «почетный судья города Москвы», кандидат Московского университета и вольнослушатель университета Берлинского – очутился в дальнем уезде Нижегородского края благодаря случайностям голодного года. Узнав, что в России голод, он приехал из-за границы и обратился к генералу Баранову с просьбой дать ему какую-нибудь работу на месте, в деревне. Долгое время, однако, генерал Баранов удерживал его в Нижнем. Затем он, вместе с статистиком Д. И. Зверевым, принимал участие в объезде по ревизии продовольственного дела в группе И. П. Кутлубицкого, которая впервые и обратила внимание на некоторые своеобразные стороны продовольственной деятельности лукояновской комиссии[29]. Впоследствии, когда обстоятельства развертывались в своей логической последовательности, – г. Гучков оказался в положении довольно оригинальном: почетный мировой судья города Москвы и вольнослушатель Берлинского университета очутился заведующим продовольственным участком. Сначала генерал Баранов незаконно отнял продовольственное дело у земства и передал его земским начальникам. Теперь он отнимал его у одного из земских начальников и передавал «вольнослушателю Берлинского университета». Обстоятельство это на сей раз оказалось для участка довольно благодетельным, так как земский начальник Ж-в распоряжался очень недобросовестно… Но законных оснований для этих последовательных передач, конечно, не взялся бы разыскать самый тонкий знаток земского положения и продовольственных уставов…
С А. И. Гучковым приехал его брат, уехавший, впрочем, дня через два, и К. Г. Рутницкий, уполномоченный от Особого комитета. Таким образом, мое одиночество кончилось. Я был уже не единственным заезжим представителем «столового принципа» в воюющем уезде, – и в тот же вечер мы смеялись вместе над своим положением накануне объявления войны: если лукояновская держава тотчас же по объявлении независимости пожелает, подобно державе турецкой, заключить нас, бедных посланников благотворительного комитета, в какой-нибудь семи- или четырехбашенный замок, – то, по крайней мере, мы будем в приятной компании…
Бывают такие странные вопросы. Всем кажется до времени, что они давно решены окончательно и бесповоротно и в этом виде, как бы окончательно и навсегда решенных – ни в ком уже не возбуждают они ни сомнений, ни интереса. И так десятки лет они дремлют в глубине нашей и вообще-то не вполне определившейся жизни, пока сила обстоятельств не вызовет их из области теоретических отвлечений на арену практической действительности. А тогда они внезапно пробуждаются, но, к удивлению, не в качестве давно решенных и бесспорных, а, наоборот, во всей первоначальной свежести и неприкосновенности… То, что казалось непререкаемым, встает вновь в виде проблемы и вопроса, около которого вновь закипают давно замолкшие споры, разногласия, раздоры, и это в то самое время, когда уже необходимо действовать, а не спорить и препираться…
Таким, между прочим, явился и вопрос о праве частного благотворения в голодающих местностях: местные начальства решали его самым различным образом, по губерниям и даже по уездам… В одной губернии или уезде все имущие и желающие люди призывались к работе, и частная инициатива встречала одобрение и поддержку; в другом – она только терпелась, в третьем – не допускалась вовсе; наконец, некоторые уголки нашего обширного отечества, как это известно из газет, прославились тем, что частным благотворителям, явившимся туда для непосредственной помощи населению, было предложено «оставить пределы губернии»…
Как уже было сказано, ген. Баранов сначала стоял на той же запретительной точке зрения. Так, например, из журнала губернской продовольственной комиссии от 17 ноября 1891 года мы узнаем, что «…существует в уездах и городах губернии наклонность у отдельных лиц и негласных кружков собирать пожертвования и раздавать их голодающим самостоятельно… Вследствие этого генерал Баранов предполагает (если, впрочем, намерение это будет одобрено комиссией) – сделать распоряжение, чтобы никто без специального разрешения не имел права собирать пожертвования в пользу пострадавших от неурожая и раздавать эти суммы помимо с этой целью организованных учреждений. Вместе с тем он признает необходимым воспретить лицам, желающим получить помощь, обращаться непосредственно в какие бы то ни было учреждения… помимо своего ближайшего и непосредственного начальства» (курсивы наши)[30]. Затем первое предложение об открытии столовой на частные средства было встречено очень сухо. Генерал Баранов находил необходимым установить наблюдение, чтобы кормление в столовой было не хуже, но и не лучше выдаваемого остальным нуждающимся казенного пособия. Комиссия с обоими предложениями согласилась, и, таким образом, нижегородское «кустарное законодательство» прибавило к существующим два новые законоположения: отныне в пределах Нижегородского края состоятельные люди лишались права кормить досыта посетителей своих столовых, а сами голодающие не могли обращаться со своей нуждой ни к кому, кроме «своего непосредственного начальства»(?!). Все дело благотворения вгонялось, таким образом, в узкие, чисто бюрократические рамки.
В декабре 1891 года появилось известное сообщение Особого комитета, состоявшего под председательством наследника цесаревича. В нем среди других, порой довольно противоречивых положений, выставлялось, между прочим, начало, что «деятельность лиц, посвятивших себя, по чувству христианской любви к ближним, делу помощи нуждающимся, отнюдь не должна быть стесняема». Положения этого сообщения, разбитые на отдельные параграфы и приведенные в форму устава (впоследствии утвержденного Особым комитетом), легли в основу губернского благотворительного комитета, объединившего в себе деятельность официальных благотворительных учреждений и развязывавшего в то же время руки частной инициативе.
В губернском центре после этого исчезают признаки указанного выше недоразумения, и частная инициатива принимается с доброжелательством. Однако, – характерная черта провинциальной жизни: всякое «воспрещение» и «ограничение» осуществляется у нас быстро, полно и решительно, точно по телеграфу. Наоборот, всякое «разрешение» и «дозволение» ползет на долгих, и даже после того, как оно уже проникает в самые дальние административные закоулки, на него все еще недоверчиво косятся и не спешат с его осуществлением, как бы предчувствуя, что оно просуществует недолго, а «воспрещение», незаконное, неосмысленное и прямо нелепое, воспрянет опять во всей силе живучего факта.
Так именно было, в данном случае, в Лукояновском уезде[31]. Проект инструкции, о котором идет речь, напечатан в протоколах губернской комиссии 20 декабря, а 3 января он уже был одобрен Особым комитетом. Между тем, взгляды лукояновского уездного попечительства продолжали определяться в прежнем, совершенно противоположном направлении. «Деятельность частных лиц» устранялась решительно и бесповоротно, а уездное «попечительство» строго замкнулось: состав его определился наличным числом земских начальников, предводителем дворянства и… из уездной земской управы в него был допущен один лишь «свой человек», председатель, дворянин А. В. Приклонский. Постановлением этого комитета от 19 февраля частный благотворитель г. Филатов ставился в известность, что столовые могут быть открываемы только господами земскими начальниками (то есть: не будут открываемы вовсе). Таким образом, изъявив согласие на предложение губернского комитета, выславшего ему и деньги, г. Филатов узнал от уездного попечительства, что он должен вновь просить разрешения у земского начальника, «с изъяснением, по каждой столовой, причины открытия» (как будто голод недостаточная причина!). Господин земский начальник, в свою очередь, обратится с представлением в «уездное попечительство», которое, впрочем, уже заранее (19 февраля) определило, чтобы именно в тех местах (вблизи Лукоянова), где г. Филатов согласился работать, столовых отнюдь не открывать, так как в городе уже есть столовая (на сорок девять человек), что, по-видимому, должно было служить некоторым платоническим утешением жителям окрестных деревень. Наконец, попечительство предоставило еще себе особое право «утверждать» или «не утверждать» помощников господина Филатова, точно заведывание столовыми важная государственная должность!..
Таково было «содействие», которое уездное попечительство оказывало по отношению к лицам, занимавшим в уезде видное положение (не мешает заметить, что г. Филатов – уездный член суда при лукояновском съезде тех же земских начальников). Читатель, вероятно, согласится, что я не имел никаких оснований рассчитывать на большее внимание к моей скромной особе, и вот почему я предпочел сразу же встать под защиту того параграфа утвержденной Особым комитетом инструкции, который гласил о «деятельности частных лиц», не подлежавшей стеснению.
Остановившись на этом решении и наметив первые два селения, в которых предстояло открытие столовых, – я написал о своих намерениях господину земскому начальнику второго участка. Затем я хотел воспользоваться заседанием уездного попечительства, когда господа земские начальники будут в сборе, чтобы сразу в собрании ознакомить их с дальнейшим планом моих действий, – разумеется, только «для сведения», но без всяких, с моей стороны, притязаний на какое бы то ни было «содействие» моим партикулярным предприятиям…
VIII
ГУБЕРНСКАЯ И УЕЗДНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИИ. – ЗАКОН И ПРАКТИКА. – ЗЕМСТВО И АДМИНИСТРАЦИЯ В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ ДЕЛЕ
Однако прежде чем вести читателя далее среди запутанных неожиданностей уездной политики «голодного года», считаю необходимым сказать несколько слов об организации собственно продовольственного дела в нашем крае и о значении терминов: «губернская и уездная продовольственные комиссии», о том, как они возникли, из кого состояли, что из этого выходило и как могло случиться, что в одной части Лукояновского, например, уезда обязанности по продовольствию населения легли, наконец, на «почетного мирового судью города Москвы» и вольнослушателя Берлинского университета.
Прежде всего маленькая историческая справка.
В старину, во время крепостного права, у нас действовал устав о народном продовольствии, устанавливавший, между прочим, существование особых комиссий продовольствия, которые отразили на себе явные следы крепостной структуры тогдашней русской жизни. Состояли они, конечно, под председательством губернатора. Поместное дворянство, за которым стояла темная и безличная крепостная масса, имело своего представителя в лице губернского предводителя и, по особому приглашению, предводителей уездных. Интересы крестьян государственных представлялись управляющим палатой государственных имуществ (удельные в продовольственном деле стояли особо). Кроме того, в комиссии присутствовал губернский прокурор, а дворянство могло выбирать от себя еще непременных членов «с жалованьем по штату».
Великая реформа, уничтожившая рабство, с одной стороны, сглаживала перегородки между сословиями, с другой – совершенно уничтожала их в среде самих крестьян. Понятно, что с этим вместе исчезала всякая надобность в дореформенных смешанных комиссиях. И действительно, новый закон упразднил их во всех земских губерниях, а заведывание делом по обеспечению народного продовольствия и оказание пособий нуждающемуся населению отнесено к предметам ведения земских учреждений. Главный местный надзор за соблюдением предписанных законом правил для обеспечения народного продовольствия возложен на главных начальников губерний и областей. Наконец, общее попечение о народном продовольствии принадлежит к предметам ведомства министерства внутренних дел[32].
Таким образом, если бы законы имели должную силу в местной жизни, то программа борьбы с последствиями неурожая была бы ими дана вперед, в очень определенных и твердых очертаниях, и всякому органу местного управления оставалось бы только сразу и без колебаний стать на свое место и взяться за свое дело. Хозяйственная сторона дела, вместе с законною ответственностью за его ведение, ложилась несомненно на земство. Но, быть может, это не по силам наличному составу земских органов? Закон это предвидел, и потому земства имеют возможность расширять наличные силы своих управ нужным количеством новых членов. Оставалось это исполнить, разделить уезды на земские участки и приступить прямо к делу. На местную же администрацию возложена обязанность наблюдения и контроля: охрана интересов казны, выдающей ссуду на известных условиях, с одной стороны, и защита населения от возможных посягательств и злоупотреблений, с другой, – таково содержание того «местного надзора», о котором так ясно говорится в законе.
К сожалению, как это мне приходилось уже указывать, после побитых засухою нив и их обездоленного владельца-мужика, наиболее пострадавшим от неурожая является именно ни в чем неповинный закон. Одна из прискорбнейших фикций, гуляющих в наше переходное время по обширным пажитям провинциальной жизни, состоит в странном представлении, будто «сила власти» выражается не в строгом и точном осуществлении предписаний закона, а в том, чтобы всюду в местной жизни администрация пела непременно первую партию. Даже и тогда, когда это не требуется ни по нотам, ни по самому ходу исполняемой пьесы…
Я не могу забыть небольшого, но очень характерного эпизода, свидетелем которого мне пришлось быть в губернской продовольственной комиссии[33]. Васильский уездный предводитель дворянства, П. П. Зубов, предложил комиссии поддержать его ходатайство о том, чтобы известная и очень немалая сумма была отпущена министерством, помимо земства, в непосредственное распоряжение состоявшей под его председательством уездной продовольственной комиссии для осуществления некоего премудрого сепаратного продовольственного плана, изобретенного на скорую руку самим г. Зубовым. На скромное замечание председателя губернской земской управы, что такой порядок совершенно не соответствовал бы требованиям закона, оратор, беспечно играя своим пенсне, ответил:
– Мне тоже несколько известны статьи, на которые ссылается многоуважаемый Александр Васильевич. Но, господа, неужели мы собрались сюда для того, чтобы заниматься теоретическими соображениями?
Это превосходное изречение, отводящее закону скромное местечко среди теоретических соображений, которые обязаны беспрекословно сторониться перед великолепием личного творчества любого уездного «практика», – я тогда же занес в свою записную книжку, как сжатую, ясную и во всех отношениях неподражаемую характеристику в двух словах целого течения.
Закон – это просто теоретическое соображение!
Хуже того: закон – это бюрократическая мертвечина, это лишь канцелярская перепись, это номера «входящих и исходящих»!
Генерал Баранов был очень склонен к такому же взгляду и очень ярко выразил это в одном циркуляре к земским начальникам в начале продовольственной кампании. Заподозрив, по-видимому, этих почтенных деятелей в излишнем пристрастии к законности, он счел необходимым предупредить их, что «…земский начальник во всех экстренных случаях, где он видит необходимость поступиться буквой того или другого правила или постановления для достижения успеха дела, должен принять на себя это отступление, причем смело может рассчитывать найти во мне не только защитника, но и товарища по разделению ответственности». Дальше высказывалось предположение, что «трудно применяемые статьи тех или других кодексов» могут «довести простолюдина до голодной смерти, что не будет оправдано никакими ссылками на номера входящих и исходящих». Предполагалось, таким образом, что первая опасность злополучному «простолюдину» грозит именно со стороны «кодексов» (предоставляющих продовольственное дело земству). Сам генерал Баранов нимало с кодексами не стеснялся, обессилив земство; издавал собственные законы, отменил в своей губернии круговую поруку, создавал, для блага простолюдинов, предводительские диктатуры, приглашал к такому же образу действий господ земских начальников и имел случай убедиться на многих лукояновских примерах, что без кодексов «простолюдину» пришлось еще гораздо хуже… Характерно, что генерал Баранов под законностью разумел лишь канцелярщину и номера входящих и исходящих.
Прошу у читателя прощение за это отступление, состоящее притом из сплошных трюизмов. Но что же делать, если и эти вопросы, давно порешенные и занесенные в «уставы», дремавшие на полках и ни в ком не возбуждавшие сомнений, – внезапно, в самое горячее время, воскресли не в виде трюизмов, а в форме новых проблем! И вместо того, чтобы сразу думать, как нужно делать настоятельное дело, пришлось опять решать старый и давно порешенный вопрос: кто его должен делать?
Характерная черта истории «голодного года» в нашем крае состоит в том, что первые громкие возгласы о грозящем голоде раздались из консервативного лагеря. Земская управа собирала еще точные сведения, подготовляла материалы, в уездах созывались экстренные собрания, чтобы обсудить меры борьбы с надвигающимся бедствием и степень предстоящей нужды, – как уже из Васильского уезда, приюта нашего воинствующего консерватизма, были посланы губернатору генералу Баранову категорические заявления, что голод уже тут, на месте, и именно тот голод, «когда матери пожирают младенцев». Избранные места из этих «васильских писем» сделались достоянием молвы, передавались из уст в уста, и при этом прибавлялось: «ну, и достается же земству!» И действительно, бедное земство, стоявшее тогда в том месте, куда именно валятся все шишки, очутилось в положении бедного Макара. Перевернешься – бьют, и не довернешься – бьют. Известно, что пессимизм и «крики о голоде» составляют исконную вину «либералов» литературы и земства, и в том же Васильевом уезде относились к ним столь высокомерно, что на все предупреждения еще полгода назад отвечали очень определенно: не дадим ни зерна, никто не умрет. Все это было признано «теорией», выдумкой разных статистиков. Трезвая же практика уверяла в радостной истине, что «он еще достанет». Понятно поэтому, что земству весьма и весьма надлежало собраться с духом прежде, чем вновь затягивать унылую песню. Но пока оно собиралось с духом, вооружалось данными и цифрами, чтобы отстоять свои заключения от господ практиков, в том числе и васильских, эти последние пустились неожиданно в поход налегке, заскакали много вперед, и им доставляла немалое удовольствие блестящая идея: повернуть обычную, по их мнению, земскую артиллерию против самого земства: земство прозевало голод! Они его открывали.
Это отразилось на первых мерах борьбы с голодом и наложило на них специфический отпечаток. Когда, вследствие васильского набата, ген. Барановым были закуплены первые партии хлеба (впоследствии введенные в общую цифру земского долга), то распоряжение этим хлебом губернатор, вопреки всяким «кодексам», передал в руки П. П. Зубова, васильского предводителя дворянства. Остальным, даже отдаленным уездам было предложено обращаться к новоявленному «продовольственному диктатору» за указаниями и инструкциями. При этом оказалось, разумеется, что «личная система» васильского предводителя достоинствами не блистала и подтвердила еще раз, что никакими личными, наскоро состряпанными системами нельзя заменить закономерной коллективной работы общественных учреждений. Господа предводители и земские начальники наскоро выдавали пособия, а «мир» еще быстрее, с точностью уравнительной машины, делил «способие по душам»… «Шло на распыл», доставалось по пяти фунтов на мирскую душу, богатым и бедным одинаково…
Этот прецедент породил, однако, немалое смущение. Значительно дискредитированное земство стояло совершенно в стороне в этом предварительном эпизоде, играя, так сказать, роль свидетеля в деле, где ответственность все-таки возлагалась на него и на его плательщиков. В обществе, точно пчелы, жужжали всевозможные толки и слухи о близком и полном отстранении земства от всего продовольственного дела. Если читатель припомнит, что это совпало с переходным периодом, на закате старого земства, то станет понятным и настроение, среди которого открылось, в начале июля 1891 года, экстренное заседание губернского земского собрания.
Уже накануне появились совершенно определенные слухи о каком-то (тогда еще не существовавшем в действительности) указе или циркуляре, который отнимал якобы у земства распоряжение всеми продовольственными средствами и передавал их администрации. Откуда пошли эти слухи? Явились ли они случайно, или были пущены с намерением, – сказать трудно, но об них говорили всюду. Чиновники передавали их с видом торжества, реакционеры-дворяне – с злорадством, земцы – с тревогой. В день собрания гласные, заранее толпившиеся в колонной зале дворянского дома, обсуждали в смущенных кучках вероятность и законность такой меры. Реакция прошлого царствования была в разгаре, поэтому вероятность была большая, а о законности тогда заботились мало.
С давних уже пор, быть может даже с самого открытия земских учреждений, собрание гласных не вслушивалось с таким захватывающим вниманием в каждое слово губернаторской речи при открытии сессии. Минута была из тех, в которых чувствуется драма, и воспоминание о первых годах земства возникало невольно в уме. Мне навсегда врезалась в память эта кучка черных сюртуков, столпившихся вокруг эффектной фигуры генерала Баранова, в военном мундире. Много ли здесь было людей, сохранивших в чистоте земские традиции? Не одни уста, произносившие много лет пылкие речи в той же зале, – теперь раскрываются лишь для того, чтобы уничтожать плоды прежней работы и в земском собрании подрывать земские начала… Но все же я уверен, даже и в этих сердцах не могли не отозваться тупою болью самые толки об отнятий у земства его законных полномочий накануне общенародной беды…
В речи губернатора все услышали подтверждение тревожных слухов. Как это случилось, сказать трудно, но только и гласные, и публика на хорах, и представители местной прессы – все слышали, что губернатор сообщил об образовании, под его председательством, особой комиссии «для помощи нуждающимся и для исходатайствования у правительства необходимых для этого средств», то есть именно для того, что должно делать земство… Так это было напечатано и в местной газете[34].
Это официальное заявление губернатора внесло в работу земского собрания смуту и недоумение. Губернская управа заготовила обстоятельные доклады, основанные на превосходно выполненных работах статистического бюро. Но… если то, о чем говорили накануне и что находило подтверждение в губернаторской речи, – правда, то все эти доклады собранию не нужны. Огромные средства поступят в распоряжение генерала Баранова, а земству придется, в качестве благородного свидетеля, присутствовать при их распределении. До какой степени доходило это «недоразумение», видно из того, что даже один из членов управы (А. П. Михайлов) заявил, что после речи губернатора «для земского собрания какие бы то ни было мероприятия являются излишними или, по крайней мере, с ними надо обождать до выяснения решений упомянутого губернатором комитета… Земские комиссии излишни, так как земство, очевидно, устраняется от принадлежащей ему роли»[35].
Эта речь члена управы и старого земца была несомненно тактической ошибкой: если предварительные слухи, распущенные чиновниками, и двусмысленный тон губернаторской речи не были случайностью, то они и были рассчитаны на то, что земство, обескураженное и озадаченное, само выпустит дело из своих рук и примирится с ролью совещательного органа при губернаторе… Тогда в Нижегородской губернии сразу же водворился бы тот порядок, который впоследствии был действительно введен новым продовольственным уставом…
Но в то время действовали еще прежние законы, и, к счастью, в собрании нашлись люди, которые напомнили, что законы не отменяются ни министерскими циркулярами, ни губернаторскими речами. Это напоминание значительно прояснило положение. Голос Васильского уезда, в лице его ретроградного председателя А. А. Демидова, пытался еще ограничить роль земства одним только «выяснением степени нужды», но стало все-таки очевидно, что собрание принимает свою задачу в ее полном объеме.
Впоследствии оказалось, что и министерский циркуляр предлагал лишь для совместного с земством труда по продовольствию образовать при губернаторе особое продовольственное совещание, которое, однако, не должно было, по смыслу циркуляра, умалять финансовую и хозяйственную компетенцию земства. Через два дня в этом смысле был исправлен и напечатанный ранее текст речи генерала Баранова. Шутники говорили по этому поводу, что компетенция земства повисла на одной запятой и легко может сорваться. Как бы то ни было, земство удержало позицию: с своей стороны собрание решило образовать комиссию в помощь своей управе, в которую постановлено пригласить и господина губернатора… Итак, возникли параллельно две комиссии. Ввиду этого комитет при губернаторе тотчас же закрылся, и образовалась губернская земская продовольственная комиссия (действовавшая с июля по октябрь месяцы и имевшая за это время семь заседаний).
Однако и генерал Баранов не отказался от попыток захватить огромное дело в свои властные руки: в ноябре он счел необходимым возобновить вновь закрытое «совещание», хотя и под несколько измененным названием. Земство в декабре закрыло свою комиссию, подчеркнув таким образом, что всю ответственность оно возлагает на управу. После этого на арене продовольственных операций остались: с одной стороны – губернская земская управа, с ее правами и ответственностью, с другой – новая комиссия смешанного характера, с неопределенным и изменчивым составом. Земцы в ней составляли ничтожное меньшинство. Тем не менее, так как они все-таки присутствовали на ее заседаниях, то генерал Баранов пытался придать ее решениям значение, обязательное и для земства. На этой почве разыгрывались впоследствии бурные атаки «барановцев» против губернского земства.
Это и была «Нижегородская губернская продовольственная комиссия», получившая в свое время громкую и в некоторых отношениях блестящую известность. Впрочем, во всех бумагах, приходивших из министерства, она именовалась гораздо скромнее: «продовольственным совещанием при нижегородском губернаторе».
Я не имею надежды исчерпать здесь любопытные материалы, которыми мы обязаны «просвещенной гласности», допущенной во все работы продовольственной комиссии. Тому, кто возьмется со временем за эту работу, придется отметить немало интересных страниц, однако несомненно, что под этими цветами и блеском скрывалась старая и давно упраздненная жизнью дореформенная сущность. С одной стороны – это было как будто только совещание, без решающего и исполнительного характера, с другой – оно стремилось возродить компетенцию дореформенных комиссий продовольствия. Положение выходило в кратких чертах такое: ответственность ложилась на управу, состоявшую из четырех человек. Распоряжаться могли бы несколько десятков людей, случайных и никакой ответственностью не обремененных. Очевидно, решения этого изменчивого и зависимого большинства обращались в какую-то фикцию и совершенно отпадали, а в поле действия оставались две реальности: земская управа и глава местной администрации – властный, своенравный, не считавшийся с законами губернатор Баранов.
Вскоре же начались резкие столкновения… На очереди стояли вопросы огромной и самой «практической» важности. Земская управа решила перенести центр тяжести хлебных закупок на дальние рынки и для этого командировала своих агентов, преимущественно статистиков-агрономов, на юг и на Кавказ, а также завязала связи на местах с общественными и земскими учреждениями. Управа справедливо опасалась обрушить всю тяжесть огромного спроса на местные рынки, боясь страшного поднятия цен в губернии, а также опасаясь очутиться во власти местных крупных торговцев. При выполнении своего плана управа рассчитывала на земскую взаимность, на строгий выбор и известный нравственный ценз своих агентов и на содействие общественных учреждений на местах закупок. Последствия показали, что она не ошиблась в этих расчетах. Генерал Баранов являлся, наоборот, сторонником ведения всего дела через крупные местные торговые фирмы, а за генералом Барановым шло и большинство комиссии. План управы считался «непрактическим» и, слишком «идеальным». Предсказывались неумелость и ошибки со стороны «земских агрономов» (кличка до известной степени ироническая), не искушенных в изворотах хлебной торговли. Но на место управской теории тотчас же выдвигалась своя теория, гораздо более утопическая и прямо опасная. Предполагалось как будто, что крупные хлебные торговцы – люди сплошь отменного самоотвержения и патриотизма, «доблестные истинно русские люди», сгорающие одним только желанием – доставить нуждающемуся населению хлеб как можно лучше и дешевле и отнюдь не помышляющие об увеличении своих барышей до возможных пределов. Разумеется, эта утопия гораздо утопичнее земской. Такие вещи очень хороши в застольных речах, но на них нельзя строить обширных торговых предприятий. Генерал Баранов указывал, что между крупными хлебными торговцами, о которых шла речь, есть почтенные имена известных местных «жертвователей» и филантропов. Но, во-первых, далеко не все и даже не очень много, а, во-вторых, – возражали земцы, – филантропия и торговое дело – две вещи, которые смешивать и неудобно, и опасно. Пожертвования в одной области возможны, именно, на барыши в другой. Торговля держится барышом, а барыш – спросом и предложением. «Умелости» хлебных торговцев отрицать невозможно. Но чтобы это профессиональное уменье обратилось исключительно на пользу покупщика-земства, когда последнее окажется в полной зависимости от своих комиссионеров на ограниченном рынке, с огромным спросом и небольшим предложением, – в этом, конечно, позволительно было сомневаться. Крупные земские закупки у местных земских тузов тотчас же подняли бы местные цены. А тогда, разумеется, и цена привозного хлеба сообразовалась бы с местной. Страшно подумать, до чего могла бы дойти эта игра цен и в каком положении очутилась бы та часть населения, которая не могла рассчитывать на ссуду, если бы «система» ген. Баранова отдала весь край на милость и немилость доблестных хлеботорговцев.
На этой почве в среде губернской продовольственной комиссии возникла борьба, принимавшая одно время очень острый характер. Земская управа твердо стояла на своем, генерал Баранов тоже упорно добивался своей цели. Можно думать даже, что ему улыбался опять прием, примененный к Н. Д. Валову, то есть устранение губернской управы по высочайшему повелению. Дело доходило до того, что земские закупки объявлялись публично «сплошною фальсификацией», неизвестно кем произведенной[36], – обвинение, совершенно и заведомо ложное, проникшее, однако, в печать и подхваченное тотчас же громким хором, вопиявшим и глаголавшим против земства. Чрезвычайно интересно отметить, кстати, что в этом хоре очень заметны были на страницах газет известного лагеря именно голоса хлебных торговцев[37]. Эти «доблестные русские люди» явились судьями земской нравственности в торговом деле, и мне кажется, что бедное подсудимое земство могло бы в данном случае воспользоваться несомненным правом «отвода». Как бы то ни было, однако, старое земство можно поздравить: оно с честью вышло из трудного испытания. В настоящее время общим результатам операции давно подведен итог. За исключением небольшого числа случаев, неизбежных в сложном и спешном деле, в особенности при условиях тогдашнего хлебного рынка, земские закупки, выполненные на основании «идеальных теорий», оказались совершенно удовлетворительными, и притом в общем они обошлись земству дешевле той части, которая произведена крупными торговцами-комиссионерами… Если же прибавить к этому, что они увеличивали общее количество хлеба в губернии и, таким образом, остановили дальнейшее повышение цен на местных рынках, то становится несомненным, что в этом вопросе «оппозиция» земской управы завоевательным стремлениям генерала Баранова, оппозиция, отстранившая в роковое время монополию хлебных торговцев, – оказала всему краю огромную услугу.
Но это ясно теперь. А в то время было ясно далеко не всем, и в управе, подавленной в комиссии бесформенным и безответственным большинством, закиданной довольно-таки пристрастными заключениями экспертной комиссии, порой в обличительном усердии доходившей до истинных курьезов[38], пришлось апеллировать к своим законным правам, связанным с законной ответственностью. Твердость, с какой, наконец, была сделана эта апелляция, разрешила на этот раз запутанное положение. С этих пор комиссия вводится в свои настоящие пределы, и дело идет нормальным порядком. Самая критика закупок со стороны «экспертов» становится спокойнее и в общем приносит свою долю пользы, как всякая критика; несколько второстепенных промахов земской управы исправлено, а зато общий характер ее деятельности, после строгого испытания, выступает с полною ясностью: старое земство, в лице председателя А. В. Баженова, получило в новой губернаторской речи, открывавшей (в 1893 г.) первое заседание уже реформированного земского собрания, полное и блестящее удовлетворение[39].
Этим коротким очерком взаимных отношений губернского земства и администрации в продовольственном деле я до некоторой степени уплачиваю долг печати по отношению к органу нашего земства, над которым одно время тяготели тяжелые и совершенно незаслуженные обвинения. Это не мешает, однако, признать, что вне этого и некоторых еще, праеда, часто очень существенных «недоразумений» – продовольственная комиссия, как совещание, оказала делу некоторые услуги, и уже одна гласность продовольственного дела в Нижегородском крае является чертой, заслуживающей подражания[40].
Таким образом, в губернии законный хозяйственный орган в конце концов сохранил (на некоторое время) свою компетенцию… Губернская же продовольственная комиссия хотя и представляла в значительной мере «пережиток» дореформенного периода, но все же это был пережиток блестящий и так сказать «просвещенный», – настолько блестящий и просвещенный, что некоторые не особенно проницательные люди разных лагерей приписывали ему не однажды характер либерализма. Одни говорили это в похвалу, другие – в осуждение, но теперь ясно, что и те, и другие были неправы в самой квалификации… По существу это был, все-таки, шаг назад, к дореформенным порядкам.
В уездах эта сущность выступала без всяких прикрас, без всякой просвещенности и «либерализма».
Быть может, самой заметною чертой нашего строя следует признать пренебрежение к знанию и науке, ко всякой теории и правильному обобщению, ко всему, что только выдвигается из уровня так называемой «практики», в ее сыром и самом непосредственном виде. Просмотрите консервативные газеты того времени, и вы будете удивлены обилием практических псевдонимов. Практический человек и практический хозяин, истинно-практический человек и истинно-практический хозяин, наконец, истинно-практический и вдобавок еще русский человек и таковой же хозяин!.. Сторонитесь перед практическим человеком, потому что он свободен от европейских теорий и пренебрег все законы – вот главный лозунг этого отряда, заполняющего прессу и выступающего на завоевание современности. Большего ругательства, как человек «теории или науки», для них не существует, но при этом каждый из них непременно несет свою собственную теорию, только эта теория «практичная». Правда также, что эта практичная теория тотчас же и на тех же столбцах сталкивается неизбежно с другою теорией, уже истинно-практичной, и обе они подвергаются натиску со стороны третьей, – истинно-практичной и русской, вооруженной всеми эпитетами, которые должны ей доставить победу и одоление… Хаос получается, конечно, необычайный, но столичный читатель улыбается и проходит мимо. В самом деле, ведь это кажется так невинно: если эти забавные практики опровергают друг друга, то очевидно, что общее им всем притязание на немедленную ломку всего существующего во имя их собственных теорий никоим образом не может подлежать удовлетворению.
Но это вам только так кажется, читатель! А мы-то, провинциалы, имеем всех этих практичных и истинно-практичных господ в натуре, и то, что вам представляется забавной игрой в доморощенные теории, – мы воспринимаем со всею непосредственностью практики. «В моем уезде я делаю то-то и так-то», – вот в каком виде является нам эта истинно-практичная мудрость. Сведенные даже на газетном столбце, эти мудрости уже поедаются взаимно. Ну, а в моем уезде, моя мудрость царит на всей своей воле, и ничто не может противостоять ее творческой силе, пока уезд этот – мой, и пока для меня закон имеет лишь силу просто какого-то чужого теоретического соображения… Разумеется, трудно требовать, чтобы я отдал чужим теоретическим соображениям (хотя бы даже ясно выраженным в законе) предпочтительное внимание перед своими.
Прекрасную иллюстрацию к сказанному представляет, например, тот же Васильский уезд, первый носитель продовольственной диктатуры. У Васильского уезда тоже оказались свои «практики», а у этих практиков оказалась своя собственная, очень законченная и цельная «теория» или даже вернее – система. Васильский предводитель дворянства, П. П. Зубов, как мы уже видели, распределил первые партии отпущенного правительством хлеба. На несколько дней он стал даже «знаменитостью голодного года». Это случилось после того, как, по указанию ген. Баранова, усадьбу г. Зубова посетил корреспондент «Нового времени», С. Ф. Шарапов. Господин Шарапов пробыл у господина Зубова двое суток и затем с присущей ему экспансивностью оповестил на всю Россию, что в помещичьей усадьбе Васильского уезда он открыл истинно-государственный ум, «живое звено, связующее над Сурой Русь земскую с Русью государственной». «Пустых разговоров, – писал автор, – у нас не было, ибо я, как пчела, тянул из него один мед», то есть это г. Шарапов тянул из г. Зубова чистейший мед государственной мудрости, и его затрудняло одно: «как в границах краткого письма представить хоть бледные отрывки этого яркого, дельного русского мировоззрения»[41]. Опасение не напрасное, так как, действительно, на протяжении всего не особенно даже короткого письма, кроме затасканной идеи о замене денежного продовольственного капитала «натуральными запасами», ничего больше читатели не нашли. Теории господина Зубова в печати, даже в ярком изложении Шарапова, оказались убогой банальностью… Тем не менее, «дельное, яркое, истинно русское мировоззрение» г. Зубова сказалось в заседаниях продовольственной комиссии и с достаточной полнотой напечатано в ее протоколах.
Что же несла с собой эта знаменитая система?
Прежде всего по части обсеменения полей она провозглашала замену остальных хлебов просом! – Отчего мы обеднели? На этот вопрос еще не так давно древние практически мудрые старцы отвечали: оттого, что перестали считать деньги на ассигнации. Оно и понятно: денег тогда на счету было больше, а теперь стало менее. А в чем же богатство, как не в обилии денег? Отчего у нас неурожаи? – спрашивает автор васильского проекта и отвечает: оттого, что мы сеем хлеба, не дающие больших урожаев. Просо же родится сам-двадцать, – «мы были бы давно богаты, если бы сеяли одно просо!»
Этого мало. Мы видели уже, как нехитрая деревенская мудрость объясняла причину недавного бедствия. Телеграфная проволока, винище, генеральное межевание… Но самое распространенное и самое «строгое» объяснение касается роскоши, будто бы ныне необычайно распространившейся в русском народе.
– Твой дед ходил в лаптях? – спрашивал при мне один строгий человек у переминавшегося с ноги на ногу мужика.
– Так точно.
– И хлеб у него родился?
– Это верно. Прежде урожаи-то были не нонешним чета…
– А на тебе сапоги?..
– Плохие, ваше благородие. Одна только слава, что сапоги…
– А все-таки сапоги есть, а хлеба нет… Понимай теперь сам!
– Как не понять!
Деревня в своем смущении сама не прочь порой согласиться с этим объяснением. Действительно, прежде ходили в лаптях, и земля родила обильнее. Теперь – сапоги, ситцы – и неурожаи…
– Так неужто, братец ты мой, ежели теперича снять мне сапог, земля станет родить больше? – недоумевал после этого разговора наш простодушный собеседник.
Ему, конечно, можно простить, тем более, что его недоумение самоотверженно и бескорыстно: дело шло об его собственной роскоши (сапожишки-то, действительно, были совсем плохие!). Гораздо менее простительно, когда люди, сами щеголяющие в ботинках, и говорят, и пишут, и действуют в этом разувательном и обнажающем направлении.
Так и васильская продовольственная комиссия во главе с П. П. Зубовым почувствовала себя оскорбленной зрелищем народной роскоши.
– У него, – говорил васильский предводитель дворянства, автор проекта, – есть сапоги со сборами, гармонии, самовары…
Из этого следовал вывод:
Пусть он продает сапоги, самовары, сарафаны и гармонии, и только после этой операции васильская продовольственная комиссия признает его заслуживающим помощи[42]. Но и затем, так как он пьяница и лентяй, то необходимо зорко смотреть, чтобы он не уклонялся от работы: хлеб выдавать не иначе, как под особые квитанции землевладельцев-нанимателей. Всякое заявление о том, что он отказался от приглашения на работу (об условиях этого приглашения не говорилось, – предполагалось, что условия господ помещиков будут самые великодушные), должно лишить просителя всякой надежды на помощь.
Генерал Баранов одно время почему-то особенно покровительствовал П. П. Зубову, выдвигал его и сам направил к нему сладкопевца господина Шарапова. Но когда г. Зубов появился со своей государственной мудростью в продовольственной комиссии, где все-таки было немало людей действительно сведущих, то генерал Баранов вынужден был отступиться от своего protégé! Его своеобразные теории потерпели жестокое поражение. О просе даже не спорили, и весь «просяной проект» сделался добычей газетных фельетонов. Но затем: сколько можно выручить за сапоги и гармонии? – спрашивали у васильского мудреца. – Не послужит ли это на пользу одним кулакам, которые, при любезном содействии уездной комиссии, скупят у мужика «лишнее имущество» за бесценок? Наконец, что же это за теория, стремящаяся во что бы то ни стало раздеть и разуть?.. Не должна ли, наоборот, истинно практическая и притом самая русская мудрость стремиться к тому, чтобы русский народ не только сохранил свою обувь, но еще получил бы со временем возможность одеваться не хуже любого немца? На все эти вопросы представители Васильского уезда не дали сколько-нибудь удовлетворительного ответа. Но теория осталась все-таки для… «своего» уезда. И, боже мой, сколько, должно быть, проса насеяно на васильских нивах! А проповедь раздевания нашла свою благодарную почву на берегах Теши и Рудни и в Лукояновском уезде облеклась в зловещий термин: там это называлось впоследствии «вымаривать» у голодающего мужика лишнее имущество (не исключая, конечно, и «лишней» скотины)!.. Как же, однако, могло случиться, что столь явно нелепая система, потерпевшая такое очевидное поражение в губернской продовольственной комиссии, то есть в центре, все-таки возымела силу и действие на местах? Это обстоятельство объясняется опять некоторыми особенностями нашей продовольственной организации в «голодном году». Дело в том, что уже вскоре после возникновения губернской комиссии, под шум борьбы, которую мы описывали выше, в уездах (кроме Нижегородского и Макарьевского) продовольственное дело совершенно ускользнуло из рук уездных земств. Было бы чрезвычайно интересно проследить причины этого явления, но пока можно лишь констатировать факт: в то время, как губернское земство дало решительный отпор притязаниям администрации и сохранило за собой существеннейшие продовольственные функции, уездные управы почти всюду потонули в составе уездных комиссий, сложившихся из подавляющего большинства земских начальников, под председательством уездных предводителей дворянства. Впоследствии (уже в 1894 году), ревизионная комиссия губернского земства констатировала, что в отношении организации продовольственного дела на местах – губерния представляла картину чрезвычайно пеструю. Прежде всего, – «губернская продовольственная комиссия отменяла нередко постановления уездных земских собраний, определявших количество ссуды». Комиссия присвоила себе даже право «рассматривать ходатайства земских управ о созыве экстренных собраний и жалобы на действия губернской управы». Кроме Нижегородского и Макарьевского уездов, – где уездные управы несли общее распоряжение всем делом, – в других земские органы не участвовали вовсе в распределении ссуды между сельскими обществами и отдельными домохозяевами. Остальные уезды располагаются между этими крайними пределами. Васильская уездная управа сосредоточила у себя бумажное делопроизводство по продовольственному делу, но зато отложилась от губернского земства и свои распоряжения согласовала только «с указаниями г. губернатора, губернской и уездной продовольственных комиссий». Лукояновская управа не участвовала в деле ни в какой мере, а лукояновская продовольственная комиссия отложилась и от земства, и от губернской администрации… Вообще же, в большинстве случаев, земские управы являлись лишь передаточными инстанциями. Они получали от губернского земства хлеб и деньги и тотчас же передавали их в продовольственную комиссию, которая в виде авансов раздавала их в полное распоряжение земских начальников. Все продовольственное дело на местах, составление списков, определение нужды и раздача, то есть вся самая, быть может, существенная часть продовольственных операций лежала почти всецело на земских начальниках.
Положение создалось довольно неожиданное, с точки зрения закона, и странное по существу. Земские управы, ответственные по закону, были отстранены фактически. Земские начальники вели дело, но не были обязаны ответственностью. Они могли во всякое данное время отказаться и «бросить» (что и случилось в Лукояновском уезде), наконец, что самое главное: как добровольцы, они не считали себя связанными никакою общею системою.
Шашки оказались смешанными радикально, и особенное затруднение наступило по окончании продовольственной кампании, когда пришлось давать отчет в израсходовании правительственной ссуды. Отчет, разумеется, требовался от земства. Губернская управа справилась со своей общей частью операции легко, быстро и точно. Но когда дело дошло до отчета по уездам, то есть до самой существенной части операции, – то встретились почти непреодолимые затруднения. Отчет опять требовался от земских управ, но многие управы в деле совсем не участвовали, а господа земские начальники часто не считали себя обязанными никакой отчетностью, ссылаясь на то, что в круге обязанностей, начертанных в уложении об их службе, составление отчетов для земства не значится. Дело тянулось таким образом около трех лет, и «Записка ревизионной комиссии XXX очередному губернскому собранию» изобилует в этом отношении необыкновенно характерными фактами. Так, по некоторым земским участкам, вместо всяких документов, были представлены черновые тетради с беспорядочными записями и помарками. Мне лично пришлось видеть одну такую тетрадь. Она носила характерное заглавие:
«ТЕТРАДЬ
для продовольствия и обсеменения земского начальника такого-то участка»
и была вся испещрена поправками, порой самого неожиданного свойства, сделанными карандашом или чернилами. И это – на десятки тысяч рублей! Другой земский начальник, г. Штевен, на требование оправдательных документов, ответил обиженной репликой. Он мог бы, пожалуй, попросить задним числом расписки у хорошей своей знакомой, госпожи NN, у которой закупил некоторые партии хлеба. Но ему стыдно признаться перед ней, что к нему, земскому начальнику, питают такое недоверие (факт)…
Это было время полной неприкосновенности «молодого института», и господа земские начальники, по-видимому, не ожидали, что все эти их «интимности» могут подвергаться публичному обсуждению. Но земская ревизионная комиссия беспощадно вынесла их на свет божий. Я помню замешательство и смущение земского собрания, уже реформированного и наполовину состоявшего из земских начальников и предводителей, когда читался этот отчет. Утвердить его не решилось даже это, уже чисто дворянское земство. Отвергнуть?.. Но где же выход из лабиринта, созданного рядом беззаконий… Собрание решило, наконец, признать отчет… «законченным», и никаких выводов из него о правильности или неправильности самой операции не делать! Так этот доклад и перешел в историю… Выводы сделаны впоследствии, когда правительство приняло «барановскую систему» для всей России, предрешив, таким образом, господ Гурко, Фредериксов и Лидвалей…
Одно время вопрос о лучшей организации продовольственного дела, поставленный министерством, горячо обсуждался в провинции не только в официальных учреждениях, но и в частных кружках. В том числе, конечно, и кардинальный вопрос о взаимных отношениях в этом деле администрации и земства. Мне пришлось присутствовать при одном из таких разговоров в Лукояновском уезде.
– Нет, не говорите мне все-таки о земстве, – говорил молодой человек, приезжий корреспондент большой столичной газеты. – Я недавно еще из N-ской губернии, где, как известно, существует склад закупаемого земством хлеба. Поверите ли: администрацией составлено было при мне семьдесят пять протоколов о дурном качестве приходящих по железной дороге партий…
– Я знаю эту историю, – вмешался другой. – В нынешнем году хлеб вообще очень сорный, и протоколы эти означают только, что хлеб необходимо очистить, о чем предупреждали и земские агенты… Однако, если даже допустить наличность злоупотреблений… – не думаете ли вы, что ваши семьдесят пять протоколов говорят именно в пользу оставления этого дела в руках земства?
– Парадокс?
– Нимало. Кто же, в самом деле, составил бы семьдесят пять протоколов, если бы хлеб был закуплен… той же администрацией?
Возражений не последовало. В самом деле: слушая эти хоры обличений по адресу выборного земства, можно подумать, будто все грехи русской жизни нашли себе место в земских управах, а все добродетели приютились в канцеляриях и присутственных местах. Этого последнего никто, однако, не утверждает; наоборот, обвинения по адресу «бюрократии» мы слышим даже из того лагеря, который громит земство…
Итак, особого сословия святых ни в нашем отечестве, да и нигде на свете, без сомнения, не существует, и самый вопрос следует поставить иначе.
Нужен или не нужен в продовольственном деле местный надзор, мелочной, повсеместный и широкий, от которого не ускользнули бы подробности дела не только на бумаге, но и в последнем селе или деревне?
А так как он бесспорно нужен, то кто его должен вести?
Несомненно, что для этого необходимо два элемента: один – подлежащий контролю, другой – контролирующий и в деле не заинтересованный прямо. Это ясно. Смешайте эти два элемента в одно, и смешанное учреждение явится заинтересованным, станет контролировать само себя, а тогда уже необходимо будет прибегнуть к фиктивному предположению о святости.
Наблюдая впоследствии прихотливые, неожиданные формы, в какие отливалась у нас по временам продовольственная организация, я часто думал о том, какую пользу этому делу могли бы, пожалуй, принести даже… земские начальники, если бы они оставались в роли, отводимой им законом. Тогда между получающим ссуду крестьянином и выдающим ее земским агентом стояло бы еще третье не заинтересованное лицо, ничего не получающее и не выдающее. Тут даже легкий антагонизм между администрацией и земством пошел бы в дело, и всякие неправильные и корыстные действия того или другого земца находили бы скорее даже придирчивую, а в среднем, все-таки, очень полезную критику.
Теперь тот же земский начальник очутился в навязанной ему хозяйственно-исполнительной роли… Допустите, что он грешник и стяжатель (возможно ведь и это!). Сколько у этого грешника средств подавить всякую жалобу в самом зародыше, не говоря уже о том, что все сельское начальство находится от него в полной зависимости. Любой старшина или староста не побоится сделать заявление о злоупотреблениях земского агента, члена управы, порой из тех же крестьян. А если грешником окажется «начальник», тогда, по меткому предсказанию Петра Великого, «первее станет тщиться всю коллегию в свой фарватер сводить… А видя то, подчиненные в какой роспуск впадут…»
Бывало это, и даже в очень широких размерах бывало в злополучный «голодный год»[43].
IX
ЗАСЕДАНИЕ УЕЗДНОЙ КОМИССИИ. – ЕЩЕ О СПОКОЙСТВИИ УЕЗДА
«Председатель, лукояновский уездный предводитель дворянства М. А. Философов, господа земские начальники: А. Л. Пушкин, А. А. Струговщиков, А. Г. Железнов, С. Н. Бестужев, С. Н. Ахматов, И. Ф. Костин. Председатель уездной земской управы А. В. Приклонский. Члены управы Валов и Красов…»
Так определялся состав уездной комиссии. «Члены управы Валов и Красов» – помещались неизменно в самом конце «списка присутствовавших», и при этом, без имени, без отчества и, как говорили, – без стульев. Эта красноречивая лаконичность очень ярко определяла ту роль, которую уездное лукояновское земство играло в уездной лукояновской продовольственной комиссии… «Члены управы Валов и Красов», надо думать, сознавали эту роль не менее явно, чем остальные лукояновские обыватели, остроумию которых это обстоятельство давало немалую пищу. Что же касается до председателя, дворянина А. В. Приклонского, то он упоминался, как и остальные члены, с имяреком… Но это отнюдь не должно быть отнесено на земский счет, так как сказано уже выше, что председатель лукояновского земства, принимая эту должность, стремился этим лишь полнее выразить свое презрение к самому учреждению.
В протоколе заседания 7 марта однообразие этого списка нарушается. Члены управы Валов[44] и Красов еще задолго перед этим прекратили свои совершенно бесполезные посещения… Зато среди обычных фамилий любопытный исследователь найдет в протоколе имена приезжих: К. Гр. Рутницкого, подполковника, командированного Особым комитетом, исправника В. А. Апрянина, заместителя г. Рубинского, и, наконец, членов губернского благотворительного комитета А. И. Гучкова – и вашего покорного слуги…
Когда мы явились в «конспиративную квартиру», – заседание уже было открыто.
На председательском месте восседал предводитель и «диктатор», М. А. Философов, человек еще молодой и необыкновенно толстый, прекрасная иллюстрация «сытости, не понимающей голодных». Лицо у него было выразительное, заплывшее, пожалуй, добродушное. Рядом с ним, по правую руку сидит земский начальник Железнов, довольно высокий шатен, с беспокойными, как будто даже тревожными манерами. В нашем крае это человек новый: служил где-то в Уфимской губернии, вышел в отставку при обстоятельствах, мало выясненных, явился в нижегородский дворянский банк для заклада какого-то клочка принадлежавшей ему земли и здесь, благодаря случайной встрече с предводителем, – получил приглашение занять должность земского начальника. Говорят, он – настоящая душа лукояновской оппозиции, главный вдохновитель М. А. Философова на все его ратные подвиги. Все говорят, что дело у него ведется не совсем чисто (что впоследствии установлено официально). Дальше сидит А. А. Струговщиков, человек пожилой. Одно время считался либералом. Жена его устраивает столовые, сам он подписывает постановления, отвергающие устройство столовых. Дворяне на него косятся, но, по-видимому, без достаточных оснований, если не считать мелочных личных столкновений, порой довольно комического свойства.
Дальше обращает внимание характерная голова Анатолия Львовича Пушкина, «племянника великого поэта». Волосы и борода у него совершенно белые, лицо моложавое, породистое, с тонкими чертами. К «семейной традиции» относится, как говорят, довольно высокомерно. Принципиальный враг земства, гонитель школ и больниц, мужиконенавистник чистой воды. Земские деньги, которые попадают в его руки, одинаково трудно получить как голодающему мужику, так и земству, требующему возврата неизрасходованных авансов. Ссуды по своему участку сокращает систематически и беспощадно…
С. Н. Бестужев и С. Н. Ахматов – двое молодых людей из отставных военных. Первый – кругленький, с широким мясисто-красным лицом, подвижной, улыбающийся и беззаботный. В делах явно ничего не смыслит, весь в руках у старшин и писарей половчее. Вскоре после продовольственной кампании бросил все страшно запутанное делопроизводство и скрылся в Москву. Впрочем, князь Мещерский печатно называл его «одним из способнейших земских начальников».
С. Н. Ахматов не обладает столь выразительной внешностью; человек незлой и, как говорят, в лукояновской политике плывет лишь по течению. В течение последующего заседания иной раз краснеет и конфузится.
Господин Костин, – временно переведен ген. Барановым в Лукояновский уезд на место П. Г. Бобоедова, который скрылся было от дружного натиска сотоварищей. Считается сторонником «губернии» и «чужим».
Наконец, А. В. Приклонский, глубокий старик, с жидкими усами и губами сатира, – сухой, подвижной и бодрый. В семидесятых годах приобрел кратковременную газетную известность довольно пикантным процессом с провинциальной актрисой. Отличный хозяин, но человек анекдотический: о нем по уезду ходят десятки курьезных рассказов…
Кроме черных сюртуков, в заседании виднелись два военных мундира: исправника Апрянина, которого ген. Баранов, с обычной стремительностью, совсем даже не зная его, назначил на место Рубинского. Здесь он во враждебном лагере. Даже его подчиненные являются каждый день с докладом к его отставленному предшественнику, а об нем рассказывают, будто он сразу же стал обучать урядников танцам (для «проведения культуры»). Человек простодушный, наивный, бывший гусар, чувствует себя в роли полицейского, видимо, стесненным и бессильным.
Полковник Рутницкий, уполномоченный от Особого комитета, состоящего под председательством наследника цесаревича, только что объехал уезд, чтобы ознакомиться на местах с распределением хлеба, отпущенного от Особого комитета. При этом оказалось, что г. Пушкин, выдававший всего по двадцати фунтов в месяц на человека, для сирот и келейниц заменил и эту более чем скромную помощь пятнадцатифунтовым «комитетским» пайком. При этом крестьянам внушалось, что это – «милость наследника». Вышло, таким образом, что те, кто получал комитетскую помощь, явились, благодаря этой «милости», сугубо обездоленными. Полковник Рутницкий высказывал по этому поводу протест, требуя, по крайней мере, уравнения ссуды…
Комиссия согласилась, и тотчас же после этого, едва мы, раскланявшись с председателем и членами, заняли места, М. А. Философов перешел к другим вопросам.
Прежде всего мы узнали, что один из земских начальников, г. Бобоедов, – «скрылся» из Лукояновского уезда, оставив свой участок. Этого беглеца я видел перед своим отъездом в Нижнем-Новгороде и отчасти уже знал причины его «побега». Господин Бобоедов давно уже был «в контрах» и с предводителем, и с большинством своих сотоварищей, земских начальников. Теперь, – отчасти, быть может, по этой причине, – он держался «системы кормления», и первый участок издержал в несколько раз больше хлеба, чем остальные. Это было нарушение общей гармонии, которого невозможно было допустить: в мужике «появился ропот на неравномерность». Во имя «спокойствия уезда» комиссия предпочитала однообразие даже в ропоте: пусть все будут одинаково голодны, – это лучше обеспечивает «спокойствие уезда»… Правда, – под боком Сергачский уезд, где за гранью лукояновской диктатуры, отмеченной каким-нибудь ручейком или мостиком, – население получало вдвое и втрое больше. Правда также, что от этой опасной границы так и реяли в лукояновскую державу «превратные толки». «Почему же вот у Ермолова люди получают по сорока фунтов, – говорили мужики, – или мы не того же царя?.. Под турецкого султана, что ли, отданы?» Но все-таки это было «за границей» и нельзя было допускать эту опасную «политику» в недра самого уезда…
Поэтому против г. Бобоедова началась курьезная бумажная война. Усматривая, например, что г. Бобоедов выдает ссуду сельским властям, сотским, старостам, а также многим мельникам, – комиссия делает ему запрос по этому предмету. Господин Бобоедов отвечает, что эти злополучные сельские власти, с годовым жалованьем порой десять – пятнадцать рублей, – не получают, за прекращением мирских платежей, и этих денег, а мельницам нечего молоть в неурожайный год. Комиссия после двухнедельной паузы требует особого по этому предмету представления. Господин Бобоедов составляет общий список и представляет его с указанной общей мотивировкой и с изложением имущественного и семейного положения всех этих должностных несчастливцев… Комиссия возвращает общий список (после двух недель), требуя, чтобы г. Бобоедов разбил эту одну бумагу на сотни отдельных представлений, особо для каждого (опять с паузами на две недели!). Разумеется, для такой переписки нужна была бы многолюдная канцелярия. Господин Бобоедов увидел себя вынужденным отказать сразу целому контингенту лиц, прежде получавших ссуду. Это, понятно, вызвало ропот против распоряжения, которое население приписывало самому земскому начальнику… Его стали осаждать толпы голодного и роптавшего народа. Что оставалось делать г. Бобоедову? Разумеется, указать на высшую инстанцию. – «Я исполняю предписание продовольственной комиссии. Просите теперь у нее». И толпы, осаждавшие г. Бобоедова, понесли свои слезы и свой ропот в комиссию. Тогда… комиссия подняла вопрос о «спокойствии»… Оказалось, что г. Бобоедов «возбуждает народ (!) против лиц, заведующих продовольствием», и стремится вызвать в уезде бунты и неповиновение властям…
Прибавьте к этому тысячи мелочных, назойливых, как комары, и, как комары, непобедимых неприятностей, которыми один человек, не попадающий в тон, преследуется ежедневно и ежечасно плотно спевшейся партией уездных политиканов, и вы поймете, почему в один прекрасный день губерния была удивлена телеграммой о том, что земский начальник 1-го участка скрылся(!)… Оказалось, однако, что беглец явился в губернию и привез целый ворох бумажных стрел, которые вынудили его к побегу. Губернская власть не могла не сочувствовать положению единственного приверженца собственной системы в воинственном уезде, и г. Бобоедов получил новое назначение – председателем сергачской продовольственной комиссии. Там кормили, и политика г. Бобоедова была там ко двору…
Упомянув об этом «побеге» и холодно отметив, что на место г. Бобоедова прислан присутствовавший тут же г. Костин, – председатель предложил земскому начальнику Железнову доложить комиссии о деле «учуевских крестьян».
Здесь была уже явная крамола: семеро крестьян села Учуевского Майдана, лишенных ссуды местными властями, почтительно в прошении представили на усмотрение губернской комиссии свое печальное положение и просили высшую инстанцию об отмене распоряжения земского начальника (г. Железнова) и о выдаче ссуды. Прошение было представлено от имени и по доверию семерых просителей некоторым Егором Кандиным, а за всех по безграмотству расписался NN… Губернская комиссия посмотрела на этот случай просто и отослала злополучное прошение на усмотрение уездной комиссии, которой оставалось только проверить правильность просьбы по существу и затем поставить ту или другую резолюцию о просимом хлебе. Однако лукояновская комиссия взглянула на вопрос гораздо глубже: для нее здесь выступил вопрос политический, угроза «спокойствию уезда». Просьба была отожествлена с жалобой, жалоба (хотя бы и в законной форме) – с преступлением. Поэтому учуевская слезница была передана тому же земскому начальнику Железнову для дознания, и мы с великим удивлением услышали в описываемом заседании результаты этого своеобразного исследования. Результаты эти предстали в виде «акта», начинавшегося словами: «мы, нижеподписавшиеся», и кончавшегося замечательной фразой: «а более в свое оправдание сказать не имеем»[45].
В чем же это обвинялись, в чем признавались и оправдывались просители из Учуевского Майдана?.. В «дознании» говорилось, что нижеподписавшиеся, хотя и действительно крайне нуждаются в ссуде, которой не получают, хотя и действительно желают ее получать, хотя и действительно говорили о том между собою, но в жалобе в губернскую комиссию неповинны, и ту жалобу Егор Кандин подал от их имени самовольно… И более сказать в свое оправдание не имеют…
– А Егор Кандин? – спросил кто-то, заметив, что подписи самого Кандина на акте не было.
– Упорствует… – мрачно, кратко и как-то вскользь сказал господин Железнов, и в этом слове мне представилась целая недосказанная драма. Бедный Егор Кандин! – подумал я, невольно вздыхая об участи «упорствующего», находившегося в руках этого «энергичного» начальника[46]…
– А уж хотелось мне достать этого писаку, который стряпал им просьбу, – прибавил господин Железнов с какой-то зловещей выразительностью.
– Ну, и что же? – спросили его сотоварищи с видимым интересом, и несколько голов живо повернулись к господину Железнову.
– Пензенский, каналья! – ответил господин Железнов. – Убрался в свою губернию…
Я опять невольно вздохнул, – на этот раз с облегчением. На некоторых лицах выразилось разочарование.
– А что же решено по существу, – хотелось мне спросить, – что же сделано по предмету ссуды?.. Нужна она или не нужна?.. Каково действительное положение этих преступников, бунтующих законными прошениями и приносящих в этом свои оправдания?..
Но я не спросил ничего и поступил, как оказалось, очень благоразумно, так как мне пришлось бы говорить на языке, большинству этих новых деятелей совершенно непонятном…[47]
Затем в заседание был «позван» из соседней комнаты врач г. Мариенгоф, который ознакомил нас с санитарным состоянием уезда. Для врача Мариенгофа не было места за столом, не было и стула, поэтому врач Мариенгоф стоял у порога в почтительной позе и в самом неудобном положении, потому что с огромнейшей ведомостью в руках… Тем не менее, и несмотря на эти маленькие личные неудобства, санитарное состояние уезда изображено было в докладе смиренного врача Мариенгофа самыми оптимистическими чертами. Тифа не было «почти вовсе». Остальные болезни держали себя так же почтительно, как и сам врач Мариенгоф: по какому-то странному влиянию несомненного неурожая, – «санитарное состояние уезда в этом году улучшилось против прежних лет». Очевидно, самые болезни стремились угодить лукояновской комиссии.
Председатель милостиво кивнул г. Мариенгофу головой, и г. Мариенгоф ушел со своей шуршащей ведомостью. Мы уже видели, какими цифрами более правдивый товарищ и единомышленник г. Мариенгофа, г. Эрбштейн, иллюстрировал «санитарное улучшение», и потому не станем останавливаться на этом эпизоде, тем более что непосредственно за этим последовали эпизоды гораздо более драматичные.
Начал говорить г. Философов.
Смысл его речи, очень возбужденной (и чрезвычайно несдержанной), состоял в том, что уезду не грозят ни голод, ни болезни. Все это злонамеренные выдумки! А вот «спокойствие уезда» – в положительной опасности и именно вследствие распоряжений из губернии. По мнению г. Философова, надо быть сумасшедшим, чтобы действовать таким образом. Удаление «целой корпорации полицейских чиновников» произвело волнение умов. На базарах открыто толкуют, что вслед за этим последуют и другие перемены в составе уездных чиновников и даже… что сам г. Философов вынужден будет удалиться…
Легкий ропот в собрании отмечает эту ужасную перспективу… Господин Железнов, сидящий по правую руку, – что-то тихо и тревожно возражает на ухо председателю, оглядываясь на исправника и на «чужих».
– Но ведь вы же сами мне все это говорили, а? – с недоумением и досадой обрывает его председатель и затем продолжает, что «вместо удаленной корпорации – присланы люди, во что бы то ни стало разыскивающие голод и болезни»…
Сидевший около меня новый исправник, отставной кавалерист, не служивший ранее в полиции и на первый же раз попавший в самое пекло уездной политики новейшего времени, как-то возбужденно задвигался на стуле. Мы, посланцы губернского комитета и до известной степени гости уездной комиссии, еще ничем не нарушившие нейтралитета, оглядываемся друг на друга не без недоумения… Господин Железнов печально смотрит в потолок, С. Н. Бестужев широко улыбается, г. Ахматов слегка краснеет. Тактичный председатель стремительно следует дальше…
Удаление «корпорации» (выражение показалось мне замечательно удачным!) – и притом в такое тревожное время – расшатало в уезде власть в такой степени, что «за последствия ручаться невозможно». Ввиду этого г. Философов слагает с себя, вместе с званием председателя комиссии, всякую ответственность за имеющие произойти в близком будущем мрачные события. Он отказывается от председательства, но не от прежней своей должности. Он еще будет «бороться» в надежде восстановить пошатнувшееся спокойствие уезда и надеется найти поддержку.
Совершенно ясное и неприкрытое заключение этой речи состояло в следующем силлогизме: удаление исправника в тревожное время угрожает спокойствию уезда, ослабляя авторитет власти. Авторитет этот может быть восстановлен лишь посредством… удаления губернатора, на что еще остается некоторая надежда. А тогда вернуть «корпорацию» в одном не кормящем уезде и объявить войну всем уездам кормящим… Вот что, по-видимому, рисовалось в тумане будущего, как недосказанные desiderata[48] своеобразной лукояновской программы… То обстоятельство, что перемены в губернской администрации «в такое тревожное время», быть может, еще более неудобны, чем удаление уездной корпорации, – по-видимому, совсем не входило в эти уездно-политические соображения…
Да, это была настоящая уездная драма. Казалось, мрачное будущее со всеми ужасами уездной анархии стоит уже у порога конспиративной квартиры и кидает в эту комнату свою тень… И все это, в последнем выводе, явилось бы результатом лишних трехсот тысяч пудов хлеба, который, как порох, грозил взрывом страстей, а столовые представлялись чем-то вроде политических клубов. Нужно сказать, забегая несколько вперед, что самые мрачные предсказания базарной молвы исполнились с буквальною точностью. За «корпорацией» уездной полиции последовали другие отставки. Сам г. Философов тоже, и притом окончательно, удалился в лоно частной жизни… И, однако, странное дело! – уезд не шелохнулся. Мало этого: даже ссуда была со временем увеличена вдвое, пол-уезда покрылось сетью столовых, – и нигде не обнаружилось никаких переворотов. «Спокойствие уезда» решительно обмануло ожидания могущественного уездного диктатора, сложившего с себя ответственность за последствия, которых налицо не оказалось!..
А вот, – было ли бы все так же спокойно, если бы лукояновская система продолжалась до конца, – это так и осталось вопросом…
Господин Философов торжественно встал и удалился в соседнюю комнату. А его место с видом отчасти зловещим занял г. Пушкин. Вскоре, однако, собрание деморализовалось, объявлен был перерыв, и мы вышли в другую комнату.
– Смотрите, – толкнул меня локтем один из моих «сотоварищей по несчастью», указывая головой на дальнюю комнату.
Там, среди табачного дыма, пронизанного смутным мерцанием стеариновых свечей, я увидел три или четыре фигуры, с самым таинственным видом склонившиеся головами друг к другу и, по-видимому, обсуждавшие что-то с нарочито таинственным видом.
– Вот оно где, – настоящее-то заседание начинается, – сказал мой собеседник, лучше меня знакомый с обычными приемами официальных заседаний «конспиративной» квартиры.
И он не ошибся. Все, что мы видели до сих пор, было только вперед рассчитанным эффектом уездного протеста. «Настоящее» готовилось в этом таинственном совещании, и через несколько дней мы узнали, что против нас, против всех вообще представителей политики кормления, еще даже ничем себя не заявивших, – была пущена самая язвительная «мемория». Тут-то составлено знаменитое в свое время постановление против печати, «пользующейся официальными данными», тут же задумано и сообщение о «неблагонамеренных и даже поднадзорных лицах», под видом столовых простирающих адские посягательства на «спокойствие уезда»… Все эти призраки, когда они появились через несколько дней в необычайной для них атмосфере гласности, в губернском комитете, имели, надо сказать правду, – очень жалкий вид каких-то ощипанных куриц. Я должен, однако, прибавить, что к этому категорическому заявлению о «неблагонамеренных, сеющих смуту», – сделана небольшая приписка, которою исключался полковник Рутницкий, защищенный своим мундиром… Эта приписка усугубляла зато значение и роль всех остальных приезжих уже без всякого исключения… Все мы очутились под обвинением в «сеянии смуты», иначе сказать, – под действием политического доноса. Ultima ratio[49] русской консервативной полемики!..
А приезжих было так много… Удивительно, что и после этого уезд остался все-таки спокоен.
Мы ушли, а конспиративная квартира все еще до глубокой ночи светила огнями из запотевших окон на темную улицу и пустую площадь заинтересованного города. Весть об отказе г. Философова обсуждалась в уездных сферах, интересующихся политикой, а остальная жизнь шла своим обычным нерадостным чередом, не зная, а только смутно воспринимая результаты этой уездной политики…
И было так странно порой, после описанных бурь, натыкаться на эти непосредственные проявления отдаленных влияний…
Вскоре после описанного заседания, и даже, помнится, на следующий день, – я возвращался с А. И. Гучковым от одного из новых знакомых. Спускался вечер, сырой и мглистый. Обширная площадь была пуста, на ней виднелись только сугробы рыхлого уже и мокрого весеннего снега, а среди сугробов две неясно видные женские фигуры вели негромкую беседу. Когда мы проходили мимо, – голос одной из говоривших поразил меня какой-то особенной нотой (слов я не слышал). Женщина говорила что-то нараспев и длинным рукавом суконного кафтана утирала слезы. Увидев нас, женщины быстро попрощались, и одна, плакавшая, пошла торопливою походкой впереди нас по мосткам…
– О чем ты плакала? – сказал я, догоняя ее. Она ускорила шаги. Мне было совестно добиваться ответа, но что-то в ее голосе поразило меня такой щемящей тоской, что я чувствовал потребность вмешаться, узнать, в чем дело, быть может, помочь. Ведь я для этого приехал.
При повторенном вопросе женщина с видимой неохотой замедлила шаг. Она продолжала плакать.
– Девочка из дому согнала, – сказала она, видимо делая усилие и опять утирая рукавом слезы… – Ступай, говорит, мама, добейся хлебца… Добейся, говорит… А я откуль добьюсь?.. Вот у Чиркуновых подали кусочек, только и добилась. Мужик ходил, ходил, ничего не принес.
– Неужто ничего не подали в городе?
– Да, вишь, ссуду мы получаем…
Понемногу я понял. Семья состоит из троих. Старик – плохой и убогий, не старая, но тоже довольно «плохая» жена и маленькая девочка, которая на этот раз «согнала ее с квартиры». Эта нищая семья осчастливлена ссудой в двадцать восемь фунтов. Этого хватает на неделю, в остальное время приходится все-таки побираться…
– Мы-то уж как бы нибудь… – говорит женщина… Говорит она как-то странно, как будто не может уже удержаться, но вместе прибавляет шагу и идет так быстро, что нам трудно поспевать за нею…
– По два дня и то не евши… Да, вишь, девочка-те гонит. «Добейся, а ты, мама, добейся»…
– Этто чего надумала, – продолжает она: – «Зарой, говорит, меня, мама, в земельку». Господи! – «Что ты, – я говорю, – милая моя, нешто живых-те в земельку зарывают?..» – «А ты меня зарой», говорит… И то… Кабы такая вера: легла бы и с девочкой в землю-те, право, легла бы…
Я невольно вспомнил свою «девочку по четвертому году», и безотчетный ужас сжал мое сердце. Мы оба с какой-то невольной торопливостью отдаем ей всю нашу мелочь; набирается, во всяком случае, неожиданно много для нее. Но она все так же плачет, слезы текут у нее неудержимо и все сильнее, и я боюсь, что это перейдет в какой-то необычайный взрыв заразительной жалости и смертной тоски. Я понимаю теперь, почему она так говорила, так плакала, так торопилась уйти от нас, так неохотно отвечала на вопросы. Она уходила от этого своего рассказа о ребенке, который просит, чтобы его зарыли в земельку… И, право, не знаю, решился ли бы я заведомо вызвать ее на этот рассказ…
Это была профессиональная нищенка, и я знаю, сколько самых неопровержимых соображений может вызвать рассказанный мною эпизод. Я знаю, что этой семье помочь трудно и что таких семей тысячи. Знаю также, что этой девочке лучше бы вовсе не являться на свет от «плохих» родителей-нищих. Но все-таки читатель, может быть, согласится, что этого рассказа Сироткина не изобрела «для господ», и значит… девочка по четвертому году сама надумала эту страшную мысль…
И сколько таких мыслей роилось в детских головах, принимая только другие формы, но скрывая ту же смертную тоску, которая свила свои гнезда в детских сердцах…
Вот что, между прочим, называется голодом в нашем XIX столетии…
X
ОТКРЫТИЕ ПЕРВЫХ СТОЛОВЫХ. – СИСТЕМА В 1-М УЧАСТКЕ, И ПОЧЕМУ Я НЕ ОТКРЫЛ СТОЛОВОЙ В ВАСИЛЕВОМ-МАЙДАНЕ
Одиннадцатого марта, в 12 часов, мы открыли нашу первую столовую в Елфимовом-Майдане. При выборе хозяев, как оказалось, очень удачном, старики руководились, между прочим, тем соображением, что у старухи – вдовы писаря – живет ее сын «студент». Ироническая кличка дана молодому крестьянину, в котором односельцы заметили особые стремления. Натура талантливая, неудовлетворенная, чего-то ищущая и глохнущая в деревенской обстановке. Переходя от ремесла к ремеслу, он изучил их немало, но ни на одном не остановился окончательно и живет в беззаботной бедности дилетантом-печником. Он любит читать, в разговоре употребляет непонятные слова и, имея смутные стремления к интеллектуальности, тяготеет к церкви, как это иногда бывает с пробуждающейся сельской интеллигенцией. Односельцы, как видно, смотрят на него слегка насмешливо. И, однако, лишь только встретилось новое дело, – небывалый еще в селе пример бесплатного кормления, – мысли их тотчас же обратились к «студенту». Чего лучше: и список прочтет, и продукт запишет, и хлеб развесит, и порядок заведет.
Действительно, «студент» приготовил все, как следует. В избе, очень тесной, но чистой, мы увидели на стене два листа бумаги. На одном были выписаны четким почерком распределение и количество отпускаемых продуктов, на другом – имена и фамилии обедающих.
Отслужили молебен, «студент» сделал перекличку. То, что я увидел, теперь уже меня не удивило: убогие, увечные, старики и дети толпились у столов (две кадки с положенными на них досками), и было сразу заметно, что сорок человек – это слишком мало для села. Только что начали обедать, как я услышал, что за столом оказался кто-то лишний.
– Не по закону ест кто-то, – заявил «студент». – Хлеба не хватило…
– Феська не по закону ест.
– Фесь, не по закону ты ешь, слышь, – заговорили уже кругом, толкая под локоть девочку лет тринадцати – четырнадцати, которая, однако, не обращала на эти протесты ни малейшего внимания. Я подошел со стороны и взглянул ей в лицо. Лицо у нее было совершенно серьезно, даже, пожалуй, равнодушно. Казалось, для нее не существовало кругом ничего, кроме хлеба, который она держала в руке, и чашки, стоявшей на столе. Она торопливо откусывала хлеб и тотчас же протягивала ложку к чашке, не признавая, очевидно, никакого закона, кроме права голода, и не обращая внимания на говор, как будто замечания относились не к ней.
На лицах сельской публики, пришедшей взглянуть на первый бесплатный обед, я прочел искреннее сожаление и соболезнование к «беззаконнице».
– Немая, что ли? – спросил я.
– Какое немая! Сирота это, дня два, чай, хлеба не видала.
– Как же ее не внесли, когда составляли список?
– Да ведь бродит она кое-где. На виду не было, ну, и забыли про нее. А уж как бы не записать! А то, вишь, не по закону, а поди-ка ее теперь из-за стола вытащи…
– Ни за что не вытащишь. Вишь, как припала… Голод закона не знает!
Разумеется, мне тоже пришлось признать за ней самое важное из прав – право голода, и мы тут же вписали со «студентом» ее имя в список… хотя это, по-видимому, произвело на нее так же мало впечатления, как и прежние замечания о совершаемом ею «беззаконии».
Вот сидит за столом мальчишка лет шести. Он сел первым и встал последним. Все время он ел с какой-то мрачной сосредоточенностью, между тем как мать смотрела на него со слезами на глазах. Я боялся, что мальчику повредит эта неумеренность, но меня уверили, что детям это не вредно. «От пищи им вреды не бывает. Напузырится, гляди, как клоп, а через час опять запросит. Вали, Мишка, ничего!»
Красивый мальчишка, совсем у нас не записанный, стоит, потупясь, и, точно волчонок, глядит на стол, заваленный хлебом. Сначала я думал, судя по чистой рубашонке и по опрятному виду красивого ребенка, что он пришел сюда из любопытства, но, видя, что он стоит долго, весь красный, застенчивый и готовый заплакать, я отрезал ему горбушку. Он взял ее торопливо, сунул за пазуху и тотчас же пошел из избы.
– Погоди, куда ж ты торопишься?
– Илюшка еще у меня… плачет, чай, – ответил мальчуган серьезно.
И он ушел, чтобы поделиться с Илюшкой долго жданным куском чистого хлеба.
Не раз впоследствии, при виде подобных же картин, глядя на этих «незванных» к убогому пиршеству наших столовых, – мне хотелось изорвать все мои с таким трудом составленные списки и сказать просто: приходите вое, кому надо. Может быть, это была ошибка, но при тех условиях я не считал себя вправе отдаться этому побуждению и старался пристроить свои крохи на самое дно народной нужды.
И не раз у меня сжималось сердце при виде этих печальных глаз устремленных на счастливцев, занявших свои места… Вот баба привела и держит перед собою парнишку. По всему видно, что пристроить его нельзя. Двое мужиков из семьи на работе, на остальных получает, правда, по двадцати фунтов, но это здесь норма.
– Полсела, прямо сказать, этаких-то, – говорит, отворачиваясь, один из стариков.
Мать не хочет знать этих соображений. Она знает только, что дети голодны, что каждый вечер в избе стоит плач. Но вот тотчас же за ней подходит старуха. Ей 63 года, живет у зятя, на нее пособие не идет, а зять человек и бедный, и непутный. Жить 63 года в неустанном труде и дожить до голода в собственной семье, – такова судьба не одной этой старухи. Ее, по единогласному отзыву присутствующих, я вношу в список на место одного из четырех членов семьи, осчастливленной внезапной выдачей ссуды (тоже по двадцати фунтов).
Вот еще мать привела двух детей. Один записан, другой пришел вместе с братом. Один ест за столом, другой плачет рядом.
Чтобы устранить эти случаи, осушить эти слезы, мне нужно бы все деньги, которые были тогда в моем распоряжении, употребить на одно это село… Я не знал, имею ли я на это право. Приходилось поневоле производить эти аптекарские взвешивания, высчитывать эти слезинки, чтобы выбрать последние степени нужды и страдания…
Двенадцатого марта открыта вторая столовая в селе Пичингушах, в моем отсутствии. В этот день я ездил в Василев-Майдан, где, однако, не сделал пока ничего, несмотря на то, что здесь не было бы недостатка в отличных помощниках. Нерешимость моя – пристроить здесь мои, еще скудные, средства – истекала из некоторых особенностей «продовольственной истории» этого села, да, пожалуй, и всего 1-го земского участка, – особенностей, на мой взгляд достаточно характерных, чтобы остановиться на них несколько подробнее.
Первый участок – это именно тот, в котором так часто сменялись земские начальники. Их здесь было так много, что, можно сказать, совсем не было. Собственно, назначен был на это место г. Бобоедов, с историей которого мы уже отчасти знакомы. Вступить в должность сначала мешали ему обязанности директора Дворянского банка, потом болезнь. Но, в ожидании его, участок оставался вакантным, и должность временно исправляли другие лица. Между этими другими был С. Н. Бестужев – земский начальник 6-го участка… Им, то есть, вернее, при нем составлены были имущественные списки по 1-му участку еще в июле месяце.
Я имел случай видеть эти списки в подлиннике. Интереснейшей их чертой является то обстоятельство, что в них нет и речи собственно о наличности хлеба, то есть о главном. В графе об имуществе отмечались постройки, частью инвентарь и скот… Господа земские начальники, так сказать, нацеливались вперед, – что именно можно распродать у голодающего населения. Впоследствии, когда ревизия И. П. Кутлубицкого отметила эту черту в деятельности комиссии, господа лукояновцы обиделись и возражали, что они вовсе не имели этого в виду, и что, оспаривая земскую смету, они основывались на своем «знании уезда» вообще и, в частности, на сведениях о наличных запасах. Однако официальные протоколы заседаний решительно опровергают это. Я, например, с большим любопытством прочел в журнале от 24 сентября следующее место: «Постановлено (большинством голосов): сумму денег на продовольственные нужды на уезд определить в 250 000 руб.; что же касается до выяснения суммы по каждому участку отдельно, – то просить земских начальников о доставлении свода в комиссию».
Итак, спорная сумма определялась ранее, чем господами земскими начальниками были доставлены точные слагаемые! Не ясно ли уже из этого неопровержимого и официально установленного факта, что заключение лукояновской комиссии явилось априорным продуктом уездной политики.
Когда впоследствии мне пришлось беседовать об этом с одним из этих политиков, то мой собеседник разрешил мое недоумение удивительно просто.
– Послушайте! Надо же государственное казначейство пожалеть. Вы думаете, там наши требования очень приятны?
Вот именно! Ничего не может быть проще и характеристичнее. «Местных деятелей» спрашивают из Петербурга о том, что они видят на месте, и именно потому, что этого из Петербурга не видно, между тем как положение государственного казначейства, наоборот, там-то именно и известно несколько лучше, чем здесь. А «местные практики» вместо того, чтобы, не мудрствуя лукаво, сказать правду, – стараются угадать, какой их ответ будет приятнее и доставит большее удовольствие… И выходит, что, вместо прямого и честного ответа, они возвращают Петербургу в лучшем случае его собственные предположения, съездившие в провинцию за этим «якобы» подтверждением на месте. Следует ли доказывать, что это угодничество никому не нужно. Ведь если, таким образом, господа земские начальники берут на себя заботу о государственном казначействе, тогда государственному казначею приходится хоть самому собирать нужные сведения на местах.
Что делать, однако! Это молчалинство характерная черта всего нашего строя, и, может быть, от этого у нас все кажется слишком благополучно вплоть до рокового времени, когда, наконец, неблагополучие высунется, как шило из мешка…
Итак, не статистика, а политика легла в основание первоначальной лукояновской сметы. Получив цифру, заданную вперед, господа земские начальники в заседании 3 октября представили свои частные цифры, из коих сложилась сумма в триста тысяч пудов хлеба, то есть (по тогдашним ценам) немного превысившая первую… Слагаемые определились суммой, а сумма соответствовала мужиконенавистнической политике властных дворян.
Чем же все-таки руководились господа земские начальники? Разумеется, отвергнув с презрением статистику земства, – они обратились к писарям и волостным старшинам, и тут опять вышла та же история. Старшины и старосты такие же хорошие политики, как и сами земские начальники. Они очень хорошо, быть может, лучше и непосредственнее других ощущают, что в «высших (участковых) сферах» приятно и что неприятно. Понятно поэтому, что, имея в руках вперед заданную цифру по всему участку, земские начальники руками покорных писарей и старшин легко приноровили слагаемые к заданной вперед сумме… Это – задача элементарной арифметики!.. Волостные писаря услужливо подтверждали предвзятые цифры господ земских начальников. Получилась стройная система, в основе которой лежала голая фантазия, ибо в статистических вопросах, как известно, переход от общего к частному совершенно не имеет места.
Но 1-й участок, как уже сказано, имел так много земских начальников, что это было почти равносильно полному их отсутствию. Понятно из этого, что он отстал от «нового курса» к приезду г. Бобоедова. А г. Бобоедов, к счастию для участка, в это время был в дурных отношениях с господствующей партией, и у него не было охоты прилаживаться к «новому курсу». Поэтому цифры писарей и старшин, остававшихся без «высшего руководства», дали уже другие результаты. В конце концов политические конъюнктуры в 1-м участке сложились так благоприятно, что население получало ссуду в несколько большем размере.
Это уже была, разумеется, оппозиция… Та самая оппозиция уездной оппозиции, о которой мы уже говорили, и повела она к той самой войне в недрах уезда, которую я уже отчасти описал выше. Господин Бобоедов оказался в опасном противоречии с «продовольственной уездной комиссией», его участок стал ареной междоусобия, и, странное дело! – те самые господа земские начальники, которые ни разу не проверяли списков в больших селах своих участков, находили достаточно времени для «проверки списков» в участке г. Бобоедова…
Проверка списков – дело, по-видимому, довольно мирное. Но в Лукояновском, а порой в других уездах оно принимало вид настоящих военных экспедиций. В один прекрасный день к правлению голодающего села или деревни стремительно подкатывает несколько саней. Впереди и сзади скачут полицейские урядники и сотские, и весь отряд, едва зайдя в правление, отправляется по селу с обысками, чтобы застигнуть «виновных» врасплох. На селе тревога, бабы и мужики куда-то шмыгают, что-то прячут на задворках, усердные полицейские их настигают, земские начальники врываются в избы, открывают заслонки печей, «шарят по подклетям и в подпольях», взламывают даже половицы, вытаскивают на свет божий то каравай хлеба, то мерку муки или зерна и составляют протоколы, точно им удалось раскрыть следы ужасающего преступления… Часа через два или три, победоносные и торжествующие, они удаляются с трофеями в виде протоколов о найденных «запасах»… Там-то обнаружена мера овса, там-то в печи оказался большой горшок каши, в третьем месте – мягкий, только что выпеченный хлеб… Разумеется, о тех случаях, когда не найдено ничего, – протоколы умалчивают, и в ближайшем заседании уездной комиссии участники экспедиции радостно излагают ее результаты: голода нет… в участке П. Г. Бобоедова обнаружены скрытые запасы…
В конце концов г. Бобоедов сбежал, а списки г. Бобоедова остались, потому что находить, при помощи урядников, отдельные случаи неправильных выдач легко, а составить новые списки, да еще в чужом участке гораздо труднее. Притом же г. Костин, временно заменивший г. Бобоедова, человек доброжелательный и гуманный, – не имел вдобавок физической возможности заняться пересоставлением этих списков. Мы видели, что он мгновенно превратился в приемщика земского хлеба и едва справлялся с текущим делом.
Несомненно, тут не обошлось без частных ошибок, и тем более, чем списки были старее. Однако, несомненно также, что в общем этот неисправленный список был гораздо ближе к истинному положению дела, чем новые «исправленные» списки других участков. В нем были ошибки частные. В других – одна, коренная, общая ошибка, что гораздо хуже… И вот почему Василев-Майдан, например, – село, более других подорванное годами неурядицы, недавним пожаром и неурожаем, глубже Елфимова расстроенное экономически, – в меньшей степени испытало невзгоду острой нужды, так как в нем было больше хлеба…
В этом мне пришлось убедиться довольно скоро при помощи местного священника, о. Г. H. Гуляева, о котором я уже упоминал однажды.
К сожалению, не всегда можно рассчитывать на вполне независимое мнение священника о некоторых щекотливых, особенно имущественных вопросах по приходу. Положение сельского священника зависимое. Починить домишко, обработать помочью поле, выстроить школу, и, наконец, просто пойдет священник за сбором, – богач и горлан при всяком случае люди нужные. Вот почему в большинстве случаев на сходе священник стеснится сказать громко: такого-то не пишите, такому-то не нужно. Он сделает знак, кивнет головой или сообщит вам соответственное сведение относительно того или другого более назойливого, чем нуждающегося прихожанина разве у себя на дому (о случае, когда священнику побили окна за отзывы по этому предмету, я уже говорил ранее).
Тем приятнее видеть хоть изредка факты, когда личное достоинство и нравственный авторитет берут верх над унизительной зависимостью положения. В моей (главным образом, дальнейшей) практике мне доводилось встречать и такие случаи, и особенно ярко запомнились два: в одном – это был еще юноша священник, только что оставивший семинарскую скамью, в другом – седой старик, благочинный в Василевом-Майдане. О. Григорий живет уже много лет со своей паствой, и василевские «бунтовщики» – козлища для других – в его глазах являются добрыми прихожанами и добрыми людьми. Недавно, после пожара, уничтожившего все имущество священника без остатка, ему предложили выгодный приход в городе. О. Григорий отказался: жил с ними в хорошие годы, – не хочется кидать в дурные…
Все это я говорю вот к чему, такой труд, в чем бы он ни состоял, и такое отношение к себе народ и понимает, и ценит; годы такой совместной жизни действительно дают интеллигентному труженику огромную нравственную силу и авторитетность в деревне. Впоследствии, когда неравномерность выдач в разных участках была хоть до некоторой степени устранена, – мне пришлось вместе с священником о. Гуляевым участвовать в составлении списка на многолюдном сходе, состоявшем из этих прославленных бунтовщиков. И я видел, что этот крестьянский мир и этот интеллигентный труженик деревни, отдавший ей годы бескорыстной работы и завоевавший тем неоспоримое право нравственного влияния, что эти два фактора, взятые вместе, дают все, что нужно, чтобы любое дело было сделано правильно и по совести.
К сожалению, по многим причинам это явление в деревне не часто. У нас кричат теперь о перепроизводстве интеллигенции, а между тем – ее совсем почти нет в деревне. Учитель – в загоне и не виден. Врачей – два-три на уезд… Помещик и управляющий – часто люди интеллигентные, но они стоят в положении нанимателей, иногда даже – воюющей стороны. Священники – самый заметный у нас и влиятельный класс, роль которого – прямое удовлетворение духовных интересов народа. Однако и здесь явление, о котором я говорю, которое, казалось бы, в этом-то классе и желательно, и возможно в особенности, – встречается не часто… Я приведу впоследствии несколько красноречивых фактов, указывающих, как опасно было священнику исполнять в Лукояновском уезде свою роль заботливого пастыря, а пока скажу только, что когда о. Григорий призвал к себе пять-шесть стариков и предложил им несколько интересовавших меня вопросов, то ответы были даны вполне откровенные. Между прочим, я спросил, сколько семей в селе получают теперь ссуду напрасно. Священник вместе со стариками, считая «по порядкам», насчитали домов тринадцать – пятнадцать. Если даже допустить цифру двадцать, то вот вам эта ужасная ошибка в сторону кормления в огромном селе! Теперь, когда я делаю эти выписки из своего дневника, после того, как побывал почти во всех деревнях и селах большей половины уезда, – я могу в любом большом селе самого экономного из экономных земских начальников указать такое же и даже большее количество дворов, которым (как мы уже видели в селе Пичингушах) ссуда выдавалась неправильно, по пристрастным указаниям старост, никем фактически не проверенным. Разница лишь в том, что там эта ошибка подчеркивалась другой, противоположной: получали богачи, а настоящие бедняки голодали.
Из той же откровенной беседы в Василевом-Майдане я вывел и то заключение, о котором говорил выше. Когда я рассказал старикам, где я открыл столовые, то они единогласно заявили, что эти села богаче. Но когда я перебрал свой список и указал им, кого именно я записал там, сколько записанные получают казенной ссуды и кого приходилось исключать, то и сам священник, и крестьяне, хотя и со вздохом, согласились, что их село мне пока придется обойти. «Другим, поэтому, еще нужнее, а уж, кажется, у нас беднота».
Из этого, думаю, позволительно извлечь вывод: неурожай зависит не всегда от нас, но нужда не всегда пропорциональна неурожаю, и новоявленные «попечители народа» ухитрялись порой создать искусственный голод даже там, где его можно бы сравнительно легко избежать.
И еще: одна ошибка общего характера гораздо страшнее десятков частных ошибок.
XI
ПО ПУТИ В ЛУКОЯНОВСКУЮ «КАМЧАТКУ». – ЕЩЕ О СПОКОЙСТВИИ УЕЗДА. – ОБУХОВСКИЙ ЗЕМСКИЙ ХУТОР. – О «ЗИЖДУЩЕЙ РАБОТЕ» И О «ТРУДНО-БОЛЬНЫХ»
Возможны два приема помощи населению в пределах частной благотворительности. Первый – когда интеллигентный человек, живущий или хоть поселившийся на продолжительное время в нуждающейся деревне, вступает в непосредственное, более или менее тесное общение с теми, кому он помогает. К материальной помощи он может прибавить в этом случае нравственную поддержку, может отдать людям, которых знает и которые его знают, все, на что способен, все, что находится в его распоряжении из нравственных и материальных ресурсов. Не раскидываясь широко, вы можете затонуть в самую глубь народной нужды, войти во все ее детали, не упустить ничего… Без сомнения, это наиболее симпатичная, полная и человечная форма благотворительности, устанавливающая известную взаимность между принимающим и дающим, наконец, приносящая наибольшее удовлетворение для обеих сторон.
Об этом мечтал и я, отправляясь из Нижнего.
Однако есть и другой прием, и он-то, по обстоятельствам, выпал на мою долю. Как ни хорошо, как ни благотворно нравственное общение и взаимность, однако и прямо кусок хлеба, сам по себе, составляет великое благо там, где его не хватает, где матери приходится целые дни слышать немолчный крик голодного ребенка. С первых же шагов на лукояновской почве я увидел, что в этом обездоленном уезде мне придется отказаться от первоначальной мечты и вместо того, чтобы сосредоточить работу в тесном районе, необходимо будет раскинуть ее вширь, почти по всей площади, жертвуя и общением, и многими другими хорошими вещами – простейшей задаче: открыть как можно больше столовых, охватить ими поскорее, еще до распутицы, возможно широкое пространство, доставить хлеб в самые отдаленные и глухие деревушки.
Обстоятельства складывались явно о этом направлении. Вернувшись в Лукоянов, я узнал, между прочим, что в мое распоряжение предоставлено губернской земской управой полторы тысячи пудов хлеба, купленного на средства И. М. Сибирякова. Это обстоятельство оказало нам громадную услугу и окончательно определило дальнейший способ действий. Можно сказать даже, что теперь образ действий зависел уже не от меня: я очутился как бы в упряжке, – эта масса хлеба требовала скорейшего и наиболее целесообразного распределения.
Вот почему 15 марта я сидел в санях, запряженных гусем, и мчался, вместе с H. M. Сибирцевым, уполномоченным губернского земства, по дороге в дальнюю Шутиловскую волость. Съездом мировых судей Нижегородского уезда образовано попечительство, в распоряжение которого отдано две с половиной тысячи такого же хлеба для Лукояновского уезда, пятьсот пудов направлено прямо в Шутиловскую волость и доставлено еще вовремя по последним путям. В видах скорости мы решили соединить наши действия, и я ехал на «Обуховский хутор», чтобы расплатиться за извоз и распорядиться хлебом.
Бросив взгляд на лесную карту Нижегородского края, вы легко заметите широкую ленту сплошного леса, почти непрерывно протянувшуюся от Волги по направлению к Оке и захватившую южные уезды нашей губернии. Лукояновский уезд разделяется ею на две неравные части: южную, так называемый Започинковский край, и северную, собственно лукояновскую. Далее зеленая лента охватывает с юга Арзамасский уезд, уходит на время в Пензенскую и Тамбовскую губернию, дает в последней могучие еще поныне дебри Саровской пустыни, раскидывается частыми островами по пескам Ардатовского уезда и, наконец, перекинувшись за Оку у Ардатова, Горбатова и старинного Мурома с его эпическим селом Карачаровым, уходит на север. Это – остатки знаменитых некогда Муромских и Брынских лесов.
Казенные прямые просеки, правильные лесорубки, свистки железных и стеклянных заводов, на далекие расстояния оглашающие дремучие дебри, – все это давным-давно распугало мрачные воспоминания о Соловьях-разбойниках, об Ильях Муромцах и о всякой лесной вольнице. Самые леса постепенно повывелись, уступая место пашням, и только на совершенно песчаной полосе их пощадили топор и соха. Там, где прежде было необозримое и таинственное зеленое море, теперь осталась только зеленая река, охваченная и сжатая ясно очерченными берегами. Однако, по нынешним временам, и это еще очень значительные лесные массы: дремучий, старый, многолетний бор осеняет, налагает свою печать и определяет физиономию целой местности. Залесная сторона – Шутиловская и Мадаевская волости – носит в уезде название «Камчатки».
Три больших поселения лежат еще по сю сторону леса: Салдаманово, Шандрово и Салдамановокий-Майдан, где нам пришлось менять лошадей. У волостного правления мы увидели двое саней, запряженных тройками, гусем, и кучку народа у дверей. Священник, к которому мы зашли на время, рассказал нам с некоторой сдержанностью, что в волость приехало небывалое еще начальство: нижегородский помощник полицеймейстера г. Косткин, в сопровождении помощника исправника. Помощник полицеймейстера из Нижнего в подлесном селе отдаленного уезда, конечно, явление не совсем обычное, и хотя, по видимости, речь идет об освидетельствовании пожарных средств в деревнях и селах, но все понимают, что дело тут не в бочках и насосах… В короткий период времени в уезде совершился целый переворот, о котором, конечно, толкуют всюду… И странное дело, ни о каком «беспокойстве в уезде» не было прежде и речи, – а теперь эта фраза так и носится в воздухе, – разумеется, как фантастический отголосок последнего «заседания» уездной комиссии…
– Отчего это? – спросил я как-то у местного деятеля.
– Помилуйте! Такое время…
– Какое?
– Да ведь все-таки… нужда, народ восприимчив…
Итак, основная причина, которая вызывает все эти толки о «беспокойстве», – «все-таки нужда» и именно в хлебе. «Голод плохой советчик», это правда. Но если так, то очевидно, что всякое усилие, направленное на устранение именно этой основной причины – нужды в хлебе, – должно быть рассматриваемо как средство к водворению спокойствия. Казалось бы, это совершенно ясно. Но ясно не для всех, и господа из лукояновской комиссии выдвинули силлогизм другого рода: в голодный год возможны беспорядки, и потому кормить народ едут только смутьяны.
Проезжая мимо «пожарного сарая», мы видим и самого господина Косткина. В Нижнем он слывет настоящим Лекоком, и однажды я имел сомнительное удовольствие видеть его у себя с понятыми. На сей раз нижегородский Лекок кланяется мне довольно любезно. Мы понимаем друг друга: талантливый «исследователь» найдет всегда то, что нужно начальству. В другое время он мог бы, разумеется, причинить мне неприятности, и я даже не знал бы, что именно обо мне написано. Но теперь, по доносу лукояновских деятелей, воюющих с губернатором, – результаты «негласного дознания» могут быть только в мою пользу… Тем более, что, по слухам, доносы эти поддерживаются жандармским генералом, а с ним H. M. Баранов тоже не в ладах.
Обмениваясь утешительными мыслями о том, как иногда спасительны для партикулярного русского человека распри между начальствующими персонами, – мы едем дальше.
Небольшая деревушка Чеварда – последний поселок по сю сторону леса – имела очень грустный вид в сыроватых сумерках. Лесом мы проехали уже среди густой темноты. Днем здесь производятся общественные лесные работы, о которых скажу кое-что после. Небольшой огонек, светившийся на кордоне, где живет заведующий работами лесничий, да неясно видневшиеся по сторонам клади вырубленного леса – одни только напоминали о том, что здесь днем идут работы, о которых так много говорится и пишется, на которые так много возлагается надежд. Когда, перед отъездом из Лукоянова, я сказал земскому начальнику 6-го участка о цели своей поездки, то С. Н. Бестужев с самым беззаботным, даже веселым видом сообщил мне, что я найду в «Камчатке» картину полного довольства. «О, да там у них был очень порядочный урожай, а теперь еще, вдобавок, идут лесные работы». Об урожае я уже знал, что это совершенно неверно. О работах напрасно старался узнать от господина земского начальника: каковы их размеры, сколько человек может быть занято, каков средний заработок конного и пешего, какое количество хлеба эти работы могут внести в крестьянскую среду, – эти вопросы, даже как вопросы только, были моему собеседнику совершенно чужды. Он глядел на меня круглыми от недоумения глазами и широко улыбался, как будто удивляясь, что можно интересоваться такими пустяками. Впрочем, крайняя беззаботность составляла главную черту, которую этот молодой человек вносил в свои служебные отношения, и мы увидим дальше (см. гл. XIII), как он распорядился, в конце концов, «со всеми этими скучными делами и бумагами». Когда они ему основательно надоели, он их связал веревочкой, некоторые просто изорвал, гербовые пошлины употребил на собственные неотложные надобности, затем уехал куда-то, не считая нужным даже уведомить о своем отъезде кого бы то ни было. Съезду земских начальников пришлось наряжать особую комиссию для разыскания пропавшего делопроизводства целого земского участка. Все эти подвиги были самым официальным образом констатированы впоследствии, но, разумеется, уже и тогда общий, так сказать, характер деятельности господина Бестужева, весьма близкий к тому, что прежде принято было называть «преступлением по должности», – ни для кого не был тайной, и мне нечего прибавлять, что ни сам земский начальник, и вообще никто из лукояновской продовольственной комиссии «за лесом» (то есть во всей огромной Шутиловской волости) не был ни одного раза! Там где-то стучали несколько десятков топоров. Значит, – у него (мужика) есть работа, значит, нужно ему до известных пределов сократить ссуду. Этим определялись взаимные отношения лукояновской «Камчатки» и лукояновской продовольственной комиссии. Понятно поэтому, что я ехал туда без особенного оптимизма.
Часов около десяти перед нами замелькали, наконец, редкие огоньки Обуховки, и, миновав последний спящий ветряк этого большого удельного села, мы выехали по узкой дорожке в поле. Темная полоса лесов осталась за нами. Впереди легкая метель крутила и несла снежную изморозь по обширной равнине залесного края, с его неведомой еще для меня нуждою, и сквозь мглу, на небольшом отлогом возвышении, мигали огоньки Обуховского земского хутора, ближайшей цели нашего путешествия.
«Обуховский земский хутор» – учреждение очень интересное, одно из тех, необходимость и польза которых должны бы, кажется, стоять вне всякого спора. На земле, пожертвованной генерал-майором Григорьевым, в Лукояновском уезде основан сначала «земский хутор», а затем в хуторе в 1886 году учреждена низшая сельскохозяйственная школа. Генерал-майор Григорьев, очевидно, признавал пользу сельскохозяйственного образования в земледельческой стране. Признавало ее и земство, признавало правительство. Григорьев пожертвовал землю, правда, в местности не особенно плодородной. Однако мне кажется, что здесь-то, в этой лесной стране, лишающейся лесов и по необходимости переходящей к земледелию, существование земского образцового хутора и школы могло бы быть особенно полезно. Земство ассигновало на школу определенную сумму – пять тысяч рублей (из доходов хутора и из земского сбора), министерство государственных имуществ прибавило к этому три тысячи рублей (ежегодно) из кредитов департамента земледелия и сельской промышленности. Казалось бы, польза и необходимость учреждения признаны окончательно и бесповоротно, и ему остается только развиваться. Однако… в том-то и дело, что в нынешнем периоде нашей жизни у нас нет уже, кажется, ничего признанного, установившегося, незыблемого, подлежащего только развитию, но никак не упразднению. Недавний «период реформ» ославлен, как период сплошного и бесшабашного отрицания. И однако, не странно ли, что именно в это время насаждено и создано вновь очень много совершенно новых учреждений, проникло в жизнь много новых начал. Этот якобы «отрицательный» период миновал, и что же? Нет уже прописной истины, которая не подверглась бы сомнению, и даже исконная мораль, гласящая, что «ученье свет, а неученье тьма», ныне весьма оспаривается самобытными философами даже на страницах печатных органов. Года два назад, в горбатовском земском собрании (нашей губернии) гласный и земский начальник г. Обтяжнов выступил против… начального народного образования в земских школах, доказывая, что земская грамотность породила только негодяев, пьяниц и преступников. По странному стечению обстоятельств, г. Обтяжнов в «период отрицания» сам очень ревностно насаждал именно эти школы, в качестве председателя земской управы и школьного попечителя. Но вот «период отрицания» прошел, миновала и мода, увлекавшая иных людей в этом периоде, наступила мода другая, – тот же г. Обтяжнов в наше время отрицает то, что насаждал в разгаре периода отрицания… Это ли не странное, не поучительное противоречие!
Господин Обтяжнов прославился этой своей вылазкой до такой степени, что об нем говорили и газеты, и толстые журналы. Но уже этот шум указывает, что г. Обтяжнов «попал в точку», что он не одинок в России (как, впрочем, оказался тогда одинок в земском собрании), что в самом деле мы готовы были уже усомниться в самой «пользе просвещения»[50].
Мудрено ли поэтому, что усомнились в пользе земледельческой школы. В том-то и дело, что вместо творческой работы над укреплением того, что необходимо укрепить и развивать, мы то и дело вынуждены возвращаться к основному вопросу.
– А что, господа, – скажет кто-нибудь из земцев лукояновского типа, потягиваясь и зевая, – уж не закрыть ли нам эту штуку вовсе?.. – И, смотришь, непременно найдутся приверженцы «закрытия», и «штука», подлежащая развитию или преобразованию, заболевает смертельной болезнью неустанного страха за свое существование… Какое же тут возможно «совершенствование и процветание»?
Обуховский земский хутор еще в прошлом году пережил именно этот смертельный период. Кому-то что-то не понравилось в учреждении, которое и существует-то без году неделю. Казалось бы, речь может идти о необходимых улучшениях. Но речь шла именно о закрытии, о котором очень серьезно рассуждала целая комиссия. Нашлись на этот раз люди, которым удалось отстоять школу. Характерны, однако, основные мотивы, руководившие комиссией в ее решении. Она нашла, что закрытие школы было бы еще… преждевременно!
Преждевременно! Не правда ли, что такое решение можно принять разве только зевая, собираясь «на сон грядущий» и именно от скуки. Предполагается, значит, что скоро станет «благовременно» закрывать, а не увеличивать число земледельческих училищ и образцовых хозяйств в земледельческой стране. Подумать только, какую громадную пользу могло бы принести существование «земского хутора» хотя бы теперь, в голодный год, – сколько лошадей оно могло бы прокормить, какую оказать помощь населению, какими неизгладимыми чертами запечатлеться в памяти окрестного крестьянства, сколько разрушить застарелой косности и предрассудков!..
А между тем, случай этот пропущен, и на вопрос, что сделал земский хутор в неурожайном году для окрестного населения, – придется ответить: ничего! То есть ничего, как учреждение, между тем, в качестве частных лиц, по своему почину его обитатели сделали (как увидим ниже) немало. Отчего же это? Ответ ясен: для полезной, живой, энергической работы нужна свобода инициативы, которая дается только уверенностью в своем существовании. На все упреки хутор справедливо ответит вам, что он недавно только оправился от смертельной болезни… Пойдет ли на ум организационная, творческая работа тому, о ком еще вчера рассуждали, не своевременно ли ему уже умереть, и о ком тот же разговор может вновь возобновиться завтра и даже, быть может, именно по поводу его работы среди голодающего населения…
А земство? Я отлично помню, к каким упрекам земству может подать повод все, написанное выше. «Обличительный» период тоже миновал, будто бы вместе с периодом «отрицательным». И, однако, мы все-таки остались ужасными обличителями, с тою только разницей, что нынешние наши обличения направляются, как сила пороха, в сторону наименьшего сопротивления. Со стороны земства сопротивления не встречается никакого, и вот почему, основываясь на подавляющей массе газетных сообщений, можно «на глазомер» придти к заключению, что все зло нашей жизни есть зло «либеральное» вообще и земское в частности. Однако достаточно простого сопоставления нынешнего, например, положения в губерниях земских с неземскими губерниями (например, Оренбургской), чтобы увидеть, что причины надо искать не тут… Это – во-первых, а во-вторых: разве земство не может ответить вам то же, что и Обуховский хутор? Я стараюсь говорить здесь только о своей губернии, только о том, что мы здесь все видим ясно. А видели мы, как с первых же дней «продовольственного кризиса» и еще долго спустя речь шла не о том, как делать дело, а кто его будет делать: упраздняемое земство или усиливаемая администрация. Отчего бы это ни происходило, но это факт. А пока все это решалось, шло колебание, борьба и неуверенность, при которых трудно и говорить о какой бы то ни было смелой, решительной, организующей и творческой работе. Хорошо еще, что при таких условиях и простейшие задачи выполнены центральным земским органом с честью.
Однако, все это отступление – новая дань вопросам «высшей», на этот раз, губернской политики. Теперь уже окончательно мы с вами, читатель, в центре дальней, залесной и сильно нуждающейся местности.
Ясное утро 16 марта глядит в окна. Кругом глубокие снега занесли открыто лежащий на равнине хутор. Передо мной – высокие крыши хуторских построек, направо – школа, где уже идут уроки.
Когда я глядел в окно, мимо с кошелем и длинной палкой прошел нищий; я выхожу в сени и натыкаюсь на двух жалких старух, с болезненной девочкой. Видно, что на хуторе «подают», и нищие тянутся сюда по сугробным тропам. Виденный мною прохожий тоже входит в сени. Замечательно типичная и даже красивая в своей типичности фигура настоящего лесного жителя. Прямые, правильные черты, простодушное выражение светлоголубых на выкате глаз, очень длинные прямые волосы, подстриженные на лбу так, что они образуют для лица как бы рамку. Такими рисуют на картинах наших предков-славян, и такими видел я лесных жителей Горбатовского уезда, целую толпу крестьян Шереметевской вотчины. Тип этот, очевидно, сохранился и держится еще среди дебрей бывшего эпического леса.
Такой же лесной человек стоит передо мною и глядит простодушными синими глазами.
– Что тебе? – спрашиваю я.
– Дровец порубить, што ли бы… Парнишка вот тут сбирает, подали ему, а я бы… дровец…
– Как тебя зовут?
– Меня-то-о? (он певуче тянет последние слоги).
– Да, тебя.
– Павлом, меня-то…
– Откуда?
– Я-то?
– Да, ты.
– Микольской.
– А пособие получаешь?
– Способие-то?..
Голубые глаза глядят на меня с недоумением и скорбью. Скорбь эта – не то о пособии, не то от тяжести непривычного разговора, а может быть – и от голодного истощения…
– Ссуду-те… Вишь ты, не получае-е-м мы.
– Отчего?
– Вишь ты… Дьячков сын, того…
– Что?
– Вишь ты, списал с нас ссуду-те дьячков сын будто…
– Как это списал?
Он делает усилие, оживляется и произносит целую речь:
– Та-ак. Отец-то его, дьячок, то есть, бает моему отцю-те: дай жалование. А мой-те евоному-те отцю: откуль возьму? – «А не откуль, мол, взять, так и нет тебе способия». Видишь ты, сын-от дьячков и списал с нас…
– Как же он мог списать?
– Он-ту? Да вить он у нас писарь!..
Я понял! Вот он, лесной народ, и вот что значит порой писарь для лесного народа, и вот как можно верить порой писарю, держащему в руках лесную братию. Пока я смотрел с любопытством и жалостью на этого лесного красавца, в котором человек дремлет еще сном прошедших веков, убаюканный тишью лесных дебрей, – в его лице неторопливо совершалась новая перемена: оно как будто просветлело, что-то пробилось наружу вголубых глазах, и, повернувшись ко мне, он сказал с признаком радостного изумления:
– А ныне, слышь, опять вешали…
– Что вешали-то?
– Да что! Чудак! Хлеб вешали опять… И, слышь, чиновник опять разыскал в книгах-те…
– Кого?
– Да нас-ту разыскал, велел и нам выдать.
– Ты как же про это узнал?
– Да, вишь, парнишку встретил, парнишка баит… Не знаю – правда, не знаю – неправда. Домой плетусь.
Глаза опять угасли, красивое лицо застыло в грусти, и он сказал прежним тоном:
– Отощал… дровец бы порубить.
Ему дали хлеба на дорогу, и красивая архаическая фигура исчезла вскоре на снежной дороге, провожаемая моим сочувственным взглядом… Что найдет он дома? Рассеянную иллюзию «пособия», или в самом деле его семью «разыскали в книгах», и злые ковы всемогущего дьячкова сына нарушены. Мне казалось сначала, что вернее первое; я знал, что ни один еще начальник не приезжал с такими целями в лукояновскую «Камчатку». К счастью, оказалось, по словам моих хозяев, что Никольское – в Пензенской губернии. А там, кажется, кормят…
XII
В «КАМЧАТКЕ». – МАДАЕВСКИЙ СТАРШИНА. – «ИССЛЕДОВАНИЕ» ШУТИЛОВСКОЙ ВОЛОСТИ. – ИСТОЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ. – ОПАСНОСТЬ ВООБРАЖАЕМАЯ И ИСТИННАЯ ОПАСНОСТЬ
Шестнадцатого марта мы втроем, то есть я, H. M. Сибирцев и А. Ф. Чеботарев, управляющий земским хутором, отправились составлять список в с. Шутилово, столицу лукояновской «Камчатки». Здесь, в волостном правлении, нас встретил писарь, субъект отекший и заспанный, в узком летнем пиджаке, который он то и дело пытался застегнуть, из приличия, на верхнюю пуговицу. Я с любопытством смотрел на этого верховного администратора «Камчатки», зная из недавнего разговора с «лесным человеком» и из многих других примеров, какое огромное значение должен иметь этот заспанный субъект для целой местности.
Необычное в «Камчатке» появление незнакомых господ «по продовольственной части», по-видимому, его несколько встревожило. Он принес списки, пытаясь что-то объяснить, причем, для большей вразумительности, наклонялся ко мне и дышал мне в лицо. С какой-то тревожной бесцеремонностью он заглядывал в мою книжку, где я делал нужные мне предварительные отметки, пока в избу постепенно собирались старики. Однако это ему скоро надоело, и он удалился к себе. Через некоторое время он вышел опять, спросил у меня «бумагу» и, прочитав ее, опять удалился, чтобы появиться перед моим отъездом. Кажется, он спал и, быть может, видел неприятные сны; по крайней мере он мне показался еще более заспанным и застегивал свой пиджак с видом не особенно приветливым,
В общем фигура эта внушила мне некоторое разочарование. Нет, не таким ожидал я встретить одного из неограниченных почти вершителей продовольственного дела в бедной «Камчатке». И, действительно, тут же пришлось мне узнать, что, по-видимому, местное волостное начальство не пользуется особенным доверием господина Бестужева. По крайней мере «поверка списков» производилась здесь, – это очень оригинально, – старшиной Мадаевской волости. Итак, вот во что обратилось здесь пресловутое «знание своей местности». Исследования мадаевского старшины относительно Шутиловской волости противопоставлялись, как данные, смете губернской управы, основанной на точных и обстоятельных исследованиях статистики, – а система, целиком покоившаяся на компетенции мадаевского старшины, выдавалась за систему «земского начальника 6-го участка». Как и всюду, впрочем, здесь было, несомненно, известное взаимодействие: там, у себя, в кабинете, господин земский начальник «проходил» еще раз списки, составленные на месте, и исправлял их, посильно подгоняя итоги под заданную уездной комиссией цифру…
В докладе благотворительному комитету, в свое время напечатанном в газетах, я дал общую характеристику этой системы. Между прочим, я указал там на странное и трудно объяснимое обстоятельство: в феврале размеры ссуды по всей волости подверглись вдруг внезапному и сильному сокращению. Нужно сказать здесь, что при определении размеров ссуды население разделялось вообще на три разряда: первый разряд, беднейших, получал в январе по тридцати фунтов, второй по пятнадцати, третий не получал вовсе. Но вот, в феврале, первому разряду назначается вдруг только двадцать фунтов, второму десять. При этом мужики заявляют, что фактически они получили по пяти и по десяти – одиннадцати фунтов.
Это последнее обстоятельство сначала казалось мне маловероятным; что же касается до общего сокращения, то оно было несомненно, так как значилось в списках. На месте мне объяснили, что это случилось именно после объезда мадаевского старшины: у некоторых из обысканных крестьян найден хлеб. Однако у меня в руках были списки, в которых сам знаменитый старшина сделал отметки о найденном хлебе и имуществе. Списки эти, даже с этими отметками, производили угнетающее впечатление крайней бедности. А все-таки… у незначительного количества крестьян найдено кое-что, прежде скрытое… Итак, он, коллективный и единоличный мужик, скрывает и обманывает. На этом, будто бы, основании ему вообще, ему – коллективному и единоличному – последовала общая сбавка…
Другое объяснение, данное мне в городе, было проще и еще менее утешительно. Господин земский начальник 6-го участка – человек очень молодой. Когда у продовольственной комиссии началась война с губернией, господин земский начальник увлекся борьбой и сразу сократил размеры ссуды почти вдвое. Таким образом, если верить этому объяснению, – уезд воюет с губернией, а ни в чем не повинная, ни к чему не причастная «Камчатка» платит военную реквизицию!
Наконец, третья категория сведущих людей, к которой я обращался за объяснениями, только пожимала плечами:
– Этого не знает никто, даже, пожалуй, сам земский начальник. Спросите… у мадаевского старшины.
Но мне не пришлось встретиться с этим старшиной. Забегая вперед, скажу только, что это субъект очень интересный, своего рода сила, один из этих деревенских типов, защита против которых местного населения выставлялась, между прочим, задачей института земских начальников. В данном случае выходило наоборот: г. Бестужев всячески защищал своего старшину. Когда я проезжал через Мадаевскую волость, – этот старшина находился в довольно неприятном положении: один из крестьян его волости был приговорен волостным судом к аресту. Старшина распорядился запереть его, не ожидая истечения законного апелляционного срока. Говорят, он запер его собственноручно, и ключ от кутузки увез с собою. Мне рассказывали в нескольких местах, что заключенный стучал в двери, просился, кричал, что он умирает… Официально установлено, что, когда дверь была отперта, незаконно заключенный крестьянин оказался мертвым от угара…
Смерть по недоразумению!.. Официальное дознание установило, что срок апелляции не истек, когда приговоренный был посажен. В книге приговоров написано: «приговором недоволен», затем частица «не» кем-то зачеркнута, и эта поправка не оговорена в тексте. Сказать проще: в книге кем-то совершен нужный старшине подлог. Впрочем, как известно, закон требует истечения законного срока, независимо от первоначального заявления подсудимого (и только в последнее время для некоторых случаев допущено изъятие, все-таки с непременного согласия приговоренного)…
Старшину постановили предать суду… Этот-то именно субъект по разным причинам пользовался столь исключительным доверием земского начальника Бестужева, что ему была предоставлена проверка списков не только в своей, но и в чужих волостях.
В другом месте я постараюсь указать изменчивые оттенки крестьянских сходов, которые мне пришлось видеть. Здесь скажу только, что система «мадаевского старшины», – отмеченная тою, поистине, железною жестокостью, какую порой может проявить отпрыск деревни к своей собственной среде, – вызывает в толпе явное и глухое недовольство. Удивительно, как, при известных приемах, могут стать ненавистны народу самые симпатичные начинания. Прочитайте в брошюре Л. Н. Толстого страницы, где он говорит о «помощи в виде работы». Что можно возразить против этих высоко убедительных строк? И однако, здесь я замечал глухой ропот и гневные взгляды всякий раз, когда заходил разговор об общественных работах в казенном лесу. Почему? – это я подробнее понял впоследствии, но уже во время схода в Шутилове кое-что выступило ясно. Первое – всякий нанявшийся тотчас же лишает ссуды одного или двух членов своей семьи, второе – работам сразу придавался характер до известной степени принудительный. Вот почему толпа глухо роптала каждый раз, когда при упоминании того или другого имени слышался отзыв:
– Нездоров… Убился на казенной работе…
Далее выступает опять знакомый разряд недовольных: это мельники. За них всюду и единогласно заступаются остальные миряне. Я уже говорил, что это за заведения – эти сельские и деревенские мельницы. У каждой от четырех до восьми крыльев, и на каждое крыло приходится порой по человеку, иногда и по два владельца. И вот, в неурожайный год – крылья стали недвижно или машут изредка, лениво… На краю села, у самого въезда в Шутилово, стоит одно из этих злополучных сооружений… Крылья изломаны, бок запал, крыша провалилась. Владели ею четверо заводчиков, «по крылу на человека», и в числе этих несчастливцев был Николай Игнашин, человек с огромной семьей. Что уже и раньше эти «заводчики» были не в блестящем положении, видно хотя бы из того факта, что и в урожайные годы они не могли собраться с силой и исправить свое «заведение». Однако и эта никуда негодная махина, портящая ландшафт своим изуродованным силуэтом, лишила Николая Игнашина всякого права на помощь… Легко представить себе, что происходило в этой несчастной семье из восьми человек в эти долгие зимние месяцы.
Я говорил уже много раз, что не стану гоняться за раздирательными сценами и эффектами голода. Для человека с душой, для общества, не окончательно отупевшего, достаточно и того, что сотни детей плачут, болеют и умирают, хотя бы и не прямо в голодных судорогах, что тысячи человек бледнеют, худеют, теряют силы, наконец, разоряются из-за голода… Однако из песни слова не выкинешь, и я не могу пройти полным молчанием мрачную картину, которую представляла эта несчастная «Камчатка» под железным давлением бездушной системы: пять или десять фунтов на целый февраль, и то не всем нуждающимся семьям, и то не на всех членов семьи!.. Мудрено ли, что в населении отложился целый пласт истощенных, обессилевших, апатичных людей… Уже в Салдамановском-Майдане священник говорил мне, что нанятого для рубки дров рабочего приходилось предварительно кормить, так как он не мог поднять топора!.. Это подтвердил мне впоследствии и г. Гелинг, управляющий большим имением в том же крае, это говорили многие в Шутиловской волости. Это было уже явление массовое, сплошное, а не единичное. Но если так…
Если так, то неизбежно из этого пласта должны были отлагаться случаи еще более печального свойства… И они были. Так, в Савослейке Леонтий Юдин, получивший пять фунтов ржи и пять фунтов кукурузы на месяц, так ослаб, что А. И. Русиновой, случайно узнавшей об этом, приходилось его откармливать постепенно. Он остался жив… Но там же Перфилов, он же Моисеев, голодавший несколько дней, получив ссуду, умер от первого же куска хлеба. Это побудило добрых людей открыть в «Камчатке» столовые, не ожидая ниоткуда содействия…
Вон из моего окна на хуторе, где я заношу свои впечатления, видны синие леса, снег, дорога. По дороге мальчишка лет двенадцати тащит за собой лошадь. Сам он ступает неверно, шатается, лошадь еле идет, останавливается, ноги у нее дрожат. Это он ведет ее на прокорм на земский хутор…
Я выхожу в сени и узнаю печальную и, к сожалению, слишком обыкновенную историю: «выбились, кормить нечем, издыхает последняя животина». Отец, больной и голодный, потащился в лес собирать сучья.
– Как еще и дотащится-то, – говорит мальчишка и отворачивается. На губах у мальчика какие-то струпья, как будто от худосочия, вроде запекшейся крови, лицо бледно, глаза, молодые и красивые, глядят грустно и как-то тускло, губы подергиваются нервною дрожью. Он прячет лицо, как будто стыдится своей слабости или боится заплакать под взглядами невольного сочувствия…
– Изнервничался народ необычайно, – говорили мне местные жители: но это – нервность терпеливого, почти безнадежного страдания… «Обуховский земский хутор» лежит среди снежной равнины. Узкая, то и дело проваливающаяся под ногами дорожка, по которой ездят только «гусем», тянется к хутору по сугробам и, перерезавши двор, теряется в таких же сугробах, меж тощим кустарником, по направлению к лесу, синеющему на горизонте. По этим дорожкам, то и дело видите вы, – чернеют одиноко и парами, порой вереницами фигуры людей, бредущих с сумами и котомками, спотыкающихся, проваливающихся и усталых. У всякого за спиной, кроме собственной усталости и собственного голода, есть еще грызущая тоска о близких, о детях, которые где-то там маются и плачут, и «перебьются ли», пока он здесь ходит, непривычный нищий, от села к селу, от экономии к экономии – он не знает. А ведь они тоже любят своих жен и детей…
И одни за другими они проходят, спрашивают «насчет работы» или «Христа-ради на дорогу» и идут дальше, теряясь в снежной равнине, а на смену приходят другие… И ничего в экономии не пропало ни разу, и никто не думает о том, что вот тут хутор, обильный, снабженный хлебом, сытый, – лежит беззащитно и беззаботно среди равнин и лесов, где на просторе раскинулось пожаром жгучее горе и отчаяние голодного народа. Удивительно, как эти господа, так много кричащие ныне о пороках нашей деревни, – не замечают, что все они покрываются с избытком одной этой удобной для них добродетелью, – этим удивительным запасом неистощимого терпения и кротости… А господа уездные политиканы и вояки, как мы уже видели, пускают ее в игру, в виде «спокойствия уезда», угрожаемого со стороны излишней сытости, баловства и каких-то грозных пришельцев… Между тем, земледельческое население голодающих уездов проявляло удивительное долготерпение. Широкая все-таки, хотя, быть может, и не всюду достаточная помощь – принята, когда ее дали, с благодарным удивлением… «Продышим теперь», – не раз приходилось слышать эти слова! Только бы продышать, только бы пробиться, только бы прокормить детей и скотину до того времени, как сойдут снега, как зазеленеют поля, как господь опять проявит свою милость. «Только бы как-нибудь» – и пахарь все вынесет и никого не обвинит в своей невзгоде, все забудет, – и над свежими могилами потянется опять вечная непрерывная волна никогда не умирающей жизни…
«Только бы как-нибудь!» Вот в том-то и дело: «только бы!» Опасность все-таки есть, но она не там, где ее видят тупые уездные политиканы. Она не привозится заезжими людьми в чемоданах, ее надо было искать тут, на месте… Опасность, во-первых, в народном невежестве, которое по объему равно народному долготерпению. Опасность, во-вторых, в огромной бреши, которую последние годы сделали в народном хозяйстве. «Крестьянство рушится», – эта фраза слышится теперь слишком часто… Рушится крестьянство, как рушится дорога, подтопленная снизу весенней ростепелью. Опасность в этих четвертях мельниц, в этих тысячах мельничных крыльев, быстро переходящих в кулацкие руки из-за нескольких мер хлеба, не выданного своевременно; в этих тысячах голов рабочего скота, бессильно падающих от бескормицы или тоже переходящих к кулакам за бесценок.
В прошлом еще году нижегородское земско-статистическое бюро закончило собирание материала по губернии. Ныне эти цифры останутся поучительным памятником недавнего прошлого. «Коров столько-то, лошадей столько-то, безлошадных столько-то». Уже в течение последних лет в этих рубриках происходили изменения далеко не утешительного свойства, но это были изменения постепенные. Год за годом оставлял свою рытвину, точно след реки на отлогом берегу. Два последние года произвели уже настоящий обрыв, точно после наводнения… Река народной жизни опять войдет в русло, но течение уже будет не то. На нем, как новые мели, могут отложиться новые пласты «бывшего крестьянства», вновь возникшего сельского пролетариата.
Вот это – истинная опасность! Конечно, она – результат не одного этого года, но все же она значительна и требует могучих усилий всего общественного организма, потому что она огромна, широка, повсеместна и стихийна, потому что она отражается в молекулярных процессах, из которых именно и слагаются массовые явления…
Не смешно ли, при таких условиях, как нынешние, видеть людей, которые гоняются за отдельными случаями обмана или пьянства, которые, усчитывая копейки или рюмки выпитой в кабаке водки, пропускают мимо глаз и ушей грозные симптомы «рушащегося крестьянства». Они обращают тревожные взоры на «приезжих», роются в печках, усчитывают три с половиною меры лебеды, точно расчисляют, на сколько дней ее хватит крестьянской семье. Между тем, может быть, лучше было бы передать вдвое, чтобы избежать неисчислимых последствий невзгоды для народного хозяйства, чтобы поддержать работника и плательщика русской земли, вместо нищего, которому опять придется давать подачки. Здоровая почва опять и опять напитала бы верхние слои…
Вчера мы составили списки для четырех столовых (в двух обществах села Шутилова и в сельце Бутском), сегодня с утра опять отправляемся на ту же работу: разливать эти капли помощи в море нужды. Воздух, отяжелевший, напитанный весенними парами, навис над землею серой пеленой, всасывающей влагу снегов, как губка… Нынешней ночью не было мороза, дорога сразу осела и размякла. Уже вчера жалко было смотреть на лошадей, с раздутыми ноздрями и выражением ужаса в глазах бившихся в зажорах. Сегодня, конечно, будет еще труднее… Пожалуй, мы не успеем за распутицей распределить и того, чем можем располагать. Надо торопиться. А тут какая-то тяжесть в голове и в сердце. Весна, весна! Долго буду я помнить эту весну… Глубокие снега, занесенные деревушки. Тесные избы, с душно-сомкнувшейся толпой мужиков, необходимость подымать руку, чтобы вычеркнуть имя не слишком еще оголодавшего ребенка, потому что их много…
– Может, еще пробьешься… Возьмем у тебя одного.
– Чем пробьюсь? – спрашивает мужик и глядит на меня в упор мрачными страдающими глазами.
– Да ведь все-таки… пособие.
– Пятнадцать-то фунтов! По неделе ребятишки хлеба не видят… Мякиной подавились…
А все-таки одного надо вычеркнуть, потому что их много… И я чувствую, что голова тяжелеет и нервы притупляются, и видишь, что вместе с делом помощи делаешь жестокое дело, потому что эта черта, проведенная по имени ребенка, заставляет его голодать и плакать… А нельзя, потому что их слишком много…
Да, не дай бог другого такого года!..
XIII
ЗАРАЖЕННАЯ ДЕРЕВНЯ. – ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ. – «КАКИЕ МЫ ЖИТЕЛИ». – «ВОПРОС»
Семнадцатого марта, часов около двух, мы подъезжаем к Петровке, бедной и невзрачной деревушке, приютившейся под самым лесом, который как-то угрюмо оттеняет ее убогость. Хуторской кучер остановил лошадей около старосты. Лысый мужик выходит к нам с непокрытой головой и не решается надеть шапку, несмотря на наше приглашение.
– Насчет чего? – спрашивает он с признаками некоторого беспокойства.
Управляющего земским хутором А. Ф. Чеботарева он знает, но двое незнакомых господ внушают ему некоторое опасение. Как и вся деревушка, как будто оробевшая вблизи казенного леса («рукой подать, а подижа тронь хоть оглоблю!»), и староста, и несколько подошедших мужиков, подростков и мальчишек, видимо, жмутся и робеют. Угнетенный вид, землистые лица и лохмотья…
Узнав, что мы «насчет продовольствия» и «по части столовых», – деревня, в лице ее невзрачных представителей, ободрилась и как бы просветлела.
– То-то вот, – произносит староста, опять сволакивая с лысой головы жалкое подобие шапки… – Забыли нас или уж как… Бьемся, бьемся, другим людям дают, а нам нет ничего.
– Как, – разве вы не получаете пособия?..
– Выдали: кому пять фунтов, кому семь; нешто с этим жив будешь… Другим вот…
Робкая подлесная деревушка не может, по-видимому, представить себе, что и другие, кажущиеся ей счастливцами, получают тоже по пяти и семи фунтов. Петровцам кажется, что это только их забыли здесь, в медвежьем углу, под лесом.
Между тем, наш приезд обратил уже внимание, и деревня зашевелилась, как муравейник. Какой-то мужик, коренастый, с угрюмым лицом, подошел к нам походкою медведя и вопросительно уставился на старосту.
– Да еще вот, – заговорил тот, как бы поняв значение этого тяжелого взгляда, – женщина у нас больная… Рот у нее вовсе теперича открылся, нос проваленой. Просто оказать, никуда не годится, беда! Что хошь с ней делай…
– Дух, – мрачно пояснил новопришедший и опять уставился на старосту, как бы подсказывая ему продолжение речи.
– Действительно, ваше благородие, дух от ней пошел, терпежу нет. Лежит на печке, в избу не войдешь…
– И не ходит никуды, – опять подгоняет мужик своего официального заступника и оратора.
– Так точно. Правда это: не может и ходить никуды. Прежде все-таки нарусь-те (наружу) ходила, ноне никуды не ходит.
– А дети малые… – опять подсказывает муж больной женщины, очевидно, крайне заинтересованный, чтобы красноречие старосты произвело на нас должное впечатление.
А двери то и дело отворяются, и из-под кучек снега, нахлобучившего белыми шапками невзрачные избенки, сползаются к нам петровские обыватели, закоптелые, оборванные, робкие… Деревня несет к нам свои горести и невзгоды…
– Много ли у вас таких больны
– Есть, прямо сказать, несколько, – говорит староста (несколько в этих местах означает много).
– Вот Захарка еще гнусит.
– Ну, это у него сроду так…
– Да уж это, брат, сроду… знаем мы!
– И то! Она ведь, боль-те, лукавая. Заберется в нутренность, а там, гляди, и нос за собой втянет.
– Гляди, и у Захарки носу-то все меньше становится…
На несколько мгновений водворяется унылое молчание…
– Что такое, не знаем мы, – говорит староста… – Взялась у нас эта боль и взялась, вишь ты, боль… Эх, беда!
– Терпежу нет… от бабы-те… – заводит опять мрачный мужик, видя, что разговор принял слишком общее направление.
– Погоди… Вишь, насчет столовой приехали. Подь, стариков скликни.
Мрачный мужик пошел той же медвежьей походкой вдоль порядка, постукивая подожком в оконницы…
– Стариков на сборну, эй старики!.. – слышали мы все удалявшийся по улице унылый и сиплый голос.
Через несколько минут я сидел во въезжей избе, курной, закопченной и низкой, и раскладывался со своей походной канцелярией.
Как всегда, после краткого объяснения цели моей поездки, начинаются общие жалобы. Ссуды получают мало, и, как всюду, деревня приписывает это влиянию своих ближайших деревенских и сельских властей. Вообще положение этих властей – меж двух огней, перед лицом высшей уездной политики, с одной стороны, и ропота своих односельцев, с другой – поистине плачевно. Об этом воинствующая комиссия не заботилась нисколько. Требуя от губернии, чтобы в угоду ей была изменена вся продовольственная система, в смысле сокращения и урезок, – она в то же время всю ответственность перед народом возлагала на самых низших представителей власти. Земский начальник Бестужев не переступал ни разу за лесную черту, отделявшую от остального мира «Камчатку», где глухой ропот и негодование росли вместе с бедствием.
И глухая злоба населения естественно обращалась на ближайших к нему, часто совершенно невольных представителей сократительной политики. Рядом со мной на скамейке сидит деревенский писарь. Это еще молодой мужик, одетый так же бедно, как и остальные. Цвет лица у него землистый, глаза тусклые, слегка слезятся, выражение угнетенное и грустное. Он дает мне обяснения толково и просто; однако, когда он отворачивается или ищет нужную бумагу, – мужики, стоящие ближе, начинают жестикулировать и подмигивать, указывая мне на него и давая понять, что в нем причина их несчастия. Через полчаса это высказывается уже прямо. И, конечно, деревне очень трудно разобраться во всей этой путанице, которую наделали все внезапные непонятные сокращения, вычеты, ссуды в размерах пяти фунтов, да еще с какими-то дробями!.. Понятно поэтому, что единственный грамотей, держащий в своих руках «бумагу» и тоже не могущий ничего объяснить, – является в глазах деревни несомненным виновником беды… «В других-те местах так, а у нас эдак… Начальники (то есть вот этот же писарек с волостными властями) продали… Кровью нашей сыты и пьяны…» – вот что приходилось выслушивать писарю от расходившегося мира.
Писарь пытается возражать, но возражения только подливают масла в огонь. Видя, что и я ничего не понимаю в его объяснениях насчет этих пяти и семи фунтов с четвертями и осьмушками, тогда как в списках, а значит, и в отчетах земского начальника значатся выдачи по двадцати фунтов, – он, наконец, решается на что-то, как человек, которому надоело страдать безвинно и невесть по какой причине. Он встал, порылся в своих бумагах и достал оттуда какой-то засаленный обрывок серой истрепанной бумаги.
– Прочитайте вот это, – сказал он мне, пожимая плечами.
Я читаю, и хаос проясняется. Текст этого камчатского документа, лежавшего передо мною в виде неправильно оборванного клочка бумаги, так интересен, что я не могу отказать себе в удовольствии привести его здесь целиком и с соблюдением правописания подлинника (он был уже напечатан в журналах заседаний губернской продовольственной комиссии)[51].
На клочке было изображено следующее:
«Сельскому старосте деревни Петровки приказ. Так как за провоз ржи в осени минувшего года извозчикам платилось по зделании общества (sic) ссудным хлебом во вверенном тебе обществе оказывается растрата ржи, то чтобы пополнить растрату Волостное правление по личному приказанию г-на земского начальника предписывается тебе из выдачи ржи на продовольствие за февраль месяц вычитать с каждого причитающегося к выдаче пуда по 16½ ф. или взыскивать деньгами по 66 коп. Старшина Катаев. Писарь (кажется) Верхотин».
Текст написан одними чернилами, собственные имена и цифры, напечатанные у меня курсивом, вставлены после. Таким образом, очевидно, документ имеет все признаки циркуляра… И действительно, я слышал об его существовании уже ранее и впоследствии имел случай убедиться, что он разослан и в другие общества Шутиловской волости, по личному приказанию земского начальника Бестужева.
Когда я читал вполголоса эту бумагу и потом объяснял старикам, что писарь и староста тут ни при чем, все слушали очень внимательно. И действительно, теперь все объяснилось: в феврале первому разряду выдавалось двадцать фунтов, вычет восемь с четвертью, – итак, счастливец первого разряда должен получить одиннадцать с дробью, второму же разряду приходилось по тому же расчету пять и три четверти фунта на месяц!
– Так и есть, точка в точку! – говорили мужики.
– А вы вот все на нас! – с упреком сказал писарь.
– Известно, темные…
Кое-кто выступает еще с заявлениями о каких-то недовесах в волости, но что могут значить эти четверти фунта в сравнении с только что приведенными цифрами… И мир между петровцами и их писарем восстановился окончательно… Они видят, что если тут кто воровал, то не их староста и не их писарь.
Что же, однако, это за документ и что он собой прикрывает? Самое распространенное, но и самое неправдоподобное объяснение его состоит в том, что земский начальник, стремясь вместе со всею комиссией к экономии во что бы то ни стало, оставил нерозданными еще в прошлом году семена ржи, и часть этих семян обращена затем на продовольствие. За провоз хлеба платилось семенной рожью, оцениваемой по рублю двадцати копеек, а в то время, когда она выдавалась в ссуду, – она уже стоила рубль шестьдесят копеек. Вот эти-то сорок копеек, переданных якобы возчикам, в виде разницы в цене, и были будто бы по какому-то своеобразному процессу мысли сочтены растратой, которую «Камчатка» обязана была возвратить вычетами из ссуды…
Как видите, это до такой степени нелепо, что за объяснение сойти не может. Если у меня осталось в экономии от семян тысяча пудов, из которых двести пятьдесят ушло в уплату за перевозку, то из этого ясно только, что теперь остается семьсот пятьдесят пудов на продовольствие, но не видно, чтобы голодные люди совершили какую-то растрату… И кому же возвращалась эта своеобразная «растрата»?
– Это так точно… Справедливо-с, – отвечали мне все, кому я приводил это соображение на месте, и молва тотчас же подыскивала другие причины. Говорили, например, будто часть хлеба по ошибке была направлена в волость Мадаевскую, где и исчезла. Голодные ли разобрали ее самовольно, поступила ли она в какие-либо другие руки, – во всяком случае с нею произошел «беспорядок». А так как у мадаевского старшины беспорядков не бывает и так как мы видели, что именно он устанавливал «систему» продовольствия не только в своей, но и в Шутиловской волости, то вся эта партия хлеба, попавшая в Мадаево, – наложена, будто бы как растрата, на волость Шутиловскую!.. Как бы то ни было, смысл таинственного и, по всем видимостям, преступного документа так и остался нераскрытым до сих пор, невзирая даже на вопросы, обращенные прямо к господину Бестужеву высшим губернским начальством… О предании его суду не было, кажется, и речи.
Забегая несколько вперед, позволю себе привести некоторые дальнейшие черты из деятельности этого интересного «начальника». «В августе 1893 года, – писали из Лукоянова в газету „Неделя“ (№ 49), – земский начальник Бестужев уехал куда-то без отпуска и не сдав должности. Наступил сентябрь: на почте накопился ворох срочной корреспонденции, тяжущиеся бродили по уезду (!), расспрашивая, кому они должны подавать жалобы и прошения. Наконец, 9 сентября получено (частное) письмо от господина Бестужева, гласившее, что он не вернется еще месяц, а дела остались у одного из волостных писарей» (!!).
«Съезд долго не знал, как поступить в таких невиданных обстоятельствах; наконец, составили комиссию „для отыскания дел“ господина Бестужева и прежде всего для выяснения, какому именно из волостных писарей уезда г. Бестужев сдал свою должность. Когда искомый писарь был найден, комиссия приступила к разборке груды бумаг, о чем составила протокол. Вот точная выписка из этого любопытного документа: 12 дел не оплачены марками, хотя пошлины своевременно внесены подателями (!); из 3 дел исчезли денежные документы, означенные в прошениях; 6 дел оказались одними оболочками дел, жалобы же и протоколы утеряны, по одному делу найдена одна оболочка, а в ней две повестки. Совсем не оказалось 73 дел, означенных в реестре»!..
Вот какой интересный молодой человек распоряжался судьбой злополучной лукояновской «Камчатки», и вот от кого зависела судьба десятков тысяч голодающих семей! Не лишено интереса, что во время «лукояновской полемики» князь Мещерский в «Гражданине» называл господина Бестужева «одним из лучших земских начальников». Но еще любопытнее та снисходительность, с какой посмотрело на все эти проделки интересного молодого человека его начальство. Через некоторое время он спокойно появился опять в уезде и стал заключать у местного нотариуса гражданские сделки (!) по поводу своих должностных злоупотреблений. Он растратил «залоги», вверенные ему, как должностному лицу и судье?.. Что за беда! Как «благородный дворянин С. Н. Бестужев», он готов заменить их своими личными обязательствами… Совершив все это без всяких препятствий и замяв каким-то образом дело о побоях, нанесенных в трактире солдату местной команды[52], он отправился на другую должность в Сибирь, где ему была вверена забота о переселенцах на одном из переселенческих пунктов. Долго ли он там удержался, где опять благодетельствует мужиков, какие еще получал назначения, – мне неизвестно…
Сход в Петровке оставил во мне впечатление покорной угнетенности и безнадежной скорби. Мужики больше молчали. Не было слышно этого шумного говора, тех обильных, порой иронических и метких характеристик, какими в других местах встречалось чуть не каждое имя.
– Ну, ну, старики! Что ж вы молчите?.. Шаронова Андрея поместим, что ли? – то и дело приходилось мне будить угрюмое молчание толпы.
– Как не поместить… Чай, надо поместить… Восьмидесяти лет человек. Куда ему податься…
– Мы, господин, потому мало говорим, – заметил один из стариков, – друг дружки стыдимся. Вы, может, меня запишете, а другой-то еще хуже. Все мы плохи, уж вот как, вот как плохи!
– Нешто мы жители, поглядите на нас.
– Какеи мы жители, что уж…
«Житель» – это крестьянин, хозяин, человек самостоятельный, в противоположность бездомнику, бесхозяйному, нищему. Трудно себе представить впечатление этих слов: «какие мы жители», когда целая деревня говорит это о себе. Уничижение, уныние, потупленные глаза, стыд собственного существования… И невольно, как посмотришь, соглашаешься с ними: какие уж это жители!
В других местах хозяин, «житель» не пойдет в столовую, как бы ни нуждался. Лучшие, еще не забывшие недавнее время, когда они были «настоящие жители», – не пошлют даже ребенка. Один раз старик, у которого мы записали внука, вышел на время из избы и, вернувшись, очевидно после разговора с мальчиком, сказал решительно:
– Выпиши назад. Нейдет! Помру, говорит, на печке, а не пойду.
В Петровке я не встречал уже этой стыдливости, здесь не было случаев отказов от посещения столовой. Здесь большинство не стеснялось просить лично за себя, не выжидая, пока выскажутся сторонние. «Троих запишите, четверых у меня».
– Что вы, какие глупые, право, – остановил, наконец, поток этих просьб умный старик, с приятным лицом, хотя тоже отмеченным общей печатью подавленной скорби… – Ведь это благодать, Христа-ради, а не казна! Одного-двух с хлеба долой, и то слава Христу… А вы бы всей семьей так и затискались… Говорите, кто уж вовсе не терпит.
Стыд, не совсем еще умерший, просыпается в толпе, но зато после этих слов она угнетенно и тупо молчит.
– Плохо в этом доме, – слышится порой, – лебеды переели уже несколько (то есть очень много).
– Теперь и лебеды не стало.
– И этот тоже плох мужичонко-те. С самой сорной тропы! Давно побирается.
– Да, вот Александр Фролович знает. Давно уже тропу к нему на хутор пробил позадь дворов…
И вдобавок ко всему то и дело выступают вперед подозрительные, землистые лица, слышатся голоса с особенной, то хрипучей, то гортанной или носовой зловещею нотой. И большая часть из таких больных сами не знают еще, что уже носят в себе сильно развитую болезнь.
Писарь, сидящий рядом со мной, то и дело как-то странно откашливается.
– Вы здоровы? – спрашиваю я у него.
– Здоров… вот что-то… перехватило.
Но я вижу ясно, что уже болезнь подвинулась далеко, проступает в слезящихся глазах, в землистом лице.
Несчастный муж сифилитической бабы то и дело выдвигается из толпы и прерывает нашу работу…
– Ваше благородие, как же мне с бабой-те быть?..
– Молчи, видишь, сейчас некогда.
– Терпежу нет. Дети… Изба махонькая…
Через несколько минут его мрачный, глухой и страдающий голос опять нарушает угрюмую тишину этого угнетенного схода:
– Из сил я выбился. Смерти господь не дает ей. Господи, царица небесная!
На улице он опять выдвигает вперед старосту и сам приступает к нам с неотвязным вопросом:
– Как быть?.. Терпежу нету мне, невозможно мне терпеть, ваше благородие, сделайте божескую милость…
Я даю ему денег на больную, – это все, что я могу сделать. Больная неизлечима, болезнь ее в этом периоде не заразительна, поэтому ее не возьмут в больницу. И вот, целая семья живет в тесной избе с полуумершим и разлагающимся человеком, отравляемая невыносимым «духом». Это, господа, не голод, это не связано ни с засухой, ни с неурожаем. Это для Петровки, для многих Петровок – обычное, заурядное, хроническое явление!
С тяжестью в голове, отуманенные, выбрались мы из тесной избы, с плотной, угрюмой толпой, с ее угнетенным, подавленным и подавляющим настроением, с этими землистыми лицами мужиков, женщин, детей и подростков, едва выделявшихся в парном и темном воздухе курного жилья. На дворе нас встретил уже вечер. Мгла. Лес стоит невдалеке, задернувшись сизым туманом… Там, в двенадцати верстах, в чаще стоит Ташинский завод, наделяющий эти подлесные деревеньки скудным заработком и «дурною болью». А тут уже – с поцелуем матери, с куском поданного Христа-ради хлеба, с надетым на время чужим платочком, – переходит невидимо дурная боль от человека к человеку, из избы в избу и ужасом давит несчастную, темную, беззащитную в своем невежестве деревню.
Мы зашли в ближайшую избу – Кутьина, Степана Егорова. Сам хозяин – явный сифилитик, у которого, по образному выражению одного из его односельцев, лукавая болезнь уже «забралась в нутренность и начинает втягивать нос за собой». Нос у него припух, он гнусит. Его уже все признают больным. В тесной, черной курной избе – две бабы, обе худые до невероятности, одна беременная, другая держит на руках ребенка. На грядке – лукошко с кусками хлеба, собранного подаянием. За этим хлебом с утра ходила по дальним деревням девочка лет семи. Сколько ей пришлось выходить, видно из того, что она по пути заходила на завод, что, по прямому пути, составит двадцать четыре версты, считая туда и обратно.
Теперь она спит. Устала. Предыдущую ночь тоже не слала, потому что заболел палец, всю ночь металась и стонала. На заводе доктор перевязал… Пахнет йодоформом… Признак плохой!..
– Отчего заболело? Ушиблась?
– Нет, так… без всего, просто заболел, – отвечает мать, любовно гладя волосы у спящей. – Теперь пришла, притомилась. «Мама, я ляжу». – Ляжь, моя милая, ляжь! Кормилица наша!.. Видишь, и не разделась, так заснула.
Я наклоняюсь. Одетая, даже в сермяжном кафтане, девочка спит глубоким сном. На лице спокойствие забытья. А в изголовии уже, быть может, стоит роковая судьба, и несчастному ребенку предстоит умирать страшною, незаслуженною смертью… За что?..
Я отказался заходить в другие избы. На дворе совсем стемнело. Маленькие, бесформенные хижины, больше похожие на кучки навоза, под мрачной стеною леса… Кой-где огонек, жалкие оборванные фигуры, с удивлением рассматривающие невиданных великолепных господ. И в самом деле, какими великолепными должны мы казаться этим «нежителям», с нашими здоровыми лицами, дохами, шубами, с этими сытыми лошадьми, нетерпеливо бьющими копытами землю… И притом еще – какие благодетели!
Да, благодетели! Как жалки показались мне в эту минуту эти наши благодеяния, случайные, разрозненные, между тем, как огромная мужицкая Русь требует постоянной и ровной, дружной и напряженной работы вверху и внизу… Был у нас не так давно в числе других вопросов и «вопрос сифилитический». Писалось, говорилось много, может быть, даже и делалось кое-что. Почему это брошено? Почему не дописали, не договорили, не доделали, почему целые деревни, целые поколения неповинных людей оставлены в жертву этой ужасной болезни, самой ужасной из всех, с которыми борется человеческое знание, а мы только смотрим на это, сложивши в бессилии руки! Почему «сифилитических деревень» нет, например, в Англии уже более двух столетий, а у нас они есть, и язва ширится, захватывая все новые и новые жертвы. Впоследствии, в том же Лукояновском уезде, я натыкался не раз на другие деревни, напоминавшие Петровку, и можно сказать определенно, что никто ничего не делает для их спасения. Между тем, назовите мне другую болезнь, которая бы в такой мере настоятельно, повелительно, неизбежно призывала на борьбу с собою. Во всех других, случаях – в тифах, лихорадках и горячках – есть надежда, даже и без медицинской помощи, на силу организма. Чахотка уносит отдельные жертвы, и притом медицина может тут только продлить умирание, что деревня для себя считает непозволительной роскошью. Холера проносится ураганом и исчезает, как грозный смерч, быстро и бесследно. Но сифилис, как библейская проказа, поражает как самые здоровые, так и слабые организмы, и, раз пораженный – организм обрекается на роковую, неизбежную и самую ужасную гибель. И пока она наступит, несчастный сеет кругом семена того же невыразимого бедствия, поражает часто, не ведая и неведающих. И притом редкая болезнь так поддается лечению в настоящее время… Так почему же все сложили оружие в этой неизбежной и, по-видимому, трудной борьбе? Сделайте простейшие выкладки и вы увидите, что спасение одного поколения одной этой деревушки окупит сторицею труд специального врача. А ведь один врач на деревню, на десяток таких деревень – даже излишняя роскошь.
Но есть обстоятельства, усложняющие простую медицинскую задачу: нет другой болезни, которая бы в такой мере служила мерилом культурности общества: мало назначить врача, нужно, чтобы он заслужил доверие, нужно, чтобы население само ему помогало, нужно, чтобы со всех сторон и во всех сферах жизни он встречал содействие и поддержку. У нас сифилис – потому, что мало грамотных, потому, что много суеверия, потому, что на дурную боль народ все еще смотрит, как на какого-то демона («она боль-те лукавая»), и боится ее, как злого духа, не боясь в то же время, как простой заразы. У нас сифилис потому, что мало жизнедеятельности и много апатии в обществе, потому, что мы остановились; и вот глупцы кричат уже о перепроизводстве интеллигенции, когда эти темные деревушки изнывают без света и помощи, как будто в самом деле остановилось вращение здоровых соков в нашем общественном организме…
Все эти мысли бродили у меня в голове, пока мы ехали обратно вдоль угрюмой стены синего, мглистого, точно разбухшего от сырости леса…[53]
XIV
НЕЛЕЙ. – КИРЛЕЙКА. – О ЛЕСНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТАХ. – КТО ПРАВ И КТО ВИНОВАТ. – В САЛДАМАНОВСКОМ МАЙДАНЕ
Восемнадцатого марта, на следующий день после посещения несчастной сифилитической Петровки, мы опять отправляемся составлять наши списки. Утром ненадолго проглянуло солнце, но скоро день опять нахмурился. Давно уже не доводилось мне с таким интересом следить за погодой: вот одна ночь прошла без мороза, одно утро – без утренника, и дороги сильно попортило. В овражках уже сочится вода, снег подтопило снизу, «раскровило», как говорят здесь. В низинках «самая кровь». Картинное старое выражение, сохранившееся, вероятно, с незапамятных, мифических времен. Зима истекает своей белой кровью, скоро она умрет, и на смену ей придет новая, молодая весна… Пока, однако, и весна обещает не много радости.
То и дело приходится выходить из саней. Выйдешь, – и сразу уходишь в рыхлый снег по грудь, между тем как лошади скачут, путаются, и бьются, и падают.
В Нелее основана первая столовая в этой «Камчатке» по частной инициативе Ал. Ив. Русиновой. Вообще, даже в этой далекой стране нашлось не мало добрых людей. Целый кружок благотворителей уже сделал, что мог, без всякого «содействия», в то самое время, когда предводитель и земские начальники писали, что в уезде совершенно нет людей, которым можно бы поручить столь опасное дело. Между тем, в «Камчатке» добрые и готовые работать люди сидели без средств и без поддержки. Тем не менее здесь уже были столовые, производилась раздача хлеба отдельным семьям, явился заезжий вольно-практикующий и бесплатный врач, тоже производивший раздачу хлеба, важнейшего из всех лекарств в настоящее время. Несколько дам ходили и ездили по голодным деревням и избушкам. Этот очевидный «недосмотр» лукояновской внутренней политики пришелся нам очень кстати, и, кажется, мы тоже приехали кстати с нашими средствами: столовые здесь и нужны, и будут в хороших руках.
Вот за Нелеем мы обгоняем на повороте дороги обоз. Маленькие лошаденки надрываются на рыхлой дороге, мужики по пояс в снегу поддают плечами изо всех сил увязшие сани. Это несчастные «не-жители» из посещенной нами вчера Петровки уже с раннего утра приехали на своих заморенных лошадях на хутор за хлебом для столовой. Е. А. Чеботарева поехала вперед устраивать дело в сифилитической деревне, – дело, требующее особенной осторожности, чтобы не произвести вреда вместо пользы…
Небольшая избушка на краю деревни Савослейки являет в своем весьма невзрачном облике еще одну столовую, устроенную Е. А. Чеботаревой и А. И. Русиновой. Я писал уже о печальном случае, подавшем повод к возникновению этих столовых. Теперь я очень жалел, что не обладаю талантом живописца, чтобы изобразить это деревенское филантропическое учреждение; маленькая избушка, растрепанная крыша, кучки навозу кругом обнажаются из-под тающего снега, тощая костистая лошадь уныло бродит вокруг, подбирая в навозе отдельные соломинки. Серое небо, туман, задернутые мглой перелески, лениво тающие овражки, – все это дает меланхолическую рамку для этой избушки на курьих ножках. Да, мы присутствовали на этот раз при пробуждении общественной самодеятельности в размерах, быть может, еще небывалых у нас на Руси. И однако… эта картина все еще была бы, кажется, достаточным олицетворением наших благодеяний голодающей деревне.
Вот за лесом, за снежными буграми мотаются крылья мельницы, лениво, тихо, будто обессилевшие, как и весь залесный край. Здесь живет врач, г. Рахманов, который поселился в деревне, чтобы кормить и лечить. Этого достаточно, чтобы г. Рахманов прослыл в уезде «врачом-толстовцем». Счастливое, право, это «направление», но тем меньше чести нашей современной действительности, где такие факты нуждаются в особых «направлениях» для своего объяснения… А вот опять за лесом и за оврагом, который тоже «раскровило» очень сильно, – цель нашей поездки, деревня Кирлейка (Пруды тож).
На дворе сборной избы баба толчет что-то в деревянной ступе. Оказывается – просяная мякина, обильно подмешиваемая к хлебу. Хлеб на вид гораздо лучше лебедного. «Оно и вовсе бы ничего, – говорит баба, – да во рту больно шумит. Муки мало добавишь, все щеки опорет».
Действительно, хлеб хрустит очень неприятно и как-то сухо колет и режет во рту. Доктор Рахманов рассказывал нам вчера, что к нему то и дело являются больные страшными запорами от мякины. В особенности страдают дети: недавно ему пришлось прибегнуть к самым героическим средствам, от которых городской врач пришел бы в ужас, но выбора не было: ребенку грозила неминуемая смерть от этого хлеба…
Сход обывателей Кирлейки произвел на меня впечатление далеко не столь угнетающее, как в Петровке. Здесь проглядывает уже новый оттенок. Говорят, главным образом, двое: староста, мужик средних лет, с умным лицом, резкими чертами и острым взглядом. Ему постоянно возражает беззубый старик, иконописного типа, лысый и очень лукавый. У старика свои клиенты, в том числе какая-то келейница, которая за что-то получила двенадцать мер хлеба и отдала этому старику. Теперь он хочет пристроить ее в столовую. Староста возражает, его поддерживают кое-кто из мужиков с робкой осторожностью, сзади звонко и смело вмешиваются бабы. Слезливого нытья или тупого угнетения не видно; голод не стер еще своей тяжелой лапой обычных оттенков деревенской политики и партий, в голосах баб, звонких и задорных, слышна только обида: что-то делается не так, как бы следовало по их мнению…
Список мы составили на тридцать пять человек и, без сомнения, несмотря на впечатление как будто несколько меньшего «оголодания», – это все-таки менее, чем бы следовало, и к нам попали только бесспорно нуждающиеся. Не стану приводить примеров, хотя их у меня записаны десятки. Думаю, довольно и сказанного выше, чтобы видеть, что наши столовые не грозили опасностью «пресыщения» обывателям деревни Кирлейки, Пруды тож…
Вернулись мы рано. Синие леса, фиолетовые избушки, густая мгла и резкий ветер. Пошел дождь, потом обильный, липкий, скоро тающий снег, которым нас совсем залепило. «Внучек за дедушкой пришел», – говорят о таком снеге мужики, и, действительно, надо думать, что «дедушка» (старый снег) не многим переживет своего хлипкого внука. К вечеру пошла настоящая мокроснежная метель, и мы долго ждали с беспокойством возвращения нашей хозяйки, уехавшей на одной лошадке в Петровку. Несмотря на метель приплелись из Григоровки несколько баб. Деревня эта – соседка Петровки. Нам сказали, что урожай у них был получше. Это правда, но от этого не легче безземельным и беднякам, у которых все-таки нет своего хлеба, а купить дорого, и подают мало.
На следующее утро мы тронулись в обратный путь, чтобы не остаться совсем, так как ростепель скоро отделит «Камчатку» от остального мира. Утро ясное. Вчерашний снежок лежит на западной стороне каждого дома, на каждом столбе или мельнице, чистенький, белый и свежий, придавая весеннему дню характер ранней зимы. Ночью «придержало», дорога сначала показалась нам превосходной; но вот в первом же овраге проваливается пристяжка, потом коренник, потом сани тихо садятся книзу, потом я, выходя, увязаю по пояс. Это уже – зажора, прелесть весенних дорог, с которыми пришлось затем познакомиться поближе. Каждый «вражек», каждую лощинку уже «подсосало» и «раскровило», а шаловливый легкий утренник прикрыл все это обманчивой пленкой сверху.
Опять лес, славный многолетний бор. Он еще хмурится на шалости весны, еще не дает ей баловать на своих дорогах, хотя по сторонам снег тоже рыхлый; а вокруг мшистых стволов видны широко обтаявшие круги. Тем не менее здесь дорога ровнее и лучше.
Вот и кордон, мимо которого мы тот раз проехали ночью. Не доезжая кордона, виден прорубленный лес, мелькают на порубках фигуры. Это – общественно-лесные работы.
Мне было очень интересно повидать лесничего, господина Введенского, заведывавшего этими работами. К сожалению, на кордоне его в это время не было, – он ушел «на делянки» осматривать работы, а нам ждать было крайне неудобно. Становилось заметно теплее, – с высоких сосен снег то и дело валился тяжелыми хлопьями, или таял и капал жемчужными каплями. Наш возница почесывал голову и выражал опасения, как бы речки Алатырь и Чеварда не загородили нам дорогу. Узнав, кстати, что лесничий, вернувшись с делянки, тоже отправляется в Лукоянов, я решил не дожидаться, и мы поехали дальше.
Это не мешает мне, однако, сообщить здесь некоторые характерные сведения об этих работах, по поводу которых было столько разговоров о мужицкой лени. «Две воды» покойного Фета решительно дали тему для обличителей русского народа, и нельзя надивиться, – откуда и на каком только разумном основании возникали и ширились эти странные толки…
Здесь мне невольно вспоминается небольшой разговор в вагоне, на нижегородской железной дороге.
– Итак, возвращаясь à nos moutons[54] К нашим баранам. Revenir à des moutons – возвратиться к прежнему разговору (франц. поговорка)., – говорил мне случайный спутник, изящный господин, наполнявший купе ароматом дорогой сигары, – скажу вам откровенно: все это сантиментальные выдумки. Голод, голод! Но почему же он не идет на работу?
– А он не идет? – спросил я.
– Боже мой! Да разве вы не читали?
– Господина Фета?
– Не одного Фета, вообще… Нужны рабочие на железной дороге, – господин голодающий не желает. Нужно расчистить леса, – господин голодающий находит для себя неудобным.
– Это странно!
– Как кому! Для меня – нисколько!
– Однако столько проложено железных дорог, столько расчищено лесов на Руси… И все, кажется, мужиком. Скажите: на этот раз работа так и брошена недоделанной?
– Ну, вот еще!
– Значит, что надо было насыпать, – насыпано, что нужно было расчистить, – расчищено?
– Конечно!
– И все это господа инженеры и господа лесничие сделали собственноручно?
– Ха-ха-ха! Этого только недоставало. Нет, слава богу, до этого еще не дошло.
– Значит – он?
– Да уж значит. Но – видите ли! – «пришлось взять из более отдаленных местностей».
– И пошел?
– Значит, пошел!
– А это вас не удивляет?
– Что ж тут удивительного?
– Я тоже думаю, что ничего. Однако вернемся к началу. Мужик не берет работу под руками, он «не желает работать».
– Ну, и что же?
– Теперь посмотрите, как он ретив на работу: бежит на нее даже из «отдаленных местностей».
Пауза. Тонкое облачко ароматного дыма…
– Уж не думаете ли вы, что меня убедили?
– Не имею ни малейшей надежды, – скромно ответил я. – Я только удивляюсь.
И в самом деле, ведь удивительно: тысячи лет русский мужик работал, рубил леса, прокладывал дороги, «прорезывал горы, мосты настилал», взрывал сохой необозримые пространства родной земли, сеял, косил, жал, молотил, и опять пахал, и опять сеял. И вдруг – именно в голодный год ему доставляют готовую, выгодную, – нарочно для него придуманную работу, – а у него как раз в это-то время пропала всякая охота работать. Не странно ли это?
Впоследствии я имел все-таки случай встретиться и потолковать об этом предмете с г. Введенским, заведывавшим лесными работами в Шутиловских казенных лесах. Это – человек еще молодой, по-видимому, вовсе не мужиконенавистник… И однако, – такова сила легенды, носящейся в воздухе, что и он удивил меня тем же ходячим замечанием:
– Нет, как хотите, Владимир Галактионович, – сказал он мне, – а это правда: с тех пор, как вы открыли столовые в Шутиловской волости, то есть с конца марта, у меня стало значительно меньше рабочих в лесу…
Итак, это уже было мнение человека компетентного, до известной степени очевидца, правда, знавшего о столовых только понаслышке, с которым, однако, приходилось считаться.
– Хорошо, – ответил я. – У меня записаны по именам домохозяева и кто именно посещает столовую из каждой семьи. А вы скажите, кто у вас бросил работу.
Мы начали проверку с сельца Бутского.
– Григорий Васин, – читаю я.
– Именно, – говорит лесничий. – Бросил работу в марте.
– Хорошо, вот мои сведения: семья шесть человек; в столовую ходит Ольга, старуха семидесяти лет.
Лесничий засмеялся. Конечно, трудно думать, чтобы Васин работал в лесу исключительно для прокормления старухи Ольги.
– Ульянов Гаврила…
– Тоже бросил.
– Семья пять человек; в столовой мать, старуха семидесяти лет.
Так перебрали мы многих в Бутском и Шутилове, и г. Введенский согласился, в конце разговора, что столовая, – которая на четыреста – пятьсот человек населения деревни берет тридцать пять – сорок человек, и притом почти исключительно детей, старух, стариков и увечных, – никоим образом не может отвлечь от работы рабочее население. К сожалению, и впоследствии мне неоднократно приходилось слышать тот же упрек и с сокрушением сердечным отвечать то же самое. Были и такие случаи, когда я поистине жалел об этом: я гордился бы своей работой, если бы мне могли доказать, что мои столовые помешали заключению некоторых чисто кулацких сделок господ помещиков и подрядчиков с голодными крестьянами. Но – увы! – гордиться было нечем: столовые, кормившие малую часть нерабочего населения, не могли уменьшить предложения голодного труда, не могли повлиять на цены: народ кидался на всякую возможность работы и нанимался в убыток, а в охотниках воспользоваться его положением и раскинуть сети голодной кабалы, увы! – недостатка не представлялось. И всякий раз, когда казенная ссуда, хотя только в известной степени, уменьшала эти шансы и давала возможность мужику отбиться на время, до приискания лучшего заработка, – они тотчас же рычали, как львы, о народной лени и о развращающем влиянии ссуды и кормления…
Как бы то ни было, перебрав таким образом немало примеров, мы оба с г. Введенским пришли к выводу, что мои столовые не могли влиять на предложение мужицкого труда в лесных общественных работах. Но так как факт уменьшения рабочих к весне и некоторого нерасположения к этим работам – был все-таки налицо, то нам пришлось поискать для него других объяснений.
И, конечно, объяснение отыскалось. Господин Брокер, заведывавший лесными работами до их начала (был такой период, как увидим ниже), приводил мне некоторые цифры. Оказывалось, по его словам, что, при поденной работе, сажень дров обходилась до семи-восьми рублей в заготовке. Господин Введенский поправил это сведение, сообщив, что это было только вначале: затем заготовочные цены приведены в норму. Каким образом? Очень просто: работы сдавались уже не поденно, а только сдельно, но при этом заработок рабочего падал нередко до семи-восьми копеек в сутки.
Сколько же приходилось на долю рабочего в среднем?
Я видел рабочие книжки еще в Шутиловской волости. Артель, например, Трифона Семушкина в числе двадцати человек заработала за неделю (с 18-го по 26-е февраля) – 31 р. 67 к., что даст в день двадцать две копейки на человека. Может быть, это артель лентяев? Нет: по словам самих заведующих, заработок колебался от восьми до тридцати копеек (высшая норма в день), на своем хлебе!.. Итак, двадцать две копейки в среднем – это нормальный заработок рабочего на лесных общественных работах. Эту же цифру подтвердил мне и г. Введенский.
Какова самая работа? Известно, что эту зиму снега были необычайно глубоки. Рабочим приходилось бродить в снегу по грудь, валить деревья и таскать их затем на себе (лошади не пройти), все увязая, к одному месту… Вот какова была эта работа за двадцать две копейки!
Вот что говорил мне о ней умный и притом посторонний крестьянин:
– Снега ноне глубокие, одежонка дрянная, пища спервоначалу была больно плоха, приместия (жилья) настоящего не было…
– А теперь?
– Теперь, слышь, одобряют. Так опять поздно: многим пришлось отстать. Видишь, весна какая: то придержит, то опять отпускает, вот народ и опасается, главное дело, насчет воды. Потому снег – само собой, да под снегом-то подсосалася вода, а народишко-те не в сапоге, а в лапте. Подумай, добрый человек: долго ли же с этакой работы обезножить?..
Я полагаю, что недолго, и вот почему во время составления списков приходилось слышать то и дело фразу: «Убился (то есть надорвался, захворал) на лесной работе». И в самом деле: мудрено ли?
Итак, двадцать две копейки, глубокий снег, под снегом вода, работа – валить и таскать на себе бревна. Но этого мало: ссуду тотчас же сбавляют, как только человек нанялся на эту работу, сбавляют не с работающего, который все равно не получал, а с семьи…
Вот на какой почве возникают эти толки о «лености», беспечности, о том, что мужика не надо кормить, чтобы не отучить его от работы… Удивительно, как легко возникают, но еще удивительнее, как упорно держатся эти злые нелепости!
А отчего? Оттого, что эти господа уже вперед откуда-то почерпнули уверенность, что русский народ – пьяница, лентяй и оболтус. Придумавши какую-нибудь меру и недостаточно еще всмотревшись в свое собственное дело, не обеспечив его от собственных ошибок, они уже начинают зорко подсчитывать все отдельные случаи мужицкой лени: Иван пропил рубль, Семен лежит на печи, Федот работает лениво…
Теперь попробуем выслушать другую сторону.
– Расскажите мне, братцы, как вы в лесу работали? – обратился я к артели крестьян Шутиловской волости, встреченных мною в Лукоянове. – Только, смотрите, правду: я запишу и после напечатаю в газетах. Если неправда, – ведь будет неловко и мне, да и вам.
Мужики помялись… Мы уже видели, что «разговоры» в Лукояновском уезде приравнивались чуть не к государственному преступлению; однако один, решившись, выступил вперед и сказал:
– Пиши. Как перед богом, истинную правду скажу.
И он рассказал, а я записал слово в слово следующее:
– Приезжает к нам в сборную урядник. «Сберите, говорит, двадцать лошадей, а я посмотрю, которые чтобы могли работать». Поутру приказ: что на следующий день к свету всем нам быть в Салдамановском-Майдане. Приехали мы (это около тридцати верст). Исправник Рубинской вышел к нам, выбрал тут плотников и объявляет: «Благодарите бога: чернорабочему пойдет по пятидесяти копеек, хорошему плотнику до семидесяти пяти, с лошадью который – по рублю и более того…» Пересмотрел лошадей и народ – и отпустил пока по домам (опять тридцать верст).
Правду ли, однако, говорит до сих пор этот «лентяй и обманщик», отлынивающий от работы? Несомненно, правду, потому что эти цифры предполагаемой и обещанной населению платы можно найти и теперь в печатных протоколах нижегородской продовольственной комиссии[55]. Теперь далее.
– Ну, хорошо. Собрались мы в назначенное время на работу, Брокера – господина поставили нам в распоряжение. Призывает нас г. Брокер, говорит: «Ступайте, десять лошадей, на Вешовский хутор, за овсом по четыре копейки с пуда». А в самый мороз. Мы отказались: «Помилуйте, тут и в пути не прокормишься, лошади заморенные, много ли на них положишь?» – «Ну, хорошо, говорит, когда так, положу рабочую плату, что в лесу». – Понадеялись мы на эти слова, а не пришлось! Проездили в холод четверо суток, два дня потом работали в лесу; как поехали на хутор, говорим: «Мы – народ бессильный, чем подымемся? дайте денег». – «Ну, мол, как-нибудь перебьетесь, денег еще нет, книг еще нет (прошу заметить эту фразу). А доедете, говорит, лошадей тем же овсом покормите с хутора». Хорошо, – съездили, в лесу поработали; подошла суббота, расчет; и рассчитали, – человеку с лошадью пятьдесят копеек; пешеходу двадцать пять копеек. – Как так, говорим, ряды не сполняете? – «Да ведь вот, говорят, стужа была, работы мало, расходу много… Книг еще нет…» Что станете делать; собирались на работы, снаряжались: кто одежонку заложил. У меня своих еще два с полтиной было, – я их проел, да за овес, что лошадям скормил, вычли. Пошел со слезами домой. Семья кормилась одной картошкой. Прихожу, а дома и пособие-то уже сбавили. Вот и вся наша была работа, господин.
Правда ли это опять? Да, правда! Господин Брокер и затем г. Введенский подтвердили это, только иными словами. «Книг не было», – это значит, что между двумя ведомствами (общественных работ и государственных имуществ) возникли пререкания: кому подписывать контракты и билеты на отпуск леса. Господин Пушкин, заведывавший всеми общественными работами, – отказался, г. Брокер не имел на это права, а лесное ведомство не могло отводить делянки без контракта. И все, конечно, правы. Пока восемьдесят восемь человек крестьян ожидали конца этого «недоразумения», – оказалось, что г. Брокера сменили, потом сменили и г. Пушкина. Господин Введенский, преемник г. Брокера, все еще не знал, кому подписывать билеты. Пока шла эта переписка, – рабочие уже были собраны, им была обещана одна плата, а рассчитаны они по другой, лишь бы оформить дело, лишь бы закончить период лесных работ, довольно долгий период – до их начала!
Таков был приступ. Как видите, тут была сразу крупная ошибка, вследствие которой самые положительные обещания, данные рабочим, не были выполнены, вследствие которой люди разошлись по домам со слезами, проевши и то, что было у них до работ, и застали дома… сбавку ссуды.
Так вот что могла бы рассказать другая сторона, мужики, если бы их спросили. А вот еще пример, извлеченный мною из официальных документов.
Тринадцатого декабря 1891 года, за № 1278, господин земский начальник 2-го участка А. Л. Пушкин обратился к земскому же начальнику П. Г. Бобоедову с отношением следующего содержания:
«Господином губернатором поручено мне заведывание общественными работами в Лукояновском уезде, к которым нужно приступить немедленно. На первое время до предстоящих праздников предположено приступить к рубке леса в Ичалковской казенной даче I Лукояновского лесничества, в небольшом количестве рабочих, почему покорнейше прошу Вас, милостивый государь, из Вашего участка выслать в означенную дачу к 18 числу этого месяца десять человек с топорами и пилой на каждых двух. Высланный Вами народ должен быть из семейств, имеющих недостаточные средства и, при нахождении на поденной работе, исключен из лиц, получающих пособие хлебом. До праздников народ этот будет работать поденно с платою до 40 копеек в день на их продовольствии. После же праздников наем рабочих будет мною произведен тем же или иным порядком, о чем я своевременно Вас уведомлю. Теперь же покорнейше прошу, выслав назначенных Вами лиц, сообщить мне именной их список, с обозначением, из какого села и по какой цене (?)… Заведующий общественными работами земский начальник А. Пушкин».
Надеюсь, читатель и без моих курсивов обратит внимание на характерные стороны этого официального циркуляра: крестьянам не предлагается работа, а они назначаются и затем высылаются на место. Предусмотрительность господина Пушкина доходит до заботы даже о сбавке нанявшимся хлебной ссуды. Можно ли после этого предположить, что этот документ, по времени совпадавший с наиболее горячими нападками на мужицкие пороки, есть лишь плод непростительно легкомысленной преступной небрежности и недоразумения со стороны этого господина!
«Лентяи» и «пьяницы», уже через пять дней по написании этого отношения, составили требуемый отряд. Федор Медведев, Семен Бударагин, Герасим Сисюков, Александр Жижинов, Иван Маркин, Матвей Фадеев, Поликарп Хапов, Дмитрий Жижинов, Пимен Морозов и Тимофей Кузичкин соблазнились сами или же были «назначены». Как бы то ни было, они, во-первых, взяли в долг топоры, во-вторых, купили пять пил (большею частью тоже в долг), по 1 р. 50 к., и 17 декабря вышли утром из 1-го участка, расположенного у Лукоянова, – на восточный край уезда, в Большое Болдино. Однако пусть они говорят дальше сами (цитирую опять по официальному документу).
«До Болдина 40 верст; мы пришли в 9 часов утра 18 декабря к господину Пушкину, не застали его дома, и он вернулся в 11 часов вечера, а 19 декабря в 10 часов утра опять ходили к г. Пушкину, но оставались в избе, а Пимен Морозов и Тимофей Кузичкин ходили в дом и, вернувшись, передали нам, что Вас вытребовали ошибочно в Ичалковскую дачу, здесь есть своего народу много, то есть 2-го участка много людей. Вам будет работа в Ризоватовской или Мадаевской даче после праздников, а теперь ступайте домой. Когда будет предписание от Пушкина, тогда вам велят идти (!)».
А Пимену Морозову на представленном им рапорте господин Пушкин сделал в этом смысле собственноручную отметку, которая и сдана Морозовым 20 декабря в волостное правление.
«И мы, – продолжают свою скорбную одиссею „лентяи“, – вернулись 19 числа ночью домой. Понесли убытков, продали, что имели последнее, а домой шли совсем голодные. 18 числа весь день стояли (в Б.-Болдине) на морозе и собирали милостыню»… Затем, с чрезвычайной подробностью идет перечисление убытков: за топоры платили за подержание, Фадеев, вернув пилу, получил убытку пятьдесят копеек, Маркин купил пилу за полтора рубля, и она осталась у него, «но остальные брали пилы в долг, и их взяли обратно без убытка».
Таково было блестящее начало управления господином Пушкиным общественными работами. Каково было их продолжение, мы уже видели. А в это время в прессе гремели обвинения против мужиков, и в это время ни один приезжий из Лукояновского уезда не мог умолчать о том, что на лесные работы народ не идет[56],и в это же время в другой части уезда уже стекались новые несчастливцы на новые обещания, которым опять не суждено было осуществиться (как мы видели из первого нашего примера)…
Так-то крепостники-обличители зорко усматривают сучек частных пороков в народной среде, бревна же своей небрежности и ошибок относительно народа не замечают. Они судят «меньшого брата» с легким сердцем, забывая, что каждая их вина горше отдельных провинностей, ими обличаемых. Каждый лентяй или пьяница приносит вред только себе, в крайнем случае семье своей, с которой вместе от этого страдает. Тогда как всякая организационная ошибка имеет характер общий и потому поражает сразу целые массы неповинных людей. Господин Пушкин, занятый, быть может, наказанием какого-нибудь пьяницы или лентяя, а может быть, и ничем не занятый, – допустил (мягко выражаясь) ошибку в своей «циркулярной» бумаге, и десятки, а может быть, сотни людей бредут взад-вперед сотню верст, изводят последние деньги, зябнут и голодают и возвращаются по домам с тоской и разочарованием, разнося по уезду недоверие к имеющему появиться новому «предписанию» того же начальства… Мудрено ли, что народ встречал эти новые «предписания» с смутным ропотом, с неохотой, недоверием, а иногда и с враждой, гораздо более законной, чем высокомерно обличительные выходки тех же господ Пушкиных по его собственному адресу.
Нет, это немудрено. Мудрено другое: ведь все-таки шли! И все-таки работы (от восьми копеек в день!) не прекращались, и все-таки по лесу стоял стон от топоров, а по уезду и даже по губернии шли толки об общественных лесных работах, которые налагали на господ лукояновских деятелей особенные заботы об экономии в ссуде, дабы «лентяи» как-нибудь не получили лишнего… Слушая эти толки, можно было подумать, что в Ризоватовской, Шутиловской и Мадаевской волостях предпринято нечто грандиозное, вроде египетских пирамид или римских акведуков, способное прокормить всех, кто только не поленится на них наняться. Я был поэтому чрезвычайно удивлен, убедившись на месте в действительных размерах этого благодетельного явления, подавшего повод к столь великому шуму. Оказалось, что в самом разгаре работ максимальная цифра занятых рабочих достигала четырехсот человек, в среднем же за три месяца – меньше двухсот! Считая даже по двадцати пяти копеек в среднем на человека, получаем пятьдесят рублей на день. И только!.. Как ни скромны были размеры помощи в форме столовых, – но от них все-таки в последние месяцы уезд получали по крайней мере, втрое больше… Стоило ли же из-за этого поднимать целые вопросы о народной лени и порочности, о развращающем влиянии помощи, отвлекающей будто бы от работы, – микроскопической работы, которая не могла занять и сотой доли рабочих рук и в которую было внесено столько преступных ошибок![57]
Разумеется – не стоило…
Когда мой собеседник, рассказывавший мне о своем найме на общественные работы, – кончил эту горестную повесть, я, признаюсь, не удержался, и у меня сорвалось с языка:
– А пишут про вас, что вы лентяи, не идете на работы из-за ссуды…
Мужик горько улыбнулся.
– Эх, господин, – прибавил к этому другой, молчаливо слушавший рассказ товарища. – Иной человек, не сообразя себя, скажет глупое слово, которое и говорить-то бы вовсе не надо.
Именно – «не сообразя себя»… Слово показалось мне необычайно метким…
Когда мы выехали из лесу на равнину, по сю сторону лесной полосы, – весна уже быстро захватывала свои владения. Овражки чернеют, на них видны уже струйки, скачущие поверх подтаявшего снега. Каждая лощинка начинает шевелиться, ручейки сползаются к речкам, речки топят мосты. Вот бушует Чеварда у деревеньки того же имени, далее шумит речка Пойка, но вот, наконец, Салдамановский-Майдан, где мы можем отпустить обратно хуторского возницу, сильно не одобряющего разгул речек. Он предвидит, что они уже добрались до Алатыря и, пожалуй, не пустят его домой…
В новой, светлой и чистой избе мы ожидаем перепряжки лошадей. Хозяин – вольный ямщик, перехвативший нас по дороге. Семья у него огромная, сильная, рабочая. На столе лежит каравай хлеба, чистого, без примеси. Во всем видно изобилие.
– Пособие получаете? – спрашиваю я у старика; лежащего на полатях и свесившего оттуда лохматую голову, с умными, спокойными глазами.
– Получают которые в нашем селе; мы не получаем, не надо нам.
– А как у вас дела насчет продовольствия?
– Плохо, – отвечает он, – бедствует народ сильно.
– Да ведь вон у вас лесу сколько навалено: значит, работа.
– Какое работа! Которые в силе работать, несколько кормят сами себя, а который уже без силы, тот сам себя нести не может, какая уж тут работа. Сильного народу мало остается, тоже самое, в нашем селе, которые чтобы чаяли себе прокормиться. Он, может, травы-те[58] переел уже несколько (множество), как же у него, судите сами, на желудке будет здорово? У кого картофель есть, те еще туда-сюда, сколько-нибудь дышат, а от лебеды, господин, крепости в желудке никакой не бывает.
Отзыв этот я, продолжая разговаривать, тут же записал слово в слово, но, к сожалению, я не могу передать тона, каким это было сказано. Мужик говорил не торопясь, с расстановками и как бы с досадливой неохотой. «Все равно ведь не поверите, – слышалось в тоне его речи, – все равно не поможете, так стоит ли говорить о том, что мы здесь видим, что может видеть всякий, кто только захочет присмотреться».
– Ну, а где хуже, – испытываю я еще его беспристрастие, – у вас или в Шандрове?
– Непременно, – отвечает он, – надо говорить по совести: у нас хоть на новях было небольшое количество. Положим, морозом хватило, а все супротив ихнего яровинка малое дело получше. У нас хоть кормец был, а что уж у них, – не приведи господи!
– А пособие?
– Ну что ж, что пособие? Вон в феврале по семь фунтов выдали. Что тут…
Он махнул рукой и отвернулся.
– И что такое, право, – слышу – я еще обычную фразу, – в других-те уездах…
Опять зажоры, рыхлые дороги, речки и овражки. За Салдамановским-Майданом я оглядываюсь последний раз. Полоска леса синеет на горизонте…
Прощай, лукояновская «Камчатка»!
XV
ХРИСТОВЫМ ИМЕНЕМ
Когда мы сидели в избе ямщика в Салдамановском-Майдане, – в ту же избу вошло два мальчика. Старшему можно было дать лет девять, младшему не более пяти. Они были одеты довольно чисто и с той особенной деревенской опрятностью, которая показывала, что они не принадлежали к семье профессиональных нищих. Видно было, что заботливая материнская рука снаряжала этих ребят, старательно завязывала каждую оборку лаптей, надевала на них сумы, сшитые, по-видимому, еще недавно из грубого домашнего холста, сотканного, быть может, тою же рукою… Они вошли и с каким-то особенным грустно деловитым выражением в лицах стали у порога. Старший снял шапку, отыскал глазами икону, истово перекрестился и произнес нараспев обычную молитву…
Младший с простодушной сосредоточенностию глядел на брата внимательным взглядом и, точно урок, повторял его движения и слова молитвы.
– Господи! Иисусе Христе… Сыне божий…
Хозяйка с глубоким сожалением посмотрела на малышей.
– Эх, беда! – сказала она, качая головой… – Чай, матка-то и не чаялась этаких ребенков за милостыней посылать… А довелось… И молиться-то путем еще не умеют… Ну, что этакой клоп соберет…
Между тем, мальчики стояли, не говоря более ни слова и не здороваясь, после молитвы, с хозяевами. Они пришли за делом и ждали результата…
Хозяйка встала, отрезала два ломтя хлеба, один отдала старшему, а другой сама положила младшему в сумку, погладив его по голове.
– Ну, что делать… воля господня. Учись, Ванюшка, учись молиться-те, гляди на брата.
– Эх горе! – добавила она, между тем как по лицам этих маленьких мужиков трудно было разобрать, какое впечатление производят на них сердобольные причитания старухи. Получив подаяние, они опять перекрестились и повернулись к выходу.
И когда они двинулись, на ногах у них застучали деревянные колодки, подвязанные к лаптям, – два высоких обрубка: один под пяткой, другой у подошвы.
Это опять заботливая рука, отправлявшая ребят с именем Христовым, – принимала свои меры, чтобы дети не слишком промочили ноги. Лапти и онучи плохо защищают ногу в ростепель, а под рыхлым снегом уже во многих местах притаилась вода… Весна!
Вся эта простая сцена, отзывавшаяся какой-то грустной обрядностью, покрывшею обычную деревенскую драму, произвела на меня сильное и глубокое впечатление. Впоследствии не один раз приходилось мне видеть таких же детей-кормильцев часто не привычных к нищенству семей. Мы видели уже в Петровке девочку Кутьину, обходившую в день по двадцати – тридцати и более верст, чтобы принести домой лукошко-другое разнообразнейших кусков хлеба! Чего только не было в этом лукошке, снятом мною с закопченного бруса: и огрызок праздничного, сухого, как камень, калача, и кусок ржаного хлеба, поданного в избе деревенского богатея, и черные разваливающиеся комья заплесневшей лебеды… И все это подавалось и принималось под припев Христова имени, произносимого усталым и исстрадавшимся детским голосом… Кто сосчитает, сколько раз призывалось имя Христа в эту тяжелую зиму голодного года!..
И теперь, в сумрачные и задумчивые дни этой весны, с ее сизыми туманами, нависшими над полями, «вершинками» и перелесками, – фигуры нищих стариков, подростков или даже ребят, с сумами, с подожками в руках и с колодками на ногах, увязающих в сугробной дороге, – составляют обычную принадлежность весеннего пейзажа. По мере того, как последние запасы исчезают у населения, – семья за семьей выходит на эту скорбную дорогу…
Правда, было время, когда их было еще более. Все говорят единогласно, что уже 1891 год был чрезвычайно тяжел, и уезд уже перенес тогда полный неурожай и даже голод. Тогда было несколько более запасов, зато не было ссуды, и весна 91 года уже видела целые семьи, десятки семей, соединявшиеся стихийно в толпы, которых испуг и отчаяние гнали к большим дорогам, в села и города. Некоторые местные наблюдатели из сельской интеллигенции пытались завести своего рода статистику для учета этого, обратившего всеобщее внимание, явления. Разрезав каравай хлеба на множество мелких частей, – наблюдатель сосчитывал эти куски и, подавая их, определял таким образом количество нищих, перебывавших за день. Оказывались цифры, поистине устрашающие, и куски исчезали сотнями… Но вдруг своеобразная статистика показала внезапное и резкое падение: это в полях поспела лебеда, и под окнами стали опять появляться одни знакомые фигуры привычных нищих…
Но осень не принесла улучшения, и зима надвигалась среди нового неурожая… Осенью, до начала ссудных выдач, опять целые тучи таких же голодных и таких же испуганных людей выходили из обездоленных деревень, и, право, трудно сказать, во что перешло бы, какие новые формы отчаяния и безнадежности приняло бы это огромное стихийное движение, если бы не казенная ссуда… Было жуткое время, когда казалось, что само Христово имя потеряет свою силу перед этой необъятной тучей народного нищенства… А тогда… «Скотина голодная, – и та городьбу ломает, – говорил мне умный мужик… – Голод, говорится, не тетка…»
Но ничего подобного не случилось. По дорогам потянулись возы за возами с казенной ссудой, – и нищенство опять быстро схлынуло. У народа явилась надежда, что позор нищенства минует еще многих из тех, кто не знал его во всю жизнь…
Теперь к весне эта волна опять вырастала всюду… а лукояновская система, определившаяся окончательно и застывшая в своей беспощадности, гнала опять на дороги новые и новые контингента нищих. Уменьшаясь и убывая в периоде выдач скудной ссуды, то опять возрастая, когда ссуда подходила к концу, нищенство усиливалось среди этих колебаний и становилось все более обычным. Семья, подававшая еще вчера, – сегодня сама выходила с сумой. Христово имя звучало под каждым окном все чаще, из каждого окна подавались куски все меньше, и просящему приходилось делать все большие обходы, захватывая огромные круги, где оскудевала уже рука дающих… Сначала ходили по соседним селам, потом, расширяя обходы, уже не возвращались на ночь домой, уходили за десятки верст, являлись в соседних уездах и даже в чужих губерниях, уходя на целые недели… Я знаю много случаев, когда по нескольку семей соединялись вместе, выбирали какую-нибудь старуху, сообща снабжали ее последними крохами, отдавали ей детей, а сами брели вдаль, куда глядели глаза, с тоской неизвестности об оставленных ребятах… А в это время, такие же нищие стучались в окна покинутых изб, заходя сюда из соседних губерний (в особенности из Симбирской)…
Те, кто наблюдал это явление со стороны, в чьих равнодушных взглядах поверхностно отпечатлевались эти однообразные фигуры, с их однотонным обрядным припевом, – не представляли себе ясно, какое бесконечное разнообразие заключалось в оттенках этого нищенского народного горя. Всего легче, без сомнения, приходилось привычным нищим. Они в совершенстве знали свои обряды, они изучили долгой практикой психологию дающего, они знали, как и где скорее и успешнее можно открыть эти окна, под которыми затягивали свою молитву. Христово имя в их устах являлось привычным оружием в тяжелой и трудной житейской борьбе с невзгодой… Но напрасно было бы думать, что всякому человеку, одетому в такой же мужицкий полушубок, так же легка на плечах нищенская сума. Знание дается любовью, а то «практическое знание народной жизни», которое так громко заявляет о себе в наши дни устами крепостников и мужиконенавистников всякого рода, – звучит только враждой и узким своекорыстием. И вот почему оно не хочет видеть, какие тяжелые драмы разыгрывались в мужицких избах прежде, чем в них надевалась сума, и сколько было этих удручающих драм…
«Христово имя» имеет в деревне своих обычных, привилегированных владельцев, которые и сами свыклись со своим положением и за которыми это положение признано общим мнением.
Однажды мне пришлось слышать горькую исповедь мужика, в одну из таких минут, когда душа невольно раскрывается для жалобы даже перед посторонним человеком (это было много ранее голодного года).
– Покуль до старости-те доживу, сколь еще много муки приму… Господи боже…
И он рассказал, что два года назад у него умер сын, оставив девочку-внучку. И никого у него не было более на свете. Сам же он увечный: дерево повредило ногу.
– Идешь за возом-те, все припадаешь… А лошадь-те резва… Этто ушла вперед, бежал я, бежал за ней, потом лег на дороге и заплакал… А на сердце-то, братец, все об сыне тоска… Что станешь делать.
– А что же в старости-то будет? – спросил я, вспомнив начало его речи.
У мужика глаза засветились какою-то радостью.
– Да ведь старику-то мне, как выдам внучку-те замуж, можно и со Христовым именем идти. Мне ведь, как ты думаешь, – всякий тогда подаст, старику-те… А теперь стыд!.. Только бы как-нибудь годов пятнадцать промаяться помог бы господь…
И на лице его светилось предвкушение спокойного пользования Христовым именем, без стыда, по всеми признанному праву…
– Я Христовым именем сыта, – говорила мне в другом месте древняя старуха. – Слава-те господи, – кормит-поит меня Христос батюшка… Довольна. И одежа мне тоже Христова идет…
Таким тоном говорят люди, получающие по праву небогатое, но приличное содержание, в виде выслуженного пенсиона…
И действительно, во многих местах деревни и села имеют своих нищих, занимающих почти официальное положение… С давних пор, как известно, на Руси церкви имели свою собственную нищую братию, монополизировавшую церковные дворы, паперти и ворота. Еще до Петра Великого делались попытки придать этому явлению характер правильной общественной благотворительности, и при церквах поведено было строить «богадельни» для приюта нищим. Богадельни эти кое-где стоят и до сих пор, и я сам в Лукояновском уезде получил приглашение священника отправиться в «богадельню» для составления списка. Оказалось, однако, что название «богадельни» составляет единственный остаток филантропических попыток московского правительства: дома при церквах построены, и – так с тех пор подновляются и строятся, нося то же имя, но исполняют они должность или сторожки, или в них помещается причетник, кой-где – церковноприходская школа… Тем не менее, «свои нищие» во многих местах попрежнему занимают в общем строе деревни определенное место…
– Мы все-таки поберегаем их, не оставляем, – говорил мне первый спутник первого дня моих скитаний… – Теперича скажем, у меня померла мать старуха – в самую, например, страдную пору. Народ весь в поле, в церковь что есть и пойти-то некому, помянуть, проводить, помолиться. А на тот случай у нас старички со старухами живут. Значит, жена у меня должна испечь про них коровашек, а они, люди божии, – помолятся и помянут порядочно, как следует…
За этими привилегированными нищими, из которых многие не ходят даже за милостыней, довольствуясь тем, что им подадут в церкви или принесут односельцы на дом, «поминаючи родителей», – следует значительный контингент тоже признанных нищих, другого порядка. Первые – люди до известной степени божии, церковные, искусники в поминании и в других житейских, требующих особого моления, случаях, или угодные своей жизнью. Вторые – ходят под окнами с Христовым именем и молитвой, собирая на бедность и комплектуясь из рядов того же крестьянства, впавшего в нужду от разных причин, – старцы, увечные, сироты и убогие… В последние годы этот пласт бродячего нищенства, по наблюдению знающих людей, все возрастает, откладывается все прочнее и гуще… Он вырабатывает свои особенные типы, сжившиеся со своим положением, часто им злоупотребляющие и уже не желающие ничего другого.
– Не пиши Анну, не надо, – сказали мне в одном месте при составлении списка для столовой.
– Что же, у ней свой хлеб есть, что ли?
– Какой у нее хлеб!.. Дыбает кое-где, у нас же просит.
– Больна, что ли?
– Хоть карету на ней вези, ничего, утащит!.. Да ты ее сколь ни корми, она все по окнам ходить не бросит…
В Пичингушах у нас возник целый вопрос о таких нищих, и я с глубоким интересом прислушивался к толкам мордвы по этому поводу.
Все были согласны, что подают теперь очень мало и что даже профессиональным привычным нищенкам стало очень трудно кормиться именем Христовым. А вдобавок близилась ростепель. Зальет вода низины, – тогда хоть ложись да помирай. Итак, очевидно, что необходимо было дать им всем убежище в столовой без исключения, в том числе и тем, которые заведомо не бросят «ходить по окнам».
– Пишите всех, – сказал, наконец, один из мирян, – а мы миром старосте прикажем, чтобы им воспретить, чтобы, значит, не клянчили.
Предложение это, однако, вызвало общий ропот.
– Как это можно, что вы! Зачем «мимо креста ход отымаете». Нешто можно воспретить. Пособия не хватит, поневоле пойдешь.
– Да ведь о столовой говорят.
– Так что… Она пойдет в столовую, а у другой еще дети. Пущай сбирают… Не подавай, коли так, а Христова имени отымать нельзя…
– Да ведь как не подашь, когда придет она.
– Плачешь, а подаешь…
– Не дать невозможно.
– Ну, да уж пишите, господин, и эту… А там, как ее совесть дозволит…
– И нам, как совесть дозволит… Кто подаст, а то и прости Христа-ради… Пусть не взыщет…
И мы записали эту старуху, о которой шла речь, и много других таких же старух; некоторые из них все-таки «ходили по окнам», не являлись по нескольку дней, тогда их пайки отдавались другим, но «ход мимо крестов», по выражению мордвы, все-таки не воспрещался.
И раньше этого, и после мне приходилось встречать не раз толки об этом вопросе в обществе и печати. И мне кажется, что всегда разумное решение совпадало с тем, какое постановила мордва в селе Пичингушах (так же, впрочем, решался этот вопрос всюду самим народом). Есть в Нижнем-Новгороде очень оригинальный самобытный человек А. А. Зарубин[59], человек малообразованный, из виночерпиев, но обладающий гражданским мужеством и тем, что французы зовут «мужеством своего мнения». Он любит порой вспоминать старину, и в одном заседании губернской продовольственной комиссии господа хлебные торговцы имели удовольствие выслушать от него напоминание об известном указе Бориса Годунова, касавшемся хлебных скупщиков. «И таковых, – цитировал с видимым сочувствием г. Зарубин, – бить кнутом нещадно». А. А. Зарубину казалось, что на этой почве легко разрешить многие продовольственные вопросы и в наши сильно усложнившиеся времена… Так же легко и прямолинейно он разрешал вопрос о нищенстве. Он предлагал построить рабочие дома и приюты, на что следует употребить те самые средства, которые подаются теперь у церквей и на улицах. Господин Зарубин обратился к архиерею (Владимиру), с просьбой о том, чтобы в церквах говорились проповеди против нынешней формы милостыни, с рекомендацией более целесообразного употребления денег на рабочие дома и приюты. Архиерей ответил на это, что нужно начинать не с этого конца: пусть прежде возникнут новые формы христианской помощи и докажут на деле свою жизненность и полезность. Постройте вашу новую храмину, и тогда старая, приходящая в ветхость, упразднится сама собою, за ненадобностью.
В этом весь узел вопроса, вся его «злоба», сохраняющая свою остроту вот уже несколько веков. Еще допетровская Русь знала уже и сознательно ставила перед собою все неприглядные стороны этого стихийного явления. Язва нищенства, злоупотреблявшего Христовым именем, уже пугала московское правительство. «Чернецы и черницы, безместные попы и диаконы, также крестьяне и гулящие люди, бесчинно и неискусно, подвязав руки и ноги, а иные и глаза завеся и зажмуря, будто слепы и хромы, притворным лукавством просили на Христово имя», и таких велено было имать и отсылать в приказы. Ввиду этого уже со времени, если не ошибаюсь, Алексея Михайловича, велено строить богадельни при церквах, а также устраивать приюты в монастырях. Но из богаделен и монастырей, по причинам, ныне нам весьма понятным, призреваемые бежали, – потому, конечно, что не получали там никакого кормления… Правительство поступало тогда по программе господина Зарубина – беглых нищих ловили и наказывали, и даже подававших на улицах имали и брали с них пеню…
Разумеется, нужна вся гибкость славянофильского витийства, чтобы идеализировать даже эту язву непокрытого нищенства допетровской Руси и возводить ее в перл истинно христианских отношений между имущими классами и нищей братией. Но чрезвычайно опасно также действовать одними формальными мерами и особенно запрещениями. Создайте прежде новую храмину и уже тогда пусть упраздняется старое… А до тех пор нужно щадить печальное, правда, унизительное, но стихийное, веками сложившееся историческое явление, и нельзя «отымать ход мимо крестов». Это испытала на себе и старая Русь в виде жестоких бунтов на Москве, когда даже драгуны соединялись со всяких чинов московскими людишками, разбивали приказы и отымали арестованных «странных и нищих людей»…
Без сомнения, и самое нищенство, и его злоупотребления являлись в Белокаменной в сгущенном, сосредоточенном виде… Однако нельзя не пожалеть, что в существе своем вопрос этот и до сих пор не получил у нас никакого рационального исхода. Запрещения остались, разумеется, мертвою буквою, а в прошлом России не хватило зиждущей силы для создания «новой храмины»… В городах кое-что возникает уже на смену старому, но деревня живет вся стихийными и неорганизованными процессами… Профессиональное нищенство сказывается здесь порой не особенно симпатичными формами, а голодные годы его только укрепляют. Нищий ребенок от нищенки матери, может быть, уже внук нищего деда – или гибнет на глазах у благодушной деревенской Руси, или складывается и наследственно, и воспитанием в совершенно особенного человека. В нескольких местах мне приходилось слышать отмеченные простодушным юмором жалобы деревни на своих нищих, слишком широко понимающих свою нищенскую привилегию.
– Не подашь или мало подашь, – она ведь как обругает, – говорили мне об одной такой нищенке, – просто со стыда сгоришь!
– Да, строгая…
– Язвительная старуха.
– Давеча подал ей… что уж… известно лебеда одна… Ты, говорит, это Христу-то, что подаешь?.. Это, говорит, свинье бросить, так и то впору…
– Сами, мол, бабушка, тоже травой подавились. Не взыщи, мол…
– Поди с ней, с эдакой, поговори.
В другом месте я внес в свой список мальчишку, сироту. Его бабка, такого же типа, как и описанная выше, уходила на целые недели, оставляя питомца без призора, в полной уверенности, что он не пропадет и один, оставленный в опустевшем гнезде. И действительно, «слетыш» с младых ногтей оказался уже приспособленным к своему роду жизни.
– Этто вхожу под вечер в избу, из лесу вернулся, – рассказывал один из «стариков», улыбаясь, пока я заканчивал свой список и отмечал мимоходом происходившие в сборной разговоры, – гляжу: ребята у меня на полу плачут. А уходил, – все на печи сидели… Что, говорю, плачете, пошто на пол слезли?.. Глядь, а на печи-те Гришка сидит, обобрал все куски у них; сам уплетает, ажно глазы оттуда блестят, с печи-те…
– Вишь ты, кукушонок!..
– Не велика птичка, да ноготок востер.
– Пиши его, ваше благородие, пиши! Все, может, в столовой-те налопается, не станет у наших ребят кусок отымать…
Деревня, конечно, и видит, и знает все это, и, однако, она свято чтит право Христова имени. Самонадеянные «практики», монополизировавшие теперь за собой знание народной жизни, – расправляются по-своему и с этим глубоко залегающим бытовым явлением. Признаюсь, мне стало жутко, когда я услыхал, еще в марте, что в некоторых селах в участке господина Пушкина урядники гоняют нищих. Очевидно, урядники посягали на право «идти мимо крестов» не по своей инициативе: это лукояновская система по-своему искореняла нищенство в видах полемики с губернией. Народ отзывался об этой мере с глухим, но глубоким негодованием, – и великое счастье, что усилия урядников остались до смешного бессильны: детски самонадеянная попытка напоминала просто стремление загородить ход весенним потокам глыбою снега. Урядники потормошились несколько дней в двух селах и бросили…
И опять нищие шли вереницами, порой толпами, и под окнами невозбранно раздавалось имя Христово… Народ знает лучше, чем «практические знатоки его жизни», что резкими злоупотреблениями не исчерпывается самое явление, и притом ведь это он же сложил нашу горькую российскую поговорку: от сумы, как и от тюрьмы, не зарекайся.
В том-то и дело, что явление это живое и болящее, что оно не покрывается простой и огульной характеристикой. В одной экономии мне рассказали такой случай: когда нищие хлынули толпами, – пришлось поневоле сокращать выдачи до ничтожных кусочков. Тогда некоторые нищенки ухитрились обойти это неудобство. Получив на свою долю, они уходили за большие поленницы дров и, обменявшись платками, тотчас же возвращались назад. Так, меняя платки, кафтаны, закрывая лица, – они обманывали экономию, пока хитрость не была открыта.
И тут же, непосредственно после этого, может быть, и простительного, но все же некрасивого эпизода, мне была рассказана следующая грустная повесть. Хозяйка зажиточной избы услышала за окном робкий голос. Выглянула – никого. Через некоторое время тихая молитва зазвучала опять, и опять никого. Но тут уже хозяйка заметила, что кто-то прижался к стене. Оказалось, что это соседка, в первый еще раз в своей жизни прибегнувшая к милостыне. Она вышла из дому, побуждаемая криком детей, и, сгорая от стыда, заводила нищенскую песню. Но каждый раз она не могла победить себя, когда на нее смотрели, и инстинктивно прижималась к простенку… А дома все плакали голодные дети, и она опять шла, и так проходили долгие часы первого нищенского дня между мукой горькой нужды и жгучим мучением стыда.
Вообще стыдом и мучением сопровождалось это явление в огромном большинстве случаев, потому что голодный год к двум указанным выше разрядам прибавил третий. Это был именно тот промежуточный последний пласт крестьянства, который еще держался в числе «жителей» и которых неурожай столкнул с этой ступеньки. Они пошли тоже с Христовым именем, – некоторые навсегда, другие с надеждой на будущий урожай, на милость господню, которая еще даст им подняться. И этот новый пласт нового нищенства поглотил оба прежние разряда… Просить в своей деревне, где еще недавно этих нищих знали за хозяев, жителей, крестьян, за домовитых, хотя и небогатых крестьянок, – всего тяжелее, и потому, по большей части, непривычные нищие старались уйти, по крайней мере, в чужое село, где их не узнавали в лицо.
– Наши завсе к ним, а ихние нищие к нам так всю зиму и ходили, точно шерсть бьют, – картинно охарактеризовал мне эту стыдливую взаимность крестьянин, отвозивший меня из села Пикшени в Большое Болдино…
Впоследствии, уже летом, пришлось мне уезжать из большого села Кельдюшева, и я попросил нанять мне лошадь. Я избегал пользоваться обывательскими лошадьми, чтобы не придавать своим поездкам характера официальности, но на этот раз, зная, что я плачу прогоны, мирской ямщик настоял на своем праве везти меня на своей совершенно заморенной кляче.
– Да я тебе еще, ваше благородие, колокол подвешу, – утешал он меня не без иронии, почти насильно усаживая в таратайку. Однако дорогой исключительная худоба и негодность мирского буцефала служили для нас единственным предметом разговора.
– И в поле-то, почитай, не работала, – говорил мне ямщик, задумчиво вытягивая клячу ласковым ударом кнута.
– Все начальство, что ли, возила? – соболезновал я.
– Начальство само собой, с ног сбили! А этто вот еще нищие замаяли.
– Это еще как? Неужто нищих тоже на мирской стет развозите?
– Повезешь, как его ноги не носят… Хлеб народишко-те приел, подают по экому вот кусочку, с ноготь, – что станешь делать… Бродит он, бродит, может, сотню верст от дому-те отошел… Убессилеет, конечно, свалится у дороги, то и гляди подбирают…
– Ну, и что же?
– Ну, и вези его, от села к селу, по десятникам, на обывательских… А то еще дорогой помрет, чистая с ними склека…
Это было уже в позднее время, перед новым хлебом… Все запасы исчезли, и даже значительно усиленная (после победы губернской политики) ссуда только отчасти смягчала нужду. Народ тянулся из последнего, до сбора хлеба, – крестьянская Русь изнемогала, а нищенствующая переживала самое тягостное время и, – как видим из этого бесхитростного рассказа, – гибла, «убессиливая» на дорогах.
Но до тех пор сила Христова имени оказала нашей родине своеобразную услугу, потому что, – за недостатком других, – это большая распределяющая сила. В числе самых насущных потребностей крестьянской избы есть и насущная потребность «подать ради Христа», и много горечи в положении семьи, которая на стук в оконце и на молитву вынуждена ответить: бог подаст. Это значит, по большей части, что скоро – быть может завтра – и эта семья выйдет на ту же скорбную тропу.
Есть в Лукояновском уезде деревня Роксажон, лежащая на самой границе с уездом Сергачским. Ручеек и дощатый мостик отделяют деревню от такой же соседней, лежащей уже в участке господина Ермолова, соблазнявшего лукояновцев систематическим и сравнительно обильным кормлением. В Роксажон я приехал ранней весной открывать свою столовую, и одновременно со мной вошел в деревню старик нищий. Долго, пока собирался народ в сборную, я следил за нищим, как он шел по порядку, затягивая под каждым окном свой напев:
– Господи Иисусе Христе…
И редкое окно не открывалось, и из редкого окна не протягивалась рука с маленьким кусочком хлеба. На Сергачской стороне это был порядочный все-таки хлеб, хотя и с заметной примесью лебеды. В Роксажоне – это была лебеда, с едва заметной примесью ржаного хлеба… Но подавали в обеих…
Впоследствии мне пришлось провести несколько дней в Большом Болдине, и почти случайно я наткнулся там на трогательное объяснение этого единодушия, этого поистине самоотверженного милосердия, заставляющего отдавать предпоследний кусок хлеба тому, кто уже съел последний… Общественное значение этого явления в нашей некультурной и бесправной стране и громадно, и понятно. Вместо того, чтобы одному замкнуться со строго рассчитанным запасом своего хлеба, едва хватающего для себя, а другому умирать голодною смертью, – первый делится со вторым, увеличивает у себя примеси суррогатов, тянет, пока может, а когда не может – идет и сам с сумой на спине, с именем Христа на устах. И вот первые не умерли с голоду, а вторые не доедали, хворали, и вся голодная Русь тяжело, кое-как перевалила к новой жатве. Христово имя если далеко не уравняло богача с бедняком, то все же хоть до известной степени сблизило эти разряды и даже богача заставило участвовать в общем бедствии. Пусть одной рукой он наживался порой от народной невзгоды, но все же и у него шло много хлеба на милостыню, и он подмешивал нередко лебеду к своей ржи…
Итак, я жил в Большом Болдине, у вдовы содержателя постоялого двора. Это была, правда, добрая старуха, о которой у меня осталось одно из самых приятных воспоминаний. Землю у нее мир отнял, и она с двумя дочерьми кормилась, продолжая дело мужа. Жили они безбедно, но и не богато, и, кажется, вдове все-таки приходилось порой тяжеленько.
Раз, проснувшись рано утром, я сел записать свои впечатления, а в это время мимо окна прошла к хозяйке какая-то женщина. Потом другая, и вскоре обе они вышли, и обе, проходя под моим окном, прятали за пазуху по ломтю хлеба. Я стал считать вновь приходящих и насчитал в полтора часа около десяти человек.
– А много к вам нищенок ходит, – сказал я, когда хозяйка вошла с самоваром.
– Много, – ответила старуха спокойно.
– Я вот гляжу уже более часу…
– И-и… Этто что! Поглядел бы ты поранее, часов с четырех… Теперь скоро и совсем перестанут, к полудню.
– И все подаете?
– Как не подашь.
– Чай, много хлеба уходит.
– И не считаем мы, не годится считать.
– Почему?
– Хуже будет. Верно, – не смейся! Этто свояк у меня в N-ском селе живет. Так он, слышь ты, усчитать себя вздумал. Много, мол, хлеба подаем. Дай-ка, говорит, сосчитаю одну неделю, а на другую не стану подавать, погляжу, много ли, мол, менее на одних нас уйдет…
– Ну?
– То-то вот, как усчитал, ан на свою-то семью, без нищих-те, вдвое и вышло.
Эту легенду мне пришлось слышать не однажды, и всякий раз она повторялась с уверенностью совершенно испытанной реальной истины. Когда мы говорим порой, что «много есть на свете, друг Горацио, чего не снилось нашим мудрецам», – то это для нас вопрос отвлеченный и теоретический. Когда же народ передает свою легенду об усчитанном хлебе, то для него это настоящее и близкое, самое практическое соображение, которое, помимо всего прочего, выгодно принять к руководству… И перед этой уверенностью, перед силой этой легенды исчезают и стираются отдельные индивидуальности, вырабатывается некоторая общая, мирская добродетель, создается целая общественная сила.
В другой раз мне довелось ехать на почтовых на юг уезда, по большому тракту. Со мною поехал за ямщика содержатель станции, личность с сиплым голосом и жестким нравом. Сам человек зажиточный и, по-видимому, кремень, он, как я слышал, изрядно прижимал ямщиков, находя, что голодный год как раз подходящее время для того, чтобы сбавить плату. А так как те упирались и выражали другие мнения, то между ним и «народом» установились те «истинно-практические» отношения, которые нам достаточно известны из многих других примеров. Все его отзывы были желчны, враждебны, и его менее всего можно было заподозрить в гуманности. И, однако, он расходился с лукояновскими «господами» в одном: не порицал правительство за выдачу ссуды.
– Помилуйте, ведь это беда была бы. Хлеба одного уходило, – не напасешься.
– На милостыню?
– Ну-ну!
– А вы считали?
– Не считали, а видно.
– Не подавали бы… – закинул я, ожидая, что он скажет.
– Как не подать. Не подашь ему, оттого у тебя больше не станет, а все-таки меньше…
– Это как?
– Так, господин, уж это верно…
Я знал уже, почему «это верно», и мне на этот раз было чрезвычайно интересно следить, с каким выражением он произносил слово ему. Это был тон истого «лукояновца», много и наверное сочувственно толковавшего с лукояновскими господами, разъезжавшимися со своих сократительных заседаний, – об его («пьяницы и лентяя») мерзостях и пороках. Во всяком случае, менее всего было в этом тоне христианской любви и снисхождения к ближнему…
Но легенда жива в его воображении, и результаты получаются те же. И впоследствии не один раз и не в одном месте приходилось слышать ту же легенду, видеть доброе дело, исходившее из дурных рук и не сопровождавшееся любовью… Хотя, конечно, чаше можно было видеть тот же кусок хлеба, подаваемый с ласковым, ободряющим словом, с добрым чувством…
В этом, без сомнения, очень много трогательного, и под легендой бьется, конечно, то же вечное начало любви, разыскавшее для себя ощупью, годами и поколениями эту наивную форму. Но разве для этого начала необходимы только такие формы? Мне каждый раз становится грустно, когда я подумаю, что эта народная доброта, эта огромная общественная сила, оказавшая в голодный год такие громадные услуги, избавившая нашу родину от бедствия и позора многих голодных смертей, – в значительной мере покоится все-таки… на арифметической ошибке…
Как бы то ни было, читатель, надеюсь, согласится со мною, что явление, которое я пытался обрисовать здесь этими сбивчивыми и слишком беглыми чертами, – полно глубокого смысла и заслуживает самого серьезного внимания. Нищенство на Руси – это грандиозная народная сила, изменчивая и упругая, то поглощающая в себе огромные массы, то опять выделяющая их из своих недр. Для внимательного взгляда – это показатель самых серьезных и глубоких изменений в глубинах народной жизни. Это уравнитель и буфер, до известной степени устраняющий многие опасности, – и во всяком случае о них предупреждающий, если суметь воспользоваться его указаниями. Вспомним хотя бы о том, что все самые мрачные страницы нашей истории всегда обильны стереотипным припевом: «толпы нищих бродили по дорогам»… И самая страшная историческая ошибка состояла в легкомысленном мнении, что с этим явлением можно бороться внешними мерами…
Все эти мысли, с большей или меньшей ясностью, мелькали у меня в уме, когда мы ехали в обратный путь из лукояновской «Камчатки»… И мне невольно становилось жутко и страшно этой весны… Туман набирается над снежными далями, сгущаются облака, носятся и каркают вороны. Дорога рушится, и скоро уже, скоро все эти Шандровы, Чеварды, Петровки и Обуховки очутятся в весенней осаде, отрезанными от всего мира… А между тем, уездная комиссия, обмирающая, как уже было сказано, на две недели, – в последнем заседании решила продолжить этот период спячки: 7 марта постановлено, что 21 марта и 5 апреля обычных заседаний не будет. Итак, – полтора месяца уезд будет без центрального продовольственного органа и это – в самое критическое время!
Вот что по мнению лукояновских земских начальников значило: «спокойно заниматься своим делом».
XVI
ИНТЕРЕСНАЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ГРУППА. – НЕДОРАЗУМЕНИЕ. – «НА ОДНО ЛИЦО». – МАЛЫЕ НАДЕЛЫ
Да, наша русская жизнь, несомненно, обладает той особенностью, о которой мне приходилось уже говорить: все следы на ней затягиваются быстро, полно и незаметно. Пролетит в каком-нибудь месте русской земли в сухие годы красный петух, осветится она заревом, пронесутся крики и стоны, потянутся по дорогам телеги, сопровождаемые изможденными и усталыми погорельцами, – и, смотришь, опять на прежних местах становятся избяные срубы, опять крыши покрываются соломой и опять стоит себе деревянно-соломенная Русь, с надеждой на бога и со смирением готовая принять новое «попущение». А о пожаре уже забыли, и даже деревенская хронология не считается с ним. Очень редко услышите вы в деревне фразу: «это было до пожара» или «после пожара». Где их все-то упомнить, пожары-то эти! Столько их было – и больших, и малых, и середних, что уж и не различишь в памяти. И так все у нас. Письменность слаба, мемуаристов мало, и проходит событие за событием, туча за тучей, гроза за грозой, не отмечаясь в народной памяти, и если оставит какая-нибудь буря свой отголосок в народной песне, то такой смутный, глухой и неопределенный, что по нем даже не узнаешь, в чем тут дело…
На сей раз мысли эти вызваны во мне «кочубейством».
Говоря в одном из прошлых очерков о «Василевом-Майдане», я упомянул уже об интересной этнографической группе, населяющей значительную часть Лукояновского уезда. Василев-Майдан, расположенный на большой дороге, протянувшейся из Лукоянова в Починки, а оттуда далее на юг в Пензенскую губернию, представляет, если не ошибаюсь, последний, самый западный пункт расселения этой группы. Центр ее – Новая слобода в сорока верстах на юго-восток от Лукоянова. Вокруг кочубеевской слободы, – ближе – гуще, подалее – реже, – рассыпаны села (майданы), деревушки и поселки, жители которых отличаются от остального населения говором, одеждой и отчасти (слабо) обычаем.
Появились они здесь более ста лет назад. Ну, как бы, кажется, не помнить этим тысячам людей, переселенным с родины в чужое место, – откуда пришли их деды или прадеды. Но «кочубейство» не помнит. «Кто знает? Кочубейство, да кочубейство, – а более не знаем. Говорят про нас разно: паны, будаки́, литва, поляки, черкасы… А с какой именно земли, – неизвестно». Одежда с поясами и «поньками» из самодельного сукна, головные платки, повязанные особенным образом (узлом наверху головы, вроде малороссийской кички), мягкий говор, порой с малорусским на о, порой с белорусским произношением, кой-где мазаная хатка, кое-где обрывок песни, и всюду типические, сохранившие свои отличия физиономии (преимущественно у женщин), – говорят о какой-то иной родине. Но определенные воспоминания об этой старой родине исчезли.
В уезде я слышал, будто есть где-то старая «летопись», в которой «все написано по старине». Однако, кажется, речь шла лишь о церковной записи, которою отчасти пользовался священник о. Г-в, автор брошюры о Василевом-Майдане (на которую мне уже приходилось ссылаться). По словам Г. Г-ва, «жители села Василева-Майдана – малороссийского племени[60], вывезены из Черниговской губернии, Батурина и Опотеч (?)… Вместе со многими другими, находившимися в крепостной зависимости у графа Алексея Кирилловича Разумовского и жены его Варвары Петровны, они вывезены сюда на жительство в свободные леса из малороссийских имений Разумовских[61]. Первоначальное место поселения было сплошь покрыто лесами, – так что первые пришельцы должны были здесь останавливаться на небольших полянах, – и эти места, известные здесь под именем „майданов-полян“, послужили поводом к названию селений. Так, например, Василев-Майдан, – иначе Василев-Стан, получил, вероятно, свое название от имени главного вожака переселенцев, остановившегося на этом месте со своей партией, – Василья; Елфимов-Майдан – от Ефима и т. п.».
К этим чертам можно прибавить еще смутные воспоминания о том, что не раз и в крепостные времена бывали голодные годы, когда бедные «паны» ели «жилые колоды (!), желуди и мякину, а о посевах нечего было и думать». Ну, и разумеется, как это бывало всюду на Руси, – «крестьяне самовольно уходили кто куда мог, кто куда знал, никто об этом не спрашивал, беглого никто не искал». «Паны брели врозь» со своей новой родины.
Уже в начале нынешнего столетия огромные жалованные владения Разумовских, населенные переселенцами, распались на две части: одна пошла в приданое князю Кочубею, другая Репнину. Этот последний владелец был хозяином Василева-Майдана, где и доныне одна местность называется «Репнинскими или Репьевскими сечами». Впоследствии Василев-Майдан и некоторые более западные поселения перешли к кн. Витгенштейну, а от него к Федору Петровичу Лубяновскому. Восточная, более значительная часть бывших имений Разумовских осталась за Кочубеями, и центр их, Новая слобода, до сих пор носит местное название «Кочубеевской слободы», а тянувшие к ней по крепостной зависимости села и деревни известны под общим названием «Кочубейства».
В «Новой слободе» воспоминания о прошлом также смутны. Один служащий в кочубеевской вотчинной конторе, состарившийся среди черных шкафов с разными «вотчинными делами», почерпнул из запаса своей старой памяти несколько обрывков: слободское и околослободское население составилось, по-видимому, не в раз и не из одного места. Разные названия, как будаки (будто бы от обуви, вроде «котов»), паны (из польских краев), лемаенки (из Малороссии), – обозначают разные наслоения этого пришлого люда. Первая церковь куплена стариками на снос в селе Березенках (около Починок) и перевезена в слободу в 1791 году. В двадцатых годах управляющий кочубеевскими вотчинами Караулов вздумал было заняться «обрушением» кочубеевцев. В чем собственно было дело и какой опасностью грозили несчастные особенности «панских» костюмов – понять трудно, но только поньки (юбка из коричневого грубого домотканного сукна) и суконные же пояса, поверх поньки, – подверглись вдруг жесточайшему гонению. По приказанию Караулова, бурмистры резали на бабах эти юбки, срывали пояса и водили их в таком виде по селу «для сраму». Оказалось, однако, что народ не отступился от своей одежды. Он забыл свое происхождение и старую родину, оставил многие обычаи, изменил в значительной степени даже язык, – но вынес все гонения, и отстоял особенности костюма.
К этому нужно прибавить, что все это кочубейство, паны, будаки и лемаенки – народ красивый, мягкий, как и их говор, и добродушный. Женщины очень стройны, отличаются даже походкой, гибкой и грациозной, здоровьем и силой. Они любят веселье и песню (не в нынешний, однако, год) и, говорят, не отличаются суровой добродетелью. Впрочем – honny soi qui mal y pense…[62] Это, должно быть, такой же дар старой родины, как речь и одежда: в крови осталось еще солнце тех стран, где умеют и петь, и любить, и веселиться. А жизнь на росчистях из-под Муромских лесов не красна…
Двадцать второго марта я направился в юго-западную часть уезда и погрузился в самые недра кочубейства.
Выше мне приходилось уже говорить о положении продовольственного дела во 2-м земском участке, к которому принадлежит слобода со всеми прилегающими майданами и полянами. Уездная политика отразилась различно на описанной в предыдущих очерках залесной «Камчатке» и на бедных «панах». «Камчатка» понесла жестокую контрибуцию в начале войны уезда с губернией, контрибуцию, понизившую цифру ссуды до пяти фунтов. Однако, когда выяснилось, что и Нижний тоже не шутит, г. Бестужев ударил отбой, и цифра ссуды, поднявшись в марте, продолжала торопливо подниматься в списках на апрель. Итак, для «Камчатки» самое трудное время осталось назади. «Панам» самое трудное время еще предстояло; в ответ на некоторые меры, принятые в Нижнем, г. Пушкин сократил весенние ссуды: в марте общие цифры понизились, и редкие прежде выдачи по тридцати фунтов для сирот и безземельных – совсем исчезли. На апрель ожидали нового проявления того же сократительного направления…
Часа в два я сидел за столом в сборной избе села Дубровки, занося в записную книжку свои впечатления, пока в избу тихо набирались «старики». Мужики входили какие-то угрюмые, молчаливые, в толпе ясно чувствовалось напряженное и недоверчивое ожидание. Когда, видя, что изба почти полна, я обратился к дубровцам с несколькими словами, объяснявшими цель моего приезда, – мужики встретили эти слова угрюмым молчанием.
– Нет, – решительно сказал, наконец, один из толпы, – не выйдет!
– Что не выйдет?
– Этак не сойдется у нас.
– Все мы бедные! – загудела толпа, – всех по ряду пиши, по порядку. Всем нужно! А этак не надо нам!
– Тридцать человек накормите, а остальным гладом, что ли, помирать!..
– Вот мне в хеврале давали, а ноньче отказ!
– И мне, и мне… А нам вот сбавили на трех человек!..
– Не выйдет… Не-ет, не выйдет…
Я начинал понимать… Меня поражало вначале то однообразие впечатлений, которое я выносил с сельских сходов. Мастерская картина, набросанная Л. Н. Толстым в его известной брошюре «Как помочь голодающему населению», – казалось, совершенно исчерпывала все описания всех этих собраний «стариков» для составления списков столовых, – с их краткими, меткими характеристиками отдельных случаев нужды, с их серьезной правдивостью или благодушным юмором. Читатель, быть может, заметил, что и мне на протяжении этих незатейливых очерков приходилось не раз повторять ту же, данную Л. Н. Толстым, картину, варьируя только это бесконечное разнообразие метких народных словечек… Однако, приглядываясь дальше, я невольно стал различать оттенки, которые все более и более глубокими чертами выделяли передо мной эти столь однообразные вначале картины, налагая на каждую отдельную «громаду – великого человека» черты ее особенной индивидуальности. Угнетенная толпа «нежителей» сифилитической Петровки, шумливые сходы в Кирлейке (Пруды тож), лукавые мордовские сходы, с которыми мне приходилось иметь дело впоследствии, наконец, сходы «панов», начавшиеся с легкого упорства в Дубровке и закончившиеся тяжелыми, почти потрясающими картинами, которые мне придется описать в дальнейших очерках, – все это раздвинуло передо мной первоначальную, общую схему, выдвинуло индивидуальные различия там, где прежде царило полное сходство и однообразие, где все казались прежде «на одно лицо».
Но если мужик кажется «на одно лицо» нам, имеющим более возможности и наблюдать, и анализировать его, – то уже совершенно понятно, что мы тоже кажемся «на одно лицо» мужику. Чиновник, полицейский, земец, избранный на бессословном земском собрании, земский начальник, несущий с собой резкий принцип сословно-дворянского преобладания, врач, служащий по найму от земства, и исправник, представитель чисто административного начала, наконец, частный благотворитель в немецком платье – все мы для деревни просто «господа», действующие заодно, по какому-то одному неведомому деревне плану, «их благородия»[63], несущие в деревню какое-нибудь требование, побор и тяготу…
В соседних уездах, в соседней губернии выдачи производятся сравнительно щедро. Но вот уезд, постигнутый неурожаем в высокой степени, получает меньше других, и в самое трудное весеннее время «господа» начинают еще сокращать ссуды. Мужик не понимает причины, но отлично чувствует результаты, и при этих-то условиях являюсь в деревню Дубровку я, новое его благородие, никому неведомое, и требую у мужиков, чтобы они назвали человек тридцать «беднейших» для оказания им помощи. Дубровка, при звоне колокольцов, ждала случая принести какому-нибудь «господину» свои просьбы об общей помощи. Дубровка разочарована и, кроме того, Дубровка подозревает, что у господ есть тут какой-то общий единый план, план довольно лукавый. Дубровка назовет тридцать беднейших и тем признает, хотя и косвенно, что остальные не бедны, что остальные «продышут» и сами.
И вот мы с Дубровкой стоим лицом к лицу, а между нами стоит «недоразумение»…
– Всех по ряду пиши, – требует Дубровка. – Все равны, на полях ни зерна не было. Работы нет. По хуторам усюду народу усилило…
Это правда. От рабочих на хуторах нет отбою, – это говорили мне управляющие, и это не могло быть иначе.
– На степе тоже усилило народу, податься некуда.
И это опять правда: газеты были полны описаниями, как народ голодный метался «по степе», сбивая цены и не находя работы, так как самарская и саратовская степи тоже выгорели от засухи.
– Все мы равны!.. Какие мы жители! Земли у нас по пяти сажень на душу!..
И это правда. С пятью саженями какие жители! Впоследствии, когда я приезжал закрывать свои столовые, Дубровка опять окружила меня, с робкой надеждой, что я такой «господин», который может что-нибудь сделать для нее, – что-нибудь побольше столовых. Старики с глубокой скорбью рисовали передо мною положение деревни. Вплоть к околице примкнула помещичья (кочубеевская) земля; свои пять сажень выпаханы совершенно. «Спросите кругом, – говорили мне мужики, – спросите, кто работает больше нашего? Никто! А спросите еще, – с какого месяца наши нищие идут по деревням с сумами? Хорошо-хорошо, как с нового году…»
Да, это опять не зависит от «недорода» в нынешнем году. «Помилуйте, – говорили мне совсем с другой стороны, – о чем тут кричать и волноваться. Посмотрите на тех же дубровцев или пралевцев… Да ведь это вечные нищие. Это у них всегда».
Я никогда не мог понять эту точку зрения. По-моему, тем хуже, тем больше причин волноваться и ставить вопросы о том, как это могло случиться, и как это может оставаться, и как можно с этим мириться?
В данном случае произошло это очень просто. Мы видели, как обездолили себя василево-майданцы. Там, в тумане легенды, являются все-таки какие-то два проблематические субъекта с «золотой грамотой». В Дубровке не было ничего подобного, и однако, когда пришло время освобождения и выкупа, – дубровцы «забунтовали». По всей мужицкой Руси того времени (и только ли того?) носились какие-то мифические представления об общественных отношениях и, главное, о земле. Когда дубровцам предложили сделку с помещиком, старики стали соображать: «За что платить? Что господа станут делать с землею? Разумеется, отступятся без дарового труда, бросят и уедут себе за границу. Земля и так будет наша». Итак, перед дубровцами ясно выступила задача: платить за землю не следует, а если платить, то как можно меньше… А там, – все равно будет наша!..
И дубровцы на том себя утвердили.
Дубровцам тоже разъясняли, дубровцев тоже усовещивали, дубровцев тоже «усмиряли». Из толпы, меня окружавшей в то время, когда я слушал эту печальную историю, – вывели древнего старца, с седыми лохмами волос на старой голове, с потухшими глазами. Это был один из тех стариков, обездоливших Дубровку… Его тоже «усмиряли», он тоже противился.
– Верно! – подтвердил старик скорбно. – Исправник усмирял. Губернатор Муравьев[64] сам выезжал… «Что вы, говорит, мужики, опомнитесь, говорит! Почему землю не примаете? Несчастными себя делаете…» Хорошо, правильно говорил, нечего сказать… Да вот, поди ты! Миром уперлись, ничего не поделаешь…
Замечательно, что ни этот старик не винил себя лично, ни его, одного из виновников беды, – не обвинял никто. «Мир, – ничего не поделаешь». Мир осенила идея, мир «укрепился» на ней, мир решил… Что тут, в самом деле, поделаешь! Стихия, неизбежность, закон! «Деды – обездолили», но ведь деды думали сделать лучше, все думали «миром».
И вот, дубровцы после «усмирения» и увещания согласились принять надел в пять сажень, – все-таки меньше платить! Помещичья земля, та самая, от которой дубровцы отбились «самовольно», – сомкнулась вокруг деревни, подошла к самой околице, и понемногу год за годом кольцо это давало себя чувствовать все сильнее. Теперь положение определилось окончательно: курицу выгнать некуда, сохе негде повернуться. Помещики, как и прежде, живут далеко, а в имении – управляющий. Управляющий заботится об увеличении дохода во что бы то ни стало. И доход доведен до «естественного» предела. Железный закон спроса и предложения – это тоже стихия, а этот закон заставляет идти дубровца на работу за ту цену, которую назначат, брать землю в аренду, «за что возьмут»… Этот закон сказывается тем, что в то время, как в других селах рабочим одна плата, – для дубровца специально существует другая, хотя бы дубровец работал тут же, рядом. Для дубровца выработалась особая, почти нигде не виданная испольная система. В то время как в других деревнях и селах делят исполу снопы или зерно, – для дубровца выделяют «исполу» самую землю. За плохую, истощенную десятину (себе) дубровец обязан отработать хорошую десятину для Ново-Слободской кочубеевской экономии. Когда на полях созрел уже хлеб, – я видел их, эти поля. По одну сторону дороги моталось на ниве что-то такое жалкое и жидкое, о чем говорят: «колос от колосу не слышно голосу», и тут же наливался очень порядочный экономический хлеб. Оба они испольные! «Одни руки работали, и уж для себя ли мы бы не постарались», – говорили дубровцы. А не возьми эту землю и на этих условиях… Да как тут не взять…
И вот почему дубровцы не жители, вот почему они работают, как никто, и все-таки с Нового года их бабы и дети, а часто и здоровые мужики ходят с сумами по уезду, с Христовым именем на устах… Вот о ком можно сказать, что они теперь в худшей «крепости» у помещика, чем были прежде.
– Как же, господин? – робко прорвалось несколько голосов, когда я прощался с дубровцами, оставляя уезд. – Неужто никто теперь не может помочь нам?
– Да… и дети наши должны страдать? – прибавил другой.
– И дети детей, и унуки унуков? – скорбно полувопросом кинул третий…
Дубровка с ее наделом в пять сажень – не одна. Освобождение крестьян представляет картину, набросанную широкою и мастерскою кистью. Но к картине придется еще вернуться для окончательной отделки. Она сильно нуждается в ретуши… «Малый надел», «даровой» и «нищенский» наделы, – какие это знакомые, какие избитые термины по всему лицу нашего обширного, богатого простором отечества! Они-то составляют почву, на которой сложилась жизнь и Малиновки, которую я посетил в тот же день, и Пралевки, и Логиновки, и Козаковки, и многих других деревень в уезде, в губернии, во всей России. От чего бы это ни происходило, но все же это – пятна, портящие картину, к которой, несомненно, придется еще вернуться, и вернуться даже не для одной ретуши, а и для более смелых поправок в самой перспективе.
Я не нашел для дубровцев слов утешения. Я заканчивал свои столовые, и с ними ликвидировал свои отношения к Дубровке и уезжал домой… Я не тот «господин», на которого Дубровка могла бы возложить свои надежды. Однако теперь, когда я передаю свои впечатления этому печатному листу, – у меня невольно теснятся вопросы: неужто, в самом деле, за историческую вину темного люда, за ошибку вымерших стариков должны безысходно нищенствовать и томиться целые поколения, «дети детей и внуки внуков»? И кому это нужно? Во всяком случае – не обществу, не государству!..
О, если бы печать могла и эти скорбные вопли Дубровок поставить в ряду практически неотложных «вопросов», выдвинутых голодным годом!..
XVII
ЧТО ИНОГДА НАЗЫВАЕТСЯ БУНТОМ. – КАНДРЫКИНЦЫ. – МАЛИНОВКА
Однако вернемся к прерванному рассказу. Итак, Дубровка требовала, чтобы я «писал поряду» от каждого двора, чтобы я произвел в ней «равнение» и свою ничтожную помощь расписал по-«мирскому», по душам. Я не мог уступить ей в этом требовании: моя задача была – подобрать всех тех, кому прежде других могла грозить голодная смерть… И мне нужна была для этого помощь схода. Я объяснил это, по возможности, понятно. Я старался убедить, что я не чиновник, что деньги у меня не казенные, что они собраны «Христа-ради» и не окажут влияния на ссуду[65], в особенности для остального населения. Старики всё упрямились. Пришлось прибегнуть к последнему средству.
– Ну, как знаете! Денег у меня немного, а нужда всюду. В других местах будут рады, что хоть нищих подберем. Прощайте.
Я сложил свою книгу. В задних рядах поднялось сразу волнение.
– Что вы, старики! Что вы делаете? Разве этак можно отпускать человека? Не слышите, что говорит он? Благодарить надо! Вот Анны Мажукиной дети… Татьяна Балахнина под окнами, как планида, бродит. Что вы, что вы, опомнитесь.
– Говори, староста! Все будем говорить по совести. Пишите, господин!
Деревня уступила. «Житель-середняк» очищал место нищим, бродившим, по чьему-то образному выражению, «как планиды», взывая Христовым именем к разделу последних крох лебедного хлеба. Опять сход принял обычную физиономию, опять посыпались меткие словечки, и список быстро стал наполняться именами вдов, безмужних жен, брошенных на произвол судьбы сирот, которым не выдают ничего по каким-то совершенно непонятным соображениям («кого надо – не пишут, а кому бы не надо – дают»). Таких набралось тридцать человек. Затем мы стали. Конец! Каждое новое имя, называемое кем-либо, вызывает уже замечание: «Нужно, да таких много»…
Я встал, поблагодарил стариков и сделал распоряжение о доставке ранее уже заготовленного хлеба. Но дубровцы тесно сомкнулись вокруг стола.
– А как же нам, ваше благородие, мужикам-те? Ведь все приели, гладом, что ли, помирать будем?..
Это уже выступает, как и всюду, другое недоразумение. Я попрошу читателя ясно представить себе картину: тесная изба, толпа мужиков, впереди – староста, сотские, старики – все народ, привыкший к объяснениям с начальством и до известной степени ответственный. Они высказываются осторожно, глядят выжидающе и робко. В их голосах слышно в одно и то же время и желание сказать нечто, выручить деревню, выпросить нечто для мира, и готовность отступить при первом признаке грозы, которая может настигнуть прежде всего именно их. Говорят они почтительно и даже с лицемерным смирением.
За ними сплошная, слитная, безличная масса, из которой слышен то сплошной гул, то раздаются резкие, определенные, часто слишком резкие и слишком определенные сентенции, вызывающие сочувственный ропот. В таких случаях передние озираются, – для того ли, чтобы сдержать «бесчинство», для того ли, чтобы показать перед начальством, что они не солидарны, – во всяком случае, озираются безуспешно… да и надо же хоть кому-нибудь, хоть как-нибудь высказать истинное настроение и истинные взгляды «мира»… Вот приемы деревенского схода, заявляющего неудовольствие и жалобы… И в середине этой толпы – я, олицетворенное на сей раз недоразумение, до которого все сие отнюдь не относится…
Однако у меня спрашивают, и я думаю, что обязан ответить.
– Приедет земский начальник, – расскажите все это ему.
– Приеди-ит… – иронически говорят мужики. – Да он никогда и не бывал…
Это, конечно, для меня не новость, но у меня все же есть ответ:
– Ступайте к нему.
– Гонит.
Мое положение, как советника, становится затруднительнее. Дубровка спрашивает у меня, может ли быть, чтобы от высшего начальства соседнему уезду отпускалось по тридцати и сорока фунтов на всю семью, а на них пятнадцать – двадцать со всякими вычетами…
– Пошлите, – говорю я, – кого-нибудь сначала в Лукоянов, в продовольственную комиссию с жалобой, а если там не уважат, – пишите в Нижний…
«Недоразумение» принимает новый облик. Передних как-то отшатывает от меня, и вблизи образуется пустое пространство. В задних рядах – сразу смолкают и гул, и ругательства, довольно изобильно сыпавшиеся до этой минуты, и жалобы… Мужики как-то настораживаются…
– Это… как же? – сдержанно спрашивают впереди, – через ряд?..
– Помимо, то есть, начальника… Жалобу?
Я объясняю, что жаловаться высшему начальству на низшее всегда можно.
– Ведь вы, – говорю, – у начальника были?
– То-то были.
– Отказал?
– Ну!..
Тишина становится напряженной.
– Значит, теперь остается просить выше…
– Нет! – решительно и резко говорит ближайший ко мне мужик, кажется, староста, озираясь назад и как бы желая запечатлеть свою мысль в массе. – Нам надо помирать, а через ряд на начальника… невозможно.
Картина резко раздваивается. Впереди – лицемерное смирение, доходящее до готовности «лучше помереть», сзади ропот, ругательства, комментарии вроде того, что «гладом поморит», «и то, что есть, отымет»… И чем дальше, тем сильнее и резче…
– Как знаете, – сказал я, – по-моему, прямая просьба, хотя бы и «через ряд», лучше, чем то, что вы теперь говорите. Прощайте.
Вся эта сцена произвела на меня странное впечатление. В этом мгновенном молчании, в этом испуганном удивлении, в этом робком смирении, во всей атмосфере этого схода в последнее мгновение пронеслось что-то такое, что заставило меня невольно спросить себя: «Уж не бунтую ли я как-нибудь нечаянно дубровцев, в самом деле?..» Кажется, нет! Кажется, то, что я говорил, – просто, ясно, непререкаемо и законно. Кажется, наконец, что этот глухой гул под стенами и в углах, гул, исполненный такого мрачного возбуждения и так странно оттеняющий лицемерное смирение первых рядов, – действительно хуже законной жалобы… И, однако… Мы видели, как была понята и к каким последствиям повела законная просьба жителей Учуева-Майдана.
Народ от «законных» жалоб отучали долго и успешно.
Уже спускались сумерки, когда с Н. П. Александровым, управляющим одного из ближних хуторов и спутником моим на этот раз, – мы въехали в широкую улицу большого села Кандрыкина. По отзыву окрестных жителей и местного священника, Кандрыкино хотя и пострадало, но все же меньше других, и потому село это не входило в мои планы. Но мне нужно было у писаря получить сведения о деревушке Малиновке, в которую мы и направлялись.
На улице мы встретили оживленную гурьбу ребят, тащивших большой ушат из училища. Это школьники, которым священник ухитрился из сумм, отпускаемых на этот предмет и, кажется, частью собранных им лично, – устроить обед и ужин… Эта небольшая сцена рассеяла отчасти грустные мысли, навеянные на меня Дубровкой (я не знал еще тогда, что мне предстояло впереди, на следующий день!). Затем разговор с батюшкой, человеком истинно добрым и сострадательным ко всяким нуждам своего духовного стада, еще укрепил это впечатление, и мы с Н. П., весело разговаривая о кандрыкинцах, поехали к волостному правлению. Кандрыкино большое село, построенное на отлогом холме, тремя порядками, по обдуманному плану: три параллельных улицы, отстоящие почти на полверсты друг от друга, разделенные широкими полосами выгонов и огородов с правильными рядами нежилых построек в этих промежутках. С первого же взгляда на село еще с дороги, из-за оврага, видна в этом плане чья-то заботливая устроительная мысль. Сами ли переселившиеся «паны», или умный помещик придумал этот план, – во всяком случае видно, что село сразу же село на своем холме разумно, удобно и широко. По общим отзывам, кандрыкинцы и до настоящих времен держатся крепко, работают отлично и, главное, – дружно. Никто не берет так охотно крупных работ миром, как они, и нигде этот сложный механизм не работает так хорошо и отчетливо. Николай Павлович Александров, на своем хуторе, затеял очистку огромного скотного двора. Взялись за это кандрыкинцы, и вот в первое же воскресенье на хутор приехало четыреста подвод сразу. Наниматель боялся галдения, споров, проволочек и беспорядка. Не прошло, однако, и двадцати минут, как хуторские авгиевы стойла были разделены стариками на делянки, каждый работник узнал свое место, каждая подвода стала в свой ряд – и в день все было кончено. Мир заработал сто рублей на мирские же надобности. Таким же образом кандрыкинцы нанимаются на жнитво, на косьбу, и еще недавно на заработанные миром деньги они построили (или ремонтировали) церковь, что стоило около шести тысяч.
Пока мой спутник рассказывал мне все это, – мы подъехали к зданию сельского правления. В окнах виднелся свет, через запотелые стекла можно было разглядеть тесную толпу, и через стены просачивалось жужжание и гул. Сборная изба вся гудела, точно улей. Очевидно, кандрыкинский «мир» обсуждал какое-то насущное и волновавшее мирское дело.
Когда мы вошли в избу, – голоса сразу стихли, как будто мы застигли врасплох какой-нибудь заговор. Навстречу нам поднялся из-за стола староста, мужик средних лет, черниговского типа, с вытянувшимся вперед горбатым носом, похожим на клюв. Сходство с петухом усугублялось тем обстоятельством, что волосы у него торчали кверху, глаза сверкали гневом, и, видимо, ему трудно было сдержаться, чтобы вновь не кинуться в прерванную нами схватку с мирянами. Повидимому, он сейчас только выдержал жестокий натиск, и на лбу его виднелись даже крупные капли пота.
Мы спросили писаря, которого здесь не оказалось, и в ожидании сели на лавку.
– Что ж вы, старики, продолжайте, – сказал Николай Павлович. – Мы подождем.
– Нет… так мы, по своему делу… Кончили, – кинул староста, как-то нервно стуча рукой по столу и быстро оглядываясь на мирян, как будто с целью убедиться, что они, с своей стороны, принимают это перемирие. Мужики угрюмо молчали.
– А писарь… – с заминкой прибавил он, – да не в Малиновку ли он уехал?
– Пьян лежит! – резко нарушая неловкое молчание, прорвался вдруг один голос.
– Разумеется, пьян… Завсегда пьяной… Какая Малиновка! – загалдела толпа.
Староста выпрямился, сверкнул глазами и стукнул кулаком по столу…
Перемирие, очевидно, оказалось нарушенным со стороны мирян.
– Чего зеваете…[66] Чего он пьян?..
– Чего пьян! Оттого, что напился! А ты со старшиной покрываешь! Мы прямо говорим…
– Скрывать нечего!
– Через него мы несчастны!
– Через вас усех… Прошлый год писарь пьянствовал, мы без обсеменения остались… Ноньче опять хотите без семян оставить!
– Молчите, не от этого остались.
– А отчего?
– Оттого!
– Нет, ты говори отчего?
– Оттого… Кто вам виноват… Сами виноваты…
Изба мгновенно опять наполнилась тем гулом, который царил здесь до нашего прихода. Староста петушился и выходил из себя, миряне обрушивали на него, на отсутствующего старшину и, главное, на писаря – целую бурю жестоких обвинений. Через несколько минут мне удалось схватить сущность вопроса.
Дело в том, что в это время по всему уезду составлялись приговоры о ссудах на обсеменение яровых полей: уже в прошлом году многие деревни получали ссуду и, – такова сила формулы «все благополучно», – земские начальники (без проверки) сократили цифры настолько, что значительная часть озимых полей в уезде осталась незасеянной (что опять-таки установлено официально). Кандрыкинцы не получили ссуды вовсе и, как мы это уже видели в «Камчатке», – приписывали свою невзгоду вине непосредственного сельского начальства. Теперь приходилось думать о яровых семенах. Надо заметить, что, при неурожае озимей, яровые хлеба у кандрыкинцев уродились порядочно. Ввиду этого было решено, что им семян не надо вовсе.
В этом смысле, угождая земскому начальнику, старшина, староста и, разумеется, писарь составили приговор от имени общества, которым удостоверили, что все количество семян засыпано в общественные магазины. При этом они в числе засыпанного хлеба привели и тот, который предполагался у домохозяев в амбарах. Иначе сказать – сельские власти дали ложные сведения.
Что станете делать! Я говорил уже о взаимном и возвратном действии высшей и низшей уездной политики. Высшая проводит «взгляд», а низшая услужливо его подтверждает. На сей раз высшая политика провозглашает: «семян нужно поменьше», и низшая спешит угодить: «все засыпано-с». И обе довольны, только… поля останутся непременно незасеяны. То, что было на дому, или съедено, или продано для покупки неуродившейся ржи. И вот – на бумаге семена есть, на деле – семян нет. Мужик кидается прежде всего на старосту и писаря. Староста и писарь не смеют идти против земского начальника… И вот отчего кандрыкинская сборная изба гудит, как улей. Кандрыкинцы вознамерились непременно «бунтовать» просьбой о семенах, хотя бы и «через ряд»… Староста, боясь земского начальника, удерживает от такого бунта.
Минут через двадцать явился писарь («умывался», по словам посланного за ним парня), снабдил нас списками, и мы вышли из избы. И как только мы вышли, изба опять загудела сугубо. Упреждая события, скажу, что о «бунте» кандрыкинцев стало известно губернатору; произведена проверка, и семена выданы.
Бунт, значит, кончился на сей раз благополучно,
До Малиновки было всего три версты, однако, когда мы въехали в деревушку, то мне показалось, что уже глубокая полночь. Избы, занесенные снегом, глядели на улицу слепыми окнами; вверху из-за туманных облаков выглядывала луна, по улице легкая метель несла белую изморозь, ветер протяжно шумел в голых ветвях берез. Нигде – ни огонька, несмотря на ранний час. Это – черта голодного года. Лен тоже не уродился, работы бабьим рукам нет: долгий вечер наполнен жуткой тоской и плачем голодных ребят. И деревня старается сократить день, матери рано укладывают детей, сном обманывая их голод, пустые печки стоят холодные, светить тоже незачем…
Мы ехали вдоль пустой улицы в надежде встретить, наконец, огонек. На наше счастье навстречу нам попался староста, запоздавший в слободе у начальства, и скоро разбуженная деревушка собралась в сборной. Опять разочарование, опять объяснения, опять жалобы, между прочим – и на недостаток семян… Черная изба, в которой происходили эти разговоры, была вымазана извнутри (полы и стены) глиной. Лица, меня окружавшие, – типичные малорусские. Вот нестарая баба, с головой, повязанной платком (кичкой), стирает полой грязный стол. Лицо, одежда, фигура – прямо с картины Маковского. Только мы привыкли видеть такие лица среди чистых, выбеленных стен, с узорными полотенцами на стенах, с пучками сухих цветов и с вербами за иконой. Здесь сажа насела на потолок, на стены, обмазанные в силу старой привычки. Лица изможденные, угнетенные, но все же выразительные, от чего эта скорбь проступает еще резче…
– Выбився народ, выбився просто страсть. Да что: земли шесть сажен!
Семена им обещали выдать, но… на надельную землю, то есть на эти шесть сажен, не считая арендной земли. А они и живы только арендой. Тут, очевидно, опять бы нужна просьба «через ряд»… Не знаю, состоится ли она, или малиновцы предпочтут «помирать», но пока – они думают о живом и снимают, по обычаю, земли в кочубеевской экономии, не зная еще, пошлет ли им бог семян. Еще несколько лет назад, при таких же обстоятельствах, можно было сказать наверное: извернутся! «Ён достанит» – знаменитая щедринская формула, которою Русь жила долгие годы! Она-то и создала эту привычную уездную политику… «ён достанит!..» И «ён» доставал, доставал, доставал… Приходится еще раз вспомнить характерную фразу А. А. Демидова, которую слышали мы в нижегородском губернском собрании: «Кричали, просили… Мы не дали ни зерна! Никто не умер». Это относилось еще к весне 90 года… Осенью девяносто первого А. А. Демидов сам уже бил в набат: пособия, пособия! «ён больше не достанит». Но в Лукояновском уезде щедринская фраза оставалась во всей своей силе…
Здесь было все то же, что и в Дубровке, те же черты разочарования и грусти. То же непонятное сокращение на март, те же сироты, переведенные на пятнадцать фунтов, те же семьи, отцы которых где-то там, на белом свете, получают жалованье по два рубля в месяц, вследствие чего земский начальник лишает ссуды оставшихся, как будто два рубля и двадцать фунтов муки на месяц – такая роскошь, что уже никак не могут существовать вместе[67]. Только здесь судьба послала нам под конец небольшой эпизод, который, точно луч, осветил сумрачные впечатления этого ночного схода.
Список был уже составлен. Мы отобрали обычный контингент многодетных вдов, увечных, всех этих несчастных «с глупиной», «с глушино́й», «подслеповатых», «слюнявых», «негодящих» и т. д., которых всюду помещали в списки бесспорно, – и остановились. Дальше шла уже «ровня», которой я помочь не мог, потому что «таких много». Я собирался кончать, как вдруг раздался резкий, почти еще детский голос, звучавший недовольством и протестом.
– Старики! А от батьки так никого и не запишете?
Говорил парень лет тринадцати, очередной десятский, собиравший для нас стариков. Он молча стоял все время, протиснувшись незаметно в передний ряд, заложив руки за пояс, и, видимо, держал про себя все время заботу о своей семье. Видя, что его семью обошли, он вдруг «забунтовал» против мира. «Неладно, старики!»
– Ишь ты, пузырь, – сказал кто-то. – Отец у тебя на жалованьи… Тебе бы у дверей стоять надо…
– На жалованьи! Како́ жалованье, сами знаете. Нешто он нас, экую ораву, прокормит на четыре-то рубля! Что вы это, старики! Бога не боитесь!
– Все мы эдакие, – нерешительно говорит кто-то. Однако смелое вмешательство юного птенца, защищающего свое гнездо, видимо, нравится миру.
– Тебе бы, пузырю, вон где, у дверей стоять, а не со стариками… Вишь ты, влетел какой слетыш! Да и то верно: бедствуют… Внесите уж, коли можете, ваше благородие.
Мужики смотрят на меня. Я чувствую, что мир отступает «от равнения», но мне и самому хочется позволить себе эту маленькую роскошь, отступить на минуту от этих аптекарских взвешиваний нужды. И я вношу парня тридцать шестым, нарушая прежде намеченные границы и округленность цифры. Парень тотчас же поворачивается и с тем же серьезным видом идет вон, может быть, к матери, – сообщить, что один рот с хлеба долой.
На лицах крестьян бродит что-то вроде улыбки… Но эпизод быстро изглаживается. И здесь выступает вопрос: как быть остальным мужикам – «жителям», вопрос, на который мне нечего ответить…
Тихою темною ночью мы вернулись в Слободу, и я переночевал здесь в усадьбе, в самом центре кочубейства… И впечатления дня все толпились кругом, покрывая спокойную обстановку старого дома. Просторные комнаты, мягкий свет лампы и портрет старого Кочубея, глядящий на меня с высокой стены загадочным взглядом.
XVIII
ПРАЛЕВКА. – ИСТОРИЯ МАКСИМА САВОСЬКИНА. – В МЕТЕЛЬ
– Пралевка… да, Пралевка, действительно, нуждается…
– Что уж и говорить… Надо бы хуже, да нельзя.
– Из худых – плохая деревнюшка.
– Бедствуют сильной рукой в Пралевке. У нас плохо, а уж у них, просто сказать, самая беда.
Такие отзывы пришлось мне заносить в свою записную книжку всякий раз, когда, спрашивая о состоянии той или другой деревни, я доходил до Пралевки. Начиная с земского начальника и станового и кончая. дубровскими и Малиновскими мужиками, которые и сами являются «из плохих худыми» в уезде, – все уступали пальму первенства Пралевке. «Не лучше пралевских» – это мера нужды, которою впоследствии характеризовали свое положение в других местах, изредка варьируя этот отзыв «не лучше пралевских или дубровских». В волостном правлении в Новой слободе молодой и отлично искусившийся в уездной политике писарь держал себя со мною настоящим дипломатом и только при упоминании о Пралевке откровенно махнул рукой. На Пралевку даже уездная дипломатия не пыталась набросить покров довольства и благополучного обстояния…
А между тем… Конечно, это очень странное недоразумение, но и в деревне, всеми признанной за бедствующую, земский начальник Пушкин не отступил от своей системы. На четыреста девять человек ее населения в марте было выдано сто шесть пудов, то есть по десяти фунтов в среднем на человека…
Переночевав в Новой слободе, утром я отправился в эту злополучную деревню, не ожидая, по прежнему опыту, ничего хорошего. Действительность, однако, превзошла мои мрачные ожидания…
Небольшая деревнюшка раскинулась у «вершинки». Широкая улица или, вернее, два порядка по косогорам, безлистые ветлы, среди которых шумел не устававший ветер, занесенные снегом избы с едва заметными окнами. На улице пусто, и долго мы едем, не зная, где остановиться, пока внезапно не вскакивает на задок наших саней какой-то парнишка. Это – опять малолеток-десятский. Он услышал колокольцы и счел своим долгом явиться к начальству.
– Где у вас староста?
– Нет старосты у нас.
– А где же он?
– Ево земской посадил.
– За что?
– Кто ево знае… Посадил.
– Да ведь кто-нибудь за него есть?
– Комендат (кандидат) есть.
– Зови комендата.
Мы заезжаем в сборную, которая опять оказывается в избе все того же старосты, отсутствующего по независящим обстоятельствам. Курная изба, еще хуже дубровских и малиновских, хотя и здесь видна робкая попытка – вымазать стены глиной… Старая привычка забытой родины! Бабьи руки старательно мажут и чистят, а дым чернит и покрывает потолок и верхушки стен налетом сажи, которая висит, точно черный иней… В зыбке плачет ребенок, тихо, бессильно и жалобно… Изба, деревня, лица «стариков», потихоньку набирающихся в избу, отмечены особенным, неуловимым оттенком какого-то странного выражения… Голод…
Арест старосты служит злобой деревенского дня. Староста арестован «за мир»…
– За правду… – угрюмо отвечают на мои вопросы мужики. – Скажешь правду, потеряешь дружбу… Правды начальство не любит…
Я описывал в прошлом очерке «бунт» кандрыкинцев «из-за семян», и мы видели там старосту, отстаивавшего уездную политику начальства. Мы видели также, что ему приходилось-таки жарконько от «бунтовавшего» мира. Здесь было другое. Впоследствии я видел пралевского старосту, когда его семидневное сидение кончилось. На одной из фотографий «голодного года», продающихся теперь в Нижнем-Новгороде и, кажется, готовящихся к печати[68], он изображен со своею медалью, стояшим «для порядку» около обедающей толпы. Если бы не эта медаль – его фигура совсем потерялась бы в толпе, а между тем, это фигура интересная и стоящая внимания. Густая шапка волос, борода с завитками, как у Юпитера, и очень мягкое, доброе лицо, с серьезными, ласковыми глазами… Его курная изба, его плачущий ребенок, его черный хлеб с лебедой, который я увидел на столе («это еще для старосты испекли, на высидку», – пояснили мне при этом, чтобы объяснить выдающиеся качества этого комка грязи) – все это в глазах земского начальника еще не нужда, и староста не смел рассчитывать на пособие для себя. Но он не стоял на высоте уездной политики…
Наоборот: староста беспокоил начальство, староста не только не смирял «бунта», выражающегося в ходатайствах о хлебе, но еще взял на себя всю тяжесть этих ходатайств за односельчан и… надоел напоминаниями о том, что у деревни нет семян, что в деревне есть голодные и что один из них, Максим Савоськин, пожалуй, помрет от лебеды и лихоманки в совокупности… Впоследствии H. M. Баранов, нижегородский губернатор, вместе с доктором и с земским начальником были в Пралевке, и все, что говорил староста, оказалось правда… Эта Старостина правда ничего не потеряла, конечно, от того, что в то время, о котором я веду речь, староста сидел в кутузке…
Признаюсь откровенно, когда Старостина мать, когда Старостин отец, когда Старостины односельцы, обступившие меня, одинокого представителя филантропии (ведь все мы «на одно лицо», – напоминаю читателю в пояснение), сообщили мне деревенскую новость, что старосту посадили, и за что именно посадили, – мне сделалось как-то не по себе. Мне показалось, на одно, впрочем, мгновение, что мне, как будто, не следовало приезжать сюда, что я, как будто, действительно приехал не с тем, с чем бы надо, в эту деревню, которая несет жгучее страдание голода и явной несправедливости.
Я начинал здесь как-то не так уверенно. Когда, записав общие сведения, я поднял глаза на сход, то прежде всего мне бросилось в глаза лицо стоявшего передо мной Максима Савоськина…
Савоськин! Савоськин! Из всех тяжелых воспоминаний мрачного года – это имя возбуждает во мне самые тяжелые воспоминания, соединяется даже с некоторым укором совести. «С мая месяца 1891 г., – писал г. земский начальник А. Л. Пушкин, – Савоськин болен лихорадкой…» Лихорадкой, а не голодным тифом, и потому г. Пушкин не видел никаких оснований увеличивать для него ссуду. В течение трех месяцев на семью из четырех человек (сам, старуха, слабоумный сын и другой сын семнадцати лет) было выдано ровно два пуда хлеба. Понятно ужасное положение этой семьи.
В марте Савоськину стало так плохо, что к нему позвали священника… О положении Савоськина заговорили, староста настойчиво докладывал о нем господину Пушкину. Тогда произошло нечто, почти невероятное по холодной и бессмысленной жестокости. В марте Савоськину ссуда была прибавлена, и выдано сразу… полтора пуда. Но – едва обрадованная хозяйка Савоськина испекла из этой ссуды для больного хозяина каравай чистого хлеба, как в избу Савоськина пожаловал фельдшер. Вы думаете – для лечения «лихорадки»?.. Нет – для проверки «ложных слухов» об его нужде и болезни… Фельдшер был тоже одним из хорошо дисциплинированных органов уездной политики… Я, конечно, не позволил бы себе излагать весь последующий эпизод – так он нелеп и маловероятен, – если бы не имел случаев убедиться в подлинности каждой черты… Дальше произошло вот что: фельдшер услышал запах свежего хлеба, заглянул в печку и сказал:
– А! У тебя вот какой хлебец! Как же говорят, будто ты болен от голода. Вот я доложу начальству!
И доложил! А г. Пушкин увидел в этом хороший полемический прием. Священник утверждает, что Савоськин умирает от голода. А фельдшер доносит, что застал у него чистый хлеб. Правда, хлеб испечен из добавочной ссуды, только что выданной тем же земским начальником именно вследствие толков старосты и священника. Это нимало не останавливает земского начальника. Он тотчас же сажает старосту в кутузку за ложные сведения о нужде Савоськина, а по поводу священника предпринимает переписку угрозительного свойства на тему о том, что священники позволяют себе «крайне неосторожные и неосновательные заявления», будто их прихожане страдают от голода… Поэтому земский начальник просит внушить священникам, «дабы они не так резко ставили свои определения», и грозит о подобных случаях доводить до сведения высшего начальства[69].
А еще через некоторое время Савоськин и с своей стороны принял участие в этой истинно лукояновской полемике. Писать он не умел… Он просто взял да и умер.
Мне приходилось уже говорить о двух типах благотворительной деятельности. Вы или избираете определенное место, завязываете близкие связи и с сердечным участием следите за всеми оттенками нужды, преследуя ее, так сказать, вглубь, или раскидываетесь сразу на широкие пространства, стараясь помогать безличным для вас сотням и тысячам. Мне выпало на долю последнее, – а при этом всегда рискуешь пройти мимо Максима Савоськина… Я, разумеется, тотчас же записал его в столовую, не заметив, что моя столовая хороша, быть может, для многих, но уже не для него… Весной я опять побывал в Пралевке. До меня побывал в Пралевке губернатор с доктором. Он сделал гораздо больше, чем мог сделать я с моими скудными средствами, прибавив ссуду десяткам тысяч людей, но, когда я спросил у Савоськина, доволен ли он моей столовой и ходит ли он туда, он ответил, что не ходит. «Нутро», не принимавшее раньше лебеды, теперь уже не принимало и чистого хлеба. Я испугался, тотчас же выдал денег на пшеничный хлеб, на молоко, но было поздно… «Нутро» не принимало уже ничего, и вскоре Савоськин умер.
Но 23 марта он еще стоял передо мной, смущая меня своим исступленно лихорадочным взглядом и своим невероятным рассказом о «каравае», о «фершале» и его доносе. Признаюсь, я сразу не поверил этому кошмарному и притом довольно бессвязному рассказу… Но все же это был именно кошмар, и я опять почувствовал то же ощущение неуверенности, неловкости и какой-то своей неуместности здесь, в этой деревне, носящей имя какого-то неведомого миру Праля, бывшего управляющего кн. Кочубеев, и теперь лишенной своего старосты, пострадавшего за мирское дело…
Тем не менее отступать, конечно, не приходилось, и скрепя сердце я вступил в ту же обычную борьбу с пралевским миром, требовавшим, чтобы я писал «поряду».
Я не мог писать «поряду», между прочим, и потому, что мои наличные средства в то время уже были распределены, и, явившись сюда, я уже рассчитывал лишь на будущие пожертвования, цифра которых мне была совершенно неизвестна и с которыми поэтому нужно было обходиться осторожно.
Час прошел у меня в самой тяжелой, напряженной борьбе с пралевским «миром», и мне удалось внести только пять или шесть имен. Но зато в этот час я и не заметил, как настроение толпы изменилось радикально. Ни одно имя не проходило без тяжелой борьбы; это было что-то вроде огромной давки у тесных дверей. Отказов не было, – все заявляли себя кандидатами. Эпитеты, которыми характеризовалась бедность, потеряли скорбно-юмористический характер, которым они были отмечены в других местах. Здесь в них было что-то жгуче-жестокое, устрашающее и отчаянное.
«Ребра у мужика потрескались… Не дышит… разорвало от травы… шкура отвалилась… Все лысо, все помираем».
«Погляди на нас, господин! Мы вот к тебе пришли. Один евши, а двое не евши».
Я гляжу – впереди ужасное лицо Максима Савоськина. Под темным потолком, под палатями – какой-то сизый пар… В избе гул жестоких определений, эгоистических споров. Нищие толпятся к столу, «жители» отталкивают нищих: «мы хуже вас, вы хоть просить привыкли»… Бабы плачут. Еще час, еще пяток имен, но зато изба превращается в зверинец. Я с какой-то внутренней жутью чувствую себя в положении человека, дразнящего голодную толпу, дразнящего напрасными, жалкими крохами. Савоськин свалился на пол, я сажаю его рядом с собой. Но на его месте опять такое же лицо. Шум стоит сплошной. Прежде ругались между собой, теперь в задних рядах начинается ропот против меня… «Как пишешь… Что за порядок! Где закон!..»
«Бедствуем сильной рукой! Крайняя пагуба, погибаем головами своими… Ты что это пишешь?.. Кто еще такой приехал?.. Откуда взялся?..»
Я опять взглядываю на толпу, пытаюсь говорить спокойно. Отступать уже нельзя, кончить список надо непременно, но мне кажется, что я никогда его не кончу. Вдобавок мое спокойствие колеблется, кошмар сдвигается теснее. Какая-то красивая старуха уже несколько минут заглядывает мне в глаза, наклоняется к бумаге, хватает за руку… Голос у нее вкрадчивый, ласковый, отвратительный. Она служила у господ, она была красива, она знала когда-то обращение, знала тайну, как угодить, как улестить, как выпросить… И теперь она пускает в ход забытые приемы устарелых обольщений… Голова у меня начинает кружиться, мне кажется даже… это, конечно, слабость, но, признаюсь, была минута, когда у меня родился мгновенный вопрос: «Выйду ли я, выйдем ли мы все из этой темной избы?.. Или уж я слишком долго дразнил эту толпу, и все они сейчас кинутся и на меня, и друг на друга в общую свалку…»
– Листашка вот околевает, ево не пишут… А кого пишете вы, те дышут еще!..
Это еще первый голос, раздавшийся в этой избе за другого, а не за себя лично. Он выводит меня из оцепенения; я схватываюсь за него и вызываю, не без труда, молодого парня, негодовавшего столь бескорыстным образом. Он призывает еще двух или трех, и список, хоть тихо, подвигается к концу…
Вообще при составлении каждого такого списка вы чувствуете, как будто идете по самому дну этого «мира», подбирая подонки. В лучших случаях, когда дело идет спокойно и в лад, вы замечаете то мгновение, когда нужный вам состав исчерпан, и, если у вас средства ограниченные, а нужды много, – вы должны особенно чутко уловить тот критический момент, когда вы упираетесь как бы в некоторую ступеньку. Теперь пойдет уже следующий пласт, тоже нуждающийся, тоже требующий помощи… Но… троньте только одного или двух из этого нового разряда, как весь он заколышется и хлынет к вам… Таких много… «И меня, когда так, пиши, и меня, и Ивана, и Сидора»… «Миру», русскому деревенскому миру, в высокой степени присуще стремление к «равнению», и он предпочтет, чтобы из следующего разряда не попал никто, если нельзя попасть всем.
Ступенька эта, в большинстве случаев и при некотором навыке, улавливается довольно отчетливо… Но здесь, – уже в Дубровке и Малиновке, а в Пралевке особенно, – она как-то стерлась, и вот источник истинно мучительных ощущений при составлении списков. Тем более приходилось хвататься за первую значительную остановку самого схода.
Записано пятьдесят человек. Цифра зависела не от меня. Я был во власти этого галдения и шума и только делал вывод. Я рад бы был вписать еще столько же, но новая процедура казалась мне просто страшной, а всякое новое имя вызывало целое море шумливых споров… К тому же я чувствовал, что здесь нужна не столовая, а сплошное увеличение ссуды всем жителям, и обдумывал, как этого добиться…
Надо было кончать… И без того больше четырех часов ушло на работу, которую я привык заканчивать в час-полтора.
Впоследствии, после проезда губернатора, – я опять был в этой деревне не один раз. Смиренные лица, толковые разговоры мужиков, ласковые глаза «отсидевшего» уже старосты… Ссуда к тому времени была, если не ошибаюсь, утроена…
За деревней меня охватила метель. Вечереет. Снег летит по синеющим полянам и ложится сугробами, заметая несчастную Пралевку. Впереди в молочной мгле машут крыльями мельницы села Яз, сравнительно «благополучного», по отзывам соседей. По сугробам с клюкой бредет какая-то нищая и что-то бормочет, будто жалуется на кого-то или о чем-то просит. Я останавливаю лошадей и спрашиваю: откуда? – Из Пермеева… Боже мой, боже мой!.. Пермеево и Роксажон, Чирес и Кельдюшево, Михалков-Майдан, и Пикшень, и Козаковка, и весь этот угол уезда, где мне придется еще «составлять списки» и где ждет меня то же, что в Пралевке!.. В том настроении, которое меня охватило, название Пермеева звучит в моих ушах почти как угроза. Я даю старухе денег и приказываю кучеру ехать дальше… Она провожает меня застывшим взглядом, потом крестится, потом утопает во мгле… Ямщик наклоняется на бок, чтобы достать пристяжную кнутом, потом качает головою и произносит:
– Ну, и народ… скандальники!
Я понимаю, что он это о пралевцах.
– Как они вас!.. Ах, ты, боже мой! Нисколько не стыдятся…
Он мне сочувствует, по-видимому, искренно, и мне это доставляет облегчение. Но тут же ямщик добавляет:
– И то надо говорить. Оголодали, верно: бедствуют сильной рукой. Народ, как собака, сделался.
– Неужто хуже других? – спрашиваю я.
– Хуже, это верно! Вот всякий и тискается, без стыда. Конечно, есть и зря…
– Есть же?
– Все плохи… Ну, есть, которые уже вовсе выбились.
– А скажите, так ли мы список составили?
– Правильно, это правильно, что говорить. Тискались все… Ну, которых записывали – вовсе не дышут…
И то хорошо, – думаю я.
Он из Дубровки. Он, кажется, мне благодарен за то, что я сделал для его деревни, а дорогой мы беседовали с ним запросто, и в его внимательности ко мне, по-видимому, звучит действительное расположение. Он стоял у порога в сборной избе все время, и его серьезное лицо, лицо человека, который, – я чувствовал это, – был на моей стороне, – осталось в моей памяти среди этого тумана и кошмара…
– Еще одна, – говорит он, приостанавливая лошадей.
Из снежной мглы, на ровном поле, – где не видно уже ни куста, ни мельничного крыла, ни дерева, – появляется новая фигура. Не старая еще баба идет, спотыкаясь, по заметенной дороге таким шагом, в котором видно, что идущий потерял уже всякое представление о какой бы то ни было цели… Идет, пока несут ноги. Я особенно пугливо относился к этим нищим-странницам, и порой мне случалось останавливать простых путниц, глядевших на меня с изумлением…
– Откуда?
– Из Талызина.
Это уже из Симбирской губернии, верст за сорок.
– Зачем так далеко забрела? Или уже так плохо?
Она устало опирается рукой на спинку моих саней, как будто колеблется, и потом, собравшись с мыслями, начинает:
– Видишь ты, господин, какое дело. Муж у меня, стало быть, ушел на заработки, на заработки, на чугунку-у… Ну, а я осталась и, стало быть, с детишками. Сироты еще у нас, да своих мало ли… А ён теперича не пишеть… Как ежели теперича нанялси, то при́шлеть денег…
Я слушаю ее с удивлением… Сироты, дети, муж не пишет, и вдруг – все это кончается надеждой: «пришлет денег». Приступ не похож на жалобное нытье нищенки, да и в усталом лице выражение тоже не нищенки.
– Ну, стало быть, я в такой надежде, что при́шлеть… как ежели нанялси. Я, знаешь, и надумала (она пробует улыбнуться) – насчет, знаешь, землицы… Потому нам с детишками без земли не пробиться. Я и сняла-а…
– Ну? – поощряю я.
– Сняла, да и работника, того значит, приговорила. ён, стало быть, добер до меня, делает снисхождение, пять-ту рублей, бает, я тебе расчислю на сроки, а рупь подавай сичас. Без рубля невозможно. Без рубля сохи не налажу и в поле не выеду и не то что, – к другому наймусь…
До сих пор она все старалась улыбаться, скрывая под этой улыбкой стыд непривычного нищенства. Но тут на глазах ее сразу появляются непрошенные слезы, лицо передергивается. Она оглядывается кругом в пространство, затянутое метелью, и говорит упавшим голосом:
– Вишь ты… за рублем пошла, согрешила. Да забрела, видно, в голодну сторону, сами, слышь, помирают. Где тут рупь-то… рупь теперича добыть… Самим есть нечего. А без землицы теперича… ежели не снять, да не спахать… детишки…
Я даю ей этот несчастный рубль, за которым она бродит в голодной стороне по бездорожью, и чувствую, что я перед нею в долгу… Эта бодрая забота о земле, о детишках, этот неведомый работник, заранее, где-то в другой губернии, налаживающий соху и «расчисливший пять рублей на сроки», эта неумирающая надежда на лучшие дни, – все это вместе ободрило и меня, рассеяло мое малодушие. Да, может, и будут еще на Руси эти лучшие дни… будут! Хотя бы далеко, за этими тучами и вьюгой…
Я увожу с собой запечатлевшееся в памяти удивленное и просветлевшее лицо талызинской бабы. Она крестится, пытается поклониться в ноги и потом быстро и бодро идет к селу… Она обогреется в Язях, а завтра пойдет к детишкам. Что ж, и для этого стоило, пожалуй, ездить среди метели…
Передо мною Логиновка – конец кочубейства. Опять списки, опять, только в смягченном виде, те же картины…
Поздним вечером, среди тьмы и метели, я возвращался в Кочубеевскую слободу. Снег, невидимо откуда, летел над полями, шумел ветер, то подхватывая где-то в стороне голые ветви невидимых деревьев, то теряясь в широкой степи. Зги не было видно, даже небо нависло сплошной непроницаемой мглою, без звезды и просвета…
Мой доброжелатель ямщик молчал, внимательно вглядываясь в дорогу, а я одиноко обдумывал и переживал вновь все, что пришлось видеть и чувствовать в эти последние дни… Впечатление такой же, как эта ночь, глухой тьмы все сгущалось, сопровождая эти воспоминания… Я чувствовал какую-то роковую ошибку, какую-то скрытую ложь своего положения, которая лишала меня прежней уверенности и спокойствия. То ли я делаю, что надо, дразня своими крохами эту толпу и давая ей заведомо неисполнимые советы?
Понемногу мои мысли принимали все более определенное направление. Нет, так больше нельзя… Я думал о том, какое огромное дело – государственная помощь, и как ничтожны в сравнении с ней наши благотворительные крохи… И я решил, что необходимо обратиться к кому-нибудь, кто может изменить все это, кто может вырвать судьбу изголодавшегося народа из враждебных рук политиканствующего крепостничества.
Двадцать шестого марта я был в Нижнем, 27 и 28-го в заседании благотворительного комитета и продовольственной комиссии прочел доклад, в котором, как умел, изобразил «систему» господ лукояновцев, – эти необъяснимые сокращения ссуды, непонятные и бессмысленные выдачи по десяти и пятнадцати фунтов, еще более непонятные «вычеты» господина Бестужева за какую-то «растрату по зделанию общества», вообще – всю эту жестокую систему «вымаривания», которою господа земские начальники ухитрились заменить систему государственной помощи и кормления.
В докладе этом по существу было немного нового. Уже ранее ревизия И. П. Кутлубицкого, которого сопровождал опытный статистик, Д. И. Зверев, вскрыла непривлекательные стороны лукояновской системы. Такие же сведения давали А. И. Гучков и госпожа Давыдова. Мой доклад явился, однако, последней каплей, переполнившей чашу. К тому же он совпал с драматическим моментом междоусобной борьбы губернии и уезда. Как раз в это время в борьбе этой соблаговолил принять участие кн. Мещерский. В своем «Гражданине» он разразился статьей против И. П. Кутлубицкого и против самого ген. Баранова, который, по мнению сиятельного публициста, «выдумал голод в Нижегородской губернии» из каких-то личных видов. Лукояновские земские начальники объявлялись, наоборот, истинными слугами царя, а лучшим из них выставлялся наш добрый знакомый, беспечный земский начальник 6-го участка, С. Н. Бестужев…
Генерал Баранов был задет и возбужден…
Судьба этого несомненно талантливого человека была прихотлива и странна. Не в первый уже раз ему приходилось ломать своими руками то самое, что еще недавно он сам же и строил. Некогда в Петербурге, в качестве градоначальника, он обставил город рогатками, которые чуть не вызвали возмущение. Когда ему дали знать о волнении толпы, он прискакал на место и, ухватясь за рогатки руками, крикнул: «Ломай, ребята!» Рогатки были тотчас же сломаны под крики: «Ура, генерал Баранов!..» Теперь ему приходилось ломать лукояновскую систему, которой он же дал укрепиться, ослабив земство, снабдив шутовской диктатурой предводителя Философова, удалив «по высочайшему повелению» Валова. И он принялся за исполнение этой задачи с энергией и блеском, на которые, действительно, можно было залюбоваться… После моего доклада, совпавшего с выходками кн. Мещерского, он заявил, что признает свою вину. Но не в том, что якобы выдумал голод, а в том, что допустил господ лукояновцев так долго применять свою систему. В этом он кается и налагает на себя эпитимью: немедленно же отправляется в Лукояновский уезд, чтобы убедиться в положении дела на месте[70].
На следующий же день (29 марта) почтовая тройка умчала генерала Баранова по испорченным дорогам на Арзамас. На следующее утро он переехал знакомую нам «границу» за Долгой гатью и, как снег на голову, очутился в самом центре отложившегося уезда… Здесь он вызвал к себе воинствовавших земских начальников, заставил господина Пушкина в первый раз посетить Пралевку и Дубровку, водил «начальников» по избам тифозных, причем привезенный им из Нижнего врач H. H. Смирнов ставил диагнозы. Это стремительное нападение на вражеский центр поставило лукояновцев перед дилеммой: петербургские «придворные связи» господина Философова были где-то далеко… Далеко был и верный паладин крепостничества кн. Мещерский, а губернатор, сердитый и готовый к самым решительным действиям, был тут, перед ними…
Второго апреля ген. Баранов ранним утром вернулся в Нижний, экстренно созвал в тот же день губернскую продовольственную комиссию и сделал перед ней энергичный и резкий доклад о своей поездке. Подтвердив все, что сообщалось раньше о подвигах господ лукояновцев в борьбе с голодающим населением, он дополнил картину несколькими юмористическими, а отчасти, правду сказать, и неожиданными чертами. «Во всех избах Лукояновскаго уезда, – говорил он, между прочим, – кроме столовых, я и мои спутники не встретили тараканов. Они исчезли от неимения пищи, так как хлеба с лебедой таракан не ест. Общее исчезновение прусаков из лукояновских изб, – прибавил губернатор с иронией, – может служить показателем заслуг прежнего состава лукояновской продовольственной организации».
«Теперь, – объявил генерал Баранов в заключение, – эта организация уже изменена. Во главе продовольственного и благотворительного дела поставлен В. Д. Обтяжнов (земский начальник Горбатовского уезда), ему дан в помощь г. Лебедев. Заведывание 1-м участком порученоземскому начальнику Семеновского уезда, г. Ленивцеву, и в помощь ему назначен г. Жедринский. Некоторым из местных сотрудников господина Обтяжнова совершенно ясно поставлено на выбор: или оставить их занятия, или слепо исполнять требования Обтяжнова. Они выбрали второе»[71].
Итак, уездная оппозиция сдалась на капитуляцию… Уже до своей поездки губернатор понемногу вводил «своих людей», которые занимали позиции. Теперь решительная атака ген. Баранова укрепила их положение, и на месте диктатуры Философова очутилась диктатура Обтяжнова. Над отложившимся крепостническим уездом водружено знамя губернского «просвещенного абсолютизма».
А главное – отвергнутое лукояновцами дополнительное количество хлеба вновь двинуто в уезд, и ссуды стали выдаваться более широко и более щедро…
Заключение
«НОВЫЕ ЛЮДИ». – АНТИХРИСТ. – ВЫВОДЫ НИЖЕГОР. ГУБ. ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ. – «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». – СИЛЬНАЯ ВЛАСТЬ. – 1892–1906. – ЗЕМСТВО И АДМИНИСТРАЦИЯ. – БАРАНОВ И ФРЕДЕРИКС. – МОРАЛЬ ГОЛОДНОГО ГОДА
Мораль голодного года!.. Нет, это решительно мне не по силам, и для этого нужно бы написать не одну еще такую книгу, которая, думаю, и без того утомила читателя однообразием этих суровых и серых мужицких впечатлений… А тут еще мораль, десятки, сотни моралей теснятся в голову, и я вижу, что не сделал этой книгой и десятой доли того, что должен бы сделать…
Итак, пусть будет без морали… Вместо этого я расскажу еще несколько эпизодов из второго периода голодного года, когда уже победила губерния и в уезде водворились «новые люди».
Эти «новые люди», если сказать правду, были, за некоторыми исключениями, новизны очень сомнительной… Во главе дела был поставлен земский начальник из Горбатовского уезда, В. Д. Обтяжнов, человек, не лишенный некоторой смелости суждений и известный в губернии своими чисто лукояновскими, дворянско-крепостническими взглядами. В то время, когда ген. Баранов еще не вполне определил свой «курс», В. Д. Обтяжнов в продовольственной комиссии произвел очень бурную атаку на статистику губернского земства, пытаясь доказать, что все эти «цифры и выкладки» никуда не годятся. «Мы, земские начальники, практики и местные жители, знаем все это гораздо лучше», – уверял г. Обтяжнов, – и значит, «если лукояновские земские начальники утверждают, что у них никакого голода нет, – то сему и надлежит верить, вопреки уверениям земских теоретиков». К своему несчастью, г. Обтяжнов выступил в свой поход слишком налегке, не зная совершенно сил противника. В то время заведывал нижегородской статистикой Ник. Фед. Анненский, и, когда с вежливой улыбкой он поднялся, чтобы возразить на нападения уездного «практика», то положение г. Обтяжнова оказалось очень печальным. Прежде всего г. Анненский доказал с полной очевидностью, что почтенный практик не ознакомился хотя бы с предисловием того статистического труда, который взялся критиковать, что затем он спутал даже местные факты, которые статистикам оказались известными гораздо лучше, и что, наконец, все нападение является плодом полного невежества и недоразумения. Вся эта операция над самонадеянным практиком была проделана так спокойно, но и так решительно, что г. Обтяжнов, сделавший новую попытку, еще более неудачную, – сел затем среди общего смеха собрания, чуть не наполовину состоявшего из его сотоварищей, земских начальников и предводителей…
Ген. Баранов обладал – односторонним, правда, – но правильным знакомством с психологией служилого русского дворянина, и теперь, когда ему пришлось посылать «решительных людей» для борьбы с уездной оппозицией на месте, он, нимало не колеблясь, остановил свой выбор на г. Обтяжнове. Ген. Баранов рассчитал довольно верно, что той самой решительности, которой оказалось слишком недостаточно для нападений на статистику и Анненского, вполне достаточно для невежественных лукояновских дворян. И г. Обтяжнов, нимало не обинуясь, принял лестное поручение начальства и отправился в поход против недавних своих единомышленников, которых защищал столь неудачно. Приехав в Лукоянов около 20 марта, он организовал продовольственную комиссию, немного смешной сколок с нижегородской, и здесь, в качестве председателя, принялся донимать недавних союзников длинными витиеватыми речами, материалом для которых отчасти запасся у недавнего противника, Анненского. Поездка губернатора сразу укрепила положение В. Д. Обтяжнова, и на месте опереточной диктатуры Философова оказалась новая, тоже несколько смешная «диктатура» Обтяжнова, направленная на сей раз в другую сторону.
H. M. Ленивцев, впоследствии председатель семеновской уездной управы, был человек доброжелательный, но не особенно деятельный. Его помощник, г. Жедринский, молодой человек без определенных занятий, видел в своей миссии ступень для занятия должности земского начальника, в которой впоследствии оказался истым лукояновцем по духу.
С Д. Ф. Решетилло читатель уже отчасти знаком. Этот почтенный «казенный врач» (помощник врачебного инспектора) в первый период продовольственной кампании делал в губернской комиссии доклады, в которых положение населения рисовалось успокоительными чертами: нет ни голода, ни голодного тифа. Народ пьянствует и покупает предметы роскоши[72]. Затем, в период неопределенности и колебаний, он рискнул сообщить телеграммой из села Саитовки, что там свирепствует тиф. В Саитовку отправился тогда врачебный инспектор, г. Ершов, и прислал телеграмму, что никакого тифа нет. Покладистый г. Решетилло украсил и эту телеграмму своей подписью. Поездка ген. Баранова обнаружила, что в Саитовке тиф принял громадные размеры. Д. Ф. Решетилло был назначен заведующим санитарною частью в уезде и здесь рассказывал с торжеством, как генерал Баранов в заседании 2 апреля публично извинялся, что не поверил его телеграмме из Саитовки.
– Которой телеграмме, Дионисий Федорович? – спросил я.
Господин Решетилло слегка замялся и ответил:
– Первой, конечно.
Почтенный медик готов был выслуживаться одинаково на отрицании болезней, как и на признании оных, но теперь курс определился окончательно, и официальные цифры тифозных сразу выросли до размеров устрашающих[73].
Читатель видит, что «нового» тут было, во всяком случае, немного. Это были все те же старые чиновничьи меха, но на время их наполнили новым вином. В участке земского начальника Железнова раскрыты явные злоупотребления, и продовольствие отдано в руки А. И. Гучкова. Тифозных лечили, ссуды были почти всюду удвоены…
А там подошла весна и накинула на все свой смягчающий ласковый покров. Земля обнажалась; на поля, еще шатаясь, брела тощая скотина, все, что продышало, «выходило на траву», даже и деревенские ребята… Они то и дело мелькали на полях и по оврагам, собирая съедобные травы: пестушку (коричневые стебли, проглядывающие прямо из-под снега), борщевик, шкерду, дикарку (дикая редька), козлец, от которого трескаются губы, щавель и коневник, куфельки и дягили, коровки (после Троицы) и клевер (калачики). Каждая весенняя неделя дает новую траву и разнообразит подножный корм деревенских ребят… Впрочем, важно уже и то, что «нужда вышла на волю», на простор и на свежий воздух полей…
Правда, что вместе с весной подходило, собственно, самое трудное время. Свой хлеб, который «обманщики» умели порой скрыть от бдительного ока урядников, от усердных фельдшеров, от «обысков и выемок», – почти всюду уже окончательно исчез, удвоенная же ссуда все же не могла вполне устранить нужду, и многие, как Савоськин, дошли в трудную зиму до такого состояния, когда нутро не принимает уже и чистого хлеба. Результаты зимнего режима проглядывали всюду. 14 апреля в Пралевке я назначил особое, усиленное пособие Савоськину – а 15-го ко мне пришел пралевский староста и сообщил об его смерти… В той же Пралевке я нашел в избе Михаила Сучкова больную цынгой. Нестарая, симпатичная на вид женщина лежала и стонала на лавке. Мужа не было. Другой Сучков рассказывал, что они пошли вместе с базара, да Михайла дорогой пристал.
– Иди, бает, брательник, а я тут ляжу… Так и лежит где-нибудь вторые сутки.
– Беда! – испуганно произносит кто-то из шабров испуганным голосом. – Боль на нас пошла. Боль взялась в нашей деревне.
Действительно, в шести домах Пралевки, как и во многих других деревнях, я нашел уже серьезных больных.
– Как не пойдет боль… – говорят кругом. – С дурного хлеба и завязалась она, хиль-то самая. Теперь хоть дышать можно. А то, бывало, дадут полтора пуда на шесть человек, чего ты с ним поделаешь. Вот она, хиль, и взялась с того времени.
У Андреяна Сучкова на печке сидит мальчик, опухший от голода, с желтым лицом и сознательными, грустными глазами. В избе – чистый хлеб от увеличенной ссуды (улика в глазах недавно еще господствовавшей системы), но теперь, для поправления истощенного организма, уже недостаточно одного, хотя бы и чистого хлеба.
У въезда в деревню Роксажон я встретил бабу с ребенком. Она идет из больницы, куда водила мальчика.
– С мальчонком вот что-то толку нет…
– Что такое?
Рвота, хлеба нутро не принимает.
– А хлеб хороший у вас?
– Теперь ничего. Подмешиваем тоже лебеду, да немного, не как у других. А хворь! Мальчонко измаялся…
В Роксажоне в избе старосты я увидел целый цветник мордовок в причудливых мордовских костюмах. На мои вопросы они стараются сначала отвечать весело, даже с улыбками, но кончают очень быстро слезами. Ребята хворают…
– Рвота, золотуха…
– Чем кормите?
Показывают хлеб, и опять все еще лебеда. Даже усиленная ссуда не могла вывести ее совсем из употребления, потому что и усиленная ссуда далеко еще не достаточна в это трудное время, отдаленное от двух урожаев и в особенности после недавно устраненной «системы».
– Старик у нас пукнит (пухнет), – говорит одна на своем наивном жаргоне (мордва-мужики порой говорят по-русски очень порядочно, бабы – большей частью плохо).
– На всю зиму квораит. Распукнит весь, ноги распукнит, сам распукнит.
– Отчего же это?
– Кто знаит. Пукота в нем. Клеб мало давал. Дивимся мы, чего ж это, право… Вчера выдавал ему старукой по тридцати фунтов. Да, видно, мало…
Таких отзывов, таких картин весна раскрыла передо мной бесчисленное множество, и я ими наполнил целые страницы моей записной книжки. «Хиль взялась», завязалась неотвязная хворь, нутро не принимало, «горячка» валила целые семьи, – так говорил народ. «В уезде свирепствовал тиф», – говорили врачи, теперь дружно боровшиеся с признанной и страшно усилившейся болезнью… Приводить здесь все эти случаи, когда я натыкался на тяжелые картины этой хили и хвори, значило бы напрасно утомлять читателя, и я приведу лишь один случай, особенно врезавшийся в памяти.
Это было в Мадаевской волости, в деревне Красной Горке. Я проезжал там уже поздней весною и разговаривал с мужиками об истекшей зиме. На вопрос о больных мне ответили, что есть еще одно семейство, где все больны «горячкой».
– А вон в той келье старик со старухой померли.
Я взглянул на «келью». Она стояла еще пустая и глядела на нас своими оконцами. Из расспросов я узнал, что ее хозяева, Самоткановы, безземельные и безлошадные – старик семидесяти и старуха шестидесяти лет, кормились подаянием. Потом захворали, ходить за милостыней не могли, потом померли.
В «волости» я справился, сколько они получили пособия. Оказалось… за всю зиму тридцать пять фунтов! У мадаевского старшины была своя особенная система: он выдавал тем, кто у него лично просил, и каждый раз особо. Старики, когда захворали оба, – перестали просить… «Умерли натуральною смертью», – показал мне писарь отметку в книге…
Я и до сих пор вижу эту маленькую келью, с странными, как будто загадочно глядевшими на меня окнами… Что она видела в своих стенах, вся занесенная снегами, и сколько таких «натуральных смертей» отмечено еще в Мадаевской волости, управляемой железной рукой «образцового» старшины[74].
Как бы то ни было, все-таки физиономия уезда с весной изменилась. Человек так устроен, что ему всего важнее – надежда. А надежда была. Она явилась и в виде усиленной помощи от людей, и в виде оживающей природы… И чувство народа нашло себе исход в этих двух облегчающих надеждах. В моей практике пралевские кошмары, действительно, уже не повторялись.
Как-то пришлось мне этой весной составлять список в огромном мордовском селе, Пикшени. На открытом воздухе собралась огромная толпа, вернее, две толпы, потому что в селе два общества. Молодой священник с некоторым опасением предупреждал меня, что сход будет беспокойный и бурный. Зимой он пробовал составлять списки беднейших и должен был прекратить: столько поднялось споров и зависти. Вдобавок у мордвы, по его мнению, – гораздо меньше чувства собственного достоинства и стыда, поэтому он ждал, что на мой призыв колыхнется сразу весь мир… Все это заставляло ожидать нового пралевского кошмара…
Но опасения эти рассеялись после первого же приступа к работе. Вид у мордвы был спокойный, речи разумные, ровные.
– Ежели так ссуду станут выдавать, как теперь… – начал решительно один.
– Да теперь будет все так, – сказал я на этот раз с убеждением, – сбавлять не станут.
– Так промаемся сами! Не пиши меня, не надо…
– И меня не пиши, – сказал следующий. – При этом способии можем кормиться как-нибудь.
– Спасибо, теперь прибавили, – сказал третий. – Мимо меня иди, не надо!
Зато если попадались имена действительно нуждавшихся, то указания были замечательно единодушны.
– Батькина Авдотья, – читает священник по списку.
– Авдотья Петрович это… Старука. Его пиши.
– Слепой девка.
– Авдотья Петрович кормить надо.
И «Авдотья Петрович» вносится в список.
– Точно не эти люди! – с удивлением говорил мне священник, когда мы шли со схода, в какие-нибудь два-три часа покончив со списками в обоих обществах… – Или уж вас это они стыдятся? – прибавил он в раздумья…
Но я помнил, что в Пралевке меня не стыдились, и я понял, что именно изменило физиономию этой толпы. Это были: хлеб и надежда…
«Как, однако, просто, – думалось мне в этот день, – водворяется „спокойствие в уезде“… Это простое средство удобно еще тем, что при нем нет надобности разыскивать „возмутителей“ даже в среде сельского духовенства!.. А еще важнее, что оно устраняет кошмары, и при нем бледнеют всякие, порой самые превратные толки, „яко же восток от лица огня“»…
Через несколько дней после только что описанного схода я въезжал в большое и тоже мордовское село Пермеево. Было уже жарко, озими зеленели на солнце, хутора, деревеньки и села мелькали кругом, точно нарисованные яркими красками на плане…
Пермеево – прелестное, небольшое, впрочем, село, – было почти пусто. Мужики ушли пахать яровые поля, которым, увы! и в этом году суждено было обмануть ожидания пахарей, и только на огромных, еще безлистых ветлах посередине улицы суетились и кричали целые тучи грачей, восстановлявших прошлогодние гнезда…
Я остановился в избе старосты, довольно зажиточной и сплошь оклеенной картинками (где, сказать кстати, между генералами я увидел портреты Щедрина и Островского). Хозяйку этой избы, красивую и приятную женщину, с умным лицом, порядочным русским выговором и необычайно большим животом, обличавшим ее положение, я застал в очень нервном состоянии.
– Ты из Болдина, что ли, ехал? – спросила она меня.
– Да, из Болдина.
– Не встречал ли на дороге двоих: большого мужика с мальчишкой?..
– Встречал. А что?..
– Да что! Сумлеваюсь я через этого мужика, очень сумлеваюсь!..
Она смотрит на меня, потом подходит к столу, вынимает оттуда надкушенный ломоть хлеба и, держа его в руке, смотрит в окно, как будто в этом окне должен кто-то появиться.
– Вот видишь, какое это дело. Подошел он, этот самый, к окну и просит клеба. Я подаю, думаю Христовым именем. Нет, бает, ты мне за деньги давай. «Мало, говорю, клеба-те у нас, за деньги еще давать…» Ну, а все-таки он дал пятачок, а я ему клеб подаю. Взял он, скусил, опять подает мне в окно. «Неловко нам, говорит, – разрежь». Взяла я нож отрезать. А он, слышишь ты, от окна и пошел. Я ему кричать: «Погоди! Возьми хоть пятак назад». Не слушает: так и пошел, так и пошел, да и ушел вовсе из села! Что такое это, право, какое дело вышло необычайное! Вот и клеб этот самый… Если мало ему, сказал бы, ежели клеб не показался, деньги бы взял назад. А то на – оставил все. Больно сумлеваюсь, больно сумлеваюсь. Что за человек это может быть… Дива, право, дива…
– Отдай нищему и перестань сумлеваться…
– Отдам и деньги, и клеб отдам, нельзя оставить никак!.. А сумлеваться буду… потому что дива это…
И я видел, что необычайный поступок неведомого странника глубоко волнует эту добрую женщину и будет еще долго волновать все село или, по крайней мере, бабью половину. И, пожалуй, какая-нибудь легенда встанет из этого простого случая, и разнесут ее на хвостах грачи и галки, которые так суетятся над огромным деревом-патриархом, и какое-нибудь «превратное толкование» уже готово в путь по белому свету…
На закате солнца добродушный и очень сообщительный мордвин вез меня по проселочным дорогам в другие деревни, для той же работы. Он очень весело и откровенно рассказывал мне анекдоты о кочубеевских бабах, о своем священнике и о многом другом и при этом прибавлял то и дело:
– Сам видал. Сам не видал – не говорил, сам видал – говорить можно.
Наконец, его подвижное внимание остановилось на моей особе. И тотчас же пошли вопросы: чей будешь, чем занимаешься, чиновник или нет и т. д. Я отвечал, что я из Нижнего, занимаюсь своим делом и не чиновник.
– А сколько получаешь жалованья за то, что теперь к нам приехал?
– Жалованья не получаю.
Мордвин повернулся, посмотрел на меня, подумал, хлестнул заленившегося мерина и затем как-то многозначительно молчал всю дорогу. Он как будто что-то вдруг вспомнил или пришел к какому-то заключению…
Дня через три или четыре я составлял списки в Казаковке, куда пришел из Слободы пешком, в виде прогулки, в прелестное ясное утро. Правда, что мое появление было несколько внезапно, так как ни звон колокольцов, ни тарахтение колес не предупредили деревню о моем прибытии. Тем не менее, вскоре собрались старики. Я заметил, что в избе господствует напряженное молчание, среди которого как-то странно прорывались по временам вздохи старушонок.
– О гос-с-с-под-ди-и… бат-тюш-ка-а…
Я уже знал, в чем дело, и мне было очень приятно видеть, что тяжелые воздыхания этих старушенций, показавшие мне, что здесь меня уже ждали и много толковали заранее о моем будущем приходе, что все это не мешало мужикам очень толково и дельно давать мне необходимые сведения. Список был составлен быстро, так же быстро найдено помещение, и я тронулся далее, причем на этот раз мне любезно подали лошадь из ближайшей сыроварни, арендатор которой, швейцарец г. Гузиер, согласился заведывать столовыми.
Я нарочно подчеркиваю слово швейцарец, и опять мне было очень приятно, что это именно так случилось и что заведывать столовой будет «немец».
Мой возница – работник из сыроварни, толковый мужик с умным лицом и обдуманной речью, видимо чем-то интересовался, поглядывал на меня и собирался о чем-то спросить.
Я облегчил ему это дело, и мы обменялись несколькими незначительными словами.
– Семейство у вас? – спросил он.
– Семейство.
– Сказывают, и пасху всю проездили? Дома не бывали.
– И пасху.
Он покачал головой.
– Эх, народ у нас какой… ненатуральный…
– Это что значит?
– Ненатуральный народ! Натуры в себе не имеет. Люди из-за них беспокоятся, ради Христа, а они…
– Это вы не насчет ли антихриста?..
Он живо повернулся на козлах.
– Стало быть, слыхали? Слыхал.
– То-то вот и говорю: ненатуральный народ. Бабы это все, да начетчицы… сороки!
В его голосе мне послышалось искреннее уважение к моей работе и не менее искреннее негодование против «ненатурального народа».
Да, к сожалению, это была правда. Уже ранее «Московские ведомости» и другие ретроградные газеты сообщали с злорадством, что в народе появилась легенда об антихристе, в применении к графу Л. Н. Толстому и другим лицам, явившимся к народу с вольною помощью. Злорадство этих господ было понятно: широкая частная помощь являлась в таких размерах еще впервые, и шла она не под официальным казенным флагом. Помогала не одна казна и не одни официальные «царские чиновники». На помощь выступало общество и, как ни малы еще были размеры этого выступления, – все же рептильная печать чувствовала в нем новое начало, враждебное монополии бюрократического строя. Понятно поэтому, что она и радовалась суеверной легенде, и готова была ее поддержать.
Однако радость была не вполне основательная, так как легенда на сей раз была удивительно бессильна. Правда, народ не привык еще к вольной помощи и неслужебному участию, которые не оплачиваются более или менее солидными окладами… Кроме того, и вообще помощь в невзгоде – явление для народа не особенно привычное, поэтому неудивительно, что в некоторой его части зародилась эта легенда… Мы слышали, в какой именно части: старые бабы и начетчики-старообрядцы, которые слишком хорошо помнят времена гонений, чтобы без всяких подозрений принять руку помощи…
Итак, легенда ходила, рождаясь в старых или озлобленных головах… У голода были и другие легенды, порой далеко не выдерживающие цензуры, что не мешало им в устной передаче выдержать такое количество исправленных и дополненных изданий, о каком мы, люди печатного станка и книги, пока не смеем даже и мечтать… Но я видел совершенно ясно и с первого дня, что голодной легенде не суждено облечься плотью и кровью, как это случилось впоследствии с легендой холерной…
Один земский начальник Семеновского уезда рассказывал мне, что в его участке тоже появились среди людей древнего благочестия те же толки об «антихристовой прелести» и ему удалось напасть на один из их источников. Распространителя позвали к начальству.
– Послушай, Иванов, как тебе не стыдно рассказывать такие вещи?..
Но Иванову нисколько не было стыдно, потому что он мог привести в подтверждение целые десятки текстов из древних книг, в кожаных переплетах, с застежками… В экклезиасте сказано одно, а в апокалипсисе прибавлено другое, что же касается до святоотческих писаний, – то они дают знатокам неисчерпаемый источник для самых суеверных толкований в этом роде. И все это сводится к тому, что антихрист напоследок будет брать мир лестью, а не гонением, «и будет последняя горше первых…»
Трудно сказать, какой оборот мог принять этот богословский диспут земского начальника с начетчиком, если не предположить, конечно, возможное его окончание кутузкой. К счастью, один сведущий человек, наклонясь к начальнику, сообщил новый аргумент: оказалось, что двое детей самого диспутанта ходят в столовую.
– Как же тебе, Иванов, не стыдно? – опять повторил начальник.
Но Иванову хоть, может быть, и было немного стыдно, но именно только немного… Потому что тексты и толки у среднего человека все-таки отвлеченность, своего рода игра ума, а хлеб есть хлеб, и рука, протянувшая хлеб, видимо давала не камень… И ясный смысл Христовой заповеди, выражавшейся в реальном факте любви и милосердия, был и всегда будет сильнее запутанной казуистики всяких начетчиков.
И он был сильнее всюду… Легенда получала самые очевидные подтверждения. На мешках из Особого комитета стояли «печати», в Слободе раздавали детям печение, пожертвованное Эйнемом или Сиу, и на каждой такой лепешке все воочию видели надпись Albert (даже не по-русски), а кругом S. Siou et C-ie… Старцы и бабы внушали, что это-то и есть печати самого антихриста. И все-таки хлеб принимали, печение ели (к великому соблазну не только старых баб, но и одного уездного сотрудника «Гражданина», который написал по этому поводу очень язвительную статейку)… И в мои столовые записывались всюду весьма охотно.
Однажды у окна избы, где я остановился на несколько дней, в Большом Болдине, раздался легкий стук и известный напев имени Христова. Я наклонился и испугал своим городским видом стоявшую под окном молодую мордовку с жалобно плакавшим ребенком на руках. Она приходила к А. Л. Пушкину просить ссуду, а я хорошо знал, каковы будут результаты просьбы. Поэтому я дал ей немного денег и спросил, откуда она.
– Из Кельдюшева.
Мне предстояло дня через три побывать в этом селе для открытия столовой, и потому я захотел вперед наметить одну кандидатку.
– Как зовут?
– Дарья.
– Прозвание?
– Кюльмаева.
Я вынул записную книжку и видел, с каким непритворным ужасом отнеслась она к таинственной операции записывания ее фамилии… Когда я кончил, она отошла быстрыми шагами, и долго еще, сидя за чаем, я наблюдал в окно кучку мордовок, с участием расспрашивавших Дарью, постигнутую таким своеобразным несчастием, и подозрительно глядевших на мои окна… Легенда в это время уже была в ходу…
Через три дня я, действительно, был в Кельдюшеве и узнал от священника о. Померанцева, что среди его прихожанок есть некая тревога. «Какой-то» записал одну из них с неизвестною целью, и она приходила советоваться со священником, как ей быть в таких удивительных обстоятельствах… Тут же в возможно деликатной форме о. Померанцев сообщил мне, что подозреваюсь в этом коварном поступке именно я, по моему званию «слуги антихриста». Это даже несколько беспокоило батюшку ввиду многолюдного мордовского схода, который я просил собрать для составления списков.
Но я уже знал цену этих толков перед силой реального факта. И, действительно, хотя и здесь перед началом слышались те же старческие протяжные вздохи (о го-сс-под-ди-и), но от желающих попасть в столовую не было отбою. Бабы рвались в избу, и целая толпа стояла за открытым окном, к которому я сидел спиною.
– Дарья Кюльмаева, – прочитал я в очередь по списку.
– Здесь, бачка, здесь я! – послышался резкий бабий голос, и, повернувшись, я увидел мою болдинскую знакомую, с усилием продирающуюся к окну сквозь толпу других баб.
– Что же, записать тебя, что ли?
– Ой! Пиши, бачка, ради Христа пиши!
Мы с священником оба засмеялись.
– Да ты разве не боишься?
– Пиши, бачка, ради бога, пиши!
И я вторично уже занес Дарью Кюльмаеву в свои списки.
В июле я заканчивал свои столовые и оставлял уезд совсем. Новый урожай не особенно радовал, яровые выгорели от засухи, но ржи все-таки были, хотя и их сильно выбили необычайные бури… А в это время с низовьев Волги уже пришла холера, и холерные бунты, как ураган, поднимались по великой реке, захватывая город за городом, точно пожар. Отдельные головешки залетали и в дальние места, и пожар занимался то там, то сям разбросанными островками. Холерная легенда разносилась по лицу всей русской земли.
В одном месте я остановился вблизи деревни. Столовую здесь уже прикончили без меня, народ был на работе, но все же ко мне собралась кучка народу.
– Не было тебя… а мы вот молебен служили и тебя тоже вспоминали. Спасибо тебе.
Мне казалось, что это говорилось искренно, просто, без задней мысли. Дело было уже назади, и мы прощались, может быть, навсегда.
– А что у вас больных еще не было?
– Холерой-те? Нет, бог миловал. Может, и не будет. А слышь, на низу… беды! Наши оттеда пришли, рассказывают.
И затем я услышал известные уже всей России позорные толки. И между ними фигурировала тоже весьма известная «даровая харчевня», открытая в Астрахани по наговору «англичанки». Как поест человек в этой даровой харчевне, – так и готов.
– Постойте, братцы, – остановил я рассказчика. – Слыхали вы, сколько я у вас в уезде открыл столовых?
– Слыхали! Несколько (много)!
– Умер кто-нибудь от моего хлеба?
– Что ты, бог с тобой! Многие даже живы остались, которым бы без тебя прямо помереть надо. Богу за тебя молились.
– Ну, хорошо. Теперь вы меня послушайте, что я скажу, и отвечайте по совести.
– Ну-ну!
– Вот у вас болезни этой нет, и дай бог, чтобы ее не было. А в других местах есть, могла бы быть и у вас, и она могла придти ранее, ну хоть, скажем, с весны…
– Ну-ну?
– А не стали бы вы тогда говорить: вот не было этого человека, не было и хвори. А как приехал неведомо отколе да открыл «даровые харчевни», так и хворь пошла косить православных. Ну, теперь отвечайте по совести…
– Не-е… что ты, бог с тобой, – заговорили в толпе. – Как это можно… Даже богу молились.
Однако видно было, что в головах шевелится сомнение. Уверения теряли решительность, и, наконец, рослый нестарый мужик, тряхнув лохматой головой, произнес с убежденным видом:
– Ну, ребята, не баи напрасно. Нашлось бы дураков!
Я нашел, что это был именно ответ по совести, и мы расстались очень дружелюбно.
Да, нашлось бы, это верно, но верно также, что не столовые были тут виноваты, что не они облекли бы эту легенду плотью и кровью…
В мае, когда я на время приехал в Нижний-Новгород, Нижегородская губернская продовольственная комиссия, заканчивая свои занятия, подводила итоги и вырабатывала «начала» для будущей продовольственной помощи в голодные годы. Генерал Баранов находил наилучшей ту систему, которую сам он стремился осуществить в своей губернии. По его мнению, прежде всего тут нужна «сильная власть». В своих речах он любил сравнивать «голодную кампанию» с «открытием военных действий» и находил, что с того дня, как существование «недорода» и возможность голода объявляются официально, – все продовольственное дело должно немедленно и всецело поступать в руки администрации.
Огромное большинство комиссии, состав которой зависел от губернатора, разумеется, вполне разделяло заключение его превосходительства. Ниже, в приложении, читатель найдет особое мнение, которым я, почти невольный участник «продовольственных совещаний при нижегородском губернаторе», пытался протестовать против этого заключения на основании всего, что я видел в голодный год и что описано в этой книге. Мою легкую атаку поддержал и укрепил своей солидной аргументацией Ник. Фед. Анненский, но, конечно, ни эти наши «особые мнения», ни все, что писалось, говорилось, печаталось в русской прессе о роли администрации и земства в продовольственной кампании этих тяжких годов, не остановили хода бюрократической реакции…
Дальнейшее известно: продовольственное дело отнято у земства. Само земство низведено еще на одну ступень ниже и подчинено администрации, которая стала полным хозяином в земском деле. Для нового продовольственного устава взяты все недостатки барановской системы без ее блестящих сторон (как коллегиальность и полная гласность совещаний). Голод повторялся, влияние администрации расширялось. Губернаторы Шлиппе (тульский), князь Оболенский (екатеринославский), споря с земством и печатью, отрицали, вопреки очевидности, наличность бедствия совершенно так, как некогда спорил мудрый лукояновский диктатор, господин Философов. «Лица, которые по христианскому человеколюбию» являлись на места с частного помощью, – тоже совершенно по-лукояновски, – объявлялись опасными. Князь Оболенский выслал административно целый санитарный отряд (доктора Богомольца), снаряженный одесским обществом врачей для помощи голодающим и больным Елисаветградского уезда, и с его легкой руки то же отношение к частной помощи водворилось во всей России. Таким образом, то, что мне казалось нелепой фантасмагорией на границе крепостнического Лукояновского уезда, – стало общим правилом: границы голодающих губерний закрывались для частной помощи и для гласности… Весь огромный район, охваченный спорадическими голодовками, был превращен в сплошной Лукояновский уезд, и господа лукояновцы, осмеянные и осужденные в свое время всею русской печатью и общественным мнением, – имели полное основание торжествовать, как победители.
Последствия теперь уже очевидны. Сначала сравнительно скромная растрата чиновника Министерства финансов, г. Касперова, потом – «неосторожная» сделка его высокопревосходительства, товарища министра господина Гурко с темным международным проходимцем Лидвалем, обездолившая сразу целые районы, охваченные ужасами голода… И в том самом Нижнем-Новгороде, где блестящий генерал Баранов «при свете гласности» отстаивал начала «сильной власти» в продовольственном деле, – один из его преемников, гонитель гласности, тусклый и незначительный барон Фредерикс, фактически использовал эту сильную власть для известных уже сделок за счет голодающего населения… В свое время в печати сообщалось, что «новый продовольственный устав» получил начало в Нижнем, в проектах барановской комиссии. Характерно, что и г. Лидваль отправился на арену всероссийской деятельности из того же Нижнего-Новгорода, снабженный благословениями и напутствиями нижегородского администратора…
Пожалуй, в этом сопоставлении и заключается самая очевидная мораль голодного года.
С новым урожаем 1892 года последние мои столовые были закрыты. Я наскоро отобрал у заведующих отчеты и 27 июля мчался уже в Работки с тяжелыми опасениями на сердце. Моя семья жила в это время около Работок, и в нескольких десятках саженей стоял под горой холерный барак. А вокруг него реяли, как черные птицы, отголоски холерных толков…
С тяжелым чувством оставлял я там свою семью и теперь летел, сломя голову, и думал о том, отчего голодные легенды поднимались и падали в бессилии перед фактом, как падает пыль, поднятая ветром над степью. А легенда о холере оделась плотью и кровью и промчалась таким ураганом над нашей родиной…
Приложение
ИЗ ЖУРНАЛА СОБРАНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ
27 МАЯ 1892 ГОДА
Особое мнение В. Короленко
К проекту ответа (на запрос мин. внутр. дел), выработанному Подкомиссией, я имею сделать несколько замечаний, касающихся самых начал, на которых строится продовольственное дело, так как мне кажется, что критике должны подлежать ныне не только подробности, но прежде всего самые принципы, из которых эти подробности истекают. Никто уже, кажется, не оспаривает положения, что нынешнее бедствие является результатом не одних стихийных случайностей последнего года. Случайности эти встретились с условиями хозяйства, глубоко подорванного целым рядом предшествующих лет, и оно не нашло в себе силы для стойкого сопротивления. А если это так, то ясно также, что рациональная система, направленная на борьбу с этим явлением, не может ограничиться мерами, рассчитанными на новое такое же бедствие, принимаемыми тогда, когда оно уже разразится. Необходимо прежде всего предупреждать возможность в будущем такой же катастрофы. Необходимо устранить условия, которые истощали и обессиливали земледельческое хозяйство страны, необходимо помогать крестьянскому хозяйству постоянно, чтобы не быть вынужденными делать все это сразу и спешно, как это пришлось ныне. Не дай бог встретить еще в будущем такие годы, а это непременно должно случиться, если прежние условия останутся в силе, и не дай бог, чтобы нам пришлось бороться теми же средствами, потому что это значило бы, что мы ничему не научились.
Мы слышали нередко в течение последних месяцев, что помощь, оказываемая ныне населению, производит деморализующее влияние. Может быть, это и неожиданно, но из всего, что мне пришлось видеть и продумать за это время, я тоже вынес это прискорбное убеждение. Но не потому помощь оказывала такое влияние, что располагала к беспечности, лени и пьянству, как это утверждают многие. Эти соображения кажутся мне совершенно неосновательными: в народе привычка к труду создавалась веками и, конечно, не могла исчезнуть в одну зиму. Я имею в виду другую сторону дела. Нас не унижает только то, что мы получаем по праву. Не унижает плата за труд, не унижает кредит, истекающий из кредитоспособности берущего, или страховая премия, выдаваемая в случае несчастия.
Имело ли наше крестьянство, постигнутое неурожаем, право на помощь? – Несомненно. Государственная необходимость и государственная польза требовали поддержки населению, несущему главную массу повинностей и тягот. Но действительно ли на практике нынешнего года пособие выдавалось русскому крестьянину так, как выдается оно человеку, имеющему право на то, чего он просит, как выдается банковская ссуда кредитоспособному заемщику или страховая премия давнему плательщику? Несомненно – нет! Достаточно вникнуть в смысл так называемой «проверки списков на местах», явления, получившего как бы право гражданства и составляющего почти логическую необходимость при нынешней постановке дела, достаточно вдуматься в значение этих обысков в амбарах, избах, подпольях и даже в печках, чтобы понять истинный характер этой ссуды. Крестьянин рассматривался не как полноправный хозяин, приходящий, чтобы заключить известную, хотя бы и льготную кредитную сделку, или страхователь, давно оплативший свою премию, а как попрошайка, который прежде всего подлежит подозрению в утайке имущества с целью вымогательства. С момента просьбы, а часто и ранее ее всякий крестьянин оказывался в положении подозреваемого и обыскиваемого, а то, чем он законно владеет, обращалось в поличное, сообразно взгляду ближайшего начальства на «необходимое» и «излишнее» имущество. Несомненно, что отношения, возникающие на этой почве, недостойны ни русского крестьянства, основного зерна нашего народа, которое только клевета может обвинять в огульной порочности, ни представителей власти. Несомненно, что такая постановка глубоко симпатичного и необходимого дела помощи деморализует тех и других, создавая самые нежелательные взаимные чувства.
А между тем, нельзя отрицать также многочисленных фактов утайки и неправильных показаний об имуществе. Происходят они не от порочности и лживости русского народа, а от неправильной постановки дела. Кому прежде всего выдается ссуда? – Тому, кто докажет, что он совершенно разорен, то есть вполне некредитоспособен. А с кого брали всегда и вперед будут взыскивать выданное за круговой порукой? – С более кредитоспособных, со среднего, еще не окончательно разорившегося хозяина. Совершенно понятно, что те, кто всегда платил, кто будет платить и впредь, считают себя вправе и брать прежде других. В этом есть внутренняя справедливость, и если для ее осуществления приходится дать неправильную отметку о наличном (скудном, во всяком случае) имуществе, то ложь считается лишь формальной, что легко встретить во всех, даже наиболее развитых классах общества (вспомним хотя бы оценки городских и иных имуществ, подлежащих сборам).
Что же нужно, чтобы устранить этот глубоко прискорбный характер явления в будущем? Прежде всего: ясное и точное разграничение помощи государственно- и земско-хозяйственной, поддерживающей плательщика, и филантропической (хотя бы тоже с помощью государства), оказываемой нищему. Последнему нужна даровая милостыня, первому – рациональный кредит и страховая премия, которые бы осуществляли и укрепляли его кредитоспособность. Отсюда мое первое положение, что в основание для организации продовольственного дела должны лечь: начало широкого земледельческого кредита и принцип страхования в той или другой форме. Под кредитом же, в широком смысле, я разумею и те производительные затраты государства на улучшение крестьянского хозяйства, которые подлежат возврату косвенному в виде подъема платежных сил населения. Все это, конечно, не легко, но и положение нашего отечества тоже трудное, и было бы прискорбной ошибкой думать, что мы выйдем из него без напряженных усилий. Нужно искать не того пути, который легче, а того, который действительно ведет к цели.
Второй вопрос, подлежащий принципиальному решению, состоит в том, кто должен вести продовольственное дело в случае бедствия, подобного нынешнему. Согласно обсуждаемому проекту – в обычное время продовольственное хозяйство остается в руках земства. Иначе, конечно, и быть не может, так как иначе не было бы и самого земства, которое, как известно, преобразовано, но не упразднено. Но в случаях «обострения продовольственных обстоятельств», – проект изъемлет дело из рук обычных хозяев и передает в особое смешанное учреждение, состоящее под председательством губернатора. Прежде всего я нахожу не совсем ясным выражение «обострение продовольственных обстоятельств», определяющее момент этого изъятия. Если мы признали, что бедствие, подобное нынешнему, есть результат взаимодействия стихийных случайностей и органического расстройства, – то очевидно также, что характер явления прежде всего – постепенное возрастание. И действительно, голод подкрадывался к нам годами, и уже прошлой весной 1891 года губерния дала кое-где картины бедствия более острого, чем нынешнее, смягченное правительственной помощью. Но в таком случае, – как же уловить момент изъятия продовольственного дела из одних рук и передачи его в другие? Голод в одной волости, в двух, трех, в уезде, в двух уездах, в губернии… Достаточно ли этого для отнятия продовольственного дела из рук земства? С одной стороны, сплошного голода во всей губернии не было даже и ныне, с другой – для существа дела, для его губернской организации почти безразлично, есть такое же обострение в соседних губерниях или нет. Это вопросы, касающиеся государственного казначейства, для данной же губернии достаточно того, что она поражена неурожаем, независимо от других. Итак, если земство ведет дело продовольствия, когда неурожай постигает его губернию, то дело, очевидно, не должно меняться от того, что и в других губерниях земства вынуждены делать то же. Изменятся подробности, сущность дела останется та же.
Между тем, проект предполагает, по-видимому, какой-то резкий поворотный пункт, вроде формального объявления войны, с которого начинается мобилизация военных сил страны. В действительности такого пункта быть не должно, если только дело будет поставлено правильно. Если уже брать это сравнение, – неурожая с войной, то из примера военно-продовольственного учреждения, интендантства, мы не должны упускать одну очень существенную черту: интендантство есть учреждение, продовольствующее армию в мирное, обычное время. Единственное, сколько мне известно, изменение по существу в его организации с началом военных действий состоит в выделении полевого интендантства. Но и это изменение вызвано таким условием, какого нет в нашем случае: армия передвигается, губерния же остается на месте. Итак, оставляя в стороне вопросы о достоинствах или недостатках интендантства по существу, мы должны взять из него основной и, несомненно, правильный принцип: то самое учреждение, которое ведет обычное продовольственное дело в губернии, должно вести его и в случае «обострения затруднений». Ломка и перемены ввиду надвигающейся грозы могут повлечь только потрясения, замедление и ошибки. Учреждение должно лишь быть настолько эластично, чтобы могло расширять сферу своих действий по требованию обстоятельств. А для этого земские учреждения имеют законное средство в усилении состава управ на время неурожая. Затем гласность, составляющая в земстве укоренившуюся традицию, и живая связь с населением, с обществом, которое, как это видно из нынешнего опыта, должно быть непременно привлекаемо к делу распределения помощи, являются важными добавочными соображениями в пользу защищаемого мною мнения.
Оба высказанные нами принципа связываются в одно целое следующим образом: земство, как орган государственно-хозяйственной жизни, должно взять на себя проведение широких мер сельскохозяйственной помощи, в виде кредита страхового и сельскохозяйственных улучшений. Эта работа, трудная, но необходимая, составляющая жизненный узел нашего благосостояния, должна вестись и в нормальное время. Неурожаи, хотя бы частичные, – есть всегда, нужда в помощи никогда не прекращается. Нужно только не запускать, а расширять эту работу. Необходимо определить и подымать постепенно кредитоспособность русского крестьянина. Раз это будет сделано заранее, – нет надобности в экстренных мерах, в обысках и проверке списков. Земская статистика дает общую картину урожая и недорода, учреждения, которые еще должны быть созданы, – имеют наготове необходимый материал для кредита. Общее же руководительство должно находиться в привычных руках, и работа только усиливается с неурожаем или, вернее, только меняет формы… Администрации же должно принадлежать широкое право контроля. Это отделение власти исполнительной в деле продовольствия и власти контролирующей я считаю необходимейшей гарантией успеха дела, гарантией, которая совершенно исчезает с соединением обеих функций в одном, хотя бы и смешанном учреждении.
Позволю себе закончить повторением. Это только общие принципы. Я не обольщаю себя относительно трудностей их выполнения. С делом этим связана, несомненно, необходимость упорной работы в самых разнообразных отраслях нашей жизни. Несомненно, однако, и то, что из трудных положений, вроде настоящего, и не может быть легкого выхода.
1893–1907
Мултанское жертвоприношение*
Мултанское жертвоприношение
1 октября 1895 года, в 4 часа 50 минут вечера в зале суда в Елабуге раздался звонок из комнаты присяжных заседателей. Это значило, что совещание присяжных кончилось. Через минуту публика наполнила зал, вышел суд, и старшина присяжных подал лист председателю.
Председатель посмотрел приговор и вернул его. Старшина взял лист в руки и прочел семь вопросов, составленных в одних и тех же выражениях.
«Виновен ли такой-то в том, что в ночь на 5 мая 1892 года в селе Старом Мултане, в шалаше при доме крестьянина Моисея Дмитриева, с обдуманным заранее намерением и по предварительному соглашению с другими лицами лишил жизни крестьянина завода Ныртов, Мамадышского уезда, Казанской губ., Конона Дмитриева Матюнина, вырезав у него голову с шеей и грудными внутренностями?»
На скамье подсудимых было семь человек, вотяков Старого Мултана, и семь раз старшина присяжных на приведенный выше вопрос ответил с заметным волнением:
– Да, виновен, но без заранее обдуманного намерения.
Относительно троих к этой формуле было прибавлено:
– И заслуживает снисхождения.
Несколько секунд в зале царствовала гробовая тишина, точно сейчас сообщили собравшимся, что кто-то внезапно умер. Потом коронные судьи удалились для постановления своего приговора. Семь обвиненных вотяков остались за решеткой, как будто еще не понимая вполне того, что сейчас с ними случилось.
Я сидел рядом с подсудимыми. Мне было тяжело смотреть на них, и вместе я не мог смотреть в другую сторону. Прямо на меня глядел Василий Кузнецов, молодой еще человек, с черными выразительными глазами, с тонкими и довольно интеллигентными чертами лица, церковный староста мултанской церкви. В его лице я прочитал выражение как будто вопроса и смертной тоски. Мне кажется, такое выражение должно быть у человека, попавшего под поезд, еще живого, но чувствующего себя уже мертвым. Вероятно, он заметил в моих глазах выражение сочувствия, и его побледневшие губы зашевелились.
– Кристос страдал… – прошептал он с усилием.
Казалось, эти два слова имели какую-то особенную силу для этих людей, придавленных внезапно обрушившейся тяжестью.
– Кристос страдал, – зашамкал восьмидесятилетний старик Акмар, с слезящимися глазами, с трясущейся жидкой бородой, седой, сгорбленный и дряхлый.
– Кристос страдал, нам страдать надо… – шопотом, почти автоматически повторяли остальные, как будто стараясь ухватиться за что-то, скрытое в этой фразе, как будто чувствуя, что без нее – одно отчаяние и гибель.
Но Кузнецов первый оторвался от нее и закрыл лицо руками.
– Дети, дети! – вскрикнул он, и глухое рыдание прорвалось внезапно из-за этих бледных рук, закрывавших еще более бледное лицо.
Я не мог более вынести этого зрелища и быстро вышел из зала. Проходя, я видел троих или четверых присяжных, которые, держась за ручки скамьи, смотрели на обвиненных. Потом мне передавали, что двое из них плакали.
Публика двигалась взад и вперед как-то странно; почти никто не уходил совсем, и никто не мог долго оставаться в зале; входили и уходили, как в доме, в котором по середине комнаты, окруженной желтыми огнями свечей, лежит мертвец, и кто-то бьется и рыдает о нем за дверью.
Я тоже не мог уйти и не мог оставаться, входил в зал и опять уходил. Обвиненные или тупо глядели вперед, или громко плакали, опустив головы на руки; дамы из публики смотрели на них широко открытыми глазами, внезапно отворачивались и быстро уходили. В настроении этой публики ясно чувствовалась весьма понятная жалость.
Но, кроме жалости, тут было еще тяжелое, гнетущее сомнение.
Когда я, ожидая судебного приговора, в третий раз вошел в зал, – публика столпилась в одном месте поближе к решетке. В углу этой решетки, рядом с караульным, вытянувшимся у своего ружья и, как будто нарочно, принявшим вид совершенно глухого; ничего не слышащего и не видящего человека, стоял дед Акмар. Его старческая рука опиралась на барьер, голова тряслась, и губы шамкали что-то. Он обращался к публике с какой-то речью.
– Православной! – говорил он. – Бога ради, ради Криста… Коди́ кабак, коди́ кабак, сделай милость.
– Тронулся старик, – сказал кто-то с сожалением.
– Коди́ кабак, слушай! Может, кто калякать будет. Кто ее убивал, может, скажут. Криста ради… кабак коди́, слушай…
– Уведите их в коридор, – распорядился кто-то из судейских.
Обвиняемых вывели из зала.
Описанным выше приговором во второй уже раз вотяки села Мултана признаны виновными в принесении языческим богам человеческой жертвы. Во второй уже раз судебным приговором устанавливается, что в европейской России, среди чисто земледельческого вотского населения, живущего бок о бок с русскими одною и тою же жизнью, в одинаковых избах, на одинаковых началах владеющего землей и исповедующего ту же христианскую религию, существует до настоящего времени живой, вполне сохранившийся, действующий культ каннибальских жертвоприношений! Если вы представите себе, на основании сказанного выше, что Мултан – глухая деревушка, окруженная лесными дебрями, затерянная и одинокая, – то вы сильно ошибетесь. Это большое село, окруженное давно распаханными старыми полями, отстоящее лишь в пятидесяти верстах от большой пристани Вятские Поляны, на реке Вятке, и в полуторах десятках верст от большого пермско-казанского тракта. В Старом Мултане вот уже пятьдесят лет существует церковь, пятьдесят лет вотское село служит центром православного прихода; в нем живут постоянно два священника с причтом, и тридцать лет дети вотяков Старого Мултана учатся в церковно-приходской школе. Один из обвиненных в принесении человеческой жертвы, Василий Кузнецов – местный торговец, староста мултанской церкви.
Если вы подумаете, далее, что один только Мултан обвиняется в сохранении, по какой-то несчастной случайности, ужасного переживания ужасного обычая, то вы опять ошибетесь. Обвинение мултанцев было бы невозможно, и странное убийство оставалось бы совершенно необъяснимым, если бы следствие не постаралось собрать множество слухов, по большей части, неизвестно откуда исходящих, – слухов о том, что среди вотяков вообще сохранился обычай человеческих жертвоприношений. Эти слухи не касались непосредственно Мултана: они шли с дальних мест, со стороны «Учинской и Уваткулинской», из других местностей, из других уездов. Из отчета об этом деле, напечатанного в «Русских Ведомостях», видно, что обвинение ставилось не против данных только семи лиц. Они, по мнению обвинителя, явились лишь исполнителями. На вотском кенеше (мирском сходе) ставится решение: принести человеческую жертву. Нищий убит в родовом шалаше, но не для данного рода. Его кровь нужна будто бы для жертвы за всю деревню. Может быть, даже не за одну деревню, а за многие деревни «вавожского края»… Этого мало. Ученый эксперт, казанский профессор Смирнов, отстаивавший существование ужасного культа среди современного вотского населения, приводил общие «предания», не относившиеся специально к Мултану, слухи, исходившие из других уездов, даже сказки не вотские, а родственного вотякам черемисского народа. Вы видите, что ужасное обвинение ширится, растет, что данный судебный приговор есть приговор над целой народностью, состоящей из нескольких сотен тысяч людей, живущих в вятском крае, бок о бок с русским народом и, повторяю, тою же земледельческой жизнью. Постарайтесь представить себя по возможности ясно в роли вотяка-крестьянина, соседа русской деревни, в роли вотяка-учителя, наконец, в роли священника из вятского края, – и вы сразу почувствуете все ужасное значение этого приговора.
Предполагаю, что у читателя является возражение: не следует, конечно, преувеличивать значение и силу нашей культуры в темной среде деревенской Руси. И в христианской деревне много тьмы и невежества: у нас есть лешие и ведьмы, в наши глухие деревушки залетают огненные змеи, у нас приколачивают мертвых колдунов осиновыми колами к земле, у нас убивают ведьм. В Сибири еще недавно убили мимо идущую холеру, в виде какого-то неизвестного странника. «Холера» умерла, как умирает обыкновенный человек, пришибенный ударом кола, а убийцы суждены и осуждены судом. «Что же мудреного, – спрашивает у меня один корреспондент, – что вотяки, полуязычники, которые, вдобавок, несомненно сохранили обычай кровной жертвы, – могли принести и человеческую жертву? И что нового открыло нам в этом отношении мултанское дело?»
Мне кажется, что здесь есть крупное смешение понятий. Да, суеверия очень сильны, – и убийство ведьмы произошло еще лет пятнадцать – двадцать назад даже в бельгийской деревне. Что же? Вы не удивитесь поэтому, если бы в бельгийской деревне было доказано существование каннибальского культа? В наши деревни летают огненные змеи. Слыхали ли вы, однако, чтобы целое общество, хотя бы подлиповцев, решило на общественном сходе принести огненному змею торжественную каннибальскую жертву? У нас приколачивают колдунов осиновыми колами! Значит ли это, что наша культура равна культуре антропофагов и каннибалов?
Нет, не значит. Оставим формальную принадлежность к той или другой религии, оставим также и церковно-приходскую или иную школу. Я полагаю, что даже между полным язычником, живущим общею жизнью с земледельческим христианским населением, и язычником-каннибалом – расстояние огромное. Язычник, ограничивающийся принесением в жертву гуся, и язычник-каннибал – это представители двух совершенно различных антропологических или, по крайней мере, культурных напластований, отделенных целыми столетиями. Выражаясь символически, – между ними приблизительно такое же расстояние, как между жертвоприношением Авраама (отмечающим воспрещение человеческой жертвы в ветхом завете) и принесением двух голубей в иерусалимский храм иудеями первых годов христианской эры.
Далее, – я полагаю, что между язычником, сохранившим где-нибудь в глубине лесов или в пустынной тундре всю чистоту своего языческого культа, и язычником-земледельцем, вкрапленным в течение столетий в самую среду русского народа, опять должна быть значительная разница. Дело тут даже не в культурной миссии официальных миссионеров, а в простом вековом близком общении на почве общего труда и общих интересов с земледельческим и христианским народом. Я приведу ниже молитву, которая произносилась в начале настоящего столетия на огромном жертвоприношении черемис их картами (жрецами), и вы увидите, какому богу она приносилась и как сама она далека уже от каннибальских заклинаний. Наконец, между этим последним язычником и инородцем-христианином, более столетия уже обращенным, – является еще одна, еще новая градация.
Как ни плоха была его школа, как ни слаба обращенная к нему проповедь, – все-таки они не могли не отдалить инородца еще на одну ступень от его первобытных верований. Правда, он внес в новую веру значительную долю суеверий; правда, в его среде еще живут старые обряды, – но, принижая новую веру, он все-таки подымает до нее старую, и то новое, что из этой смеси возникло в его душе, – уже есть именно новое; это смесь, неравная ни одной из своих составных частей.
Это не настоящее христианство, но это и не язычество в том виде, в каком оно существовало до обращения. Обряд еще держится. Обряд и прививается ранее, и уходит позже выражаемых им понятий. Но старые боги умирают в темной душе, и понемногу из-за новых формул проглядывает все больше и больше новое содержание. «Христос страдал, нам страдать надо» – одна эта формула в устах обвиненных в каннибализме способна потрясти слушателя глубоким сомнением: неужели люди, знающие это, прибегающие к этому в минуту страшного удара, разбивающего жизнь, – способны целым обществом, спокойно, сознательно убить человека во имя бога!
И, однако, кто-то убил нищего и взял у него голову и сердце! Значит, во всяком случае – это убийство суеверное?
Я не знаю. Но если и так, то в нем участвовали один или двое. Бывают вспышки паники, страсти, когда в толпе сразу просыпаются, оживают инстинкты пещерных предков, даже зверей. Тогда-то и убивают проходящую мимо холеру. Здесь не то. Здесь необходимо допустить существование культа, при котором молитвенное настроение души в целом сельском обществе, нет, в целом крае, – спокойно, сознательно, постоянно или, по крайней мере, периодически направляется в сторону человеческих жертвоприношений. Каннибализм здесь является постоянно действующим, живым культом, охватывающим еще в наше время огромную площадь, живущим в сотнях тысяч умов, исповедующих по наружности христианскую веру.
Нет, нельзя закрывать глаза на весь ужас этого явления, если оно существует, нельзя сравнивать его ни с какими суевериями! Суеверия вы найдете еще во всех слоях общества; каннибализм отодвинулся от нас на тысячелетия.
Так, по крайней мере, мы думали до сих пор. Теперь оказывается, что он жив, что это – не частная вспышка случайного переживания, а хроническое явление по всей площади, занимаемой вотским племенем.
Но если это так, – то нужно понять размеры и значение этого явления. Нет, это не равносильно обычным суевериям, к которым мы уже пригляделись и привыкли. Это шире всех вопросов о силе или слабости официальной миссии. Повторяю: перенеситесь мыслью в положение вотяка, сколько-нибудь сознательно относящегося к этому обвинению, – и вы почувствуете всю его тяжесть. Вы почувствуете также и то, что это обвинение против самого культурного типа не одних вотяков, но и их соседей, неспособных вековым общением облагородить соседа инородца, хотя бы до степени невозможности каннибализма в культурной атмосфере, которой они дышат сообща!
Я полагаю, что мысль моя ясна: как существуют геологические напластования и формы, только этим напластованиям сродные, так же есть напластования культурные, отделенные друг от друга столетиями и разными наслоениями пережитого прошлого. Каннибализм есть форма, свойственная давно погребенным, самым низким слоям культуры, потонувшая на расстоянии столетий, и население, в котором она была жива, представляло собой низшую ступень в развитии человеческого типа. Существование языческих обрядов не может еще служить доказательством человеческого жертвоприношения. Нужны доказательства более прямые.
Вот почему я полагаю, что мултанское дело есть дело «особой важности», на которое следует обратить самое пристальное внимание. Не закрывать глаза, конечно, не отстранять неприятные выводы, – но присмотреться серьезно и строго, с чем в действительности мы имеем дело. Недостаточно приговорить несколько человек, – нужно узнать, что тут было, какому богу приносятся эти жертвы, как широк его культ… Но прежде всего: действительно ли этот культ существует. Нужно, чтобы рассеялся этот густой туман, эта туча недоумения, нависшая над мрачной драмой, нужно, чтобы настоящее зло, если оно есть, не скрывалось ни за какими сомнениями.
В настоящей статье я, разумеется, не рассчитываю исчерпать данный вопрос. Читателям «Русского Богатства» отчасти уже известна и обстановка, и обстоятельства дела, о котором дважды уже говорилось в нашем журнале[75]. Они знают также, что первый приговор кассирован сенатом, который признал, что:
во 1-х, не доказано самое существование среди вотяков обычая человеческих жертвоприношений,
что, во 2-х, предварительным следствием сделано много упущений, не исправленных также и следствием судебным, и
что, наконец, в деле была существенно нарушена равноправность сторон. В настоящее время защитником мултанских вотяков опять подана кассационная жалоба, и юридическая сторона дела будет еще раз предметом компетентного обсуждения. Здесь, поэтому, я пока совершенно оставляю в стороне вопрос, насколько убедительны доказательства виновности семи обвиненных мултанцев. Я останавливаюсь только на общем вопросе: можно ли и теперь признать доказанным самое существование человеческого жертвоприношения среди вотского населения, и главным образом, какому богу могла быть принесена эта ужасная жертва.
Вот фактическая сторона этого дела:
В понедельник, после Фоминой недели, т. е. 20 апреля 1892 года, нищий Конон Дмитриев Матюнин отправился из родного села (завода Ныртов, Мамадышского уезда, Казанской губ.) в малмыжскую сторону за сбором подаяния. Это был человек нестарый, очень крепкий, здоровый на вид, смирный и непьющий, но страдающий падучей болезнью и проявлявший, по некоторым указаниям, признаки ненормальности. От завода Ныртов до Старого Мултана, если не ошибаюсь, более ста верст. Нищий шел, побираясь Христовым именем, заходя по сторонам и ночуя, где доведется. 4 мая в середине дня он встретил мултанского псаломщика Богоспасаева в дер. Капках, по пути к Кузнерке или Аныку, или, может быть, к Мултану. Они обменялись жалобами на скупость народа. Псаломщик набрал очень мало овса на семена, а нищему не верили, что он болен. Между тем, несмотря на здоровый вид, у него падучая, от которой он напрасно лечился в Ныртах. Доктор советовал ехать в Казань, «там ему сколют череп и выпустят воду…» Но нищий побоялся. Так поговорив, они расстались, и псаломщик более его не видал.
Накануне, в ночь с 3 на 4 мая нищий из Ныртов, страдающий падучею болезнью, в азяме с синей заплатой, ночевал в деревне Кузнерке, у старика (русского) Тимофея Санникова. На следующий вечер 4 мая к сыну этого Санникова, Николаю, опять приводят на ночлег нищего. Он тоже из Ныртов, тоже страдает падучей болезнью, тоже здоров на вид и вдобавок говорит, что ночевал у Тимофея Санникова прошлую ночь. Все эти признаки точно соответствуют приметам Матюнина, но впоследствии Николай Санников вспоминает, что на азяме этого нищего как будто не было заплаты, из чего обвинение решительно заключает, что это был другой нищий, хотя тоже из Ныртов, тоже страдающий падучей и… тоже ночевавший накануне у Тимофея Санникова?
В то же время, т. е. 4 мая, псаломщик Богоспасаев, вернувшийся со своим скудным сбором овса, – видит в Мултане еще другого нищего с корзиной и пьяного. Этого же нищего видят и другие свидетели, в том числе урядник. Он отличается от Матюнина, во-первых, корзиной, во-вторых, у него нет посоха, в-третьих, он пьян (Матюнин, по уверению его вдовы, в рот не брал водки). Вотяки говорят, что этот нищий был родом с Ижевского завода и действительно ночевал в Мултане…
С приближением вечера рокового четвертого мая – признаки этих двух личностей как-то перемешиваются взаимно. Три свидетеля видят какого-то нищего идущим по улице в Мултане и сидящим на бревнах. Он красен и пьян, что-то бормочет, а по одному показанию – закуривает папиросу (Матюнин не курил). Все это черты ижевского нищего с корзиной. Но на нем надет будто бы азям с заплатой и рубаха с прорехой, принадлежащие нищему из Ныртов и найденные впоследствии на убитом. Его перед вечером (около 4 мая) ведут по переулку, к дому суточного, у которого должны ночевать все нищие, застигнутые приближением ночи в Мултане.
Как видите, в сумерках рокового вечера – личность нищего двоится: при одном из двойников, ночующем в Кузнерке, остается вечером 4 мая происхождение (из Ныртов), падучая болезнь и рыжая борода Матюнина; при другом, которого видели на бревнах в Мултане, – азям с заплатой и одежда того же Матюнина, с прибавлением, впрочем, пьянства.
Затем нищий с корзиной, родом из Ижевского завода и любящий выпить, продолжает еще шататься по Мултану более недели, – а нищего из Ныртов те, кто его видел, видели в последний раз.
5 мая, часов в девять утра, крестьянская девочка Марфа Головизнина шла пешеходной тропой, пролегающей по лесу, между деревнями Чульей и Аныком. Я был на этой тропе после описанного выше приговора над вотяками. Трудно представить себе место, более угрюмое и мрачное. Кругом ржавая болотина, чахлый и унылый лесок. Узкая тропа, шириной менее человеческого роста, вьется по заросли и болоту. С половины ее настлан короткий бревенник вроде гати, между бревнами нога сразу уходит в топь по колено; кой-где между ними проступают лужи, черные, как деготь, местами ржавые, как кровь. Несколько досок, остатки валежника и козлы из жердей обозначают место, где нашли труп Матюнина и где его караулили соседние крестьяне.
Он лежал поперек, т. е. занял всю тропу, по которой шла Головизнина. Я был на этой тропе, и мне очень трудно представить, чтобы кто бы то ни было, идущий по ней и видящий на своей дороге это ужасное препятствие, мог не заметить среди белого дня, что у лежащего в таком необычном месте человека нет головы. Но девочка этого «не заметила», как она говорит, потому что человек был прикрыт азямом. У нее развязался вдобавок лапоть. Она «подобулась, обошла труп по-за-ногам» и пошла дальше. Пройдя мимо толчеи, постукивающей шагах в двухстах на такой же унылой полянке, она пришла в починок и сказала там о лежащем на тропе человеке.
Назад она пошла опять одна той же тропой, на следующий день, 6 мая. Человек лежал там же, но азям, как говорится в обвинительном акте, – был кем-то снят. Кто это подходил к трупу в эти сутки и кто снял азям, – осталось неизвестным, но теперь девочка рассказала в деревне Чулье о том, что у лежащего на тропе человека нет головы. Пришли крестьяне двух деревень и совершенно затоптали следы, так что оказалось невозможным определить, откуда подтащен труп. 7 мая прибыл урядник, который нашел, что на убитом надета котомка, за лямки которой заделан сложенный азям. Итак, безвестная рука, то прикрывавшая, то снимавшая азям – продолжала над мертвым свою работу, даже по прибытии полиции.
9-го прибыл пристав, который записывает новую перемену: уже после урядника кто-то вынул азям из-за котомки, надел его на труп в рукава и опять надел котомку за плечи. При этом и лапти оказались завязаны плохо, как будто их надевали уже на мертвого. Вотяков в это время еще не было. Азям, который девочка видела на трупе, а урядник – заделанным за лямки, опять надет в рукава, очевидно, уже на мертвого и притом не вотяками. К сожалению, цель этого многократного переодевания найденного на тропе безголового человека совершенно не интересует ни пристава, ни следственные власти, которые обращают исключительное внимание на лапти. На основании одних этих данных, да еще темных слухов о вотяках вообще – составляется предположение, что убитый принесен в жертву вотским богам. Впоследствии, ровно через месяц, оказалось при вскрытии, что из грудной полости вынуты сердце и легкие, для чего у шеи и спины разрублены основания ребер. Но в то время пристав не заметил и не описал этих повреждений, хотя, впрочем, сам раздевал труп… В его протоколе есть даже следующее странное место: «есть ли сердце и легкие, заметить невозможно из-за большого количества запекшейся крови».
При трупе оказались: азям с заплатой и синепестрядинная рубаха с прорехой подмышкой, виденные некоторыми свидетелями будто бы на нищем в Мултане; затем рыжая борода и свидетельство о том, что убитый родом из Ныртов, а также, что он страдает падучей болезнью, – черты нищего, ночевавшего в Кузнерке. Таким образом двойственная личность убитого остается такою же и после смерти. Если это тот, что ночевал в Кузнерке, значит, выйдя утром после восхода солнца 5 мая, он пошел куда-нибудь к Аныку, свернул на лесную тропу и где-то здесь встретил свою горькую участь. Свидетельства о личности и болезни дают основание для этого предположения.
Но признаки одежды (азям и прореха на рубахе) направляют розыски к Мултану, и с этих пор дело принимает свой окончательный характер: вотяки обвиняются в человеческом жертвоприношении.
Обвинение рисует дело в следующем виде.
В Мултане сохранились еще следы родового быта и языческого культа. Родовое деление сказалось расслоением Мултана на два рода: учурский и будлуцкий. К первому принадлежит четырнадцать семей, ко второму остальные (56). У каждого рода есть свой шалаш, род амбара, с полками вдоль стен без окон, в котором родовичи совершают «моления», хотя и перед иконой, но по старому языческому обряду. Они здесь «молят», то есть приносят в жертву гусей и уток. Раз был принесен даже бычок. Для этого у каждого рода при шалаше есть выборные, вроде жрецов: тыр-восяси, покчи-восяси и бодзимь-восяси, которые совершают обряды.
Порой оба рода соединяются на поляне для общедеревенской молитвы. Однажды молодой священник Ергин, назначенный в Мултан, проезжая по дороге, заметил дымок в стороне и, догадавшись, в чем дело, направился туда. Это было уже после начала дела, когда вотяки уже были привлечены к следствию. Тем не менее, вотяки, по-видимому, свободно продолжали обряд: они закололи бычка перед двумя огнищами, на которых в котлах варили его мясо. Тут были также хлебы с яичницей, сосуды с кумышкой или пивом. Один из стоявших впереди трех вотяков произносил какие-то слова и наклонял голову, а за ним наклоняли головы и остальные. В числе присутствующих была мать обвиняемого Кузнецова, которая молилась, стоя на коленях. На вопрос, кому они молятся, вотяки ответили, что они молятся «тому же богу, а если в лесу, то потому, что так делали отцы и деды».
Итак, существование кровной жертвы в православном Мултане нужно считать вполне доказанным. Оставляя пока вопрос о том, кому приносились эти жертвы, – я дорисую со слов обвинения предполагаемую картину убийства. Дом Василия Кондратьева, куда привели нищего, вечером 4 мая, находится невдалеке от шалаша Моисея Дмитриева, в котором совершаются моления учурского племени. Здесь, если обвинение верно, Матюнин пьяный был подвешен, и из него добыты внутренности и кровь для общей жертвы в другом месте, может быть для общей жертвы всего вавожского края и может быть «для принятия этой крови внутрь».
Кому же могла быть принесена эта жертва, кому вообще приносились жертвы и в шалашах, и на полянах села Старого Мултана, невдалеке от его церкви и от церковно-приходской школы?
На это пытаются нам ответить, во-первых, обвинительный акт и, во-вторых, ученая экспертиза. Нужно сказать, однако, что обвинитель остался недоволен экспертизой, хотя профессор Смирнов и ранее, в печати, и на суде допускал возможность жертвоприношения у современных вотяков. «Экспертиза ничего не дала нам, – сказал тов. прокурора в своей речи. – Наоборот, наука много почерпнет из настоящего дела».
Проф. Смирнов держится иного мнения, а другой представитель науки, г-н Богаевский, написавший обстоятельный анализ в «Русских Ведомостях», повторяет в этом отношении то же мнение. Считаю необходимым заметить, – пишет он, – что, «несмотря на вторичное осуждение обвиняемых, на страницы работ по этнографии России не может быть занесено утверждение факта существования в настоящее время у вотяков человеческих жертвоприношений»[76]. Проф. Смирнов также говорил мне после суда, что он не почерпнул из данного дела ни одной черты, которая бы утверждала его в заранее уже сложившемся общем мнении, противоположном мнению г-на Богаевского.
Оба ученые утверждают единогласно, что в данном деле они натыкаются только на ряд противоречий. Если вотяки еще приносят даже человеческие жертвы, – то это значит, конечно, что у них сильны древние языческие верования и понятия, которых они не решатся нарушить. Между тем, настоящее дело представляет именно ряд таких нарушений. Прежде всего обвиняемые принадлежат к разным родам. Между тем, по согласному показанию всех экспертов и проф. Богаевского, «в родовом шалаше может быть принесена жертва лишь божеству, в нем обитающему», и «чужеродцы не пользуются милостями божества, обитающего в родовом шалаше»; «даже самое присутствие в шалаше чужеродца оскорбляет божество, обитающее в святилище данного рода». Между тем, оскорбление божества, обитающего в родовом шалаше, является наиболее страшным преступлением для вотяка, уничтожает все благие последствия жертвы и «даже лишает человека счастья».
Далее, один из подсудимых, Кузьма Самсонов, мясник, обвиняется в том, что он, – не жрец и не помощник жреца, – совершил самое убийство, будучи для этого нанят за деньги. Между тем, «приносить жертвы могут лишь специально на этот предмет избранные жрецы».
Наконец, добывание крови в одном месте для жертвы, приносимой в другом, – все ученые единогласно признают невозможным.
Все эти черты приобретают особенную важность в виду того соображения, что приверженность к букве, к обряду – характеризуют главным образом малокультурного человека. «Вспомним», говорит проф. Богаевский, что «опущение лишь одного слова в молитве, например, в древнем Египте уничтожало значение всего священнодействия; как часто присутствие чужеродца оскорбляло божество, которому молились древние римляне». Между тем, здесь «отступления от ритуала так велики, что противоречат всем основным требованиям религиозных представлений вотяков и сознанию их обязанности перед богами».
Итак, наука останавливается в полном недоумении перед обстоятельствами, которыми обвинение обставляет жертву в данном случае. Теперь посмотрим, что дает нам следствие и экспертиза по вопросу о том, каким же богам или какому богу приносились мултанцами жертвы.
Обвинение отвечает категорично. У всех вотяков существует «злой бог Курбон», который требует себе в жертву жеребенка, а по временам, лет через сорок – и человека. Никто, правда, не слыхал об этом Курбоне в Мултане, но о нем сообщил Михайло Савостьянов Кобылин. Он получил это сведение от неизвестного ему кучугурского вотяка, который притом, по его словам, – «умом был не совсем»: дурачок и блаженненький. Впрочем, председатель, на том основании, что Кобылин не мог указать точнее источника этих слухов о Курбоне, воспретил ему (несколько, правда, поздно) дальнейшую характеристику этого сердитого бога. Нужно сказать, однако, что вслед за Кобылиным о том же боге рассказал присяжным урядник Соковиков. Он сообщил еще, что, кроме злого Курбона, есть Аптас и Чупкан, боги веселые и добродушные. Эти довольствуются гусем или уткой и большей жертвы не просят.
– От кого вы это слышали? – спрашивает председатель.
Оказывается, что урядник может указать точно, откуда он это слышал. Ему рассказывал тот же Кобылин!
Третий свидетель, знакомый с Курбоном – земский начальник Кронид Васильевич Львовский. Правда, в отношении этого свидетельства мы встречаемся с некоторой странностью. В его показании следователю этот бог называется не Курбоном, а Киреметом и только, очевидно, по ошибке (?), это имя переносится в обвинительный акт в виде «Курбона». Впрочем, и Львовскому председатель воспрещает рассказ об этом или другом боге, так как он слышал о них от «одного» неизвестного старого вотяка, и сам называет все это лишь слухами, на которых в свою очередь «не счел бы возможным основаться».
Таковы все сведения о злом боге, которые до очевидности ясно истекают из одного лишь источника: этнографических познаний Кобылина. После судебного следствия и показаний Кобылина выясняется окончательно и бесповоротно, что бога Курбона совсем не существует, и самое слово означает только «моление» или жертву. Таким образом, грозный бог исчезает из дела, оставляя на своем месте лишь неразрешенный вопрос: кому же тогда могла быть принесена жертва?
Обращаемся к экспертизе.
Профессор Смирнов, написавший книгу о вотяках, дал нам в этой книге и в своей речи на суде изложение вотской мифологии. По его словам, вотская религия пережила фетишизм, затем перешла к антропоморфическому анимизму, который оставил на ней очень ясные следы, и подверглась спиритуалистическому влиянию со стороны тюркских племен. Вотяк стремится оживить все явления природы: лес для него населен палее и нулес-муртами (наши лешие), в воде живет водяной (ву-мурт), в доме – домовой (бустурган), солнце, земля-мать, древесные ветви, все это одушевляется, все это наделяется человеческими свойствами…
Но если вотяк приносит яйца и кумышку на могилу предка, – то ведь и мы сохранили радуницу и поминки с водкой даже на Волковом кладбище, в Петербурге. Если у вотяка есть сказочная кукри-баба, – то и у нас есть ее родная сестра, баба-яга, которая, по свидетельству г-на Смирнова, с нею тожественна даже и по виду. Как бы то ни было, самое существование всей этой низшей лесной, домовой и болотной братии еще не доказательство возможности человеческой жертвы, ибо тогда мы должны признать ее возможной и у нас, в любой русской деревне.
Профессор Смирнов много раз отмечает в своей книге, что современный вотяк стал очень скуп на жертвы: отделываясь пустяками, гусем или уткой, он вдобавок сам же съедает ее почти всю. Да это, по отношению ко всякой мифологической мелкоте, пожалуй, и совершенно понятно. В приводимых г. Смирновым сказках один вотяк стреляет в воршуда, другой сжигает целый выводок нулес-муртенят, пришедших в лесу на его огонек. Два вотяка попали в избушку леших, из них двух нулес-муртов изжарили в печи, третьего убили. Застреливают из ружья также и ву-мурта (водяного). Впрочем, ву-мурты и вообще народ довольно добродушный, а один из них (в сказке) даже открыл в одном городе торговлю рыбой.
Г-н Смирнов приводит сказки, из которых видно, что некоторые из этой братии «охочи до человеческой крови». Мало ли кто до чего охоч! Очевидно, однако, что не этой мелкой нечисти, которою кишат также и наши леса, – станут приносить человеческие жертвы!.. Но тогда кому же?
У вотяков есть еще Ин-Мар, могущественный бог, олицетворяющий небо. Г-н Смирнов производит его имя от Ин-Мурта, небесного человека, но сам признает, что понемногу это понятие очищалось и шелуха антропоморфизма от него отваливалась, а самое понятие все больше и больше проникалось спиритуалистическим содержанием. И вот, теперь другой эксперт, г-н Верещагин, перевел это название так: ин – небо, мар – что. «Что на небе», «Тот, кто на небе», «Господь». Г-н Смирнов признает, что теперь действительно это слово выражает понятие духа, оживотворяющего природу… Иначе: Ин-Маром вотяк зовет того же, кого француз называет Dieu, немец Gott, a мы Богом.
Каков этот Ин-Мар у вотяков-язычников? Он велик и духовен. Он могуществен и светел. Он, кроме того, враждебен богам анимизма; по крайней мере на стр. 208 своей книги г-н Смирнов утверждает, что – стоит помянуть Ин-Мара, и могущество воршудов и палес-муртов обращается сразу в ничто. Кроме того, это бог общий, власть которого распространяется на землю и небо, который простирает свое могущество над всем народом. Этому богу только и может быть приносима общенародная молитва.
Я позволю себе сделать здесь выписку из «Столетия Вятской губернии» – статьи А. А. Андриевского, на которую ссылался г-н тов. прокурора в своей обвинительной речи. Но я вижу в ней несколько иные черты, чем те, которыми пользовался обвинитель. Г-н Андриевский рассказывает следующий, чрезвычайно колоритный и характерный эпизод.
В 1828 году среди инородцев-черемис Вятской и соседних губерний обнаружилось какое-то необычное и странное движение. В своем донесении об этом уржумский земский исправник и другие следователи объясняли это снами, которые видели черемисины Иван Токметов и Семен Васильев.
«В сентябре месяце, а которого числа не знаю, – показывал исправнику Токметов, – ночью видел я во сне, что будто я, шедши со множеством черемисского народа по ровному месту, вдруг все мы обрушились в преужасную пропасть и, от того испужавшись, обещались, по избавлении, принести богу моление, от каковой мысли вдруг стали подыматься в гору, где увидели необыкновенный свет, плодородие и в наилучшем виде разные деревья». Другой черемис видел, «что будто бы явился к нему некто, в виде знатного человека, и советовал всему черемисскому народу принести господу богу моление с обыкновенным, по обряду черемисскому, жертвоприношением».
Разумеется, одних снов едва ли достаточно для объяснения того широкого движения, которое охватило инородцев и встревожило властей. Как бы то ни было, мы видим здесь, как происходит и кому приносится важная жертва: третьего декабря сошлось в Сернурской волости до трех тысяч человек у ключа, появившегося недавно в сухом месте, что. тоже сочтено было за особую милость божию. На другой день здесь найдено было 134 огнища после жертвоприношений, на которых варилось мясо животных. Было произведено исследование при депутате от духовенства, которое показало, что «все богомолье совершено было спокойно, после чего и разъехались себе, не показав и виду к нарушению общего спокойствия или возмущения, чего и впоследствии не открылось…» И даже «молитвы их, какие произносили при сем случае жрецы, – прибавляет исправник, – доказывают простоту нравов и сообразную с верноподданностью… заботливость о платеже податей».
Самая молитва звучала (в переводе) так: «Великий, древний бог! Тебе народ поусердствовал ныне молением, привел скота, принес хлеба, свеч, пиев и меду, собравшись пред сим деревом: возлюби это и милостиво прими!
Боже! дай помощь в жизни народу, дай скота, после сего дай хлеба, после хлеба дай пчел, после пчел просим денег на оплачивание подати (черта, так восхитившая исправника), после денег просим лесной ловли, после лесной ловли просим водяной ловли на выручку денег. Милостиво прими!
Боже! дай в веке сем хорошего житья белому царю и всем молящимся здесь людям, которые привели скота, принесли свечи, принесли хлеба, поставили пиво и кто дал денег. Милостиво прими, аминь!»
Этому «великому древнему богу» молились одинаково новокрещенные и язычники. Г-н Смирнов приводит черемисскую сказку, в которой какой-то мелкий водяной хочет съесть девочку, – и делает из этого вывод, что родственные черемисским боги вотского эпоса тоже требуют человеческой жертвы. Но ведь и в наших сказках есть баба-яга, которая «не прочь полакомиться человечиной», а водяной в сборнике Афанасьева хватает проезжего купца за бороду и требует в выкуп того, чего купец дома не знает (новорожденную дочь) – точь в точь, как в черемисской и вотской сказке.
И мне кажется, что я с большим правом могу перенести в вотский эпос «Великого древнего бога», называемого Ин-Маром, Квазем, Кылдысином и еще несколькими именами. Г-н Смирнов все эти имена производит от разных стадий религии – фетишизма, анимизма, антропоморфизма, спиритуализма. Пусть так. Но и бог ветхого завета носил шесть имен, и каждое имя означало также какую-нибудь стадию на пути от идолопоклонства к великой отвлеченной духовной идее. В праве ли мы сказать, основываясь на этом, что ессей, взывавший к Адонаи и уже предчувствовавший христианство, является, например, «типическим» огнепоклонником. «Ветхому деньми» тоже приносились в древние времена кровные жертвы. Но мы знаем, что между жертвоприношением Исаака и принесением двух голубей в Иерусалимский храм лежит целая огромная история.
Одна из двух черемисских сказок, приводимых г-м Смирновым в доказательство возможности человеческого жертвоприношения у вотяков, показалась нам особенно интересной, и я очень сожалею, что почтенный профессор не досказал ее на суде до конца, ограничившись лишь поверхностным изложением.
Это сказка о черемисской злой мачехе.
Злая мачеха прикидывается больной, злая мачеха зовет своего мужа. «Поди в лес, к колдунье, она скажет тебе, что нужно сделать, чтобы я стала здорова». Муж отправляется в лес. А злая мачеха в это время переодевается колдуньей, бежит сама в назначенное место и говорит от имени колдуньи, что для выздоровления жены нужно убить ее пасынка (вероятно, в жертву какому-нибудь злому божеству). Отец возвращается грустный и не решается исполнить это требование. Тогда злая мачеха захварывает еще сильнее, опять посылает мужа к колдунье, опять переодевается, опять бежит в лес, и этим обманом наконец добивается своего!
Из этого, – опять заключает г. Смирнов, – мы видим, что божества черемисского эпоса не прочь полакомиться человечиной. Правда, в эпосе вотском даже и такой сказки нет, но в науке существует «сравнительный метод», который позволяет г. Смирнову пополнить черемисской сказкой недостающее ему доказательство. И это приводится в подтверждение того, что сидевшие перед судом мултанцы могли совершить человеческое жертвоприношение! Эксперт забыл, к сожалению, про «злую мачеху» из наших русских народных сказок, тетка которой тоже ест детей. Это во-первых. А во-вторых он упустил из виду, что эта сказка представляет прямое отрицание того, что хотел доказать профессор. Правда, бедный черемис поверил и убил сына. Но народ, создавший эту сказку, – уже явно не верит умилостивительной силе человеческой жертвы. Разве тот, кто додумался до этой сказки, не говорит так ясно глупому человеку: тебя обманули. Ты думаешь, что крови сына требует божество, а между тем, тебе, глупому, говорила это злая и хитрая женщина!
Да, если эта сказка доказывает что-либо, то разве то, что даже в сказке умерла уже вера в необходимость человеческой жертвы! Умерла, как умерли те периоды, через которые последовательно проходила языческая вера черемис и вотяков. «Большая часть этих явлений (верований, обрядов и созданий творчества) говорит о прошлых, пережитых эпохах духовного развития; они держатся в силу традиции, не имея подчас корней в сознании народа. Исследователь должен ими пользоваться прежде всего, как материалом для истории духовного развития народа».
Кто это говорит? Это тоже говорит проф. Смирнов, – и это не мешает ему, однако, делать скачок из периода черемисской сказки в «духовную жизнь» современного вотяка. На вопрос защиты, – много ли перенимают вотяки у соседей, – г. Смирнов ответил, что вотяки народ переимчивый. Это же подтверждается и в книге профессора: тюрки-магометане одним своим соседством и общением, даже без школ, даже без храмов, даже без книг – ввели в антропоморфическую религию вотяка духовное начало и дали ему, вместо небесного человека Ин-Мурта – небесного духа Ин-Мара. Но дальше на вопрос защиты, можно ли думать, что современный вотяк остался тем же, каким был лет двести назад, ученый эксперт ответил: «Мы считаем, что современный вотяк еще типичнее, чем во времена Палласа и Миллера».
Мне кажется, что это мнение почтенного исследователя очень напоминает отзыв о портрете, который более похож, чем сам оригинал. Более похож, – значит уже не похож, и я думаю, что «более типичный» вотяк г. Смирнова есть лишь вотяк его кафедры и его книги. Но его может быть и не было среди живых вотяков из Мултана, судьба которых решалась в той самой зале, где ученый профессор рассказывал черемисские сказки…
Да, современные этнографы узнали более, чем знали Паллас и Миллер. Поэтому этнографический образ теперь полнее. Но г. Смирнов забыл, что речь идет не об этнографическом образе, собранном по кусочкам из Сосновского края, с Вавожской и Уваткулинской стороны, из Бирского, Глазовского, Елабужского и Малмыжского уездов, – и дополненного историческими исследованиями седой старины. Этот вотяк верит в Ин-Мурта-человека, и в фетишей, и в мудоров, и в воршудов, как и русский объект историко-этнографических исследований. Но возьмите любого живого вотяка в отдельности, и он уже не знает многого, что знает г. Смирнов. В нем уже многое умерло и многое народилось вновь. Что такое мудор-воршуд? – спрашивает, например, этнограф и получает целый ряд разнообразнейших ответов. По словам одного, мудор есть родовое имя, «тогда как всем известно, что это слово есть синоним воршуда», – говорит г. Смирнов в своей книге («Вотяки», стр. 295). Далее оказывается, что воршудные имена – это имена давно забытых богинь. Еще дальше г-н Верещагин тоже смешивает воршуда, как божество, с воршудным именем (стр. 304), еще дальше «воршуд есть слово, означающее род и относящееся исключительно к лицам женского пола» (219). «Воршуд – это идол, помещающийся в переднем углу квалы». «Воршуд – бог счастия семейной жизни», воршуд – коробка с монетой или оловянной и свинцовой бляшкой, ложкой, хвостиком белки, золой (213). Воршуд (в одной сказке) – человек в белой одежде, которого вотяк прогоняет выстрелом из ружья (214). Воршуд – христианский ангел-хранитель (240).
Наконец для елабужского и сарапульского вотяка – воршуд – синоним Ин-Мара (стр. 210), т. е. название, обозначающее также и единого бога. Что касается Мудора – то и он тоже претерпел сильные превращения: «мудор – дерево-покровитель и его части – ветви; на мудоре (ветках) стоит воршуд (коробка), мудор – просто жертва перед иконой, мудор – икона, образ» – в словаре Зеленова. Наконец, эксперт г-н Верещагин тоже самым решительным образом заявил на суде: «г-н Смирнов говорит: мудор – бог. Но мудор не бог, мудор – икона».
Я понимаю, конечно, что г. Смирнов вправе расположить все эти предметы в логическую цепь и протягивать ее вглубь минувшего, к давно забытым богам или богиням, дополняя своими изысканиями черты легенд и сказок. Но неученый вотяк просто читает перед иконой (мудором) христианскую молитву, или переносит, свой кусочек сухой ветви или беличий хвостик из старого дома в новый, совершенно не задаваясь вопросом о том, что думали об этом его «типичные» предки, как мы не задаемся этими вопросами, прибивая подкову на пороге…
Я тоже получил свою долю сведений о воршуде. Это было в Мултане, куда я приехал после суда. Сын одного из оправданных в Малмыже вотяков, грамотный и развитой сын расторопного отставного солдата – водил меня в шалаш, где якобы совершено было человеческое жертвоприношение. Шалаш этот произвел на меня своеобразное и очень сильное впечатление. Это просто большой амбар с двускатною крышей. Крыша и теперь раскрыта, как и тогда, когда в нем производили обыски и (напрасно) искали следов крови. Земляной пол весь изрыт, густая пыль лежит на полках, расположенных вдоль стен. На одной из полок стоял образ (мудор) Николая Чудотворца. Хозяин этого шалаша давно умер напрасною жертвой «ритуального дела» в тюрьме и хозяйка тоже. Из ближайшего дома со страхом смотрели на нас испуганные детские лица. Это семья одного из осужденных, «одно малое племя», т. е. малолетки, – как сказал мне мой провожатый. Выйдя оттуда, я разговорился с солдатом о мифологии.
– Есть у вас мудоры?
– Есть мудор. Мудор – икона, – ответил он.
– А воршуд?
– Есть и воршуд.
– Что же это такое? – спросил я, радуясь, что наконец на место Курбона и Чупкана я могу поймать в Мултане хоть одного живого языческого бога.
– Воршуд, видите что… Видели вы в шалаше полки?
– Видел.
– Хлебы кладем мы на полки, молимся. Вот воршуд.
Итак, вместо бога Мудора – икона, вместо Воршуда – обряд освящения хлебов. Что мой собеседник говорил правду, это косвенно доказывает ссылка г. Смирнова на указание г. Богаевского («Воршуду или Мудору запрещается приносить кровавые жертвы» – хлеб не кровавая жертва). Наконец, если бы оказалось даже, что в Мултане есть «бог воршуд», то и тогда еще сарапульские и елабужские вотяки слово Воршуд иногда употребляют, как синоним «Ин-Мара», т. е. благого духовного бога!
На суде защитник спросил у тыр-восяся Михаила Титова:
– Ин-Мар – кто такой?
Свидетель: – Вот! – (поднимает глаза и крестится).
– Значит, наш бог?
– Бог, все равно… конечно, бог… Господь.
Затем, по требованию председателя, читает молитву Ин-Мару: «Инь-Мар-нянь-чесь, нылпи десьми уось» (записано, быть может, не совсем точно). В переводе, по его словам, это значит: «Бог хлеб давал бы, здоровья давал бы».
Вот это, действительно, совпадает с черемисской молитвой: «Великий древний бог» и т. д. Но это же совпадает в значительной степени и с нашей молитвой: «Иже еси на небесех, хлеб наш насущный даждь нам днесь».
На вопрос председателя, обращенный к священнику Ергину, очевидцу жертвоприношения, – какие это боги, кому они поклонялись на своем мольбище, – о. Ергин ответил:
– Они так говорили: тому же богу кланяемся, как и вы, а если в лесу, так потому, что отцы и деды так поклонялись.
На суде этому не поверили. А между тем, этому следовало поверить, и мы все стояли в эту минуту очень близко к истине в вопросе о том, кому приносят вотяки кровавые жертвы. Это истина грустная, но все же далеко не в такой степени, как пытался доказать г. Смирнов своими двумя черемисскими сказками. Да, обряд остался, но его содержание изменилось. Правда, наше понятие о боге оскорбляется тем, что эти люди приносят ему кровную жертву. Но самая жертва уже не так ужасна, как жертва какому-то несуществующему людоеду Курбону. Мы видели, что черемисы приносили ее «Древнему богу», Михаило Титов режет быка в честь Ин-Мара, того самого, в честь которого осеняет себя крестным знамением, а старуха, мать обвиняемого Кузнецова – стоит при этом даже на коленях, как в церкви. И, может быть, старческими губами молит Ин-Мара, древнего бога, к которому стремится из мрака времен мысль всех народов, чтобы он отвел от ее сына тяжелое обвинение в каннибальской жертве забытым давно божествам.
Очень может быть, что тут примешиваются еще какие-нибудь черты язычества, – но мы видим, однако, что между ничтожными нулес-муртенятами, которых можно изжарить в костре, и между мудорами-воршудами, которые выродились у одних в кусочки сухих древесных ветвей, а у христиан обратились в иконы или в одно из наименований «Того, что на небе», – ни экспертиза, ни мифология Кобылина не сумели поставить того бога, которому могла быть принесена человеческая жертва: воршуду и лешим – уже не стоит, а тот, кого зовут Ин-Маром, уже ее не примет.
Что это наше предположение верно, – это доказывает и сам г. Смирнов: Ин-Мар, Кылдысин и Квазь, – говорит он (стр. 240), – слились с христианским богом Отцом, Сыном и Духом Святым; воршуды – с ангелами-хранителями, а отдельные святые – с духами явлений природы.
Слились, но старый обряд еще остался. «В селах вазовского уезда, – пишет г. Смирнов (на стр. 241), – распространены так называемые напольные молебны, – в Панинском приходе около Троицы, в озимом поле перед началом пашни. Молебен пригоняется обыкновенно к воскресению; накануне, в субботу совершается языческое моление. В поле устраивается скамейка для иконы и обставляется срубленными березками. Перед иконой служат Молебен и приносят жертву. В поле приводится жертвенный бык, купленный на общественные деньги, и здесь его колют. Жрец берет в руки березовую ветку и читает вотскую молитву, а в это время с мясом жертвенного животного варится каша для всей деревни. По окончании языческого моления приезжает православный священник, служит молебен и освящает жертвенные яства; по окончании молебна священнику подносят на блюде голову жертвенного животного, священник кропит ее водой и делает на ней крест. Голова и внутренности поступают на угощение духовенства; остальное съедают молящиеся; кожа идет на церковь»[77].
«При некоторых церквах Вятской губернии, – продолжает г. Смирнов, – как нам передавали, устраиваются специально жертвенники, напоминающие своим расположением вотские дзек-квалы; это палатки, в которых по краям расставлены скамьи, в середине – столы, уставляемые жертвоприношениями, которые, после благословения священника, тут же и доедаются с возлиянием кумышки. В Малмыжском уезде также весной в озимом поле закалывается бык, над которым сначала читается вотская молитва, а затем христианское благословение».
Ну, так вот и Мултан находится в Малмыжском уезде. А ученый профессор, сам написавший все это, ищет мудоров и воршудов, которым мултанцы приносили свои жертвы. И таких даже, которым, на основании сказок, – приносятся будто бы жертвы человеческие! Г-н Смирнов забыл, что сказка может представлять простую окаменелость совсем другой антропологической формации, нахождение которой не доказывает, что соответствующая ей форма живет и теперь!..
Бог простит, вероятно, присяжным, слушавшим в первый раз в жизни слова ученого профессора, утверждавшего «с положительностью», на основании черемисских сказок, возможность человеческого жертвоприношения у современных вотяков-христиан. А пока очевидно, что Курбон Кобылина и урядника Соковикова, от которого отказался даже обвинитель на суде, не заменен никаким другим божеством, требующим человеческой жертвы. Мы вправе также совершенно отвергнуть сказочную теорию почтенного профессора и присоединиться к мнению г-на Богаевского и г-на Верещагина, который категорически заявил на суде:
– Вотское божество человеческой жертвы не требует.
По крайней мере до тех пор; пока на место кобылинского Курбона, который означает «моление», на место мудоров и воршудов, которые обратились или в иконы, или в сухие ветки, на место нулес-муртов, которых вотяк сам может изжарить на костре, на место сказочных ву-муртов, которые открыли на базарах скромную торговлю рыбой, – нам не покажут какого-нибудь языческого бога, достаточно злого для того, чтобы потребовать человеческой жертвы, достаточно могущественного для того, чтобы ему ее дали! Бога, которого бы признавал весь вотский народ, потому что обвинение мултанцев истекает из признания «обычая» у всех вотяков, основывается на слухах, собираемых не в Мултане, предполагает не переживание только, а настоящий культ, еще живой и общий всей вотской народности…
А между тем, общего культа у вотской народности уже давно нет. «Типичный вотяк» профессорских лекций может становиться еще «более типичным» на страницах научных исследований; он, может быть, вспомнит даже тех «богатых и славных богинь», которые дали ему некогда воршудные имена. Но с живым инородцем происходит как раз обратное. Уже теперь есть местности, в которых умерла не только старая вера, но и старый обряд. Есть другие, где, быть может, жив не только обряд, но и самая вера. Вся остальная масса вотского населения располагается между этими крайними полосами, живая, изменчивая, пестрая. Старое в ней угасает, хотя, быть может, не вполне угасло, новое уже народилось, но еще не окрепло. Найти место Мултана в этом потоке, на пути от язычества к христианству, отыскать то, что еще живо от старых богов, или приурочить старый обряд к новой вере – вот какова была задача ученой экспертизы. К сожалению, она даже не попыталась ее исполнить.
Это осталось открытым вопросом в деле, переполненном сомнениями, наряду с другими, тоже неразрешенными вопросами: где же ночевал действительно Матюнин, в Мултане или в Кузнерке? Кем у него отнята голова: мултанцами или теми, кто с неизвестною целью надевал и снимал с него одежду уже в то время, когда убитый лежал на тропе? И не могла ли та же рука, которая все это делала неизвестно зачем, – вынуть также и внутренности из убитого в первые дни или даже в длинный промежуток времени между нахождением трупа (когда никто еще не знал, что у него нет сердца и легких) – и вскрытием, которое сделано через месяц?
Зачем это могло бы быть сделано? – спросит, конечно, читатель.
Здесь я старался лишь показать, что в деле и ныне осталось недоказанным самое существование у вотяков человеческих жертвоприношений. В другом месте и на основании других данных, в настоящей статье не затронутых, я буду доказывать, что это могло быть сделано с целью симуляции жертвоприношения, которая и достигнута тем, что все дознание, следствие и самый суд направлены по ложному следу.
А в результате – опасность страшной и уже окончательной судебной ошибки.
1895
К отчету о мултанском жертвоприношении
Два раза в гор. Малмыже и в последнее время (1 октября) в гор. Елабуге, в заседаниях отделения сарапульского окружного суда выносится обвинительный приговор мултанским вотякам, обвиняемым в приношении языческим богам человеческой жертвы. Если таким образом в данном случае истина является результатом судоговорения, то мы должны признать следующее. До настоящего времени, то есть до начала XX столетия христианской эры, наше отечество одно только сохранило на европейском континенте человеческое жертвоприношение, соединенное с каннибализмом (принятие внутрь крови жертвы). Каждые сорок лет, в разных местах, в шалашах, в середине или на задах вотских селений, ограниченным числом лиц, исповедующих христианскую веру греко-российского вероисповедания, убивается, после продолжительных мучений, человек, из которого вынимаются сердце и легкие, отрезается голова, а труп, по возможности, с полным удостоверением его личности и особенно вероисповедания, выносится на дорогу, где его могут заметить и предать земле непременно по христианскому обряду. Мы должны допустить все это, иначе мултанское убийство остается необъяснимым, загадочным, а приговор – неправедным осуждением невинных людей. Мы должны допустить это, хотя при этом допущении оказывается, что приблизительно через каждые сорок лет, и особенно после каких-нибудь болезней, дороги вятского края должны быть усеяны обезглавленными трупами жертв, с опустошенной грудной полостью и страшными следами каннибализма. Правда, исследователи вотского быта не могут указать ничего подобного, а в уголовной хронике подобную находку мы встречаем еще первый раз. Правда, представителю ученой экспертизы, допускавшему на суде возможность жертвоприношения, приходилось ссылаться не на факты, а на сказки и притом не вотского, а черемисского народа, который в каннибализме никем не обвинялся. Все это правда, но мы обязуемся допустить все это, как факт, иначе придется признать, что судом два раза осуждены совершенно невинные!
В частности по отношению к этому делу нам придется мириться с еще более трудными допущениями. Село Мултан со всех сторон окружено русскими деревнями и является как бы островом среди чисто русского населения. Дома села Мултана, в свою очередь, окружают сельский храм, невдалеке от которого расположена вот уж около тридцати лет действующая церковно-приходская школа. И нам приходится, однако, допустить, что в полуторах десятках саженей от церкви и школы, в ночь с 4 на 5 мая 1892 года, в шалаше вотяка Моисея Дмитриева висел подвешенный за ноги человек, которого тыкали ножами, источая из него кровь (для принятия внутрь, как намекает обвинение?). И в этом принял якобы участие солдат Тимофей Гаврилов, три года служивший в крепостной артиллерии в Динабурге[79], и Вас. Кузнецов, церковный староста мултанского православного храма? И это было в ту самую ночь, когда, опять в нескольких саженях от места этого каннибальского жертвоприношения, ночевал в Мултане становой пристав Тимофеев. И затем труп, обернутый пологом, вывезен из села вслед за выехавшим приставом, в девять часов утра, то есть среди белого дня, в мае месяце, то есть в разгар полевых работ, провезен, опять-таки днем, среди работающего народа, по землям русских крестьян и положен на пешеходную тропу, без головы, но с клоком волос в грязи, с посохом, с крестом, с удостоверением личности. При этом его должны были, опять рискуя встретить кого-нибудь среди белого дня, нести на руках на расстоянии около полуверсты до места, где его увидела спустя полчаса после этого проходившая мимо крестьянская девочка!
Мы должны допустить все это, иначе опять-таки придется признать, что два раза судом постановляется неправедный приговор и что второй уже раз осуждаются в каторжные работы невинные.
Я сейчас только вернулся из Елабуги, где происходило судебное разбирательство. После суда я посетил Мултан, был на мрачной тропе, где нашли обезглавленный труп Матюнина, сделал снимки тех мест, где совершилась таинственная и мрачная драма, входил в шалаш умершего Моисея Дмитриева, где будто бы Матюнин висел на перекладине и где из него источали кровь; я ходил по изрытому полу шалаша, где искали (напрасно) следов его крови, и на полке, в углу шалаша отыскал запыленный образок Николая Святителя, который, если верить обвинению, глядел с своего места на каннибальский обряд. Я еще весь охвачен впечатлением ужасной, таинственной, неразъяснимой драмы, я привез с собой (разделяемое, надеюсь, всеми присутствовавшими на суде интеллигентными зрителями) тяжелое чувство, с каким был выслушан обвинительный приговор, – и мне хочется крикнуть: нет, этого не было! Нет, наше отечество свободно от каннибализма накануне XX века, нет, рядом с христианскими храмами не совершаются уже человеческие жертвоприношения!..
Но я понимаю, что истерическими криками тут не поможешь, поэтому предлагаю вниманию читателей прежде всего сухой материал для суждения об этом деле. Как известно, первый приговор по этому делу кассирован сенатом. Кассационная жалоба, поданная защитником, основывалась на чрезвычайно веских мотивах. Читая эту жалобу, изумляешься невероятно легкому отношению, которое сарапульские судебные власти проявили к этому делу. На убийство с целью жертвоприношения посмотрели, как на самое заурядное убийство. Труп дожидался вскрытия в течение целого месяца! Акт вскрытия составлен самым удивительным образом. Так, например, одна из важнейших примет преступления – пятна на теле убитого, которые, по мнению обвинения, произошли от прижизненных уколов ножами, – описаны так: «По соскабливании кожицы обнаружено, что пятна проникают на 1 линию в толщу кожи». Число их определяется от трех до десяти. И этот акт не возвращен руководившим следствием товарищем прокурора для дополнения, хотя бы только для счета колотых ран, нанесенных жертве, может быть, с целью принятия внутрь ее крови! И на этих пятнах, на которых уже после смерти Матюнина наросла «верхняя кожица», обвинение настаивает до конца, как на доказательствах прижизненного мучения обескровленной жертвы (несмотря на то, что сам врач, производивший вскрытие, горячо протестовал против такого объяснения). Становой пристав сам должен был признать на суде, что понятые-вотяки приносили ему вещественные доказательства, в виде щепок с подозрительными пятнами, найденные невдалеке от места нахождения трупа. Но он уничтожил эти вещественные доказательства, признав их не имеющими значения, и об этом не упомянул в протоколе!.. Подсудимые-вотяки, не знающие тонкостей судопроизводства, были лишены возможности вызвать свидетелей. К защитнику они обратились лишь за десять дней до суда, и защите пришлось довольствоваться свидетелями, забракованными обвинительною властью. Между тем само обвинение загромоздило судебное следствие показаниями о слухах, неизвестно откуда исходящих. Это были даже не просто слухи, а слухи о слухах. Сенат привел это прямое нарушение закона, как мотив отмены первого приговора. Но что же? Слухи о слухах остались в обвинительном акте, и на этом основании товарищ прокурора воспроизвел в своей речи, например, показание свидетеля Львовского, который слышал данное обстоятельство от неизвестного ему вотяка, имени, отчества и места жительства которого не помнит. Но и этот таинственный вотяк рассказывал свидетелю не как очевидец, а тоже по слухам, которые донеслись неведомо как с чужой для него Учурской и Уваткулинской стороны, где будто бы есть обычай человеческих жертвоприношений. И на этом-то сведении основано, между прочим, объяснение одного из важнейших обстоятельств дела – появление обезглавленного трупа на дороге.
Можно было ожидать, что после первой кассации приговора сарапульский окружной суд поймет, что перед ним дело, в правильном исходе которого заинтересовано не одно обвинительное или защитительное честолюбие, но вся Россия! Что приговор по этому делу будет приговором не над обвиняемыми только вотяками, но и над школой с. Мултана, и над священником, сорок лет уже проповедующим в этом храме (в вызове которого защите отказано), и над всей нашей культурной миссией среди инородцев! Но сарапульский суд не так взглянул на дело. Вместо того, чтобы дать защите возможность сказать все, что она может сказать, просьбу защиты о вызове новых свидетелей рассматривает в распорядительном заседании тот же состав, который участвовал в приговоре, отмененном сенатом; заключение дает тот же тов. прокурора г. Раевский, и в вызове свидетелей защите отказано! И не только новых свидетелей, но и оправданных подсудимых, которых защита имеет право вызвать по закону[80]. Из двух экспертов-этнографов, высказывавшихся по этому предмету в печати, суд вызывает проф. Смирнова и отказывает защите в вызове г. Богаевского, который держится противоположных мнений. Из двух священников села Мултана вызван о. Ергин, живущий в Мултане два года, а не другой священник, который сорок лет провел среди своей паствы!
Впрочем, я опять отвлекаюсь от прямой задачи этой заметки, которая должна служить вступлением к сухому отчету о мултанском деле, – отчету, для которого «Русские ведомости» с нынешнего дня открывают свои страницы. История этого отчета следующая. По приглашению моих товарищей, работающих в провинциальной печати и хорошо знакомых с бытовой подкладкой этого дела, я приехал в Елабугу, намереваясь впоследствии изложить в печати свои впечатления. Здесь я застал еще двух корреспондентов: А. Н. Баранова и В. И. Суходоева. Вскоре же после начала заседания мы пришли к заключению, что отрывочных заметок недостаточно, что «впечатления» играют лишь второстепенную роль, что лучшая услуга, какую пресса может оказать в этом деле, это – дать по возможности полное и точное изображение хотя бы одной стадии этого таинственного, запутанного и радикально испорченного предварительным следствием дела. А так как стенографа не было, то мы решили записывать втроем все, что происходит на суде, по возможности не пропуская ни одной фразы. Одному это было бы, конечно, не под силу, – втроем мы это исполнили. Неизбежные пропуски у каждого дополнены по записям двух других, и таким образом явился отчет, близкий к стенографическому. В течение трех дней после суда мы сверяли фразу за фразой все судебное следствие – и теперь ручаемся за полную точность отчета.
В другом месте, в более полном виде я сообщу свои личные впечатления, вынесенные из суда и с места таинственной драмы. Здесь же, внося свою посильную лепту для освещения фактической стороны этого темного дела, мы, составители отчета, обращаемся за помощью ко всей русской прессе. Пусть юристы оценят вероятность улик, пусть врачи и этнографы разберут изумительную экспертизу, послужившую к обвинению вотяков в каннибализме. Наконец мы не знаем, что нужно сделать с формально юридической точки зрения, – но мы всеми силами души взываем к расследованию этого дела от начала и до конца! Еще недавно отделение казанской судебной палаты в гор. Вятке постановило обвинительный приговор, которым установлено, что полицейские служители слободской команды производили тяжкие истязания над арестованным татарином. Это происходило в той же Вятской губернии. Местная пресса с чрезвычайным сочувствием следит за борьбой, которую теперешнему вятскому губернатору г. Трепову приходится вести с нравами, долгие годы укоренявшимися в среде вятской полиции, имеющей дело с инородческим населением. Если не ошибаюсь, упомянутый судебный приговор есть лишь один из эпизодов этой борьбы. Между тем не только обвиняемые по этому делу, но и один из главных свидетелей обвинения два раза повторяли на суде, что показания у них вынуждались самыми незаконными средствами. Об этом даже председатель суда счел нужным сказать в своем заключении, отмечая, что главный свидетель обвинения мотивировал этим свой отказ от вынужденных показаний. И замечательно, что подробности, приводимые вотяками, довольно точно совпадают с приемами, за которые осуждены слободские полицейские[81]. Итак, это уж не слухи, неизвестно откуда исходящие, а серьезное обстоятельство, требующее самой тщательной проверки и бросающее особенный свет на материал, выдвинутый обвинением. Я знаю, что это подозрение очень тяжело и очень серьезно. Но и обвинение, которое теперь пало на всех вотяков и на все русское общество, тоже очень тяжело и очень серьезно, и мы можем, мы обязаны смиренно принять его лишь после того, как это будет всесторонне доказано.
Расследование, расследование! Пусть будут проверены все материалы этого дела, все способы, какими они собирались, пусть будут выслушаны до конца эти несчастные вотяки, которые фактически лишены были до сих пор свободы защиты против самого тяжелого из обвинений, какое только человек может предъявить против своего ближнего, пусть будут проверены их ссылки на то, что главные свидетели против них купили своими показаниями безнаказанность в уголовных деяниях, с одной стороны, и вынуждались к показаниям незаконными приемами – с другой. Если бы после всего этого оказалось, что они говорили неправду, что у них нет свидетелей, способных доказать их правоту, что они только клевещут на свидетелей обвинения и на полицию… тогда, но только тогда, новый приговор суда можно было бы считать окончательным. Только тогда истину в мрачном мултанском деле можно было бы счесть разысканной в вердикте присяжных. Только тогда обвиняемые понесли бы должную кару, и в летописи русского государства можно было бы занести тяжелую страницу. Только тогда можно будет признать, что на европейском континенте наше отечество донесло неприкосновенным обычай каннибальских жертвоприношений до конца XIX века и что в России еще теперь у стен христианских храмов возможно принесение людей в жертву языческим божествам.
Света, как можно больше света на это темное дело, иначе навсегда над ним нависнет страшное сомнение в том, где искать истинных жертв человеческого жертвоприношения! Матюнин ли это, погибший таинственной и загадочной смертью, или это сами несчастные мултанцы являются жертвами следственных порядков, черты которых так ясно проступают в этом выдающемся деле.
Нижний-Новгород.
11 октября 1895 года.
Приносятся ли вотяками человеские жертвы?
М. г. В иллюстрированном приложении к № 7146 «Нового Времени» помещена заметка г. Дьяконова, пытающегося ответить положительно на поставленный выше вопрос. Она не дает ничего нового: что вотяки приносят еще до сих пор в жертву животных – этот печальный факт общеизвестен и только повторен многократно и в печатных отчетах по мултанскому делу, и в многочисленных корреспонденциях. Вопрос состоит лишь в том, можно ли сказать, что «от бычка недалеко и до человека», как говорил обвинитель в Малмыже и как, по-видимому, думает г. Дьяконов. Я полагаю, что для такого заключения нужны какие-нибудь данные, более точные и достоверные, чем «слухи, неизвестно откуда исходящие» (ибо слухи есть также о ведьмах, русалках и присухе), и установленные более беспристрастно, чем данные суда, дважды отменяемого сенатом. Жертвоприношение Исаака символически отмечает собою конец человеческой жертвы в Ветхом Завете, – но еще при рождении Христа приносили в храме двух голубей или козленка для кровной жертвы. А между этими двумя фактами легли тысячелетия, в течение которых кровная жертва существовала без жертвы человеческой. Между тем память о последней, как видите, сохранилась в виде символа, который мы заучиваем в школах.
Странно поэтому читать «ученые соображения» г. Дьяконова, глубокомысленно приводящего пример, как няня вполне просвещенных супругов забавляет их юное детище напеванием: «Ладо-ладошки, где были? У бабушки. Что ели? Кашку…» А кто из самых образованных людей, – продолжает г. Дьяконов, – не едал оладьев – этих вкусных штучек, но ведь и песня няни, и оладьи певались и говорились в глубокую старину в честь языческого бога «Ладо». Из этого явствует, что и у вотяка должны быть переживания. Конечно! И они указаны с несомненностью в виде кровной жертвы. Нужно доказать только, что есть переживания и жертвы человеческой, а уж этого-то никакими оладьями доказать невозможно.
Если бы г. Дьяконов, ограничился помещением рисунков вотского мольбища и легенд об его происхождении, то его можно бы только поблагодарить, хотя он и не дал бы ничего нового для решения вопроса. Если бы он прибавил к рисункам только «ученую» справку об оладьях, – тогда можно бы, пожалуй, улыбнуться и пройти мимо. Но г. Дьяконов этим всем не ограничился: он пытается подкрепить мнение о виновности мултанцев справками из печатного отчета, – и вот это-то заставило меня взяться за перо, чтобы показать, какие «сплетни» распространяют по этому поводу люди, дерзающие порой с невежественным легкомыслием проникать с ними в прессу.
«Утверждать, что Матюнин убит не вотяками, а кем-то другим, – пишет г. Дьяконов, – конечно, можно, и это волен делать всякий. Но кем же?.. Где голова убитого? Где его внутренние органы, вынутые через шейный отрез? Ради какой цели на груди трупа оказался ряд симметрических уколов? Наконец, почему труп оказался обескровленным, чистеньким таким, вымытым, одетым и обутым во все новое?» Редакция, напечатавшая статью г. Дьяконова, позволяющего себе обвинять меня в искажениях отчета и в сознательной лжи, – вероятно, удивится, когда я скажу, что ничего подобного в моем отчете нет и что г. Дьяконов выдумал все, мною приведенное в цитате. Никаких симметрических уколов на груди трупа не было. Было «до десяти буроватых пятен на животе», вовсе не симметричных, которые все врачи (и вскрывавший, и эксперты) признали не следами уколов. Да и мудрено было бы признать уколами пятна, с которых врачу пришлось соскабливать «верхнюю кожицу» (см. протокол вскрытия в отчете), так как всем известно, что на трупах уколы заживать не могут. Откуда г. Дьяконов взял свой «симметрический ряд уколов» – я объяснять не берусь. Такой же выдумкой является и другое утверждение г. Дьяконова, будто труп оказался чистеньким, вымытым, обутым и одетым во все новое. Если бы г. Дьяконов потрудился хотя бы один раз заглянуть в отчет о деле, хотя бы только в один обвинительный акт, он убедился бы, что ни о чем подобном не было и речи. Совершенно наоборот: труп был одет во все старое и сильно поношенное: в старую синепестрядинную рубаху и штаны и в старый азям с заплатой. Рубаху Матюнина свидетельница Шушакова узнала на суде по прорехе, азям узнали по синей заплате, в общем же все свидетели только и признавали убитого по одежде, которую видели на нем раньше! Что касается обескровления, то от него отказался на суде сам врач, производивший вскрытие, а эксперт, г. Крылов, допускавший его, вынужден был признать, что это «прижизненное» обескровление могло произойти лишь после отнятия головы «одним ровным, гладким, круговым обрезом».
Надеюсь, после всего сказанного я мог бы оставить совершенно без ответа обвинения в искажении отчета, исходящие от человека, который позволяет себе такое обращение с «печатным материалом». Только важность вопроса, связанного с судьбой живых людей, заставляет меня говорить на эту тему. «Один из моих знакомых, – пишет г. Дьяконов, – бывший в суде, в качестве присяжного, хотя и не участвовавшего в деле, говорил мне, что процесс изложен с большими неточностями. По этому изложению решительно невозможно сделать правильного заключения ни о показаниях врачей-экспертов, ни об образцовой речи прокурора, которая совершенно изуродована. Затем, после произнесения приговора, слов „коди кабак, кристос“ и т. п. ни один вотяк не говорил, хотя лицо, передавшее мне это, сидело очень близко к скамейкам подсудимых».
На этом основании г. Дьяконов считает возможным обвинить меня в «прибавлениях для красоты слога». Я работаю в печати уже более десяти лет и еще ни разу никто не позволял себе заподозревать мою литературную честность. Редко я видел также, чтобы это делалось с таким поразительным легкомыслием, как это сделано в данном случае. Я не знаю, конечно, насколько грамотен присяжный, передававший г. Дьяконову свои впечатления. Но он-то, сам г. Дьяконов, берущийся за перо для печати, обязан был хотя бы прочитать то, за что кидает обвинения. А если бы он прочитал все это, то увидел бы, что фразы «коди кабак и пр.» нет в отчете; она помещена в моей статье в «Русском Богатстве», и притом не тотчас «после произнесения приговора», а в длинном промежутке между вердиктом присяжных и приговором суда. В моей статье сказано между прочим, что в это время большая часть публики уже удалилась, присяжные, истомленные трехдневным процессом, ушли еще ранее, – и таким образом то обстоятельство, что знакомый г. Дьяконова не слышал эту фразу, еще никоим образом не доказывает, что ее не могли слышать другие.
Надеюсь, на этом я могу покончить с г. Дьяконовым. «Среди обитателей вятского края, – пишет он, между прочим, – существует прочное убеждение в несомненности факта (человеческих жертвоприношений). На чем же оно основано? Неужели только на сплетнях и неосновательных слухах?» Да, именно на сплетнях и неосновательных слухах, лучший образчик которых и дает статья г. Дьяконова. Если человек, пишущий для печати, на основании печатного материала, так легкомысленно вносит в статью несуществующие факты и совершенно выдуманные улики, то чего же мы должны ждать от устной молвы, смутной, невежественной и неопределенной. И не ясно ли, что первая задача суда была оградить присяжных от этих слухов, первая задача печати – внести в эту тучу слухов освещение, точность и критику.
Раз уже зашла речь об искажениях, – я попрошу еще позволения сказать несколько слов по поводу «образцовой речи» и не менее образцовой работы г. обвинителя по мултанскому делу, сказавшейся в обвинительном акте. И то, что я скажу, не будет голословным, подобно обвинениям г. Дьяконова.
В отчете речь г. Раевского мною передана в сокращении, о чем сделана и оговорка. Восстановляя ее для отдельного издания в целом виде, я наткнулся в своей записи на одно место, которое повергло меня в большое смущение. Перечисляя улики, относящиеся до каждого из подсудимых, г. обвинитель сослался на очень важное показание каторжника Голова, которому умерший вотяк Моисей Дмитриев сознавался будто бы в том, что убили нищего вотяки, и назвал при этом участников. Это показание, вообще довольно сомнительное, служит уликой против трех подсудимых: Дмитрия Степанова, Кузьмы Семенова и Василия Кузнецова. Г-н обвинитель в своей речи к этим именам прибавил четвертое – Василья Кондратьева, относительно которого остальные улики были совершенно ничтожны. Хотя я и не могу поспорить с г. Раевским в знании мултанского дела, однако все же знаю его настолько, чтобы припомнить, что в показании Голова имя Василия Кондратьева упомянуто не было. Поэтому, дойдя до этого места обвинительной речи, я усомнился в правильности своей записи, – до такой степени казался мне невероятным факт подобного обращения со следственным материалом. А так как я знал, что будет очень много охотников оспаривать правильность нашего отчета, то уже занес карандаш, чтобы сделать оговорку и покаяться в этой непонятной для меня ошибке в черновых записях моих и моих товарищей. К счастью, мне пришла в голову мысль предварительно заглянуть в обвинительный акт. Представьте же себе мое изумление, когда и здесь я прочитал следующее: «Относительно участников, Моисей Дмитриев называл только себя и Дмитрия Степанова, затем, тогда в тюремный замок были заключены Василий Кондратьев (!) и Василий Кузьмин Кузнецов, высказался, что первый из них участвовал в убийстве, а второй стоял на карауле». Между тем, в показании Голова говорилось о «Кузьме Самсонове и Василье Кузнецове». Таким образом, г. обвинитель совершенно произвольно заменил имя Кузьмы Самсонова, относительно которого были все-таки и другие улики, именем Василия Кондратьева, против которого улики гораздо слабее. Кажется, комментарии к этому факту излишни. Следует разве прибавить, что это не единственная «ошибка» обвинения по мултанскому делу. В том же показании Голова есть место, где говорится: «Моисей не сказал мне, в чей шалаш» (завели нищего), и это место в обвинительном акте цитируется так: «Моисей передавал, что убийство совершено в собственном шалаше». Или еще: «По исследованию, в корыте оказались волосы, сходные с волосами людей». Это якобы цитата отзыва, который в подлиннике однако заканчивается так: «…но отличаются от них большим развитием клеточных элементов кожицы. Такие волосы встречаются у домашних животных».
Если сказать, что это еще далеко не все «ошибки» обвинения по отношению к письменному материалу следствия, хотя, конечно, все остальное меркнет перед эпизодом с злополучным Василием Кондратьевым, то станет совершенно понятно, что речь, основанная на таких приемах, может произвести минутное, даже очень сильное впечатление, если сказать это все бойко и с одушевлением. Но то же самое, на холодном печатном листе, да еще снабженное комментариями, неминуемо производит совершенно обратное впечатление. Таково уже основное свойство прессы, и в этом, смею думать, ее лучшая сторона в подобных случаях.
Я кончил это письмо, когда с почты мне принесли нумер «Вятского Края», в котором, «из источника, заслуживающего доверия», сообщается, что будто мултанское дело будет слушаться в будущем феврале месяце, но не в Казани, а в г. Мамадыше, во время сессии казанского окружного суда. Трудно поверить этому известию, так как это значило бы, что все усилия вывести процесс из сферы влияния «местных толков и слухов» и привлечь к суждению о нем людей интеллигентных, – что было бы возможно в Казани, – остаются тщетными. А мы видели (хотя бы и на заметке г. Дьяконова), как эти «толки и сплетни» влияют на суждения о деле, заставляя даже людей, пишущих для прессы, читать в печатном материале совсем не то, что в нем написано.
Будем надеяться, что хоть на этот раз дело предстанет на суде в том виде, какой единственно достоин просвещенного суда в конце XIX века. Что хоть на этот раз не останется в нем ни тени тех порядков, которые заставили сенат два раза отменять решение присяжных. Вспомним, что опасность этого дела двустороння, что, кроме тьмы язычества, есть и тьма других предрассудков, что «слухами, неизвестно откуда исходящими», полны инквизиционные хроники средних веков, когда тоже жгли язычников и иноверцев за колдовство и чары, когда в атмосфере темных предрассудков бродили мрачные призраки. Разве тогда не было стариков Иванцовых (96 лет!), видевших своими глазами, как ведьмы летают в ступах на Брокен! Да, были и тогда очевидцы невероятного, как и теперь:
Это видели два стража,
Баба, шедшая на рынок,
Да причетник кафедральный,
Возвращавшийся с поминок.
СПБ,
20 января 1896 г.
Решение сената по мултанскому делу
Читателям «Русского богатства» известна сущность мултанского дела, получившего громкую огласку. Несколько вотяков Малмыжского уезда обвинялись в принесении человеческой жертвы языческим божествам; активное участие в самом убийстве приписывалось десяти подсудимым; в пассивном участии, укрывательстве и содействии обвинялось население целой местности, в интересах которой и для удовлетворения общего культа, существующего будто бы у всей вотской народности, принесена самая жертва.
Дознание и предварительное следствие тянулось 29 месяцев. Зимой 1894 года десять вотяков были преданы суду сарапульского округа в гор. Малмыже, причем трое оправданы, а семи вынесен обвинительный приговор, отмененный сенатом по жалобе защиты. Мотивом кассации послужили существенные нарушения судопроизводства и признанная неравноправность сторон, допущенная судом. Первый отчет по этому делу, напечатанный, к сожалению, в малораспространенном «Казанском телеграфе», – нарисовал поразительную картину произвола и нарушения самых элементарных начал правильного судебного процесса. Несмотря, однако, на эту поправку, внесенную сенатом, признавшим чрезвычайную неполноту и односторонность следственного материала, – что обязывало суд восстановить по возможности нарушенные права защиты, – дело поступило для вторичного разбирательства (в Елабуге) в том же, совершенно не исправленном и не восстановленном виде. Чрезвычайно характерна для прочно установившихся судебных приемов в этой отдаленной местности та крайняя беззаботность, с которой члены сарапульского суда отнеслись к напоминанию об элементарных началах юридической справедливости, исходившему от высшей судебной инстанции. Очевидно, сарапульский окружной суд посмотрел на кассацию лишь как на случайность, как на одну проигранную ставку в обвинительной игре, которую можно начать сначала при тех же условиях. Распорядительное заседание, подготовлявшее материал для нового суда над вотяками, происходило при участии прежнего председателя г. Горицкого, и опять все просьбы защиты о вызове свидетелей со стороны вотяков были отвергнуты огулом, по соображениям частию слишком формальным, частию даже, как это признано сенатом, – совершенно незаконным. 29 сентября 1895 года в гор. Елабуге семь вотяков опять предстали перед судом присяжных, и опять против них выступили два полицейских пристава, три урядника, старшина, несколько старост и сотских, вообще тридцать семь свидетелей, в числе которых не было опять ни одного, вызванного по специальному требованию защиты. Словом, суд в Елабуге лишь в несколько смягченном виде повторил суд в Малмыже, причем вниманию двенадцати присяжных был предложен все тот же односторонне обвинительный материал, все те же слухи, неизвестно откуда исходящие, все те же вотяки, невежественные и беззащитные. Виноваты ли присяжные, что на основании одностороннего материала вынесли приговор, который опять не может быть признан окончательным?
Защитником была подана новая кассационная жалоба: 22 декабря истекшего года жалоба эта рассмотрена кассационным департаментом сената, и вскоре же телеграммы разнесли весть о новой отмене приговора по мултанскому делу. Уже вторичная отмена сенатом судебного вердикта представляет явление очень редкое в нашей практике. Но в данном случае то, что стало известно из газет о мотивах кассации, вскрывает попутно такую яркую бытовую картину, которая и сама по себе добавляет не последнюю черту в этом вообще необыкновенно характерном деле. Невольно рождается вопрос: что же это, наконец, за атмосфера в этих инородческих отдаленных окраинах, что это за ужасная атмосфера, в которой даже представители суда доходят до таких удивительных приемов, до таких совершенно неожиданных взглядов на самые основы суда и состязательного процесса?
Привожу из газет («Русские ведомости») содержание этого нового сенатского Quos-ego[82] по адресу сарапульского окружного суда. Заключение по жалобе защиты давал А. Ф. Кони, который охарактеризовал настоящее дело одной существенной и главной его чертой: «Судебным расследованием устанавливается здесь не одна лишь виновность тех или иных определенных лиц, фигурирующих в качестве подсудимых, а констатируется известное бытовое явление, произносится суд над целой народностью или целым общественным слоем и создается прецедент, могущий иметь на будущее время значение судебного закрепления виновности той или иной группы населения. Результатом деятельности суда в таких случаях является не только res judicata[83], но историческое свидетельство за или против той или иной морально-бытовой оценки данного уровня культуры – в целой народности или в отдельных ее классах; вот почему пределы исследования должны здесь раздвинуться, раздаться возможно шире, чтобы приблизиться по всесторонности, полноте и беспристрастию к исследованию научному. Основания приговора, из которого вытекает, что теперь, на пороге XX столетия, существуют человеческие жертвоприношения среди народа, который более трех веков живет в пределах и под цивилизующим воздействием христианского государства, должны быть подвергнуты гораздо более строгому испытанию, чем те мотивы и данные, по которым выносится обвинение в заурядном убийстве. Между тем, в течение производства суд не однажды погрешил против указанной основной особенности дела, несмотря на то, что эта особенность была рельефно подчеркнута в назидание суду в первом определении сената по делу, коим был кассирован первый обвинительный приговор».
Эти совершенно ясные слова уважаемого судебного деятеля не могут, конечно, подать повода ни к каким недоразумениям. Суд обязан во всех случаях, важных и неважных одинаково, дать сторонам все средства для выяснения дела, и требование беспристрастия, разумеется, нимало не ослабляется тем соображением, что суду подлежит решение одинокой судьбы никому не известного человека. Бывают, однако, случаи, которые в практике всех судов признаются особо важными, когда, кроме пассивного беспристрастия к усилиям сторон, суд должен сделать и с своей стороны все возможное для выяснения не одного лишь вопроса о виновности или невиновности данных лиц, но также и о бытовой подкладке данного дела, имеющей порой очень глубокое государственное и общественное значение. Таково именно мултанское дело, и если бы простая истина, высказанная А. Ф. Кони, не была игнорирована сарапульским судом с самого начала, то и это дело было бы признано делом «особой важности» и тогда, без сомнения, научно-этнографические вопросы, возникшие по этому поводу, решались бы не при помощи одних лишь Кобылиных, урядников Соковиковых и «неизвестных нищих», рассказывающих сказки на ночлегах, – не говоря уже о том, что труп Матюнина не лежал бы до вскрытия в течение месяца (в майские – июньские дни), и следователь не выжидал бы по четыре месяца прежде, чем послать то или другое «кровяное пятно» для химического исследования.
Между тем, по словам А. Ф. Кони, – «главный грех производства по настоящему делу состоит в забвении судом его основной черты – его широкого бытового значения – ив разнообразных помехах, которые ставились поэтому его всестороннему исследованию и освещению. Суд, даже в тех случаях, когда он действует в пределах дискреционной власти, не может избрать девизом своей деятельности: sic volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas[84], и отношения его к сторонам и их ходатайствам не могут определяться произволом или капризом
Ходатайство о вызове новых свидетелей может быть отклонено судом – это его право, но подобный отказ должен быть мотивирован обстоятельным разбором относимости к делу и важности обстоятельств, для подтверждения коих сторона ссылается на свидетелей, а не одним лишь формальным очистительным заявлением о том, что суд считает уместным эти обстоятельства игнорировать. Но так именно поступил в данном случае суд в ответ на просьбу подсудимых о вызове на их счет новых свидетелей, заявленную одновременно с просьбой о вызове новых экспертов. Или – далее – суд отказывает в вызове в качестве свидетелей тех из подсудимых, кои были оправданы первым приговором, приводя в объяснение то, что обязательный вызов таких свидетелей не установлен никаким „основным законом“. Если основные законы Российской империи и могут иметь отношение к разрешению указанного частного процессуального вопроса, то уместнее всего окажется тот основной закон, который запрещает судам „обманчивое непостоянство и самопроизвольные толкования“. Ибо если не в основных законах, то в уставе уголовного судопроизводства ясно определено понятие свидетеля по делу: это – лицо, которое призывается показать перед судом все, что оно видело, слышало и знает по делу. Если лица, привлеченные к Делу, два года продержанные в предварительном заключении, преданные суду и посаженные на скамью подсудимых, должны a priori[85] считаться ничего не видевшими, не слышавшими и не ведающими относительно события, в котором они играли главную роль, то после этого свидетелей, в легальном смысле этого термина, не существует вовсе. Или суд отклоняет ходатайство защитника об отсрочке заседания ввиду вызова обвинительной властью новых свидетелей и предъявления новых улик, – ссылаясь на соответствующее право прокуратуры, не подлежащее, будто бы, никакой поверке суда, а также на то, что защита имела возможность повторить свое ходатайство в тот момент производства, когда новые свидетели и новые улики вступили в его течение и заняли в нем определенное место. Но суд ошибается: защита не исполнила бы своего долга, если б упустила заявить просьбу об отсрочке заседания при первом появлении в деле новых и неожиданных для нее фактов и лиц, а предлагаемое ей судом повторение ходатайства – в тот момент, когда оно оказывалось запоздалым и не подлежащим удовлетворению, – равносильно приглашению к совершению акта ничтожного и незаконного. Или, наконец, суд удерживает защитника от допроса свидетеля, станового пристава Шмелева, о его оригинальных действиях по производству вторичного полицейского дознания, находя, что свидетель не обязан отвечать на вопросы, могущие привести к уличению его в преступлениях по должности. Но деятельность пристава Шмелева по производству дознания есть деятельность должностная, публичная, и квалификация ее в качестве преступной или непреступной принадлежит не самому должностному лицу, а его начальству. Поэтому суд не вправе был устранить вопросы о грубых, жестоких или самоуправных действиях, доставивших канву для всего последующего производства, на том только основании, что разоблачение этой грубости, жестокости или самоуправства может открыть и состав какого-нибудь уголовного деяния».
Признав правильность соображений, приведенных обер-прокурором, кассационный департамент постановил вторичный приговор по мултанскому делу отменить и, кроме того, членам суда, принимавшим участие в двух распорядительных заседаниях по этому делу, – сделать замечание.
Таков этот новый эпизод мултанского процесса. Картина, однако, будет неполна, если мы не приведем еще одной замечательной черточки, совершенно неожиданно украсившей собою это характерное дело. Из той же речи г. обер-прокурора мы узнаем, что кассационная жалоба защитника прибыла в сенат в сопровождении целого ряда «объяснений», присланных как судом в полном составе, так и отдельными членами. Между прочим, один из товарищей председателя вятского окружного суда в отдельном объяснении излагает свой взгляд на дело, вынесенный им из разбирательства по существу, – взгляд, безусловно неблагоприятный для подсудимых, – и вместе с тем делится с сенатом драгоценными сведениями о том, что кассационное обжалование есть затея не обвиненных, людей темных, готовых, дескать, покориться своей участи, а их защитника и нескольких «газетных корреспондентов», и не менее драгоценной догадкой, что если названный защитник и корреспонденты добьются кассационной отмены приговора, то они впоследствии добьются и оправдания подсудимых, вырвут оправдательный приговор и у присяжных заседателей. Обер-прокурор счел своей обязанностью отметить и осудить это стремление насильно вовлечь сенат в «существо дела», то есть в тину провинциальной сплетни, как не соответствующее «ни достоинству писавшего, ни высоте того места, куда он обращался».
Иронический эпитет, употребленный А. Ф. Кони по отношению к этой новой неожиданности, мне лично кажется применимым в самом прямом, самом серьезном смысле Разве не «драгоценна» в самом деле эта удивительная, вполне непосредственная доверчивость, с которой «председательствовавший» в судебном заседании обращается в высшую инстанцию, делясь с ней, так сказать, на ушко, – не только своими личными выводами, но и провинциальными сплетнями? Разве не драгоценна эта похвала смиренным людям, которые, вследствие темноты, подчинились бы своей участи и пошли бы на каторгу, не беспокоя ни сарапульских судей, ни сенат своими, как оказывается, совершенно основательными жалобами? Разве не столь же драгоценна простодушная откровенность, с которой усилия защиты, основанные на таких вопиющих нарушениях, приравниваются к интриге? Что еще писал господин председательствовавший член суда в своем «отзыве», мы не знаем, – но сказанного достаточно. Ведь это пишет не урядник Соковиков, не пристав Шмелев и даже не товарищ прокурора г. Раевский, руководивший этим «блестящим» дознанием и следствием, – это пишет опытный юрист, давно «работающий на судебном поприще». Да, эта черта драгоценна, и именно тем, что дорисовывает картину этого яркого, полного неожиданностями дела. Если так говорят члены суда, обращаясь в высшую инстанцию, если даже в этом случае «опытные юристы», привыкшие к порядкам данной окраины, доходят до такого забвения основных начал своей деятельности, – то как они рассуждают, разговаривают, действуют у себя, «дома», имея дело действительно лишь с «темными людьми», не знающими, где искать защиты, не имеющими опоры ни в «интригах защитника», ни в гласности? Наконец, чего же после этого ждать от остальных, начиная с товарища прокурора г. Раевского (бывшего врача, начавшего лишь сравнительно недавно юридическую карьеру под просвещенным руководством господ сарапульских судей), до приставов и урядников… Мудрено ли, что даже «Вятские губернские ведомости», не обинуясь, признают, что «к раскрытию (мултанского) преступления полиция употребляла всевозможные меры, – не пренебрегла даже деревенским знахарством, в котором замечен какой-то медвежий культ» (см. «Вятские губ. вед.», № 91, 1895 года). «Весь уезд, – пишет корреспондент из Малмыжа, ссылаясь на эту выдержку из официального органа, – знает о деяниях господина Шмелева, только один г. Раевский составляет странное исключение, хотя, по словам самого пристава, он в то время был в Мултане с ним» («Нижегор. листок», № 351, 1895).
Вот на какие факты закрывают глаза судебные деятели, которым зато угодно делиться с сенатом провинциальными сплетнями о защите и корреспондентах. Всякому, кто следит за провинциальными известиями в газетах, не могло не кинуться в глаза обилие за последнее время сообщений об истязаниях при предварительном дознании. Дело Адамова среди латышей Псковской губернии приводило в ужас необыкновенным драматизмом, почти сказочным злодейством истязателей. Но в газетах Волжско-Камского края мы встречаемся с другим ужасом из этой же области. Нельзя сказать, чтобы чины слободской полиции, практиковавшие подвешивание и пытку, или яранский урядник Луппов, превративший заподозренного в краже Прохорова из здорового человека – «в совершенного калеку с костылями» («Вятский край», № 121) – во многом уступали псковскому Адамову. Есть, однако, дела не столь вопиющего драматизма, от которых поистине волос становится дыбом.
Таково, например, дело, изложенное в корреспонденции из Елабуги[86]. По содержанию оно необыкновенно просто. Крестьянин Чернышев из дер. Яковлева, Елабужского уезда, отправился в гости в дер. Новую Мурзиху, к крестьянину Фуженкову, на мельницу, арендуемую Денисовым. Дело было на святках, в праздник. Выпили и пошли с ряжеными по деревне, где зашли в дом к мельнику Денисову. Отсюда компания направилась дальше, а выпивший Чернышев от нее отстал и домой уже не являлся. Несколько крестьян видели перед вечером человека, шедшего без шапки и в расстегнутом полушубке по направлению к дер. Яковлевой. А так как к ночи поднялась метель, то решили, что Чернышев, вероятно, замерз пьяный в поле, и его занесло снегом.
Но елабужская полиция не могла успокоиться на этой гипотезе. Это совершенно понятно, как и то, что «хороший полицейский» почти всегда найдет виновного в Вятской губернии. Поэтому елабужский исправник Таширев отправился на место действия, арестовал мельника Денисова, засыпку Фуженкова, да еще соседа их Борисова и привез всех в Елабугу Здесь, в закрытом помещении, их подвергли соответственным «убеждениям», давшим блестящие результаты, – все трое сознались. Денисов признался в том, что это он убил Чернышева, случайно приняв его за вора. Фуженков же и Борисов подробнейшим образом описали, как они запрягли лошадь, увезли труп на реку Вятку, оставили лошадь на берегу, так как лед был тонок, несли труп на руках до полыньи, потом положили его на закраину, потом столкнули в воду длинною жердью. Вот видите, с какими подробностями раскрыто это преступление «путем убеждения» преступников в закрытом помещении при елабужской полиции! Правда, у следователя все трое отказались от этих признаний, утверждая, что сознание вынуждено у них побоями и истязаниями, причем будто бы у Борисова во время очной ставки был «полон рот крови». Но, говоря словами обвинителя вотяков г. Раевского, «какой же полицейский позволит себе что-либо подобное, какой же судебный деятель решится скрыть такие действия?» «Преступникам» не поверили, составили обвинительный акт и предали суду. Очень вероятно, что все трое, «как люди темные, подчинились бы обвинительному приговору», который, ввиду сознания, был более чем вероятен, если бы на этот раз не вмешалась своего рода «интрига» со стороны весеннего солнца. Прошло девяносто семь дней, наступила весна, снег начал таять и под ним, в поле, у дороги нашли труп Чернышева, без признаков насильственной смерти, просто-напросто занесенным снегом и замерзшим…
Читатель, может быть, полагает, что после этого прокурор отказался от обвинения, а о действиях полиции начато дознание. Нет, товарищ прокурора поддерживал обвинение, а полицейские повторяли с чрезвычайной точностью все показания, клонившиеся к доказательству того, что Чернышев не только замерз, но и убит, не только найден в поле, но и утоплен в реке. Нашлись даже и сторонние свидетели, которым «убийцы» каялись («грех наш»). Но, разумеется, добиться обвинения при этих условиях было трудно – все трое сознавшихся оправданы.
А дальше? Дальше, разумеется, ничего. Сарапульский суд нашел, что тут нет обстоятельств, способных привлечь его особенное внимание на те способы убеждения, которыми у мнимых убийц исторгнуты такие удивительные подробности несовершенного преступления!.. И если мы говорим теперь об этом деле, если о нем писали столичные газеты, если оно обращает еще чье-либо внимание, то это уже интрига неведомого корреспондента, огласившего в скромной провинциальной газете удивительные подробности этого дела…
Я лично, как человек тоже причастный к перу и к провинциальной публицистике, – прочитал с особенным удовлетворением то место, где г. сарапульский судья счел нужным сказать свое слово о деятельности корреспондентов. Полагаю, то же почувствует и каждый работник печатного слова в провинции… Правда, член сарапульского суда квалифицирует деятельность корреспондентов довольно сурово. Но… мы желали бы, чтобы во всех случаях нападок на прессу было так же ясно, как в данном случае, на чьей стороне правда: на стороне ли скромных работников печати, оглашающих эти удивительные порядки елабужских, мултанских и иных дознаний, – или же на стороне их строгих ценителей и судей, пытающихся самый сенат вовлечь в тину провинциальной сплетни.
1896
Толки печати о мултанском деле
Эту часть текущей нашей хроники мы начинаем под впечатлением известия об оправдательном вердикте по мултанскому делу.
История эта с внешней стороны в значительной степени известна нашим читателям. В Малмыже и Елабуге подсудимые вотяки были обвинены в принесении человеческой жертвы языческим богам. Сенат дважды кассировал дело, находя в нем такие существенные нарушения судопроизводства, которые внушали сильное сомнение в правильности самого приговора, поставленного на основании слишком одностороннего следственного и судебного материала. После второй кассации дело было изъято из Сарапульского округа и передано в Казанский. В печати появился отчет о заседаниях елабужского суда, послуживший материалом для суждений прессы и специалистов. Сомнение в виновности вотяков все крепло в обществе, а заключения специалистов отчасти приподымали завесу, опущенную над этой таинственной драмой вопиюще небрежным и односторонним следствием.
Тем не менее, в газетах уже весной настоящего года появились известия, сначала показавшиеся весьма сомнительными, но впоследствии получившие полное подтверждение. Оказалось, что казанский суд назначил разбирательство в уездном городе Мамадыше, хотя и Казанской губернии, но расположенном на самой границе Малмыжского уезда, т. е. в сфере тех же «слухов и толков», ареной которых является этот последний уезд в течение вот уже четырех лет. Затем газеты принесли известие, что во всех ходатайствах защиты о вызове новых экспертов и свидетелей казанским судом отказано и что, таким образом, дело предстанет перед присяжными совершенно в том виде, в каком оно являлось уже два раза: в Малмыже и Елабуге.
Затем из телеграммы «Русских Ведомостей» мы узнали, что 28 мая открылось в Мамадыше заседание выездной сессии под председательством г. Завадского. Обвинителем явился прикомандированный специально для этого дела тов. прокурора г. Раевский (обвинявший вотяков в Малмыже и Елабуге и руководивший предварительным следствием) и прок. казанского суда г. Симонов. Защита состояла из гг. Дрягина, Карабчевского, Короленка и Красникова. Это усиление состава защиты и являлось, если не ошибаемся, единственной чертой, отличавшей новое заседание от прежних: обвинение же усилило число ранее вызванных свидетелей одиннадцатью новыми.
Из той же телеграммы мы узнали, что защита предъявила вновь ходатайство о вызове с своей стороны свидетелей, в опровержение новых показаний, но ей в этом было отказано. В зале присутствовали профессора судебной медицины казанского университета г. Леонтьев и харьковского – г. Патенко, явившиеся сюда с научными целями, в виду огромного интереса, возбужденного этим делом. С этой же целью приехал из Томска ученый этнограф С. К. Кузнецов. Защита просила суд воспользоваться этим благоприятным обстоятельством и дополнить экспертизу уездных врачей заключением признанных ученых специалистов.
Судом и в этом ходатайстве отказано.
Затем известия смолкли, и в течение восьми дней в далеком Мамадыше, в тесной и душной зале, едва вмещающей несколько десятков посторонних зрителей, разыгрывался третий (надеемся, последний) акт судебной драмы, которой предстоит надолго остаться в летописях нашего суда «конца XIX века». 4-го июня телеграфная проволока разнесла из Мамадыша во все концы России известие о приговоре: все подсудимые оправданы, и кошмар «человеческого жертвоприношения» рассеян.
Судьбе угодно было, таким образом, обставить этот вердикт такой комбинацией обстоятельств, при которой он получает особенные, совершенно исключительные силу и значение.
Мы видели, что и в этот раз защита была обезоружена в то время, когда обвинение усилило кадры своих свидетелей на целую треть. Работы специалистов, вызванные появлением отчета, были совершенно устранены, и, наконец, двери суда были широко открыты для всевозможных слухов, «неизвестно откуда исходящих». И если, даже при этих условиях, суд присяжных, наконец, разобрался в тумане, окутавшем это таинственное дело, и вынес свой вердикт, освободивший несчастных мултанцев от четырехлетнего заключения, а вотскую народность – от обвинения в существовании ужасного культа, – то это, полагаем, говорит ясно, где в этом деле правда!
Мы ждем полного отчета, который, надо надеяться, не замедлит появиться, и нам еще придется вернуться к «мултанскому молению». Да, это дело ставит еще целый ряд вопросов, на которые отрицательное решение присяжных, формулированное в этих красноречивых словах: «нет, не виновен», – еще не дает нам ответа. Мы не говорим уже о полной бытового интереса и своеобразных красок этнографической стороне этого замечательного дела, не говорим и о специально юридических вопросах, возникающих в изобилии на всем протяжении мрачной и трогательной драмы. Но нас, но все общество, но высшие юридические сферы, наконец, не может не интересовать глубоко-тревожный вопрос о том, каким образом в течение четырех лет создавалось это обвинение, которое нельзя было доказать даже при таких исключительных, при таких односторонне-благоприятных обстоятельствах?
Уже из газетных отчетов, пока еще весьма неполных и отрывочных, выясняются некоторые черты предварительного следствия, которым, казалось бы, не должно быть места в нашем суде. Однако мы не имеем пока в виду подробно касаться и этой стороны дела. Не сомневаемся, что казанский суд обратит на них свое внимание. Нам дает право надеяться на это и отмечаемое газетами образцовое беспристрастие, сказавшееся в резюме председателя казанского суда г. Завадского. А пока мы только отмечаем факт оправдания и остановимся на некоторых замечаниях прессы, вызванных этим фактом.
В этом отношении отзывы печати единодушны. Сомневаться в правильности приговора, вынесенного при таких обстоятельствах, разумеется, трудно, а нарушение прав защиты, конечно, не может служить поводом для ослабления значения оправдательного вердикта. Если, таким образом, есть какая-нибудь почва для разногласий и споров, то она лежит в области не частного факта, а в сфере общих вопросов о значении его для оценки нашего суда вообще и института присяжных в частности.
Казалось бы, и в этом отношении дело довольно ясно. Закон недаром обставляет собирание и предъявление следственного материала известными гарантиями, без которых, по удачному выражению А. Ф. Кони, «мнение» двенадцати человек, сидящих на судейской скамье, не может приобрести значение и силу «приговора». Если эти гарантии нарушались – вина не присяжных. Читатели, вероятно, заметили, что в нашем журнале нет ни одной строки, ни одного слова горечи и упрека по адресу присяжных. И это не результат доктринерского предубеждения, закрывающего глаза на значение живого факта; это – глубокое убеждение в том, что сами присяжные стали два раза жертвой изумительных следственных, а также и судебных порядков, практиковавшихся, – скажем так, – в Сарапульском судебном округе. Лица, бывшие на последнем разбирательстве дела, отзываются с глубоким уважением о том неослабевавшем внимании, с каким в течение семи с половиной дней «десять мужиков, мещанин и дворянин» следили за всеми изгибами запутанного дела, за всеми тонкостями этнографической экспертизы, за всеми аргументами обвинения и защиты. И если бы, при одностороннем материале, предоставленном их вниманию, они еще раз вынесли обвинительный вердикт, – кто, по совести, мог бы поставить им это в вину, кто отнес бы на их счет грехи односторонне-обвинительного следствия и судебной процедуры, стеснившей в такой степени голос защиты?
Но присяжные вышли с честью из тяжелого испытания. Живым чутьем они различили, наконец, истину под грудой односторонне набросанных деталей. Таким образом, мултанское дело прибавляет лишь новое доказательство благотворности и жизненности суда присяжных. Суд людской – не божий. Присяжные – тоже люди и, конечно, способны поддаваться и молве, и предрассудку, и заблуждению. Тем важнее соблюдение всех законных гарантий, обеспечивающих достоверность судебного материала. Но разве не страшно подумать, что было бы, если бы вердикт был предоставлен тому самому составу сарапульского суда, который умел так обставить двукратное заседание. Нет, – в данном деле вина двукратной судебной ошибки лежит, очевидно, не в институте присяжных.
Она не может быть также отнесена за счет действующих судебных установлений в целом, как это пытаются сделать «Московские Ведомости». Указав на двукратную отмену приговора и на то, что для этого понадобились, между прочим, экстраординарные усилия печати, газета делает вывод: «Нет надобности входить в обсуждение вопроса, кто виноват в подобных ошибках: следствие, суд или сами присяжные, но во всяком случае ясно, что при существующем порядке вещей гарантии правосудия оказываются весьма шаткими» («Моск. В.», № 55, – курсив наш).
Что порядки, уже отчасти вскрывшиеся в мултанском процессе и ожидающие еще дальнейшего освещения, весьма плохо гарантируют правосудие, с этим, конечно, согласится всякий, кому дороги интересы справедливости и правосудия в нашем отечестве! Но если так, то тем более есть надобность отыскать источники этой шаткости, тем необходимее найти больное место нашего правосудия… К сожалению, все эти нападки на суд присяжных и на «дух судебных уставов» только мешают выяснению истинной причины зла, и в этом отношении заметка почтенной газеты представляется особенно типичной. И перед нею мултанское дело ставит «тревожные вопросы»: «допуская, что третий вердикт окажется последним и что он вполне согласен с требованиями справедливости», – автор невольно задается вопросом: чем вознаградить несчастных мултанцев за четырехлетние мучения? Далее: «что, если бы дважды судебное решение не дало сенату кассационных поводов или поводы эти прошли незамеченными?» Наконец, газета делает допущение, что «если бы не В. Г. Короленко, никакого отношения к суду не имеющий, то дело могло бы остановиться на первом или втором вердикте, и обвиняемые были бы невинно осуждены».
В этих пессимистических рассуждениях есть несколько очень крупных недоразумений и одна не менее крупная наивность. Первое из этих недоразумений касается роли В. Г. Короленко в этом деле. Как ни лестно для нас допущение, будто без влияния статей нашего сотрудника дело могло остановиться в первом или втором вердикте, но мы, быть может, с некоторым невольным сожалением, должны отказаться от этой иллюзии[87]. Дело в том, что первая кассация мултанского дела в сенате последовала тогда, когда В. Г. Короленко не написал о деле ни одной строчки и когда огромное большинство прессы было далеко от каких бы то ни было сомнений в наличности печального факта. А так как второе заседание того же сарапульского суда (в Елабуге) лишь усилило отмеченные сенатом нарушения, – то вторая кассация была просто логической необходимостью, и, очевидно, ни о какой связи ее с теми или другими статьями прессы тут не может быть и речи.
Что же касается вопроса газеты: «что было бы, если бы суд не подал поводов для кассации», – то ответ так прост и ясен, что мы склонны считать наивностью самую его постановку. Поводы для кассации так примитивно внушительны, нарушения прав защиты так осязательны, так существенны и важны, что, если бы их не было, то не было бы и надобности в кассации; если бы свидетели защиты были выслушаны на первом суде, то истина предстала бы и ранее, и полнее, чем она предстала теперь, и мултанцы были бы оправданы еще в Малмыже.
Нет, к счастью, как ни темно еще теперь мултанское дело, но один вывод из него совершенно ясен: не суд присяжных и не судебные уставы повинны в таких ошибках. Причина их в системе предварительного следствия и собирания доказательств. а отчасти и в том, что в магистратуру проникла в последнее время излишняя терпимость к таким приемам «подготовительных к суду действий», какие вскрылись, хотя, быть может, еще не вполне, – во время мултанского процесса. В заключение этой заметки, мы приводим самое «свежее» известие, относящееся к области «косвенных влияний» мултанского дела, и достоверность которого гарантируется уже самым источником, откуда мы его заимствуем. В одном из последних №№ «Вятских Губ. Ведомостей» сообщают, что в селе Кизнере, соседнем с Мултаном, повесился вотяк-десятский. Это было в то время, когда, перед судом, все еще «дополнялось следствие», и местный урядник употреблял десятского для каких-то действий по мултанскому делу. Несчастный повесился, чтобы избежать, как сказано в «Губ. Ведомостях», «посредничества между вотяками и начальством».
Не правда ли, какая печальная, но и какая знаменательная заключительная нота в этом глубоко мрачном аккорде… И неужели мы не узнаем, что это за «посредничество», которого требовали гг. урядники по мултанскому делу и от которого люди ищут спасения в смерти?!.
1896
«Они судили мултанцев…»
Они судили мултанцев. Два интеллигентных человека и десять мужиков. Помню особенно деревенского мельника, внушительную славянскую фигуру, с белокурыми волосами, по-славянски подстриженными на лбу, и с голубыми глазами. Облик этого богатыря закрыл для меня все остальные лица. Помню, что я смотрел на него с большим сомнением и даже опасением. Крепкая, почти каменная фигура, с очевидно готовым мнением, с суровым взглядом на защитников, с глубоким предубеждением против вотяков.
Раз взглянув в эти голубые, холодные глаза, я в качестве защитника инстинктивно обращался со всеми заявлениями уже только к нему. Мне казалось, что если мне удастся сдвинуть эту каменную фигуру, – с нею вместе сдвинется и вся остальная деревня.
Долго, первые пять-шесть дней процесса он сидел, уперши руки в колени, разостлав по груди русую волнистую бороду, неподвижный, непоколебимый и враждебный.
Наконец, на шестой день, при некоторых эпизодах судебного следствия, в его глазах мелькнул луч недоумения.
Потом он взглянул на меня, и в первый раз я заметил, что его настроение дрогнуло.
Когда мултанцев оправдали, я с Н. П. Карабчевским стоял у окна домика, где поселились все защитники, и увидел на другой стороне того же присяжного. Он имел вид человека, только что вырвавшегося из заключения: шел развалистой походкой и был очевидно слегка выпивши.
Увидев меня, он круто остановился, как будто в нерешимости. Я ему поклонился. Он опять оглянулся вдоль улицы захолустного городка и спросил:
– А к вам теперь можно?
– Можно, можно, – ответили мы. – Теперь вы уже человек свободный.
Он крепкой походкой медведя перевалился через немощеную улицу и подошел к нашему окну. Сняв шапку и отвесив глубокий поклон, он подал затем в окно свою широкую руку и сказал:
– Ну, спасибо, господа. Вот я поеду к себе в деревню, расскажу. Ведь я, признаться сказать, ехал сюда, чтобы осудить вотяков. О-о-судить и кончено. Из деревни наши провожали. Ну, выпили, конечно. Соседи и говорят: «Смотри, брат, не упусти вотских. Пусть не пьют кровь».
Он широким размашистым жестом провел по груди в расстегнутом кафтане и закончил:
– Теперь сердце у меня легкое…
1913
Знаменитость конца века*
«Конец века», в ряду других характерных явлений, обогащает нас еще новым рядом знаменитостей. Мы знали знаменитых государственных людей, полководцев, ораторов, писателей, художников, артистов, врачей, строителей, путешественников, воздухоплавателей, наконец, знаменитых укротителей зверей или антрепренеров, вроде знаменитейшего американского Барнума…
Теперь у нас есть еще знаменитые – негодяи.
Вы скажете, пожалуй, что это было всегда. Публика всегда любила так называемые causes célèbres[88]. Пранцини, убийца, был тоже своего рода знаменитостью, как и Джек-потрошитель, как Тропман, казнь которого так превосходно описана Тургеневым.
Это верно, но было это по-иному. Говорили, например, что какой-то англичанин заплатил большие деньги палачу за кусок кожи казненного Пранцини. Он заказал из нее портсигар и, угощая приятелей дорогой сигарой, наверное прибавлял с самодовольством истого коллекционера: «Обратите внимание на этот портсигар, сэр. Он сделан из кожи знаменитого Пранцини». Согласитесь, что Пранцини заплатил, пожалуй, дороговато за свою популярность.
Можно сказать с уверенностью, что и Пранцини, и Тропман, и Джек-потрошитель тщательно избегали личной известности. Это были деятельные негодяи, но знаменитости чисто пассивные. Современная же Франция являет нам примеры знаменитостей подобного же рода, которые пользуются своей славой еще при жизни, делают из своего негодяйства нечто вроде социального фактора. Они сами угощают сигарами многочисленных почетных посетителей. И последние, вместо того чтобы закурить такую сигару, тщательно завертывают ее в бумажку и потом хвастают перед другими любителями коллекций: «Обратите внимание: этой сигарой такого-то числа и года, в таком часу угостил меня знаменитый панамист Артон, или не менее знаменитый Герц, или, наконец, затмивший ныне всех своею знаменитостью Эстергази».
Вы, конечно, помните: Артон был вор и посредник воровства в деле Панамы. Герц был тоже вор, украшенный орденом Почетного легиона, pauvre diable[89] или действительно главная пружина этого грязного дела, а Эстергази… ну, Эстергази-то знаменитее обоих панамистов. Насколько эта интересная личность успела выясниться до сих пор, – он мот, прожигатель жизни, мелкий мошенник, обокравший родственников, фальсификатор, из корысти подделавший массу документов, интриган из бульварного романа, придумывающий или только выполняющий сложные интриги с переодеваниями и подлогами, лжесвидетель, содействовавший обвинению людей, заведомо невинных, наконец – продажный субъект, готовый теперь за хорошие деньги предать недавних нанимателей…
И, кроме всего этого, – кавалер французского ордена Почетного легиона, которому герцог Орлеанский еще недавно считал за честь публично пожимать руку.
Вот новая знаменитость конца нашего века! Из его кожи никто не сделает портсигара, как сделал английский варвар из кожи злополучного Пранцини. Даже напротив, – посмотрите: он носит орден Почетного легиона, из которого давно исключен Золя, пытавшийся разоблачить его проделки. Дрейфус, теперь заведомо для всего мира осужденный на основании подлогов Эстергази, продолжает томиться на Чертовом острове. Золя, знаменитейший из писателей Европы, скрывается неведомо где, а его вещи продаются с аукциона за то, что он старался разоблачить проделки Эстергази и ошибку «графологов», которая теперь уже ни в ком не возбуждает сомнения… Пикар, первым пытавшийся раскрыть эти доказанные подлоги, заперт в военной тюрьме Cherche-midi, и в то время, как я пишу эти строки, ему еще не разрешено видеться даже со своим защитником. Правда, по последним известиям, его «дело» принимает сравнительно благоприятный оборот. Теперь речь идет лишь о том, не пользовался ли Пикар поддельным petit-bleu[90], чтобы вредить… господину Эстергази. А г. Эстергази в это самое время разъезжает по европейским столицам, курит дорогие сигары, угощает ими любителей коллекций, отбивается от тучи назойливых репортеров, с жадностью ловящих каждое его словечко, – как будто это сказочная принцесса, при каждом слове которой с румяных уст падают на землю розы или, еще лучше, – червонцы. О нет, из его кожи никто не сделает портсигара! Он сам теперь торгуется, чтобы подороже продать историю своего негодяйства, которое является настоящим сокровищем.
– Вы желаете узнать, как мы подделали такой-то документ? Г-м… Но ведь это, monsieur[91], будет стоить недешево.
– Ах, сэр, – отвечает английский издатель, – мы не стоим за деньгами… Если бы, вдобавок, вам угодно было почтить нас еще рассказом о том, как вам удалось свалить все это на Пикара…
– Может быть, может быть… Я еще посмотрю.
– Посмотрите, сэр… Мы будем надеяться…
Он посмотрит. Один раз он уже сделал ошибку. Еще неопытный в такого рода сделках, он продешевил один из своих секретов и отдал его газете «Observer». И вот знаменитый Эстергази сидит в office'e[92] одного из лондонских адвокатов и совещается, как поправить дело… Биржевая стоимость его негодяйства быстро поднимается, и сделка с «Observer»'ом теперь для него чистое разорение.
– Вы дали какие-нибудь документальные обязательства, сэр? – спрашивает адвокат с некоторым беспокойством.
– Никаких. Я имел лишь неосторожность поделиться кое-какими сведениями… устно… разумеется, тогда я не знал еще настоящей цены…
– О, это ни к чему не обязывает. Законы этой страны на вашей стороне, сэр!
И действительно, в известный час, точный и строгий, застегнутый на все пуговицы английский юрист является в редакцию английской газеты, чтобы защищать интересы французского негодяя.
– Мой знаменитый клиент, – начинает он сухо, но все-таки с оттенком некоторой гордости…
И затем газета, хотя и с большой досадой, вынуждена прекратить печатание своих разоблачений, Эстергази получил обратно свое драгоценное негодяйство и опять выносит его на рынок. Торговля открыта! Кто даст больше? Опять около квартиры Эстергази, кажется, на Charing-cross'e, устраиваются дежурства репортеров, и знаменитый некогда Веллингтон с завистью смотрит с вышины своей колонны на знаменитого ныне Эстергази. По временам к подъезду подкатывают щегольские кэбы, и респектабельные джентльмены, с туго набитыми бумажниками в карманах, подымаются по лестнице в квартиру Эстергази, кавалера ордена французского Почетного легиона, продающего свое негодяйство оптом и в розницу. На этот раз, однако, он величаво сдержан. Он ждет. Он знает, что у него будут покупать его слова, и еще более – его молчание… Для этого он и бежал из Франции за границу. Ему приходилось плохо. Дело разоблачалось, Анри уже заплатил жизнью за свою фальсификаторскую ревность, личная репутация Эстергази погибла, недавние друзья уже не в силах поддержать это «блестящее реноме».
– Если меня исключат из армии, – говорит он своему «приятелю» Стронгу, – мне остается только пуля.
– О нет, – отвечает опытный газетчик. – Вам остается еще знаменитость и богатство…
И вот, как некогда Мадзини, Виктор Гюго и другие «шаблонные герои» устаревшей европейской истории, – г. Эстергази переправляется тайно через границу… Судьба, а может быть, и еще кто-нибудь оберегает конспиративный побег: поезд везет великого Эстергази и его счастье.
И вот он – в Лондоне. Он привез с собой нечто такое, из-за чего вступают в конкуренцию издатели нескольких столиц. По самым последним известиям, «разоблачения» (то есть признания) Эстергази появятся одновременно в Лондоне и Париже. «Agence National» сообщает, что между французскими и английскими издателями мемуаров майора Эстергази последовало соглашение… По сведениям «Agence» первая рукопись Эстергази будет получена на днях парижским издателем… Парижский издатель monsieur Файар не без гордости подтверждает это известие. Действительно, пишет он в «Temps», «между г. Эстергази и мною уже состоялось соглашение. Майор уже приступил к редактированию статей, которые появятся у нас в форме брошюры… Господин Эстергази пишет два рассказа(!): один для нас, другой, который не есть перевод и разнится от первого, – для своего лондонского издателя». Скоро мы услышим, быть может, что к упомянутым двум столицам присоединяется еще Берлин, Вена, Рим, Петербург… Может быть, даже злополучный Мадрид забудет на время несчастия своей страны и позор своих поражений и тоже примкнет к всемирной аудитории знаменитейшего из негодяев «конца века». И когда таким образом весь мир насторожится вокруг г. Эстергази, он, наконец, заговорит с полным сознанием своего мирового значения.
– Итак, милостивые государыни и милостивые государи, – я начну с истории нашего первого подлога. Слушайте!..
И в тот день, когда это блестящее начало при посредстве телеграфа и печатного станка появится в виде черных букв на белой бумаге, – во всех столицах мира произойдет одновременно заметное движение, как будто у знаменитого негодяя в руках собраны струны от миллионов человеческих сердец…
Не правда ли, это явление уже совершенно новое, настоящее знамение «конца века»…
Да, это уже не Тропманы и не Пранцини, из кожи которых любители-варвары выкраивали портсигары. Те сами платились за свою знаменитость, а за знаменитость Эстергази платят издатели, расплачивается, – и какой дорогой ценой! – все общество…
Я говорю, разумеется, не о тех фунтах стерлингов, которые г. Эстергази положит в карман, в окончательном итоге своей сделки на негодяйстве. И вообще я говорю не о деньгах. Не помню, кто сказал первый, что сущность того воздействия, которое литература оказывает на общество, сводится к внушению. Во всяком случае это мысль, не подлежащая теперь спору, и относится она не к одному лишь роману и не к одной лишь прямой проповеди. То, что мы называем «прессой» в самом общем значении этого слова, играет ту же роль. Le roman est un miroir qu'on promène le long d'un chemin[93], – сказал кто-то. Но вся пресса заслуживает это сравнение в гораздо большей степени. Огромное зеркало стоит у огромной всемирной дороги, выхватывая порой из дорожного движения фигуры и эпизоды, по драматизму и по впечатлению, оказываемому на зрителей, превосходящие всякий романический вымысел. Каких только «знаменитостей» не отражало оно за время своего существования! И вот теперь на поверхности мирового зеркала появилась и привлекает все взоры фигура знаменитого г. Эстергази, который готовится рассказать миру о своих подлогах…
С этой точки зрения, право, даже трудно оценить влияние этих фигур, невольно приковывающих к себе внимание и незаметно действующих на воображение миллионов людей. Одно время это воображение невольно и стихийно влеклось за таинственной траекторией ловкого панамиста и беглеца Артона, мелькавшего то в Алжире, то в Лондоне, то на бульваре Вены, то чуть не на вершине Чимборасо. Но все-таки это был хоть беглец! С тех пор явление, которое я пытаюсь анализировать, – сделало еще шаг по пути своей эволюции и, в лице Эстергази, комфортабельно устроившись в Лондоне, дарит нас своими откровениями. Право, не будет ничего удивительного, если вскоре на вопрос к какому-нибудь юноше: «Чем ты хотел бы быть, милый мальчик», – мы получим ответ:
– Я хотел бы быть знаменитым негодяем, вроде Эстергази. Это так интересно!
И ведь в самом деле заманчиво: в известный день и час негодяй скажет свое негодяйское «откровение», и все столицы внезапно вздрогнут от любопытства. И только Дрейфус на Чертовом острове, да Пикар в келье Cherche-midi не будут читать великого произведения, потому что к тому времени они все еще будут в руках людей, в пользу которых Эстергази совершал свои подлоги, – о чем он благоволит, быть может, рассказать в своих «разоблачениях». Ну, можно ли, в самом деле, придумать «роман» невероятнее и романичнее этой ситуации, реально разыгрывающейся перед глазами всей Европы?
Кто виноват?
Начнем с той публики, которая будет тесниться у киосков, когда появится «история» великого Эстергази. Виновата ли она? Едва ли, даже наверное нет. В худшем случае это люди, которые, отправляясь в должность или на свою дневную работу, пожелают из утреннего номера газет или из только что отпечатанной брошюры узнать свежую новость. Любопытство, быть может, праздное, но совершенно невинное. В лучшем же случае, и это наверное у большинства – среди сложной амальгамы душевных движений шевелится также человеческое участие, интерес к правде, желание разъяснить себе истину в сложном деле, наконец, хоть у немногих – это будет интерес к вопросу права и справедливости. Нет, право, никто из нас, из тех, которые будем тесниться в тот день у киосков, – не виноват.
Мосье Файар, продавцы, издатели, вообще пресса? Да, французская пресса вылила теперь в умы и в души европейского читателя целый поток невообразимого изуверства и грязи. Вот что, например, написал, напечатал, распространил в десятках тысяч экземпляров Рошфор после того, как кассационный суд высказался за пересмотр дела Дрейфуса. «Какому наказанию народ должен подвергнуть этих изменников?» – спрашивает французский «патриот». – Гильотине? Это слишком мягко. Сжечь живьем? Это не ново (un peu vieux jeu). И вот что этот «патриот» придумывает для членов верховного суда Франции: «Надо расставить их рядом, одного за другим („en queue de cervelas“), как в центральных тюрьмах. Специально приученный и подготовленный к этому палач им срежет сначала веки парою ножниц. Когда они таким образом не в состоянии будут закрыть более глаз, надо в ореховые скорлупы поместить больших самых ядовитых пауков и затем прикрепить прочными завязанными сзади головы повязками эти скорлупы к глазным яблокам!.. Проголодавшиеся пауки, не очень разборчивые на пищу, медленно сожрут глазное яблоко и зрачок»… И т. д. И чтобы окончить статью особенным эффектом, – Рошфор заключает криком, полным жалости: «Бедные пауки!»[94]
Вот для чего эти патриотические господа употребляют теперь изобретение Гутенберга, и, конечно, если когда, то именно теперь можно бы усомниться в пользе этого изобретения. Однако – достаточно вспомнить, что никто не обрадовался бы отсутствием гласности в этом деле более самого Эстергази и его вдохновителей, – чтобы излечиться от этого пессимизма. Да, много грязи вылила в наши умы французская пресса; но только пресса же способна бороться с этим потоком. Благодаря ей, в деле Дрейфуса, как и в Панаме, истине удалось пробиться с такой силой, что уже ничем нельзя ее ни заглушить, ни уничтожить. Нет, пресса все-таки в среднем только сделала свое дело, открыла кратер для этого внутреннего извержения…
Гонз, Пати-дю-Клам, наконец – сам Эстергази! Об этом смешно говорить. Что, в сущности, значит эта ничтожная, хотя и типично негодяйская фигура? Если даже Наполеоны не сами создавали свою эпоху, а явились лишь верхушкой исторической волны, которая их выносила на своем гребне, то что же говорить об этих дю-Кламах и Эстергази. Правда, нужно быть искусным пловцом, чтобы держаться на верхушке бурной волны, и десятки Наполеонов погибли, прежде чем один достиг вершины. Значит, нужно быть и негодяем не вполне уже заурядным, чтобы вписать свое имя в скрижали истории. Но все же самая волна, которая поднялась во Франции так высоко, что великолепная фигура стала видна всему миру – создала господина Эстергази, а не создана последним.
Значит, Франция?
Франция – это удивительная страна, из которой в последнее столетие исходили все ожидания и все разочарования мыслящей Европы. Она то вызывала расцвет самых восторженных надежд, то опять разливала в умах реакцию и безнадежность. Теперь много говорят о реакции против парламентаризма. Но в Англии, родине чистого парламентаризма, он действует совершенно нормально. Это именно Франция дает более всего материала для указанной реакции. Она явила нам пример «республиканских добродетелей» в деле Панамы. Теперь она заставляет многих усомниться в пользе свободного слова, выкапывающего и разливающего в массы изуверское настроение самых мрачных периодов средних веков. И если когда, то именно теперь, вместе с нашим поэтом, нам
…Хочется сказать великому народу:
Ты жалкий и пустой народ!
Однако будет ли справедливо, если мы успокоимся на признании вины за Францией? Эта страна всегда была только пробной лабораторией Европы, и если в 1793, в 1830, в 1848 годах в ней слышались первые взрывы, то разве остальные страны не были переполнены тем же газом? Всегда Европа обращала свои глаза к пробной лаборатории, и если, по окончании многих опытов, в результате являлось разочарование, то разве мало препаратов, которые все-таки вошли в общее употребление… Теперь мы видим в лаборатории новую работу: она дает нам экстракт буржуазно-политического строя, в виде Панамы, и конденсированного милитаризма – в деле Дрейфуса – Эстергази. Правда, это яды, острый запах которых отравляет дыхание. Правда, в результате этого эксперимента – невидимые нити общеевропейского внимания оказались в руках господ Эстергази, которые являются до известной степени «властителями наших дум»… Но все же нам, может быть, следует благодарить господ французов за «чистоту» их работы и за необыкновенную характерность их препаратов.
Не заставят ли они и нас оглянуться немного на себя. Если бы я был французом и слышал осуждение своей родины остальными европейцами, я бы сказал: «Ну, хорошо. У нас произошло все это, потому что мы воспитали целое поколение ядовитым хлебом реванша! Но посмотрите, однако, сколько у вас самих было и есть защитников и Эстергази, и Анри, и Дрюмона, и Рошфора. И если мы бьемся в этом вязком болоте, в которое нас втянули запутанные реальные интересы и интриги, – то из-за чего ваши Дрюмоны и ваши Рошфоры, после того как истина уже разоблачена, продолжают кричать: „Долой разоблачителей; держите „жида“ на Чертовом острове“. Что им Гекуба, что они Гекубе?»
И в самом деле: откуда это удивительное явление? У Лесажа, в истории Жиль-Блаза де-Сантильяна рассказан такой эпизод: легкомысленный герой натыкается в тесной улице на свалку, в которой один защищается против пятерых. Он не знает ни этих пятерых, ни этого одного, однако, видя, что расспрашивать уже некогда, тотчас же обнажает свою шпагу и становится на сторону одного… И мы все невольно, инстинктивно, по чувству, которое врождено вчеловеческом сердце, отдаем свои симпатии этому молодому человеку, далеко не всегда заслуживавшему монтионовской премии. Мы чувствуем, что, по большей части, когда слишком уж сильная сторона злоупотребляет своим перевесом, – правда должна быть на стороне слабейшего. А так как, вдобавок, вмешательство одного против пятерых требует героизма и явно невыгодно для Жиль-Блаза, то понятно, почему мы с невольным сочувствием будем следить за его участью… Это здоровый инстинкт человечества, который, надо надеяться, останется в нем и в двадцатом и в двухсотом веке…
Не то же ли самое происходило на наших глазах во Франции? Виновен или невиновен Дрейфус? Почем нам было знать это? Но мы слышим, что кучка частных людей, в том числе знаменитый писатель, выступают против господствующей партии и, – что еще опаснее, – против господствующей страсти своего народа. Они утверждают, что человек осужден невинно и уж во всяком случае неправильно, что на суде нарушены первые, необходимейшие условия всякого правосудия. И никто, ни один из участников не посмел сказать, что это неправда, что судьям не были предъявлены документы, неизвестные защите (и впоследствии оказавшиеся поддельными). Начинается борьба, еще, кажется, невиданная в истории: кучка частных людей и ничтожное меньшинство прессы борются с несколькими министерствами, с штабом, в руках которого огромная сила, с ослеплением всего народа: их гонят, их заплевывают (даже молодежь!), им закрывают уста, им грозят смертью, для них раскаленное ложным патриотизмом воображение изобретает невиданные казни… Золя вынужден бежать, Пикар во власти своих личных врагов, а мы… мы, стоящие вдали и уж во всяком случае не связанные никакими реальными интересами, становимся на сторону пятерых против одного, – нет, даже на сторону пяти тысяч – против одного… Мы защищаем Эстергази, мы защищаем Пати-дю-Клама, мы защищаем Анри и через всю Европу присоединяем свои голоса к крикам страсти и изуверства, раздающимся на парижских улицах и бульварах против людей, стоящих за несомненное право.
Отчего это? Или в самом деле человечество разочаровалось в героизме и в шаблонной добродетели, и его разочарованный взгляд, жаждущий новых впечатлений, с удовольствием отдыхает теперь на типично негодяйских фигурах господ Эстергази? Конечно, нет… Дело совсем не в этом; дело просто в ослеплении, дело в родственных настроениях, дело в общих формулах, называемых, по-старому, «идеями» и «принципами».
Истина всегда была и всегда будет великой силой; с нею даже за ничтожным меньшинством обеспечена рано или поздно нравственная победа. Но истину надо угадать, надо почуять ее сердцем и постигнуть умом. А для этого нужен верный компас, указывающий ее направление… Этот компас мы и называем чутьем правды.
Он, очевидно, был у так называемых «дрейфусаров», и посмотрите результаты: в то время, как Золя, оплеванный, исключенный с позором из ордена, который в то время украшал еще грудь Эстергази, спасается бегством из своего отечества, когда Пикар удален от всего мира в тюрьму Cherche-midi, когда все материальные атрибуты успеха на стороне торжествующего большинства, – над подделывателем Анри истина уже произнесла свой приговор, и для всей торжествующей партии уже готово страшное нравственное поражение, которое теперь не отвратят никакие формальные приговоры никаких в мире судов. Анри сознался в подлогах и умер таинственным образом, Пати-дю-Клам скрывается неизвестно где, не будучи даже осужденным, как Золя, Эстергази готовится за хорошие деньги снять маски не только с себя, но и с других. Оглянитесь назад: сколько на столбцах газет (в том числе и наших) расточалось похвал этим господам и их покровителям? Теперь все это остается историческим свидетельством рокового ослепления и полного отсутствия того, что называется «чутьем правды».
Откуда же все это, где его источники? Прислушайтесь к этим крикам и, вместо аргументов, вы услышите одно: «Дрейфус – жид». В этом все дело, отсюда, как из источника, вытекает все остальное, это слово объединило людей на противоположных концах Европы… Не очевидно ли, что яд, которым так густо насыщена теперь атмосфера Франции, отравляет воздух и других стран, мешая «чувствовать правду»? И вот почему нити от наших сердец очутились в руках знаменитого «писателя» Эстергази, вот почему к крикам французских Дерулэдов, Дрюмонов и Рошфоров присоединяются такие сочувственные отклики из других стран: «Не нужно раскрывать истину, держите „жида“ на Чертовом острове…» И вот почему, наконец, мы еще раз обязаны благодарностью Франции за «образцовые препараты» националистских ядов, которые она изготовила в своей общественно-политической лаборатории. Берегитесь национализма! Яд…
Это с одной стороны. А с другой – эта беспримерная борьба кучки частных лиц против отравленной совести всего народа, эта теперь уже несомненная победа ничтожной группы над несколькими министерствами, над парламентом, над общественным мнением целой страны, – не есть ли это еще один препарат, который Франция опять приготовила в назидание старой Европе наряду с другими? И, вместо того, чтобы, подобно фарисею, возводить очи горе и благодарить бога за то, что не сделал нас, «как эти французы», – Европе следует подумать: в подобных же обстоятельствах найдутся ли всюду свои Золя, Кестнеры и Пикары? Найдется ли наряду с изуверской прессой – пресса, которая сумеет воспользоваться свободой так, как ею воспользовалась часть французской печати?
А пока послушаем все-таки, что нам скажет г. Эстергази, знаменитейший из негодяев «конца века» (если только ему, действительно, лучше заплатили за его слова, чем за молчание)… Потому что, – такова уже сила «шаблонной истины», что ей служат в конце концов даже господа Эстергази…
1898
Дом № 13*
Я приехал в Кишинев спустя два месяца после погрома[95], но его отголоски были еще свежи и резко отдавались по всей России. В Кишиневе полиция принимала самые строгие меры. Но следы погрома изгладить было трудно: даже на больших улицах виднелось еще много разбитых дверей и окон. На окраинах города этих следов было еще больше.
Настроение было напряженное, тяжелое. Газеты принесли известие, что в Петербурге еврей Дашевский ударил ножом г-на Крушевана и, что было еще страшнее, – другой еврей, врач, хотел подать раненому первую помощь. Г-н Крушеван в ужасе отказался от помощи и писал, что «душа Дашевского принадлежит ему»; вместе с г-ном Комаровым он требовал для Дашевского смертной казни на том основании, что он, г-н Крушеван, не простой человек, а человек государственной идеи. А дня два или три спустя, уже во время пребывания моего в Кишиневе, три неизвестных молодых человека кинулись на шедшего из училища еврейского юношу, и один из них ткнул его в бок кинжалом; кинжал был направлен гораздо искуснее, чем у Дашевского, и только книга, которая была у юного еврея под застегнутым пиджаком, ослабила удар, но не избавила его от раны. Еврейский юноша, мирно шедший из училища, не был, разумеется, «человеком государственной идеи» и потому о происшествии (по крайней мере за все время моего пребывания) не только г-н Комаров и г-н Крушеван, но и местная газета «Бессарабец» не говорили ни одного слова, только евреи передавали об этом с весьма понятной тревогой.
Говорили, между прочим, будто этот удар, нанесенный школьнику, есть ответ на покушение Дашевского. Как это ни нелепо, но все же похоже на правду. Впрочем, «все (теперь) похоже на правду», все может случиться в Кишиневе, где самый воздух еще весь насыщен дикой враждой и ненавистью. Жизнь города как бы притихла. Постройки приостановились: евреи охвачены страхом и неуверенностью в завтрашнем дне.
В такие дни я приехал в Кишинев и, стараясь разъяснить себе страшную и загадочную драму, которая здесь разыгралась так недавно, бродил по городу, по предместьям, по улицам и базарам, заговаривая о происшедшем с евреями и христианами.
Я, конечно, не имею претензии разъяснить здесь сколько-нибудь исчерпывающим образом этот потрясающий эпизод, этот изумительный процесс быстрого, почти внезапного исчезновения всех культурных задержек, из-под которых неожиданно прорывается почти доисторическое зверство. Нет ничего тайного, что бы не стало явным. Очень может быть, что и все пружины этого преступного дела когда-нибудь выступят наружу и все оно станет понятно, как механизм разобранных часов. Нет сомнения, однако, что и затем останется еще некоторый остаток, который трудно будет свести на те или другие обстоятельства данного места и данного времени. И это будет вечно волнующий вопрос о том, каким образом человек обыкновенный, средний, иногда, может быть, недурной человек, с которым порой приятно вести дело в обычное время, вдруг превращается в дикого зверя, в целую толпу диких зверей.
Нужно много времени и труда, нужно очень широкое, внимательное изучение, чтобы просто восстановить картину во всей ее полноте. Для этого у меня нет возможности, да, может быть, для этого еще не наступило время. Хотелось бы думать, что суд сделает это, хотя есть основание опасаться, что и суд этого не сделает. Но мне хочется все-таки поделиться с читателем хоть бледным отражением этого ужаса, которым пахнуло на меня от моего короткого пребывания в Кишиневе, спустя два месяца после погрома. Для этого я попытаюсь восстановить, по возможности точно и спокойно, один эпизод. Это будет история знаменитого ныне в Кишиневе дома № 13.
Дом № 13 расположен в 4-м участке города Кишинева, в переулке, который носит название «Азиатского», в том месте, где он соединяется с Ставрийским переулком. Впрочем, название этих узких, кривых и запутанных улиц и переулков даже кишиневцы знают довольно плохо, и еврей извозчик (здесь очень много извозчиков евреев, и среди них тоже были раненые и убитые) сначала не понял, куда нам надо. Тогда мой спутник, который больше успел ориентироваться среди местных достопримечательностей, связанных с погромом, – пояснил:
– Дом тринадцатый… Где убивали…
– А… знаю, – сказал извозчик, мотнув головой, и хлестнул свою лошадь, тощую, как и он сам, и, как он, невзрачную и унылую. Лица его мне не было видно, но я слышал, как он бормотал что-то в бороду. Мне казалось, что я расслышал слова: «Нисензон» и «Стекольщик».
Нисензон и Стекольщик – это еще недавно были живые люди. Теперь это только звуки, воплощающие ужас недавнего погрома.
Ехали мы долго и, миновав людные широкие и сравнительно культурные улицы нового города, долго вертелись по узким, кривым, очень своеобразным переулкам старого Кишинева, где камень, черепица и известка глушат тощие деревца, растущие тоже из камня, и где, кажется, носятся еще тени каких-то старых историй времен боярства, а может быть, и турецких набегов. Дома здесь малы, много каменных стен, как бы маскирующих входы во дворы; кое-где сохранились узкие окна, точно бойницы.
Наконец, по одному из таких переулков мы спустились к искомому дому. Невысокий, крытый, как все кишиневские дома, черепицей, он стоит на углу, в соседстве с небольшой площадью, как бы выдаваясь в нее тупым мысом. Кругом виднеются убогие домики под черепицей, значительно меньше и невзрачнее. Но между тем как все они производят впечатление жилых, дом № 13 похож на мертвеца: он зияет на улицу пустыми окнами с исковерканными и выбитыми рамами, с дверьми, заколоченными кое-как досками и разными обломками. Нужно отдать справедливость кишиневской полиции, – хотя она не особенно противилась погрому, но теперь принимает энергичные меры, понуждая евреев к скорейшему приведению в порядок разрушенных и поврежденных зданий. Но над хозяином дома № 13 она уже не имеет никакой власти.
Двор еще носит выразительные следы разгрома: весь он усеян пухом, обломками мебели, осколками разбитых окон и посуды и обрывками одежды. Достаточно взглянуть на все это, чтобы представить себе картину дикого ожесточения: мебель изломана на мелкие щепки, посуда растоптана ногами, одежда изодрана в клочья; в одном месте еще валяется оторванный рукав, в другом – обрывок детской кофточки. Рамы с окон – сорваны, двери разбиты, кое-где выломанные косяки висят в черных впадинах окон, точно перебитые руки.
В левом углу двора, под навесом, у входа в одну из квартир, еще виднеется ясно большое бурое пятно, в котором нетрудно узнать засохшую кровь. Она тоже смешана с обломками стекла, с кусками кирпича, известкой и пухом.
– Здесь убивали Гриншпуна… – сказал кто-то около нас странным глухим голосом.
Когда мы входили в этот двор, все было здесь мертво и пусто. Теперь рядом с нами стояла девочка лет десяти – двенадцати. Впрочем, это казалось по росту и фигуре. По выражению лица можно было дать гораздо больше, глаза глядели не по-детски… Этот ребенок видел все, что здесь делалось еще так недавно. Для нее вся эта картина разрушения на молчаливом дворе под знойными лучами солнца была полна незабываемого ужаса. После этого она ложилась много раз спать, просыпалась, вставала, делала все, что делала и прежде, и, значит, «успокоилась». Но ужас, который должен был исказить это детское лицо, весь не исчез. Он оставил по себе постоянный осадок в виде недетского выражения в глазах и какой-то застывшей судороги в лице. Голос у нее был как бы придушенный, а речь ее было тяжело слушать: звуки этой речи выходили с усилием, как у автомата, и, становясь рядом, образовали механически слова, не производившие впечатления живой речи.
– Он вот тут… бежал… – говорила она, тяжело переводя дыхание, показывая рукой по направлению к навесу и луже крови.
– Кто это? Стекольщик? – спросил мой спутник.
– Да-а… Стекольщик. Он бежал сюда… и он упал вот здесь… и тут они его убивали…
С невольным ощущением дрожи мы отошли от этого пятна, в котором кровь перемешалась с известкой, грязью и пухом.
В доме все было разрушено с таким же старанием, как и во дворе: сорваны обои, выломаны двери, разломаны печи, стены пробивались насквозь. Эта чрезвычайная тщательность дикого разрушения породила в городе рассказ, будто перед погромом один из полуинтеллигентных и довольно влиятельных «антисемитов» заготовил целую партию ломов с крючками, розданную погромщикам и отобранную затем обратно особыми «агентами».
Не могу сказать, сколько тут правды, но в самом слухе немало характерности. Как бы то ни было, трудно представить, что еще недавно в развалине, которую мы рассматриваем, текла обычная мирная жизнь.
Дом № 13 состоял из семи квартир, в которых, по обыкновению, скученно и тесно жило восемь еврейских семей, всего около сорока пяти человек (с детьми). Хозяин его был Мовша Маклин, комиссионер и владелец скромной лавки в городе. На всех своих предприятиях, то есть в качестве домовладельца, комиссионера и лавочника, он получал тысячу пятьсот рублей в год. Среди остальных обитателей дома он, конечно, должен был считаться богачом и счастливцем. Сам он, впрочем, в доме № 13 не жил, но одну из квартир занимала дочь его с мужем и детьми.
Один из видных жильцов был мелкий лавочник, Навтула Серебрянник. Лавка его была в самом углу. Теперь ее можно, узнать по обломкам деревянных ларей, составлявших прилавок и валяющихся на грязном полу среди ободранных стен.
Затем в доме жили еще: приказчик галантерейной лавки Берлацкий, с женой и четырьмя детьми. Он зарабатывал сорок восемь рублей в месяц. Нисензон, человек лет сорока шести, был бухгалтером, то есть ставил бухгалтерские книги и заводил денежную отчетность. Эту, отчасти ученую, профессию он выполнял сдельно, вырабатывая рублей двадцать пять – тридцать в месяц. Мовша Паскар служил приказчиком, получал рублей тридцать пять. У него была жена Ита и двое детей. Ицек Гервиц был служителем больницы, но в последнее время, кажется, бедствовал, оставшись без места. Мовша Туркениц имел столярную мастерскую, в которой держал трех рабочих, а Бася Барабаш торговала мясом. Наконец, стекольщик Гриншпун ежедневно отправлялся с оконными стеклами и возвращался вечером домой со своим заработком.
Цифры взяты из показаний потерпевших и их родственников. Из них видно, какими богачами был населен дом № 13. Между тем, показания, данные при заявлении убытков, можно скорее заподозрить в преувеличениях, чем в утайке.
Так мирно и тихо жил этот дом до шестого апреля. Нисензон ходил, по лавкам и «ставил в них бухгалтерию», Берлацкий и Мовша Паскар продавали товары в чужих лавках, Навтула Серебрянник отпускал соседям евреям, молдаванам и русским свечи, мыло, спички, керосин, дешевый ситец и дешевые конфекты, Ицек Гервиц искал места, а стекольщик Гриншпун вставлял разбитые стекла. И никто не предчувствовал того, что должно было случиться.
Шестого апреля, в первый день величайшего из христианских праздников, в городе начались погромы. Вести о них, конечно, распространились по всему Кишиневу, и легко представить, какие часы пережили жильцы тесно набитого евреями дома № 13 при рассказах о том, что происходит в городе и как относится к этому православное общество и начальство. Впрочем, говорили, что происходит это потому, что губернатор ждет какого-то «приказа». Ночью приказ должен придти непременно, и значит – утром все будет спокойно.
К вечеру беспорядки сами собой затихли, и ночь прошла в страхе, но без погромов.
То, что произошло на следующее утро, бывшие жильцы № 13 и их соседи описывают следующим образом:
Около десяти часов утра появился городовой «бляха № 148», человек, хорошо, конечно, известный в данной местности, который, очевидно, заботясь о судьбе евреев, громко советовал всем им спрятаться в квартиры и не выходить на улицу. Евреи, конечно, исполнили этот совет, и тесные еврейские квартирки наполнились испуганными жильцами. Двери, ворота и ставни были заперты, и вся площадь около Азиатского переулка замерла в пугливом ожидании.
Я имею основание думать, что эта картина: запертые ставни, опустевшие улицы и пугливое ожидание того, что должно случиться, является характерной для предместий Кишинева в начале второго дня погрома. Я имел печальную возможность видеть я говорить с одним из потерпевших в другом месте. Это некто Меер Зельман Вейсман. До погрома он был слеп на один глаз. Во время погрома кто-то из «христиан» счел нужным выбить ему и другой. На мой вопрос, знает ли он, кто это сделал, – он ответил совершенно бесстрастно, что точно этого не знает, но «один мальчик», сын соседа, хвастался, что это сделал именно он, посредством железной гири, привязанной на веревку.
Этот Зельман жил около бойни на Магале (предместье). Совершенно так же, как и жильцы дома № 13, в этом предместье все слышали с большой тревогой о том, что происходило в городе, так же ждали приказа, который придет в ночь и не допустит дальнейших беспорядков. И так же на следующее утро в предместье, еще не испытавшее погрома и только ожидавшее со страхом и недоумением, – из города явился местный же городовой, состоявший около бойни. Его тотчас же окружили жители предместья – молдаване, соседи евреев. Меер Вейсман не слышал, что им говорил городовой. Я не предполагаю, что городовой говорил что-либо дурное или прямо подстрекающее, я думаю, что он только не чувствовал себя официальным лицом и говорил, как с добрыми соседями, одну чистую правду. А правда состояла в том, что он вернулся на свой пост без всяких специальных приказов и в городе видел, как погром идет с усиливающейся жестокостью в присутствии войск и полиции. Из этого сообщения молдаване, жившие около бойни, сделали свои выводы. Они стали держать совет, который исходил из общего положения, что им, живущим около боен, очевидно, нужно делать то же, что делают в других местах города. Из этого совещания Вейсман передает одну подробность. Вопрос шел о двух братьях, евреях: толпа решила, что одного из них можно «оставить».
Затем евреи стали прятаться, где кто мог. Меера Вейсмана с семьей скрыл у себя добрый человек, сосед-молдаванин, но жена его пришла с улицы и сказала, что толпа грозит за это расправиться и с ними. Тогда, – говорил Меер Вейсман, – «мы стали бегать». Ему пришлось потерять много времени для того, чтобы пристроить хоть маленьких детей в семье одного зажиточного соотечественника, принявшего христианство. Его дочери принимали малюток, но отец три раза выбрасывал их обратно через забор. Пришлось скрываться вместе с детьми; Меер Вейсман бежал на салотопный двор. Через некоторое время «туда пришли молдаване с дрючками и стали бить». Больше ничего он не помнит. Хотя история Вейсмана составляет некоторое отступление от прямой нити моего повествования о доме № 13, но я хочу досказать ее. Когда он очнулся в больнице, то первый вопрос его был о семье и о дочери.
– Ита! Где моя Ита?
– Я здесь, – ответила Ита, стоявшая у постели. Но больной заметался сильнее и позвал опять:
– Ита, Ита, где же ты?..
Когда она наклонилась к нему и опять повторила, что она здесь, – Меер Вейсман, не понимая еще, что случилось, стал шарить в воздухе руками и жаловаться, что не видит дочери.
Он ее не видел потому, что «христианский мальчик» выбил ему гирей другой глаз, вероятно, для симметрии. Впрочем, многие думают, что Меер Вейсман «сам виноват» и уже «с избытком вознагражден» за то, что никогда не может увидеть любимую дочь. Что же касается христианского мальчика, совершившего над евреем операцию с гирей, то он, конечно, не заслуживает слов укоризны. Он скорее является «жертвой».
Что ж, может быть, это и правда. Войти в жизнь с таким делом на совести. Какой ужас, если христианский мальчик поймет, что он сделал. Если же не поймет, то он, действительно, жертва, еще более несчастная. Только действительно ли это Меер Вейсман повинен в этой жертве?
Совершенно так же, как около боен, начиналась, по-видимому, трагедия дома № 13. Городовой «бляха № 148» так же, как его сослуживец, вернулся утром из города, где, вероятно, ждал ясных и точных приказаний, так же не получил их, так же явился в свой квартал и так же не мог дать другого совета, кроме: «Эй, жиды, прячьтесь по домам и сидите тихо!» И так же, как около бойни, в числе громил явились соседи из окрестных улиц и переулков.
Городовой «бляха № 148», отдав свое благожелательное распоряжение, сел на тумбу, так как ему явно больше ничего не оставалось делать, и, говорят, просидел здесь все время в качестве незаменимой натуры для какого-нибудь скульптора, который бы желал изваять эмблему величайшего из христианских праздников в городе Кишиневе.
А рядом в нескольких шагах от этого философа – трагедия еврейских лачуг развертывалась во всем своем стихийном ужасе. Толпа явилась около одиннадцати часов, в сопровождении двух патрулей, которые, к сожалению, тоже не имели никаких приказаний. Она состояла человек из пятидесяти или шестидесяти, и в ней легко можно было заметить добрых соседей с молдаванскими фамилиями. Говорят, они прежде всего подступили к винной лавке, с хозяином которой, впрочем, поступили довольно благодушно. Ему сказали: «Дай тридцать рублей, а то убьем». Он дал тридцать рублей и остался жив, – конечно, спрятавшись куда было можно, чтобы все-таки не быть на виду и не искушать снисходительность дикой толпы. Последняя же приступила к погрому. Площадь в несколько минут покрылась стеклом, обломками мебели и пухом.
Вскоре, однако, все почувствовали, что самое главное должно произойти около дома Мошки Маклина.
Почему, – сказать трудно. Был ли действительно у этих громил какой-нибудь план, руководила ли ими какая-то тайная организация, как об этом многие говорят в городе, или ярость толпы – это слепой призрак с закрытыми глазами, устремляющийся вперед с чисто стихийной бессознательностью, – это вопрос, который, может быть, разрешит (а может быть, и не разрешит) предстоящее судебное разбирательство. Как бы ни было, в доме № 13 к грохоту камней, треску стен и звону стекол вскоре должны были присоединиться крики убийства и смерти.
Налево от ворот, в углу, около которого сохранилась лужа крови до сих пор, есть несколько небольших деревянных сараев. В один из них спрятались от толпы громил стекольщик Гриншпун, его жена с двумя детьми, Ита Паскар, тоже с двумя детьми, и еще девочка четырнадцати лет, служанка. Изнутри сарай не запирался, и, вообще, все эти сараи напоминают картонные ящики. Преимущество их было только то, что в них нечего было ломать и грабить, и евреи рассчитывали, что здесь они будут не на виду. О защите нечего было и думать: в доме было только восемь мужчин; городовой № 148, не получив никаких приказаний, сидел на тумбе, а два патруля стояли в переулках выше и ниже разрушенного дома. А в толпе уже совершилось загадочное нарастание стихийного процесса, при котором из-под тонкого налета христианской культуры прорываются вспышки животного зверства. Разгром был в разгаре: окна были выбиты, рамы сорваны, печи разрушены, мебель и посуда обращены в осколки. Листки из священных книг валялись на земле, горы пуху лежали во дворе и кругом дома, пух носился по воздуху и устилал деревья, как иней. Среди этого безумного ада из грохота, звона, дикого гоготания, смеха и воплей ужаса – в громилах просыпалась уже жажда крови. Они бесчинствовали слишком долго, чтобы остаться людьми.
Прежде всего кинулись в сарай. Здесь был только один мужчина: стекольщик Гриншпун. Сосед с молдаванской фамилией, которого вдова Гриншпуна называла по имени, как хорошего знакомого, первый ударил стекольщика ножом в шею. Несчастный кинулся из сарая, но его схватили, поволокли под навес и здесь докончили дубинами именно на том месте, где теперь сохранилось кровяное пятно.
На вопрос, – действительно ли вдова убитого знает убийцу и не ошибается, что это был не захожий разбойник, не албанец из Турции и не беглый каторжник из тюрьмы, еврейка сказала с убеждением:
– Я его держала ребенком на свои руки. Дай бог так жить, как хорошие были знакомые.
Этот «хороший знакомый» и нанес первый удар ножом в доме № 13. После этого положение определилось: первый предсмертный стон стекольщика, – и евреям, а быть может и самой толпе, стало ясно, чего от нее следует ожидать дальше. Евреи заметались, «как мыши в ловушке», – выражение одного из кишиневских «христиан», веселого человека, который и в подобных эпизодах находил поводы для веселья.
Некоторые из них кинулись на чердак. В том самом навесе, под которым был убит Гриншпун, есть вверху темное отверстие, представляющее ход на чердак. Ход тесный и неудобный. Первый кинулся туда Берлацкий с дочерью, за ними последовал домохозяин Маклин. Маклин, как было уже сказано, не жил в этом доме. Но здесь жила его дочь, и, обеспокоенный ее судьбой, он явился на место трагедии. Дочери он не застал. Она уже ранее уехала в город с детьми. Теперь ему приходилось спасаться самому.
Все трое проникли на чердак беспрепятственно. Из этого следует, конечно, заключить, что далеко не вся толпа была проникнута жаждой крови, иначе, несомненно, их бы не допустили скрыться в этом темном отверстии, куда приходилось пролезать с трудом, на виду у погромщиков, находившихся на дворе. Они скрылись, – значит, их допустили скрыться люди, которые считали для себя удовольствием (или обязанностью) громить имущество, но не убивать людей. Однако вскоре за беглецами кинулись на чердак и убийцы.
Чердак дома № 13 – мрачное, полутемное помещение, загроможденное балками, боровами труб и подпорками крыши. Несчастные беглецы, сделав несколько поворотов (дом расположен покоем), увидели все-таки, что здесь, в полутьме чердака, душного и тесного, им не скрыться. Слыша сзади крики погони, они в отчаянии стали ломать крышу.
Два черных отверстия с разметанными вокруг черепицами еще видны на крыше дома № 13 в то время, когда я пишу эти строки. У одного из них лежал во время нашего посещения синий железный умывальный таз. Нужно было много отчаяния, чтобы в несколько минут смертельной опасности голыми руками пробить это отверстие. Но это им удалось: они хотели во что бы то ни стало взобраться наверх. Там был опять свет солнца, кругом стояли дома, были люди, толпа людей, городовой «бляха № 148», патрули. И они проломали в крыше два отверстия. Первым пролез в одно из них Мовша Маклин, так как он был человек «маленький и легкий» (характеристика одного из очевидцев). Берлацкому же предстояло сначала подсадить дочь Хайку. Затем, когда он полез сам, то один из преследователей был уже тут и схватил его за ногу.
И вот на глазах у всей толпы началась отчаянная борьба. Дочь тащила отца кверху, снизу его держал один из преследователей. Борьба, конечно, была не равная, и, разумеется, Берлацкому не увидеть бы еще раз солнечного света… Но тут Хайка Берлацкая перестала тянуть отца и, наклонившись к отверстию, попросила громилу отпустить его.
Он отпустил.
Пусть этому человеку отпустится часть его вины за то, что хотя на одно короткое мгновение, среди этой тьмы исступленного зверства, он допустил в свою душу луч человеческой жалости, что страх дочери-еврейки за жизнь еврея-отца все-таки проник в его омраченную душу. Он отпустил жида.
Что он сделал после этого? Может быть, ушел с побоища, устыженный и прозревший, вняв голосу бога, который, как об этой говорят все религии, проявляется в любви и братстве, а не в убийстве беззащитных. А может быть, он очнулся от мгновенного порыва и «раскаялся», но не в порыве зверства, а в движении человеческой жалости к убиваемым евреям, как это мы видели и на других примерах.
Как бы то ни было, а три жертвы оказались на поверхности крыши. Еще раз они увидели свет божий: и площадь, и дома, и соседей, и синее небо, и солнце, и городового «бляха № 148» на тумбе, и патрулей, ждавших приказа, и, может быть, еще того священника, который, руководимый христианским сознанием, пытался один и безоружный подойти к рассвирепевшей толпе громил.
Этот священник случайно проходил по площади, и евреи, которые смотрели с соседних домов на то, что творилось в доме № 13, стали просить, чтобы он заступился. Имени священника я, к сожалению, не знаю. По-видимому, это был добрый человек, который не думал, что есть на «святой Руси» или где бы то ни было такой народ, который заслужил, чтобы его людей убивали за какие-то огульные грехи, как диких зверей. Не думал он, очевидно, и того, что могут быть на Руси люди, которые имеют право убивать толпой беззащитных евреев, не стыдясь света и солнца. Непосредственное первое, самое правильное побуждение заставило его подойти к толпе с словом христианского увещания. Но громилы погрозили ему, и он отступил. Это, очевидно, был простой добрый человек, но не герой христианского долга. Хочется думать, что по крайней мере он не стыдится своей попытки и своего первого побуждения.
В эту ли самую минуту, или в другую произошел этот эпизод, во всяком случае, три жертвы очутились на крыше, среди города, среди сотен людей, – без всякой защиты. Вслед за ними в те же отверстия показались убийцы.
Они стали бегать кругом по крыше, перебегая то в сторону двора, то появляясь над улицей. А за ними бегали громилы. Берлацкого первого ранил тот же сосед, который нанес удар Гриншпуну. А один из громил кидал под ноги бегавших синий умывальный таз, который лежал на крыше еще два месяца спустя после погрома. Таз ударялся о крышу и звенел. И, вероятно, толпа смеялась.
Наконец всех троих кинули с крыши. Хайка попала в гору пуха во дворе и осталась жива. Раненые Маклин и Берлацкий ушиблись при падении, а затем подлая толпа охочих палачей добила их дрючками и со смехом закидала горой пуха. Потом на это место вылили несколько бочек вина, и несчастные жертвы (о Маклине говорят положительно, что он несколько часов был еще жив) задыхались в этой грязной луже из уличной пыли, вина и пуха.
Последним убили Нисензона. Он с женой спрятался в погребе, но, услышав крики убиваемых и поняв, что в дом № 13 уже вошло убийство и смерть, они выбежали на улицу. Нисензон успел убежать во двор напротив и мог бы спастись, но за его женой погнались громилы. Он кинулся к ней и стал ее звать. Это обратило на него внимание. Жену оставили и погнались за мужем; он успел добежать до дома № 7 по Азиятскому переулку. Здесь его настигли и убили. При этом называют две фамилии, одна с окончанием польским, другая молдаванская. Перед пасхой шли дожди, в ямах и по сторонам улиц еще стояли лужи. Нисензон упал в одну из таких луж, и здесь убийцы, смеясь, «полоскали» жида в грязи, как полощут и выкручивают стираемую тряпку.
После этого толпа как бы удовлетворилась и уже только громила дома, но не убивала. Евреи из ближайших домов вышли, чтобы посмотреть несчастного Нисензона. Он был еще жив, очнулся и попросил воды. Руки и ноги у него были переломаны… Они вытащили его из лужи, дали воды и стали отмывать от грязи. В это время кто-то из громил оглянулся и крикнул своим. Евреи скрылись. Нисензон остался один. Тогда опять тот же человек, который убил Гриншпуна и первый ранил Берлацкого, ударил несчастного ломом по голове и покончил его страдания.
Затем толпа продолжала работать дальше. Площадь была загромождена обломками мебели, обрывками всякого старья и выломанными рамами до такой степени, что проходить по ней было очень трудно. Одна еврейка рассказывала мне, что ей нужно было пробраться на другой конец, где остались ее дети; на руках у нее был грудной ребенок, и она напрасно дважды пыталась пройти. Наконец знакомый христианин взял у нее ребенка, и только тогда она кое-как прошла через эти беспорядочные баррикады.
В пять часов этого дня стало известно, что «приказ», которого с такой надеждой евреи ждали с первого дня, наконец, получен.
В час или полтора во всем городе водворилось спокойствие. Для этого не нужно было ни кровопролития, ни выстрела. Нужна была только определенность.
А теперь нужны будут годы, чтобы хоть сколько-нибудь изгладить подлое воспоминание о случившемся, таким грязно кровавым пятном легшее на «совесть кишиневских христиан».
И не только на совесть тех, которые убивали сами, но и тех, которые подстрекали к этому человеконенавистничеством и гнусною ложью, которые смотрели и смеялись, которые находят, что виноваты не убийцы, а убиваемые, которые находят, что могут существовать огульная безответственность и огульное бесправие.
Я чувствую, как мало я даю читателю в этой заметке. Но мне хотелось все-таки выделить хоть один эпизод из того спутанного и обезличенного хаоса, который называется «погромом», и хоть на одном конкретном примере показать, что это было «в натуре». Для этого я пользовался живыми впечатлениями очевидцев, переданными отчасти мне лично, частью же моему спутнику, который помог мне восстановить черта за чертой эту картину. Правда, это основано на показаниях евреев, но нет основания сомневаться в их достоверности. Факт несомненен: в доме № 13 убивали толпой беззащитных людей, убивали долго, среди людного города, точно в темном лесу. Трупы налицо. А затем, – не все ли равно евреям, как именно их убивали? Для чего им выдумывать подробности?..
Мораль ясна для всякого, в ком живо человеческое чувство. Но во многих ли оно живо?..
Этот тяжелый вопрос встает невольно, когда увидишь то, что мне пришлось увидеть в Кишиневе.
А впрочем… Подавленный этим ужасающим материалом, я кончал свои беспорядочные наброски, когда прочитал в газетах о смерти нотариуса Писаржевского. Имя этого человека было у всех на устах в то время, когда я был в Кишиневе. Молодой, красивый, богатый, вращавшийся в «лучшем обществе», он искал еще новых впечатлений. Десятки людей говорили мне о том, что Писаржевский, несомненно, лично участвовал в погроме, поощряя громил. Говорили также много о том, какие сильные средства пускались в ход, чтобы затушевать это вопиющее дело и скрыть прямое участие в погроме кишиневского светского льва. Хотелось бы думать, что не все верно, что рассказывали по этому поводу, но и то, что верно, составило бы очень подходящее прибавление к странной истории кишиневского погрома.
Эти усилия не удались. Истина была слишком очевидна, и в газетах появилось известие о привлечении Писаржевского к делу.
После этого он продолжал прежний образ жизни: вращался в свете, кутил, играл в карты. В роковую ночь ему очень везло в игре, он был очень весел, а на заре ушел в сад, написал на скамье: «Здесь умер нотариус Писаржевский», – и застрелился.
В газетных комментариях сообщают, что он был наследственный алкоголик, что его угнетала перспектива суда, что ему не удались какие-то любовные комбинации.
Все ли это?.. Теперь факт уже совершился, печальная расплата закончена. Мне кажется, я не унижу памяти несчастного человека, если предположу, что в том счете, итог которого сам он вывел на скамейке, могли участвовать еще некоторые цифры. Что на заре его последнего дня перед ним встало также сознание того, что сделал он, интеллигентный человек, по отношению к евреям, которых убивали христиане, и по отношению к христианам, которые убивали евреев.
Я не имел в виду создавать проекты решения еврейского вопроса. Но если бы я был один из тех еврейских миллионеров, которые заняты этим вопросом, я бы, признаюсь, не устоял против соблазна произвести один социальный опыт я бы переселил, чего бы это ни стоило, если не всех, то огромное большинство евреев из места погрома. Я вернул бы богачу его богатство и сделал бы бедняка зажиточным человеком, под условием немедленного переселения. И когда из-под снятого таким образом пласта еврейского капитала выступил бы в данном месте свой отечественный и даже патриотический капитал без примеси и без усложняющих обстоятельств, когда г. Крушевану не на кого было бы взводить мрачные небылицы о ритуальных убийствах, а ростовщики и скупщики щеголяли бы не в еврейской одежде, – тогда, надо думать, стало бы ясно, в чем тут дело и можно ли решать эти вопросы погромами и убийством «бухгалтеров» Нисензонов, несчастных стекольщиков Гриншпунов, извозчиков-евреев, добывающих свой горький хлеб трудом, таким же тяжким, как и труд их христианских собратьев…
И действительно ли гнет ростовщика легче, если он не носит еврейскую одежду и называет себя христианином?..
1903
Сорочинская трагедия*
Предисловие
В декабре 1905 года в местечке Сорочинцах и Уставши (Полтавской губ.) произошли события, вызвавшие известную «карательную экспедицию» ст. сов. Филонова.
12 января 1906 года я поместил в газете «Полтавщина» открытое письмо, в котором, рассказав о беззаконных жестокостях и массовых истязаниях, допущенных этим чиновником, взывал к суду – над ним или надо мною.
18 января, вернувшись из другой подобной же экспедиции, Филонов был убит в гор. Полтаве. Убийца скрылся.
В самый день похорон Филонова местная полуофициозная газета «Полтавский вестник» поместила от имени покойного «посмертное письмо писателю Короленко». Письмо это, уже и тогда внушавшее большие сомнения в своей подлинности, открыло обширную и ожесточенную газетную кампанию, целью которой было, во-первых, подорвать доверие к правдивости сообщенных мною фактов, а во-вторых, возбудить в читателях сомнение в прямоте и искренности моего призыва к правосудию, который выставлялся, как сознательное подстрекательство к террористическому убийству.
В газете «Полтавщина», а затем в «Русском богатстве» (январь 1906 г.) я ответил на эти инсинуации кратким заявлением[96]. Глубоко сожалея о том, что начатая мною гласная тяжба с бесчеловечными по форме и размерам административными репрессиями прервана вмешательством, которого я не мог ни предвидеть, ни тем более желать, – я выражал надежду, что и теперь ничто не помешает полтавской администрации потребовать у меня на суде доказательств правдивости всего, мною сказанного, к чему я совершенно готов.
Вскоре стало известно, что против писателя Короленко и редактора «Полтавщины» Д. О. Ярошевича возбуждается преследование по п. 6 гл. 5 отдела III временных правил о печати[97]. Тогда, с своей стороны, я прекратил всякую полемику по этому предмету, в ожидании компетентной проверки фактов, в результатах которой я не имел оснований сомневаться.
Это соображение не остановило начатой против меня кампании. Быть может, именно потому, что результаты судебного расследования легко было предвидеть, – газеты известного лагеря постарались широко использовать время до решения суда. Поток инсинуаций разливался все шире. Клевета проникла, наконец, на столбцы министерского органа «Россия» и была повторена г-м Шульгиным с высоты депутатской трибуны.
Теперь следствие закончено, и самое дело прекращено, так как изложенные мною факты подтвердились. С этим проверенным материалом в руках я имею теперь возможность ответить на клевету.
Впрочем, если бы дело шло только обо мне лично, то, вероятно, я пригласил бы моих противников поддержать их обвинения против меня тем же судебным порядком, каким я поддерживал свои по отношению к «филоновской экспедиции». При этом мне представлялся широкий выбор противников, начиная с министерского органа и кончая «Полтавским вестником», открывшим кампанию заведомо подложным письмом.
Но я считаю, что значение «сорочинской трагедии» гораздо шире личного вопроса и даже вопросов местных. Это – типичная «карательная экспедиция», освещенная теперь с начала и до конца, со всеми характерными чертами этого явления наших «конституционных дней». Роль администрации, суда, официозной и независимой печати в этом эпизоде до такой степени поучительны, что ими совершенно поглощаются частные вопросы личного порядка.
Поэтому я и решил развернуть перед обществом всю эту картину, как она рисуется теперь на основании официально проверенного материала.
При этом читатели могут судить попутно и о том, имели ли писатель Короленко и независимая полтавская печать право и даже обязанность напечатать «открытое письмо» с призывом к суду, и на чьей стороне были не только право и правда, но и самая строгая «законность».
I. Сорочинцы и Устивица
Все это случилось через месяц после манифеста 17 октября 1905 г.
В России долго будут помнить это время.
В разгар общей забастовки, среди волнений, закипавших по всей стране, манифест провозглашал новые начала жизни и во имя их призывал страну к успокоению. В записке гр. Витте, приложенной к манифесту по высочайшему повелению, говорилось, между прочим, что «волнение, охватившее разнообразные слои русского общества, не может быть рассматриваемо… только как результат организованных действий крайних партий. Корни этого волнения, несомненно, глубже». Они в том, что «Россия переросла формы существующего строя».
Дальше говорилось о необходимости полной искренности в проведении новых начал, а властям предстояло сообразовать с ними свои действия.
Отсюда вытекали, разумеется, неизбежные последствия: так как вина в волнениях, происходящих в обществе, «переросшем формы существующего строя», признавалась по меньшей мере двусторонней, то и меры успокоения должны быть тоже двусторонни. Перед властью лежала сложная и ответственная задача: с одной стороны, она не могла, конечно, допустить насилий, погромов и захватов, но с другой – должна была показать, что сила власти направлена только на поддержание закона и регулируется законом. Старые приемы произвола, административных усмотрений и безответственности должны были отойти в прошлое. Только из приемов самой власти общество и народ могли увидеть, что обещания манифеста не одни слова, что они входят в жизнь как действующая уже и живая сила.
Этих простых и общепризнанных положений, заштемпелеванных и даже высочайше утвержденных, совершенно достаточно для освещения описываемых мною событий. Местная независимая печать стояла в филоновском деле именно на этой точке зрения.
К сожалению, те, для которых она, по-видимому, являлась наиболее обязательной, были совершенно не подготовлены к ее пониманию. Отсюда сорочинская трагедия. Отсюда и много других трагедий, которые переживала и еще переживет наша страна, «переросшая формы своего существования», которые, однако, продолжают давить ее с прежнею силой.
23 декабря 1905 года я вернулся из Петербурга в Полтаву.
В городе в это время рассказывали ужасы о мрачной драме, разыгравшейся в мест. Сорочинцах (прославленных некогда веселыми рассказами Гоголя) и в соседней Устивице.
В местной газете были помещены известия об этих событиях[98]. В первой корреспонденции сообщалось, что в ночь на воскресенье, 18 декабря, в Сорочинцах был арестован (в административном порядке) местный житель Григорий Безвиконный. «В ответ на это, – продолжает корреспондент, – 19 декабря, с общего согласия крестьян, был арестован при волостном правлении сорочинский пристав. Крестьяне думали таким образом ускорить освобождение Безвиконного». Вслед за приставом арестовали и урядника Котляревского.
В Полтавской губернии подобные вспышки были уже в других уездах, причем, по-видимому, толпа была особенно чутка к арестам в административном порядке лиц, читавших и объяснявших манифест народу. Так, в гор. Зенькове, после ареста такого толкователя Никольского, толпа около двух тысяч человек двинулась к тюрьме. Стражники стреляли, но это не помогло. Толпа росла, увеличиваясь пришельцами из деревень. На следующий день прибыл освобожденный Никольский и успокоил народ, «обнадежив его милостью высшего начальства», которое (по его словам) не оставит безнаказанным опрометчивый поступок исправника, повлекший за собой кровавые жертвы. Толпа разошлась, причем ни грабежей, ни других беспорядков больше не было, и столкновение разрешилось на этот раз без дальнейших несчастий[99].
14 декабря такое же волнение было вызвано в Лохвице административным арестом местного жителя И. П. Бедро. Толпа арестовала помощника исправника и повела его к волости. Отряд драгун освободил его, и в толпу было дано три залпа. Оказались раненые, в том числе трое, тяжело[100].
В местечке Ковалевке (Пирятинского уезда) такое же впечатление произвел арест крестьянина Оправхата…
Очевидно, народ «слишком непосредственно» принимал обещания манифеста о «неприкосновенности личности» и «ответственности лишь по суду», считая эти обещания уже вошедшими в силу. Между тем администрация, особенно уездная, не желала отказаться от привычных способов действий. Понятно, что всякая возбуждающая агитация на этой почве встречала в народе восприимчивое и отзывчивое настроение.
Какое значение имел арест Безвиконного для дальнейших событий, – лучше всего можно судить из показаний полицейских, которых в этом случае нельзя заподозрить в тенденциозности. Пристав Якубович в своем показании, воспроизведенном в газете «Полтавский вестник»[101], говорит, что ему кричали: «Мы знаем теперь, зачем существует полиция. Чтобы красть людей». Еще определеннее свидетельство другого полицейского, урядника Котляревского, претерпевшего плен вместе с приставом. «Обсуждая события 19 декабря, – простодушно и метко говорит этот очевидец, – я должен сказать, что в местечке Сорочинцы сравнительно все было спокойно, и начались волнения с введения усиленной охраны, когда появились слухи о производившихся арестах». Сам Безвиконный, по словам Котляревского, не пользовался особенной популярностью. Но его арест послужил все-таки «предлогом для начала смуты».
Народным настроением воспользовался неведомый заезжий «оратор Николай». Уже 16 числа он появился в Сорочинцах и говорил речи перед толпой. Все это, однако, держалось в известных пределах, довольно обычных для того времени. С арестом Безвиконного настроение толпы резко поднялось. Арестовали пристава, звонили в набат, собирались с дрекольем. «Оратор» указывал на примеры, когда народу удавалось добиться освобождения административно арестованных.
19 декабря, то есть на следующий день после ареста пристава, часов в одиннадцать утра в местечко прискакал из Миргорода помощник исправника Барабаш с сотней казаков. Население собралось по набату на площадь; многие были вооружены вилами, косами, дрючками и т. д. «Оратор Николай» был тут же. Барабаш просил крестьян пропустить его к приставу. Крестьяне согласились на это и проводили Барабаша к «пленнику», но на требование освободить пристава ответили отказом, требуя в свою очередь предварительного освобождения Безвиконного. Барабаш в этих трудных обстоятельствах сделал самое худшее, что только мог сделать: после переговоров он сначала уехал с своим отрядом, а потом вернулся к торжествующей и ободренной этим отступлением толпе. Здесь во время новых переговоров произошел, между прочим, следующий инцидент. Какая-то женщина ткнула длинной палкой в морду коня начальника отряда, полковника Бородина. Ее застрелил казачий урядник К[102]. Можно предполагать с большой вероятностью, что именно этот выстрел, раздавшийся среди страшного напряжения еще до сигнального рожка (когда полк. Бородин «уговаривал толпу») и убивший женщину, – послужил сигналом для последовавшей за ним свалки, которая разразилась стихийно и ужасно. На месте остались смертельно раненый Барабаш и восемь человек сорочинских жителей; двенадцать других были тяжело ранены и убиты в разных местах, на дворах и улицах местечка.
На другой день (то есть 20 декабря), – по словам того же урядника Котляревского, – «все уже было спокойно». В переполненной больнице подавали помощь раненым. Барабаш и несколько сорочинских жителей умерли. Возбуждение предшествующих дней сразу упало. Наступила полная реакция.
Это был критический момент всего дела, мертвая точка, с которой оно могло направиться по новому пути, намеченному манифестом, или ринуться по старому, в глубину административного произвола. За дни возбуждения и волнений, корни которых тоже ведь надо было искать «глубже организованных действий крайних партий», – местечко заплатило уже тяжкой, кровавой ценой. Теперь только суд мог с достаточным авторитетом разобраться в первом действии этой трагедии, от которой погиб Барабаш, но погибло также двадцать сорочинских жителей, не говоря о раненых.
Если бы обещания манифеста искренно признавались не отвлеченными рассуждениями, а живой и действующей силой, с которой «администрация должна сообразовать свои действия», то, конечно, суд вступил бы со своим вмешательством тотчас после «усмирения».
Вышло не так. Полтавская администрация еще раз взяла на себя старую роль судьи в деле, в котором, по самым элементарным представлениям, она с момента усмирения должна была явиться уже только стороной, – обвиняющей и, может быть, защищающейся против обвинений.
От старых привычек отказываться трудно, особенно когда нет к тому и особого желания.
Наступало роковым образом второе действие сорочинской драмы.
В местечко был командирован Ф. В. Филонов, старший советник губернского правления, в распоряжение которого дан отряд казаков, с двумя пушками. Отряд вступил в Сорочинцы 21 декабря, и уже в ночь на 22-е были беспрепятственно произведены аресты так называемых «зачинщиков».
Тем не менее 22-го, по приказанию Филонова, казаки согнали без разбора на площадь перед волостью причастных и непричастных к событиям жителей. Здесь Филонов поставил всю тысячную толпу на колени в снег. Толпа покорно встала, что уже само по себе дает яркое доказательство отсутствия всякого бунта. Тем не менее Филонов продержал ее в этом положении по самым умеренным показаниям (казачьих есаулов и полицейских) не менее трех часов, – что уже само по себе составляет истязание. На этом фоне производились и другие действия, подробно описанные в моем «Открытом письме».
На следующий день, 23-го, отряд выступил в Устивицу, куда перенес ту же грозу, несмотря на то, что там не было никаких насилий, никого не арестовали и не убивали, а только самовольно закрыли винную лавку.
Все происшедшее было оглашено в газете «Полтавщина», в номерах, вышедших 23 и 30 декабря.
Таковы были события, – чудовищные и, как всегда, еще преувеличенные рассказы о которых я застал, вернувшись в Полтаву перед самым Рождеством 1905 года. По этому поводу ко мне, как к одному из заметных работников печати, присылали письма, являлись лично возмущенные, взволнованные, негодующие люди с требованиями более энергичного вмешательства независимой прессы.
Упрекаю себя в том, что я некоторое время медлил. У меня была своя спешная работа. Я считал, что многое в этих рассказах преувеличено, и не мог взяться за это дело без тщательной проверки. Наконец – в печати были уже оглашены все факты. Земский начальник (Данилевский) официально докладывал о них губернатору (кн. Урусову). Почетный мировой судья Лукьянович, имение которого находится по соседству с Устивицей, 31 декабря послал подробное официальное сообщение прокурору полтавского окружного суда. Трудно было думать, что и после этого никто, ни администрация, ни судебная власть, не удержит дальнейших бесцельных жестокостей.
Никто не удержал их, и вскоре из уездов стали приходить известия самого тревожного свойства. В селе Кривая Руда, в которой не было уже никаких беспорядков, Филонов произвел погром, показывавший, что военный отряд отдан, по-видимому, в распоряжение человека, одержимого какими-то болезненными приступами непонятной жестокости.
II. Кривая Руда. Эпидемия насилий
На этот раз погром был вызван забастовкой на хуторе земского начальника Надервеля. Отправляясь туда, Филонов распорядился, чтобы староста села Кривой Руды, через которую только лежал путь на хутор земского начальника, заготовил (бесплатно) обед для казачьего отряда и созвал полный сход. Жители Кривой Руды, не допускавшие в своем селе никаких беззаконий, считали и себя в свою очередь состоящими под охраной законов и потому отказали старшине в бесплатной выдаче припасов, а сход, собравшись в полном составе, ждал с утра до восьми часов вечера. Видя, что отряда нет, старшина счел себя вправе распустить усталых и озябших людей по домам.
Этого для Филонова было достаточно, чтобы повторить в мирном селе все то, что он произвел в Сорочинцах, где все-таки было ранее вооруженное столкновение. Приехав вечером, он прежде всего потребовал к себе старшину, сорвал с него знак, избил палкой по лицу, затем принялся за писарей, которых таскал за бороды из одного конца комнаты в другой. Среди холода и темноты наскоро был согнан сход из двухсот-трехсот человек, ничего не понимавших и ни к каким забастовкам непричастных («многие из попавших на этот сход сами имеют годовых рабочих», – прибавляет корреспондент). Выйдя на крыльцо, Филонов закричал: «Шапки долой, на колени, мерзавцы! Выдавай виновных!» Толпе не было объяснено даже, кто виновен, и в чем виновен, и кого следует выдавать. В это время казаки привели к крыльцу отставного земского фельдшера Багно. Увидав его, Филонов закричал: «Долой шубу!» С больного старика сорвали шубу, закатили пиджак, два казака нагнули за волосы и за бороду, а два начали бить, пока он свалился на землю. После этого его заперли в арестантскую и принялись за толпу по очереди. «Выбирать не выбирали, а просто били по порядку, кто ближе стоял на коленях».
Тогда, под влиянием ужаса (все это, напомним, происходило в темноте и среди полного недоумения о причинах нападения), кто-то в толпе поднялся, чтобы бежать. Толпа последовала этому примеру. Люди побежали в беспорядке. Казачий есаул крикнул: «Руби!» «Никто не успел опомниться – все смешалось. Каждый видел перед собою только смерть. Ночь безлунная, хотя и звездная, наводила еще больший ужас на души суеверных, беззащитных крестьян… Бежали прямо под шашки, топча и давя друг друга…»[103]
К этой картине, которой мне приходится дополнить свое «Письмо», прилагаемое ниже, считаю необходимым прибавить здесь же следующую оговорку: она заимствована мною из корреспонденции газеты «Полтавщина», напечатанной долго спустя[104], так как редакция подвергла ее предварительно самой тщательной проверке. По этому поводу губернатор, князь Урусов (к сожалению слишком поздно), командировал чиновника г-на Устимовича. для проверки газетных сведений о деяниях своего «старшего советника», а, вероятно, также на предмет возбуждения нового дела против газеты. Но г. Устимович счел своей обязанностью сделать правдивый доклад, подтвердивший сведения, сообщенные корреспондентом. В приобщении к моему делу этого доклада мне было отказано, но самый факт командировки и ее результатов установлен показанием старшего советника губернского правления г. Ахшарумова, который, – правда в очень смягченной форме, – признал в своем показании по моему делу, что дознание Устимовича действительно было и что Филонов «при исполнении служебных обязанностей применял по отношению к некоторым лицам репрессивные меры, граничащие с физическим воздействием, почему судебного преследования против газеты за означенную корреспонденцию возбуждено не было…»[105]
«Меры, граничащие с физическим воздействием», – это, конечно, выражение очень изящное, в чисто канцелярском стиле, но зато окончание изящной фразы вполне определенно: газета не была привлечена к ответственности, несмотря на всю готовность администрации, потому что ее сведения подтвердились. А она говорила не о мерах, «граничащих с воздействием», а о таких мерах, которые далеко перешли границу, отделяющую простые «воздействия» от истязаний, и применялись к мирным жителям, ничем, с своей стороны, не нарушившим существующих законов.
Была еще причина, побудившая меня взяться за перо: жестокость Филонова заражала подчиненных и переходила в какую-то эпидемию.
Еще Петр Великий на своем образном языке указывал последствия того, «когда начальствующий сойдет с фарватера» правды и закона. «Первее всего станет тщиться всю коллегию в свой фарватер сводить… А видя то, подчиненные в какой роспуск впадут».
Этот «роспуск» уже ширился по губернии. Почетный мировой судья Лукьянович сообщал прокурору о появлении в его усадьбе какой-то пьяной банды, которая без всяких законных полномочий начинала рыскать по хуторам, чтобы хватать неблагонадежных, а вернее, конечно, – сводить свои счеты. Из Хорольского уезда газете «Полтавщина» сообщали, что после «усмирения» на хуторе Дубовом исправник для производства дознания собрал жителей и крикнул: «На колени, крамольники!» «Крамольники» стояли в луже, но, окруженные казаками, стали на колени в ледяную воду и простояли два часа. «Крамолу изгнали, – прибавляет корреспондент, – а ревматизмов приобретено немало»[106].
Такие известия приходили из разных мест. Одни слухи о приближении филоновского отряда вызывали панику, которую ярко рисуют некоторые свидетели по моему делу.
«Я наблюдала картину настоящей паники, – говорит, например, устивицкая учительница Крапивина[107]. – Люди куда-то шли из центра местечка и вели с собой детей. Шли оторванные от предпраздничной работы женщины, запачканные в меле, так как они мазали хаты».
Другой свидетель, случайно гостивший в Устивице, дает картину первых моментов после занятия отрядом села: «Один ожидаемый приезд отряда нагнал на народ панику. Многие с уезда (приезжие?) принялись убегать даже с детьми, куда глаза глядят. Были такие, что прятались в лесу или в соседних селениях». На улице ему попались два казака, которые гнали какого-то старика (на сход), подгоняя его нагайками. Взобравшись (вероятно, для безопасности) на колокольню, он «хорошо видел, что казаки (несколько человек) бегают по улицам, по дворам и гоняются за какими-то людьми, не то мужчинами, не то женщинами».
«Одна местная жительница, красивая, молодая женщина, еле отделалась от любезностей гонявшихся за нею и так перепугалась, что нервно заболела»[108].
Вот во что, под влиянием «старшего советника», «уклонившегося с фарватера закона», превращались отряды, назначенные для восстановления закона и «спокойного доверия к власти». И не было видно такой закономерной власти, которая бы пожелала и смогла положить этому предел и напомнить об ответственности «не одних обывателей, но и должностных лиц».
Администрация, по-видимому, не желала.
Суд, вероятно, не мог.
Оставалась печать, и я чувствовал угрызения совести, что не сделал ничего тотчас же по получении известий о сорочинской катастрофе. Я надеялся на последствия фактических газетных корреспонденций и на официальные сообщения почетного мирового судьи. Но за ними последовали только истязания ни в чем неповинных криворудских жителей. Очевидно, нужно было сказать что-нибудь более яркое и более сильное, чем фактические корреспонденции провинциальной газеты.
При данных обстоятельствах эта задача явно ложилась именно на меня, и, после известий о Кривой Руде, я уже не мог думать ни о каких других работах.
Разумеется, наиболее благодарным материалом для ее исполнения являлся криворудский эпизод, не осложненный никакими «беспорядками», где явное беззаконие, с начала и до конца, было на одной только стороне. Но это требовало, разумеется, новой тщательной проверки, а дни уходили, разнося ужас и панику, подавляя всякие надежды на законный исход, принося, быть может, новые экспедиции и новые жестокости.
В это именно время в Полтаву приехали двенадцать человек сорочинских жителей, которые сами пожелали дать для печати сведения о происшествиях в их селе, принимая ответственность за правильность сообщения. Я по очереди опросил их, записал их показания, сопоставил их друг с другом и исключил все, что возбуждало хоть в ком-нибудь из них сомнение и не подтверждалось двумя-тремя человеками.
Так был получен материал для нижеследующего письма, которое я привожу целиком и без всяких изменений. Читатель увидит, надеюсь, что картина, в нем изображенная, бледнее той, которая рисуется следственным материалом. И если при этом мне приходится повторять о мертвом то, что я писал, призывая к суду живого; если мне придется дополнить картину его действий новыми подробностями, доставленными запоздалым официальным расследованием, то пусть вина в этом падет на тех, кто в течение целого года, пользуясь моей сдержанностию в ожидании суда, – продолжали извращать факты, известные целому краю, не останавливаясь при этом даже перед подлогами от имени покойного Филонова.
Истина имеет свои права, и теперь пусть общество судит не только о действиях Филонова, но и о том, какими средствами защищали этот образ действий его живые единомышленники.
III. Открытое письмо статскому советнику Филонову[109]
Г. статский советник Филонов!
Лично я вас совсем не знаю, и вы меня также. Но вы чиновник, стяжавший широкую известность в нашем крае походами против соотечественников. А я писатель, предлагающий вам оглянуться на краткую летопись ваших подвигов.
Несколько предварительных замечаний.
Б местечке Сорочинцах происходили собрания и говорились речи. Жители Сорочинец, очевидно, полагали, что манифест 17 октября дал им право собраний и слова. Да оно, пожалуй, так и было: манифест действительно дал эти права и прибавил к этому, что никто из русских граждан не может подлежать ответственности иначе, как по суду. Он провозгласил еще участие народа в законодательстве и управлении страной и назвал все это «незыблемыми основами» нового строя русской жизни.
Итак, в этом отношении жители Сорочинец не ошибались. Они не знали только, что, наряду с новыми началами, оставлены старые «временные правила» и «усиленные охраны», которые во всякую данную минуту представляют администрации возможность опутать новые права русского народа целою сетью разрешений и запрещений, свести их к нулю и даже объявить беспорядком и бунтом, требующим вмешательства военной силы. Правда, администрация приглашалась сообразовать свои действия с духом нового основного закона, но у нее были и старые циркуляры, и новые внушения в духе прежнего произвола.
В течение двух месяцев высшая полтавская администрация колебалась между этими противоположными началами. В городе и в губернии происходили собрания, и народ жадно ловил разъяснения происходящих событий. Конечно, были при этом и резкости, быть может излишние, среди разных мнений и заявлений были и неосновательные. Но мы привыкли оценивать явления по широким результатам. Факт состоит в том, что в самые бурные дни, когда отовсюду неслись вести о погромах, убийствах, усмирениях, – в Полтаве ничего подобного не было. Не было также тех резких форм аграрного движения, которые вспыхивали в других местах. Многие, и не без основания, приписывали это, между прочим, и сравнительной терпимости, которую проявила высшая полтавская администрация к свободе собраний и слова. Под их влиянием стихийные страсти народа умерялись, сознание росло, ожидания вводились в закономерное русло, надежды обращались к будущим свободным учреждениям страны. Казалось, еще немного, и народное мнение сложится и прояснится, как проясняется вино после шумного и мутного брожения. А затем ему предстояла окончательная переработка в высшем законодательном учреждении страны.
Теперь это уже только прошлое. С 13 декабря полтавской администрации угодно было переменить свой образ действий. Результаты тоже налицо: в городе – дикий казачий погром, в деревне – потоки крови. Вера в значение манифеста подорвана, сознательные стремления сбиты, стихийные страсти рвутся наружу, или, что гораздо хуже, – временно вгоняются внутрь, в виде подавленной злобы и мести.
Зачем я говорю вам все это, г. статский советник Филонов? Я, конечно, хорошо знаю, что все великие начала, провозглашенные (к сожалению, лишь на словах) манифестом 17 октября 1905 года, вам и непонятны, и органически враждебны. Тем не менее, это уже основной закон русского государства, его «незыблемые основы». Понимаете ли вы, в каком чудовищно-преступном виде предстали бы все ваши деяния перед судом этих начал?
Но я буду «умерен». Я буду более чем умерен, я буду до излишества уступчив. Поэтому, г. статский советник Филонов, я применю к вам лишь обычные нормы старых русских законов, действовавших до 17 октября.
Факты.
В Сорочинцах и соседней Устивице происходили собрания без формального разрешения. На них говорились речи, – принимались резолюции. Между прочим, постановлено закрыть винные монополии. Составлены приговоры и, не ожидая официального разрешения, монополии закрыли, на дверях повесили замки.
18 декабря, на основании усиленной охраны, то есть в порядке внесудебном, арестован один из сорочинских жителей, Безвиконный. Односельцы потребовали, чтобы его предали суду, а до суда отдали им на поруки. Такие требования о судебном расследовании, вместо ненавистного административного усмотрения, – становятся общими, имели место в разных селах и местечках нашей губернии и сопровождались кое-где успехом. Сорочинцам было отказано. Тогда они, в свою очередь, арестовали урядника и пристава.
19 декабря помощник исправника Барабаш приехал в Сорочинцы во главе сотни казаков. Он виделся с арестованными и, как говорят, уступая их убеждениям, обещал ходатайствовать об освобождении Безвиконного и отошел с отрядом. Но затем, к несчастью, он остановился на окраине, разделил свой отряд, сделал обходное движение и опять подъехал к толпе. Произошло роковое столкновение, подробности которого установит суд. В результате смертельно ранен помощник исправника, смертельно ранено и убито до двадцати сорочинских жителей.
Известно ли вам, г. статский советник Филонов, при каких обстоятельствах погибли эти двадцать человек? Все они убивали исправника? Нападали? Сопротивлялись? Защищали убийц?
Нет. Казаки не удовольствовались рассеянием толпы и освобождением пристава. Они кинулись за убегавшими, догоняли и убивали их. Этого мало: они бросились в местечко и стали охотиться за жителями, случайно попадавшимися на пути.
Так, именно, около дома г-на Малинки был убит сторож Отрешко, мирно обметавший снег около хозяйского крыльца[110]. Так Евстафий Гарковенко «смы́кал» для скота сено из стога в своем дворе, за версту от волостного правления. Казак прицелился с улицы, и раненый Гарковенко упал прежде, чем мог заметить злодея. Так, старик-аптекарь Фабиан Перевозский возвращался с сыном из почтового отделения. Около дома Орлова их настиг убийца-казак, который застрелил сына на глазах у отца. Так Сергей Ив. Ковтун убит в шести саженях от своих ворот. Так женщина, жена крестьянина Маковецкого, убита в самых воротах. Так у девушки Келеповой прострелены пулей обе щеки[111]. Я мог бы вам перечислить, при каких условиях и где именно убиты все погибшие в Сорочинцах. Но я считаю достаточным сказать, что восемь человек убиты у волостного правления и в непосредственной близости, двенадцать же пали на улицах, у своих домов и в глубине дворов.[112]
Теперь, г. статский советник Филонов, я позволю себе спросить: одно ли преступление совершено в Сорочинцах 19 декабря, или их совершено много? Думаете ли вы, что драгоценна только кровь людей в мундирах, а кровь людей в свитках и сермягах, кровь Отрешка, Гарковенка, Ковтуна, Маковецкой, Келеповой и им подобных можно лить безнаказанно, как воду? Не кажется ли вам, что, если необходимо исследовать, кто и при каких обстоятельствах убил несчастного Барабаша, то не менее необходимо, чтобы правосудие занялось и тем, кто, вооруженный, убивал на улицах, на дворах, в огородах безоружных простых людей, не нападавших, не сопротивлявшихся, не бывших на месте рокового происшествия, не знавших о нем и умерших в этом незнании.
О, да! Мне нет никакой надобности применять к этой трагедии великие начала нового основного закона… Для этого достаточно любого закона любой страны, имеющей хоть самые несовершенные понятия о законе писанном или обычном. Отправьтесь, г. статский советник Филонов, в страну полудиких курдов, на родину башибузуков. И там любой судья ответит вам: «У нас, – скажет он без сомнения, – тоже много вооруженного разбоя, опозорившего нашу страну перед целым светом. Но и наши несовершенные законы признают, что кровь людей в простой одежде так же взывает к правосудию, как и кровь убитого чиновника».
Решитесь ли вы открыто и гласно отрицать это, г. статский советник Филонов?
Наверное – нет! И, значит, мы оба согласны, что представителю власти и закона, отправлявшемуся в Сорочинцы впервые после трагедии 19 декабря, предстояла суровая, но и почетная и торжественная роль. В это место, уже охваченное смятением, печалью и ужасом, он должен был внести напоминание о законе, суровом, но беспристрастном, справедливом, стоящем выше увлечений и страсти данной минуты, строго осуждающем самосуд толпы, но также (заметьте это, г. статский советник Филонов) не допускающем и мысли о кастовой мести со стороны чиновничества всему населению.
Ему предстояло еще показать народу, что законы в России не перестали действовать, но что и гарантии правосудия, торжественно обещанные царским манифестом, – тоже не мертвая буква и не нарушенное обещание. Но об этом мы уже условились не говорить с вами, г. статский советник Филонов. Притом же, если бы эта последняя задача имелась в виду, то, конечно, ее возложили бы не на вас.
Между тем, к удивлению многих в Полтаве, именно на вас возложена тяжелая, трудная и почетная роль представителя «законной» власти в местечке Сорочинцах после 19 декабря.
Как вы ее поняли? И как выполнили?
Факты.
21 декабря из Сорочинец увезли тело несчастного Барабаша, умершего в больнице. Еще не стих печальный перезвон церковных колоколов, как вы, г. статский советник Филонов, въехали в Сорочинцы во главе сотни казаков[113].
Были ли в то время какие-нибудь признаки возмущения? Было ли вам оказано сопротивление? Построили вам навстречу баррикады? Собрались с оружием? Мешали вашим следственным действиям?
Нет, в местечке Сорочинцах не было уже никаких признаков, которые бы говорили о сопротивлении и противодействии. Жители были подавлены страшным несчастием 19 декабря, разразившимся над ними неожиданно, стихийно и так ужасно[114]. Они понимали, что теперь неизбежно вмешательство правосудия и, если бы в село прибыл судебный следователь, вооруженный только законом, то и он не встретил бы ни малейшего сопротивления. А если бы с ним и были казаки, то они знали бы, что их роль – только охрана должностного лица и его законных действий, а не наказание еще не обвиненных людей, не буйство, не истязания, не насилия, которые, в свою очередь, караются законом.
Да, это, несомненно, было бы так, тем более, что от судебной власти жители ждали бы правосудия и для себя, за кровь своих близких…
Но в Сорочинцы был послан не судебный следователь, а вы, г. статский советник Филонов (старший советник губернского правления), и на вас падает вина в том, что вооруженный отряд, отданный в ваше распоряжение, из охранителей силы закона превратился в его нарушителей и насильников.
Вы сразу стали поступать в Сорочинцах, как в завоеванной стране. Вы велели «согнать сход» и объявили, что, если сход не соберется, то вы разгромите все село, «не оставив от него и праха»[115]. Мудрено ли, что после такого приказания и в такой форме казаки принялись выгонять жителей по-своему. Мудрено ли, что теперь в селе, называя имена, говорят о целом ряде вымогательств и даже изнасилований, произведенных отрядом, состоявшим в вашем распоряжении[116].
Для чего же вам понадобился этот сход, и какие законные следственные действия производили вы в его присутствии?
Прежде всего вы поставили их всех на колени, окружив казаками с обнаженными шашками и выставив два орудия. Все покорились, все стали на колени, без шапок и на снегу. Только часа через два вы спохватились, что в этой коленопреклоненной толпе есть два георгиевских кавалера. Вы их отпустили. Потом отпустили новобранцев и малолетних. Остальных, под угрозой смерти, вы держали таким образом в течение четырех с половиной часов, даже не подумав о том, что в этой беззаконно истязуемой вами толпе могут быть лица, еще не похоронившие невинно убитых 19 декабря братьев, отцов, дочерей, перед которыми другие должны бы стоять на коленях, вымаливая прощение – в убийстве[117].
Эта толпа нужна вам была как фон, как доказательство вашего советницкого всемогущества и величия и презрения к законам, ограждающим личность и права русских граждан от безрассудного произвола. Дальнейшее «дознание» состояло в том, что вы вызывали отдельных лиц по заранее составленному списку.
Для чего? Для допроса? Для установления степени вины и ответственности?
Нет, едва вызванный раскрывал рот, чтобы ответить на вопрос, объясниться, быть может, доказать полную свою непричастность к случившемуся, как вы собственной советницкой рукой с размаха ударяли его по физиономии и передавали казакам, которые, по вашему приказу, продолжали начатое вами преступное истязание, валили в снег, били нагайками по голове и лицу, пока жертва не теряла голоса, сознания и человеческого подобия.
Так именно поступили вы, например, с Семеном Грищенко, у которого, как вам донесли, ночевал один из «ораторов». Укажите мне, г. статский советник Филонов, такой закон, по которому человек, приютивший другого на ночь, отвечал бы за все его слова и действия, самая преступность которых тоже еще не доказана? И, однако, едва Грищенко открыл рот для объяснений, как вы принялись бить его по лицу, а затем передали для побоев казакам. Избитого раз, его посадили в холодную, вам этого показалось мало: вы опять его вызвали, опять не дали говорить, опять били сами и передали казакам для вторичного истязания. Так же поступили вы еще с Герасимом Мухой, у которого хранился ключ от закрытой обществом «монополии», только этого вы еще ударили ногою в живот. Так же (два раза) били вы Василия Покрова, потом истязали Авраама Готлиба, Семена Сорокина, Семена Коверко. Я не стану перечислять здесь всех двадцать человек, которых вы били собственными руками, лягали ногами и приказывали бить нагайками[118]. Упомяну еще только студента Романовского.
Студент Романовский лицо «привилегированное», и потому вы не посмели бить его собственноручно. Вы даже не сразу приказали бить его и казакам; вы только отправили его в холодную. Тогда кто-то из казаков сказал: «почему же не под нагайки».
Вы нашли, что спросивший прав. Все равны перед законом. Вы здесь творили вопиющие беззакония, почему же не уравнять всех перед беззаконием. Студента вызвали из холодной. Едва он вышел на крыльцо – его толкнули на снег и избили… К счастью, какой-то сердобольный человек посоветовал ему предварительно обернуть голову и лицо башлыком.[119]
Но и этого всего вам показалось недостаточно, и потому, оглядев толпу, стоявшую в снегу на коленях перед вашим советницким величием, вы вдохновились на новый акт изысканной жестокости. Вы велели евреям отделиться от православных, поставили их на колени отдельно и приказали казакам бить их всех, без разбора. Вы объяснили это тем, что «евреи – умны и что они враги России». Казаки ходили среди коленопреклоненной толпы и хлестали направо и налево мужчин, подростков, седых стариков. «Як вiвчар вiвцi» – по картинному выражению очевидцев[120]. А вы, г. статский советник Филонов, глядели на это избиение и поощряли бить сильнее.
Г. статский советник Филонов! Поверьте мне: я устал, я тяжко устал, излагая только на бумаге все беззаконные истязания и зверства, которым вы, под видом якобы законных следственных действий, подвергали без разбора жителей Сорочинец, не стараясь даже уяснить себе, – причастны они или не причастны к трагедии 19 декабря. А между тем, вы производили все это над живыми людьми, и мне предстоит еще рассказать, как вы отправились на следующий день для новых подвигов в Устивицу. А за вами, как за триумфатором, избитые, истерзанные, исстрадавшиеся, тащились ваши сорочинские пленники, которым место было только в больнице.
Так ехали вы в Устивицу восстановлять силу закона.
В дальнейшем я буду краток.
Что было в Устивице до вашего появления? Там не было ни бунта, ни ареста пристава, ни убийства исправника, ни столкновений. Там только жители постановили приговор о закрытии монополии и привели его в исполнение ранее получения официального разрешения. Замок на дверях монополии один только свидетельствовал о том, что жители села решили самовольно прекратить у себя пьянство[121].
Они сделали это с нарушением законных форм. Да, это правда. Ну, а вы, г. статский советник Филонов, вы – чиновник и слуга закона! Сами вы соблюдали «законные формы» при совершении вашего злого дела?
Впрочем, я, вдобавок, ошибся: еще накануне, по вашему приказу, посланному из Сорочинец, жители сняли замок, и, таким образом, к вашему приезду не было уже и этого следа закононарушения. Казенная монополия была открыта, вино продавалось пьяницам свободно и невозбранно. Это не воздержало вас, однако, от новых буйств и истязаний, которых я не стану описывать подробно, предоставляя более точное изложение суду, если таковой когда-нибудь состоится.
Здесь я скажу только, что, мстя на этот раз лишь за права казенной винной продажи, вы, прежде всего, избили старосту, с которого сорвали знак и бросили в снег. Затем вы поколотили писаря, которого били не только руками, но изломали на нем счеты, после чего писарь не мог уже составлять протоколов и писать приговоры. Тут же избит вами Дионисий Ив. Бокало, пришедший в правление за справками, которого вы колотили по голове «исходящей книгой».[122] Жителей Устивиц вы так же поставили в снег на колени, так же казаки били их нагайками и так же суду, если таковой состоится, предстоит решить, правильны ли ужасающие рассказы жителей об изнасилованиях, которым подвергали устивицких женщин казаки, находившиеся в вашем распоряжении…[123] Вы поймете, конечно, что имена жертв в этих случаях не так легко поддаются оглашению.
Толпу вы держали и здесь на коленях два часа, вымогая у нее, как и в Сорочинцах, имена «зачинщиков» и требуя приговора о ссылке неприятных администрации лиц. Вы забыли при этом, статский советник Филонов, что пытка отменена еще Александром I, что истязания тяжко караются законом, что телесное наказание, даже по суду, отменено для всех манифестом от 11 августа 1904 года, а приговоры, добытые подобными, явно преступными приемами, не имеют ни малейшей законной силы.
Я кончил. Теперь, г. статский советник Филонов, я буду ждать.
Я буду ждать, что, если есть еще в нашей стране хоть тень правосудия, если у вас, у ваших сослуживцев и у вашего начальства есть сознание профессиональной чести и долга, если есть у нас обвинительные камеры, суды и судьи, помнящие, что такое закон или судейская совесть, то кто-нибудь из нас должен сесть на скамью подсудимых и понести судебную кару: вы или я.
Вы, – так как вам гласно кинуто обвинение в деяниях, противных служебному долгу, достоинству и чести, в том, что вы, под видом следственных действий, внесли в Сорочинцы и Устивицу не идею правосудия и законной власти, а только свирепую и беззаконную месть чиновничества за чиновника и за ослушание чиновникам. Месть даже не виновным, – для их установления нужно было расследование. Нет, вы принесли слепую и дикую грозу истязания и насилия над людьми без разбора, в том числе и заведомо невинными.
А если вы можете отрицать это, то я охотно займу ваше место на скамье подсудимых и буду доказывать, что вы совершили больше, чем я здесь мог изобразить моим слабым пером. Я докажу, что, называя вас истязателем, насильником и беззаконником, я говорю лишь то, что непосредственно вытекает из совершенных вами деяний. Потому что вы, несомненно, производили истязания, насилия и беззакония. Вы попирали все законы, старые и новые, вы подрывали в народе не только уже веру в искренность и значение манифеста, но и самую идею о законе и власти. А это значит, что вы и подобные вам толкаете народ на путь отчаяния, насилия и мести.
Я знаю: вы можете сослаться на то, что вы не один, что деяния, подобные вашим, может быть, превосходившие ваши, – остаются у нас безнаказанными. Это, г. статский советник Филонов, – пока печальная истина.
И это не оправдание для вас. К вам же я обращаюсь потому, что живу в Полтаве, что она полна живыми образами ваших насилий, что до меня доносятся стоны и жалобы ваших жертв.
А если и вы, как другие вам подобные, останетесь безнаказанным, если, избегнув всякого суда по снисходительности начальства и бессилию закона, вы вместе с кокардой предпочтете беспечно носить клеймо этих тяжелых публичных обвинений, то и тогда я верю, что это мое обращение не пройдет бесследно.
Пусть страна видит, к какому порядку, к какой силе законов, к какой ответственности должностных лиц, к какому ограждению прав русских граждан зовут ее два месяца спустя после манифеста 17 октября.
За всем сказанным вы поймете, почему, даже условно, в конце этого письма, я не могу, г. статский советник Филонов, засвидетельствовать вам своего уважения.
Вл. Короленко
9 января 1906 г.
IV. Чего я добивался своим открытым письмом
Прежде всего и всего важнее: правильно или неправильно я изложил факты?
Я нарочно воспроизвел выше текст своего письма, снабдив его подстрочными примечаниями из «дела», которое по справедливости можно было бы назвать «делом о сообщении заведомо правильных сведений». Всякий, кто дал себе труд сличить текст с примечаниями, может видеть, в какой степени свидетельские показания колеблют или подтверждают фактическую часть моего письма, и много ли выигрывает память Филонова от этих дополнений.
Уже одних показаний казачьих офицеров и урядников достаточно, чтобы установить, что тысячная толпа, без разбора виновных и невинных, в том числе старики и подростки, была поставлена на колени, в снег, в декабре месяце. На три часа (!), как говорят свидетели-казаки, на четыре или пять часов, как утверждают полицейский урядник, сельские власти, священники, частные лица. В этой толпе огулом били людей, стоящих на коленях, но не всех, а только евреев, поставленных отдельно и позволивших себе роптать на это истязание. Арестованных ранее избивали до неузнаваемости. Филонов, по показанию казаков, расправлялся собственноручно, вытаскивал из толпы, наделял тумаками, по словам священника, – ударами ноги он поднимал тех, кто сам не мог подняться (так как на снегу коченели ноги!). По показанию старосты, священника, других свидетелей, – тотчас по приезде в Устивицу он достал откуда-то «простую палку» и кинулся бить ею людей, стоявших у входа в правление. Он кричал, чтобы ему подали «эту бабу», с которой он намерен расправиться. Речь шла об учительнице, которая, счастливо избегнув зверской расправы исступленного чиновника, ни к какому даже дознанию не привлекалась.
Таковы, между прочим, «маленькие дополнения», которые внесло следствие, тянувшееся около года. Неточности, которые теперь мне приходится признать, состоят в том, что у меня сказано, будто Маковецкая убита, а у Келеповой прострелены щеки, тогда как в действительности убита Келепова, а ранена Маковецкая. Есть указания на то, что Гарковенко ранен не во дворе, а на площади. Били не всех, стоявших на коленях, а только евреев, но зато «били поголовно» (показание Кияшко). «Если кто падал, то били и лежачего», – как простодушно свидетельствует один из исполнителей, бомбардир Кожевников[124].
И подумать, что все это делалось после того, как «зачинщики» были арестованы уже накануне, без малейшего с чьей бы то ни было стороны сопротивления. Все это было известно в первые же дни высшей администрации края из доклада земского начальника (г-на Данилевского), от священников, нарочно приезжавших для этого к губернатору, из газет. А суду – от почетного мирового судьи Лукьяновича, а затем из дознания, произведенного товарищем прокурора на месте.
И несмотря на все это, ст. советнику Филонову было дозволено продолжать свои походы, последствием чего явилось новое кровавое избиение уже совершенно неповинных жителей Кривой Руды!
«Обращаясь к тем частям письма Короленко, – говорится в утвержденном окружным судом заключении прокурора, – где изложена чисто фактическая сторона событий с момента столкновения толпы с казаками (а только это, замечу от себя, и лежало в компетенции суда), нельзя не признать ее в общем соответствующей действительности. Несомненно, есть и в этой части „ошибки и неточности“, по выражению свидетелей, но это всегда возможно при полной правдивости автора, когда приходится излагать события, передаваемые со слов других, да еще потерпевших людей. Как выяснилось на предварительном следствии, некоторые лица были убиты в м. Сорочинцах далеко от волости[125], а сторож г. Малинки, Отрешко, ни в чем неповинный, был убит действительно во дворе. Что касается „корреспонденции из Устивицы“, все изложенные в ней факты нашли себе полное подтверждение на предварительном следствии. Не подтвердилось лишь сообщение о грабежах и насилиях казаков над жителями, хотя по этому поводу в м. Устивицы, как и в мест. Сорочинцах, ходили упорные слухи»[126].
Итак, даже по признанию суда, факты изложены правильно. Отсюда ясна первая цель, которую я преследовал, печатая свое письмо:
Она состояла в оглашении правды.
Далее. Автор «заключения», утвержденного судом, как и авторы некоторых газетных статей, находят, что писатель Короленко недостаточно ярко оттенил события, предшествовавшие столкновению 19 декабря, и что даже стиль писателя Короленко, в первой части его письма тусклый и бледный, резко отличается от слишком яркого стиля, которым он изображает действия Филонова. Правда, и г. прокурор, и члены окружного суда, утверждавшие его заключение, высказывают справедливое соображение, что, во-первых, «освещение событий не наказуемо» (иначе сказать, не подлежит и судебной квалификации), и, во-вторых, что оно «может быть результатом просто точки зрения автора».
Это последнее соображение совершенно верно. У меня есть на все эти события своя точка зрения, отчасти, пожалуй, совпадающая с заявлениями, приложенными к манифесту 17 октября. С этой точки зрения, – «корни волнений, охвативших русский народ», лежат очень глубоко, и, чтобы говорить о них с достаточной полнотой, пришлось бы, пожалуй, подняться к событиям гораздо более ранним, чем 17–18 декабря 1905 года. Но и помимо всяких «точек зрения», суду не угодно было обратить внимание, что «разница стилей» и настроений писателя в данном случае отражала только вопиющую разницу положений.
Сорочинские жители за то, что произошло 19 декабря, понесли уже тяжкую кару, для очень многих далеко не соразмерную с виной: двадцать человек из них было убито, причем некоторые, по признанию самого суда, убиты далеко от волости и совершенно безвинно. Другие изранены и подверглись истязаниям, потому что стоять на коленях в снегу, для иных еще под ударами нагаек, хотя бы и три часа, – есть жестокое истязание. Наконец третьи – и теперь, когда я пишу эти строки, ждут еще судебного воздаяния.
А ст. советник Филонов в то время, когда я, взволнованный рассказами об его действиях, писал открытое письмо, оставался на своем посту и отправился в новые экспедиции, на новые жестокости и насилия.
Полагаю, что критики, более компетентные в вопросах стиля и настроения, увидят в моем письме естественное негодование против безнаказанности официального лица, допустившего массовые истязания, тогда как жители Сорочинец понесли наказание свыше всякой законной меры и готовы нести прибавочную кару уже по закону.
Отсюда – другая цель, которую я ясно выразил в конце своего письма:
Я добивался суда и для другой стороны.
Была и третья. Она диктовалась надеждой, что громко сказанная правда способна еще остановить разливающуюся все шире эпидемию жестокости.
Наконец, В то время, когда я писал свое письмо, – в моем воображении неотступно стояло представление об этой серой толпе, так резко пережившей такие противоположные настроения. Еще недавно она была охвачена эпидемическим волнением, загипнотизированная сильной волей одного, почти неведомого ей человека. Через два дня те же люди стояли на коленях перед другим человеком, окружившим их войском и пушками, загипнотизировавшим их ужасом беззаконных насилий.
Я хотел рассеять этот гипноз, вызвать новое настроение, достойное будущих граждан обновляющейся страны. Голос печати, независимый и смелый, должен был поднять этих людей с колен и напомнить, что и у них есть право, скрепленное обещаниями равенства перед законом, которого они должны добиваться сознательно и открыто.
Сдавленные чувства людей, покорно стоящих на коленях в снегу, под ударами нагаек и жерлами пушек, – плохая почва для «общественного спокойствия», не говоря уже о «новых началах» и их гарантиях. Гораздо надежнее со всех точек зрения напоминание «о законе, суровом, но беспристрастном и справедливом, стоящем выше увлечений и страстей данной минуты, строго осуждающем самосуд толпы»[127], но также устанавливающем равновесие между виной и наказанием и не допускающем мысли о безграничном произволе… одним словом, о законе, каким он должен быть, к которому необходимо стремиться.
И если бы дружным усилиям независимой печати, лиц из общества, подобных мировому судье Лукьяновичу, священникам, приезжавшим к губернатору, и, наконец, самим потерпевшим удалось вывести самонадеянного чиновника из-за окопов «служебной гарантии», если бы состоялся суд и приговор, который бы сказал свое внушительное «Quos ego!» не одному Филонову, но и его многочисленным подражателям, то это было бы законным выходом из трагического положения, первой еще фактической победой новых начал на местах, одним словом, это создавало бы в деле «карательных экспедиций» то, что называют «прецедентом».
Вот для чего я решился заменить безличные корреспонденции своим «открытым письмом», начинавшим планомерную кампанию. Как бы ни были слабы шансы успеха, возможный все-таки результат был тем дороже, что он был бы достигнут на почве борьбы вполне закономерной, к которой призывалось также и само население.
И если бы это действительно удалось, если бы мы имели возможность огласить первые решительные и твердые шаги в этом направлении администрации и суда, – с той самой поры та же независимая печать стремилась бы только укрепить доверие к суду и вызывать ему всякое содействие. И тогда стиль писателя Короленко своим спокойствием и равномерностью удовлетворил бы, я уверен, самых взыскательных критиков из среды господ полтавских судей.
V. Слабые проблески
Была ли какая-нибудь надежда на то, что эта прямая и ясная цель моего письма будет достигнута?
Я знаю, какие улыбки вызовет мой ответ после всего, что произошло, и после того, как сам я целый год состоял под следствием и в подозрении за сообщение заведомо правильных сведений. И тем не менее я все-таки отвечу, что эта надежда не была лишена некоторых оснований.
Мое письмо было воспроизведено частью целиком, частью в значительных выдержках на страницах многих столичных и провинциальных газет. Затем переводы и выдержки появились в заграничной прессе. Я получал из-за границы письма, с просьбой о сообщении дальнейших судеб этого дела. Население, в свою очередь, шло навстречу усилиям печати, и мне предлагали сотни свидетельских показаний на случай суда. Две женщины, потерпевшие тяжкие оскорбления, соглашались даже рассказать о своем несчастье, если действительно состоится суд над Филоновым или надо мною.
Тяжба между независимой печатью и произволом была поставлена широко и всенародно. На глазах у всей страны были указаны факты вопиющего беззакония в то самое время, когда она призывалась к законности, и характер репрессии явно не соответствовал обстоятельствам: уже в Сорочинцах толпа стояла на коленях; в Устивице картина еще менее осложнялась незначительными волнениями и закрытием винной лавки. Криворудский погром не осложнялся уже ничем, и вопиющие стороны «карательных приемов» Филонова выступали неприкрытые и беззащитные перед самым элементарным правосудием.
К тому же я оставался на месте, готовый поддерживать свое обвинение или отвечать за него. Таким образом типичная картина усмирений была поставлена точно под стеклянным колпаком, на виду у русской и заграничной печати. Оставалось довести ее до конца, освещая весь ход этого дела и каждый шаг правосудия.
Есть некоторые, косвенные, правда, указания на то, что положение полтавской администрации в эти дни было очень затруднительно и что в ее среде существовали колебания, пошатнувшие служебную неприкосновенность ст. сов. Филонова. Это я заключаю, между прочим, из той позиции, которую после моего открытого письма занял официозный орган местного чиновничества «Полтавский вестник» (редактор его, г. Иваненко, чиновник, совмещавший с редактированием «Вестника» также и должность редактора «Губернских ведомостей»).
И вот в одной из статей, появившейся спустя три дня после моего письма, эта газета не решается прямо опровергать, а только заподозревает правильность фактов (которые, конечно, официозу были отлично известны). Далее газета указывает на «наше время», когда «разные агитаторы заставляют толпу ходить с красными флагами, петь бессмысленные песни, зверски мучить животных (sic!), пускают по миру ни в чем не повинных людей», причем «зарево пожаров освещает путь озверелой толпы». Еще далее идут не особенно тонкие намеки на то, что именно писатель Короленко своей литературной деятельностью поощряет и вызывает все эти ужасы, и, наконец, высказывается предположение, что «открытое письмо» вызвано не чем иным, как мучениями совести, которая по всем этим причинам терзает писателя Короленко.
Статья кончается следующими строками, характерными на столбцах заведомого официоза:
«Г. Короленко не прочь сесть на скамью подсудимых, если на ней не сядет Филонов. Лучше всего, если сядут оба рядом, – писатель Короленко и статский советник Филонов – и свободно выскажутся один против другого – может быть, тогда яснее станет, насколько каждый из них праведник и насколько грешник. И окажутся писатель и статский советник одной цены»[128].
То, что сказано о «писателе Короленко», разумеется, никого удивить не может. Но когда небольшой местный чиновник решается в субсидируемой газетке поставить «старшего советника губернского правления» наряду с таким жалким субъектом, как писатель Короленко, когда он позволяет себе даже высказывать ужасное предположение, что старший советник губернского правления одной цены с автором «открытого письма» и достоин занять место на скамье подсудимых, то есть значительные основания думать, что положение старшего советника Филонова очень пошатнулось и что, значит, достижение той цели, которой я добивался своим письмом, становилось уже вероятным. Я думаю и теперь, что статский советник Филонов в те дни, когда г. Иваненко позволял себе третировать его так свысока, был, по крайней мере, на распутье между безнаказанностью и скамьей подсудимых, пожалуй, даже ближе к последней.
К сожалению, это теперь остается в области предположений, которые многими (не без видимых оснований) считаются слишком наивными в наших русских, условиях. Объективные факты, видимые всем на поверхности жизни, говорили другое. Для предания Филонова суду нужно было предварительное согласие высшей администрации. Но если бы начальство не одобряло его действий, то он не был бы послан во вторую экспедицию после того, как сорочинская была разоблачена и гласно, и официально.
Это во-первых.
Во-вторых, в это время в нашем крае находился генерал-адъютант Пантелеев, посланный для «водворения порядка» в губерниях Юго-западного края. 12-го января появилось мое письмо, а уже 14-го, по телеграмме этого генерал-адъютанта, газета, которая разоблачила ныне доказанные факты из деятельности чиновника, была приостановлена. Все видели в этом «административном воздействии» обычный и единственный ответ администрации на оглашения печати и на ее призывы к правосудию.
Суд хранил таинственное молчание. Передавали, так сказать, под рукой, что прокурорский надзор производил какое-то негласное дознание, но не только его результаты, а и самый факт дознания сохранялся в строжайшем секрете, точно это не была обязательная и закономерная функция судебной власти, сопряженная с открытым опросом потерпевших и свидетелей, а какое-то тончайшее дипломатическое предприятие, которое приходится скрывать самым тщательным образом, точно разведки в неприятельском лагере[129].
Таким образом на поверхности полтавской жизни оставалась старая картина: вопиющий произвол чиновника. Одностороннее вмешательство суда, направленное только на обывателей, уже потерпевших свыше меры. Административное закрытие газеты… Бессилие призывов к правосудию и нестерпимое зрелище безнаказанности вопиющих насилий.
При этих условиях стремление независимой печати, взывавшей к правосудию и надеявшейся на него, могло, разумеется, казаться совершенной наивностью. И в глубине смятенной жизни, полной темноты и бесправия, уже назревало новое вмешательство, которому суждено было сразу устранить и гласную тяжбу, начатую независимой печатью, и таинственные движения робкого правосудия, если они действительно были.
VI. Убийство Филонова и его обстановка
Ранним утром 17 января Филонов вернулся в Полтаву с трудной задачей, – оправдать свои действия, слава которых теперь вышла далеко за пределы канцелярий и даже местной печати. По свидетельству ст. советника Ахшарумова (нынешнего заместителя Филонова), когда Филонов явился к губернатору, то последний потребовал, чтобы он ответил печатно на письмо Короленко[130].
Свидание это было, вероятно, с бытовой точки зрения очень интересно. Для начальства Филонов уже раньше «объяснил» свои действия. Несмотря на официальные сообщения земского начальника, священников, почетного мирового судьи, объяснение это признано вполне удовлетворительным, и Филонов командирован вторично. От него требовали теперь объяснения печатного.
Положение затруднялось еще тем, что между Сорочинцами и этим свиданием легло «новое обстоятельство», в виде разгрома уже явно неповинной Кривой Руды.
В «Полтавском вестнике» было напечатано впоследствии, что Филонов заходил в этот день также в редакцию этой газеты. Старший советник губернского правления явился к редактору, маленькому и зависимому чиновнику, еще недавно позволившему себе в субсидируемой газетке дерзко сравнить его с писателем Короленко и высказать пожелание, чтобы они сели рядом на скамью подсудимых… Старший советник Ахшарумов свидетельствует, что Филонов «не обладал литературным талантом»; очень вероятно поэтому, что он нуждался теперь в просвещенных советах дерзкого редактора… Здесь он сказал, что вечер этого дня и следующее утро намерен посвятить на составление (требуемого губернатором) ответа…
18 января в обычное время (десять часов утра) он отправился в губернское правление, и здесь, на людной улице, неизвестный молодой человек убил его выстрелом из револьвера и скрылся.
Сложное и запутанное положение, создавшееся из привычных насилий, из их поощрения, из широкой гласности, из начинавшихся колебаний в среде администрации, из слабых признаков пробуждения правосудия, из «наивных» призывов независимой печати, разрешилось трагически просто. «Наивная» тяжба снималась с арены. Перед нами, вместо противника, который должен был защищаться и которому мы приготовились отвечать новыми, еще более вопиющими фактами, лежал труп внезапно убитого человека. Администрации представился удобный случай сделать из него в своих официозах мученика долга, а из писателя Короленко – «морального подстрекателя к убийству».
Что насилия, подобные насилиям в Сорочинцах и Кривой Руде, вызывают чувства острого негодования, а оглашение их в печати распространяет эти чувства, это верно, как и то, что особенную остроту и силу этим чувствам придает обычная безнаказанность.
Однако была ли в данном случае прямая связь между моим письмом и убийством 18 января на Александровской улице города Полтавы?
В «Полтавском вестнике», получающем сведения о происшествиях из непосредственных полицейских источников, самое убийство описано следующим образом:
«Покойный только накануне (т. е. 17 января) возвратился из служебной командировки, чувствовал себя усталым, почти больным, и предполагал несколько дней не выходить из дому. Но вчера утром, в обычное время[131], отправился на службу. Шел обычной дорогой по Александровской улице. Как говорят очевидцы, за ним в нескольких шагах шла какая-то женщина, по виду торговка, а за ней молодой человек. Поровнявшись с открытыми воротами во двор Варшавских[132], молодой человек забежал вперед и выстрелил в лицо Филонову… Затем он побежал во двор дома Варшавских и скрылся»[133].
А на другой день газета прибавила следующие, довольно существенные соображения:
«Преступник, видимо, изучил ранее дорогу, по которой Филонов имел обыкновение ходить на службу, – поджидал его вблизи ворот дома В-ских, где помещается чиновничье собрание, и, прогуливаясь там, рассматривал магазинные витрины»[134].
В книге «К убийству Ф. В. Филонова», изданной родными покойного, воспроизведены газетные известия и статьи, вызванные этой трагедией, – с слишком тенденциозным подбором. Интересно, что, воспроизведя первую заметку, издатели совершенно обошли молчанием вторую. И это понятно. Неизвестный убийца, «видимо, ранее изучил дорогу, по которой Филонов имел обыкновение ходить на службу», и выбрал место у проходного двора. Но Филонова не было в Полтаве в то время, когда появилось мое письмо, и вплоть до 17 января он был в командировке, а на службу явился в самое утро убийства. Итак, изучить обычную дорогу, взвесить все ее удобства и неудобства можно было только во время, предшествовавшее появлению открытого письма, в те дни, когда Филонов вернулся из командировки в Сорочинцы и еще не уехал в Кривую Руду.
А это значит, конечно, что убийство было взвешено и обдумано ранее, чем появилось мое письмо, и не могло явиться его последствием.
Эти соображения, справедливость и огромная вероятность которых била в глаза, издатели упомянутой книги и редакция «Полтавского вестника» сочли более удобным скрыть от читателя, предпринимая против писателя Короленко продолжительный клеветнический поход, поддержанный всеми официозами провинциальной и столичной России. Открыт он в «Полтавском вестнике» непосредственно после появления письма, но сначала неуверенно. «Писатель Короленко» признавался только равным ст. сов. Филонову, которому все же отводилось место на скамье подсудимых.
«За что убит Филонов, – спрашивает „Полтавский вестник“ еще 19 января, – неужели за те „преступления“, которые указывались г. Короленко? Но ведь Короленко звал Филонова на суд».
Скоро, однако, все эти оговорки исчезают, Филонов бесповоротно превращается в «верного царского слугу» и «доблестного исполнителя долга», а писатель Короленко выставляется сознательным подстрекателем и моральным убийцей.
Все это закрепляется появлением «посмертного письма ст. сов. Филонова».
VII. «Посмертное письмо ст. сов. Филонова писателю Короленко»
Письмо это появилось при торжественной обстановке, в самый день похорон Филонова, под звон колоколов, когда его тело переносили из собора на кладбище, в сопровождении войск, официального персонала, сослуживцев, знакомых и толпы народа.
В это самое время, то есть в разгар разностороннего возбуждения, вызванного быстро сменявшимися событиями, ходил по рукам номер «Полтавского вестника», в котором покойный чиновник обращался к писателю с рядом ответных обвинений-упреков. Очевидно, и редакция «Полтавского вестника», и ее непосредственные вдохновители, обвинявшие писателя Короленко в том, что его письмо имело значение подстрекательства, не особенно считались с обстановкой, при которой сами они выпускали «посмертный ответ».
Что же представляло собой это ответное лисьмо из-за могилы? Была ли это правда, которую можно печатать при всяких обстоятельствах?
Через несколько дней после его появления в «Полтавском вестнике» в редакцию газеты[135] «Полтавщина» явился один из родственников Филонова и выразил желание, даже требование, чтобы газета во имя справедливости перепечатала ответ Филонова на тех же столбцах, с которых раздались обвинения. Редактор Д. О. Ярошевич ответил на это готовностью поместить «письмо», выразив только желание видеть оригинал, подписанный самим Филоновым, так как в городе упорно говорили, что письмо подложное и что составлено оно не умершим Филоновым, а его живыми единомышленниками и защитниками. Г-н Ярошевич затем повторил этот вызов печатно.
Родственник г. Филонова обещал «поискать оригинал» и удалился.
Оригинал доставлен не был.
Затем, когда возникло наше «дело» и я был вызван к судебному следователю, то я просил, между прочим, о приобщении этого оригинала, как единственного показания по настоящему делу самого участника. Я считал необходимым установить его подлинность.
По требованию судебного следователя редакция «Вестника» прислала рукопись, служившую для набора, и препроводительное письмо, подписанное г-жой Филоновой. Я просил подвергнуть эти документы официальному осмотру. Оказалось:
Во-первых, что письмо писано не рукой Филонова.
Во-вторых, что подпись в конце письма сделана не Филоновым.
В-третьих, что все имеющиеся на рукописи поправки тоже сделаны не филоновским почерком.
И, наконец, в-четвертых, сослуживец и заместитель Филонова, нынешний старший советник губернского правления Л. И. Ахшарумов признал, что форма изложения тоже не филоновская, «так как покойный не отличался литературными дарованиями»[136].
Обстоятельства, при которых могло (или не могло) быть написано это письмо, тоже очень выразительны. В «Полтавском вестнике» по этому поводу есть две заметки. В первой сообщается, что Филонов был в командировке и не мог ответить на обвинения Короленко. Вернулся он 17-го и в разговоре со знакомыми сообщил, что вечером в тот же день займется составлением ответа. На другой день он был убит[137].
В другой (редакционной) статье говорится: «Накануне покойный, только возвратившись из поездки, на минуту забегал к пишущему эти строки и говорил, что вечер этого дня и следующий он посвятит исключительно на ответ и защиту себя против обвинений, какие в его отсутствии были брошены ему в известном письме Короленко. Но ему самому себя защитить не судилось, – вчера он убит»[138].
Итак, «Полтавский вестник» сам дает два свидетельских показания, из которых следует, что Филонов лишь собирался писать свой ответ, но написать его не успел.
В дополнение мы имеем еще показание вдовы покойного, которая утверждает, наоборот, что черновик письма был написан ее мужем еще в уезде и привезен готовым; затем письмо переписано начисто 17 января, т. е. уже в самый день приезда Филонова, и доставлено ее мужу одним из чиновников губернского правления. Однако самый ответ Филонова начинается словами: «Я только что вернулся из командировки и прочел Ваше письмо»…
Старший советник губернского правления Л. И. Ахшарумов, спрошенный следователем, заявил категорически, что «в числе чиновников губернского правления нет лиц, пишущих таким почерком», каким переписана рукопись… Сам он якобы в первый раз увидел «посмертный ответ» у следователя. При этом оказалось, однако, что препроводительное письмо в редакцию «Полтавского вестника» написано рукою самого г-на Ахшарумова. Обстоятельство это он объяснил тем, что «во время похорон Филонова» брат его вдовы подошел к нему и спросил совета, от чьего имени послать в редакцию «ответное письмо». Г-н Ахшарумов дал совет и согласился написать черновик письма в редакцию.
Давая это объяснение, г. Ахшарумов забыл только, что в день похорон «посмертное письмо» уже было напечатано… Значит, о письме г-н Ахшарумов, несомненно, знал раньше, и показание его явно расходится с истиной.
Наконец, что касается отсутствия самого оригинала, то г-жа Филонова дала по этому поводу следующее удивительное объяснение, которое прибавляет последний и самый замечательный штрих к этой любопытной истории: «18 января, – говорит она в своем письменном показании следователю, – муж мой отправился в губернское правление, имея в левом кармане сюртука записную книжку, в которой были заметки, по поводу сорочинских событий, а также вышеупомянутые клочки бумаги и черновик письма. В тот день он был убит, причем убийца захватил ту книжку, а также черновик письма».
Я далек от того, чтобы строго осуждать бедную женщину за все, что «доброжелатели» научили ее делать в эти дни ее растерянности и горя. Я понимаю также, что чувства ее «к писателю Короленко» были не таковы, чтобы удержать от неправдивых показаний или хотя бы от явного злоупотребления именем ее покойного мужа. Читатель согласится, однако, что появление «письма» при всех описанных выше обстоятельствах более чем странно, а подлинность его так же вероятна, как и то, что убийца, только что застреливший человека среди белого дня, на людной улице, заботится о каких-то черновиках никому неведомого «ответа», который, вдобавок, по показаниям «Полтавского вестника», покойный еще только собирался писать.[139]
Итак, документ, которым полтавский официоз открывал кампанию против меня, я имею все основания объявить явным и заведомым подлогом… Все, что нам известно точно об его происхождении, сводится к тому, что в нем, не исключая и подписи, нет ни одного слова, написанного покойным, и что он прислан в редакцию вдовой при препроводительном письме, которое писано старшим советником губ. правления г-м Ахшарумовым.
Таким образом, в лице последнего к сему похвальному делу приложила руку «полтавская бюрократия».
Последний в своем показании говорит, что полтавский губернатор кн. Урусов, при свидании с Филоновым в день его приезда, потребовал, чтобы он ответил на письмо Короленко.
«Сам он этого сделать не успел» (слова «Полтавского вестника»). За него это сделали другие, не остановившиеся перед очевидным подлогом.
Это освобождает меня от обязанности воспроизводить здесь целиком этот обширный продукт коллективного творчества подделывателей. Тем не менее он представляет некоторый интерес, уже не как ответ участника сорочинской драмы, а как ответ его среды, считающей массовые истязания доблестным исполнением долга.
Что же представляет этот ответ по существу?
Прежде всего в нем было бы совершенно напрасно искать опровержение приведенных мною ужасающих фактов. Авторы «посмертного письма» ограничиваются заявлением, что «девять десятых приписываемых Филонову подвигов ложно». И ложно, между прочим, что в Сорочинцах ко времени филоновской экспедиции уже не было бунта.
«Писатель Короленко! – говорит мнимый Филонов. – Когда я приехал в Сорочинцы, тело „несчастного“ Барабаша валялось в грязном сарае. Неоднократные мольбы родственников о выдаче тела успеха не имели, ни один из „мирных“ обывателей Сорочинцев не хотел делать гроба, а священники, боясь „справедливого народного гнева“, отказывались служить панихиду. И только благодаря моему воздействию, подкрепленному казаками, удалось добиться, чтобы несчастной жертве служебного долга был оказан последний христианский долг. Из этого, между прочим, видно, насколько правдиво ваше указание, что „в то время в Сорочинцах не было уже никаких признаков бунта“».
Все это очевидная, детски беспомощная неправда. Из дела известно, что Филонов с отрядом прибыл в Сорочинцы 21 декабря и в ту же ночь были арестованы зачинщики. И не только арестованы, но и избиты так, что вполне благонамеренный старшина Копитько не мог узнать их, когда они были приведены в правление.
Никто при этом никакого сопротивления не оказал. А когда толпу согнали на площадь и приказали стать на колени, она покорно стояла четыре часа.
И это признаки бунта?
Жители не хотели делать гроба. Но ведь всем жителям и не приказывали это делать. Значит, и этот изумительный признак бунта мог относиться разве только к плотникам. В деле нет никаких указаний на то, кто и к кому обращался с заказом. Гроб все-таки сделан, и 22 декабря утром тело проводили из села по Миргородской дороге.
«Тело валялось в грязном сарае», во власти толпы, которая отказала (якобы) выдать его, «несмотря на неоднократные мольбы родственников». Эта картина, заимствованная из донесения самого Филонова, которым, очевидно, пользовались составители письма, повторялась всеми официозами. По странному недоразумению, она частью приводится также и в «заключении» прокурора.
Между тем все это до очевидности лживо: сотник Щетихин со своими казаками отвезли раненого Барабаша и сдали его в больницу[140]. Никакая толпа после этого им не овладевала, и если бы тело умершего валялось в грязном сарае, то это было бы только нерадением больничного персонала.
Но и этого не было. Через несколько дней после появления подложного письма в «Полтавском вестнике» сорочинский врач, заведующий больницей, прислал опровержение, напечатанное 31 января в той же газете[141]. В опровержении этом говорится, что тело Барабаша не валялось ни в каком сарае, а было поставлено в коморе (горнице), которая служит мертвецкой, и куда тело было вынесено вместе с кроватью и постелью.
Что касается родственников, «умолявших толпу», то совершенно очевидно, что к толпе им обращаться не было ни малейшей надобности, так как тело не находилось в ее власти. В деле опять нет ни малейших указаний, к кому именно я кто именно обращался с мольбами. Есть показания совершенно обратные. Так, пристав Якубович говорит, что, «по приезде в Миргород, он сообщил о происшедшем несчастии жене покойного, которая так была убита горем, что не знала, что делать, и поручила ему распорядиться относительно доставления тела в Миргород». Это и было исполнено 22 декабря.
Наконец «священники боялись служить панихиды». Если бы это было так, то опять возникает вопрос, – основательна ли была эта боязнь и виновно ли в том тогдашнее настроение жителей или излишняя опасливость сорочинских пастырей.
В деле опять есть одно прямое показание, которое этому противоречит. Тот же пристав Якубович рассказывает, что в день его ареста один из сорочинских священников, о. Владимир Греченко, смело вошел в средину возбужденной толпыскрестом в руке, «убеждая ее не приводить в исполнение преступного намерения и предупреждая об ответственности». (Тот же священник дал впоследствии правдивые показания о действиях Филонова.) Можно ли поверить, что этот человек, не боявшийся уговаривать толпу в дни наибольшего ее возбуждения, отказал бы в панихиде над телом, лежавшим в больнице, если бы его о том попросили? Нужно ли прибавлять, что в деле нет опять-таки указаний, кто просил об этом и кто отказывал.
Урядник Копитько говорит определенно, что «на следующий день (20 декабря) все было спокойно». И если все эти признаки, за которые хватаются авторы подложного письма, говорят о чем-нибудь, то разве о том, как легкомысленно известная среда устанавливает порой «признаки бунта» и как тяжко приходится расплачиваться за это преступное легкомыслие.
Чтобы дать понятие об общем характере «посмертного ответа», я приведу еще его начало:
«Г. писатель Короленко! Я только что вернулся из командировки и прочел ваше открытое письмо. Сначала я не хотел отвечать на него. К чему? Мы слишком разно смотрам на вещи. Вы ненавидите всякую законную власть, презираете правительство, я – агент этой правительственной власти. Можете ли вы поэтому честно и беспристрастно отнестись к этой власти? Конечно, нет. Я недавно прочел (где?) заявление „убежденного журналиста“ (кого именно?) из ваших единомышленников (?). Он говорит: „Уважающий себя писатель не имеет права теперь говорить Правду“. По крайней мере откровенно. Но в таком случае, какую цену может иметь ваше письмо?..»
Таково начало посмертного ответа. Оно дает полное представление о тоне, каким написано все «письмо», и об его полемических приемах. На обвинения, поставленные точно, ясно, с указанием имен и фактов, с призывом к суду, – неведомые защитники отвечают, будто Филонов недавно прочел, неизвестно где, заявление неведомого журналиста, по неведомым причинам признаваемого за единомышленника Короленко. Этот журналист будто бы не рекомендует вообще говорить правду. Значит, – и Короленко говорит неправду в своем письме.
Таково это возражение чиновника писателю, вернее, – таков ответ его среды на вызов независимой печати.
Фактическая часть этого ответа – явная неправда!
Публицистическая – наивнейшая инсинуация.
Нравственная – грязный подлог от имени мертвого.
. . . . . . . . . .
VIII. Ответ клеветникам
Продолжение соответствовало началу. Подложное письмо дало тон печати известного лагеря. За «Полтавским вестником» отозвался «Киевлянин». За ним «Русская правда» (издатель – бывший земский деятель г. Квитка!), «Черниговские губернские ведомости», какая-то орловская газетка, поместившая «некролог писателя Короленко», написанный врачом Петровым, «Харьковские губернские ведомости», «Новое время». Целый ряд явно и тайно черносотенных изданий в десятках тысяч экземпляров на разные лады комментировали и извращали факты.
Наконец даже высскоофициозный орган председателя совета министров П. А. Столыпина счел достойным своей официозной роли, не дожидаясь постановления суда, украсить свои столбцы безоглядным утверждением, будто «травля Филонова, произведенная г. Короленко, имела прямой целью убийство данного лица»[142].
Эта дрянная выходка официоза, вероятно, не имеющая примеров во всей официозной печати всех европейских стран, – явилась достойным завершением кампании, начатой подлогом. После этого оставалось только повторить ее в новорожденной российской палате. И действительно, низкая клевета вползла, наконец, и на парламентскую трибуну.
12 марта 1907 года в государственной думе, во время обсуждения законопроекта о военно-полевых судах, депутат от Волынской губернии г. Шульгин выразил пожелание, чтобы казням подвергались не те несчастные сумасшедшие маниаки, которых посылают на убийство другие лица, а те, которые их послали, интеллектуальные убийцы, подстрекатели, умственные силы революции, которые пишут и говорят перед нами открыто. Если будут попадать такие люди, как известные у нас писатели-убийцы.
«Голос: Крушеван?
Деп. Шульгин: Нет, не Крушеван, а гуманный и действительно талантливый писатель В. Короленко, убийца Филонова!
Голоса: Довольно! вон!
Председатель: Прошу не касаться личностей, а говорить о вопросе.
Шульгин: Слушаюсь».
Этот эпизод я заимствую буквально из стенографического отчета. В то время, когда г. Шульгин стоял на трибуне государственной думы и перед собранием депутатов беззаботно кидал обвинения, всю тяжесть которых, очевидно, не способен понять умом или почувствовать совестью, – телеграммы уже сообщили, что дело писателя Короленко и редактора Ярошевича направлено к прекращению, так как факты, ими изложенные, подтвердились…
Когда-то Людовик XIV потребовал объяснения у одного из своих генералов, который проиграл битву, потому что не пустил в дело артиллерию.
– Государь, – ответил генерал, – у меня есть тысячи причин. Первая: отсутствие пороху…
– Довольно, – ответил король, – докажите наличность этой одной, можно не излагать остальных.
Я отвечаю то же достойному хору моих обвинителей: у меня было много причин написать мое письмо, но для всякого непредубежденного человека достаточно одной: покойный Филонов действительно совершил возмутительные насилия, и было бы преступлением со стороны печати молчать о них.
Правда, наше время – ужасное время, когда каждое слово падает, как искра, в умы, возбужденные всем, что совершается кругом, среди грохота и шума тяжело перестраивающейся жизни. Однако следует ли из этого, что печать должна замалчивать факты беззаконий, истязаний, насилия?
Гг. правые, называющие себя приверженцами закона, правды и порядка, осуждающие «моральное подстрекательство печати»! Оглянитесь на ваши собственные действия.
Вот вы на столбцах официозных органов продолжаете кампанию, начатую подлогом, и с высоты парламентской трибуны считаете возможным заявлять, что писатель Короленко – сознательный подстрекатель и убийца!
Думаете ли вы о том, что ведь и ваши слова падают, как искра, в возбужденные умы ваших приверженцев?
Вы скажете, конечно, что считаете себя вправе не принимать этого в соображение. Вы просто указываете на то, что, по-вашему, сделал писатель, и не вы виноваты, если это кого-нибудь возмущает.
Справедливо. Но тогда не имел ли и писатель Короленко такое же право сказать свое мнение о действиях чиновника, истязавшего без разбора тысячную толпу, стоявшую перед ним на коленях, и затем продолжавшего невозбранно тот же образ действий в других местах?
Нет, не оглашение, а самые факты мучат, терзают, доводят до отчаяния, обесценивают жизнь, отравляют чуткие совести сознанием бесправия, побуждают к ужасному самопожертвованию и ужасным самосудам. И если бы еще печать замолчала, то жизнь была бы отдана всецело во власть стихийных страстей и их необузданной ярости. Тогда, среди мрачного молчания, раздавались бы только выстрелы с одной и с другой стороны, как это мы уже видим в Лодзи и в некоторых местах Кавказа.
Нет, выход не в молчании, а в правде. Я доказал, что говорил правду, не выдумывая и не искажая фактов и освещая их по своему разумению и совести.
А вы, прибегающие к подлогам и клевете в защиту насилия, можете ли вы доказать то, что говорите? И понимаете ли вы все значение вами сказанного?
Писатель, который, открыто взывая к гласности и суду, в действительности стремился бы только подстрекнуть другого на убийство, – совершил бы величайшую низость, какую только возможно совершить при помощи пера и печатного станка.
Но если так, то каков же должен быть нравственный уровень среды, для которой возможны обвинения в такой низости без всяких других оснований, кроме того, что писатель сказал суровую правду о насилиях, совершенных чиновником.
А эти обвинения раздавались со столбцов органа «конституционного» министерства и с парламентской трибуны!
. . . . . . . . . .
IX. Заключение
Много еще можно бы сказать по этому предмету, но на этот раз я кончаю.
Не для г. Шульгина и не для «министерской газеты», а для людей, способных искренно и честно вдуматься в современное положение, я хочу закончить эти очерки небольшим эпизодом.
На второй день после убийства Филонова ко мне прямо из земского собрания явился крестьянин, мне не знакомый, и с большим участием сообщил, что он случайно слышал в собрании разговор какого-то чиновника с кучкой гласных. Чиновник сообщал, будто состоялось уже постановление об аресте писателя Короленко. И мой незнакомый посетитель пришел, чтобы предупредить меня об этом.
Я поблагодарил его и затем спросил:
– Послушайте, скажите мне правду. Неужели и вы и ваши думаете, что я действительно хотел убийства, когда писал свое открытое письмо?
Он уже прощался и, задержав мою руку в своей мозолистой руке и глядя мне прямо в глаза, ответил с тронувшим меня деликатным участием:
– Я знаю и много наших знает, что вы добивались суда. А прочие думают разно… Но…
Он еще глубже заглянул мне в глаза и прибавил:
– И те говорят спасибо.
Впоследствии не в одних Сорочинцах при разговорах с крестьянами об этих событиях мне приходилось встречать выражение угрюмой радости.
– Ничего, – говорил мне молодой крестьянин, у которого еще летом болели распухшие от ревматизма ноги. – У меня ноги не ходят, а он не глядит на божий свет.
Таков результат двух факторов: стояния на коленях и чувства мести за безнаказанные насилия.
Но это не то дело, которое начато было в Полтаве независимой печатью. Мы вызывали эту толпу, еще недавно стоявшую на коленях, к деятельному, упорному, сознательному и смелому отстаиванию своего права прежде всего законными средствами. Она слишком скоро получила удовлетворение иное, более резкое и трагически мрачное.
Мы потерпели неудачу. И я, быть может, более искренно, чем многие сослуживцы покойного Филонова, был огорчен его смертью. Не из личного сочувствия, – после всего изложенного я считал его человеком очень дурным и жестоким. И ее потому, что для меня с этой смертию был связан ряд волнений и опасностей, что за ней последовал целый год, в течение которого я был мишенью бесчисленных клевет, оскорблений и угроз. Не потому, наконец, что эта кампания, начавшись подложным письмом в Полтаве, перешла на столбцы правительственного органа и на парламентскую трибуну.
А потому, что выстрел, погубивший Филонова, разрушил также то дело, которое было начато независимой печатью и которое я считал и считаю важным и нужным… Так как, сколько бы ни предстояло еще потрясений и испытаний нашей родине на пути ее тяжкого обновления, и какие бы пути ни вели к этой цели, – все-таки окончательный выход из смятения лежит в той стороне, где светит законность и право, для всех равное: и для избитого на сорочинской площади человека в сермяге, и для чиновника в мундире, для рабочего одинаково, как и для министра. И эту дорогу нужно искать всюду, где еще возможно и когда возможно, как бы она ни загораживалась старыми привычками и властными интересами, как бы ни перепутывалась с другими тропами, как бы ни терялась среди царящего мрака и беззаконий.
В деле Филонова независимая печать звала именно на этот путь, оглашая правду о сорочинской и других подобных трагедиях. Взывая к суду, она исполнила свою обязанность, но осталась одинокой. Ее не поддержала ни местная, ни высшая администрация. Суд безмолвствовал, пока Филонов производил свои истязания, и выступил только с попыткой привлечь меня за заведомую правду. Если бы другие закономерные факторы жизни исполняли свой долг в эти критические дни, после обещаний манифеста, то правда, которую так поздно пришлось подтвердить и суду, – не была бы отравлена сознанием одиночества и бессилия таких призывов Тогда не было бы и сорочинской трагедии. Не было бы, вероятно, и набата, и массового гипноза, и убийства Барабаша, и карательных экспедиций, когда, как в Кривой Руде, «в безлунные темные ночи» люди рубят людей без смысла, без вины и без цели.
Не было бы, наверное, и выстрела 18 января, не было бы надобности и русским писателям выступать с «открытыми письмами» к ст. советникам и с тяжелыми очерками, какими я в настоящее время терзаю читателей.
Кто же виноват, что этими мотивами переполнилась вся наша жизнь на заре начинающегося обновления.
1907
Бытовое явление. Заметки публициста о смертной казни*
I. 12 мая 1906 года
Ни одно из заседаний всех трех Государственных дум не оставило во мне такого глубокого впечатления, как заседание 12 мая 1906 года.
Прошло полгода со дня знаменитого манифеста. Назади осталась ужасная война, Цусима, московское восстание, кровавый вихрь карательных экспедиций. Двадцать седьмого апреля открылась первая Государственная дума; она должна была отметить грань русской жизни, стать в качестве посредника между ее прошлым и будущим. В ответном адресе на тронную речь Дума почти единогласно высказалась против смертной казни.
Это было последовательно. Во всеподданнейшем докладе гр. Витте, приложенном к манифесту, признавалось открыто и ясно, что беспорядки, потрясавшие в это время Россию, «не могут быть объяснены ни частичными несовершенствами существующего строя, ни одной только организованной деятельностью крайних партий». «Корни этих волнений, – говорил глава обновляемого правительства, – лежат, несомненно, глубже». И именно в том, что «Россия пережила формы существующего строя» и «стремится к строю правовому на основе гражданской свободы». «Положение дела, – говорилось далее в той же записке, – требует от власти приемов, свидетельствующих об искренности и прямоте ея намерений». На докладе, в котором были эти слова, государь император написал: «Принять к руководству всеподданнейший доклад ст. секретаря С. Ю. Витте».
Такова была компетентная оценка положения, среди которого созывалась первая Дума. Исторический строй, признанный свыше отсталым и не удовлетворяющим назревшим потребностям современной русской жизни, открыто брал на себя свою долю ответственности за волнения и смуту, охватившие Россию. Ни «организованные партии», ни общество не были повинны в политической отсталости России. Вина в этом падала на единственных хозяев и бесконтрольных распорядителей. Первая Дума сделала из этого вывод: оставьте же старые приемы борьбы, смягчите кары за общую вину всей русской жизни. Это и будет доказательство той искренности и прямоты намерений, о которых вы говорите.
Казалось, историческая власть стоит в раздумье перед новой задачей. «С 27 апреля, – говорил в одной из своих речей депутат Кузьмин-Караваев, – ни один смертный приговор не получил утверждения. Напротив, постоянно приходилось читать, что приговор смягчен и наказание заменено другим…»[143] В течение двух недель виселица бездействовала, палачи на всем пространстве России отдыхали от своей ужасной работы. Среди этого затишья историческая Россия встречалась с Россией будущей, и обе измеряли друг друга тревожными, пытливыми, ожидающими взглядами.
Двенадцатого мая получилось известие, что виселица опять принимается за работу. Раздумье кончилось.
В Думе происходило обсуждение кадетского законопроекта о неприкосновенности личности. У проекта были, конечно, свои недостатки. На него нападали с разных сторон: для одних он был почти утопичен, для других – слишком умерен. Теперь едва ли можно сомневаться, что, будь он действительно осуществлен хоть в значительной части, Россия вздохнула бы, точно после мучительного кошмара. Весь вопрос состоял в том, может ли Дума осуществить что бы то ни было, или все ее пожелания останутся красивыми отвлеченностями. Призвана ли она для реальной работы, или ей суждено представить из себя законодательную фабрику на всем ходу, с вертящимися маховиками и валами, но только без приводных ремней к реальной жизни.
Случай для ответа на этот вопрос скоро представился, и притом в самой трагической форме. Обсуждение законопроекта о неприкосновенности личности было прервано спешным запросом трудовиков: известно ли главе министерства, что в Риге готовится сразу восемь смертных казней?
Еще 11 декабря 1905 года, в разгар преддумских беспорядков, восстаний, усмирений и карательных экспедиций, в Риге был убит пристав Поржицкий. Как известно, в Остзейском крае вообще, в Риге в частности, кризис, вызванный переломом застоявшейся русской жизни, проявлялся особенно резко. С одной стороны, ужасающие газетные известия о пыточных застенках и приемах полицейских репрессий, с другой – убийства сыщиков и агентов власти. Здесь более, чем где бы то ни было, нужно было внимательное отношение к двусторонним проявлениям общей вины и общей ответственности. Искренность, о которой говорил С. Ю. Витте, несомненно требовала передачи дела общему суду при обоюдных гарантиях. При том же этого требовал и формальный закон.
Убийство было совершено 11 декабря. Усиленная охрана заменена военным положением 24 декабря. Предание суду состоялось 15 апреля. Случилось так, что формально был промежуток, когда в Риге перестала действовать усиленная охрана, а военное положение еще не вошло в силу. Поэтому военный генерал-губернатор, при изъятии дела из общей подсудности, вынужден был мотивировать это «усиленной охраной», которая в то время уже не действовала. Это было незаконно: главный военный суд уже кассировал такой же приговор по делу Иогансона и Зегала, передав дело гражданскому суду.
Еще недавно министр юстиции на обращение депутатов по поводу казней забронировался формальной законностью: пока смертная казнь не отменена, она действует в законном порядке. Теперь такой же формальный закон защищал восемь жизней. Стоило только применить его, дело было бы рассмотрено общим судом, и восемь рижских виселиц остались бы праздными.
Тем не менее явно незаконный военный суд состоялся и вынес восемь смертных приговоров. Защитники подали кассационные жалобы, исход которых не мог возбуждать сомнения. Тогда генерал-губернатор собственною властью не дал хода кассации.
Общее значение этого эпизода было совершенно ясно. Раздумье кончалось. Исполнительная власть отстраняла общесудебные гарантии и даже на место гарантий военно-судных выдвигала личное усмотрение рижского администратора. Иначе сказать: администрация опять выступала судьей в собственном деле и на основании этого суда, глубоко чуждого самому духу новых учреждений, уже готовила казни.
На этой своеобразно «легальной» почве, около этих восьми жизней, закипела бескровная, но полная глубокого драматизма борьба новой Думы со старой исторической властью. Были пущены в ход заявления, ходатайства, просьбы.
Апеллировали к человеколюбию, к великодушию, к справедливости, к простой формальной законности. Защита подала жалобу в сенат на приостановку кассации и в то же время обратилась с ходатайством на высочайшее имя. Думе, в целом, оставалось только принять запрос. Шестьдесят шесть ее членов подписали отдельное личное ходатайство…
Двенадцатого мая я сидел в ложе журналистов и запомнил навсегда сумеречный час этого дня, предъявление запроса, речи депутатов, смущенные, полные предчувствий. Среди водворявшейся временами глубокой тишины как будто чуялось веяние смерти и невидимый полет решающей исторической минуты. Это была своего рода мертвая точка: вопрос состоял в том, в какую сторону двинется с нее русская политическая жизнь, куда переместится центр ее тяжести. Вперед, к началам гуманности и обновления, или назад, к старым приемам произвола, не считающегося даже со своими собственными законами…
К трибуне подошел В. Д. Кузьмин-Караваев. Речь его была простая, короткая, без громких слов. Раздалось несколько нерешительных рукоплесканий и тотчас смолкли. Председатель поставил на баллотировку предложение: препроводить запрос к председателю совета министров немедленно, без соблюдения обычных формальностей, с указанием на необходимость приостановки исполнения приговора до решения вопроса о кассации, до ответа на ходатайства…
– Кто возражает против предложения, – говорит председатель, – прошу встать.
Не поднялся никто.
В первой Думе тоже были принципиальные защитники смертной казни, и еще недавно высказался в этом смысле екатеринославский депутат Способный. Но еще не было откровенной кровожадности нынешних «правых», требующих виселиц даже для своих думских противников. Решение принято единогласно. Кто не хотел видеть в этом простой справедливости, те чувствовали все-таки святость милосердия и останавливались перед ужасом восьми казней…
И помню, что тотчас по объявлении этого постановления, когда Дума перешла опять к законопроекту «О неприкосновенности», зажгли электричество. Свет залил весь думский зал, председательскую трибуну, фигуру докладчика на кафедре, амфитеатр думских скамей с фигурами депутатов… И у меня было такое ощущение, как будто тут, в зале, есть еще что-то невидимое, но жутко ощутительное, почти мистическое. Может быть, это была неуверенность в спасении восьми жизней, а за ней и во многом другом, что роковым образом сплелось с судьбой этих безвестных восьми людей в Риге… «Дума сделала все, что могла. Но она не сделала ничего», – кажется, так следует истолковать это странное ощущение. Здесь могут только негодовать, надеяться, скорбеть и высказывать пожелания. А там могут вешать…
Прошло шесть дней. Восемнадцатого мая на трибуну взошел докладчик Набоков, чтобы сообщить ответ председателя совета министров на думский запрос. Ответ был краток и формален. Сущность его, впрочем, была уже известна из газет: рижский генерал-губернатор не пожелал ожидать исхода жалоб на приговор заведомо незаконного суда и распорядился 16 мая спешно казнить всех восемь приговоренных…[144]
Смысл сообщения был ощутительно ясен; на соображения о законности отвечали заявлением о силе. В Думе полились речи, полные негодования и горечи. «В ответ на наш запрос, – сказал депутат Ледницкий, – нам кинули восемь трупов». «Некоторые из них малолетние», – прибавляет депутат Локоть. Кузьмин-Караваев оглашает звучащую горькой иронией телеграмму. Леруа-Болье. Просвещенный француз, знаток и друг России поздравляет Думу с предстоящей отменой смертной казни. «Этим русский парламент совершит акт милосердия и ускорит прогрессивное развитие человечества». Депутат Родичев еще пытается протестовать против «маловерия», которое темной волной хлынуло в Таврический дворец от этой мрачной генерал-губернаторской демонстрации.
«Вы напишете закон об отмене смертной казни, – утешает он депутатов, – его утвердят, его не могут не утвердить. Неужели вы сомневаетесь, что смертная казнь уже корчится в предсмертных судорогах?»
Увы! Самые оптимистические каламбуры бессильны перед фактом. А факт состоял в том, что против потока превосходных слов и проектов рижский генерал-губернатор, разумеется в полном согласии с правительством, выдвинул восемь виселиц. Это было так убедительно, что через десять дней в той же думской зале тот же депутат Родичев говорил с горьким унынием: «Если мы и признаем обсуждаемую статью (об отмене смертной казни) за закон, в чем же изменится положение дела? Вы убеждены, что этот параграф станет законом и казни прекратятся?.. Но господа, каждый из нас понимает, что это не так…»
И действительно, это оказалось не так. Кто теперь вспоминает на Руси, что в заседании 19 июня 1906 года в первую Государственную думу внесен законопроект, состоявший из двух статей:
Статья первая: Смертная казнь отменяется.
Статья вторая: Во всех случаях, в которых действующими законами установлена смертная казнь, она заменяется непосредственно следующим по тяжести наказанием…
И что этот законопроект Государственной думой принят… И что он облечен в форму закона… Новый закон унесен потоком событий, смывших первую Думу, а факт остался. Виселица опять принялась за работу, и еще никогда, быть может со времени Грозного, Россия не видала такого количества смертных казней. До своего «обновления» старая Россия знала хронические голодовки и повальные болезни. Теперь к этим привычным явлениям наша своеобразная конституция прибавила новое. Среди обычных рубрик смертности (от голода, тифа, дифтерита, скарлатины, холеры, чумы) нужно отвести место новой графе: «от виселицы». Почти ежедневно, в предутренние часы, когда над огромною страной царит крепкий сон, где-нибудь по тюремным коридорам зловеще стучат шаги, кого-нибудь подымают от кошмарного забытья и ведут, здорового и полного сил, к готовой могиле…
Да, как не признать, что русская история идет самобытными и необъяснимыми путями. Всюду на свете введение конституций сопровождалось хотя бы временными облегчениями: амнистиями, смягчением репрессий. Только у нас вместе с конституцией вошла смертная казнь как хозяйка в дом русского правосудия. Вошла и расположилась прочно, надолго, как настоящее бытовое явление, затяжное, повальное, хроническое…
В последующих очерках, далеко не систематических и не претендующих на исчерпывающее значение, мы постараемся присмотреться к этому новому бытовому явлению… Нужно же знать то, от чего пока (и, может быть, надолго) нет силы избавиться…
II. Смертники в N-ской тюрьме
До сих пор быт русских тюрем знал определенные Категории заключенных. Это были «высидочные», отбывавшие срочное заключение по суду, подследственные, пересыльные и каторжане.
«Обновление» принесло еще новую категорию, которой тюремный жаргон присвоил зловещее название: «смертники».
Интеллигентный человек, закинутый превратной судьбой в одну из провинциальных тюрем (называть которую он не желает), имел случай наблюдать, хоть не систематически и отрывочно, быт этих людей, ждущих в заключении смертного приговора, конфирмации, казни. Материал, добытый таким образом из случайных встреч, разговоров, урывками и секретно пересылавшихся писем, он предоставил в наше распоряжение, и я хочу познакомить с ним читателя.
Губернская тюрьма провинциального города. Архитектура обыкновенная. По углам главного корпуса четыре башни. Ход в каждую башню из тюремных коридоров, на которые смотрят в два ряда молчаливые глазки камер. В конце коридора крепко запертая дверь, ключ от которой хранится у особых надзирателей. Один из них постоянно караулит вход в башню. За этим входом небольшой темный коридор, ведущий еще к одной двери. За нею круглая башенная камера.
Камера представляет цилиндр, аршин трех или четырех в диаметре. Вверху – небольшое окно, забранное двумя решетками. Решетки скрадывают свет, а зимой, когда вставляются двойные рамы, в камере становится так темно, что даже днем читать или писать становится невозможно. Вечером вспыхивает электрическая лампочка, подвешенная к потолку. Она подвешена высоко, и, даже стоя под нею, читать можно лишь с большим напряжением. Ни коек, ни нар в камере нет. Маленький столик и два-три табурета уносятся на ночь. Спать приходится прямо на полу. Стены вверху бледно-серые. Внизу, аршина на два от пола, идет траурная черная полоса.
Камеры верхнего этажа каждой башни лучше. Они суше, светлее; из окон можно видеть город, площадь за тюрьмой, проходящих по площади людей. Нижние камеры врыты глубоко в землю, так что их полукруглые окна помещаются на уровне тюремного двора. Люди тут как будто опущены в колодец, траурно-темный, холодный и сырой. Из окон они могут видеть ноги гуляющих по двору арестантов. Против каждой башни стоит надзиратель с ружьем.
Тут помещаются смертники.
В том году, к которому относятся наблюдения нашего случайного корреспондента, их перебывало свыше сорока. Это были все сравнительно молодые люди, преимущественно рабочие местного крупного железоделательного завода, осужденные по делам об экспроприациях.
Тюремная администрация употребляет все усилия, чтобы изолировать их от остальных заключенных. Для прогулки смертников отведено особое место. В баню их тоже водят отдельно. Но, разумеется, полная изоляция невозможна. На допросы, в суд, на прогулку или на свидания их проводят все-таки общими коридорами, и арестанты смотрят в глазки на этих обреченных, уже отмеченных печатью смерти людей. Теми же коридорами ведут их в темные предутренние часы на казнь, и тогда спящие в камерах арестанты тревожно вскакивают, слушая гулкие шаги, порой стоны и предсмертные крики человека, прощающегося таким образом с доступным ему и сочувствующим арестантским миром. Потом шаги и жалобные крики смолкают. В глубокой тишине на заднем дворе совершается последнее действие страшной трагедии… В камерах не спят и гадают, кого это повели только что к отрытой могиле…
Порой в часы прогулок гуляющие арестанты слышат откуда-то, точно из-под земли, голоса, громко разговаривающие или спорящие. Порой, особенно в первой половине того года, к которому относится наш материал, из смертных камер раздавалось пение. Тогда стоящий у башни караульный начинал волноваться, стучал ружьем и кричал:
– Башня, перестань петь! Башня! Тебе говорят: перестань!
Если это заклинание не действовало, на сцену являлся помощник начальника, и кого-нибудь из людей, ждущих казни, вдобавок сажали в карцер…
Карцер – темная коробка, помещающаяся прямо под тюремною церковью, низкая, сырая, холодная, с отвратительным воздухом. Многих после трех-четырех дней заключения из карцера выносили на рогожах прямо в больницу.
В башнях порой в одиночку, иногда группами люди ждут приговоров или их исполнения… Ждут дни, недели, иногда месяцы, каждый вечер спрашивая себя, увидят ли они завтрашнее утро. В прежнее, еще недавнее, «доконституционное» время один военный судья говорил мне, что продолжительная отсрочка казни являлась огромным шансом за ее отмену: нельзя казнить человека, пережившего такой продолжительный ужас, хуже самой смерти. Теперь этими психологическими тонкостями не стесняются…
III. Будни смертников
Всем еще памятно то одушевление, с которым шли на смерть приговоренные к казни или расстреливаемые без суда в первом периоде нашей «революции». Так умирали интеллигентные люди, молодые девушки, железнодорожные рабочие, матросы. Группа матросов, восставших вместе с лейтенантом Шмидтом, шла на казнь дружным строем и пела известную народную рекрутскую песню:
Последний радостный денечек
Гуляю с вами я, друзья!
А завтра рано чуть светочек
Заплачет вся моя семья…
В этом зрелище было столько одушевления и веры в значение жизни перед лицом неизбежной смерти, что, говорят, эта песня на юге приобрела значение «Марсельезы».
Теперь многое изменилось, и по мере того, как смертная казнь превратилась в будничное бытовое явление, от нее удаляется и обволакивавшее ее прежде одушевление. Должно быть, труднее умирать за то, за что люди так часто умирают в наше время.
Впрочем, наш корреспондент отмечает, что в первые дни после приговора многие смертники чувствуют себя сравнительно бодро. В свои мрачные башенные камеры они вносят еще возбуждение недавней борьбы, полной если не возвышенных, то сильных ощущений и крайнего напряжения нервов. Суд и приговор – только последний размах той же волны. В большинстве писем, относящихся к первым дням после приговора, звучит еще своеобразная бодрость, даже ирония. Иные из этих писем чрезвычайно характерны, и мы приведем их в тех отрывках, какие дает нам наш корреспондент.
«Я напишу вам, – так начинается одно письмо, – но предупреждаю, что я человек малограмотный, неразвитой и малоначитанный. Я чувствую себя очень хорошо[145]. Смерть для меня ничто. Я знал, что это рано или поздно, но должно быть. Я был уверен на воле, что меня повесят или застрелят где-нибудь на деле. Так вот, товарищ, может ли мне казаться страшной смерть? Да, конечно, ничуть. Я не знаю, как другие, но до суда и после суда я был в одном настроении. Только обидно: со мной приговорили одного невиновного. Я в суде не утерпел и крикнул судьям…[146] За это мне попало от „сознательного конвоя“…»
Еще через некоторое время тот же автор писал: «Вы спрашиваете, как я провожу время. Определить трудно. Я сам себя не могу учесть в этом случае. Одно могу сказать, что душевно я спокоен. Очень даже спокоен. Наружный вид, можно сказать, веселый. С утра до ночи смеемся, рассказываем различные анекдоты, конечно юмористические. Конечно, вопрос о жизни приходит иногда в голову. Задумаешься на несколько минут и стараешься забыть это все потому, что все уже кончено для меня на сей земле. А раз кончено, то такие мысли стараешься отогнать и не поднимать в своей голове. Я вижу, что времени для жизни осталось очень мало, и в такие короткие минуты ничего не могу разрешить. Чем понапрасну ломать голову, лучше все это забыть и последнее время провести веселее. Я сам себя не могу определить: я как будто ненормальный. Иногда хочется отравиться. Отравиться тогда, когда мне этого захочется. Уж очень не хочется идти помирать на задний двор, да еще в сырую погоду, в дождик. Пока дойдешь, всего измочит. А мокрому и висеть не особенно удобно. Да еще и то: берут ночью. Только разоспишься, а тут будят, тревожат… Лучше бы отравиться…»
Читатель видит, что здесь у человека еще хватает настроения для какого-то жуткого юмора над своей страшной судьбой… «Измокнешь, а мокрому и висеть неудобно… Только что разоспишься, а тут – тревожат…»
«Чувствую себя ничего, – пишет другой приговоренный. – Даже удивлен, что в душе не сделалось никакого переворота. Точно ничего не случилось…» По-видимому, жизнь обладает своей инерцией движения, и человек еще органически не может себе представить, что она скоро оборвется без внутренних, органических причин. Он знает о приговоре, но еще не может его почувствовать…
Поддержать в себе возможно дольше, до самой смерти, это настроение продолжающейся жизни, не дать ужасной истине пустить в душу отравляющие ростки – такова теперь задача, к которой приспособляется весь быт своеобразного общества, населяющего мрачные камеры. «Забыть и дать забыть другим» – это как будто правило его социальной нравственности.
«Спать ложимся мы в три часа ночи, – пишет один приговоренный. – Это постоянно. Р. научил нас играть в преферанс, и мы до того им увлеклись, что играем, как будто бы за интерес. Увлеклись сильно. Тут есть и сожаление от проигрыша, и маленькие радости от выигрыша. Упадка духа ни в ком как будто и не замечается. Если посмотреть со стороны и не знать, что мы приговорены к смерти, то можно счесть нас просто за людей, отбывающих наказание. Если же наблюдать нас, зная, что нас ждет смерть, то, вероятно, можно подумать, что мы ненормальны. Действительно, и самому приходится удивляться тому, что мы так хладнокровны. По одной фразе вашей я заметил, что предполагается у нас тяжелое настроение духа. Представьте себе, что нет. Даже, напротив, бывает неестественно веселое настроение. Часто смех, шутки, песни и рассказы не сходят у нас с уст. О том, что ждет нас, буквально забываешь. Это, по моему мнению, происходит оттого, что сидишь не один… Чуть кто пригорюнится, так другой старается, может быть ненамеренно, оторвать его от тяжелых мыслей и вовлечь в разговор или во что-нибудь другое… Находят минуты какой-то беспричинной злобы, хочется кому-нибудь сделать зло, какую-нибудь пакость. Насколько я наблюдал, если такому человеку поволноваться и вылить свою злобу в руготне, то он понемногу успокоится. На некоторых в такие моменты действует пение. Затяни что-нибудь – он поддержит».
В такие-то минуты из наглухо закрытых башен несутся звуки песен, и стража во дворе начинает тревожиться, стучать ружьями и кричать: «Башня, тебе говорят, замолчи!» Но заставить замолкнуть такую песню, конечно, нелегко…
«Теперешнее мое состояние удовлетворительно, – читаем мы еще в одном письме „из башни“, – только в голове какой-то хаос. Хотелось бы на день, на два остаться одному с самим собою; но это невозможно. Жаль погибающую молодость! К тому, что скоро придется умирать, отношусь не то чтобы хладнокровно, но все-таки эта мысль не смущает меня: я не вдумываюсь в нее. Чем объяснить это – я не знаю!»
Автору этого письма хотелось бы остаться одному; но именно одиночество в этом положении ужасно. «Как начинает лезть что-нибудь в голову, – пишет другой смертник, – так я тотчас же отвлекаю себя разговорами с товарищами, лишь бы только это удалить. А то, как только почувствую, что могу заснуть, стараюсь лечь спать. Мне кажется, что если бы я… сидел один, то давным-давно покончил бы с собою».
По мере того как идет время, спокойствие тоже уходит. «Жизнь приходится считать минутами, она коротка, – пишет один из приговоренных, по-видимому проводящий последние дни в одиночестве. – Сейчас пишу эту записку и боюсь, что вот-вот растворятся двери и я не докончу. Как скверно я чувствую себя в этой зловещей тишине! Чуть слышный шорох заставляет тревожно биться мое сердце… Скрипнет дверь… Но это внизу. И я снова начинаю писать. В коридоре послышались шаги, и я бегу к дверям. Нет, снова напрасная тревога, это шаги надзирателя. Страшная мертвая тишина давит меня. Мне душно. Моя голова налита как свинцом и бессильно падает на подушку. А записку все-таки окончить надо. О чем я хотел писать тебе? Да, о жизни! Не правда ли, смешно говорить о ней, когда тут, рядом с тобой, смерть. Да, она недалеко от меня. Я чувствую на себе ее холодное дыхание, ее страшный призрак неотступно стоит в моих глазах… Встанешь утром и, как ребенок, радуешься тому, что ты еще жив, что еще целый день предстоит наслаждаться жизнью. Но зато ночь! Сколько она приносит мучений – трудно передать… Ну, пора кончить: около двух часов ночи. Можно заснуть и быть спокойным: за мной уже сегодня не придут».
«Я давно не писал вам, – говорится в новом письме (другого лица). – Все фантазировал, но ничего не мог сообразить своим больным мозгом. Я в настоящее время нахожусь в полном неведении, и это страшно мучает меня. Я приговорен вот уже два месяца, и вот все не вешают. Зачем берегут меня? Может быть, издеваются надо мной? Может быть, хотят, чтобы я мучился каждую ночь в ожидании смерти? Да, товарищ, я не нахожу слова, я не в силах передать на бумаге, как я мучаюсь ночами! Что-нибудь скорей бы!»
Это писал тот самый человек, который вначале удивлялся, что приговор не произвел на него впечатления, и говорил, что смерть его нисколько не пугает… Два его письма – это два полюса в настроении смертников: вначале возбуждение и бодрость, потом возрастающий ужас перед развязкой, тупой и безмолвной.
IV. Иллюзии и самоубийства
Впрочем, в промежутках часто являются мечта и надежда. «У каждого, – говорит один из авторов писем, – есть какая-нибудь надежда, и у каждого фантазия доходит до геркулесовых столбов. Хотя мы и знаем, что каждого из наших товарищей берут и вешают, но все-таки (собственная) предстоящая казнь кажется невероятной. Кажется невероятным: как это меня, здорового, полного сил человека, поведут и повесят… У каждого есть розовая надежда на что-то, чуть не на чудо. Некоторые ждут помилования. Другие мечтают о подаче прошения на высочайшее имя и думают как-нибудь провести администрацию. Говорим иногда об усыпительных веществах. Как бы уснуть так, чтобы когда похоронят, то пришли бы товарищи и откопали бы из могилы. Мечтали о сделке с доктором во время смертной казни» и т. д.
Но и надежда в положении смертника, как гашиш, обманчива и ядовита. «Я думаю, – пишет один из них, – что для нас вредны мечты в большом размере, так как чересчур тяжки разочарования. Для примера приведу Х-ва. Он вполне был уверен, что ему отменят смертный приговор, так как об этом хлопотал сам суд, да и дядя его имел большие связи. Когда пришли ночью и сказали, что пришло помилование, то он поверил этому и с радостью пошел в контору. Что же ему пришлось пережить, когда вместо помилования его потащили на виселицу?.. Мне могут сказать, что все это неважно, так как страданий здесь всего ведь на час, да и то, быть может, меньше. Но я не хочу месяца иллюзий, чтобы пережить и час таких страданий. Лучше я буду внушать себе, что мне скоро придется умереть. Я не скрою, что и я тоже мечтаю и строю иллюзии, но только я не позволяю мечте вкорениться глубоко. Против мечты о воле, о том, как хорошо было бы очутиться в кругу близких людей, против этой мечты я принимаю свои меры.
Теперь приведу другой пример – П-на. У него совершенно не должно было быть никаких надежд. Но вот почему-то одних берут, а его, хотя и вышел срок, оставляют. У него являются надежды. И вот он, который раньше соглашался умереть с большими страданиями, чем от доставленного ему яда, теперь уже не решается (отравиться) и ждет последней минуты. Яд он принимает только тогда, когда пришли и сказали: „Собирайся на виселицу“. От яда он падает без чувств. Его выносят на тюфяке на свежий воздух и качают… Он приходит в себя. Под воротами его рвет. Он приходит потом в контору, пишет письма и идет на виселицу».
«И таких примеров много, – прибавляет автор письма. – Это все последствия иллюзий…» П-в ждал решения своей участи без двух дней пять месяцев! И «хотя, по-видимому, у него были хорошие, благодаря иллюзиям, минуты, но в конце концов – тройные мучения… Каждый из нас хватается за соломинку, и тогда логика и рассудок – все летит к черту».
Удалось ли в конце концов писавшему вышеприведенные строки удержаться в пределах «логики и рассудка» – мы не знаем. Но те, кто пассивно поддаются иллюзиям, легко превращаются в маниаков. «Из всех приговоренных к смертной казни, – говорится в одном письме, – такого, как NN, я вижу впервые. Он хотя и не говорит, но, видимо, ему жаль порвать с жизнью. Он все ждет помилования. Прошения он не подавал, но подала его мать от своего имени. Теперь он постоянно гадает на картах, будет или не будет он помилован. Он отказался покончить с собой. Если бы я захотел описать его последние дни, то едва ли мог бы многое описать. Жизнь его течет чрезвычайно однообразно и монотонно. Вечером он ложится спать часов в шесть, а встает в два, три, четыре часа. И как только встает, так берется за карты и начинает гадать. Днем иногда ляжет полежать и на мой вопрос: „О чем вы думаете?“ – обыкновенно отвечает: „Я и сам не знаю о чем“. Почти все время проводит он за картами и в какой-то меланхолической мечте. Может быть, он мечтает о чем-нибудь ценном, но только не желает с нами этим поделиться. Не знаю».
Автор заметок, которыми мы пользуемся при составлении этого очерка, пишет, что ему удавалось по временам видеть NN, о котором идет речь в предыдущем письме. «Это еще молодой человек, лет двадцати, с продолговатым лицом и голубыми, чем-то затуманенными и как будто ничего не видящими глазами. В серой, плотно облегавшей его фигуру арестантской куртке шел он медленно со своим провожатым на прогулку и устало и равнодушно смотрел куда-то вдоль длинного коридора. Больше всего привлекали внимание его смертельно усталые, рассеянные, ничего не видящие глаза». В то время, когда автор записывал в тюрьме свои впечатления, ему уже редко приходилось видеть NN. Говорили, что он обещал властям выдать несколько человек, если ему дано будет помилование, и что ему подали надежду на избавление от казни…
Не все, конечно, отдаются так всецело во власть безграничных иллюзий. Желания многих приговоренных не идут дальше добровольной смерти. Мы уже встречали выше выражение этого настроения: «Умереть, когда захочу сам». И в то время, как обыкновенное население тюрем стремится всеми мерами добыть с воли водку, табак или карты, смертники со всевозможными ухищрениями добывают яд или нож.
Газеты отмечают то и дело случаи самоубийства перед казнью. Больше всего прибегают осужденные к цианистому калию, реже к морфию или ножу. «Любопытно, – пишет автор наших материалов, – что ни один из присужденных при попытках к самоубийству не прибегал к помощи шнура или веревки, хотя достать их гораздо легче». Газеты отмечали случаи самоповешения, но действительно они реже других способов самоубийства. Смерть от руки палача кажется позорнее и страшнее. Приговоренные прежде всего предпочитают добровольную смерть, «когда сам захочу», и если можно, то она должна быть другая, не та, которую назначит им человеческий суд. В течение того года, к которому относятся наблюдения нашего корреспондента, один из приговоренных отравился стрихнином и кончил жизнь в страшных мучениях. Другой нанес себе удар ножом в сердце. В третьем случае удар ножа не оказался смертельным, четвертый вскрыл себе рану на руке обломком стекла, он тоже остался жив. Было также несколько случаев неудачного самоотравления…
Эти попытки и самоубийства происходят на глазах у остального населения камеры. «Смерть товарища Я-ва, – говорится в одном из писем, – произвела на меня ужасное впечатление. Громадная сила воли, потрясающая картина геройской смерти. Перед смертью он был весел, курил, разговаривал, смеялся. Волнения не было заметно. Потом нащупал сердце, приложил нож одной рукой, а другой ударил: раз! два… Потом сказал: „Вот хорошо! Выньте“. И начал хрипеть, и умер, не издав ни одного громкого стона».
Он оставил записку: «Кончаю жизнь самоубийством. Вы меня приговорили к смерти и, быть может, думаете, что я боюсь вашего приговора, нет! Ваш приговор мне не страшен. Но я не хочу, чтобы надо мной была произведена комедия, которую вы намерены проделать со своим формализмом. Мне грозит смерть. Я знаю и принимаю это. Я не хочу ждать смерти, которую вы приведете в исполнение. Я решил помереть раньше. Не думайте, что я такой же трус, как вы».
Для этого мужественного человека смерть, очевидно, явилась последним актом если не прямой борьбы, то хоть полемики с врагами.
V. Последние свидания
Два раза в неделю у тюремных ворот собирается толпа народу и терпеливо ждет, пока откроются двери. Это отцы, матери, братья, сестры, сыновья, дочери и жены заключенных, явившиеся на свидание. Двери наконец отворяются. Их пропускают.
Длинная, узкая и грязная комната с одним окном. Во всю длину она перегорожена двумя перегородками: внизу перегородки – деревянные, сплошные, вверху до потолка – из частой проволочной сетки. Между перегородками расстояние в два аршина. На этом расстоянии арестанты и их родные переглядываются и переговариваются через две сетки… Так как говорить приходится всем вместе и общий говор заглушает слова, то через несколько минут «свидальная комната» переполняется шумом и криками. Каждый старается перекричать других и закинуть другому человеку свое слово за эти перегородки. Комната полна нестройных отчаянных выкрикиваний. Визг женских голосов, судорожно напряженные лица и бессильный, никому не слышный плач под звон кандалов… Вот старая крестьянка. Она притащилась в город за пятьдесят верст и теперь судорожно вцепилась скрюченными пальцами в проволочную сетку. Она пытается несколько раз что-то выкрикнуть сыну, но ее старческий голос тонет в этом нестройном грохоте, звоне и шуме. Она машет рукой и уже только смотрит старыми заплаканными глазами… А через пять-семь минут свидание прекращается. Всех выгоняют, и за проволочные решетки пускают новые партии арестантов и пришедших к ним с воли. Прежние уходят, унося с собой чувство неудовлетворенности и печали. Хотелось сказать дорогому человеку так много. Не сказал ничего. Казнены уже в России тысячи человек. Приблизительно столько же матерей, и еще столько же отцов, и, может быть, столько же сестер, братьев и жен смотрели через такие решетки на дорогих людей, которым грозила смерть. Если это были простые рабочие или крестьяне, то прощаться с ними, как с умирающими, приходили и другие родственники, каких только допускали. И сколько тяжелого, незабываемого и порой непрощаемого страдания разнесут эти простые люди по предместьям городов и по дальним деревням и селам.
Когда приговор уже состоялся, смертник получает привилегию: с него снимают кандалы и на свидание к нему близких родственников допускают в тюремную контору. И опять по дорогам тянутся телеги, а в них – матери и отцы, едущие на последнее свидание. Военное правосудие по большей части совершается стремительно, и, пока старая мать бредет пешком или тащится на заморенной клячонке, – дело часто бывает кончено. Тюремный привратник деловито и бесстрастно, как русский мужик вообще умеет говорить о смерти, сообщает, что сын повешен на рассвете, в то время, когда они тащились в темноте по плохим дорогам. «Недавно, – рассказывает наш корреспондент, – одна из таких матерей подошла к тюрьме и стала просить прощального свидания. Вместо разрешения из тюремной конторы ей вынесли клок волос – все, что ей осталось от сына. Перед виселицей сын попросил ножницы, отрезал прядь волос и передал их для матери. Последняя воля его была добросовестно исполнена».
В прошлом году газеты сообщали о случае еще более печальном. Приговоренный к смертной казни в Балашове Шуримов послал к отцу письмо с просьбой приехать попрощаться перед смертью. «Элементарная гуманность, – говорит сообщивший об этом случае корреспондент, – если о гуманности может быть речь около виселицы, – требовала чего-либо одного: или отказа передать письмо, или разрешения этого последнего свидания. Третьего, казалось, тут быть не может… Но именно это третье, мучительное и безобразное в своей бесчеловечности, и вышло». Отец, бедный и больной старик, собрав последние гроши, отправился в Саратов, захватив с собой и младшего сына. Прежде всего, конечно, обратился в суд. Здесь ему посоветовали «навести справку» у командующего войсками. На вопрос, жив ли еще его сын, сухо отвечали: не знаем. Старик съездил в Казань, но и тут ему «справки» не дали. Вернулся в Саратов и три-четыре дня обивал разные пороги. Ходил к прокурору, к тюремному попу, в тюремную контору. Наконец кто-то (добрая душа!) сжалился над тоской и слезами старого отца и сообщил ему, что… сын его уже повешен.
«Этот старик, – заключает корреспондент, – уедет домой, в семью, в круг своих близких, знакомых, друзей… И от него, от множества таких стариков, от всех им близких – будут требовать любви к родине, уважения к ее учреждениям, патриотических чувств…»[147]
Конечно…
Однако вернемся к нашему «бытовому материалу».
Контора, в которой смертным даются последние свидания с родными, разделена на две неравные части деревянной перегородкой в половину человеческого роста. Смертный вводится за перегородку, дверца за ним закрывается, по обеим сторонам становятся надзиратели. Родственники, пришедшие на свидание, остаются на другой стороне перегородки.
Надзиратели равнодушно слушают разговоры. Человек ко всему привыкает, а они многих приводили уже к этой решетке и к виселице. Их дело смотреть, чтобы смертному не передали чего-нибудь, и главное – ножа или яду, и они смотрят равнодушно и бесстрастно. На человека свежего эти свидания производят неизгладимое впечатление, как все, в чем вопросы жизни и смерти стоят в такой осязательной близости. Нашему корреспонденту пришлось случайно быть в конторе во время последнего свидания с матерью того самого Я-ва, который так мужественно покончил с собой. Это было незадолго до самоубийства. Высокий, с болезненно желтым лицом и лихорадочно блестевшими глазами, стоял он у перегородки, за которой были две женщины. Одна, сгорбленная, закутанная в шаль, все время плакала и постоянно вытирала глаза концом шали. Другая не плакала; глаза у нее были воспаленные и сухие. Это была мать. Она не спускала глаз с сына, но слов для него у нее не находилось. Таких слов, которые бы тронули, смягчили, утешили, которые просто были бы у места.
– Ну, как же ты теперь? – все-таки спрашивала она тоскливо. – Как здоровье?..
– Что здоровье? Повесят скоро, – хрипло ответил сын и попробовал засмеяться. Но смех не вышел и резко оборвался. Опять молчание.
– Сны страшные видишь? – опять спрашивает старуха.
– Да, разное снится, – ответил он задумчиво и потом сказал легче и проще – Там у меня поддевка осталась. Ее нужно бы продать…
Заговорили о поддевке, и оба обрадовались предмету, не имевшему прямого отношения к тому главному, что занимало обоих. Свидание скоро прекратилось. Смертного надзиратели увели в башню, а мать ушла на волю, которая ей была, вероятно, не лучше этой башни. Говорили, что она после казни сына сошла с ума.
«Когда родители приходят на свидание, – говорится в одном из писем, – то хочется все, все им передать. Но этого никак не могу сделать: ничего не выходит. Вот сейчас чувствую, что много наговорил бы им ласкательного, хорошего, успокоил бы их, но в конторе этого сделать не могу, потому что там рядом со мной стоят люди, противные мне. При них я не могу выговорить ни одного ласкового слова. Я чувствую, что надо сказать что-нибудь ласковое, хорошее, но язык не повинуется. Когда идешь на свидание, то думаешь сказать то, другое, но когда придешь, то как будто все позабудешь. Все из головы уйдет. Смотришь только на них и слушаешь, что они говорят, а сам ни слова».
«Жду приезда своих, – говорит другой приговоренный, – они прислали мне десять рублей, но я отдал их жене. Вот человек, слепо преданный и любящий! Мне положительно стыдно перед ней. Но сказать ей, втолковать, поднять до себя у меня нет возможности. А так тяжело! Говорим мы на разных языках».
Человек, написавший эти строки, приписывает это тяжкое отчуждение от близких людей разности умственных уровней. Но едва ли это верно. «На разных языках» говорят, по-видимому, все обреченные с теми, кто остается после них на этом свете. Человеческий язык не приспособлен для таких разговоров. Обычные понятия робко смолкают в сознании своей ненужности, неуместности, оскорбительности. Что, в самом деле, значит вопрос о здоровье для человека, которого скоро повесят… И сны ему, конечно, видятся всякие… Разговоров о будущем мире, о боге и вечной жизни наш корреспондент тоже не приводит. Об этом, наряду с другими «формальностями», перед виселицей скажет ему тюремный священник, который за это получает казенное жалование…
И, конечно, рад бы был получать его за что-нибудь другое…
VI. «Автобиография»
Смертники пишут, если только есть возможность, довольно охотно. Это – один из способов скоротать страшные часы ожидания и, кроме того, оглянуться, обращаясь к сочувственному слушателю, на себя и свою уходящую жизнь. В случаях, когда рукой пишущего продолжает водить одушевление идеей, за которую человек сознательно отдал свою жизнь, – такие письма отливаются в формы, изумляющие и трогающие даже противников. Русская печать в последние годы нередко имела случал оглашать на своих столбцах такие обращения мертвых к живым, и эти голоса из-за могилы читались в самых глухих и прозаических закоулках жизни, заставляя забывать о противоречиях и несогласиях и напоминая только о душевной силе, побеждающей и освящающей ужас смерти.
В этих «бытовых» очерках мы имеем дело не с такими освещенными вершинами. Наш материал именно бытовой, обыденный, прозаический. Авторы не выдающиеся люди, письма их не согреты одушевлением какой-нибудь веры. Это скорее печальные сумерки мысли и гражданского сознания. Но и здесь условия, в которых рождаются эти предсмертные излияния обреченных людей, налагают на них печать серьезности, придают им особое печальное значение. Пишутся они без всякой задней мысли, как бог положит на душу, даже без надежды, что письмо проникнет дальше тесного круга родных или соседней тюремной камеры. Близость смерти делает людей искренними и серьезными. Тому, что говорится в таких условиях, приходится верить.
В нашем распоряжении есть целая автобиография такого заурядного человека, приговоренного к смерти, и теперь, вероятно, уже казненного. Мы приводим ее здесь целиком в том виде, как она списана нашим корреспондентом.
«Вы спрашиваете о детстве. Да, о нем я вспоминаю отчасти с хорошей стороны, отчасти с сожалением. Родился я и вырос в очень богатой аристократической семье. Все детство было сплошным удовольствием. Был окружен няньками, репетиторами. Зимой жил в городе, летом – в прекрасном имении. Имел ружье, лошадь, вообще все, что можно дать мальчику моего возраста. Потом началось учение. Учился в трех гимназиях, года полтора в кадетском корпусе на казенный счет, благодаря заслугам отца перед отечеством и престолом. Нигде не кончил и сделался в конце концов оболтусом. Мать по-своему любила меня. Отца я помню мало. Он через несколько лет после турецкой кампании скончался. Нас было четверо братьев и одна сестра. Должен вам сказать, что, несмотря на имеющиеся в нашей семье большие средства, ни один из братьев нигде не окончил. Вырастая, каждый стал отделяться от семьи и кое-как устраиваться. Один из братьев отравился лет восемнадцати от безнадежной любви. Другой женился девятнадцати лет на горбатой девушке, дочери крестьянина, чем, по мнению матери, осрамил всю фамилию. Служит он теперь обер-кондуктором на юго-западных железных дорогах. Третий женился на артистке провинциального театра и, сколько я помню, всегда был на полицейской службе. Теперь он где-то служит приставом или помощником полицмейстера. Помню я, что он был несколько раз под судом за растрату и дебоширство, но, благодаря протекции, всегда выходил сухим из воды. Четвертый – я, ваш покорнейший слуга, мерзавец порядочный, в особенности по отношению к женщинам. Был, впрочем, таковым только до ознакомления с политикой. Вот эта самая штука, „политика“, захватила меня целиком. У меня явилась жажда к учению, и я, хотя и бестолково, начал читать все, что попадалось под руку. Не забудьте, что до этого ничего, кроме бульварных романов, не читал. В детстве у меня проявлялся, хотя бессознательно, какой-то вольный дух, из-за чего у меня выходили со своими крупные ссоры. Летом крестьянам разрешалось собирать в нашем лесу грибы, но только тем, которые за это выходили на работу. Таким выдавались билетики, а остальным не разрешалось. Не выходили на работу, по-видимому, потому, что было невыгодно. И вот на таких-то и делались облавы, причем собранные грибы, конечно, отбирались. Меня это возмущало, и я отдавал грибы обратно, а с братьями по этому поводу вступал в драку. Как ни старались втолковать мне, я все-таки стоял на своем. Когда из-за этого произошла крупная ссора, я написал записку приблизительно такого содержания: „Когда будете читать эту записку, меня уже не будет в живых. Умираю потому, что не позволяют возвращать крестьянам грибы“. Затем я взял револьвер, оставил эту записку на столе и ушел с сознанием, что ровно себе ничего не сделаю. Тут же за мной была погоня. Я не успел добежать до лесу и был пойман. Но с тех пор прекратились облавы на крестьян, и я торжествовал. Этот случай является одним из приятных воспоминаний. Старших – матери, теток и дядей – мы все, дети, избегали и старались поскорее скрыться из глаз, несмотря на то, что я ни разу не был наказан ими. Нас выводили, как дрессированных щенят, к столу. Говорили мы заученные французские фразы, целовали руку матери, пили чай и удалялись. То же самое проделывали мы, когда были гости. От такого воспитания ничего хорошего для нас не получилось. Меня, да, вероятно, и других братьев, ничто не тянуло к родному углу. Мать и другие родственники, по-настоящему, чужие для меня люди, и у меня нет к ним любви. Если бы даже была у меня возможность поговорить по душе и приласкаться, то я отказался бы: не даст она мне той ласки, которая мне нужна, да и не займет она меня. Я с ними никогда не ссорился. Письма с поздравлениями писал аккуратно, так как знал, что это для них важно. Никогда я не обращался к ним с просьбами. Всегда им писал, что здоров, живу хорошо, хотя на самом деле мне и приходилось сидеть без еды дня по два и по три. Почему я не обращался – не отдаю (себе) отчета. Я не сказал о сестре. Она кончила в Киеве гимназию, вышла замуж за доктора, но не по любви, а потому, что муж представлялся ей выгодной партией. С супругом, сыном и матерью она и теперь живет в N. Муж ее уже профессор, имеет громадные связи и безусловно мог бы сделать для меня очень многое. За два года тюремного заключения я ни разу не писал им. Не писал потому, что не знал их взглядов, и думаю, что их скомпрометирую. Теперь мне хотелось бы послать им письмо, но то, что хотелось бы написать, – нельзя, а писать так – не стоит. Да думаю, что на меня и на брата-кондуктора смотрят как на нравственных уродов. Но теперь ввиду смерти мне хотелось бы знать, пожелают ли они хлопотать за меня. Если да – то я отложил бы свою смерть. Повторяю: одна мысль безотвязная мучает меня: умру ли тогда, когда захочу того сам…
Но я уклонился от рассказа о своей жизни. Лет пятнадцати-шестнадцати я, после долгих пререканий с матерью, добился согласия на отъезд, получил рублей триста денег и укатил в Одессу. Моя мечта была поступить на море. Через несколько месяцев я добился своего и поступил на пароход „Платон“ Российского Общества и совершал поездки до Батума и обратно. Прослужил я в качестве ученика около двух лет, затем заболел, пролежал месяца четыре в больнице и потом вышел. Под руководством одной особы, довольно опытной, вскоре после этого занялся торговлей. Три года с лишком родные не знали, где я и что со мной. Я наконец написал. За мной приехала жена брата (которого из братьев – автор письма не сообщает) и уговорила уехать обратно. Возвратившись в Киев, я познакомился с институткой, очень хорошенькой, закрутил с ней любовь, и в результате – роды. Я хотел было жениться, но родные увезли ее и выдали замуж, как я это узнал потом…»[148]
Так началась и так шла эта странная сумеречная жизнь в такой же странной сумеречной семье, выделяющей в одну сторону типичного полицейского-взяточника и преступника, пользующегося протекцией, чтобы избегнуть суда, в другую – кандидата на виселицу. Все здесь как будто на своем месте, все формально прилично: семья собирается за чайным столом, дети подходят к ручке и говорят заученные фразы. Но все так глубоко чужды друг другу, что даже в минуту смертельной опасности, перед возможностью казни (и притом, как увидим, казни по ошибке) у человека, написавшего эту удивительную автобиографию, нет решимости пробить брешь в ужасающем семейном отчуждении. Здесь нет ни слова о взаимной любви, ни слова о религии, ни слова об общем боге… Ниоткуда также не проникло еще сюда и отрицание религии или семьи. Бе никто не отрицал. Не просто не было. В таком состоянии, уже взрослым, уже отцом, но все еще бродягой, не членом общества – автор встречается с «политикой».
«„Политику“, – говорит он, – я сначала считал простыми переговорами одного государства с другим, но к политическим преступникам питал вообще глубокое уважение и считал их чуть ли не сверхчеловеками…» Как могли явиться политические преступники при условии, что политика – только переговоры одного государства с другим, автор не объясняет, и это, конечно, тоже характерно для того умственного хаоса, в каком бродит гражданская мысль даже сравнительно «культурного» русского человека. Совершенно понятно, что разобраться в многообразном брожении политических идей при таких условиях нет никакой возможности. «Политика» тут обращается в простое «отрицание существующего строя», и беззащитный ум влечется туда, где это отрицание последовательнее и проще.
«В первый раз, – пишет автор, – я был арестован в Киеве, когда жандармский ротмистр изнасиловал в петербургской крепости политическую, кажется, И-ую[149]. Студенты в Киеве решили отслужить по сгубленной панихиду, но им было в этом отказано. Студенты все-таки собрались, человек триста. Был тут и я. Нас всех переписали, но тут же и выпустили. Мы собрались вновь, опять были переписаны и посажены по тюрьмам. Через четыре месяца выслали на один год из Киева».
После этого молодой человек поступил счетоводом на Юго-Западную железную дорогу, где его дядя служил инженером. Устроился сносно, но местность была лихорадочная, и он заболел. Пришлось уехать в Самару, где ему удалось поступить конторщиком на железную дорогу. Конторщик он был, вероятно, самый обыкновенный, и едва ли за ним последовала даже репутация неблагонадежного. Таких маленьких протестов тогда было очень много. Но если бы вскрыть в это время душу этого обыкновенного самарского конторщика, то в ней можно было бы обнаружить представление о государстве как об учреждении, под покровом которого совершаются гнусные насилия в глухих казематах над беззащитными девушками. Оно покрывает эти насилия и наказывает за выражение негодования. С такой психологической подготовкой он знакомится в Самаре с фельдшерицами-ученицами, к которым ходили неблагонадежные лица. «Тут-то я и стал познавать всю премудрость».
Какую именно «премудрость», автор не объясняет, считая это понятным…
«Вот моя жизнь, – так заканчивает он свое жизнеописание. – За что я иду на виселицу? Скоро наступит смерть, и я даю вам слово, что не только в этой, но и ни в какой экспроприации я никогда не участвовал. Да, вероятно, я и не способен убить кого бы то ни было. По натуре я очень мягок и добр до идиотства, так что буквально не способен на такие дела. В этом же деле, за которое меня приговорили к смерти, я виноват только в том, что не донес. Да я и не знал точно, как они хотят обработать это дело. Да если бы и знал, то мои убеждения не позволили бы мне сделать донос. На суде мне пришлось удивиться существованию мелких улик против меня. Теперь я говорю вполне искренне: в данном случае простое совпадение. Ну, да черт с ними! Не хочется об этом и толковать. Добавляю, впрочем, интересный факт: суд признал меня виновным только в подстрекательстве, и все-таки дал мне виселицу…»
Если припомнить, что это письмо из одного каземата в другой, в расчете на тайную передачу помимо начальства, что это простая исповедь приговоренного перед временным товарищем по тюрьме, – то страшная правдивость его станет вне всяких сомнений. В одном из цитированных выше писем мы видели, как приговоренный к смертной казни обругал суд не за себя (себя он признавал виновным в том, что ему приписывали), а за то, что вместе с ним был приговорен невинный… Очень вероятно, что этот протест вызван приговором именно над этим юношей.
Теперь, когда из тюремных камер эта автобиография выбралась на волю, вопрос об этой жизни давно, конечно, решен. Как? Этого мы сказать не можем. Более чем вероятно, что «правосудие сделало свое дело». И того, кто писал эти строки, и другого, который один только, звеня кандалами, по-своему за него заступился (за что вдобавок к смертной казни попал еще в карцер), – уже, надо думать, нет на свете. Сумеречная жизнь закончилась среди сумеречного правосудия, не дающего себе труда отличить виновных от невиновных. Едва ли последние минуты этой жизни осветились вспышкой какой-нибудь веры. «Черт с ними!» – такова формула, которую, уходя, он кинул на прощание…
Но те, кто его судили, вели на казнь и напутствовали предсмертными поучениями, как будто во что-то верят сами и требуют веры от других. Думают ли они о том, какой ужасный иск этот сумеречный и неверующий юноша мог бы представить против «существующего строя» в той признаваемой ими инстанции, которая должна быть выше всякого земного суда?
VII. Экспроприаторы
В сентябре 1909 года в киевском окружном суде (с присяжными заседателями) разбиралось дело эстонского журналиста Эккарта (Энделя) Хорна. Ранее он был приговорен к каторжным работам за политическое преступление, совершенное в Прибалтийском крае, где, как известно, революционное движение было особенно интенсивно и местами действительно принимало характер массовой борьбы. В киевской лукьяновской тюрьме, где он отбывал наказание, в соседней с ним камере содержалась смертница, Матрена Присяжнюк, бывшая сельская учительница. В августе 1908 года она была приговорена киевским военно-окружным судом к смертной казни. Двенадцатого сентября приговор был утвержден, но исполнение почему-то затянулось. Перед казнью Матрену Присяжнюк перевели в камеру рядом с Хорном. Он слышал ее шаги и звон кандалов. Ночью светила луна. Через стену было слышно, как приговоренная, звеня кандалами, подошла к своему окну. Два товарища, осужденные вместе с нею, уже раздобылись ядом. Хорн вскрыл замазанное глиной отверстие в стенке и передал девушке цианистый калий в носке чайника. Она приняла яд, и Хорн до конца разговаривал с нею, утешал ее. В письмах к невесте, сидевшей в той же тюрьме, он описал последние минуты Матрены Присяжнюк (кружковая кличка ее была Рая). Письмо странно и не вполне связно. Видно, что писал человек, потрясенный до глубины души. О себе он иной раз говорит в женском роде, о своей невесте и Рае – в мужском.
«Я ждал вечера. Какой это был длинный, мучительный день… Когда все у нас ложились спать, я открыл ножиком замазанное глиной отверстие… Через несколько минут я увидел свет из ее камеры… Открывается отверстие, и она называет меня по имени. О боже! Я должен был передать ей… Я чувствовал, как она сняла с палочки мое послание… Затем передал ей два письма. Все время с жадностью смотрел я в отверстие. Она читала. В это время спрашивает Степа из каземата, чтобы спросить у Раи, когда она думает принять, чтобы уйти вместе… Какая любовь! Они любили ее… Звон кандалов. Значит, прочитала…» «Милый, я долго говорил с нею, я дополнил словами письмецо. Наконец, я просил ее немного отступить от отверстия, чтобы я мог ее увидеть. И я увидел ее красивое, чистое личико. Какой я был счастливец! Она смотрела на меня и смеялась тихо, тихо… „Эндель, ты слышишь, я смеюсь?“ – „Да, Раичка, слышу… Что с тобою?..“ – „Мне смешно, что мы здесь увидимся, что мы сумеем еще говорить…“ Затем она спросила: что с тобою? Где Анатоль, где „земляк“?.. „Передай моей Надюшке мои приветы и поцелуи“. Здесь она уходит. Через некоторое время опять подходит. Степа спрашивает: „Когда?“ „Сегодня, после смены, – ответила она. – Действует ли калий?“ – „Да, дорогая. Больше ничего не могу тебе дать!“ Здесь я страшно волновался. Передать из рук в руки другу, которую так любишь, смерть, когда так хочется жить. Это ужасно… „Не волнуйся, Эндель“, – ответила она.
Я молчал, а она говорила что-то. Наконец она спрашивает, каким образом принять. „Разотри в порошок. Можно немного воды“. – „Хорошо, я возьму так“. Она ушла.
После смены стук в стенку – я подошел. „Сейчас приму, Эндель, я без воды. Что парни?“ – спрашивает она. „Кажется, уже“. – „Прощай“. – „Прощай, дорогая“. Я слышал шорох платья, звон кандалов. Затем тишина. „Раичка, приняла?“ – „Уже, прощай“. – „Прощай, дорогая…“ Несколько секунд была глубокая тишина. Затем она сильно задышала. Вздохи… Опять слабое дыхание… наконец сильные вздохи… тишина. Тише, человек умер… не стало дорогой Раички. Тише, человек умер, но жизнь идет своим чередом… Я говорил с нею, я слышал все, был с нею до последней минуты. Все это навсегда запечатлелось в моей душе… Нет Раи, говорите вы… неправда! Я говорю – она есть и теперь со мною, со всеми нами, которые любили ее. Мы будем жить ею. Через некоторое время послышались стуки в стенку, но отвечать было незачем. То пришли тюремщики»[150].
Это письмо попало из тюрьмы на волю, ходило по рукам и спустя полгода было взято при обыске у некоего Кинсбургского. Оно послужило основанием для возбуждения против Хорна нового дела «о пособничестве самоубийству», которое разбиралось 10 сентября 1909 года киевским окружным судом. Почему оно было направлено в порядке общей подсудности, с присяжными и даже при открытых дверях, – сказать трудно. Если правительство рассчитывало показать обществу «чудовищ», которых военные суды келейно приговаривают к смертной казни, то расчет оказался ошибочным. «Медленно и страшно, – говорит автор судебного отчета, – приподнялась завеса над одним из ужасов жизни. Наступающие сумерки, сухое и отчетливое чтение письма среди мертвой тишины производило глубокое впечатление». В коротком последнем слове Хорн, признавая факт, отрицал вину. «Она приговорена была к смертной казни, приговор был утвержден, и я помог дорогому товарищу освободиться от нее. Я ничего безнравственного не совершил». Дальше он не мог говорить от волнения и сел… Присяжные удалились в совещательную комнату только на одну минуту. Приговор был оправдательный.
В значении его едва ли можно ошибиться. Присяжные – это люди из того самого общества, которое правительство защищает от экспроприаторских налетов посредством военных судов и смертных казней. Хори – революционер, анархист, стоявший очень близко к экспроприаторским кругам… И тем не менее во всем эпизоде нет ни одной черты, которая бы говорила о «кровожадной свирепости» или «глубокой испорченности», невольно возникающих в воображении в связи с таким отвратительным явлением, как экспроприация, вдобавок еще частная. Для присяжных она осталась в тумане. Перед ними и перед обществом встал только образ интеллигентной девушки довольно распространенного в России типа, с знакомой издавна психологией прямолинейной готовности на борьбу и жертву. А обстановка этой смерти дала картину такого нечеловеческого страдания и атмосферу такого взаимного сочувствия, что присяжные, как мы видели, даже не колебались. Их приговор явился непосредственным откликом общественной совести. Несомненно, что Хорн помог жертве правосудия ускользнуть от виселицы. Он содействовал самоубийству… Да, но для того, чтобы устранить казнь. И присяжные, люди среднего русского типа, сказали: не виновен. Не знаю, конечно, вспоминали ли они знаменательное признание гр. Витте относительно «отсталого строя». Можно думать, что и без гр. Витте у среднего русского человека, поставляющего контингент присяжных заседателей, есть представление о связи явлений, которая в последнее время становится особенно ясной. И если даже в миазмах экспроприаторской эпидемии перед удивленным взглядом такого среднего русского обывателя встают черты душевной красоты и чувствуется психология самоотвержения, – то тут есть повод задуматься о причинах этого угара… Общественная совесть не мирится, конечно, с экспроприациями. Но она не может примириться и с прямолинейным решением трудного вопроса посредством не рассуждающей «упрощенной» процедуры, в конце которой – веревка и виселица…
Временная связь между экспроприациями и традициями политических партий, проявленная в бурном периоде движения, не могла удержаться долго. Она была вызвана неверной оценкой данного момента. По существу, как длительная тактика борьбы, она противна психологии революционных партий. Антагонизм проявился сразу и с тех пор только усиливался. Случайные идейно-революционные элементы уходили из отравляющей душу полосы, экспроприация все больше приближалась к простому разбою, иногда в самых отвратительных и жестоких формах. Но для правительства и для вульгарной «благонамеренности» вообще выгодно смешивать эти явления. Репрессии против всех оппозиционных партий оправдываются существованием экспроприации. Борьба мнений, партийное самоопределение, партийные споры и сталкивающиеся внутри оппозиций программы – составляют в глазах всякого политически просвещенного правительства элемент социальной рефлексии, которая уже сама по себе ослабляет дикую страстность борьбы, обращая ее от непосредственных импульсов в сферу мысли, колебаний, сомнений, изучений. Свобода мнений выставляет самые крайние из них под свежие веяния критики. Наша власть продолжает считать своим успехом и признаком своей силы то обстоятельство, что ей удалось загнать работу оппозиционной мысли и воли в душные подполья, оставив на поверхности жизни одно только властное предписание, один только голос «организованного беспорядка» и стихийную анархию об руку с разбоем…
В этом правительство достигло значительных внешних успехов. Одного только оно устранить не в силах, это – общего, можно сказать, всенародного сознания, что так дальше жить нельзя. Сознание это властно царит над современной психологией. А так как самостоятельные попытки творческой мысли и деятельной борьбы общества за лучшее будущее всюду подавлены, то остается непоколебленным одно это голое отрицание. А это и есть психология анархии. Ни уважения к «отсталому строю», раз уже признавшему всенародно свою несостоятельность, ни самоуважения, как к членам организующегося по-новому общества… Вы говорите о каких-то возможных еще приемах легальной или хоть не вполне легальной партийной борьбы. Где они? Вот. Только эти люди еще борются при всяких условиях. Итак, долой социальную рефлексию, долой всякую организацию, всякие положительные программы и принципы. Мы принимаем только ясное, простое, очевидное: неорганизованное, не связанное никакими ограничениями выступление анархической личности. Насилие индивидуальное – на насилие легализованное, тайное убийство – против казни по упрощенному суду или совсем без суда, грабеж – против разорения «административным порядком», личная кровавая месть – против истязаний в участковом застенке, партизанская анархия – против того, что цензор Никитенко назвал так метко «организованным беспорядком». Общий фон – глубочайшее презрение уже не только к одной стороне жизни, а ко всей жизни: к правительству, к обществу, к себе и к другим. Мы видели, как один из смертников прощался со всем этим краткой формулой: черт с ними.
Этому процессу нельзя отказать в последовательности. Он последователен, как любая болезнь в организме, пораженном маразмом застоя, как воспаление там, где есть невынутая заноза, как заражение крови…
Среди материалов, сообщенных нашим корреспондентом, есть одно письмо, поразительное по цельности и интенсивности стихийно анархистского настроения.
«Вы спрашиваете, к чему я стремился? И действительно – к чему? Я не могу объяснить. Я не нахожу тех слов, которыми мог бы все это объяснить. Но я вижу и чувствую, что не то в жизни, что должно бы быть[151]. А как должно быть по-настоящему, я не знаю, или, пожалуй, знаю, но не умею рассказать. Когда я был на воле, то наблюдал, что люди делают не то, что нужно делать, а совсем другое. Несколько лет назад и я сделал не то, что нужно, а потом махнул рукой на всех и стал делать то, что хочу и что мне нравится».
Себя он характеризует с беспощадной откровенностью:
«Я страшный эгоист и любил только себя во всю свою жизнь. Я одно ясно сознавал: я живу, а раз живу, то для этого нужны деньги (!). Своих денег у меня не было, и я брал, где только они есть. Я не знаю, быть может, это и худо, но я ни на кого не смотрел. Мне нет дела до людей, какого они мнения о моих поступках. Ты и сам знаешь, что я не буду подставлять свою жизнь, а скорее сам отниму. Я всегда старался угнетать слабых и брать у них все, что мне надо. Если бы понадобилась их жизнь, я отобрал бы ее, но в жизни других я не нуждался. Ты не думай, что под слабыми я разумею бедных людей. Нет. У нас и богач слабое существо. Я на воле был сильнее богача, но теперь я слаб, у меня отняли все, что я имел, и мне остается умереть».
Правда, среди всего материала, которым я располагаю в настоящее время, это письмо является единственным по своему безнадежно-мрачному, беспросветному цинизму. Другие только в большей или меньшей степени к нему примыкают. В них это настроение смягчается по большей части проблесками признания где-то существующей, но недоступной правды и глубокой, за душу хватающей печалью о погибающей жизни.
«Придется умереть, – пишет восемнадцати летний юноша. – А как хочется жить, если бы ты понял! Страшная жажда жизни. Подумай: мне ведь только восемнадцать лет. А как я прожил эти восемнадцать лет? Разве это была жизнь? Это были сплошные страдания. Ведь у нас семейство семь душ. Работник почти один брат. Я еще какой работник! Обо мне и говорить нечего: много ли я мог заработать? Плохо было жить. Так я жизни и не видел».
«Жизнь прошла бледной, как в тумане, – пишет другой смертник. – Является чувство жалости к прожитому. Почему я был так темен и не знал другой жизни? Почему я не учился?.. Жалеешь, почему так поздно узнал то, что узнал теперь. Почему жизнь была так пуста? Что меня занимало? Какая-то ерунда, за которую теперь стыдно».
«Впрочем, – заканчивает он безнадежно, – успокаивает мысль, что рано или поздно, но не избежать бы мне этого. Если бы и выбрался я на волю, то пришлось бы жить нелегально. Это легко только тому, кто не испытал этого. Пришлось бы заниматься тем же. Значит, и опять явился бы кандидатом на виселицу».
«Все хорошее, – пишет третий, – заслонялось дурным, и я видел только зло во всю свою хотя и короткую жизнь. Видел, как другие мучаются, и сам с ними мучился. При таких обстоятельствах и при такой жизни можно ли любить что-нибудь, хотя бы и хорошее? Прежде я работал на заводе, и мне это нравилось. Потом я понял, что работаю на богача, и бросил работу. С вооруженного восстания стал грабить с такими же товарищами, как я».
«Да и стоит ли выходить на волю? – спрашивает четвертый. – Нашел ли бы я там людей, с которыми стоило бы жить? Я знаю, что где-нибудь есть хорошие, честные люди, но я их не найду, а сойдусь с какими-нибудь негодяями. Пожалуй, и не стоит выходить на волю и жить так, как я жил раньше. Лучше уже умереть, чем сплошная мука».
Порой встречаются попытки реабилитации и оправдания экспроприаторской «деятельности». «Я напишу вам о том, что меня мучает в данную минуту, – пишет один из экспроприаторов-смертников политическому заключенному. – Я знаю, что большинство людей считают меня, как и других экспроприаторов, простым вором. Но я не для себя грабил, а помогал тому, у кого ничего не было. Об этом знают многие. Я делал это не от лица какой-нибудь партии, а от себя лично, и мне так обидно, когда обо мне говорят так. Когда я прежде сидел в общей камере с уголовными, то все говорили, что экспроприаторы грабят только для себя. Я спрашиваю вас: неужели те, которые сидят с вами в одной камере (речь, очевидно, идет о политических), думают так же, как уголовные? Я говорил прежде уголовным, что есть люди, которые берут не для себя, а для других. Лично о себе я ничего не говорил, но мне всегда было так горько при таких отзывах об экспроприаторах».
Но общий уровень экспроприаторской среды падает гораздо ниже и этих наивных попыток своеобразной идеологии. «Я грабил с такими же экспроприаторами, как и я, – печально признается еще один автор, – но и тут подлость: товарищ у товарища ворует. Я участвовал во многих грабежах, но редко проходило без подлости. Разве это не обидно? Ведь свой у своего берет? А снаружи все хорошие люди. И как жить после этого?»
Читатель, вероятно, заметил горькую, хотя, может быть, и несознательную иронию этих заключительных слов. О том, чтобы найти правду в обычных условиях общества, этот погибающий юноша уже и не говорит. Остались еще, по-видимому, немногие хорошие люди. Это экспроприаторы, которые одни дерзают активно восставать против торжествующей несправедливости. Но и они хороши только «снаружи», по своему, так сказать, «почетному званию». Как жить после того, когда даже среди них настоящей правды не оказывается!..
VIII. «Приговор утвержден»
Этим исчерпывается автобиографический, так сказать, материал, доставленный самими смертниками нашему корреспонденту.
Эти интимнейшие, откровенные и совершенно бескорыстные признания-исповеди разными способами, но почти всегда неофициально пробирались из камеры смертников в другие тюремные камеры к людям, которые не имели ни малейшей возможности повлиять на участь приговоренных. В каждой строчке звучит поэтому одна предсмертная правда. Многие авторы писем откровенно говорят о том, что для них при данных условиях нет уже никакого исхода, и сомневаются, стоит ли им даже мечтать о жизни. И тем не менее – только в одном (первом) письме можно, пожалуй, увидеть признаки настоящего цинизма и нераскаянности. Во всех остальных сквозит горькое раздумье и тоска по какой-то другой жизни, по какой-то труднодоступной правде. Можно ли, положа руку на сердце, сказать, что для тех, кто писал эти исповеди, не может быть места среди людей и что рука, утверждавшая эти приговоры, удаляла из жизни извергов, недоступных ни раскаянию, ни исправлению?
А ведь все это писано по большей части профессиональными экспроприаторами, дышавшими разъедающей атмосферой вульгарно-анархической психологии. Таково ли, однако, большинство жертв военной юстиции? Экспроприаторство – это эпидемия. Нередко она захватывает людей просто среднего типа, не думавших за месяц до преступления, что они могут в нем участвовать, и просыпающихся от закрутившего их вихря, точно после тяжелого сна. В газетах появлялись не раз письма смертников к родным, ярко выражавшие это пробуждение от кошмара, проникнутые страстным чувством раскаяния.
Вот несколько примеров.
Некто Карамышев служил в экономии Орлова-Давыдова, в Аткарском уезде, Саратовской губернии. Был обыкновенный служащий, нажил на службе увечье и должен был получить за это увечье деньги. Но в промежутке принял участие в нападении на купца, причем никому никаких ран причинено не было. Самый обыкновенный грабеж, окрашенный современным колоритом «экспроприации». Тем не менее он был приговорен к смертной казни. Вот его предсмертное письмо к родителям[152]:
«Дорогие мои родители, папаша и мамаша, и сестрица Феня! Пишу я свое любезнейшее письмо к вам со слезами на глазах; извещаю я вас в том, что я присужден к смертной казни через повешение. То прошу, дорогие мои родители, простите меня и все мои преступления перед вами. Перед смертью я исповедывался и причастился, отклонить этого я не мог.
Прощай, родной ты мой отец, прощай, родная моя мать, прощай, сестрица моя родная, прощайте все мои братья и любезные мои друзья; вы больше меня не увидите, до гроба будете вспоминать. Прошу, дорогие мои родители, отслужите панихиду по мне. Ах, как трудно такой смертью помирать. Сообщите брату моему Ване, что меня уже нет на свете. Дорогие мои папаша и мамаша! Когда писал это письмо, у меня сердце кровью обливалось, слезы катились с моих глаз и капали прямо на стол. Передайте моей жене, чтобы и она отслужила панихиду. Жена моя и братья мои навещали до самой смерти моей. Прошу еще, скажите моим дядям и теткам и также крестной и дедушке, что я уже помер. Передайте смертный мой поклон Федору, Петру, Василию, Мише и всем моим знакомым. Еще прошу, напишите в Баку тетке и брату Василию о том, что меня нет в живых. Папаша и мамаша, если вы получите деньги за увечье, то прошу вас сердечно построить на эти деньги хороший дом, и меня не забывайте. Папаша и мамаша! Не плачьте обо мне, так как у вас осталось еще четыре сына; довольно вам и этих, без меня обойдетесь. Ну, дорогие мои родители, прощайте же еще раз. Прощай, мое село родное, где я родился и провел свою молодость. Прощай, все общество мое. Простите меня, злодея окаянного. Бог, может быть, не оставит меня и простит грехи мои все.
Письмо это я писал перед смертью, рука дрожала, сердце билось. Извините, что так плохо написал, тороплюсь. Прощайте, прощайте. Нет уже меня. Еще раз прощай, жена моя родная, милая моя. Прощайте. Некогда. Меня ждут. Любящий сын ваш Василий Максимов Карамышев».
Читатель видит, что здесь нет и намека на характерную психологию экспроприаторов-анархистов, нет также и тени какой бы то ни было оторванности от среды и ее отрицания. Эта расстающаяся с миром душа – душа крестьянина, крепко связанная с семьей, с обществом, со своим миром.
За экспроприацию в Балашовском уезде Саратовской губернии был приговорен к смертной казни Шуримов. Его отец, слепой старик, проживающий в Цимлянской станице (области Войска Донского) получил от него следующее письмо[153]:
«Здравствуй, дорогой папа! Шлю тебе свой последний прощальный привет и желаю много… много… счастья. Прости, дорогой, что я так долго тебе не писал. Ты подумаешь, что я вконец забыл тебя. О милый папа, не обвиняй меня так жестоко. Все это время нашей разлуки с тобой было сплошное мученье для меня. Я только тем и жил, что думал, настанет время, когда я навсегда соединюсь с тобой, когда я буду в силах преклонить твою седую голову к себе на грудь и залечить душевные раны, что нанес твоему бедному, истерзанному сердцу. Но это время не настало, мечты мои разлетелись, и осталась горькая действительность. Я с 29 мая 1908 года сижу в тюрьме. Двадцать третьего января я был на суде и приговорен к смертной казни. Приговор послан на утверждение командующему войсками, но надежды мало, чтобы смерть заменили каторгой. Мне осталось жить дней тридцать. Если можешь, дорогой папа, то приезжай, тебя допустят увидеть меня. Теперь я сижу на имя Шуримова. Напиши письмо матери и скажи ей, что последняя моя просьба, чтобы она не покидала тебя и успокоила бы твою бедную голову. Поцелуй Пашу и Мишу. Всем родным поклон. Прощай, папа!»
Как и ожидал присужденный, приговор был приведен в исполнение.
Еще более яркие, по покаянному настроению, письма написал восемнадцатилетний юноша, Евгений Маврофриди, приговоренный к смерти военно-окружным судом в Новочеркасске в декабре 1908 года.
«Здравствуйте, дорогая мамочка.
Я, по воле всевышнего, еще жив, но в будущем не знаю, что со мной будет, приведут ли в исполнение приговор или же нет, но я, дорогая мамочка, чувствую, что я живу последние дни, а может быть, даже и часы, вот уже десятые сутки ожидаю смерти и ночью не сплю и прислушиваюсь, как заяц, к каждому шороху, и как только проходит мимо какой-нибудь надзиратель, так мне все кажется, что это за мною, то есть мне кажется, что легче будет умирать на виселице, нежели ожидать вот так каждую минуту то, что откроется дверь и скажут: выходи! Но, дорогая мамочка, на все его святая воля, я надеюсь на него. Он сам страдал, но он страдал за наши грехи, то есть за грехи всего народа, а я страдаю за то, что не слушал вас, дорогая мамочка, и не молился ему, который умер за наши грехи. Да, дорогая мамочка, грешен я перед богом и перед вами. Каюсь, ну что, теперь, мне, кажется, уже поздно, да, дорогая мамочка, слушался бы я вас, молился бы почаще богу, ничего бы подобного не было; а то я послушал совета товарищей и оставил службу в банке, не бросил бы я служить, не сидел бы я теперь и не ждал бы каждый час смерти, а ожидал бы, как каждый христианин, среди вас, дорогие мои, праздника рождества Христова, ну, на все воля всевышнего. Суждено мне умереть, я умру, если нет – значит, буду жить.
Дорогая мамочка. Смотрите лучше за Колей, вразумляйте его, пусть он молится богу за всех вас, а также пускай помолится за своего грешного брата, может, бог услышит его, а обо мне, дорогая мамочка, забудьте, я недостоин, чтобы из-за меня мучились люди, а тем паче вы, дорогая мамочка, а также Маруся, она вас слушалась, и училась, и молилась за своего грешного брата богу. Мамочка, смотрите за ними, то есть за Колей и Марусей. Скажите им, чтобы они вас слушали, а не подруг и товарищей.
Дорогая бабушка, я знаю, что я вам приношу много горя, так как я горячо вами любим, но вы, дорогая, не обижайтесь на меня, а помолитесь лучше за меня богу. Да, дорогая бабушка, тяжело умирать в таких летах, как я, ведь мне только восемнадцать лет, и я должен умирать, ну, раз так хочет бог, то пусть так и будет. Если господь нас, то есть меня с вами со всеми, дорогие мои, разделяет здесь на земле, то он нас соединит там, где дорогой мой папа, да, бабушка? Я иду до папы. Вы успокойте мамочку, скажите ей, что у нее есть еще Коля и Маруся; я молю бога, чтобы она нашла в них себе утешение.
Ну, покамест до свидания, а может быть, прощайте, это бог знает. Целую вас всех крепко, поцелуйте за меня тетю Шуру, Колю, Марусю и всех остальных. Евгений Маврофриди».
В том же тоне написано и письмо к брату, тому самому Коле, о котором этот юноша несколько раз упоминает в предыдущих письмах. Он просит его не оставить мать и сестру: «у них одна надежда на тебя. Оправдай все это, береги их, выучи ты Марусю, чтобы из нее вышла порядочная барышня, а не какая-нибудь потаскуха… Не оставляй службы, служи, терпи и боже тебя сохрани послушать совета товарища без совета матери… Дорогой Коля, если мне придется умирать, то я оставлю свой крестик золотой на серебряной цепочке, ты его получишь в тюремной конторе и одень его и носи до конца своей жизни, я тебя прошу ради бога, это будет благословение твоего грешного брата».
В Таганрог, где жили родные Маврофриди, письма пришли с прокурорской пометкой: писаны они 18 декабря. Мы не знаем, что предпринимала несчастная мать, но приговор был утвержден, и 29 декабря 1908 года восемнадцатилетний Маврофриди казнен.
И сколько таких матерей, и сколько отцов, и братьев, и сестер, и бабушек получали в последние годы такие письма. Сколько тут еще косвенного, непоправимого и незабываемого страдания людей уже совершенно невинных. Слепой старик Шуримов, получивший в Цимлянской станице от своего сына цитированное выше письмо, захотел исполнить его просьбу и отправился в Саратов, чтобы получить прощальное свидание. В первой статье я уже рассказывал об его «хождениях по этому делу». Чтобы добиться простой справки – жив ли еще его сын, или его уже казнили, – ему пришлось путешествовать из Саратова в Казань, и только по возвращении оттуда «справку» наконец дали: сын уже повешен. Что теперь с этим слепым стариком? Жив ли он или не выдержал тяжкого удара и последовал за сыном? Мы не знаем. Это знают, вероятно, в Цимлянской станице. «Были случаи, – говорит сотрудник „Нашей газеты“, описавший мытарства Шуримова-отца, – покушения на самоубийство лиц, близких к казненным: люди не выдерживали ужаса такой потери. Во всех таких случаях общество, несомненно, казнит невинного вместе с виновным»[154].
А вот еще бытовая картинка в современном вкусе, которую господин А. П. нарисовал с натуры в газете «Речь». Автору случилось 3–4 января 1909 года ехать с вечерним поездом из Ставрополя Кавказского. Ехали, как обыкновенно ездят в вагонах третьего класса, и разговоры шли обычные. На первой остановке в то отделение, где помещался автор, вошел мужчина в опрятном костюме, который на Кавказе носит название «хохлацкого» и всегда выдает переселенцев из малорусских губерний. Ничего особенного на первый взгляд в этом переселенце никто из пассажиров не заметил. Фигура тоже бытовая, обычная, и ее тотчас же, по обыкновению, приобщили к обычному вагонному разговору: кто? откуда? куда? по какому делу? торговля? покупка или продажа хлеба, скота, яиц или масла?
Оказалось, что едет он в Таврию и дела у него не торговые… А какие?
– Да так… несчастие маленькое вышло…
Что ж. И это дело обычное. «Со всяким человеком случаются несчастия». «Без этого невозможно. Дело житейское».
– Болен кто-нибудь?..
– Никто и не болен… Сына повесили.
Всех поразил спокойный, по-видимому, тон этого ответа. Известие было неожиданное и не совсем обычное. К такому «бытовому явлению» даже наша российская публика еще не совсем притерпелась, как к обычному предмету вагонного разговора… Кое-кто, может быть, сразу и не поверил. Но «спокойный» незнакомец вынул из кармана «документы» и господин А. П. прочитал их. Документов этих было два. Первый гласил:
«Здравствуйте, дорогие родители, дорогие папа и мама и дорогие братья и сестры. Я в настоящее время сижу в одиночке в последнюю минуту повели меня. Нас на казнь пять человек Котеля, Воскоб<ойникова>, Лавронова и Киценка. Вы хорошо знаете кажется хто был я и умру не первый и не последний. Привели меня в темную так называемую одиночку так что я писать не вижу, ни буквы ни линеек, которые находятся на этой бумаге. Дорогие папочка и мамочка и дорогие братики и сестрички читай<те> это письмо, но прошу не плачьте и (не) тратьте своего здоровья и сил и так слабы прошу не плачьте. А гордитесь своим сыном я умираю гордо и смело смотрю смерт<и> в глаза я нисколько не боюсь ее я очень рад что кончено мое мученье меня судили 29 октября, а 22 ноября ночью приблизительно часов у 12 или в час я очень весел, этим я горжусь, что умер не трусом. Это последнее прощальное письмо. Целую вас папу, маму, Васю, Ваню, Катю, Маню, Варю. Прощайте, прощайте Коля Котель».
Другой документ было письмо защитника в чисто деловом тоне.
«Милостивый государь. Сын ваш был осужден судом к смертной казни, причем суд постановил ходатайствовать перед Каульбарсом о замене смертной казни каторгой. Сегодня в тюрьме случайно узнал о том, что Каульбарс не уважил просьбы, и смертный приговор приведен вчера в исполнение. Присяжный поверенный В. Гальков».
Читатель легко представит себе «вагон третьего класса» после оглашения этих документов. Поезд несется по русской равнине, громыхая и лязгая цепями, светя в темноту ночи своими окнами. В одном вагоне третьего класса все притихло. Кто не спит, слушает чтение документов и (теперь уже не совсем спокойные) речи «переселенца» в хохлацком костюме.
– Лучше бы меня повесили, – так передает господин А. П. общее содержание этих речей, – чем его, молодого, в расцвете сил. Добрый был. Ласковый. Никому зла не сделал. Ну, хоть бы в каторгу послали, все-таки был бы жив… Растили… радовались… Мать пропадает от горя, у меня точно сердце из груди вынули… Пусто…[155]
В публике слушают, качают головами: «Бытовое явление» повернулось необычной стороной: перед глазами этих людей уже не экспроприатор и не революционер, а отец, такой же, как и все эти отцы, у которых тоже есть дети. И они тоже разошлись по белому свету в учение, на заработки, на службу… Кто их знает? Из семьи тоже уходили добрые, любящие, ласковые. Писали письма: «Дорогая мамочка и папочка. Посылаю я вам с любовью низкий поклон…» И вдруг вот так же внезапно напишут: «Сижу в одиночке. Через полчаса повесят». А защитник прибавит: «Суд ходатайствовал, но Каульбарс не уважил». И мать станет пропадать от горя, у отца вынут сердце. За что? Они ли виноваты, что всюду вне их семьи свирепствует эпидемия «волнений и расстройств», вызванная, между прочим, и тем, что современный строй уже «не удовлетворяет стремлениям общества к правовому порядку…» Почему же за это так тяжко приходится расплачиваться матерям и отцам? Разве «отстала» одна только семья, а не государство?..
И почему генерал Каульбарс казнил Колю Котеля, когда даже суд перед ним ходатайствовал о смягчении его участи? Кто этот генерал, такой строгий и непреклонный? Кто-нибудь даже и в вагоне третьего класса, пожалуй, знает кое-что про этого доблестного генерала. О нем много писали и продолжают писать. Например, генерал-адъютант А. Н. Куропаткин, останавливаясь на причинах наших неудач в минувшую войну, говорит: «Указать хоть на то, что командующий второй армией генерал Каульбарс не исполнил приказаний главнокомандующего, чем много способствовал японцам в обходном движении. Получив войска и приказание наступать, он отступал; вместо того чтобы идти вправо, шел влево и т. п… Военный совет нашел действия генерала Каульбарса неправильными, установил факты неисполнения приказаний главнокомандующего и решил предать генерала Каульбарса… военному суду. Суд, по высочайшей милости, не состоялся»[156].
Неужели это тот самый?.. Да, тот самый. Он пощадил японцев от своей грозной атаки и даже «много способствовал неприятельскому обходному движению». Почему же теперь он так беспощаден к Коле Котелю, его отцу и матери? Самому ему грозил военный суд. Он избег его только благодаря милости… Почему же теперь сам он так немилостив, что отверг даже ходатайство суда?..
А русский поезд все дальше мчится русскою степью, унося с собой этот клочок ужасной русской современности «послеконституционного периода»… И на каждой маленькой станции кусочек «бытового явления» отщепляется от громыхающего поезда, и какой-нибудь из слушателей «спокойного рассказа» пробирается проселком в село, или в деревню, или в городское предместье, в крестьянскую лачугу, или в рабочую казарму. Что он несет туда? Какие впечатления, какие чувства, какие мысли? Уважение к силе власти? Страх перед нею?.. Перед генералом Каульбарсом, тем самым, который… Или, может быть, щемящее сочувствие к горю отца и матери, к сотням и даже тысячам отцов и матерей, постигаемых этой доблестной генеральской беспощадностью? Или, чего доброго, сочувствие к неведомому юноше, написавшему перед смертью:
«Умру не первый и не последний. Не плачьте, а гордитесь своим сыном. Умираю гордо, смело гляжу в глаза смерти…»
Трудно угадать, кто и что именно вынес с собой из этого вагона и от этого рассказа. Трудно точными словами передать чувства и мысли безгласной страны, которая, говорят, уже успокоилась, но в которой под конституционные речи все еще не хочет успокоиться виселица… Ведь и этот случайно встреченный господином А. П. пассажир в костюме кавказского переселенца казался тоже спокойным. Но все-таки он хранит на груди свои «документы» и готов предъявить их по первому запросу…
Когда, при каких обстоятельствах, в какую инстанцию он их предъявит?.. Кто знает. Будущее темно. Русский поезд мчится в темноте дальше и дальше по старым, износившимся рельсам…
IX. Как это делается?
Прежде, еще не так давно, это делалось иначе, чем теперь. До последнего времени, до периода «обновления», казнь была явлением исключительным, необычным. Она волновала, потрясала, пугала человеческую совесть. В ней чувствовался ужас, над ней витала мрачная, почти мистическая торжественность.
Можно было бы привести много примеров. Мы удовольствуемся одним. В благонамеренном «Историческом вестнике» (за апрель 1909 года) были помещены воспоминания господина Георгия Черенкова, рисующие картину казни пяти солдат дисциплинарного баталиона. Всем более или менее известно, что такое дисциплинарные баталионы. Они были ужасны в николаевские времена, быть может, еще ужаснее теперь. Доведенные до отчаяния преследованиями унтер-офицеров, эти пятеро солдат их убили. Военный суд приговорил их к казни. Автор описывает, как очевидец, самую картину казни, и мы приводим это описание in extenso[157].
Ночь перед экзекуцией остальные штрафные солдаты провели без сна. Еще с вечера, когда всех заперли на ночной отдых, в окна, выходившие на плац, были заметны какие-то приготовления. Бегали люди с заступами и фонарями… Все поняли, что они делают…
Еще не рассеялся предрассветный мрак, как на плац стали выводить войска. Их расставили в несколько рядов вокруг плаца по стенам ограды. Вслед за ними вывели из казарм и штрафных и расположили покоем. У открытой стороны этого покоя, впереди шагов на двадцать, стояли в одну линию пять столбов. Появилось начальство – сначала свое, потом приезжие – губернский воинский начальник, военный прокурор и еще кто-то. Кругом царила тишина раннего утра.
Но вот раздался шум многих шагов и странный звон железа. Слева в распахнувшиеся ворота ограды вышла масса людей, двигавшаяся сконцентрированным кольцом. В середине этого кольца виднелось несколько закованных фигур. Впереди, с крестом в руках, шел баталионный священник Иаков Стефановский. Он шел быстро, почти бежал, боязливо озираясь назад, как бы стараясь уйти от того страшного, что гремело назади.
В воздухе пронеслась команда:
– К эк-зе-куции!
Загремели барабаны. Двухтысячная толпа вздрогнула. Сердца забились. Каждый слышал удары сердца своего соседа.
От группы властей отделился военный прокурор с бумагой в руках. Нервным шагом он вышел на середину и стал лицом к осужденным. Бой барабанов умолк.
– «По указу его императорского величества», – громко и торжественно начал прокурор, а затем продолжал чтение, закрыв бумагой свое лицо от осужденных.
– На-пут-ствие! Расковать! – крикнул командовавший смертным парадом Масалитинов.
К осужденным подбежали кадровые и разомкнули ручные оковы. Появился кузнец с наковальней и молотом. Нетвердой рукой медленно он разбивал ножные железа. Потом подошел трепещущий священник и начал предсмертное напутствие.
А сзади, у столбов, уже мелькали, развертываясь, белые саваны… Вправо в стене ограды тихо открылись черные ворота, выходившие в степь, в сторону кладбища, и в них въезжали, громыхая, дроги с огромным черным ящиком.
– Проститься! – крикнул командующий «смертным парадом».
Чурин (один из осужденных) встрепенулся. Он повернулся на север и, простирая руки в пространство, крикнул:
– Прости, север!
И, соответственно поворачиваясь, продолжал:
– Прости, юг! Прости, восток! Прости, запад! Тем временем другие осужденные что-то невнятно
говорили к народу. Повернулся к толпе и Чурин. Не опуская рук, он закричал своим могучим голосом:
– Простите, братцы! За вас погибаем! Раздался страшный крик:
– Эк-зе-куция!
Грохот десятка барабанов заполнил воздух, землю и небо.
Мы не выписываем дальнейшей процедуры вплоть до того момента, когда загремел залп, после которого три фигуры у столбов упали. Две продолжали шевелиться. Оказалось, что двое приговоренных помилованы и их заставили только психологически пережить ужасный момент казни. «К ним подходил, весь в слезах, доктор… Все облегченно вздохнули».
Это было в половине восьмидесятых годов. Россия, в которой казнь давно якобы отменена законом, в это время пережила все-таки немало казней, даже над женщинами. Но бытовым явлением казнь еще все-таки не была. Она совершалась всенародно и носила характер мрачного «смертного парада». Момент расставания с жизнью, хотя бы и преступников, признавался еще чем-то торжественным и священным. Чурин на глазах тысячной толпы прощается с севером и югом, западом и востоком, прощается с товарищами, за которых отдал свою жизнь. Священник дрожит, прокурор закрывает лицо бумагой, в «страшном крике» командующего чувствуется содрогание человеческого сердца, доктор подходит к столбам весь в слезах. Над всем витает сознание торжественности, живое ощущение ужаса и ответственности.
В наши времена казнь вульгаризировалась. С нее сорваны все торжественные покровы. Да и могли ли они уцелеть, когда суды выносят сразу по тридцать смертных приговоров, когда казнь назначается «за нападение, сопровождавшееся только похищением четырех рублей, пары башмаков и колец», как это было совсем недавно в Севастополе[158], или «за ограбление пятнадцати рублей без всяких убийств или даже поранений», как это случилось в прошлом году в Уфе[159]. Таких примеров можно было бы привести десятки. По мере того как «бытовое явление» ширится, сознание исполнителей тупеет. Казнь становится вместо «смертного парада» простым и будничным делом. Людей начинают вешать походя, кое-как, без ритуала, даже просто без достаточных приготовлений. 13–14 декабря 1908 года в городе Уральске, по приговору военно-полевого суда, совершена казнь над Лапиным, обвиненным в убийстве генерала Хорошкина. Палач, нанятый для этого случая за пятьдесят рублей, был в маске. Заплатили ему довольно дешево, вероятно потому, что это был еще новичок в своем деле. Приготовленная веревка оказалась негодной; послали за другой, принесли опять чересчур толстую. Пришлось разыскивать третью (где? может быть, бегали по смотрительским чердакам?). Все это происходило в присутствии осужденного. Неопытность дешевого палача вынудила осужденного помогать ему прилаживать петлю и оттолкнуть скамейку… Во все время этой затянувшейся процедуры осужденный утверждал, что в убийстве Хорошкина он не виновен[160].
В одной из южных губерний товарищ прокурора подал характерный протест: явившись для присутствия при казни приговоренного к виселице, он застал другую процедуру: за неимением палача обвиненного расстреляли[161], находя, очевидно, что «не все ли равно». Был бы человек убит, а как именно – это в значительной степени предоставляется усмотрению и инициативе исполнителей. Двадцать шестого ноября 1908 года в газете «Новая Русь» была напечатана телеграмма: «Сегодня на рассвете во дворе четвертой части по приговору военного суда повешены: Аристофиди, Котель, Воскобойников, Лавронов и Киценко. Во время казни веревка оборвалась. Котель упал на землю, испустив страшный крик. Палач, желая прекратить этот крик, наступил ему на горло ногой. Издевательства палача над Котелем и другими осужденными прекращены товарищем прокурора»
Если знакомый уже нам «кавказский переселенец», которого господин А. П. встретил в ставропольском поезде, читал эту телеграмму, то, наверное, он присоединил ее к тем «документам», которые он носит с собой на груди. Потому что этот Котель – тот самый Коля, его сын, письмо которого он показывал пассажирам, тот самый, о смягчении участи которого суд ходатайствовал перед непреклонным генералом Каульбарсом. Вот как она была «смягчена» в действительности…
Впрочем, пусть это только «исключение». Не всегда нанимаются неопытные палачи «подешевле», не каждый раз обрываются веревки, не при каждой казни осужденному приходится ждать, пока новую веревку разыскивают по чердакам, и не каждую жертву вместо одного раза казнят двойными казнями… «Опытных» палачей, имевших много практики, становится теперь все больше. Не во всякой также тюрьме происходят и те ужасающие зверства над казнимыми, которые такими потрясающими чертами обрисованы бывшим депутатом Ломтатидзе в его письме, адресованном в социал-демократическую фракцию третьей Думы. Я избавлю читателя от нового воспроизведения этой картины, которая предназначалась для думского запроса и обошла в прошлом году все газеты… Обратимся от исключений к общему правилу и посмотрим, как это делается обычно, в средней, бытовой обстановке.
Совсем недавно к депутату Гегечкори обратился Рудольф Глазко, томящийся в рижской тюрьме уже несколько лет без суда и следствия. Он умоляет добиться для него суда, который так или иначе должен прекратить его физические и нравственные истязания. Как и Ломтатидзе, самыми тяжкими из них он считает соседство смертников. «Посадили, – пишет он, – в одиночную, рядом с камерой смертников. По ночам не спал. В стенку торопливо стучат смертники… В ранние утренние часы по коридору раздается звяканье шпор, шорох… душу раздирающий крик: „Прощайте, товарищи!..“ На дворе погашают фонари. Смертных ведут на казнь»[162].
Эта картина, данная в самых широких и общих чертах, составляет фон, на котором другие доступные нам источники выводят «бытовые» узоры. Мне лично была доставлена следующая копия с письма заключенного к сестре или невесте, в котором описываются впечатления тюремного населения (то есть сотен людей!!) во время казней. «Дорогая NN… Не знаю, дойдет ли до тебя это письмо. Не знаю потому, что посылаю его не обычным путем, да еще и без марки… Опишу тебе подробно казнь четырех наших товарищей в ночь с 5 на 6 ноября. Вечером, 5-го, к нам в камеру заходил начальник тюрьмы и уверял нас в том, что приговоренные к смертной казни наши товарищи помилованы. Мы начальнику почти поверили, тем более потому, что перед этим приговоренные подавали прошение на имя главнокомандующего московским военным округом, и очень могло быть, что главнокомандующий заменил им смертную казнь бессрочной каторгой. На деле оказалось, что это со стороны начальника было хитрой уловкой. Он знал, конечно, что в эту ночь должна была произойти казнь, и старался нас успокоить. Осужденные тоже ничего не знали до того момента, когда их начали вешать, так что не могли даже проститься со своими родными. Но некоторые из нас не поверили начальнику и решили ночь не спать. Я заснул часов в двенадцать ночи, и ничего не было заметно. Часа в три просыпаюсь и слышу крики: „Повели!“ Бужу всех товарищей и подбегаю к „волчку“. Вижу, что в коридоре стоят солдаты (обыкновенно их не бывает). Потом послышался лязг кандалов и шарканье многих ног по асфальтовому полу коридора. Через несколько времени мимо „волчка“ промелькнули фигуры солдат. Среди них шли четверо осужденных. Осужденные шли в одних рубахах, без верхнего теплого платья. Их взяли прямо с постелей, не дав одеться в теплое платье. Лязг кандалов, шарканье ног по полу, сдержанный шепот надзирателей – все это покрывали громкие рыдания. Плакал один из приговоренных, Сурков, молодой парень, лет двадцати. Осужденных вывели на двор и расковали там, а потом повели к месту, где они должны быть повешены. На дворе была морозная ночь. Дул холодный ветер. Вокруг всех стен с внутренней стороны были расставлены солдаты, а с наружной казаки. Место для вешания выбрали такое, что оно не видно было из окон камер. Виселицы не было никакой, роль ее исполняла простая пожарная лестница, приставленная к стене тюрьмы. Осужденных привели, поставили, прочли им приговор и предложили им причаститься и исповедаться. Двое отказались, а двое причащались. Сурков продолжал рыдать; другие трое его успокаивали, как могли. Один из осужденных, Ножин, несмотря на свой возраст (семнадцать лет), держался замечательно спокойно. Ну-с, потом начали вешать. Вешали по одному, а другие осужденные должны были ждать, пока тот совсем окоченеет. Говорят, что палачами были двое надзирателей из нашей тюрьмы. Для того чтобы их не узнали, им надели маски. Впрочем, наверное еще неизвестно, кто был палачами…»
«…Нам не видно было, как происходила казнь, и потому мы, от нечего делать, костили офицеров, которые стояли с солдатами вокруг стены… Одного из товарищей пришлось стаскивать с окна, потому что офицер уже направил на него револьвер. По окончании казни повешенных свалили на телегу и увезли из тюрьмы. Казнь сильно подействовала на товарищей. Раздался из одной камеры похоронный марш, и через некоторое время все пели. Мы не сговаривались, а вышло это так как-то само собой. Когда началось пение, влетел начальник и потребовал, чтобы мы прекратили пение, грозился облить водой, перестрелять… Когда он ушел, пение все-таки продолжалось. Повешенных всех четыре. Из них Шишаков двадцати шести лет, Сурков девятнадцати или двадцати, Ножин семнадцати[163], Трущелев двадцати девяти лет».
Я заменил в этом описании многоточиями ужасающие подробности, которых автор сам не видел и которые могли бы и эту «бытовую» картину превратить в одно из отвратительнейших исключений. Действительность теперь часто становится неправдоподобнее самого кошмарного вымысла. Но мне кажется, что настоящий ужас все-таки не в этих примерах крайнего одичания исполнителей. Он не в исключениях, а в общем правиле, в средних условиях, окружающих ужасное дело. Тот самый корреспондент, который из-за стен тюрьмы доставил мне большую часть фактического материала этой статьи, пишет о последнем акте «смертнической трагедий». Опять та же знакомая картина, с ничтожными вариациями: «…Гремят замки, слышится лязг засовов, и через несколько минут по коридорам несутся уже прощальные крики. Это смертные шлют свой прощальный привет другим смертным. Их ведут по двое или по трое мимо камер, битком набитых уголовными, грязных, смрадных и безмолвных. Никто в это время не должен подниматься с постели и никто не должен подходить к „волчку“. Заключенный, замеченный в нарушении этих требований, а тем более крикнувший этим осужденным последнее „прости“, наказывается продолжительным темным, страшно холодным карцером. Осужденных проводят в контору, и толпа надзирателей нередко возвращается обратно, за новыми жертвами. Обыкновенно в одну ночь не вешают более шести человек. В конторе прокурорская власть читает им приговор о казни через повешение и берут с них подписку в прочтении бумаги (II). После этого священник предлагает свои услуги осужденным. Затем они пишут свои последние письма и идут к месту казни на тюремном дворе».
«Мы не будем описывать самого процесса казни», – говорит наш автор и в заключение приводит следующее замечательное письмо «очевидца», каждое слово которого есть непосредственное впечатление и от каждого слова веет эпической правдивостью и глубокою, спокойною печалью:
«Я спал очень крепко. Но при первых криках, несущихся откуда-то издалека, я проснулся и, еще не сознавая отчетливо, что значат эти крики, как-то сразу понял, что опять началось то ужасное, что тяжелым кошмаром висело над нами уже несколько ночей. Каждый вечер мы ожидали наступления этого ужасного, и когда оно началось, то всем нам показалось невероятным, что безумное дело готово свершиться у всех перед глазами. Но крики, ужасные, рыдающие крики неслись в звонкой тишине, и у меня вдруг появилась сумасшедшая уверенность, что кричат они, уже сгибшие в прошлый раз, что каждую ночь будут проходить они по гулкому коридору, приходить и кричать нам и всем тем, кто спит спокойно там, в холодном равнодушном городе, за тюремными стенами, о наступившем ужасе.
За дверью камеры слышался топот ног, смутный говор, непонятная возня, и вдруг чей-то резкий надтреснутый голос отчетливо крикнул: „Дай ему! Дай ему! Что орет!“ И затем крики смолкли, и где-то внизу стукнула дверь. Я подбежал к окну. В камерах зимние рамы еще не вставлены, и замерзшие окна мертвенно смотрят в нашу камеру. Но кусочек стекла у самого подоконника остался незамерзшим, и я по-прежнему припал к подоконнику и стал смотреть на освещенный двор. Еще раз стукнула где-то дверь, и наступила жуткая мертвая тишина. Она казалась бесконечной, и я уже готов был подумать, что они прошли где-то другими дверями на роковой дворик, но на освещенном электрической лампочкой дворе сразу появилась густая толпа. Она быстро пошла к калитке, и, странно размахивая руками, среди одетых в черное надзирателей быстро шел по двору одетый в арестантскую куртку смертный. Отчетливо неслись по двору из толпы опять два голоса – один сильный и звонкий, другой глухой и слабый, и, сливаясь и перебивая друг друга, в морозном воздухе повисли одни и те же слова: „Товарищи, прощайте! Прощайте, товарищи!“ Калитка открылась, смертные вошли туда, толпа надзирателей стала таять, двор опустел, и только три черные фигуры, странно качнувшись, быстро бросились обратно в главный корпус. Кончилось или нет? Я подошел к „волчку“ и стал слушать. По-прежнему из всех камер несся глухой, сдержанный говор и кашель простуженных людей…
На площадке, мимо которой проводят смертных, слышались голоса возвратившихся от калитки надзирателей. В камеру доносились обрывки фраз, отдельные слова, но по ним можно было догадаться, что речь идет о только что совершившемся. „И чего только канителиться? – заговорил кто-то несколько громче. – Два человека. Уж сразу бы всех“. Голос смолк, и кто-то другой заговорил пониженным голосом, а потом заговорили оба сразу, взволнованно, сопровождая каждое слово грубой, циничной бранью: „Возьми, говорит, зажми ему рот, а не понимает, что он палец откусит“. – „Нет, чудно, – заговорил опять первый голос, – первый идет резво, а второй-то, второй-то… Умора! Как котенок слепой… Суется туда-сюда… Уж лучше бы накинуть ему на шею петлю. А то как есть слепой котенок…“
И, должно быть, говорившему сравнение показалось удачным. Он повторил его еще раз, а потом засмеялся. И было столько бессмыслицы и непонятной жестокости в этом смехе, что у меня сразу поднялась в сердце острая боль, и я уже не мог больше слушать и отошел от „волчка“… „Нужно сходить спросить, – послышался опять голос, – пусть разрешат: пора и спать“. Мы поняли, что все кончилось. Кончилось только на этот раз. Кончилось затем, чтобы в одну из следующих ночей тюремный коридор вновь огласился криками. И когда подумаешь, что впереди предстоит еще много (таких) ночей, то становится непонятным, как это там, в этом холодном, равнодушном городе, люди, считающие себя умными и заслуживающими уважения, продолжают спокойно спать и позорно молчать!..»
Заключение
В 1853 году на острове Гернси в Ла-Манше человек по имени Джон Шарль Тапнер явился ночью к женщине и убил ее. Затем он ее ограбил и поджег дом. Расследование этого дела бросило ужасный свет на несколько других преступлений, в которых можно было подозревать ту же руку.
Тапнера судили. «Его судили с беспристрастием, – писал по этому поводу Виктор Гюго, живший на этом острове в качестве политического изгнанника, – судили с добросовестностью, которая делает честь свободному и беспристрастному суду. Тринадцать заседаний были посвящены рассмотрению факта. Третьего января 1854 года решение состоялось единогласно, и в девять часов вечера, в публичном и торжественном заседании, председатель суда, судья Гернси, объявил подсудимому разбитым и прерывающимся, дрожащим от волнения голосом, что „так как закон наказывает убийцу смертью, то он, Джон Шарль Тапнер, должен приготовиться к смерти, что он будет повешен 27 января на месте своего преступления. Там, где он убил, он будет убит“».
Виктор Гюго обратился к жителям острова с письмом, в котором, нисколько не смягчая отвратительного преступления Тапнера, предостерегал их против преступления общественного. «В эту минуту, – писал он, – среди вас, жителей этого архипелага, находится человек, который в этом будущем, неведомом для всех людей, ясно различает свой последний час… Когда все мы дышим свободно, говорим и улыбаемся – в нескольких шагах от нас в тюрьме находится дрожащий человек, который живет со взором, устремленным на один день этого месяца, на день 27 января, на этот призрак, который все приближается к нему. Этот день, для нас всех скрытный, как и все другие, перед ним уже обнаруживает свое лицо… мрачное лицо смерти».
Он убийца… Да… «Но, – продолжает Гюго, – какое мне дело до этого? Для меня, для всех нас этот убийца более не убийца, этот поджигатель более не поджигатель. Это дрожащее существо, и я хочу его защитить. Жители Гернси! Не дайте виселице бросить тень на ваш чудный остров… Не примите на себя страшной ответственности захвата божественного права человеческим правом. Кто знает? Кто проник в загадку? Есть бездны в человеческих поступках, как есть бездны в волнах. Вспомните о днях бурь, о зимних ночах, о темных и разъяренных силах природы, которые овладевают вами в иные минуты… Не допустите, чтобы в ваши паруса дул ветер с могил. Не забывайте, мореплаватели, не забывайте, рыбаки, не забывайте, матросы, что только одна доска отделяет вас самих от вечности… что и вы всегда находитесь лицом к лицу с бесконечным, с неведомым. Разве вы не будете думать с содроганием, что ветер, который будет свистеть в ваших снастях, встретил на своем пути эту веревку и этот труп?.. Ваши свободные учреждения отдают в ваше распоряжение все средства для того, чтобы выполнить этот священный, этот религиозный подвиг. Соберитесь законным порядком. Взволнуйте общественное мнение и совесть… Жены должны убеждать мужей, дети должны умолять отцов, мужчины должны составлять прошения и петиции. Обратитесь к вашим правителям и судьям. Требуйте отсрочки, требуйте смягчения правосудия. Спешите, не теряйте ни одного дня».
Это было пятьдесят шесть лет назад, по поводу предстоящей казни одного человека, после судебного разбирательства, длившегося тринадцать дней, со всеми гарантиями защиты и при полнейшей очевидности факта. Сердца моряков и матросов откликнулись на благородный призыв французского изгнанника, и остров рыбаков закипел петициями, собраниями и протестами против казни…
Что сказал бы теперь великий поэт и гуманист, если бы дожил до нашего русского «обновления» и увидел целую страну, где не один человек, а сотни и тысячи «живут со взглядами, устремленными на свой последний день, в то время как другие дышат свободно, разговаривают, смеются…» Где чуть не каждую ночь в течение нескольких уже лет происходят казни… Где предутренний ветер то и дело встречает на своем пути виселицы, веревки, качающиеся трупы и несет на поля, на деревни, на города «святой Руси» последние стоны и хрипы казнимых. Где в вагонах отцы рассказывают «спокойно» о гибели сыновей, почти мальчиков, и о непреклонности генералов Каульбарсов. Где самая казнь потеряла уже характер мрачного торжества смерти и превратилась в «бытовое явление», в прозаические деловые будни. Где не хватает виселиц, и людей вешают походя, ускоренным и упрощенным порядком, без формальностей, на пожарных лестницах, при помощи первых попадающихся под руку, обрывающихся, гнилых веревок… И потом так же наскоро зарывают трупы, торопливо, с цинической небрежностью, точно в самом деле во время повальной моровой язвы…
В июне прошлого года в газетах мелькнуло коротенькое известие, не обратившее на себя особенного внимания. В Екатеринославе на окраине города начали строить казармы. Едва землекопы принялись рыть фундамент, как тут же наткнулись на трупы казненных. Узнать их было нетрудно: трупы лежали в земле в кандалах[164].
Встает старая легенда, оживает мрачное суеверие седой старины, когда «для прочности» фундаменты зданий закладывались на трупах… Не достаточно ли, не слишком ли много трупов положено уже в основание «обновляющейся» России? «Кто знает, кто проник в загадку?» – скажем мы вместе с великим французским поэтом. Есть бездны в общественных движениях, как есть они в океане. Русское государство стояло уже раз перед грозным шквалом, поднявшимся так неожиданно в стране, прославленной вековечным смирением. Его удалось заворожить обещаниями, но «кто знает, кто проник в загадку» приливов и отливов таинственного человеческого океана. Кто поручится, что вал не поднимется опять, так же неожиданно и еще более грозно? Нужно ли, чтобы в своем возвратном течении он принес и швырнул среди стихийного грохота эти тысячи трупов, задавленных в период «успокоения»?.. Чтобы к историческим счетам прибавились еще слезы, стоны и крики мести отцов, матерей, сестер и братьев, продолжающих накоплять в «годы успокоения» свои страшные иски?
Нужно ли?…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
На этом я пока заканчиваю эти очерки «бытового явления». «Продолжение» несет с собою каждый наступающий день, каждая «хроника» нового газетного листа, каждый новый приговор упрощенного военно-судного механизма. Мы не можем, подобно великому французскому писателю, сказать: «Наши свободные учреждения предоставляют все средства для борьбы в пределах закона» с этим обыденным ужасом. Мы не можем «собираться в законном порядке», не можем на этих собраниях «волновать общественное мнение и совесть», облекать это мнение в форме «петиций для обращения к правителям и судьям». Тем важнее, скажу даже – тем священнее обязанность печати хоть напоминать о том, что ужас продолжается в нашей жизни, чтобы не дать ему превратиться окончательно в будничное, обыденное, бытовое явление, своего рода привычку, перестающую шевелить общественное сознание и совесть.
В заключение считаю своею обязанностью принести искреннюю благодарность человеку, который в самом центре этого ужаса, в соседстве со смертниками имел мужество собирать, черта за чертой, этот ужасный материал и помог ему проникнуть за пределы тюремных стен и роковых «задних дворов».
Читать это тяжело. Писать, поверьте, еще во много раз тяжелее… Но ведь это, читатели, приходится переживать сотням людей и тысячам их близких.
Март-апрель 1910
Черты военного правосудия*
I. Вместо вступления. Дело Юсупова
Мне пришлось однажды близко взглянуть на военное правосудие по следующему случаю.
В ноябре 1898 года в Грозненском округе тремя чеченцами было произведено нападение на хутор некоего Денишенка. Самого хозяина дома не было. Разбойники захватили разные вещи, в том числе голову сахару. Шум на хуторе привлек несколько соседей, и разбойники, сделав по ним четыре выстрела, скрылись. Дело произошло вечером; разглядеть лица было трудно, но семейные Денишенка показали, что один из разбойников как будто похож на чеченца Юсупова, года за два перед тем жившего у Денишенка в работниках. В данное время Юсупов жил неподалеку, на своем собственном хозяйстве. Денишенко показал, кроме того, что вместе с сахаром у него была припрятана сторублевая бумажка, которую тоже похитили нападавшие.
Юсупов и предстал перед военными судьями в Грозном 2 апреля 1899 года.
Никто из семьи Денишенка на суд не явился. Оказалось, что они переселились в Закаспийскую область, и причина неявки была, значит, законная. Но с нею исчезали единственные свидетели обвинения. Все остальные показали в пользу Юсупова. Среди последних были, между прочим, свидетели русские, которые явились на защиту Денишенков прямо от Юсупова. Они были у него в гостях, и, по их словам, он сам послал их на хутор Денишенков, откуда слышался шум. Они тоже видели разбойника, несколько похожего в темноте на Юсупова. Семейные Денишенка сначала говорили очень нерешительно о кажущемся сходстве. Только по возвращении главы семьи их показания приобрели полную определенность. Другие свидетели объясняли это тем, что Денишенко рассчитывал взыскать с Юсупова свои убытки, а показание о ста рублях они считали корыстной выдумкой. Уже после ареста Юсупова, чеченец, похожий на него фигурой, произвел несколько нападений на дорогах. Свидетель Бугленко, один из защищавших Денишенков, впоследствии сам был ограблен этим разбойником. Денишенко, по мнению этого свидетеля, ускорил свое переселение, опасаясь последствий ложного показания.
В таком виде предстало это дело перед господами военными судьями в городе Грозном. Заседание было гласное, и публика (как и сам подсудимый) совершенно спокойно ждала оправдательного приговора. Другого, по обстоятельствам дела, ждать было невозможно.
Вышел суд. Юсупова приговорили к смертной казни.
Изумительный вердикт поразил всех присутствовавших негодованием и ужасом. «Устрашающее действие приговора очевидно, – говорилось в одной из корреспонденции по этому поводу, – но есть большие основания думать, что устрашатся вовсе не те, против которых направляются репрессии. В то самое время, как свидетели русские единогласно показывают на судебном следствии в пользу Юсупова, по некоторым намекам чеченцев можно думать, что всем им хорошо известен настоящий виновник, „немного похожий“ на невинно осужденного. Кого же устрашает такой суд? Он до очевидности опасен мирным людям, но над ним смеется настоящий разбойник. Он убил одного мирного обывателя, суд убьет другого».
Один из местных жителей, г. Ширинкин, присутствовавший на суде, написал мне письмо. От этого листка почтовой бумаги на меня повеяло тем ужасом, какой пережили свидетели чудовищного приговора. Защитник Юсупова подал кассационную жалобу, но сам считал ее безнадежной. Меня, как столичного жителя и писателя, просили найти какие-нибудь «ходы», чтобы предупредить очевидное для всех судебное убийство. Таким образом я, человек сторонний, живущий за тысячи верст от Грозного, не имевший ни малейшего понятия ни о Юсупове, ни о военно-судных Соломонах, его осудивших, становился с этой минуты причастным к ответственности за жизнь этого человека и за их приговор. Найду я ходы – Юсупов может спастись. Не найду – его повесят. А у него – жена, старик отец и ребенок. Таковы эти маленькие случайности нашей русской жизни, такова ее круговая ответственность. Я чувствовал себя отвратительно, точно здесь, в Петербурге, на меня свалилась и неожиданно придавила меня одна из кавказских скал…
К счастью, мне помогли добрые люди. Читатель, может быть, удивится, если я скажу, что эти «добрые люди» были… из военно-судебного ведомства. Один молодой человек, начинавший карьеру, первый явился ко мне на помощь, чтобы извлечь меня из-под ужасной кавказской глыбы. Он посоветовал обратиться прямо в главный военный суд, уверяя, что я там найду людей отзывчивых и добрых и прежде всего – в лице главного военного прокурора…
Я так и сделал. Напечатав то, что мне писал господин Ширинкин в (тогдашних) «Петербургских ведомостях», я затем написал письмо генералу Маслову. Приложив номер газеты с корреспонденцией из Грозного, я закончил заявлением, что, зная, как мало в таких случаях может сделать печать и считая себя, несправедливо отягченным этой ответственностью, – предпочитаю сложить ее с своей партикулярной совести на совесть его, генерала Маслова, как судьи и человека…
Вот при каких обстоятельствах я завязал в 1899 году личное знакомство с людьми в военно-судных мундирах. И должен сказать, что об этом знакомстве вспоминаю теперь с истинной душевной отрадой. Формально в приговоре Грозненского военного трибунала все было как нельзя более правильно. Правда, смертный приговор был вынесен на основании показаний отсутствующих свидетелей, вопреки единогласным показаниям всех присутствовавших. Чудовищно брать на себя ответственность за смертный приговор при таких обстоятельствах. Но это уже дело ума и совести господ грозненских судей. Главный же военный суд имеет дело только с формальной законностью приговора. Причины неявки Денишенков были законны, – этим решалась судьба Юсупова. Все это и объяснил мне докладчик главного суда, к которому мне посоветовали обратиться. Разговор наш происходил, помнится, в понедельник. В четверг предстоял доклад. Заключение могло быть только совершенно отрицательным. В пятницу телеграмма на Кавказ, затем – конфирмация и казнь… Вполне сообразно с существующими узаконениями!.. Юсупов не мог жаловаться, что по отношению к нему нарушены какие бы то ни было законы. Кассационная инстанция ничего сделать не может.
– Все это так, – сказал я, с отчаянием выслушав все эти непререкаемые соображения. – Но что же мне сказать вам, чтобы вы почувствовали по человечеству то, что вам предстоит сделать?
Оказалось, что это было не так уж трудно. Судья, с которым я говорил, человек необыкновенно сдержанный, соглашался все-таки, что по существу, а не по форме приговор «внушает сильные сомнения». Признавали это и другие в главном военном суде и тоже готовы были принять участие в судьбе явно невинного человека. В четверг кассация была отвергнута, но об этом по телеграфу не известили. Докладчик обратился к главному прокурору с особым докладом. Главный военный прокурор доложил военному министру. Военный министр все эти сомнения препроводил кавказскому наместнику (тогда им был кн. Голицын). О Юсупове и приговоре грозненского трибунала пошла экстренная переписка.
– Не знаю, Владимир Галактионович, благодарить ли вас и газеты за то, что вы сделали своим вмешательством, – говорил мне не старый еще судья с серьезным лицом и седеющей бородой. Глаза его мне казались печальными, в улыбке чувствовалась горечь. – До сих пор, – продолжал он, – этот Юсупов был для нас просто бумагой, поступившей за нумером таким-то. Мы вписали ее во входящий, рассмотрели. Все в ней оказалось правильно. Оставалось внести в исходящий и успокоиться. Теперь это уже не нумер, а человек. И знаете, что это значит для нас – иметь дело с людьми вместо бумаг. Вот посмотрите: борода поседела у меня в одну неделю, когда к нам приехали отцы и матери андижанских повстанцев[165]. Меня после этого врачи отправили за границу в нервном расстройстве.
Вскоре я узнал, что кн. Голицын прислал телеграмму о приостановке казни до конца предпринятого им административного расследования. С первых же шагов этого расследования выяснились обстоятельства, не оставлявшие сомнения, что беспечные грозненские судьи приговорили к смерти невинного. Прошло еще немного времени, и газеты сообщили, что Юсупов получил полное помилование. К нему явились в тюрьму, сняли кандалы и отпустили к семье – жене, отцу и ребенку.
Читая эти известия, я лично испытывал смешанное ощущение благодарности и ужаса. Благодарности – к людям, ужаса – перед учреждением. Я не знаю подробностей той внесудебной, чисто административной работы, которая спасла Юсупова. Во всяком случае это были внесудебные влияния, случайные и непредвиденные. Но что же это за аппарат, с такой слепой жестокостью присудивший к смерти человека, невинность которого так вопиюще очевидна для всех: для присутствовавшей на суде публики, для жителей города, для корреспондентов, для докладчика, имеющего дело с одной лишь бумагой, за тысячи верст от места действия, для администрации, как только она принялась за расследование…
К сожалению, я не могу кончить с историей Юсупова на этом «радостном» эпизоде, так как она имеет нерадостное продолжение.
Пока в Петербурге и в Тифлисе шли эти разговоры о нем и переписка, Юсупов сидел в тюрьме, в ожидании казни, вместе с двумя другими чеченцами, тоже присужденными к виселице. Подошла пасха. В тюремной церкви шла пасхальная заутреня. Арестанты были крепко заперты по камерам, и ворота тюрьмы открыты для сторонних молящихся. В ту минуту, когда в церкви пропели «Христос воскресе», народ стал расходиться, и на дворе замелькали огни свечей, – три «смертника», разбежавшись вместе от противоположной стенки, ударили в дверь крепкими упругими телами. Дверь соскочила с петель, и, пока ошеломленные надзиратели успели сообразить, в чем дело, – три чеченца накинулись на них, связали, забили рты, сняли мундиры и, переодевшись, выбежали во двор и вышли за ворота вместе с народом.
На следующий день всех их поймали. Двоих вскоре повесили. Юсупова оставили ждать своей участи и вздрагивать при каждом шорохе. Мы уже знаем: он дождался помилования и вернулся к семье.
Но… он ведь пытался бежать из тюрьмы. А это, как известно, преступление «перед обществом и властью». Правда, он был невинен, а суд его осудил и собирался законно убить невинного, а невинному приходится незаконно спасаться. Арестанта посадили, арестант должен сидеть. Его поведут на виселицу, – он должен идти. Юсупова по всем этим разумным основаниям привлекли к суду (на этот раз гражданскому), судили и осудили в каторгу. Было это незадолго до китайской войны, и несчастный чеченец затерялся где-то в далекой Сибири под шум поднимавшейся уже дальневосточной грозы. Я узнал об этом долго спустя…
Вот как это вышло просто и как законно. Невинно осужденный все-таки попал на каторгу, а грозненские судьи продолжают судить других Юсуповых с такой же проницательностью и с такой же легкой совестью. И теперь, вдобавок, они призваны экстренно водворять порядок в нашем отечестве, потрясенном беззакониями всякого рода. И они, конечно, водворяют. Почему бы нет? Кто скажет, что они хуже других, что они сознательно осудили невинного? Конечно, нет… Просто – средние военные люди, добросовестно убежденные, что спасают общество и Россию по мере своего разумения. Особой проницательности в деле Юсупова они, очевидно, не обнаружили. Даже напротив. Обнаружили изумительную недогадливость. Это – правда. Но ведь мера обязательной проницательности никакими законами не установлена. Это уже от бога, а они действовали «в пределах своих законных полномочий». И если они все-таки постановили приговор, внутренняя преступность которого во много раз больше, чем самое нападение на хутор Денишенков… если главному военному суду оставалось только умыть руки, чтобы невинный человек был повешен, – то они ли в этом виноваты лично, своею совестью? Едва ли… Все тут нелепо и дико, но – все сообразно с законами, по которым действуют военные суды. А когда возможны такие вопиющие столкновения между тем, что люди хотят называть правосудием, и элементарными понятиями о праве и правде… и когда никого из участников нельзя обвинить в сознательном злоупотреблении, то не очевидно ли, что смертный грех гнездится в самом учреждении. И, значит, всем, кому дорога правда, необходимо внимательно присмотреться к его деятельности.
Это мы и попытаемся сделать в нижеследующих очерках.
II. Дело Глускера
В Мглинском уезде, Черниговской губернии, есть небольшое местечко Почеп, расположенное по линии полесских железных дорог. В ночь на 16 августа 1907 года это местечко и весь Мглинский уезд были взволнованы ужасным преступлением. Ночью в своем доме вырезана целая семья Быховских; отец, сын и приказчик наутро найдены уже мертвыми, жена, невестка и внучка Быховских тяжело ранены. Убийство сопровождалось зверской жестокостью: стены, полы, потолки и окна были забрызганы кровью и кусками мозга. Эта жестокость поражала тем более, что не было заметно признаков борьбы: семью застали врасплох, и никакого сопротивления убийцам никто не оказывал.
В день этого убийства за сто верст от Почепа, в имении г-жи Гусевой работало человек восемь кровельщиков, в том числе некто Глускер, бывший приказчик убитого Быховского. Кровельщики мирно крыли крышу. К вечеру они пошабашили, как обыкновенно, и спокойно отправились ночевать тут же, в имении.
В том числе Глускер.
К большому несчастию и для Глускера, и для правосудия, в Мглинском уезде расположено имение министра юстиции г. Щегловитова, и в роковую ночь, когда негодяи убивали семью Быховских в Почепе, а Глускер спокойно спал после рабочего дня в экономии г-жи Гусевой, – в имении г. министра находилась его семья. Весь уезд был потрясен ужасным убийством, и семья г. министра, понятно, разделяла эти чувства. А полиция и следственные власти были взволнованы вдвойне: «на дело это обратил особое внимание бывший в Почепе проездом в свое имение министр юстции И. Г. Щегловитов»[166].
«Особенное внимание» высшей власти в деле правосудия почти всегда бывает зловеще. Покойный министр Муравьев проявил «особенное внимание» в памятном деле Тальмы. В Орле была кем-то убита генеральша Болдырева. Министр Муравьев, проезжая на открытие новых судебных учреждений в Томске, вызвал к себе прокурора орловского суда и захватил его с собой в поезде на несколько станций. При этом министр «обратил внимание» прокурора на то, что убита генеральша, «лично известная государю», и что нерешительность следствия «производит неблагоприятное впечатление». Говорят, прокурор изложил г. министру как некоторые свои догадки, так и свои сомнения в их правильности и говорят, что министр изволил одобрить г. прокурора: «Вы на верном пути». Тогда, конечно, под лучом высокого одобрения, прокурорские догадки превратились в уверенность, а прокурорские сомнения рассеялись, как дым. Тальма был привлечен, осужден, сослан на Сахалин. Но после этого финала сомнения, так легко рассеянные г. министром, всплыли опять. Заговорила пресса, пошли споры. Тальма был помилован и возвращен с Сахалина. Помилование есть формальное уничтожение последствий приговора, но не нравственная реабилитация, В последнем отношении Тальма так и остался, говоря старым юридически безнравственным термином, «в подозрении». Но никто не мог, конечно, реабилитировать и судебного приговора, который остался «в сильнейшем подозрении» вместе с Тальмой.
Не менее благосклонное внимание обратил покойный министр на знаменитое в свое время «мултанское дело», и нужны были экстренные усилия печати, профессоров судебной медицины, защитников, чтобы парализовать усердие властей и вырвать невинных мултанцев из цепких рук поощряемого свыше обвинителя Раевского… Такую же роль сыграло «особое внимание» Победоносцева в деле Скитских.
Я, разумеется, далек от того, чтобы относить ужасное дело, которое теперь волнует русскую печать и русское общество, на счет такого же прямого воздействия нынешнего министра юстиции, г. Щегловитова. Нет. «Прямого воздействия», вероятно, не было. Следственные власти только почувствовали на себе внимательные взгляды сверху, возбуждавшие энергию. А уж остальное – естественное последствие особенностей полицейского дознания, предварительного следствия, нашей юстиции вообще, военно-судной юстиции в частности: чем более напрягается служебная энергия, тем больше вероятия, что «возмущенное чувство» начальствующих лиц будет удовлетворено в самом непродолжительном времени. А зато кто-нибудь из обывателей рискует совершенно неожиданно для себя и в самый кратчайший срок очутиться под приговором к каторге, как мултанцы или Скитские, к Сахалину, как Тальма… Говорят, что в Китае в таких случаях поступают еще проще: убили кого-нибудь, чья смерть требует возмездия. Из Пекина пишут: чтоб были немедленно открыты виновные. Местные власти немедленно и удовлетворяют требование: отправляется отряд, который хватает первого дровосека в лесу, первого жнеца в поле, первого кровельщика на крыше дома. Когда требуемое число укомплектовано, их сводят к одному месту, привязывают к дереву, поставленному на козлах, рубят головы и счетом отправляют в Пекин. Высшие власти чувствуют удовлетворение: преступление открыто.
Россия – не Китай. О, конечно! У нас действуют «судебные уставы, не знающие смертной казни». Мултанцев и Скитских судили с присяжными, и в гласном суде удалось, наконец, разорвать сети «предварительного следствия». Тальму обвинили, но – оказалось возможным вернуть его с далекого Сахалина… Все это было до российской конституции… Только в последнее время мы сделали шаг от запада к Китаю: несчастного Глускера ускоренным порядком отправили туда, откуда уж ничье повеление не в силах вернуть его к жизни…
Под гипнозом «особенного начальственного внимания» власти быстро открыли виновных. Ими оказались, во-первых, бывшие приказчики Быховского: Глускер, Дыскин и Кописаров, которых покойный обвинял в краже товаров, и, значит, они могли ему мстить. Затем Толстопятова – прислуга Быховских. Она осталась жива, когда семья была перебита. «В оправдание» этого факта Толстопятова приводила то соображение, что жила она совершенно отдельно, в кухне, изолированной от остальных помещений… Но ее слушали плохо. К ней ходил племянник, Жмакин, который тоже был привлечен к делу.
Следствие закончено скоро и поступило на рассмотрение киевского военно-окружного суда. Кописарову и Дыскину удалось доказать свое alibi[167], и они были оправданы. Толстопятова отсидела уже год в тюрьме. Жмакин пошел на каторгу, где находится и поныне.
Глускер повешен.
Теперь оказывается, что в лице Глускера повешен невинный. В день перед убийством он действительно работал на крыше за сто верст от Почепа. Ночью он действительно и заведомо для многих людей ночевал в экономии г-жи Гусевой… Военно-судная юстиция поторопилась до известной степени исправить ошибку. Тринадцатого мая выездная сессия киевского военно-окружного суда в Чернигове рассмотрела вторично дело об убийстве семьи Быховских. На этот раз перед судом были трое мужчин: Панков, Сидорцев и Муравьев, и три женщины: Рубеко, Антонович и Караваева. Суд приговорил мужчин к повешению, двух женщин за недонесение к пятнадцати годам каторги и одну – к двум годам крепости. Но Глускер?..
Таковы оказались результаты служебной энергии, проявленной в деле о раскрытии убийства семьи Быховских. «Возмущенное чувство» общества и высшей власти было удовлетворено не только стремительно, но и с очевидной торопливостью. В деле Глускера не было никаких указаний на участие Панкова, Сидорцева и Муравьева. В деле последних – никаких указаний на виновность Глускера, Толстопятовой и Жмакина. Совершенно наоборот: в том сознании, которое послужило основанием для второго дела, новые обвиняемые заявляли категорически, что никто из осужденных по этому делу раньше не принимал в убийстве никакого, даже отдаленного, участия[168].
Обстоятельства, при которых возникло второе дело, тоже чрезвычайно характерны для состояния правосудия в конституционной России двадцатого века. Приговаривая к казни Глускера, суд, по-видимому, не испытывал никаких сомнений или истолковал все сомнительное не в пользу подсудимого, а в пользу виселицы. Но сомнения все-таки были и, между прочим, нашли себе место в голове «заштатного полицейского чиновника» Работнева. Кто такой полицейский чиновник Работнев, почему он попал «за штат», какими побуждениями руководился, продолжая свои розыски по «совершенно законченному» делу, – мы не знаем. Но рассуждал этот заштатный чиновник (сколько можно судить по газетным известиям) приблизительно так:
Семья Быховских убита с страшной жестокостью, которая едва ли может быть объяснена местью за подозрение в краже. Кроме того, Глускер – средний приказчик, простой обыватель, до того никогда не участвовавший в убийствах или вооруженных кражах. Наконец, он и убитые – евреи. Убита вся семья с такой жестокостью, в которой чувствовалась рука профессионального убийцы. Так убивают беглые каторжники, специалисты-громилы, жидоненавиствики, украшающие во многих городах ряды «монархических» организаций… Но едва ли так стал бы убивать еврей евреев… Не очень давно в газетах промелькнуло коротенькое, но в высшей степени характерное известие: исправник, арестовавший убийцу, предложил ему вопрос, зачем он убивал часто без всякой надобности, и получил ответ:
– Не все ли мне равно, повесят ли меня за одно убийство, или за десять!..
Нельзя не видеть в этом маленьком эпизоде своеобразного результата «военно-судного» устрашения. Правосудие, считающееся с оттенками преступности, взвешивающее каждую долю вины, чтобы на другую чашку положить соответствующую долю ответственности, заставляет хоть до известной степени и преступника соразмерять свои действия. Кто знает тюремный быт, тому известно, какие там есть тонкие юристы и как отлично они различают степени наказания при взломах, например, или без оных, вторую и третью кражу и т. д. Военные суды, не признающие разных тонкостей и пускающие с такой легкостью смертную казнь в повседневный обиход юстиции, пустили этим самым в обиход жизни особый тип убийцы, тоже не признающего смягчений, действующего с ужасающей холодной свирепостью. За ним уже есть одно преступление, и он чувствует себя заранее приговоренным. И притом приговоренным не к тюрьме, не к каторге, а к казни. Приговор следует за ним по пятам. Это – петля и саван. Не красть и не грабить ему уже нельзя – жить нечем. Попасться на простой краже для него та же смерть. Человек, у которого он крадет, грозит ему не мировым судьей, не судом присяжных, а виселицей. Ему не дадут пощады, и он ее не даст.
И ходят среди нас эти «военно-судные» люди, люди петли и виселицы, с смертельным отчаянием затравленного зверя в душе, ходят десятками и сотнями… И когда такой человек станет над вами ночью с целью стащить ваши часы и кошелек с тремя рублями, из его глаз глядит на вас смертельная ненависть и призрак близкой петли. И вэтом – часто ваш приговор.
Такую именно руку, привычную и твердую, почувствовал заштатный полицейский чиновник в том деле, за которое был казнен Глускер. Перебирая в уме людей этого профессионального типа, он вспомнил Бабичева. Бабичев был уже на примете и до преступления часто появлялся в Почепе с любовницей. После убийства оба исчезли. Работнев был «за штатом». Очень вероятно, что он соперничал с кем-нибудь из счастливых открывателей Глускера. Он направился в Брянск, где жил Бабичев (несколько часов езды от Почепа), и там, – как кратко говорится в репортерских заметках, – стал «допытывать» сожительницу Бабичева. Как он ее допытывал, это – «профессиональная тайна» наших Шерлоков Холмсов вообще. Как бы то ни было, вскоре он получил возможность послать в соответствующее учреждение телеграмму:
«Нашел настоящих виновников убийства семьи Быховских».
Это и были Бабичев, Сидорцев, Панков и Муравьев. Из них Сидорцев по наружности очень похож на Глускера. А главная улика против последнего состояла в том, что оставшаяся в живых восьмилетняя девочка из семьи Быховских признала в нем убийцу, нанесшего ей удар, от которого она впала в беспамятство. Очевидно, это сходство и погубило Глускера. Сожительница Бабичева подробно рассказала, как Бабичев, Сидорцев, Панков и Муравьев, составлявшие разбойничью шайку, приговоренные уже ранее к каторге и бежавшие, сговаривались у нее на квартире. Муравьев сначала подтвердил все это; на суде, однако, он снял оговор с товарищей, утверждая, что оговорил их ложно, под влиянием истязаний, которым его подвергал черниговский Шерлок Холмс. Тогда и другие подсудимые взяли обратно свои признания, ссылаясь на те же, говоря вообще, довольно вероятные мотивы. Тем не менее, суд вынес приговор, который мы приводили выше: Сидорцев, Панков и Муравьев приговорены к виселице (Бабичев умер раньше).
Вскоре затем в газетах появилось известие, что двое из приговоренных покончили с собой до казни. Экспертизой точно не установлено, было ли в данном случае убийство или самоубийство. Пошли, конечно, разные толки, вызываемые предположениями о каких-то «профессиональных тайнах» полицейских застенков и застеночной политики, которые тоже составляют в наше время довольно распространенное «бытовое явление».
Во всякой другой стране, где вопросы о человеческой жизни не решаются с такой стремительной прямолинейностью, эти два судебных разбирательства вызвали бы целую бурю и послужили бы поводом для расследования дела во всех мельчайших подробностях. У нас – первая ошибка только усугубила вину убийц по второму делу. И в самом деле: если казнили Глускера, то, конечно, тем скорее следовало казнить настоящих убийц, из-за которых погиб невинный. Но нам кажется, что это печальное заблуждение. Весьма вероятно, что Быховских убили именно Панков, Муравьев и Сидорцев. Но что касается невинно осужденного Глускера, то его убили не Панков, Муравьев и Бабичев, а военно-судная юстиция. А так как тут есть и еще заинтересованное лицо – все русское общество, потрясенное этой цепью убийств, бытовых и судебных, – то, конечно, во всякой стране, где не утрачено правовое сознание, предпочли бы второе дело рассматривать не в том же военно-судебном порядке, а в порядке общем, при полной гласности и с разъяснением всех обстоятельств дела. Конечно, тут вышла бы некоторая несообразность: настоящие убийцы не были бы казнены, тогда как за их вину уже казнен невинный. Но казнь невинного сама по себе есть такая вопиющая несообразность, такая незабываемая несообразность, такое неизгладимое общественное преступление, что ничем ее уравновесить нельзя и тем менее – новым применением судебного аппарата, только что обагренного невинною кровью. Тут, кроме Глускера или Панкова с товарищами, общественная совесть упорно ищет и еще виновника. Кого? Состав киевского военно-окружного суда?.. Едва ли… Конечно, мы не завидуем положению судей, подписавших смертный приговор невинному, как не завидуем и киевскому генерал-губернатору, с легким сердцем его утвердившему. Допускаем, что сон господ судей не всегда был спокоен после того, как заштатный полицейский чиновник прислал свою телеграмму: «Нашел настоящих убийц семьи Быховских». Пишущему эти строки отчасти знакома практика именно киевского военно-окружного суда. Защитники, выступающие по военно-судным делам в пределах киевского военного округа, единогласно свидетельствуют о том джентльменском отношении и внимании, какое всегда в этом суде встречали интересы защиты. Но личный состав суда может гарантировать – и то в самых узких пределах – лишь судебное следствие и свободу защиты в заседании. Тем тяжелее вина не лиц, а самого учреждения, всего этого аппарата военной юрисдикции, при которой возможно взять человека, работавшего во время совершения убийства на виду у десятков людей за сто верст от места действия, зажать ему рот разными формальностями ускоренной процедуры и – повесить здорово живешь, «впредь до выяснения его невиновности»… Это – настоящая угроза общественной безопасности. Ведь и каждый из нас может так же, как Глускер, сидеть за самой мирной работой и так же, как и он, быть схвачен, а затем ускоренным порядком отправлен на виселицу. Но и, кроме этого, разве мы, все русские, не вправе требовать, чтобы нас не делали свидетелями и безмолвными участниками таких происшествий в нашем отечестве?
Впрочем, – мы притерпелись. Вот например, г. М. П. Успенский, защищавший, хотя и не защитивший покойного Глускера, обратился с письмом в редакцию «Нового времени» по поводу «неверных сведений, помещаемых в газетах по известному делу невинно казненного еврея Глускера». Какие именно неверные сведения были помещены в газетах и какие «неверности» могут усилить или ослабить значение «казни невинного» по суду – г. Успенский не объясняет, хотя и признает, что Глускер казнен невинно.
Но в его ласково баюкающем, мягком изложении дело принимает такой оборот, что от ужаса самого факта не остается ничего, кроме… «стечения роковых случайностей, которые выяснились лишь после его (Глускера) смерти», не могли, очевидно, выясниться ранее и за которые, значит, никто не ответствен. «Оказалось, во-первых, что один из убийц… наружностью поразительно был похож на Глускера, вследствие чего тяжело раненная, но оставшаяся в живых десятилетняя девочка Быховская, хорошо знавшая в лицо Глускера, ошибочно, но категорически удостоверяла, что удар по голове, от которого она впала в беспамятство, нанес ей именно Глускер. Свидетельница эта на суде подвергнута была самому тщательному и продолжительному перекрестному допросу и, будучи ребенком умным, бойким и смелым, несколько раз повторила, что она хорошо знает Глускера…» Во-вторых, «по словам некоторых, вполне достоверных свидетелей, они в свою очередь видели Глускера в Почепе вечером, за несколько часов до убийства, шатающимся без всякого дела близ дома Быховских…»
Итак, виновато «роковое стечение обстоятельств», своего рода личное несчастье Глускера, который навлек на себя, сидя на крыше, молнию стремительного правосудия, как при тех же условиях можно привлечь и электрическую молнию… Правда, девочке Быховской десять лет теперь. В страшную ночь ей, кажется, было лет семь или восемь[169].Мнимого Глускера она видела в промежутке между своим ужасным пробуждением и беспамятством от удара. А другие, вполне достоверные свидетели видели своего Глускера шатающимся без дела около дома Быховских вечером… Итак, сумерки детского сознания и вечер в буквальном смысле слова. Можно бы, конечно, спросить: это ли та непререкаемая ясность, которая требуется для решения вопроса о человеческой жизни и смерти?.. Неужели не могло возникнуть – ну хотя бы только сомнения в том, не ошиблась ли восьмилетняя девочка, тотчас же оглушенная ударом, и не введены ли другие свидетели в обман темнотой и случайным сходством.
Сомнений, очевидно, не возникло: верить или не верить тому или другому показанию, это, конечно, не произвольно. И если вдобавок не было других данных?..
Но тут невольно возникает вопрос: как же могло случиться, что у суда не было других данных, если эти данные так изумительно легко давались в руки: имение Гусевой всего в ста верстах от Почепа, а там Глускера видела не девочка сквозь туман беспамятства и не вечером только, а много людей и днем, и вечером, и на следующее утро, на таком видном месте, как кровля, на которой он работал вместе с десятком человек.
Господин Успенский и тут успокаивает нас «роковой случайностью»… Опять-таки «по роковой случайности (!!), – говорит он, – Глускер на показание Гусевой не сослался, и она в то время допрошена не была. Работавшим же с ним евреям-кровельщикам, допрошенным по его показанию, суд не дал веры, и участь подсудимого была так ужасно решена… И лишь после казни Глускера г-жа Гусева, женщина в высокой степени почтенная и уважаемая, удостоверила, что поздно вечером, в ночь совершения убийства, она лично видела Глускера в своем имении, а на другой день, ввиду дошедших до нее слухов об убийстве семьи Быховских, у себя же в имении подробно расспрашивала Глускера об убитой семье»[170].
Итак, если кто виноват в этой ужасной ошибке, то разве сам Глускер. Вольно же ему было ссылаться на десяток рабочих-евреев, работавших с ним вместе, когда суд евреям вообще не верит, а не указать одну только помещицу, которой суд бы поверил без сомнения. Правда, бедняга Глускер мог бы представить в свое оправдание некоторые смягчающие вину обстоятельства: ведь никто его не предупредил, что свидетельство нескольких рабочих-евреев не имеет никакого значения, что его недостаточно даже для того, чтобы хоть усомниться и постараться выяснить: уж не правдиво ли в самом деле их показание? Почему же его не предупредили об этом? Зачем записали его ссылку на этих свидетелей? Зачем их вызывали, опрашивали, составляли протоколы, вызывали в суд? Разве тот полицейский, который производил дознание, тот следователь, который вел предварительное следствие, тот прокурор, который писал обвинительный акт, тот суд, который постановлял вести дело ускоренным путем, в конце которого виселица, – разве все они не могли догадаться, что если несколько хотя бы евреев указывают точно ту кровлю, на которой среди белого дня работал Глускер в людной экономии, то его должны были видеть и г-жа Гусева, «женщина вполне почтенная и уважаемая», и ее управляющий, и конторщик, плативший деньги за работу, и прислуга, и дворня, и экономические рабочие… Разве трудно было дополнить это показание евреев-свидетелей опросом этих свидетелей-христиан? Или, в самом деле, предварительное следствие считает себя призванным только к тому, чтобы как можно энергичнее устилать, не оглядываясь по сторонам, прямую дорогу к виселице? И все эти господа в совокупности не обязаны собрать все данные для всестороннего освещения дела, от которого зависит жизнь человека, существование его семьи, достоинство суда? Или, в самом деле, энергия власти должна только устранять от взгляда суда все, что служит в пользу оправдания…
Тут, очевидно, не одна роковая случайность, как говорит г. Успенский, – тут целая цепь роковых случайностей. Прежде всего такой роковой случайностью является то, что Глускер встретился с правосудием именно в наши годы, когда, с одной стороны, происходят такие убийства, с другой – такое упразднение всяких гарантий. Разбои – Сцилла, судебная репрессия – Харибда, и русский обыватель всюду похож на злополучного ялтинца, который, избегнув осколка брошенной террористом бомбы, попадает тотчас же под выстрелы храброго генерала Думбадзе, которому угодно кинуть не одну бомбу, а целым градом ядер закидать обывательские дачи… Вторая роковая случайность, что наше время – есть время лицемерия и лжи. Князь Урусов в своих известных воспоминаниях губернатора очень благодушно рассказывает, что кишиневские судьи установили общее правило: свидетелям-евреям не верить!!. От этого и выходило, что во время погромов были налицо зверские убийства, совершенные среди белого дня и всенародно, но зверей-убийц не оказывалось. При этом г. Урусов свидетельствует, что кишиневские судьи лично прекрасные люди. Значит, винить некого? Можно только сожалеть, что у современного настроения «власти» нет достаточно прямоты и откровенности, чтобы обнаружить свою сущность. Если бы эта черносотенная сущность не прикрывалась октябристскими вуалями, мы имели бы не презумпцию, а закон: «Свидетелей-евреев не допрашивать». И это было бы честнее, и Глускер бы тогда не погиб. Ему бы прямо сказали: мы не вправе вызвать твоих товарищей-рабочих. Нам это воспрещает закон. Дай нам кого-нибудь другого. И он решился бы побеспокоить помещицу Гусеву. И она пришла бы в суд и сказала бы просто: «Я – помещица. Не казните этого жида: он был у меня в экономии». И Глускер остался бы жив, а г. Успенскому, не успевшему защитить Глускера, незачем было бы выступать на защиту судебного приговора.
О г. Успенский, присяжный поверенный при стародубском окружном суде! Вы защищали несчастного Глускера… Спасибо вам, но он все-таки казнен. Теперь вы проливаете бальзам успокоения на наши совести, взволнованные судебным убийством невинного… Но и это тоже вам не удается… В 1903 году во время кишиневского погрома, в присутствии толпы людей и полиции на крыше дома № 13 громилы гонялись за евреями, которых сбросили на мостовую и убили. Поищите в судебных отчетах: что сказало кишиневское правосудие по поводу этого «происшествия» на одной кровле? А теперь на другой кровле сидит и стучит молотком Глускер. Его сияли оттуда, повесили и только после этого проявления энергии догадались, что он невиновен… Вот два полюса новейшего российского правосудия. Не слишком ли много роковых случайностей, и не называются ли они точнее: общими условиями, в которых действует наша судебная машина нового «конституционного» периода…
«При всем сочувствии к несчастному Глускеру, – так заканчивает г. Успенский свое успокоительное письмо, – я полагаю, что единственно, чем можно хоть несколько загладить эту ужасную судебную ошибку, это – открыть подписку в пользу шести малолетних детей и жены, оставшихся нищими после казни их несчастного кормильца».
Обеспечить семью Глускера и вернуть невинно осужденного Жмакина есть, конечно, неотложная обязанность прежде всего государства. В этом не сомневается даже кн. Мещерский: «Есть ведь закон, – пишет он в „Гражданине“[171], – по которому получивший увечье может требовать от хозяина по суду обеспечения себя и семьи. Но можно совершенно невинного на основании доноса посадить в тюрьму, послать на каторгу, казнить, и закон никого не обязывает вознаградить и обеспечить его семью?!. Неужели государство в лице правительства не обязано обеспечить семью Глускера и сделать это всенародно, чтобы вызвать уважение к себе всего русского народа (sic)?!»
Да, это так: когда на фабрике от плохого устройства машины рабочий терпит увечье или теряет жизнь, то фабриканта обязывают вознаградить его или его семью… Но при этом не обещают ему «уважения всего русского народа». Это уважение было бы слишком дешевым товаром, если бы его можно было купить несколькими тысячами рублей, выданных семье человека, убитого плохо устроенным судом. Государство обязано просто обеспечить семью Глускера, не претендуя по этому поводу на уважение. «Загладить» сделанное нельзя ни обеспечением семьи, ни сбором, к которому приглашает г. Успенский (в чем, конечно, мы его горячо поддерживаем).
Дело Глускера – это один из тех случаев, в которых, как в фокусе, собирается грозовой тучей и сверкает предостерегающей зарницей глубокая ложь и неправда времени. Нужно вознаградить потерпевших? Ну, конечно!.. Нужно дать возможность вдове воспитать детей, у которых отняли отца, что горячо предлагает Ф. И. Родичев. Разумеется. Все это нужно сделать. Но, кроме того, нужно поднять глаза кверху и вглядеться, где в этих мрачных туманах светятся затерянные пути общественной правды. Убийство семьи Быховских отвратительно и ужасно. Отвратительна и казнь государством схваченного, связанного, обезвреженного человека… Но судебное убийство невинного, исправляемое новым убийством виновных, – этому нет достаточно сильного имени на человеческом языке, и загладить это подачками невозможно.
Наша заметка была уже набрана, когда в газетах появились новые статьи в защиту киевского военно-окружного суда в связи с делом Глускера. Первая из них явилась в том же «Новом времени», которое поместило и письмо г. Успенского. Напечатана она в «Судебной хронике», но снабжена красноречивым заглавием: «Можно ли верить на суде евреям?» – и дает на этот вопрос чисто нововременский ответ: верить, конечно, нельзя. И вот почему: 24 сентября 1907 года три карманных вора (евреи), Шварцкоп, Лангборт и Бер, вытащили у купца Гершмана две тысячи рублей. Первые двое были пойманы; третий, Бер, ускользнул. Чтобы выручить товарищей, Бер уговорил троих, тоже воров евреев дать на суде показание об их alibi. Тем не менее присяжные в виленском окружном суде обвинили Шварцкопа и Лангборта, которые впоследствии сами рассказали всю эту воровскую и лжесвидетельскую махинацию. Отсюда «Новое время» (статья без подписи) делает вывод, что «в нашумевшем деле Глускера судьи, не поверившие свидетелям-евреям, были тоже совершенно правы»!![172]. Как же иначе: так как евреи – члены воровской шайки готовы лжесвидетельствовать в пользу таких же воров, то суд, не поверивший евреям-рабочим и казнивший невинного, может считать свой приговор совершенно правдивым. Не знаем, почувствовали ли судьи какое-нибудь облегчение от этой своеобразной защиты, но нам она кажется довольно скользкой: так как есть и русские воровские шайки, располагающие и русскими лжесвидетелями, то логически «Новому времени» мог бы быть поставлен его вопрос в другой национальной окраске. Впрочем, логика есть, как известно, момент космополитический, то есть для «патриотов» необязательный.
Не менее удачно «защищает» судей и «Земщина». «Вполне возможно, – говорит эта замечательная газета, – что если бы alibi Глускера подтвердили люди, заслуживающие доверия, то суд… счел бы необходимым дополнить следствие. Но, когда против обвиняемого говорили люди, не доверять которым не было основания, а за него выступили евреи, которые тысячелетиями всегда лгут и которым их закон вменяет в обязанность лгать, – суд мог ошибиться»[173].
Итак, если бы оказалось, что киевский военно-окружной суд казнил невинного потому, что действовал на основании «неписаного закона»: евреям-свидетелям никогда не верить, – то в России в XX веке находятся газеты, – начиная с ретроградного Левиафана «Нового времени» и кончая мелкой черносотенной амфибией, – которые всенародно и открыто признали бы такое явление принципиально правильным: частные ошибки (казнь невинного!) не могли бы помешать дальнейшему применению правильного начала.
Воистину бывали, может быть, времена хуже, но такого циничного времени еще не бывало.
Как бы то ни было, нужно признать, что после этих защит суда, дело Глускера, превратившееся в дело военно-судной юстиции, стало только еще загадочнее и темнее. Среди густого тумана, мрачно залегающего над ужасной трагедией, единственным, ярко освещенным островком выделяется только экономия г-жи Гусевой, в которой среди белого дня сидит на кровле несчастный Глускер на виду у множества свидетелей. И несомненно то, что он казнен…
Когда на дороге находят мертвое тело с раздробленным черепом или пулевой раной, то прежде всего устанавливается факт преступления, и правосудие ищет того, кто это сделал. И уже затем суд исследует, вменить ли роковой удар тому, кто его нанес, или сам он стал убийцею случайно по роковому стечению обстоятельств.
На дороге российского (военного) правосудия тоже найден труп невинно казненного человека. Кто это сделал – известно. Это сделал киевский военно-окружной суд, учреждение государственное. Понятно, что встревоженная общественная совесть требует выяснения: какие обстоятельства могут оправдать ужасное дело?
Состав суда психологически невиновен, – мягко говорит г. Успенский. Тем лучше. Мы первые порадовались бы такому заключению, если бы оно явилось следствием какого то ни было убедительного исследования… Всегда отраднее думать о ближних лучше, чем это можно по защите «Нового времени» или «Земщины»… Но если так, если люди тут ни при чем, то что сказать об учреждениях, об этой следственной и военно-судной процедуре, которая и добросовестных судей приводит к таким приговорам?
А также, что сказать о смертной казни, которая делает эти приговоры непоправимыми?
P. S. По жалобе вдовы невинно казненного, дело Глускера было пересмотрено, но главный военный суд отказал истице по основаниям чисто формальным.
Уже в 1914 году сын помещицы Гусевой напомнил вновь об этом деле в газетах. По его словам, десятки людей из экономии готовы подтвердить несомненную и, очевидную невинность Глускера.
Таким образом, спор военного правосудия перед лицом общественного мнения остается открытым, а формальные основания в этой инстанции не решают вопроса.
III. Подсудимый Маньковский и судья Канабеев
В городе Двинске, кажется, в 1905 году трое молодых людей среди белого дня напали на улице на двинского полицеймейстера Булыгина. Выпустив несколько зарядов, они легко ранили его и затем скрылись. Толпа расступилась перед ними, но сомкнулась перед преследователями, хотя в ней было немало «благонамеренных», даже с полицейской точки зрения, обывателей. В те времена «народная любовь» к установленным властям нередко выражалась в такой форме. Понятно, до какой степени полиции было необходимо найти дерзких преступников. Между тем свидетели-очевидцы не являлись на помощь. Нападающих видел сам полицеймейстер и некто З., проезжавший мимо на извозчике. Официально этот очевидец служил на железной дороге. Тайно – отдавал свои досуги охране.
Вскоре, однако, полиция напала на следы и арестовала трех человек.
Первый был семнадцатилетний мальчик, приказчик Штейнман. Арестован он потому, что среди нападавших на Булыгина тоже был юноша, почти мальчик, и что Штейнман показался кому-то похожим на этого мальчика «со спины». На другого указал какой-то таинственный незнакомец: подойдя на улице к полицейскому, он шепнул, что в таком-то магазине находится в данную минуту один из стрелявших в полицеймейстера. Приметы такие-то. Шепнул и опять потонул в неизвестности, а по приметам арестовали некоего Перельштейна.
Третьим оказался Маньковский – молодой рабочий, как и двое первых – еврей. Уже ранее он находился у полиции «на замечании». При обыске у него найдены револьверные пули, совершенно тождественные с теми, какие были извлечены из раны у Булыгина.
Это была улика серьезная. Против Штейнмана и Перельштейна никаких улик не было, и их пришлось бы отпустить, что, конечно, было неудобно: ведь стрелявших было трое – значит, трое и должны для порядка сесть на скамью подсудимых. Но нельзя же, в самом деле, предать суду «за сходство со спины» или по указанию какого-то скрывшегося незнакомца. Выручил из этого затруднения помощник полицейского пристава г. Вильконецкий. Оказалось, что г. Вильконецкий в тот же день ехал с вокзала и на такой-то улице увидел извозчика с поднятым верхом, под которым, тщательно закрывая лица, сидели три молодых человека. Несмотря на поднятый верх, на изрядное расстояние и на «тщательно закрытые лица», г. Вильконецкий утверждал категорически, что в трех незнакомцах узнает именно Маньковского, Штейнмана и Перельштейна.
Затруднение было таким образом устранено: требовались три преступника, трое и доставлены военному суду.
Вскоре, однако, было обнаружено, что показания пристава – совершенный вздор. Перельштейна и Штейнмана он видеть на извозчике решительно не мог, да едва ли и кого бы то ни было мог разглядеть при описанных им обстоятельствах. Это характерное показание, отличавшееся большим усердием, но малой достоверностью, нимало не беспокоило защиту, и двое подсудимых с полной уверенностью ждали оправдания.
С Маньковским дело было гораздо сложнее. К сожалению, слушалось это дело при закрытых дверях, и я не имею возможности восстановить перед читателем потрясающих эпизодов этой судебной драмы. И это тем более жаль, что из этой картины было бы видно, как иной раз беспомощны военные судьи перед безобразными порядками предварительного следствия по таким делам и как порой мало их личной вины в роковых ошибочных приговорах. Против Маньковского было, во-первых, «опознание», которое в глазах военных судей является часто решающим. Правда, в данном случае Булыгин, расстреливаемый всенародно, метался по улице, больше заботясь о спасении, чем о наблюдениях, и перед ним мелькало много лиц. Правда, что другой очевидец, г. З., был «охранник», а людям этой почтенной профессии вообще особенно доверять не принято. Но на этот раз его показания звучали правдоподобно, и к тому же против Маньковского говорила еще подавляющая улика: пули такие же, какими нанесены раны.
Разбирательство длилось шесть дней среди атмосферы страшного нервного напряжения. Объективные факты складывались для Маньковского самым убийственным образом, а между тем трудно было отрешиться от впечатления, что этот юноша, так отчаянно защищающий свою жизнь против подавляющих улик, тоже не лжет. В нем не чувствовался убийца. Над делом витало смутное сомнение, но… факты оставались непоколебленными.
Председательствовал военный судья, генерал Д. И. Канабеев. Он сильно волновался…
Кончился пятый день заседаний. Судебное следствие пришло тоже к концу. На следующий день предстояли прения сторон и – приговор. Поздний вечер. Судьи разошлись на отдых, Маньковского увели в его одиночку в крепости, но он, конечно, не спал. Не спал и генерал Канабеев. Маньковский переживал ужас завтрашнего приговора. Канабеев – ужас предстоящего ему решения. Все эти дни он, по-видимому, колебался между трудно уловимыми субъективными сомнениями и объективной тяжестью улик. Теперь ему показалось, что убеждение его сложилось окончательно. Значит – казнь. Это генерал Канабеев считал исполнением своего долга перед правительством, которому присягал, и перед обществом, которое, как известно, нужно прежде основательно защитить от Маньковских при помощи военных судов и виселиц, чтобы потом осчастливить. Но все-таки… совесть генерала не могла, очевидно, успокоиться даже на сознании исполняемого долга. Он не находил себе места, и… его вдруг потянуло в крепость, в одиночку, где в это время метался в предсмертной тоске этот уже обреченный юноша.
Его, конечно, пропустили. Дверь каземата раскрылась, и перед изумленным Маньковским очутилась внушительная фигура генерала Канабеева.
Зачем он пришел?.. Вероятно, он не мог бы объяснить этого и сам. По крайней мере то объяснение, которое председательствующий генерал дал изумленному его визитом арестанту, отзывается кошмарной бессмыслицей и сумасшедшим бредом. Он вынул из кармана пять рублей, и, подавая их Маньковскому, сказал:
– Вот, возьми. Пошли телеграмму родителям, чтобы приехали с тобой проститься, а на остальное…
Да, читатель, генерал Канабеев, председательствовавший в военно-окружном суде, так и сказал Маньковскому, которого решил приговорить к смерти:
– …на остальное купи себе лакомств…
С этими словами генерал вышел, а в руках арестанта остался золотой – доказательство, что эта изумительная сцена происходила в действительности, а не в кошмарном сне.
На следующий день приговор состоялся. Штейнман был оправдан (Перельштейн выделен за болезнью). Маньковского приговорили к смерти…
То, что происходило в совещательной комнате, разумеется, осталось никому не известным. Но впоследствии, когда с генералом Канабеевым случилось то, что случилось, и о чем я расскажу дальше, вокруг него создалась легенда, не считающаяся ни с какими тайнами и основанная, как это бывает всегда в таких случаях, не на фактической, а на психологической достоверности. Легенда эта гласит, будто голоса судей разделились поровну. Часть их склонна была истолковывать в пользу подсудимого те смутные, но неотвязные сомнения, которые витали над объективными фактами. Другая отдавала предпочтение осязательным доказательствам. Генерал Канабеев будто бы чувствовал уже заранее, что все дело решит перевес его председательского голоса, и это сознание его угнетало. Но все-таки он остался верен суровому долгу.
Приговор был прочитан среди того же кошмарного напряжения. В глазах всех это был приговор над человеком, в глазах многих – приговор над человеком невинным. Выслушав его, Маньковский поднялся и… протянул председателю вчерашний золотой.
– Ваше превосходительство, – сказал он. – Вчера вы дали мне золотой на телеграмму родителям или на лакомства. Позвольте вернуть вам ваши деньги. Отдайте их палачу, который повесит меня по вашему приговору.
Защита потребовала, чтобы это неожиданное заявление было занесено в протокол[174]……
С этого пункта дело поворачивается решительно в пользу приговоренного и против судьи, решившего приговор. Все защитники (их, кажется, было трое) были глубоко убеждены в невинности своего клиента, тем более что им была известна та бытовая сторона дела, которая все разъясняла, но не могла прорваться сквозь сеть судебных формальностей. Рассчитывать на обычную кассационную процедуру – это значило предоставить Маньковского неизбежной участи…
Ужас перед этой перспективой искал исхода и нашел его. В обычном, в правильном, в предусмотренном, в законном – его уже не было. Защитники нашли его в неожиданном, необычном и странном. Собравшись тотчас же, еще глубоко потрясенные приговором, они составили коллективное письмо на имя председателя. К сожалению, у меня нет подлинного текста этого замечательного документа, на черновике которого остались следы слез. В нем не было никаких юридических соображений, статей, сенатских решений, «новых обстоятельств». Он начинался с факта: «Вы сегодня осудили Маньковского», а кончался клятвенным заявлением: «Всем, что есть для нас святого, клянемся: он невиновен, он невиновен, он невиновен». Как видите, это был не отзыв, не жалоба, не то или другое законами предусмотренное защитительное действие. Это был потрясающий, хотя юридически нечленораздельный вопль, и он отдался по всей стране: в газетных телеграммах, по разным министерствам и департаментам, в обществе. Что случилось? Группа защитников выскочила из суда и оглашает всю страну криком: осудили человека, которого мы, защитники, считаем невинным. Зрелище единственное в своем роде, способное привести в изумление любого европейского юриста. Суд в установленном порядке выносит приговор… Суровый, но законный. О чем же кричат защитники, нарушая общественную тишину и спокойствие? Они убеждены в невиновности своего клиента! Но разве они свидетели или, тем более, присяжные? Во что обратятся суды, если признать, что такое убеждение, скрепленное клятвенным заверением, должно иметь силу юридического доказательства!
Это, конечно, справедливо, как, впрочем, справедливо и то, что нигде уже в Европе нет учреждения столь удивительного, как наша военно-судная юстиция… Своеобразный ход защиты возымел действие: военно-судный аппарат дрогнул. Первым успехом явилось то, что был дан ход кассационной жалобе, вторым, – что жалоба главным военным судом уважена. Этому, кажется, содействовал тот самый золотой, который преседатель подарил подсудимому на лакомства. Назначается новое разбирательство. Маньковский из нового суда выходит оправданным.
Читатель подумает, быть может, что самое оправдание есть результат вопля защитников. Мы, русские, – народ недисциплинированный, мягкосердечный и рыхлый. Судьи – тоже русские люди. Приговорили человека к смерти, а потом рассолодели, прослезились и отпустили с миром. Нет, читатель, не таковы наши времена. Что-то немного видим мы примеров такой судебной «распущенности», а если бы случайно они где-нибудь проявились, – то судей скоро вернули бы к трезвой действительности теми мерами, какими добились, например, смертных приговоров в Новороссийске. На этот раз невинность Маньковского выступила с объективною ясностью…
Как же это могло случиться?
Дело опять разбиралось при закрытых дверях, и мы не можем изобразить здесь в подробностях, как расплеталась на втором суде сеть, сплетенная вокруг Маньковского предварительным следствием, показаниями господ Вильконецких, наконец просто несчастными обстоятельствами. Когда-нибудь (не скоро) об этом, быть может, расскажут защитники. И это будет правда, своей фантастичностью превосходящая самые невероятные выдумки Конан-Дойля и уголовных романистов. Но, чтобы показать, как это «бывает», я приведу бытовую подкладку одной только главной улики (кстати, она, кажется, так и не выступила на суде). Это – эпизод с пулями.
Вы помните: у Маньковского при обыске найдено несколько пуль, совершенно тождественных с теми, какими ранен помощник полицеймейстера. И даже с такими же точно нарезками. Его объяснение: нашел на улице! Ну, кто поверит такой аляповатой выдумке? Все «они» в таких случаях дают такое объяснение, если не смогут придумать лучшего.
Однако представьте себе тот же эпизод в несколько иной бытовой обстановке. Маньковский – рабочий. В день покушения он приходит на завод, и сам, по собственной инициативе, показывает пули, которые только что поднял на улице. Это слышит рабочий-сыщик. Он бежит в охрану и делится своим открытием. У Маньковского делают обыск и находят «те самые» пули. Конечно, если бы в обвинительном акте было рассказано, как нехитро полицейские Шерлоки узнали об этих пулях от самого Маньковского, то они потеряли бы всякое уличающее значение: не станет же убийца тотчас после выстрела показывать сторонним лицам патроны, какими он стрелял. Но – зачем же и охранникам раскрывать свои «профессиональные тайны»? Пули отправляются в суд просто в качестве найденных при обыске. Совершенно правдивое объяснение Маньковского является для самого добросовестного судьи совершенно невероятным. Маньковскому грозит смерть. Суд превращается в игрушку «охраны»…
На этот раз жертвой этого охранно-полицейского дознания стал злополучный генерал Канабеев. В том самом постановлении главного военного суда, которым отменялся первый приговор над Маньковским, был также пункт, которым председательствовавший генерал Канабеев привлекался к дисциплинарному производству. За что? Он нарушил какие-нибудь законы и именно поэтому суд чуть не казнил невинного? Ах, совсем нет! Суд действительно чуть не казнил невинного, но нарушение законов генералом Канабеевым тут совсем ни при чем… Высшая военно-судная инстанция нашла обидным для достоинства судьи, что генерал Канабеев приходил к Маньковскому с предложением конфет.
Да, это, пожалуй, правда. Есть в этом эпизоде что-то «обидное для достоинства», потому что безгранично нелепое… Чувствуется какая-то прямо мефистофелевская гримаса, что-то вроде сантиментальной свирепости, – вообще кошмар, бред, безумие. Но – вина ли это данного лица? У генерала Канабеева просто доброе, мягкое сердце, а судьба сделала его военным судьей. Как член этого учреждения, он приговаривает (и даже невинного!) к смерти, а как добрый человек подносит приговоренному конфету. Злой, кровавый фарс? Насмешка над убиваемым? Сознательная карикатура на собственное ведомство? Ничего подобного, – просто символ, неожиданно загоревшийся над оргией казней, как библейское «Мане-текел-фарес»! И не надо быть Даниилом, чтобы понять его смысл. У нас теперь много говорят о «людях и учреждениях». Вот вам человек с добрым сердцем и злое учреждение. Злое учреждение казнит невинных, доброе сердце – подносит им перед казнью конфетку…
Постановление главного суда пока генералу Канабееву еще не объявлено. Дело в том, что, получив письмо защитников, насквозь прокипевшее негодованием и слезами, он был поражен до такой степени, что… стал проявлять явные признаки сумасшествия. Один из защитников, принимавший близкое участие во всем этом трагическом деле, уверял меня еще недавно, что злополучный председатель не оправился до сих пор и что вообще его считают безнадежным.
Да, вот что иногда значит военно-судная процедура для военного судьи. Одним концом она бьет по подсудимому и иной раз убивает невинного. Другим – по судье, если совесть у него не забронирована окончательно. Маньковский пережил ужас смертного приговора, но он все же оправдан и молод: может быть, выпрямится. А генерал с мягким сердцем сломан и раздавлен окончательно.
Есть, впрочем, и еще одна версия, едва ли, однако, изменяющая значение факта: говорят, будто генерал Канабеев уже и раньше был известен как судья, у которого «не все в порядке», и будто именно поэтому главный военный суд легко пошел на кассацию. Дело Маньковского дало только последний толчок…
Трудно сказать, что лучше и что кошмарнее. И в том, и в другом случае – приговор над невинным и нравственное потрясение судьи, приводящее его с председательского кресла прямо в дом сумасшедших. Только в последнем случае – заведомый душевнобольной давно председательствует в судах, казнящих смертью. Разве это тоже не зловещий символ?.. Предоставляем выбор тем, кто дорожит «достоинством» военных судов.
IV. Логика военного правосудия
Более полустолетия прошло с тех пор, как у нас введены гуманные судебные уставы императора Александра II. Лучшие умы того времени работали над ними. В них отразилось последнее (тоже для того времени) слово юридической науки. Если вы вор, мошенник, фальшивомонетчик… Если вы незаконно торговали вином, сводничали, брали ростовщический процент, подделали вексель, злоупотребляли доверием, взломали сундук, украли деньги… Вообще, если вам грозит штраф, арест, тюремное заключение до нескольких месяцев, ссылка на поселение, – к вам применят эти «гуманные уставы». Вам дадут гарантии защиты, и самый приговор будут взвешивать на аптекарски точных юридических весах, чтобы не отягчить вашу участь одной-двумя «степенями», месяцем-другим заключения. И после приговора вы еще получите возможность апелляции в одну инстанцию, кассации в другую, где вашу судьбу станут опять перевешивать, кидая на чашки весов лоты параграфов, золотники примечаний…
Но вот вы обвиняетесь по статье, которая грозит самым страшным из наказаний, бесповоротным, непоправимым: смертною казнью… Не тут ли именно необходимо дать все гарантии защиты: для вас – от напрасной смерти, для суда – от риска судебного убийства. Нет! Здесь вас как раз арестуют по первому указанию первого охранника, часто – заведомого преступника и негодяя, или даже по указанию лица, «оставшегося неизвестным». Потом вас предъявят помощнику пристава Вильконецкому, и ему непременно «покажется», что он видел вас там, где вас не было. В подкрепление этих улик станут, пока вы сидите за семью замками, собирать новые сведения такого же рода и накопят все, что нужно, чтобы сделать вашу вину хоть сколько-нибудь правдоподобной. Тогда составят обвинительный акт, привезут в тюрьму, вызовут вас и скажут:
– Вот здесь все, что мы неделями или месяцами собирали, чтобы вас можно было повесить. В течение суток вы должны назвать нам свидетелей, которые могли бы все это опровергнуть… По истечении суток, хотя бы от свидетельского показания зависела ваша жизнь, мы уже вашего свидетеля не примем.
Подсудимый, часто полуграмотный или совсем неграмотный, растерявшийся, придавленный обрушившейся на него грозой, – что может сделать с этим своим «правом»? Человек, взявшийся его защищать, уехал на сутки из города, сам он не может разобраться в обвинительном акте. Может быть, в сутки он его не успеет прочесть. Большей частью – он пропускает срок. Все равно – его ведут без свидетелей и поставят беззащитным против обвинения.
Однако и этого мало. Поверите ли вы, что и эти жалкие сутки, которые практика часто (далеко не всегда) предоставляет военно-судным обвиняемым, даются не законом. Это только внезаконная уступка здравому смыслу и человеческому чувству со стороны исполнителей. Новейший, усовершенствованный уже в период обновления, закон (примененный впервые в деле Федосьева) требует, чтобы вы назвали ваших свидетелей немедленно, в самый момент вручения обвинительного акта. И тут человеческое сердце «смягчает» свирепую суровость закона, но… что оно может сделать ввиду его категоричности? Поднести канабеевскую конфетку: вам позволят тут же пробежать обвинительный акт глазами. Посмотрите: вот вам пять минут. Мало? Ну, четверть часа, полчаса, ну, наконец, час… «Добрый человек» уже рискует из-за вас навлечь на себя неприятности… Вы подавлены, взволнованы, буквы прыгают у вас перед глазами… Вы ничего не поняли и не можете указать людей, которые помогли бы вам опровергнуть не известные вам улики? Тем хуже для вас: вы явитесь на суд без свидетелей.
Да! Но и тем хуже для судей: они легко могут стать убийцами невинного человека. Правда, не простыми убийцами… судебными. Но кто решит, какое из этих убийств безнравственнее, законопреступнее и хуже. Мне кажется, что хуже судебное.
И вот человек, захваченный шестернями этого ужасного аппарата, сидит на скамье подсудимых. Вопрос в этом зале идет об его жизни. По большей части (есть и тут отвратительные исключения) военные судьи будут и с ним, и с его защитником обращаться корректно:
– Что вы можете сказать в опровержение изложенного в обвинительном акте? Пожалуйста, что угодно! Вас не стесняют… А вот свидетелей?.. Это, к сожалению, нельзя. Вы пропустили сроки. Вы можете идти только по дороге фактов, которую проложило для вас обвинение.
А она прокладывалась прямо к виселице. И судьи тоже не имеют права глядеть по сторонам… Их совести тоже проложена дорожка…
Вот яркие примеры. В октябре 1906 года военно-полевой суд в Риге остановился перед ужасом смертного приговора над рабочим Карповичем по делу, обстоятельства которого судьи считали невыясненными. Суд потребовал доследования. Вскоре же газеты сообщили, что за такую любознательность офицерам, участникам этого суда, предложено подать в отставку[175]. В той же Риге, в таком же сомнительном случае, совесть судей искала убежища хотя бы в ходатайстве о «смягчении участи» приговоренного. Генерал-губернатор, знаменитый «усмиритель» генерал Меллер-Закомельский, объявил членам суда выговор[176]. За что? Военные судьи, по мнению генерала, не должны, очевидно, знать движений совести… Это относится, правда, к юстиции военно-полевой. Но вот в той же Риге, в военно-окружном суде мрачная вероятность судебного убийства встала в таком ужасающем правдоподобии, что военный прокурор, полковник Хабалов, счел долгом совести протестовать против смертного приговора по делу братьев Иосельзонов. По словам «Голоса Москвы», полковник Хабалов уволен от должности[177]. За что опять? Разве это не очевидно? Этот прокурор поступил согласно со своей человеческой и судейской совестью, с законом, с присягой… Когда-нибудь, вероятно, историк военного правосудия выдвинет его имя наряду с зловещими именами русских Джефферсонов для смягчения в глазах потомства современной нам безотрадной картины. Но… согласный с честью и с законом поступок полковника Хабалова явно противоречит логике военного правосудия… Мораль ясна: судите, хотя бы на основании недостоверного материала. Подавляйте движения разума и совести, когда они вызывают колебания. Приговаривайте к смерти и ведите на виселицу, хотя бы были уверены в невинности казнимого…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Вы думаете, – это уже все, что можно сказать об этой человекоубийственной логике? Нет, не все.
Вот, например, киевские судьи казнили Глускера, и после казни явилась целая группа новых свидетелей, которые заявляют, что он казнен невинно. И рабочие, и хозяйка экономии, г-жа Гусева, утверждают, что в ночь убийства он был за сто верст от Почепа, где совершено преступление. Вероятность судебной ошибки в этом случае для всякого стороннего наблюдателя превращается в полную достоверность. Но… дело прошло уже по всем инстанциям, и… семье отказано в реабилитации хотя бы памяти невинно казненного.
Что же? Хоть тут-то кто-нибудь виноват? Нарушены какие-нибудь правила, посредством которых судьи обязаны искать свою (убивающую) «истину»?.. Нет, ничего и тут нарушено не было. Все совершилось как нельзя более «законно», если хотите, – даже «снисходительно». Прежде чем повесить Глускера, киевский суд сделал в его пользу больше, чем ему следовало по закону. Например: по его указаниям были вызваны свидетели, работавшие с ним вместе в день убийства. Им не поверили, но их вызывали. О, это большая любезность: в вызове могли просто-напросто отказать. Да! Потому что для удобства военного суда ему предоставлено право отказывать в вызове свидетелей, если они живут за чертой того города, где он изволил заседать! Вдумайтесь в это: убийство произошло в Почепе, Глускер был за сто верст в имении г-жи Гусевой. Но свидетелей по закону он должен искать не в Почепе, где совершено преступление, и не в имении, где они только и могли его видеть, а – в Чернигове, потому что там заседают господа судьи… И еще потому, что это не простые судьи, а судьи военные и что наказать они могут не просто тюрьмой или ссылкой, а – смертью. Нужно же предоставить им для этого все удобства!.. Вот в числе этих удобств есть и огромная вероятность «добросовестных» судебных ошибок.
Если эти строки попадут на глаза иностранного читателя, особенно юриста, мало знакомого с экстраординарными законами нашей родины, он подумает, пожалуй, что это плохая выдумка озлобленного русского журналиста. И что этот журналист рискует подвергнуться обвинению в «распространении заведомо ложных сведений», которые позорят законодателей, придумавших такие законы; ведомство, которое на их основании расследует, судит и казнит; государство, которое допускает это поругание здравого смысла и элементарной правды; всю нацию с людьми и учреждениями, которая выносит это без широкого, захватывающего, пламенного протеста!..
Нет… Об этом можно не беспокоиться. Конечно, русского журналиста всегда можно привлечь к суду по тысяче поводов, а если это неудобно для кого-нибудь, то можно распорядиться и без суда. Но в данном случае я только констатирую факт, который легко проверить. Спросите любого военного судью, следователя, прокурора:
– Есть такие законы?
И они вам ответят:
– Да, есть!
– И вы на их основании привлекаете и судите?
– Да, судим.
– И казните?
– Да, и казним.
– И ошибаетесь?..
– Да… Бывают «несчастные случайности». Впрочем, существует кассационная инстанция, которая должна исправлять ошибки, есть конфирмация с правом смягчения…
Кассационная инстанция! Мы подошли к последнему звену этой удивительной логики! Что и лучшие суды могут впадать в ошибки, это аксиома, поэтому приговоры даже правильно устроенных судов во всех культурных странах подвергаются пересмотру хотя бы только со стороны процессуальной.
Но у нас в обновленной России, после торжественных обещаний манифеста 17 октября, – и это по-иному. Апелляционные инстанции существуют. Но доступ к ним обеспечен лишь в том случае, когда вам грозит штраф, арест, тюремное заключение. Если же неправильность процедуры грозит вам напрасной смертью, – тогда, по логике военной юрисдикции, между вами и высшей инстанцией может стать генерал Скалон, генерал Каульбарс, генерал Сандецкий, которым вручено законное (о, законнейшее) право преградить вашей жалобе ход.
– Что там еще за кассация? Не желаю. Он еще жалуется? Повесить без дальних разговоров.
И иной раз в оправдание этой непреклонности приведут то соображение, что ваша жалоба юридически правильна и ее главному военному суду нельзя будет не уважить.
Если не ошибаемся, первый стал пользоваться этим не особенно завидным преимуществом своего высокого звания варшавский генерал-губернатор Скалон (например, в деле Каспржака, приговоренного за убийство полицейского в 1905 году)[178]. За ним, по протоптанной дорожке, беспечно последовали другие генералы, и, наконец, дело упростилось до того, что в некоторых округах право кассации на приговоры военно-окружных судов упразднено огульно. Вот что, например, написал в своем приказе в 1908 году временный генерал-губернатор Терской области:
«В целях охранения в пределах генерал-губернаторства порядка и общественной безопасности и на основании 1403 ст. военно-судного устава, при конфирмации приговоров по делам, рассмотренным кавказским военно-окружным судом в порядке упомянутой статьи, мною не будет даваться дальнейшего направления этим делам в кассационном порядке по жалобам на приговоры военно-окружных судов в пределах Терской области».
Генералу этому показалось, очевидно, слишком затруднительным присматриваться к каждому отдельному случаю, где дело идет о человеческих жизнях, и он предпочел свое страшное право передать автоматическому аппарату, слепо, без рассуждения, без колебания, без мысли отстукивающему одно слово: «Отказать, отказать, отказать».
Мы знаем примеры, где такому же механизму передавалось другое право, еще более важное, ответственное, ужасное и, пожалуй, святое: право конфирмации, то есть утверждения казни или помилования, отмены, смягчения. И тут мольбы приговоренных, их отцов, матерей и жен, обращенные к человеческой душе, сердцу, иной раз просто к здравому смыслу и элементарной справедливости, – попадали в несложную и мертвую машину, так же автоматически ставившую штемпель: «Казнить, казнить, казнить!»
Фамилия бывшего временного генерал-губернатора Терской области – Ясенский. К сожалению, он не одинок в своем роде, – в моем распоряжении есть и еще подобные факты. Так, по делу двух журналистов, уроженцев Кутаисской области, кн. Нижарадзе и крестьянина Долидзе, судившихся в Туркестанском военно-окружном суде (и приговоренных к смертной казни), по требованию защиты оглашено предписание Туркестанского генерал-губернатора. Документ этот, присланный еще до суда, гласил, что «по кассационным жалобам и протестам на приговор военно-окружного суда не будет дано делу направления в кассационном порядке. Подлинный подписал: и. д. генерал-губернатора, генерального штаба генерал-лейтенант Мациевский». Своеобразная индульгенция, санкционирующая вперед возможные процессуальные нарушения![179]
Этот приказ имеет, по-видимому, сепаратное значение. Генерального штаба генерал-лейтенант Мациевский направил его специально по адресу данных двух лиц: Нижарадзе и Долидзе. Гораздо шире поставлено это дело его сиятельством господином кавказским наместником. В целях охранения государственного порядка и общественного спокойствия этот государственный деятель «признал необходимым не давать направления в кассационном порядке жалобам и протестам, подаваемым на приговоры военных судов в округе, по нижеследующим преступлениям: за вооруженное сопротивление караулу и полиции, убийство часового, чинов караула и полиции, а равно нападение на них, покушение на убийство и поранение должностных лиц при исполнении ими обязанностей, вооруженное нападение с целью грабежа, убийство на партийно-политической почве, а также при вымогательстве денег».
Это замечательное распоряжение вступило в силу с 25 августа 1908 года и оглашено в телеграммах официозного Спб. телеграфного агентства[180]. Как видите, оно ничем не отличается от приказа генерала Ясенского; широким размахом оно охватывает почти все виды «современных» преступлений. Но уже самая попытка этой квалификации вскрывает с замечательной выразительностью взгляды высшей администрации на самое значение военно-судной юстиции и на ее логику. По мнению кавказского наместника, возможность судебной ошибки вытекает как будто не из свойства человеческой природы, вообще склонной к ошибкам (errare humanum est[181]) и в частности не из поразительных недостатков нашего следствия и военного суда, а… оттого, насколько тяжко преступление, в котором вас обвиняют. Если это преступление еще не особенно сильно раздражает администрацию, то, пожалуй, у вас есть шанс спасения от пристрастного и неправосудного приговора в кассационной жалобе. Но, например, Юсупов, или Маньковский из Ревеля, или множество других, о которых ниже, ни в каком случае не могли бы рассчитывать, будь это в пределах Кавказа после 25 августа 1908 года, на спасение от неповинной смерти. Некоторые преступления внушают кавказскому наместнику столь глубокое отвращение, что… за них можно порой казнить и невинных…
Как человек я, конечно, имею совершенно определенное мнение об этих приказах. Как журналист и автор этих печальных очерков я могу быть только благодарен их авторам за то, что они предают их гласности, печатая в официальных органах. Теперь никто по крайней мере не обвинит меня в распространении «заведомо ложных слухов» о генералах, беспечно заменявших в тяжелые дни русской жизни работу своей личной совести и ума – простым механизмом, чем-то вроде штемпеля, отмечающего смертные приговоры, как железнодорожные кассиры штемпелюют билеты в кассах…[182]
Еще одна черточка. В «Русских ведомостях» уже в 1910 году было напечатано следующее коротенькое известие:
«Депутат Булат получил сообщение, что в Коканде приговорены к смертной казни несколько туземцев, не понимавших русского языка. Подсудимые поэтому не отдавали себе отчета в серьезности грозившего им наказания и не приняли никаких мер к подаче кассационной жалобы… Смертный приговор приведен в исполнение»[183].
Что это значит? Неужели им не дали даже переводчика, который на родном языке мог бы сказать им два слова: смертная казнь! В газете сказано ясно: «не понимали русского языка» и «не отдавали себе отчета». Если это так… то для этих кокандцев, среди которых тоже легко могли быть Юсуповы, вся судебная процедура упрощена до одной жестикуляции. «Суд идет. Встаньте!» Их подымают. «Зовут так-то? Обвинительные акты получены?.. Садитесь». Их усаживают. «Теперь опять встаньте. Что можете сказать в свое оправдание?.. Ничего? Вы не понимаете? Ну, садитесь…» Опять: «Суд идет. Встаньте». «По указу его императорского величества вы имеете быть повешены. Обжаловать можно в такой-то срок… Уведите их».
Их уводят… А затем – последний жест принадлежит уже палачу и виселице.
Неужели даже и это – правда? Впрочем… разве это не было бы только последним звеном в той цепи, которую составляет ужасная «логика военного правосудия»…
V. «Отрадные факты»
ДЕЛО ЕРМОЛАЕВА В ПЕТЕРБУРГЕ. – ДЕЛА КУЗНЕЦОВА, НИКОЛЬСКИХ КРЕСТЬЯН И РЕШЕТИНА – В МОСКВЕ
«Отрадными» я называю их потому, что все они кончаются торжеством невинности, а иной раз даже и наказанием порока. Два таких дела (Юсупова и Маньковского), где невинных людей все-таки не вздернули на виселицу, мы уже изложили. Теперь следует отрадный факт номер третий.
Место действия – Петербург. Время – 1907 год. Дело идет о нападении на XI отделение петербургского городского ломбарда на Выборгской стороне. Полицией вместе с тремя виновными захвачен и совершенно неповинный юноша, крестьянин Ермолаев, по известной старинной формуле: «Там разберут». Ну, «там» и разобрали: петербургский военно-окружной суд приговорил Ермолаева к казни.
Кассационная жалоба оставлена без последствий. Остался последний акт трагедии. Для Ермолаева потянулось бесконечное томление «смертника».
О, если бы Ермолаев умел писать, он мог бы рассказать нам потрясающую картину того, что пережил он благодаря маленькой ошибке праведного суда, историю этих дней, пока его старая крестьянка-мать бегала «на воле» по разным учреждениям, чтобы спасти свое детище от казни, и этих ночей, когда сам он прислушивался с дрожью к каждому шороху в коридоре: не идут ли за ним?..
Наконец… вот оно: громыхают замки, слышен топот шагов, звякание шпор, стук ружейных прикладов… Трех приговоренных по тому же делу уводят, и через полчаса с ними все кончено. Ермолаева почему-то оставляют. Надолго ли? Может быть, до завтра?..
Почему? Одно известие (в газете «Речь») объясняет это простой «счастливой случайностью»: двор оказался слишком тесен для четырех, и казнь Ермолаева просто отсрочили. Между тем трое осужденных и признавших свою вину подали заявление на высочайшее имя, что осужденный с ними Ермолаев совершенно непричастен к экспроприации. Казнь задержали и в эту ночь, и в следующую. Наконец, старухе матери, просыпавшейся каждое утро с вопросом: жив ли еще ее сын? – сообщили, что дело будет пересмотрено… 25 октября 1907 года тот же военно-окружной суд (в другом составе) признал, что Ермолаев был осужден и пережил неизгладимый ужас совершенно безвинно…[184]
«Обрадованной» матери вернули «обрадованного» сына…
За следующими не менее «отрадными» фактами приходится последовать в Москву. Здесь тоже бывали и экспроприации, и грабежи, и военные суды… Ну, и, конечно, смертные приговоры над невинными.
В 1906 году произведено было среди белого дня нападение на казенную винную лавку в районе известной Прохоровской мануфактуры. Во время преследования одним из злоумышленников убит городовой. Нападающие скрылись.
Вскоре, однако, по доносу некоей Рыжовой и ее друга Запольского, арестован и предан суду рабочий Кузнецов.
Перед очами московских военных судей этот рабочий предстал при следующих обстоятельствах. Трое совершенно незаинтересованных свидетелей показали, что в день убийства Кузнецов пришел с работы в восемь часов утра, спал до трех четвертей двенадцатого, потом пошел в столовую, где обедал в двенадцать, а в час дня опять стоял у рабочего станка на фабрике. Все это подтвердили рабочий Константинов, квартирная хозяйка Алексеева, табельщик Матвеев, заведующий столовой Черемухин и, наконец… контора Даниловской мануфактуры.
Между тем нападение и убийство городового произошло в одиннадцать часов утра в восьми верстах от фабрики. Ясно, что Кузнецов физически не мог быть на месте преступления. Он называл еще многих свидетелей, но… в вызове их суд отказал, хотя срок для этого восстановлен.
И знаете причину отказа? Она очень любопытна. О восстановлении срока просил защитник, а свидетелей назвал суду сам Кузнецов. Московский военно-окружной суд нашел, что это непорядок: защитник ходатайствовал, значит защитнику и нужны свидетели. Лично Кузнецову они, очевидно, излишни, так как лично о восстановлении срока он не просил.
Любопытно, что даже охранное отделение аттестовало Кузнецова как человека спокойного и неподозрительного. На суде прошли все-таки девятнадцать свидетелей, подтвердивших все эти данные. Было, кроме того, выяснено, что доносчица Рыжова – брошенная после женитьбы любовница Кузнецова, а Запольский – «человек без определенных занятий», проще сказать, хулиган, которого Кузнецов избил за оскорбление сестры.
Скажите теперь: считаете ли вы вероятным, чтобы какой бы то ни было суд на этом свете решился приговорить человека к смерти при таких обстоятельствах?
Факт: 21 ноября 1906 года военно-окружной суд не в захолустном Грозном и не в Самарканде, а в столичном городе Москве вынес Кузнецову смертный приговор. Проницательные судьи не поверили девятнадцати беспристрастным свидетелям защиты и отдали предпочтение двум свидетелям, Рыжовой и Запольскому, которые лгали в пользу обвинения.
Выслушав этот приговор, Кузнецов перекрестился на икону и сказал:
– Христом клянусь, я приговорен невинно!
Много было таких случаев, и много русских людей крестились таким образом в залах военных судов на висящие там иконы. Но их все-таки казнили. То же, конечно, ждало и Кузнецова. Была подана кассационная жалоба. Главный военный суд ее не уважил. Приговор постановлен законно.
Между тем защитники Кузнецова, гг. Николаев и Кобяков, были глубоко убеждены, что они защищали, и не сумели защитить человека невинного! Каково уходить из суда с таким убеждением людям, совесть которых не мирится с успокоительными соображениями о формальной правильности своего поведения! Господин Николаев и его товарищи решили во что бы то ни стало спасти этого человека, погибающего на их глазах жертвой судебного убийства.
Это было в Москве в приснопамятные дни «правления» генерал-губернатора Гершельмана. Нелегко было, прежде всего, добиться отсрочки казни, но они ее добились и возбудили затем уже в гражданском суде дело о лжесвидетельстве. В декабре 1908 года московский окружной суд рассмотрел это обвинение и признал, что Рыжова и Запольский оклеветали Кузнецова из мести. Рыжову сослали в каторгу, Запольского посадили в тюрьму, Кузнецова вернули с каторжных работ, куда он был сослан в ожидании исхода дела[185]. Суд и каторга продолжались для него около двух с половиной лет.
А затем, как мне сообщил г. Ордынский, отыскался и настоящий виновник убийства городового. Фамилия его Журавлев, и из дела выяснилось, что он был один. Его, конечно, казнили.
Что же? Послужило ли это по крайней мере уроком для господ московских военных судей? Внушило им большую осторожность в обращении с человеческой жизнию?
Ответ налицо: дело Кузнецова закончилось в 1908 году. И в том же году тот же суд вновь приговаривает к смерти четырех неповинных крестьян.
В светлую лунную ночь на 1 июня 1908 года в селе Никольском (Звенигородского уезда, Московской губернии) случилась тревога. Церковные сторожа Елкин и Горин, разбудив священника, заявили, что два часа назад ограблена церковь. Грабителей было четверо. Они выбежали будто бы из кустов, один отстал, а трое с револьверами кинулись к ним, столкнули их в сторожку, находившуюся в церковном подвале, заперли их там, а затем произвели грабеж.
Если бы наше предварительное дознание было хоть сколько-нибудь проникнуто стремлением к выяснению истины, а не к обвинению во что бы то ни стало таких-то лиц, то очень скоро стало бы ясно для властей то, что было ясно населению: сторожа бессовестно лгали и сразу же стали менять версии своего рассказа. Уже судебному следователю они поднесли другой вариант.
Нападение произведено, когда они были в сторожке. Ночью залаяла собака, открылась дверь, и в караулку вошли четыре человека. Горин, спавший подальше от входа, успел якобы незаметно для разбойников забиться под койку, а Елкина один из грабителей ударил чем-то по голове. От удара он впал в беспамятство. Разбойники зачем-то все вышли, потом все вернулись и связали Елкина принесенной веревкой. Елкин притворился мертвым, но один из них сказал ему: «Лежи, пока мы не сделаем того, зачем пришли». В вошедших Елкин узнал Очагова и еще трех крестьян-односельцев. Несмотря на тесноту и темноту в сторожке, он разглядел даже, что у одного из них, Абренина, был «за спиной» револьвер, «такой же системы, как вот у вашего благородия» (следователя).
Много свидетелей показывали согласно, что всех подсудимых видели в других местах. Ложь сторожей становилась все яснее, – стало известно, что Горин даже не был в ту ночь у церкви, а ночевал в деревне у жены. Но… наши следственные порядки известны: тяп-ляп, и человек готов для тюрьмы, для Сибири, а при военных судах – и для виселицы.
Тридцатого декабря (1908) четверо Никольских крестьян предстали перед московским военным судом; в это время (6 декабря) был уже произнесен вердикт присяжных, из которого господа судьи могли узнать, что в деле Кузнецова они (или их товарищи) чуть не казнили невинного благодаря двум лжесвидетелям. И вот опять перед судом два лжесвидетеля, против которых выступают десятки показаний односельцев. Все подсудимые работают на фабрике купцов Поляковых. Никто из них не судился и не подвергался никаким замечаниям. Все женаты, всего на руках у них четырнадцать детей и четверо стариков. Судьба двадцати двух человек зависит от внимательности, совести и проницательности судей. За спиной у них недавняя грубая ошибка…
Состав суда впервые (для вящего упрощения процедуры!) уменьшен до трех судей. Председательствует генерал Дубле, присланный, как говорят, для того, чтобы еще «подтянуть московских судей». В зале темно. Окна какого-то полуподвала тусклы. Вечером керосиновые лампы слабо освещают судейский стол, еще не обтянутый сукном. Все какое-то временное, спешное, торопливое… как и эти торопливые дознания, следствия, постановления о предании военному суду…
На суде сторожа дают еще новые версии показаний, несообразности которых бьют в глаза. Свидетели защиты напрасно стараются восстановить правду. Суд глух к их показаниям.
В восемь часов вечера под новый год суд вынес всем четверым обвиняемым приговор к смертной казни. Толпа родственников окружила защитника, С. П. Ордынского. Тусклая лампочка освещала эту группу людей, пораженных ужасом, негодованием, бессильным отчаянием. Как и в деле Юсупова, для всех сторонних зрителей было ясно, что суд совершает простое убийство невинных. С дежурным офицером несколько раз делалась нервная рвота. Один из свидетелей внезапно стал говорить какой-то нервный вздор, и с ним случился припадок (он так и не оправился, – косвенная жертва военного правосудия).
В ту же ночь защитник С. П. Ордынский и его молодой товарищ В. Г. Луи написали кассационную жалобу и несколько докладных записок. Надежды у них было мало: в приговоре все было «правильно»… если не считать того маловажного обстоятельства, что к казни приговорены невинные. Генерал-губернатор Гершельман?.. В Москве как раз говорили, что этот генерал почти разошелся со своим адъютантом, кн. Трубецким, когда тот решился замолвить слово за одного из приговоренных.
Полдень нового года застает г. Ордынского, после бессонной ночи, в приемной московского митрополита, среди праздничного настроения. Его преосвященство принимал многочисленные поздравления. Так красивы эти старинные рассказы о святителях, останавливавших руку палачей. Но это было давно… От московского митрополита защитнику пришлось выслушать суровый отзыв: в последнее время церкви грабят слишком часто. Репрессия необходима. У московского митрополита г. Ордынский не нашел заступничества в пользу невинно осужденных.
Было бы слишком долго описывать все мытарства, через которые довелось пройти защитнику, глубоко почувствовавшему неправду и ужас «правильного» военно-судного приговора. Он толкался в самые неожиданные инстанции, обивал пороги, заводил собственно для этого дела «влиятельные» знакомства, наталкивался на суровое равнодушие и на доброе человеческое участие. В невинности приговоренных ему удалось убедить несколько влиятельных лиц. Один из фабрикантов Поляковых лично ездил к генералу Гершельману с секретарем Красного креста, господином Ляминым.
Удалось экстраординарными усилиями добиться сначала отсрочки казни; потом генерал Гершельман, вне всякого установленного порядка, «чтобы выяснить дело для себя» (счастливая любознательность!), предложил судебной палате командировать следователя для дополнительного расследования. Поляковы предоставили для господина Ордынского всю свою фабрику, со всеми служащими, лошадьми и телефоном, и защита параллельно произвела свое следствие на месте.
Здесь благородные усилия защитников были встречены общим сочувствием населения, для которого дело было ясно как на ладони. Что делают эти господа в простых черных сюртуках? Они стараются предупредить страшное дело: убийство заведомо невинных, которое уже изготовлено в самом «законном порядке» господами судьями в военных мундирах… Помогай им господь! Мозолистые руки поднимаются для креста и молитвы. И все глаза направляются на доносчиков. Горина заставляют лезть под койку, куда он якобы «незаметно» спрятался от грабителей и откуда наблюдал за событиями. Это оказывается физически невозможным. Вся картина явно извращена и невероятна. Подавленный общим гневом и презрением, лжесвидетель через несколько дней умирает от разрыва сердца, но легенда иначе объясняет эту смерть: на месте говорят, что Горин умер тут же под койкой. Его «притянула земля» за оговор невинных[186] Сведения об этом деле оглашены во многих газетах. (См., напр., «Вятскую речь», 30 января 1910 года, № 24.) Кроме того, я пользовался указаниями лиц, близко знающих дело…
Лжесвидетельство признано присяжными, и «маленькая ошибочка» военного суда исправлена судом гражданским. «Обрадованные» крестьяне вернулись из-под виселицы к семьям.
Конечно, если бы этих крестьян сразу судил гражданский суд с присяжными, то судьи, вероятно, потрудились бы выехать на место и убедились бы, что сторожа лгут. Но, господа военные судьи! Нельзя и подумать, чтобы они стали так беспокоить себя из-за четырех жизней… Они военные! Они вот и свидетелей могут не вызвать из-за черты города! Они, если бы и пожелали, не могут проверить лживых показаний, так как должны судить безостановочно и стремительно… Так стремительно, что… в том же 1908 году, вслед за Никольскими крестьянами, вновь приговаривают к смерти невинного Решетина.
Об этом деле в свое время газеты не говорили ничего, и оно всплыло совсем недавно. Интересно, что оно составляет точную копию дела Кузнецова. Опять разбойное нападение (в 1908 году), но не на винную лавку, а на Богородицкую фабрику. Опять двое лжесвидетелей. Роль Рыжовой играет некая Шашникова, роль Запольского – подкупленный ею мальчик Савельев. Оба они «опознают» крестьянина, бывшего солдата Решетина, как участника нападения. Опять, конечно, свидетели защиты опровергают лживое показание, и опять «проницательные» судьи верят лжецам, а не честным людям. На этот раз, впрочем, московский военно-окружной суд оказался милостивее: невинного Кузнецова он приговорил к виселице, невинного Решетина – к каторге на пятнадцать лет, где Решетин и пребывал почти три года (а может быть, пребывает и поныне). Мы не знаем, как и кому он успел подать голос из глубины сибирских каторжных тюрем, и кто, добрый человек, первый протянул ему туда руку помощи. Известно только, что уже в 1910 году в московском окружном суде рассматривалось дело о лжесвидетельстве. Шашникова приговорена к году тюремного заключения (малолетний Савельев оправдан, как действовавший под ее влиянием). Присяжный поверенный Переверзев выступил в кассационной инстанции представителем интересов невинно осужденного Решетина. Главный военный суд постановил: приговор отменить и московскому военно-окружному суду войти в обсуждение: нельзя ли извлечь его жертву из каторги впредь до пересмотра дела.
Это было уже в марте текущего 1911 года. Теперь Решетин, может быть, уже «обрадован», если только жив. «В жалобе невинно осужденного есть заявление о том, что, находясь уже три года под каторжным режимом, он неизлечимо заболел»[187].
VI. В Одесском военно-окружном суде
ДЕЛО АЙЗЕНБЕРГА. – ДЕЛО ТОКАРЕВА И БОБОРЫКИНА ПРИ ЛЮБЕЗНОМ УЧАСТИИ ПРОВОКАТОРА ХОРОЛЬСКОГО
Молодой человек, уроженец Польши, еврей Перец Айзенберг, в 1905 году был несколько раз арестован и в один из промежутков уехал за границу. Здесь, однако, его охватила тоска по родине. Он вернулся и отдался в руки властей, предоставляя суду разобрать все свои прегрешения. Житомирский окружной суд рассмотрел все, что администрация имела против Айзенберга, и отпустил его с миром, так как никаких улик не нашлось.
Айзенберг вздохнул свободно и отправился в Одессу на зубоврачебные курсы. Бедняга не знал, что здесь над ним нависла туча, темнее прежних… Дело в том, что на белом свете существовал еще один Айзенберг, по имени Лейба, известный полиции вор, и фотографическая карточка его хранилась в охранном отделении. Пятого марта 1908 года на одной из одесских окраин произведено нападение на артельщика Сорокина, у которого отнято триста рублей. Нападавшие скрылись. Начались розыски. Стали, конечно, просматривать карточки преступников. В лице Лейбы Айзенберга (вора) кто-то опознал одного из нападавших. Нужно, значит, розыскать Айзенберга. Арестуют злополучного Переца Айзенберга, ученика зубоврачебных курсов, и Перец Айзенберг предстает перед одесским военно-окружным судом вместе с некиим Агеевым.
Дело слушается 22 апреля 1908 года. Потерпевший, Сорокин, «опознавший» грабителя по карточке (снятой с другого Айзенберга), на суде отказывается признать сходство этого Айзенберга с тем, кто на него нападал, и даже с предъявляемой фотографией. Другой обвиняемый, Агеев, сознавшийся в нападении, решительно отрицает участие Айзенберга. Но полицейский пристав Павленко и кучер Сорокина настаивают на тождестве подсудимого с лицом, снятым на карточке. Одесские военно-окружные судьи приговаривают Переца Айзенберга по карточке Лейбы Айзенберга к смертной казни через повешение. Кассационной жалобе командующий войсками (по-видимому, «знаменитый» генерал Каульбарс) не дает движения, но, к счастью, заменяет казнь бессрочной каторгой.
Приговор вступил в законную силу, когда родителям (людям тоже, к счастью, состоятельным) удается расследовать пикантную историю карточки Лейбы Айзенберга, по которой опознали их сына Переца. Оказалось, что в то время, когда происходило первоначальное опознание, карточки Переца Айзенберга в сыскном отделении вовсе и не было (вплоть до его осуждения). Защитники Андреевский и Гольдштейн развернули перед главным военным судом эту блестящую страницу из деятельности одесского военно-окружного суда, и высшая военно-судная инстанция постановила: приговор в отношении Переца Айзенберга отменить и дело передать в тот же суд в новом составе. «Это поистине воскресение из мертвых!» – восклицает один из корреспондентов, описывавших это дело[188].
Конца этой трагедии-водевиля я не знаю. Надо думать, однако, что Переца Айзенберга, вовсе неповинного в снятии с него карточки, судьи отпустили… Остался ли он и после этого в России, или одесский военно-окружной суд окончательно излечил его от тоски по родине, мне тоже, конечно, неизвестно.
Следующий «отрадный факт» переносит нас в Екатеринослав, но, так как этот город находится в одесском военном округе, то почетная роль в нижеизлагаемой трагикомедии принадлежит опять тем же одесским военным судьям.
В одном чрезвычайно интересном документе, полученном мною от вполне сведущего человека, говорится, что Екатеринослав, по числу ошибочных казней, должен быть поставлен на первом месте. Не смею на этом настаивать, так как, к сожалению, некоторые другие города не без основания готовы оспаривать это печальное первенство.
Итак, в городе Екатеринославе 11 июня 1908 года в квартиру рабочего Токарева, в его отсутствие, пришел другой рабочий. Подмышкой у этого посетителя был сверток, который он положил на полку и удалился. А вслед за ним, как водится, нагрянула полиция.
Фамилия человека со свертком – Хорольский.
Ныне эта фамилия пользуется широкой известностью: о Хорольском был даже запрос в Государственной думе, около этого имени шли горячие прения, которые увековечены в анналах 29-го заседания IV сессии российского парламента[189]. Никто не решился выступить на защиту уличенного провокатора, и речь шла о степени «официальности» его провокаторской роли.
Но в то время, то есть 11 июня 1908 года, когда он явился со свертком в квартиру Токарева, он еще не был знаменит и только начинал карьеру. В свертке оказались две бомбы и… станок для выделки фальшивой монеты, которые полиция, разумеется, не замедлила «обнаружить». Бомбы были завернуты в бумагу и на обертке одной из них была предусмотрительно написана фамилия еще одного рабочего: «Боборыкин»… Как известно всем сообразительным людям, оно так обыкновенно и бывает: собственники бомб старательно помечают их своими фамилиями, как школьники помечают тетради: сия, дескать, бомба принадлежит Иванову, а такая-то Семенову…
Очевидно, репутация Хорольского мало заслужена: кого, казалось бы, способна ввести в заблуждение такая наивная провокаторская стряпня?
Ответ налицо: она оказалась достаточно хорошей для одесской военной прокуратуры и для членов одесского военно-окружного суда. Суду этому были преданы трое: Токарев, Боборыкин и… сам Хорольский. Неискусный провокатор плохо замел следы: появление его в квартире скрыть оказалось невозможно, и он попал тоже на скамью подсудимых.
Судьбе угодно было несколько задержать стремительный ход военного правосудия: Токарев заболел (мудрено ли?) настолько серьезно, что его дело пришлось выделить. Сначала, значит, судили только двоих: Хорольского и Боборыкина…
Одного суд оправдал… кого?
Принесшего бомбы Хорольского!
Другого обвинил… Кого?
Ну, конечно, ни в чем не повинного Боборыкина, который после соответствующей (одесской!) конфирмации и очутился в каторжных работах.
Затем наступила очередь хозяина квартиры Токарева, который к тому времени выздоровел.
Разумеется, военный суд над ним был бы простою формальностью: он был все-таки хозяином квартиры, куда Хорольскому угодно было принести бомбы, и если каторга постигла Боборыкина, человека совершенно стороннего, чего же мог ожидать «хозяин»? К счастию для обоих, в стремительном ходе военной юстиции случилась еще одна непредвиденная усложняющая задержка. Мы уже говорили, что провокатор, кроме бомбы, подкинул Токареву еще и станок для выделки фальшивой монеты.
Это была грубая ошибка: станок для выделки монеты – дело, так сказать, гражданское, усложнившее подсудность. Провокатор или те господа более высокого ранга, кто им распоряжался, не рассчитали, что за выделку фальшивой монеты Токарева будут теперь судить не проницательные одесские военные судьи, а… присяжные. Ну, а для суда присяжных такая грубая провокаторская стряпня уже не годится. И случилось еще так, что суд присяжных (за монету) состоялся ранее военного суда…
Произошла настоящая юридическая катастрофа. Хотя присяжные имели дело с теми же людьми и с теми же «свидетелями», только на столе вещественных доказательств вместо бомбы лежал станок, – но они вскрыли всю провокаторскую махинацию. Оправдав без колебаний Токарева, присяжные ходатайствовали перед коронным судом: «довести до сведения господ членов одесского военно-окружного суда о роли Хорольского для предупреждения возможной судебной ошибки…»
С таким многозначительным предупреждением дело Токарева вновь поступило в тот же одесский военно-окружной суд, который упрятал уже одного невинного на каторгу.
Положение суда и особенно положение одесской военно-судной прокуратуры оказалось на сей раз довольно деликатным, и прежняя прямолинейная стремительность, очевидно, была уже не к месту. Боборыкина при тех же обстоятельствах суд приговорил к каторге… Токарева он оправдал. Я не знаю, были ли в составе суда те же судьи, которые судили Боборыкина, или они уступили эту честь другим, – во всяком случае парадоксальная связь обоих приговоров сказалась так живо, что суд почувствовал потребность мотивировать свой приговор. В постановлении суда прямо говорится что «бомбы в квартиру Токарева были доставлены в день обыска агентом охраны Хорольским, чего Токарев и не знал».
Токарев вышел оправданным, но положение суда стало еще более деликатным: осудив невинного Боборыкина, одесская военная Фемида признала теперь виновность Хорольского. А Хорольский оправдан. В этих трудных обстоятельствах судьи задались вопросом: «с какою целью» Хорольский мог разносить по чужим квартирам бомбы, а потом приводить туда полицию? Ответ одесского военно-окружного суда на этот вопрос прямо бесподобен: «цель эту выяснить не удалось»…
Да, есть порой юмористические обороты речи даже в стиле военно-судных резолюций. Может быть разгадка необыкновенно трудной шарады нашлась бы легче, если бы вместо психологического вопроса о субъективных целях Хорольского кто-нибудь задался вопросами чисто объективными: по чьему приказу и с чьего ведома действовал «агент екатеринославской охраны», и в каком из екатеринославских учреждений фабриковались разносимые им бомбы? К сожалению, русские суды – даже и не военные – не желают тратить время на такие слишком уж элементарные вопросы…
Возвратимся к нашему «отрадному факту». Одесской военной Фемиде грозила новая неприятность: Боборыкин в глубине своей каторги, где-то в Александровске или Акатуе, все-таки узнал о новом обороте дела, и у него явилось естественное желание тоже выйти на волю. Повидимому, он не читал тех российских философов, которые вместе с Д. И. Тихомировым и К. Н. Леонтьевым находят, что можно быть отлично свободным и на каторге и что это, пожалуй, есть наиболее подходящий для русского человека вид свободы… Он нашел адвокатов, которые взялись вести его дело, и вот весь этот клубок, завязанный провокатором, предъявлен на разрешение главному военному суду. И главный военный суд разрешил…
Я знаю: читатель, подготовленный всеми предыдущими военно-судными чудесами и эффектами, ждет от меня новой ошеломляющей неожиданности: главный военный суд в пересмотре откажет?
Нет, читатель, нет: дело пересмотрели, и Боборыкин теперь опять, вероятно, работает на фабрике, вспоминая свою экскурсию на каторгу как тяжелый сон. И, вероятно, рассказывает по вечерам своей семье и знакомым о коварстве злодея Хорольского и о необыкновенной сообразительности одесских судей… Но до этого происходили в главном военном суде интересные прения.
Представителем логики военного правосудия выступил по обязанности помощник главного военного прокурора генерал-майор Макаренко, дававший заключение на просьбу Боборыкина. В газетах это заключение было изложено так:
«Помощник главного военного прокурора генерал-майор Макаренко, указывая на отсутствие в деле новых обстоятельств, высказался за оставление ходатайства (Боборыкина) без уважения, настаивая на необходимости исправления главным военным судом в порядке надзора приговора одесского военно-окружного суда в смысле исключения из приговора всего того, что касается в деле агента Хорольского».
Это было напечатано и перепечатано во многих газетах[190] и никем до сих пор не опровергалось. Значит, этот силлогизм действительно оглашал залу заседания военно-окружного суда в «конституционной» России XX века. Если перевести его с протокольно-кассационного языка на простой разговорно-обывательский, то это будет звучать так:
Главный военный суд имеет дело не с людьми и их интересами, не с Хорольским, Боборыкиным и Токаревым, а только с кассационным производством за номером таким-то. Два приговора одесского военно-окружного суда стоят, по-видимому, в существенном разногласии: при одних и тех же обстоятельствах («бомбы подкинул Хорольский») Боборыкин осужден, Токарев оправдан. Это очень неудобно для Боборыкина, но не касается нимало до главного суда. И притом разногласие легко упраздняется: в оправдательном приговоре по делу Токарева одесский суд допустил излишнее многословие, упоминая о роли Хорольского и задаваясь вопросом об его «цели». Стоит «в порядке надзора» исключить все это место, – и тогда все бумаги кассационного производства в порядке; Токарев оправдан – его счастье. Боборыкин может оставаться на каторге или… придется прибегнуть к каким-нибудь внесудебным приемам для его спасения…
Главный военный суд, однако, не пожелал стать на эту, пожалуй, вполне последовательную точку зрения. Дело постановлено пересмотреть, а о действиях военно-прокурорского надзора одесского военного округа довести до сведения главного военного прокурора.
Какие это «действия» и в какой связи стояли они с «невыясненными целями» провокатора Хорольского, – мы не знаем.
VII. О том же
В ТЮМЕНИ. – В ВАРШАВЕ. – В КИЕВЕ. – В ВИЛЬНЕ
Тринадцатого сентября 1908 года в Тюмени был ограблен артельщик Маругин. Полиция обнаружила необыкновенную энергию и доставила суду целую группу в девять человек, которые, как оказалось впоследствии, все были к этому делу нимало не причастны. Может ли быть, чтобы «несчастные случайности» коснулись сразу девяти человек и чтобы предварительное следствие впало в такое массовое «добросовестное заблуждение»? Мало вероятно, что касается добросовестности, но фактически верно. Суд в первой же сессии по этому делу оправдывает пять человек. Как бы в виде удовлетворения следствию, четырех решает все-таки казнить смертью. Нельзя же, в самом деле, оправдать всех привлеченных. Зачем-нибудь трудились господа полицейские, жандармы, охранники, свидетели (и лжесвидетели?), наконец, господа прокуроры. Однако после того, как на месте поднялось общественное мнение, а в Петербурге стали хлопотать депутаты Дзюбинский и Скалозубов, – военное правосудие призадумалось и выпустило с миром остальных четырех. Итак, все девять привлечены по недоразумению, и четверо невинных обывателей имели случай испытать сильное ощущение смертного приговора. И все-таки живы. Случилось это счастливое обстоятельство уже 27 июля 1909 года[191].Сильные ощущения продолжались, значит, в течение года!
В Варшаве некоего Павла Ибковского невинно приговорили к казни по ложному доносу Идзиковского и Мартынкевича. Кто тут успел проявить «нечеловеческую энергию», чтобы сначала удержать суровую руку генерал-губернатора Скалона, потом возбудить дело о лжесвидетельстве, – мы так и не знаем. В конце концов лжесвидетельство доказано, и, надо думать, Ибковский из-под виселицы возвращен уже в лоно семьи[192].
В Варшаве в 1905 году «за покушение на убийство околодочного надзирателя Абрамовича» Домбровский, Шевченко и Зелинский приговорены военно-окружным судом к повешению. Оказалось, что покушение произведено до введения в городе усиленной охраны. Дело было кассировано и передано в гражданский суд. При этом обнаружилось, что один из осужденных (Зелинский) приговорен к смерти невинно, суд его оправдал[193].
Еще одно, совсем уже свежее известие из Киева. Двадцать пятого октября 1908 года в киевском военно-окружном суде разбиралось дело о казаке Коваленке и крестьянине Иване Безе, обвиняемых в разбойном нападении на дом Дурицкого. Оба приговорены к смертной казни через повешение. Родные осужденных обратились к прокурору нежинского окружного суда с заявлением, что в данном деле произошла судебная ошибка, так как они могут доказать, что показания, данные на суде свидетелями обвинения Меланией Климковой и Григорием Каращуком, ложны. Они находились в услужении у потерпевшего Дурицкого и лжесвидетельствовали по подговору хозяина. Начатым по этому поводу следствием факт лжесвидетельства скоро обнаружился с полной ясностью. Оказалось, во-первых, что показания противоречили обстоятельствам дела, чего военный суд не изволил заметить за спешностью, а во-вторых, свидетели сами признавались сторонним лицам, что оговорили подсудимых по требованию хозяина («за подарок к празднику»). Совсем уже недавно, 11 сентября 1910 года, окружной суд в Нежине разбирал это дело. Это была очень характерная и выразительная картина. В заседании были две интересные группы: на скамье подсудимых сидели Дурицкий, Каращук и Климкова. В качестве свидетелей были приведены в кандалах Безь и Коваленко, присужденные к смерти и ожидавшие отмены приговора или приведения его в исполнение с 25 октября 1908 года. Кроме того, тут шла тяжба между двумя судами: военный суд требует смерти невинных. От приговора суда присяжных, еще уцелевшего остатка «доконституционных» учреждений, они ждут освобождения.
Присяжные признали наличность лжесвидетельства. Климкова и Каращук осуждены (Дурицкий оправдан). Безь и Коваленко еще целых четыре месяца ждали в тюрьме, пока – уже в январе 1911 года – киевскому военно-окружному суду угодно было, наконец, оказать им милостивое внимание. Впредь до нового разбирательства их дела (которое, конечно, является уже простой формально-стию) постановлено выпустить их под надзор полиции. Итак – два года под угрозою смертной казни и четыре месяца тюрьмы после обнаружения невиновности. Своеобразное, истинно русское благополучие[194].
Наконец, вот еще и в Вильне в 1908 году военно-окружной суд приговаривает к смертной казни ни в чем не повинного крестьянина села Ляховки, Степана Филипцевича, якобы за убийство лесного объездчика. К великому его благополучию, суд допустил явные правонарушения, вследствие которых приговор кассирован. Вторично это дело разбиралось 24 апреля 1909 года, и на этом втором разбирательстве выяснилось, что беднягу Филипцевича собирались повесить совершенно напрасно: «после двухчасового совещания» судьи признали Филипцевича невиновным и отпустили с миром. Под страхом смерти он пробыл более четырех месяцев. Защитил его от напрасной казни присяжный поверенный Торховский[195].
VIII. «Обрадованные» русские люди
Итак, вы видите: широкая практика военных судов со всеми их неожиданностями расширила диапазон ощущений современной русской души.
До сих пор мы знали обычные, присущие всем людям мирные радости повседневной жизни. Теперь в нас зазвучала новая струна, резкая, сильная, незнакомая прозаическому европейцу. По Руси разлился новый вид радости. Это радость людей, глядевших в глаза позорнейшей смерти, раз уже невинно приговоренных и… сорвавшихся с виселицы. Острое ощущение возвращенной жизни… Восторг отцов, матерей, сестер, братьев, женихов и невест, которым отдают любимых и близких людей прямо из петли.
Их много, очень много, теперь таких обрадованных русских граждан. Их можно порой встретить в обычной, будничной, повседневной обстановке. Они, как и прочие обыкновеннейшие люди, заняты своими делами, – работают, обедают, гуляют, даже и веселятся. Вообще – люди, как все. Но над их головами как будто носится какая-то неуловимая тень, род нимба. И когда они отворачиваются или отходят, о них говорят шопотом:
– Это NN. Слыхали? Был приговорен к смертной казни. Спасла счастливая случайность…
Мне тоже приходилось встречать таких людей.
Раз – это было в вагоне железной дороги около Белгорода. Обращали на себя внимание два пассажира третьего класса в одежде мещан или сельских разночинцев. У одного было обыкновенное, но какое-то тускло-серое лицо, и из-под туго сдвинутых бровей глаза смотрели тяжело, неподвижно, без мысли. Другой был похож на него, только постарше. У этого лицо было выразительное, страдающее и озабоченное. На первый взгляд, больным из этих двух людей можно было признать второго.
Мне с ними пришлось ехать недолго, и я сначала не обратил на них особого внимания. И только когда они ушли на узловой станции, я заметил, что в вагоне что-то осталось от них, какая-то робкая, осторожная тень. Никто не садился на оставленное ими место, соседи обменивались полувздохами, короткими, оборванными фразами, из которых я узнал, что это два брата и что один из них был приговорен к смертной казни, а потом оправдан и отпущен на свободу.
Ни подробностей, ни фамилий я так и не узнал. Может быть, это был один из тех, чью историю я рассказал вам на предыдущих страницах, а может, и совсем другой, безвестный, о котором никто ничего не писал. Можно ли написать о всех, так или иначе задетых широким жизненным явлением? На мои дальнейшие расспросы пассажиры, ехавшие с ними раньше, отвечали неохотно и скупо. Скажет, и как-то почти враждебно отвернется… Подвели лихие люди по злобе… Мало ли их теперь. Тронулся, сердечный, шутка ли!.. Не буйствует, а только часами смотрит в одну точку и потом внезапно разрыдается… Семья не бедная. Возили к докторам, – говорят, может еще и поправится.
Вот все, что мне удалось узнать. Вагонные разговоры мгновенно угасали, как искра в золе. Есть вещи, которые стоит только назвать, и уже это значит осудить кого-то и что-то. А по нынешним временам осуждать вообще опасно. Успокоение! Однако у меня все время стояла мысль: «Уж лучше бы говорили! Пожалуй, было бы даже спокойнее».
В другой раз это был молодой человек, только что окончивший высшее учебное заведение, и его молоденькая жена, курсистка. Увидел я их в самой жизнерадостной обстановке, на даче, даже за игрой в лаун-тенис. И все-таки над обоими висела та же неуловимая тень, и тот же шопот несся навстречу каждому новому лицу, знакомившемуся с этой четой. «Это Я-ий… Помните: был приговорен к смертной казни».
В свое время об этом деле много писали. Высшие учебные заведения волновались, директора и профессора хлопотали у министров. После второго разбирательства Я-го оправдали. И когда приговор был объявлен, – одним из первых кинулся пожимать руки ему и присутствовавшей тут же жене молодой жандармский офицер, все время очень внимательно следивший за исходом процесса. Что же так обрадовало жандармского офицера? Очевидно, он считал этого студента невинным, но не считал, что невинность гарантирует его от казни…
И кто же может быть уверен в оправдании невинного при таких условиях? Военный суд! Это значит, что жизнь человека кинута на чашку весов неуклюжих, архаичных, неточных. На них толстым слоем налегла пыль веков, разъедающая ржа касты. Нигде уже в культурном мире не найдется такой удивительной судебной махины, – разве в музеях наряду с памятниками инквизиции. А у нас ее зловещий скрип раздается над страной, претерпевшей «обновление»! Неровно, судорожно, толчками мечутся кверху и книзу ее рычаги, швыряя судьбу людей между жизнью и смертью… Оправдание… казнь… оправдание… Где она остановится? На чем? И почему именно на этом?.. Оправдает ли виновного? Или скорее казнит невинного?..
Даже жизнь наших детей так часто качается на этих весах, и они не избавлены от этой русской радости. В 1909 году были приговорены к смертной казни: гимназист VI класса Александр Петров, и рабочий Крутоверцев по обвинению в нанесении огнестрельной раны священнику Яструбинскому. При вторичном разбирательстве харьковский военно-окружной суд оправдал обоих.
Итак, вот шестнадцатилетний русский мальчик, уже изведавший и ужас смертного приговора, и потрясающую радость оправдания. Впрочем, свирепая Фемида не сразу отпустила этого юношу, полуребенка: господин прокурор счел возможным подать протест. К счастию, главный военный суд на этот раз протеста не уважил[196].
В других случаях такие протесты уважаются легко. Людей судят, оправдывают, присуждают к смерти, опять оправдывают и опять судят. Это настоящая игра с человеческой жизнью, как кот играет с мышью. В городе Луцке, например, мирно проживал старый еврей, мясник, с несколько смешной фамилией Козел. В один несчастный для него день в его лавку зашел полицейский надзиратель и взял кусок мяса. Вскоре после этого с господином надзирателем случилось острое желудочное заболевание, и об этом несчастии тотчас же ударила в набат вся монархическая печать. Истинно-русским людям доподлинно известно, что у евреев существует обычай отравлять мясо, продаваемое верным царским слугам. Существует в действительности такой обычай или не существует? Кто же может лучше и беспристрастнее разобраться в этом тонком этнографическом вопросе, как не стремительный военный суд?
И вот старый еврей, под зловеще шутовской грохот монархической прессы, садится на скамью подсудимых…
Военно-судная качель начинает свою пляску смерти.
В первый раз киевский военно-окружной суд бедного Козла оправдывает. Радость семьи, ликование луцкого еврейства: значит, суд опроверг существование гибельного для русской монархии еврейского обычая – отравлять мясом господ полицейских.
Прокурор не может, однако, согласиться с таким исходом и подает протест. Главный военный суд соглашается с прокурорскими доводами и назначает новое разбирательство. Козла опять сажают на качель. На этот раз ему не везет: чашки весов судорожно опускаются вниз. Старика приговаривают к виселице.
Теперь ликуют «монархисты». В семье Козла и в городе ужас и уныние.
Протест защиты. Новый суд. Заседание тянется два дня… Козел опять обрадован: приговор оправдательный…
Это случилось в ноябре 1909 года[197]. Был ли новый протест прокурора, – мы не знаем. Будем думать, что не было или он, к счастью для злополучного старого еврея, не уважен. Иначе, кто знает, что могло бы случиться? Оправдать… Казнить… Оправдать… Нечет… чет… нечет. На четных нумерах бедному Козлу не везло, и четвертый приговор мог оказаться для него роковым…
Таким он оказался, например, для двух мальчиков, учеников тифлисского ремесленного училища, обвинявшихся в убийстве директора Победимова. В первый раз их оправдали, во второй приговорили к казни[198]. Был ли протест защиты, уважен ли? Что сказал новый суд, если он был? Или, может быть, оба ученика уже казнены, – мы не знаем.
Порой, как бы для того, чтобы дать человеку сильнее почувствовать эту своеобразную гамму ощущений, его подводят к самым ступеням эшафота. Так, 25 апреля 1908 года киевским военно-окружным судом приговорены к смертной казни крестьяне М. Заец, И. Новиков и И. Джулаев за вооруженное нападение в селе Млынах, Сооницкого уезда, Черниговской губернии. С ними вместе были приговорены еще двое: Н. Свириденко и М. Голосенко. Но им, как «менее виновным», казнь была заменена каторгой. Трое приговоренных напрасно заявляли о своей невинности. Приговор утвержден. 16 мая Заец и Джулаев были переведены в печерокий участок, откуда на заре 17 мая их должны были доставить еа мрачную Лысую гору. Там их ждала виселица. Новикову, не вполне оправившемуся от тифа, предстояло совершить то же путешествие прямо из тюрьмы, в тюремной карете. Быстро бежали страшные часы последней ночи.
Но вот… получается телеграмма из Петербурга о приостановке казни. Как оказалось, «менее виновные», по решению проницательного суда, Свириденко и Головенко сознались, что они-то и были главные виновники, а трех осужденных на смерть оговорили ложно: они в нападении не принимали никакого участия[199].
Виселица на Лысой горе эту ночь ждала напрасно.
Сколько еще было за эти годы таких же мрачно-радостных событий, – мне неизвестно. Не все они отмечены газетами, и не все газетные отметки попадались мне на глаза. Знаю, впрочем, еще один такой же случай в Харькове. Это было в 1908 году. По делу об убийстве в селе Бабаях (Харьковской губернии) крестьянки Бондаренковой, военно-окружной суд присудил к казни крестьян Филиппа Колесниченко и Мартына Ткаченко.
Все для них тоже казалось конченным. Их так же, как и Заеца и Джулаева, перевели уже в смертницкую камеру, пригласили священника… Но в это время Колесниченко потребовал к себе товарища прокурора и заявил ему, что Бондаренкову убил он один без всякого участия Ткаченка. При этом он подробно выяснил обстоятельства дела, остававшиеся до сих пор неразъясненными ни на следствии, ни на суде[200].
Имеем ли мы в конце концов право причислить Заеца, Джулаева, Новикова и Ткаченка к сонму людей, «обрадованных» военно-судной процедурой, – я, к сожалению, достоверно не знаю, так как результаты пересмотра их дел пока, кажется, не оглашены.
IX. Что спасало невинных от казни?
Прежде чем перейти к дальнейшему изложению, я чувствую потребность остановиться на внутреннем значении этих «отрадных фактов», от которых на меня лично веет ужасом даже большим, чем от самых казней… Это лишь исключения, подтверждающие правило. Оправдания, которые говорят о возможности десятков, может быть, сотен судебных убийств…
Что, в самом деле, спасало людей во всех перечисленных эпизодах от невинной смерти?
Только чудо, то есть вмешательство влияний, выходящих за пределы нормального военно-судного порядка.
Для Юсупова это – случайное присутствие в зале заседаний партикулярного человека г. Ширинкина, который в отчаянии бежит из суда домой и торопливо набрасывает письмо к другому партикулярному человеку, живущему в Петербурге. Затем корреспонденции, разговоры, забегания с заднего хода…
Маньковского вырывает у смерти такой же вопль нескольких адвокатов и еще – конфета генерала Канабеева. Черновик письма защитников сохранил на себе следы слез… Слез людей со значками, во фраках, явившихся, чтобы защищать невинного юридическими аргументами, и почувствовавших свое полное бессилие. Они прибегли к аргументам не юридическим. В связи с этим делом один из адвокатов временно лишен практики. Палата осудила этого защитника, товарищи выразили ему сочувствие, а общество в недоумении стоит перед этой путаницей. За правильные закономерные действия практики не лишают. Позор извращающим правосудие?.. Да, это правда. Но правильные закономерные суды с такой легкостью не приговаривают невинных к смерти! Слава спасающим невинно осужденных! Мы не юристы. История разберет, что тут и кому принадлежит по праву!
Далее, – только экстраординарная энергия защитников и частных лиц спасают Кузнецова, Краснова, четырех Никольских крестьян, Безя, Коваленко, Акимова и многих других, для которых потребовалось под накинутой уже петлей собирать новые обстоятельства, возбуждать дела о лжесвидетелях, игрушкой которых так легко становятся военные суды.
В тюменском деле мы встречаем хлопоты членов Государственной думы. Государственная дума! Народное представительство в стране, где такие суды годами постановляют такие приговоры! Разве это не самое фантастическое из чудес? Достаточно сопоставить эти «учреждения», чтобы видеть, что или одно из них – только тяжелый кошмар, или другое – фикция, маловероятное сонное видение…[201]
Для Токарева и Боборыкина возможность спасения чудесным образом притаилась в станке для выделки фальшивой монеты… И так далее, и так далее…
Теперь подумайте только, что было бы, если бы случайно:
Партикулярный человек, г. Ширинкин, 2 апреля 1899 года уехал по своим делам из города Грозного?
Генерал Канабеев не подарил бы Маньковскому конфету, а его защитники не пришли бы в спасительное для клиента отчаяние?
Если бы г. Николаев отнесся к «случайностям» в деле Кузнецова так же философски спокойно, как г. Успенский в деле несчастного Глускера?
Если бы так же отнеслись г. Ордынский к делу Никольских крестьян и защитники Акимова, и защитники Безя и Коваленко, и еще многие, многие другие?..
Если бы охранник Хорольский ограничился только бомбами и не вздумал, в излишнем усердии, подкинуть еще станок?
Во всех этих случаях мы, несомненно, имели бы вместо «отрадных фактов» судебные убийства, темные, безвестные, точно в глухом лесу… Кто-то их бы оплакивал, кто-то проклинал бы и таил планы мести… Газеты отмечали бы несколько лишних цифр, совершенно таких же, какие теперь проходят перед нашими глазами, не вызывая особого внимания к именам людей, для которых не нашлось счастливых случайностей и чудес…
И каковы только порой бывают эти неожиданности!
Военный суд в Саратове. На скамье подсудимых восемь солдат Апшеронского полка; обвиняются в том, что участвовали в военной демонстрации в Тростянце. Главный свидетель обвинения – полицейский урядник. Показывает обстоятельно, уверенно, точно. Есть свидетели и в пользу подсудимых, но – одна из психологических особенностей военных судей – предпочтение свидетелям обвинения. А тут еще урядник! Судьи слушают и испытывают удовлетворение прочно, солидно складывающегося убеждения. Со всей торжественностью, подобающей обстоятельствам, они удаляются для совещания. С такой же торжественностью возвращаются и «по указу его императорского величества» приговаривают к продолжительному тюремному заключению восемь человек, из которых ни один не виновен в том, в чем их так торжественно обвиняют. Приговор мрачно звучит в пустом зале. Сами подсудимые, конечно, знают, что их осудили напрасно. Знают это и товарищи их, которые с заряженными ружьями стоят за ними и слушают всю судебную процедуру. Знает, конечно, и оболгавший их урядник. Но – судьи довольны своим приговором, публики нет, солдаты молчат… вытянувшись в позе автоматов.
И вдруг – происходит неожиданность. Протестует против приговора… Кто же? Лжесвидетель-урядник. По-видимому он смотрел на свое ложное показание, как на исполнение служебного долга. Прокурор обвиняет, защитник защищает. Полиция помогает прокурору, это уже такой «порядок вещей». Может быть, перед судом он вдобавок откуда-нибудь получил инструкции «не осрамиться». Он не осрамился и сдал свой урок «словесности» при торжественной обстановке. А уже дело суда разобраться во всем этом по совести и по правде. Судьи должны понять, что он «по должности» налгал все от слова до слова, и не верить ему, а поверить другим, которые говорили правду. А они поверили ему, лжецу. И так торжественно вышли. И так торжественно вернулись, и все в зале поднялись, когда они «по указу его императорского величества» приговорили восемь невинных.
О себе этот урядник был, должно быть, невысокого мнения: должность его маленькая и непочетная. Какой уж почет лгать на невинных… Теперь он проникся презрением к торжественной процедуре суда. Что-то в душе урядника, по-видимому, упало, и он почувствовал потребность поделиться с кем-нибудь этой своей душевной драмой. Где здесь люди, с которыми он может говорить по душе? Судьи? Они такие важные, и они собираются расходиться в приятном сознании исполненного долга. Взгляд переживающего душевную драму урядника падает на скамью подсудимых… Там восемь осужденных и, должно быть, столько же караульных. Это простые люди. Они поймут его положение. Они служат и исполняют приказания. Прикажут стрелять в родного отца, – будут стрелять. Он тоже служит по своему разумению. Прикажут налгать на родного отца, – налжет. Если бы он теперь был на месте этих солдат, то стоял бы за подсудимыми с ружьем к ноге и, зная, что они невинны, зорко смотрел бы, чтобы они не убежали. А если бы часовые были на его, урядницком, месте, то лгали бы по должности, как лгал он… Так он думает, и подходит к этой группе «своих людей», и говорит доверчиво, простодушно, от глубины огорченного сердца:
– Какой это суд! Судят невинных. Я их оклеветал напрасно[202].
Но конвойные – товарищи подсудимым, а уряднику не товарищи, и потому о признании урядника докладывают старшому, старшой докладывает по начальству. И вот господа военные судьи узнают, что их приговор, их судейскую совесть, достоинство столь торжественно отправляемого судебного обряда и судьбу восьми человек, – все это держал в руках этот мелкий полицейский лжесвидетель. Движения человеческой совести, даже и полицейской, таинственны, неожиданны и нелегко объяснимы… Как, впрочем, нелегко объяснимы, порой, и их результаты. Защитник бедных апшеронцев, присяжный поверенный И. А. Британ, сообщил мне, что для них пока покаянное заявление урядника никаких последствий не имело: они отсиживают свои сроки совершенно так же, как бы урядник и не лгал. Вероятно, в видах поддержания дисциплины…
Еще, быть может, характеристичнее те случаи, когда, как в деле Ткаченка (и во многих других), неправосудие приговора разоблачается другими приговоренными к смерти.
Да, трудно представить себе иронию более мрачную; они убивали. Да. И они перед лицом смерти этого уже не отрицают. Но они указывают своим судьям, представителям карающей их общественной власти, что и они, судьи, готовы были совершить величайшее из преступлений, какое можно себе представить: убийство невинного по суду, по приговору, после торжественного разбирательства, якобы от лица общества и государства…
X. Под вопросом
За этой толпой обрадованных русских людей идут другие. В газетах то и дело мелькают мимолетные, беглые, неполные известия, от которых сердце невольно сжимается тяжелыми вопросами. Что сталось с этими людьми, имена которых появляются в газетах и тотчас тонут, как будто их и не было?
В Харькове недавно был присужден к смертной казни семнадцатилетний юноша Яровой, как участник нападения на основянское волостное правление. Через несколько дней после приговора в военно-окружной суд явилось двое лиц, заявивших, что в день ограбления основянского волостного правления они видели Ярового в Киеве и могут доказать это. Они просили подвергнуть их допросу. Военно-судное управление отказало. Единственный свидетель Новиков, утверждавший на суде причастность Ярового к грабежу, сделал заявление, что показания его были ложны[203]. И это не подействовало.
А если бы эти свидетели были допрошены?
Двадцать шестого января 1909 года временный военный суд во Владимире приговорил М. В. Фрунзе к смертной казни за покушение на убийство урядника. Свидетеля, который первоначально оговорил Фрунзе, к прокурору доставил урядник лично, на свой счет, а затем этот свидетель дважды отказался от показания, заявив, что был запуган. Целый ряд свидетелей-очевидцев удостоверил, что Фрунзе целых три дня (во время, когда произошло покушение) провел в Москве. Защитник приговоренного уверен в ошибке и обратился к депутатам с просьбой ходатайствовать о пересмотре дела[204].
Что случилось потом с Фрунзе?
В московском военно-окружном суде, – отличившимся, как мы видели, делами Кузнецова и Никольских крестьян, – в 1908 году, при объявлении подсудимым приговора в окончательной форме по делу о вооруженном сопротивлении на станции Апреловка, поднялся подсудимый Кутов и заявил, что обвиненные судом Лебедев и Рявкин (последний приговорен к смертной казни) совершенно непричастны к этому делу, а настоящий виновник находится в Таганской тюрьме по другому обвинению. Председатель (конечно, совершенно спокойно) указал, что это заявление должно быть направлено к командующему войсками московского военного округа, генералу Гершельману. До суда оно, значит, собственно, не касается[205].
Что было дальше? Произведено ли расследование, или заявление «осужденного» оставлено без уважения и судьба Лебедева и Рявкина совершилась?
Военный суд в Новочеркасске приговорил Шилина к двенадцати годам каторжных работ по обвинению в покушении на убийство владельца магазина обуви в станице Лабинской, Маркова. Спустя два года в той же станице совершено было убийство городового Кислова. Убийца Гдовский перед смертию сознался в целом ряде совершенных им преступлений, в том числе в покушении на убийство Маркова. Мать Шилина возбудила ходатайство о пересмотре дела сына, но… «по неизвестным причинам ей в этом отказано»[206]«Биржевые ведомости», 13 дек. 1909 г., № 11405..
Действительно ли этот Шилин виновен?
В 1908 году по делу об убийстве инженера Финанского защитники приговоренных к смертной казни Кенцирского и Пецика, убежденные в полной их невиновности, телеграфировали на высочайшее имя просьбу о задержании казни и о помиловании осужденных. К просьбе присоединилась и вдова убитого Финанского[207].
Результата мы не знаем, но… в Варшаве командует войсками генерал Скалон, который торопится казнить, не дожидаясь не только решения высших инстанций, но даже ранее всякого суда!
В Елисаветграде, Херсонской губ., – писали в «Речи» в 1909 году, – по дополнительному обвинению в убийстве помещика Келеповского, присуждены к смертной казни Добровольский и Бодрышев. Есть много данных к тому, что первый осужден невинно. Защита подала кассационную жалобу. Дать или не дать движение этой жалобе, зависит от командующего войсками одесского военного округа. Депутат от Одессы Никольский по телеграфу обратился к… генералу Каульбарсу с просьбой о приостановке казни, а к военному министру – о пересмотре дела[208].
Исхода мы опять не знаем. Но – всему миру известно, что генерал Каульбарс непреклонен.
Был и еще один, Добровольский Павел, обвиненный по делу об убийстве лубенского исправника. По этому поводу «Утру России» телеграфировали из Парижа: в номере «Общего дела» Бурцев приводит имена жертв ошибок военных судов. По словам журнала, осуждены невинно: в Киеве еврей Комиссаров и крестьянин Маслов, в Полтаве – Павел Добровольский[209].
В 1907 году польская социалистическая партия выпустила воззвание, в котором заявляет, что Иосиф Реде, приговоренный военным судом к смертной казни через повешение, а также Яскульский и Андреев, приговоренные тем же судом к каторге якобы за участие в убийстве уездного начальника и ограбление кассира винной монополии Иванова, – осуждены совершенно невинно. Никакого участия в этих нападениях они не принимали, так как эти акты были совершены членами польской социалистической партии[210].
Что сталось с этими Реде, Яскульским и Андреевским? Едва ли заявление «партии» могло заставить пересмотреть дело.
Двадцать первого мая 1909 года главный военный суд постановил возобновить дело Машукова, который был приговорен к каторге якобы за участие в шайке грабителей, наводившей ужас в окрестностях Туркестана. Многие из участников шайки казнены. Машуков подал просьбу о пересмотре его дела, ссылаясь на осужденных по тому же делу Хачатурова и Яковского, которые действительно утверждают, что Машуков никогда членом шайки не состоял[211].
Чем кончился пересмотр? И не было ли в числе «многих участников шайки», отправленных уже на виселицу, людей «опознанных» столь же основательно, как и Машуков, приговоренный только к каторге?..
Как видите, все это только «вопросы». Но – какие вопросы! Толпа полулюдей, полутеней, мелькнувшая на поверхности газетного моря, как мелькают лица утопающих во время крушения. Во всякой другой стране судьба каждого из этих людей стала бы общественным вопросом, встревожила бы общественную совесть, стала бы предметом исчерпывающего расследования… У нас все это так и остается вопросами… Мелькнуло и исчезло…
XI. Не обрадованные
Во многих случаях «конфирмационная» стремительность господ командующих войсками делает и вопросы и ответы совершено излишними. Вопрос едва поставлен, тревога возбуждена – но… ни спрашивать, ни тревожиться уже не о ком.
Так, в 1909 году виленский военно-окружной суд приговорил четырех подсудимых (Селявко, Паутова, Ротенберга и Ренкацишека) к смертной казни через повешение за побег из тюрьмы, сопровождавшийся убийством двух надзирателей. Защитник Ротенберга и Ренкацишека, генерал И. М. Дроздовский, имел основание считать, что эти двое осуждены невинно. Он ходатайствовал в Петербурге по телеграфу о приостановке казни на предмет пересмотра дела или просьбы о помиловании на высочайшее имя. По-видимому, у него были веские основания: ответ последовал благоприятный. Но генерал Гершельман казнил обоих быстрее телеграфа: распоряжение о приостановке казни запоздало… Оба были уже повешены[212].
То же случилось в 1909 году в Тамбове. На этот раз приказ о приостановке казни исходил от командующего войсками, который получил какие-то сведения, побудившие его к остановке уже конфирмованного приговора. Приказ опоздал: подсудимые – Галкин, Артемов и Алпатов – были уже казнены («Киевские вести», 22 июля 1909 г.).
Повешен также и Станислав Марчук при обстоятельствах, едва ли оставляющих место для каких бы то ни было вопросов…
Шестнадцатого июня 1907 года в Варшаве неизвестным был произведен выстрел в агента охраны Гревцова. По подозрению был арестован Бронислав Марчук, которого по предъявлении Гревцов признал тем самым лицом, которое произвело в него выстрел. Это опознание он подтвердил потом вторично под присягой, прибавив, как занесено в протокол, «что он не сомневается, что подсудимый Марчук есть то самое лицо, которое…» и т. д.
Оказалось, однако, что невиновность Бронислава Марчука была доказана, и военно-окружный суд его оправдал.
Тогда, уже в 1909 году, арестовали другого человека, сходного с первым… по фамилии. Его звали Станислав Марчук. Он не был даже родственником первого. Тем не менее охранники Гревцов и Товстолужский опять с такой же положительностью опознали и этого Марчука, как несомненно то самое лицо, «которое…» и т. д. Защита, чтобы дать судьям понятие о правдивости этих опознавателей, ходатайствовала о вызове в качестве свидетеля прежнего Марчука и о прочтении предыдущих протоколов лживого опознания. Суд постановил: показание Бронислава Марчука признать существенным и его вызвать, но протоколов почему-то читать не пожелал. Может быть, суд считал, что достаточно будет и одних показаний раз уже опознанного однофамильца… Случилось, однако, так, что этот свидетель по болезни не явился. Суд, по соображениям совершенно непостижимым, все-таки счел излишним чтение протоколов… Защита ходатайствовала хотя бы о вызове секретаря, эти протоколы составлявшего. Суд отказал. На основании показаний явных лжесвидетелей Марчука приговорили и… казнили, так как генерал Скалон, по обыкновению, не дал хода кассационной жалобе. «Никто не сомневается, – прибавляет господин П. П-ий, подробно описавший этот случай в „Речи“, – что повешен человек совершенно невинный»[213]. Да, конечно, стоит только проследить тот путь, каким военное правосудие дошло до своего решения, чтобы всякие сомнения исчезли…
Еще такое же дело, на этот раз в Балте. В этом городе в 1905 году происходили, как и всюду, разные волнения, и в тревожное время был убит городовой. Кем – неизвестно. Говорили, впрочем, что убийство с «политикой» ничего общего не имело и произошло на романической подкладке…
В том же городе жил некто Акимов. Это был человек наивный и «беспокойный» в самом, кажется, безвредном смысле: он сразу поверил, что в России совершается важный переворот, «торжествует законность», а «произволу пришел конец». Когда его арестовали, как «красного», он очень неосторожно высказывал свои мнения и, не зная за собой ничего существенно преступного, на допросах держался вызывающе. Это, разумеется, раздражало местные власти больше, чем всякая «революционность». Акимова пришлось отпустить, но некто из власть имущих при этом сказал: «А все-таки я сгною тебя в тюрьме». Наивный человек, веривший в наступившее «торжество законности», не поверил. Он забыл, что при всех переворотах – военные суды действовали по всей России…
Через некоторое время Акимова арестовали. Нашелся человек, который видел, как Акимов убил городового. Это был Шешель, писец полицейского управления, кстати несколько слабоумный, легко поддававшийся всяким воздействиям. И вот «кто-то, (как сдержанно пишет корреспондент „Подольского еженедельника“) подговорил этого полицейского писца для карьеры (sic!) дать ложное показание, будто Акимов убил городового в его присутствии». Шешель послушался, состоялся военный суд. Совершенно для себя неожиданно на скамью подсудимых попал и Шешель за… недонесение. Донос его по подговору кого-то был сделан спустя почти два года после события!
Корреспондент «Подольского еженедельника», описавший это дело, сообщал далее, будто Акимова приговорили к смертной казни, замененной каторжными работами. И будто потом лжесвидетельство Шешеля раскрылось, а дело Акимова пересмотрено… Но один из моих корреспондентов, откликнувшийся на мои очерки в «Русском богатстве» и близко знающий все дело, – пишет мне, что это неверно. Акимова приговорили не к смертной казни, а к пятнадцати годам каторжных работ. Почему же так «мягко», если установлено, что он собственноручно убил городового? Мой корреспондент объясняет это очень своеобразно: кроме оговора слабоумного Шешеля, никаких других улик не было. Если бы улики были, – тогда, конечно, его бы казнили. Но, ввиду некоторых сомнений, судьи будто бы нашли успокоение совести в том, что подсудимый отправился только на каторгу («сомнение – в пользу подсудимого!»). Так это или не так, – во всяком случае Акимов осужден, а с ним вместе осужден и Шешель.
Увидев, какую «карьеру» изготовил ему тот «некто», о коем так сдержанно выражается «Подольский еженедельник», Шешель стал горько жаловаться и, не скрывая, говорил всем, что его подговорили и кто именно подговорил дать ложное показание. А так как его все-таки держали на привилегированном положении и отпускали в город, то весть об истинной подкладке дела быстро распространилась и попала даже в газеты. Все были уверены, что вследствие этого дело невинно осужденного Акимова не могло заглохнуть… В своих очерках в журнале я, на основании газетных сведений, присоединил имя Акимова к сонму «обрадованных русских людей»… Это оказалось печальной ошибкой. Другой мой корреспондент, господин А. П-ко, волею российских судеб имевший случай познакомиться с населением знаменитой московской каторжной тюрьмы («Бутырки»), встретил там Афанасия Якимова, уроженца Юго-Западного края, который, по его словам, тоже был осужден вследствие ложного оговора. Это был человек желчный, невоздержанный на язык, склонный ко всякого рода тюремным протестам и вследствие этого часто знакомившийся с карцером и другими репрессиями знаменитых своим «режимом» Бутырок. Несмотря на железное здоровье, он не выдержал и умер от чахотки.
Дальнейшие справки убедили меня, что этот Афанасий Якимов есть тот самый Акимов, балтский протестант, так «неблагонадежно» веровавший, что без серьезной вины никто его в настоящее время сгноить в тюрьме не может…
Судьба лжесвидетеля Шешеля тоже довольно интересна: в тюрьме он занимал привилегированное положение, пользовался правом отлучек и т. д. Это ли обстоятельство создало ему репутацию тюремного доносчика, или, раз поддавшись искушению, ему действительно не оставалось ничего другого, – но только его настигла суровая тюремная Немезида: 20 ноября 1908 года он вбежал, обливаясь кровью, со двора в тюремную больницу. Оказалось, что его порезали в мастерской ножами; от ран он вскоре умер. Так кончилась и обещанная ему кем-то карьера. Впрочем, похороны его, писал корреспондент «Подольского еженедельника», были обставлены особой торжественностью: «Для проводов гроба на кладбище была отряжена вся мастерская… Провожал гроб и начальник тюрьмы…» Ложного доносчика хоронили с почетом, как лицо до известной степени официальное…
Имя того некто, кто сумел доказать наивному Акимову, что времена изменились совсем не в том смысле, как он думал, – у многих на устах в городе Балте. Впрочем, имя людей, умеющих при помощи полицейских Шешелей так пользоваться военными судами в наше время – легион…
Военные суды вообще изумительно легко верят оговорам, и это часто делает суд удобным орудием для сведения всяких личных счетов с неприятными людьми.
В ночь на 28 февраля 1908 года в селе Воинке, Перекопского уезда, Таврической губернии, выстрелом из ружья с улицы в окно спальни был убит «тесть известного перекопского исправника Семена Андреева» (так сказано в газетах) дворянин Владимир Пафнутьев. Чем так особенно известен исправник Семен Андреев[214] в Перекопе, мы не знаем, но его тесть «дворянин Владимир Пафнутьев» был заведующим воинковской ремесленной школой.
Каков был педагогический ценз «дворянина Пафнутьева», мы тоже не знаем. Известно только, что прежде школой заведывал настоящий педагог Венедиктов. Он оказался «либеральным». Можно догадываться, что на этой почве в Перекопе шла некоторая борьба «благонадежности» с либерализмом, в результате которой господин Венедиктов был вынужден очистить место для тестя «известного исправника», который из патриотических соображений оказался педагогом в свою очередь. И нетрудно себе представить, что в Перекопе или по крайней мере в перекопской ремесленной школе обнаружились «партии»: все благонадежное стояло на стороне тестя исправника, все крамольное – на стороне прежнего заведующего. И вероятно, тестю исправника приходилось искоренять этот крамольный дух, то есть любовь питомцев к прежнему либеральному наставнику… Между прочим, на стороне Бенедиктова был и молодой учитель какого-то ремесла Матвей Редкобородый.
Благонадежная сторона, разумеется, победила. Но вот раздается выстрел в окно, – довольно обычное, к сожалению, выражение чувств молодого поколения к новым благонадежным воспитателям. Розыски, конечно, тотчас и направляются в эту сторону.
Я стараюсь представить себе этого странного человека. Молодой крестьянин, выучившийся настолько, что стал учителем ремесла в школе, несколько наивный и очень экспансивный. Он, вероятно, был под обаянием настоящего педагога, «либерального» Бенедиктова и, конечно, не мог понять, а тем более одобрить, то обстоятельство, что важное просветительное дело берется из рук талантливого специалиста и передается «тестю известного исправника». Но в то же время он не принадлежит ни к каким крайним партиям и не одобряет убийства.
В уверенности, что содействует «делу правосудия», он во время осмотра места происшествия первый обращает внимание на пыж, который хотели просто бросить. Он не рассуждает о том, что это будет правосудие военное… Жертвой его находчивости вскоре становится действительный виновник выстрела, восемнадцатилетний мальчик, ученик школы Осадчий. Осадчий в свою очередь оговаривает выдавшего его учителя и… не успев, как говорится, даже оглянуться, – учитель Редкобородый видит себя приговоренным к смертной казни вместе с учеником Осадчим.
Как это могло случиться? Очень просто, – оговор падает на готовую почву: вспоминается либерализм Бенедиктова, вспоминается, что Редкобородый был сторонником «либерального педагога» и противником «мученика долга», убитого тестя исправника. Прибавьте, что судит военно-окружной суд, не привыкший разбираться ни в вопросах либерализма, ни в педагогии, ни в психологии юношей, которые вовлечены в борьбу педагогической и исправницкой партий… Оговор Осадчего находит поддержку в соответствующем освещении дела, и… результат налицо.
В газетах, из которых я заимствую фактические сведения об этом деле, рассказана потрясающая сцена после приговора в одной из комнат суда: в присутствии конвойных и защитника, присяжного поверенного А. Я. Айзенштейна, Редкобородый бил себя по голове и требовал от Осадчего, хотя бы теперь, снятия оговора, взывая к его совести. Осадчий плакал и молчал. Когда же конвойные не разрешили Редкобородому свидания с бывшими в суде родными, то он стал кричать: «Так пусть же меня сейчас повесят. Я не верю больше в правосудие…»
Были поданы кассационные жалобы. Казнь была приостановлена, началась длинная процедура жалоб, ходатайств и прошений. Если не ошибаемся, Осадчий был повешен ранее, а для его «учителя» потянулись долгие дни и страшные ночи, когда каждый шорох представляется идущею смертью… Редкобородый в это время много писал своему защитнику, и в распоряжении г. Айзенштейна теперь находится, вероятно, захватывающе интересный материал с исповедью этого молодого крестьянина.
В конце концов, после очень долгого промежутка, обстоятельства, по-видимому, стали выясняться. Кассационная жалоба Редкобородого была принята, делом заинтересовался командующий войсками… Но все эти известия пришли слишком поздно: Редкобородый не вынес душевной пытки, и его нашли повесившимся в камере, почти через год после того, как «тесть известного исправника» был убит в своей спальне, а сам он так печально для себя обнаружил «находчивость» в раскрытии преступления[215].
На той же, так сказать, «педагогической» почве разыгралось и другое печальное военно-судное дело. Это было в 1906 году. В Митаве был убит инспектор реального училища Петров. Мы не имеем о Петрове даже тех общих сведений, какими все-таки до известной степени рисуется фигура Пафнутьева. Знаем только, что он был инспектор и что обвинялись в убийстве ученики. По самым элементарным понятиям о роли правосудия – военные суды совершенно, казалось бы, неуместны в таких случаях. Преступление, совершаемое юношами, почти детьми, в отношении своих «наставников», конечно, ужасно. Но не следует ли разобраться и в тех условиях, которые способны довести юные души до такой степени ожесточения. Более, чем где бы то ни было, тут уместен суд присяжных и широкий состязательный процесс.
Но этого единственно разумного и беспристрастного расследования у нас тщательно избегают: педагог, быть может и сам повинный в смертном грехе против ожесточенного им же юношества, в видах «дисциплины» превращается в доблестную жертву долга, и его тени приносятся умилостивительные жертвы. Лишь бы скорее, лишь бы грознее и устрашительнее.
По подозрению в убийстве Петрова прежде всего арестован некто Руман, который и расстрелян по приговору военно-полевого суда. Был ли он действительно причастен к убийству, или просто в несчастную минуту попал под полевую грозу, – сказать теперь трудно.
Вслед за тем полиция арестовала еще брата казненного, Александра Румана, и учеников реального училища Исаака Фридлендера и Исидора Иосельзона. Узнав об аресте брата, из Петербурга приехал Юлиус Иосельзон. Его тоже арестовали и… предали военному суду (в Риге).
Во время разбора дела Фридлендер (мальчик четырнадцати лет) заявил на суде, что убийцей Петрова является он один, а остальные к делу непричастны. Дело было приостановлено для доследования. Вторично оно слушалось 10 ноября 1907 года. Рижский военно-окружной суд приговорил обоих братьев Иосельзонов к смертной казни через повешение (замененное им расстрелянием), а Исаака Фридлендера и Александра Румана к двенадцатилетнему тюремному заключению…
Приговор этот произвел в местном обществе самое удручающее впечатление. На суде Фридлендер со слезами на глазах, стоя на коленях, уверял судей, что он убил Петрова один, и умолял их пощадить невинных. Юлиус Иосельзон во время убийства был в Петербурге… Наконец, в суде произошел эпизод, очень редкий в практике военных судов: прокурор (зовут его – полковник Хабалов) не согласился с квалификацией преступления и подал протест против применения к Иосельзонам смертной казни… Родители разослали просьбы всюду, куда только могли, в том числе, конечно, и генерал-губернатору.
Генерал-губернатором был… Меллер-Закомельский. Приговор произнесен 10 ноября. Пятнадцатого числа того же месяца оба брата были расстреляны. Перед смертью они призвали раввина и заявили, что умирают невинными…[216]
А затем в декабре 1907 года октябристскому «Голосу Москвы» телеграфировали из Риги: «Прокурор военно-окружного суда полковник Хабалов, подавший протест на обвинительный приговор по делу братьев Иосельзонов, отстранен от должности»[217].
Когда-нибудь этого одного факта будет достаточно для характеристики военно-судной полосы российского правосудия: «Это было время, когда прокуроры за простое заявление, согласное с законом и совестью, о неправильности смертного приговора, отстранялись от должности. Для исполнения велений совести и долга, если эти веления шли в направлении гуманности, это время требовало сверхсметного героизма…»
XII. Виновные
Мы видели, как порой военные суды расправляются с людьми, совершенно неповинными в том, в чем их обвиняют…
Что же сказать о тех случаях, когда перед военным судом стоят люди, совершившие в наше бурное и переходное время то или другое правонарушение, когда приходится судить открытых противников существующего строя.
Во что порой превращается в таких случаях военный суд, который все же должен сохранить значение суда, взвешивающего меру «вины» и меру «наказания»…
Всякое переходное время когда-нибудь кончается. Нормы старого порядка уступают, наконец, место новым, и беспристрастная история взвешивает в свою очередь и добродетели, и ошибки, и самоотвержение, и преступления обеих сторон, относя все это уже не к старым или новым временным законам, а к вечным нормам справедливости, гуманности, правды… У всех культурных народов в таких случаях суд выполняет роль своего рода компаса и руля, регулирующего ход общественного корабля среди бурного смятения…
У нас эта функция взята у гражданского суда и отдана надолго, на целые годы судам военным…
Я не могу здесь исчерпать эту сторону вопроса: я брал только самые яркие факты военного неправосудия… Уже по ним можно судить о выполнении задач более тонких, сложных и требующих большего судейского беспристрастия… Но на одном эпизоде я все-таки должен остановиться. Это будет история поручика Пирогова.
Во всякой другой стране эта трагическая история привлекла бы общее внимание, вызвала бы тревогу, и имя человека, ее пережившего, приобрело бы широкую известность. У нас она прошла почти незамеченной.
Первоначальное и, кажется, единственное газетное известие, которое мне пришлось встретить об этом деле, когда я писал свою статью о военном правосудии, гласило просто, что главный военный суд, рассмотрев в кассационном порядке дело поручика Пирогова, трижды приговоренного к смертной казни приамурским военно-окружным судом, постановил: уничтожить не только приговор, но и все делопроизводство, начиная с предания суду…
Это ошеломляющее известие поразило меня даже после знакомства с изложенными выше фактами. Я вывел заключение, что поручик Пирогов наиболее полно пережил своеобразную современно-русскую радость: трижды приговоренный к смерти, – он отпущен теперь на свободу, и ему предоставлено вменить все пережитое, яко не бывшее.
Некоторые частные сведения, которые мне удалось собрать, подтверждали это заключение, и в своей статье (в «Русском богатстве») я так и излагал этот случай, причислив поручика Пирогова к «обрадованным русским людям»…
Оказалось, что я грубо ошибся. Это было иначе, и… это было гораздо печальнее…
Поручик Пирогов, происходивший из крестьян, служил в составе туркестанских батальонов. До войны это был, по-видимому, просто офицер с традиционными взглядами военной среды. В конце 1904 года он добровольно изъявил желание перевестись на театр военных действий. Причисленный к одному из восточно-сибирских стрелковых полков, Пирогов уже в начале 1905 года был на передовых позициях. Здесь он нес службу честно и с мужеством. Если не ошибаюсь, получил знак отличия за храбрость. В феврале он участвует в трехдневных боях под Мукденом и, по заключении мира, остается на передовых позициях в качестве начальника охотничьей команды, неся ответственную службу разведчика…
Известна и история, и финал этой несчастной войны. Известно и то, какое влияние она оказала на события в России. Легко понять, как действовали все эти события там, на месте, на полях, покрытых еще свежею русскою кровью, пролитой так бесплодно и часто так легкомысленно… Это был психический взрыв, своего рода циклон, охвативший дальневосточную армию… Газеты были полны известиями о том, что делалось во Владивостоке и по всему сибирскому пути…
Все это сильно подействовало и на молодого офицера «из крестьян», с такой готовностью добровольно принесшего на эти поля свою молодую жизнь. В декабре 1905 года он попадает в Читу уже в том настроении, которое охватило тогда очень многих, как водоворот, как эпидемия, как пожар. Девятнадцатого декабря он был избран в читинский комитет «военного союза», а 12 февраля к Чите подошел карательный поезд генерала Ренненкампфа…
«Столица Забайкальской Республики» не оказала ни малейшего сопротивления. Начались казни: Пирогов вместе с другими не мог не знать, что его ожидает: он скрылся и перешел на нелегальное положение. Затем он с увлечением отдался революционной деятельности, уезжал в Японию, опять появлялся в Сибири и участвовал в «военной организации» в Никольск-Уссурийском крае. Здесь он был арестован и предан военному суду, который и приговорил его в первый раз к смертной казни.
Его кассационная жалоба, выставлявшая очень веские юридические основания, не была пропущена. Командующий войсками генерал Унтербергер, не дав хода кассационной жалобе, заменил смертную казнь бессрочной каторгой…
Вечная каторга является, конечно, «смягчением» по сравнению с смертной казнию. Однако, по очень компетентному мнению выдающегося юриста, есть большое основание думать, что кассационная жалоба должна была повести к смягчению гораздо более значительному вследствие неправильной квалификации самого преступления…
Как бы то ни было, – приговор «временного» суда, хотя и не прошедший всех инстанций, вошел в «законную» силу. Существующий порядок свел свои счеты с поручиком Пироговым, и для последнего началось течение «вечной каторги». Казалось, над его головой сомкнулось забвение…
Но вот приамурский военно-окружной суд вновь вспоминает об осужденном; возбуждается «новое» дело, поручика Пирогова судят вторично и… вторично приговаривают к смертной казни… К великому счастью осужденного, суд совершает процессуальную ошибку, не допустив защитника. Последовала кассация приговора и новое (уже третье) разбирательство.
И в третий раз приамурский суд приговаривает поручика Пирогова к смертной казни…
На этот раз дело суда сделано чисто: защитник был допущен, никаких, по-видимому, формальных правонарушений и кассационных поводов не было. Вторичное «помилование» по обстоятельствам невероятно. Ведь не затем же вновь вызвали поручика Пирогова, чтобы опять только вернуть его в вечную каторгу… Приамурский военный суд, очевидно, добивается казни.
Итак, разумной надежды нет; может быть только безумная фантазия, невозможная греза больного, истомившегося воображения… Поручику Пирогову кажется, что все эти два новых акта его трагедии – простое недоразумение… Сейчас откроется дверь камеры, придут и скажут: «Все это, поручик Пирогов, была простая шутка. Не только казнить вас, но и судить вновь было не за что!»
Бедный поручик Пирогов! Ну, можно ли даже перед лицом смерти предаваться таким иллюзиям? Можно ли думать, что в нашем отечестве есть учреждение, все-таки именуемое судом, которое может придумать такую мрачную шутку с человеческой жизнью? И не только придумать, но и провести по всем инстанциям и повторить с полной серьезностью два раза?..
Оказывается, однако, что это грезит вовсе не подсудимый, у которого закружилась голова от жестокой игры на смертной качели. Все это представляется не поручику Пирогову, а его защитнику, О. О. Грузенбергу, одному из известнейших русских юристов. Неужели и на знаменитых русских адвокатов эти судебные драмы могут подействовать так сильно?
Да, очевидно, могут. Но что еще удивительнее, – это то, что чисто бредовая идея О. О. Грузенберга заражает даже членов главного военного суда, который выслушивает его соображения и постановляет, что действительно не только двойной приговор к казни, один раз им самим утвержденный, но и самое предание вновь суду. уже раз осужденного поручика Пирогова есть простое и грубое недоразумение. И все новое делопроизводство приамурского военно-окружного суда подлежит уничтожению!!!
Как это могло случиться?
Порой самые фантастические явления находят простое объяснение. Отыскивая с тревожным чувством поводы для безнадежной кассационной жалобы, защитник О. О. Грузенберг, не ограничиваясь последним судопроизводством, стал изучать дело с его возникновения, то есть с первого приговора временного военного суда в селе Раздольном. И при этом он был поражен открытием: обвинительный акт по «новому» делу составлял точную и дословную копию старого раздольнинского акта. В нем были лишь изменены даты и место действия: Никольск-Уссурийский вместо села Раздольного! Простой и трагический в своей простоте факт: поручика Пирогова вновь судили и дважды подводили к виселице за то же дело, по которому он уже отбывает наказание. Первый обвинительный акт превращен в стереотип, по которому приамурский военно-окружной суд мог добиваться смертной казни для Пирогова сколько угодно раз, не затрудняя себя даже новой формулировкой обвинения…
XIII. Заключение
Вот письмо, имеющее прямое отношение к истории поручика Пирогова.
«Дорогой отец!
Вероятно вам уже известно о моей судьбе, но очень важно, за что я приговорен. Я познакомился с двумя сотрудниками газеты „Уссурийский край“ и часто посещал эту редакцию. Раз я сам написал статейку, которая была потом отпечатана. Спустя немного времени, в редакции был произведен обыск, и некоторые были арестованы. Арестовали нас семьдесят человек, арестован также и один офицер, поручик Пирогов. Обвиняли нас в принадлежности к военно-революционной организации. Никаких фактов, доказательств, а устроили прямо…[218] Масса пострадала невинных, так как все обвинение основывалось на предположениях. Так, меня обвиняют на том основании, что я дружил с журналистом Телятниковым и имел сношение с поручиком Пироговым, а посему я, вероятно, состоял членом с. р. в. комитета. Как видите – только по одному предположению. И на этом основании я приговорен к… (многоточие в подлиннике. Сын не решается написать в письме к отцу настоящее слово). Я прошение о смягчении подал на имя командующего войсками о замене каким-либо другим наказанием, но надежды никакой у меня нет. Не я первый, не я последний. Жертв принесено… (пропускаем – кому. – В. К.) довольно много, и я тоже пал жертвою этих жестоких расправ. Пощады от генерала Шинкаренка никто не ждет. Прощайте, мой дорогой отец, прощайте! Любящий вас ваш сын Исаак Итунин.
Окт. 12 дня 1907 года. Гарнизонная гауптвахта, г. Никольск-Уссурийский».
Вот каким языком говорит сама действительность. Вы видите: автор письма ни перед кем не заискивает. Он пишет слова, которые мы заменили многоточием, и в сторону генерала Шинкаренка кидает простую и мужественно холодную фразу: «от него пощады никто не ждет». Да, это голос смерти, то есть самой правды… А за ним [Итуниным] следует целая толпа пострадавших в Никольске-Уссурийском от такого суда… И всем был прекращен доступ к последней инстанции…
Так творится эта неслыханная парадоксальная «закономерность», к которой нас стараются приучить в последние годы.
О количестве тех «необрадованных», хотя и невинных русских людей, которых настигла плохо разбирающаяся военная Немезида, можно судить лишь гадательно, по грубому глазомеру. И прежде всего по исключениям, подтверждающим правило. Приведенные выше эпизоды с благополучной развязкой громко кричат о страшной легкости приговора над невинными, о необыкновенной беспечности и неряшливости предварительного следствия, о странной доверчивости военных судей к показаниям охранников, провокаторов, сыщиков всякого рода, заведомых клятвопреступников, отбросов общества, нередко с отвратительным уголовным прошлым.
В июне настоящего года в Тифлисе судили шестнадцатилетнего Кутуладзе и девятнадцатилетнего Степана Гидрова, обвинявшихся в убийстве сыщика. Грозила смертная казнь. Дознание производил начальник сыскного отделения Рокогон, являвшийся и главным свидетелем. К счастью, ко времени суда этот господин, от которого, может быть, зависела жизнь мальчиков, сам уже был под стражей за «преступления по должности», и в суд для свидетельских показаний был приведен из тюрьмы под конвоем. Мальчиков оправдали[219].
В Киеве недавно группа обывателей обратилась к прокурору с жалобой на полицейского агента Эльгарта, одолевшего их шантажем, угрозами и вымогательствами в пользу пристава. Телеграмма заканчивается красноречивой фразой: Эльгарт известен как «постоянный свидетель» по полицейским делам[220].
В июне текущего года в Петербургской судебной палате разбиралось дело северо-западного отряда партии с.-р., возникшего по оговору некоего Падсюка, тоже «состоящего при охранном отделении в качестве постоянного свидетеля»[221]. На суде один из свидетелей привел секретное отношение охранного отделения, которое ему удалось добыть из производства военного суда. В нем само охранное отделение признает, что большинство оговоров Падсюка является фантастическими измышлениями с целью избавиться от каторги. Судебная палата после десятиминутного совещания оправдала всех подсудимых. Но этих радостных десяти минут подсудимые ждали… три года!
По таким данным людей арестуют с изумительной легкостью, затем с беспечным формализмом составляют обвинительные акты и предают военному суду… А сесть в военном суде на скамью подсудимых – это значит почти верное осуждение.
Мне уже приходилось ссылаться на замечательные очерки господина С. («Смертники») в «Вестнике Европы». Прекрасный наблюдатель, поставленный превратными российскими судьбами в «отличные условия» для наблюдения, автор этот с спокойной печалью и трезвою сдержанностью присматривался к «бытовому явлению». Между прочим, он задавался также вопросом: сколько невинных отправляется по зорям тюремными коридорами на задние дворы, где их ждет виселица?
Ответ его ужасен. Тюремное население – арестанты, надзиратели, начальники и, наконец, конвойные – отлично знают, кто именно из судящихся привлечен напрасно. Но… им приходится молчать. Не их дело! Их дело сторожить и водить на казнь. По словам господина С., кроме обычных подразделений (политики, уголовные, политико-уголовные, террористы, вымогатели), тюрьма знает еще широкое подразделение смертников на две группы: действительно виновные в том, за что их судят, и совершенно неповинные в деяниях, за которые придется умирать.
По наблюдениям автора, процент невинно осуждаемых и невинно казнимых среди политико-уголовных достигает чудовищной высоты. Конвойные, сопровождающие осужденных в суд, несколько раз говорили ему, что среди осужденных на смерть лишь половину составляют виновные, а другую половину невинные. «Конечно, – осторожно оговаривается автор, – здесь есть преувеличение: я думаю, что число невинных, приговариваемых к казни, редко поднимается выше трети (!), а по большей части составляет не более четверти или одной пятой».
Примем наименьшую из допускаемых автором цифр. Пусть это будет одна пятая. Двести человек на тысячу.
С начала нашего обновления число казненных превысило уже три тысячи. Значит, по этому минимальному расчету за истекшее пятилетие около шестисот человек в нашем отечестве казнены невинно (если не считать, конечно, работы военно-полевых судов). Прибавьте еще сюда переживших ужас смертного приговора и потом помилованных на вечную или долгосрочную каторгу… Голова кружится при мысли об этих страшных цифрах, из которых каждая единица есть человеческая жизнь, а за ней – невыразимые страдания отцов, матерей, целых семей.
То, что у нас теперь творится, отвратительно и ужасно. Озверевшие люди врываются в квартиры, насилуют, убивают… Останавливают на дорогах, шлют угрозы, среди белого дня входят в дома и ведут переговоры о цене вашей жизни. Сердце сжимается от ужаса при одном описании свирепого убийства семьи Быховских…
Ну, а картина судебного убийства Глускера? Что ужаснее? Страшное пробуждение, несколько минут кошмарной борьбы и смерть или недели ожидания, когда видишь, что кругом тебя смыкается сеть лжесвидетельства, недоразумений и непонимания. Потом приговор, и вам указывают вперед: вот в такой-то день и час мы придем к тебе, сведем на задний двор и задушим… И придут, и сведут. И задушат…
И вы знаете, что стоит вам добиться, чтобы пересмотрели дело, чтобы вызвали помещицу Гусеву, чтоб проверили показания лжесвидетелей Эльгартов и Падсюков, и вы будете свободны. Но у дверей вашего склепа, кроме логики военного правосудия, которая и сама по себе ужасна, стоит еще генерал Каульбарс, или генерал Ясенский, или генерал Скалон, и говорят: «Заприте дверь покрепче, чтоб его жалоб не услышал…» Кто же? Главный военный суд!
Припомните самые страшные рассказы, оставшиеся в народной памяти от древних времен, когда над бесконечными пространствами России еще шумели дремучие брынские леса, и потом сравните их с следующей бытовой картиной, которую г. С. выхватил прямо из современной действительности.
Их четверо. Один анархист и четыре деревенских мужика, осужденных невинно по обвинению в поджоге. Одного уже увели, и дело с ним кончено.
– Следующий!
Щелкнул замок секретки.
– Твое имя?
И опять беспомощный, наивный деревенский вопль.
– Не я, ваше благородие, видит бог не я! Родненькие мои, да как же так?
– Помолчи. Тебя как звать? А. Ну, хорошо… По указу его величества… через повешение. Священника примешь?
– Батюшка, перед богом, невинен я… Семья дома.
И чей-то благочестивый густой голос успокаивает:
– Ну, хорошо, хорошо… Встань на колени… Вот так… Молись… И аз недостойный иерей, властию его, мне данною, прощаю и разрешаю… Ну, встань… Вот крест… Поцелуй. Ну, так.
– Готово?
И благочестивый голос ответил:
– Готово!..
Теперь скажите: не кажется ли вам, что нет страшного рассказа, который был бы страшнее этого. И смягчается ли ужас этой смерти оттого, что эти люди встретили ее не спросонок, не неожиданно в полусознательном кошмаре и среди борьбы, а после целых недель ожидания?.. И что над ними звучит не приглушенное рычание озверевших бандитов, а холодное размеренное чтение «законного акта» и «сочный, благочестивый голос» пастыря церкви.
1910
В успокоенной деревне*
Я уехал из столицы на рождественские праздники далеко в глушь, в саратовскую деревню. Уединенный помещичий хутор, белые поля, купы деревьев, все в белом инее. Почта – в 12-ти верстах, ближайшая железнодорожная станция – в 16-ти. Газеты привозятся не каждый день, да ведь и читать их необязательно. Одним словом, – отдых среди природы! В одной стороне из-за снежных сугробов видны крылья мельницы. В другой, над оврагом, выстроились в ряд избы с соломенными крышами. Две деревеньки. Они теперь, как известно, уже «успокоены». Едешь по дороге, – попадется крестьянский меринок с розвальнями, сидящие в санях снимают шапки. Вспоминаются старые деревенские мотивы: «Вы – наши, мы – ваши».
Как-то, после Крещения, в ясное морозное утро к хутору подъехала пара саней. Шесть мужиков вошло в переднюю, отряхаются, натоптали снегу. Приехали по своему делу к хозяину хутора. Посоветоваться.
– В чем дело?
Они рассказывают. И я хочу теперь в свою очередь рассказать читателям про это небольшое, довольно обычное в успокоенной деревне «дело», не новое, не оригинальное, но все-таки поразительное. Вы читали это десятки раз, и я тоже. Но мне хочется дать вам хоть раз полную и законченную картину того, о чем и вы, и я читаем ежедневно. Я буду передавать именно так, как мне рассказано, не прибавляя ни одной черты от себя. Только, во избежание длиннот и повторений, сведу шесть рассказов в один и прибавлю к ним. еще несколько, слышанных от «сторонних свидетелей» впоследствии.
Их шестеро: три отца да три сына. Чубаровской волости, Сердобского уезда, деревни Кромщины, крестьяне: Семен Устинов Трашенков, да Семен Миронов Коноплянкин, да Созон Макаров Еткаренков.
Это – отцы. С ними – сыновья: Трашенков Павел, почти еще юноша, с красивым правильным лицом, да Коноплянкин Абрам (скуластое лицо общедеревенского типа), да еще Еткаренков Василий (лицо умное, выразительно-печальное).
С ними произошла вот какая неприятная случайность.
В дер. Кромщине живет богатый мужик Дмитрий Евдокимов Шестеринин. Мужик – хозяйственный, крепкий, из тех «сильных», на которых теперь держится правительственная ставка. Между прочим и ростовщик. В ночь с 27 на 28 октября истекшего года у него случилась покража: взломали кладовую и вытащили два сундука. Наутро сундуки нашлись в овраге, разбитые. Большая часть содержимого оказалась налицо: воры, очевидно, искали денег и ценных вещей. Шестеринин сначала показал убытки на триста рублей (в том числе долговые расписки разных лиц), потом свел до девяноста рублей. Бабы жаловались на пропажу холстин да миткаля.
Кто украл – неизвестно. Надо узнавать.
В роду у Шестерининых есть свой мудрец, Василий Вонифатьевич Шестеринин, который гадает о покражах. Позвали его, и долго вечерами в избе Шестерининых шло колдовство. «Канифатыч» раскрывает Псалтирь и читает «каку-то псалму». На левой руке у него на палец намотана нитка от клубка. На клубок надеты замок (или ключ) и ножницы. По прочтении «псалмы» Канифатыч начинает называть разные имена. На чьем имени ножницы задрожат и повернутся, тот и есть вор. Признак: с этих пор он начнет чернеть.
Колдовали несколько дней; ножницы указывали несколько имен, особенно часто вздрагивали они при имени некоего Григория Чикалова, который, надо заметить, был в ссоре с Шестериниными. Но Григорий чернеть не чернеет…
В это время по деревням много свадеб. В начале ноября на одной из таких свадеб к Шестеринину подсел Никифор Кожин, мужичонко из таких, которые смотрят в глаза богатым мужикам. Знал ли он, что на Чикалова указывают ножницы с клубком, а тот упорно не чернеет, или просто ждал угощения и с этой целью хотел сказать богатею что-нибудь приятное, только подсел этот Кожин и говорит:
– Позови меня, Митрин Евдокимыч, к себе. Угостишь, я тебе весточку скажу, о пропаже об твоей.
Кожина позвали, угостили. В благодарность услужливый человек сообщил, что он живет в экономии помещика Жданова и там же есть работник Григорий Чикалов. Так вот ему, Кожину, известно, что этот Чикалов в ночь кражи куда-то отлучался. И знает об этой отлучке Абрам Коноплянкин. Все это Кожин бессовестно лгал. Впоследствии оказалось, что в ту ночь Чикалов долго играл в карты с другим работником. Это видели все рабочие и даже староста. Но «весточка» все-таки была приятная: подтверждались указания клубка и ножниц, и свидетелем назывался Абрам Коноплянкин, состоявший в отдаленном родстве с Шестерининым. Значит, подтвердит.
После этого Шестеринин обратился к уряднику, и на сцену выступают три доморощенных Шерлока Холмса. Первый из них – сам урядник, носящий странное имя Гая: Гай Владимирович, господин Иванов. С ним – два стражника, имена которых мне сообщить не могли. Впрочем, фамилия одного из них – Борисов. Человек – грубый, грузный, тяжелый. Известен уже ранее производимыми «дознаниями». Особенно говорят о дознании в селе Алемасове. Розыскные таланты его покоятся главным образом на природных дарованиях: огромный кулак и очень грузное телосложение. «Ударит, – с ног долой. После этого вскочит на человека, топнет раз – другой, человек делается без памяти».
Эта полицейская тройка приступила немедленно к «следственным действиям». Было это вечером с 13 на 14 ноября, перед самым, значит, крещенским постом; «сильная власть» любезно явилась в дом потерпевшего Шестеринина. В этом доме – три избы. Передняя, в которой производились первые допросы. Во второй (средней) стоял самовар, водка и обычные деревенские закуски: курятина и яйца. За столом происходило обильное угощение: шестерининские бабы то и дело меняли самовары и подавали новые бутылки. В комнате было людно: кроме трех полицейских и хозяев, тут присутствовал староста (двоюродный братец хозяина, тоже Шестеринин) и двое десятских, которых потребовал урядник. Через некоторое время явились еще двое понятых, которых пригласили в середине вечера, и два подводчика[222]. Очевидно, господа полицейские и не думали облекать свои действия покровами какой бы то ни было тайны. Они были уверены и в себе, и в силе своей власти, и в своем «полном праве».
Была еще третья изба, задняя. Окна в ней были тщательно занавешены.
Прежде всего позвали предполагаемого свидетеля, Абрама Коноплянкина. Я сказал выше, что он – дальний родственник Шестерининых. Предполагалось, что «по-родственному» он сразу же сделает всем удовольствие и подтвердит извет Кожина (который был тут же).
Этот Абрам, рыжеватый парень с широким простодушным лицом, так передавал мне о своих «свидетельских показаниях»:
«Позвал меня десятский. Я пришел. В передней избе у Шестериввных встретил меня урядник и говорит добром: „Вот, Абрам, скажи, ты видал, что Григорий Чикалов уходил в ту ночь, как случилась кража?“ – „Нет, говорю, я этого не видал“. Урядник вышел в среднюю комнату. Там чай пили. Поговорили что-то между собой. Потом зовут меня. Выходят урядник и два стражника из-за стола, губы обтирают. Урядник опять спрашивает: „Говори, Абрам, ты видал, что Григорий уходил?“ – „Никак нет, говорю, не видал“. – „А как же вот Кожин говорит, видел ты. Говори, Кожин: он видел?“ Кожин говорит: „Видал. Он с нём спал вместе“. – „Нет, я говорю, я не с нём спал. Я на нижних нарах спал с Мироновым. Спросите у людей. Все знают“».
При виде такого «упорства» урядник размахнулся и ударил Абрама; потом принялись бить его втроем со стражниками. «Говори, что видал». – «Я, говорю, не видал». Урядник – опять по щеке. Я упал. Он меня давай ногами топтать. Встал с полу. Тут стражник один ткнул нагайкой в бок, черенок сломался. Потом давай раздевать меня. Я вижу, беда будет. Не дался раздевать, спутался. И говорю: – «Ну, видал. Уходил Григорий. А зачем уходил, не знаю. Может, до ветру». Меня отпустили. Сел я рядом с Кожиным. Сидим. Он ничего не говорит, и я ничего. Я весь избитый, морда в крови, болит все.
Таким необыкновенно искусным и остроумным путем получено второе свидетельское показание против Григория Чикалова. Теперь, значит, против него уже – ножницы, извет Кожина и показание Абрама. Позвали самого Григория. Его ввели прямо в среднюю избу и поставили перед всей компанией, у стола с самоваром и закусками.
– Ну, Григорий, говори: ты куда ходил в ту ночь, когда у них вот кража случилась?
– Да я никуда не ходил.
– А, ты отказываешься?
Хвать Григория по лицу кулаком, и опять принялись бить втроем. Били уже не так, как Абрама, который как-никак Шестеринину родня. Григорий «не сознавался».
– Ну, веди его в заднюю комнату!
То, что должно было происходить в задней комнате, очевидно, уже входило в область профессиональной тайны и совершалось «при закрытых дверях». Григория ввели туда, и тотчас Шестеринин-родитель и его взрослый сын навалились снаружи на двери. Оттуда послышались нечеловеческие крики. Через некоторое время дверь открылась. Вышел Григорий, шатаясь, весь избитый. Рубашка на нем была вся иссечена нагайками. Его заставили умыться. Увидя в первой избе подводчика Григория Варламова Хохлова, Григорий подошел к нему и сказал:
– Тезка, сходи к жене, принеси другую рубаху. Вишь, эту «всю иссекли».
Тот пошел.
Жена рубаху принесла, просится в избу, плачет. Ее не пустили, а Григория опять повели в заднюю комнату, откуда опять понеслись удары и крики. Так его три раза выволакивали в беспамятстве, обливали водой и принимались опять. Били, душили за глотку, рвали губы (мужики говорят: «делали исчезание» до трех раз). За третьим разом Григорий повинился: – Уходил, – говорит, – ночью воровать.
Тогда его вывели, умыли опять, посадили на лавку, – урядник поднес ему две чашки водки.
– Вот видишь, сразу бы так. Ну, теперь говори: кто с тобой был. еще, кому отдали добро на хранение?
Григорий от водки немного ободрился и говорит: – Господа, сделайте божескую милость: как же я на людей буду говорить, когда и сам я не бывал и ничего не знаю.
Тогда его повели в заднюю комнату в четвертый раз. Когда его оттуда опять выволокли и умыли, он признался окончательно и назвал еще двух: Павла Трашенкова и Еткаренкова Василия.
Рассказ этих двух молодых людей (и некоторых сторонних свидетелей) прибавляет новые черты к картине. Урядник и стражники устали. За столом они сидели уже потные, взопревшие, в одних рубахах. Угощались. Когда выволакивали избитого, то кричали: «Проходную, хозяин!» и им приносили водки. Павла урядник ударил сразу, не говоря еще ни слова, и свалил с ног, а затем, когда тот поднялся, размахнулся вторично. Павел отшатнулся. Движения урядника уже потеряли отчетливость, и он сшиб руку об стену. Это его обозлило. Он приказал: «Скрой глаза, опусти руки!» Это, очевидно, – во избежание «сопротивления при исполнении обязанностей». Увели опять в третью комнату. Здесь били сначала нагайками, но черенки у всех трех нагаек изломались. Тогда стали бить кулаками, ногами и каким-то железным прутком. Урядник приставлял к груди револьвер. Павел три раза терял сознание; три раза его выволакивали и обмывали. И это видели все присутствовавшие у Шестерининых. Под окнами собирался народ. Стражники отгоняли. Павел все-таки не повинился. Вышел он из этой переделки без образа человеческого, весь в крови и с выбитыми зубами.
Принялись за Василия Еткаренкова.
Василий – старше двух предыдущих. У него уже четверо детей. Это – блондин с широким, умным лицом; выражение – подавленное, печальное. Во время рассказа порой смолкает, опускает голову, чтобы подавить подступающие к горлу рыдания.
Когда его привел десятник к Шестерининым, усталые стражники лежали на кровати, отдыхали от работы. Урядник его спросил, потом ударил. Но стражники, преодолев усталость, поднялись с кровати и говорят:
– Нечего с нём болтаться. Веди прямо в заднюю комнату.
Здесь сразу его повалили, раздели и начали сечь нагайками.
Потом опять сказали: «Нечего его обрывками сечь. Давай так», И стали бить «так». Пинали кулаками, сапогами; урядник вскочил на него и топнул. Тогда стражник Борисов говорит:
– Эх, ты не умеешь.
Сам вскочил на лежачего и топнул два раза. Урядник – сердитый, да легкий. Стражник – тяжелый, грузный.
Василий потерял сознание.
Его тоже выволакивали три раза, обливали водой и принимались опять. В четвертый раз урядник бил один. Сначала ударил железным прутком по голове, потом приставлял к груди револьвер. Наконец выхватил шашку, размахнулся. Помещение, по-видимому, тесновато; урядник саблей расшиб икону, после чего вбежал один из стражников и отнял шашку.
Урядник после этого вышел, дыша, «как запаленная лошадь», и тоже лег на кровать, подложив под спину подушки. И здесь произошло заключительное «служебное действие». Гай Владимирович Иванов чувствовал, по-видимому, некоторую неудовлетворенность: повинился один Григорий, да и то неполно. Остальные выдержали истязание (местные жители говорят: «исчезание»), а между тем начальство уже выбилось из сил. Гай Владимирович лежал на постели «и тяжело дыхал, – уморился». Но сердце у него все горело на упорщиков. Поэтому он приказал подвести Павла и Василия к своей постели. Когда их подводили, он, полулежа на подушках, пинал их ногой. «Шибанет ногой под грудь, потом кричит: „Подходи, подходи опять! Ведите их!“ Стражники подводят, а он поднимет ногу, опять нацеливается, куда ударить, чтобы побольнее».
Ночью, под утро, истерзанных, истоптанных, избитых повезли в Чубаровку. Кто попадался навстречу этому ночному поезду, те со страхом сворачивали с дороги и крестились, оглядываясь на эти сани, в которых виднелась темная груда людей, высились полицейские папахи и неслись стоны.
«Пришлось подыматься на гору, – рассказывая мне подводчик Григорий Варламов Хохлов. – Я говорю: „Пожалуйста, ребята, сойдите маленько: не встащит ведь Лошаденка моя. Устала“. Стражники тотчас сошли, а ребята говорят: „Извини, дядя Григорий, – не сойти нам. Избиты очень“. А Василий Еткаренков говорит: „Вот теперь уже, товарищ, я чую: не жилец я. До лета не дотяну. Бить-то били, да еще ногами встанут, да прыжком. Нутренности отбили вовсе“. И заплакал».
В Чубаровке истязатели подвели итоги. Они оказались неутешительны. Ведь надо будет доставить «обвиняемых» к следователю. Кроме откровений клубка и ножниц, да оговора пьяного Кожина, у них было только вымученное сознание Григория Чикалова. Вдобавок в числе арестованных и избитых у них был Абрам Коноплянкин, – только свидетель! Пришлось несколько оформить это дело. Принялись опять за Григория, и, конечно, он скоро показал, что Абрам воровал с ним вместе. Таким образом, уже в Чубаровке этот свидетель для «законности» стал тоже вором. Затем у Григория стали требовать, чтобы он указал, куда девалось шестерининское добро. Этого, конечно, Григорий не мог сказать даже и под кулаками, так как не обладал даром ясновидения. Чтобы иметь хотя временный отдых от истязаний, он начал путать: показал сначала, что «добро» скрыл Андрей Архипов Чикалов (зять избитого уже Павла). Андрея арестовали и привезли в Чубаровку, но оговор оказался явно невероятным, и Григорий от него отказался. Его, конечно, стали опять бить. Тогда он повел всех в овраг, заставлял в разных местах рыть землю, но, конечно, ничего не находилось. Чтобы отучить его от такой лживости, ему стали рвать рот: «Засунет в рот два пальца и рвет на стороны». Григорий показал, что «добро» – в деревне Дубровке, у Лаврентия Хохлова. Отправились в Дубровку, к Лаврентию. «Давай сюда ворованное добро». Так как Лаврентий отказался, то его тоже принялись бить. Но тут…
В первый еще раз во всей этой истории нашелся, наконец, человек с некоторым гражданским сознанием, который решился стать против официально-полицейского разбоя. Дубровский староста надел свою цепь и решительно заявил, что он не дозволит бить своих односельцев.
– Подводу дадим. Можете арестовать. А бить не позволяю.
Истязатели отступили перед этим заявлением и увезли всех в Трескино, где живет пристав.
Зовут этого старосту Степан Николаев Кузнецов.
Мой невеселый рассказ и без того затянулся. Поэтому я опускаю некоторые черты, которыми, с своей стороны, сочли нужным дополнить «картину дознания» трескинский урядник и сам г. пристав (обратившие почему-то особенное внимание на Абрама Коноплянкина)… Достаточно сказать, что г. пристав нашел, по-видимому, «все в порядке» и что теперь уже можно препроводить «преступников» для формального следствия. Так, как были, избитых и изувеченных, их доставили сначала к уездному члену, а затем к судебному следователю в г. Сердобск.
Я, конечно, не знаю, насколько часто г. судебному следователю приходилось получать от приставов для дальнейшего производства полицейские дознания, подготовленные так образцово. Во всяком случае, относительно этих четырех человек было единственное, правда, очень выразительное, доказательство их вины: все они были жестоко избиты. Григорий Чикалов тотчас же отказался от всех вымученных оговоров. Это, конечно, опять огорчило урядника.
– Как же ты сам сознался?
Но Григорий, осмелевший в присутствии следователя, ответил:
– Дай-ка я тебя начну бить, да топтать, да отливать водой. Небось, и ты признаешься. Кулаки – не пироги. Тут не пожалеешь и родного отца.
Затем «обвиняемые» сослались на десятки свидетелей. Следователь отпустил всех четырех с миром, посоветовав на побои подать жалобу прокурору.
Мой рассказ кончен. Но читатель, быть может, не посетует, если я дополню его еще некоторыми «чертами нравов».
Как отнеслась ко всему этому крестьянская среда? Дом Шестерининых находится в деревне, не в глухом лесу. Все знали, что там происходит. Наконец у истязуемых есть родители, родственники, соседи.
Прежде всего о родных. Жена Григория Чикалова приносила рубаху, плакала, просила допустить ее к мужу. Ее прогнали. Один из отцов, человек храбрый, явился на место. Урядник прежде всего избил его, чтобы он не заступался за преступников. Но все-таки он остался сидеть в передней комнате с подводчиками. В один из перерывов, когда истязатели подкреплялись и отдыхали, а истязуемые умывались, он скромно подсел к стражнику (вероятно, Борисову), и между ними произошел следующий любопытный разговор.
Отец. Эх, господа. Напрасно вы это, право напрасно делаете исчезание. Не виновны эти ребята.
Стражник. Как! Ты это можешь ручаться?
Отец. Могу поручиться за своего сына вполне.
Стражник. Ну, когда так, – доставай двести рублей, клади за руки. И я тоже положу. Я тебе говорю: к утру я у твоего сына вымучу, что он признается. Тогда пропали твои деньги. А не вымучу, – твое счастье. Бери мои двести рублей.
Отец, конечно, отказался от такого поощрения стражницкого усердия. «То-то вот и есть!» – сказал стражник и отправился в заднюю комнату продолжать свое дело.
Известия о том, что делается у Шестерининых, конечно, разнеслись по деревне. По избам не спали. Бабы плакали. Подходили к дому Шестерининых, прислушивались с ужасом к стонам, глядели на плотно занавешенные окна «задней комнаты». Но «престиж полицейской власти» поднят теперь так высоко, что население давно перестало отличать в его действиях «исполнение обязанности» от самого гнусного злодейства. Поэтому, вместо «сопротивления», мужики только жались кругом дома, шарахаясь в темноту, когда открывалась наружная дверь.
Должно, быть, расходившиеся, стражники и урядник действительно внушали ужас. Подводчик Григорий Хохлов, которого позвали, чтобы везти арестованных в Чубаровку, вошел к Шестерининым как раз в ту минуту, когда урядник кричал: «Веди сюда Григория!» Он разумел Григория Чикалова, но так как подводчик – тоже Григорий, то он подумал, что это зовут на истязание его, и в ужасе кинулся, ища какого-нибудь убежища, чтобы спрятаться. Вот – истинное торжество сильной власти, прочная основа «успокоения»!
Ночью, когда, наконец, арестованных увезли, бабы шестерининской семьи принялись за уборку избы, где полицейские пили водку и лили человеческую кровь. Крови было много на полу, на стенах задней комнаты. «Барана зарежешь, – столько крови не будет», – говорил мне один очевидец. Крестьяне упорно говорят, что в избу прежде всего пустили собак, которые вылизывали кровь. Но человеческая кровь смывается нелегко: после собак шестерининские бабы долго еще мыли и скоблили, но, говорят, не отмыли и не отскоблили и до сих пор.
Наутро страшные вести подняли всю деревню. 15 ноября, в понедельник, когда урядник был у Шестерининых, ему сообщили, что собрались «старики» и требуют его на сход. Сход действительно гудел, обсуждая события страшной ночи. Всем уже было известно, что ни один из истязуемых не мог принимать участия в краже: в деревне не скроешь. Нашлись люди, видевшие каждого из заподозренных, а больше всех пострадавший Василий Еткаренков гулял на свадьбе в соседней деревне Зыбине, где мужики составили об этом бумагу с 22-мя подписями.
Урядник сначала на сход не пошел. Его звали два раза. На третий раз сход послал уже старосту, того самого двоюродного брата Шестеринина, который сидел за столом и пил водку, когда истязали его односельцев. Приказ «мира» был так решителен, что староста, робевший прежде перед своим богатым родственником и урядником, теперь оробел перед миром и пошел. Урядник, наконец, явился на сход.
Сначала он тоже несколько растерялся, почувствовал, что перехватил через край и что мужичий мир всколыхнулся.
Спустя месяц после происшествия Павел Яковлев Глухов, солидный и строгий мужик, «ходивший в волостных судьях» и сам не склонный, по-видимому, «давать потачку», рассказывал мне о том, что было, и в его голосе еще слышалось глубокое волнение.
– Я у себя на печи заснуть не мог. Думал, эти ребята к утру кончатся. «Исчезание» было страшное. Кажется, если бы у меня тройку лошадей, свели, – я бы не согласился на этакое дело. Бог с ними. А тут над неповинными чего сделали!
Мир приступил к уряднику:
– Вот, г. урядник, мы вас пригласили. Отвечайте миру: какое вы имеете полное право лить христианскую кровь? Ведь это страшное дело, – такое «исчезание». Если их подозреваете, можете арестовать, представить по начальству, куда следует: а вы у Шестеринина допрашиваете? Это вам – канцелярия? Где такие законы?
Урядник стал отрицать истязание. Но тут, среди белого дня и на миру, престиж власти упал. Один за другим выступали свидетели: десятские, подводчики, понятые, которых он пригласил вчера после первого сознания Чикалова. Все говорили открыто, с волнением и негодованием. Положение становилось неприятно.
Но сход говорил все-таки торжественно и сравнительно спокойно, спрашивая о законах и праве, а в этой области, как известно, сильная власть чувствует себя довольно свободно. Урядник ободрился и в свою очередь перешел в нападение.
– Это дело не ваше! Какое вы имеете полное право вмешиваться в действие полиции? Указы знаете? Я вас всех сошлю, потому что я исполняю службу. Вы еще не имеете полного права требовать меня на сход. За это ответите строго.
После этого урядник ушел.
Таково теперь положение в Кромщине. О потерпевших говорят, что они уже не работники. Особенно пострадал Василий Еткаренков. Настоящий богатырь по сложению, теперь он больше лежит на печи, стонет и часто плачет. На утешение моего родственника: «Ну, Василий, поправишься, вместе на охоту пойдем», он понурил голову и сказал глухо:
– Нет уж, С. А., не охотник я больше. Грудь болит, разломило всего. У сердца сосет и вот тут будто вода колышется. Все у меня отбили. С полой водой уйду и я, верно, со свету белого.
Шестерининым, особенно бабам, нет проходу. Их стыдят, при их появлении кричат: «Кровопивное семейство!» и спрашивают, как у них собаки человечью кровь лизали.
Урядник, говорят, удален, но, кажется, по другому делу. Вообще же деревенские Шерлоки Холмсы не унывают. Кажется, они считают истязание при всяком дознании необходимой прерогативой своей службы.
– В Алемасове из-за самовара я одному вовсе рот разорвал, – говорит будто бы в поучение мужикам один из этих стражников. – Ничего. Не виноват перед своим начальством остался. Потому – служба.
– И верно, – ничего им не будет! – говорил мне как-то местный мужик, сверкая глазами. – Мы, господин, народ темный. Закону для мужика на этом свете нету, и доступать его мы не умеем. У нас так: терпим-терпим, а то уже, когда сердце закипит, – за оглоблю!
– И опять виноваты остаемся, – вздохнул другой.
На этот раз, положим, сделана попытка «доступить своего закону»: отцы истязуемых 7 или 8 декабря подали жалобы прокурору в Саратове, но веры «в закон и для мужика» у возмущенного населения, правду сказать, как-то мало. Больше двух месяцев прошло с тех пор, как кромщинские псы лизали человечью кровь. Больше полутора месяцев, как подана жалоба. Но никто не торопится расследовать это вопиющее дело. Установившаяся практика смотрит на такие «происшествия» не как на преступление и вопиющее злодейство, а лишь как на маловажный служебный проступок. Несколько излишнее усердие, нимало не нарушающее деревенского «успокоения».[223]
1911
Истязательская оргия*
В № «Речи» от 16 декабря, в статье г. Базилевича, были обрисованы «порядки», царящие в псковской каторжной тюрьме. То, что отчасти описал г. Базилевич, глухо доносилось и ранее из-за мрачных стен этой тюрьмы, и, наконец, ужасающий режим разразился «естественными» последствиями: сто пять человек объявили голодовку, а начальство приняло против этого акта отчаяния свои обычные меры. Прежде всего трое зачинщиков подвергнуты порке.
Теперь предо мною номера двух местных газет: «Псковской жизни», газеты прогрессивного направления, и «Правды», органа местных «националистов». Вот что пишут в этих газетах, представляющих два противоположных течения псковской общественной мысли и зависящих всецело от дискреционной власти местной администрации.
«Псковская жизнь» сообщает лишь факты. Статья ее начинается словами: «Нами получено письмо из каторжной тюрьмы…»
В письме – потрясающие дополнения, варианты и иллюстрации к тому, что оглашено в «Речи». Точнее называются имена, подробнее излагаются события: предатель, нарочно посаженный начальником тюрьмы в камеру, чтобы раздражать ее и провоцировать какие-нибудь эксцессы, называется Плохой. Душевнобольной, которого тот же начальник лечил собственными средствами, нарочно удерживая его в той же камере, где он считал себя окруженным врагами, – Клементьев. Несчастный в конце концов покончил самоубийством, но, по одним лишь показаниям бедного маниака, подстрекаемого провокатором, перепорото розгами восемь человек. Врачи констатировали острое помешательство Клементьева…
Заключенный Николай Иванов отказался в пасху принять «красное яичко» из рук, которые запятнаны такими «христианскими» делами. На всякий беспристрастный взгляд, заключенный Иванов проявил только более искреннее и правдивое отношение к трогательному пасхальному обычаю, чем его начальник. В пасху его не пороли, но затем… его высекли уже за то, что он «не смотрел в глаза своему начальству»…
Кроме того, старший надзиратель Брюмин, явившись к Иванову в одиночку с двумя другими надзирателями, набросились на него и стали избивать, причем один из них держал за ноги, другой давил горло, а Брюмин бил шашкой, пока вся постель не была залита кровью… Это говорит заключенный… Но он ссылается на свидетеля. И этот свидетель – тюремный священник Колиберский.
В нашем распоряжении есть еще много других фактов, подобных этим и даже более ужасных. Но – пока разве недостаточно и того, что огласили местные газеты?
По каторжной анкете, приводимой г. Базилевичем, по разным причинам, вроде указанных выше, ста тридцати заключенным было дано 5625 ударов розгами.
Пять тысяч шестьсот двадцать пять!..
Жаловаться?.. В той же псковской газете сообщается, что заключенные жаловались… Это был героизм: они излагали свои жалобы самому г. Хрулеву, и тут же стоял начальник тюрьмы. Господин Хрулев человек гуманный. Газета приводит две его чрезвычайно благодушные фразы, которые, по-видимому, должны были бы утешить и тех восемь человек, которых пороли из психиатрических соображений, для пользы бедного маниака, и того Николая Иванова, которого в глухом каземате три человека (?!) душили за горло и заливали кровью. Первым, г. Хрулев сказал: «Дело прошлое, надо простить!» Второму: «Это было давно, надо забыть!..»[224]
О, я, конечно, понимаю: это г. Хрулев только поддерживал престиж власти. Может быть… вероятно… скажем даже, наверное, наедине с г. Черлениовским г. Хрулев так же гуманно и мягко сказал свое «надо простить» и истязателю… Он только не принял в соображение, что есть вещи, которые не покрываются простым благодушием. У него просили справедливости, а не прекраснодушия. А отказ в такой справедливости доводит до крайнего отчаяния.
И вот после «ревизии» господина Хрулева сто пять человек решаются голодать, а тюремный начальник напутствует их… розгами… Жестокость всегда цинична!
Таковы известия псковской прогрессивной газеты. В Пскове есть еще газета монархистов «Правда». Передо мной номер 82-й этого националистического органа (от 14 декабря). Тут есть статья: «Россия, Америка и евреи», есть нападки на елецких «кадет», «втершихся в городскую думу», вообще все, что можно обычно встретить в органах этого рода. Но есть также статья о тюремных патронатах и затем, будто обведенная траурной рамкой, бросается в глаза заметка: «По поводу порядков в нашей каторжной тюрьме».
«Когда появилась в „Псковской жизни“ первая заметка о порядках, установленных г. Черлениовским в местной каторжной тюрьме, – пишет сотрудник газеты, подписавшийся буквою И., – мы ожидали, что по поводу изложенных в ней некоторых фактов последует если не опровержение, то какое-либо разъяснение из официальных сфер, тем более что в заметке сделаны были прямые ссылки на личность главного начальника тюремного управления и на его отношение к обнаруженным ревизией тюрьмы некоторым непорядкам…
Ни разъяснений, ни тем более опровержений не последовало… что дает нам известное право заключить, что большая часть данных, приведенных в письме арестанта, соответствует действительности… В настоящее время новым подтверждением служат факты, оглашенные „Жизнию“ от 13 декабря».
Отсюда газета заключает, что начальник псковской тюрьмы, прибегая к описанным карательным и репрессивным мерам, «далеко перешел за пределы разумной и неизбежной строгости»…
До сих пор газета держится условно в пределах сообщения «Псковской жизни». Но дальше она говорит прямо от себя, что, по ее мнению, г. Черлениовский «…вполне заслуживает обращенные к нему не только со столбцов местной печати, но и со стороны всех знакомых с его тюремной деятельностью частных лиц обвинения в жестокости и полной бессердечности»…
Не принадлежа к категории лиц, «которые желали бы обратить наши тюрьмы в богадельни», автор статьи находит, однако, что «начальник тюрьмы все же должен смотреть на находящегося в его ведении заключенного… как на человека, а не как на бездушную, обреченную на безысходные страдания тварь, по отношению к которой допустимы всякие насилия и, что еще хуже, – издевательства». Поэтому, – заключает автор заметки, – «мы объявляем себя всецело солидарными со взглядами, излагаемыми по поводу деятельности г. Черлениовского в местных газетах, и разделяем выражаемое ими чувство искреннего возмущения»[225].
Итак, весь Псков знал о том, что жестокость тюремной администрации давно вышла за пределы «разумной строгости», что в тюрьме с заключенными обращаются не как с людьми, а как «с тварями». Ужасы псковского застенка, просачиваясь сквозь его стены, возбуждали в городе осуждение и негодование…
Не значит ли это, что мера истязательства переполнена? Эти ужасы вышли уже за пределы крайних политических разноречий, даже крайних политических страстей. Это мучительство и эти страдания заставляют смолкнуть политику, апеллируя ко всякому сердцу, в котором еще не вполне заглохло человеческое чувство, вызывая движение сочувствия и жалости даже к политическим врагам, чувство гнева и отвращения к таким союзникам…
Теперь Псков является ареной захватывающей и потрясающей трагедии. 15 декабря в «Псковской жизни» писали, что «голодовка в тюрьме продолжается. Некоторые из голодающих проявляют большую слабость… Тюрьму посетил жандармский офицер г. Злобин…» Этот ужас продолжает, значит, висеть над городом, объединяя общество в одном чувстве. Но что может сделать общество? Растерянная администрация предоставляет местной прессе кидать свои страшные обвинения… А в это время сто пять человек пытаются умереть, а тюремная администрация, быть может, опять розгами стремится возбудить в них охоту к жизни.
Верхотурье, Вятка, Пермь, Вологда, Зерентуй… Теперь Псков! Что это за ужасная «автономия истязательства» за этими каторжными стенами!..
1911
О «России» и о революции*
В «России» (№ 1872) в связи с псковскими событиями появилась статья, озаглавленная: «Прокламационная литература». Официозному органу угодно было поставить меня в центре этой ужасной литературы и еще более ужасной революционной интриги.
Господин Короленко, по словам «России», заявляет будто бы, что в основу своего выступления он кладет «ряд документов»… «Он забыл, однако, прибавить, что все, им рассказываемое, является буквальным воспроизведением революционной (?!) прокламации, озаглавленной „Ко всем социалистическим партиям в России и за границей от политических арестантов псковского централа“». Таким образом, продолжает автор статьи, «пред нами еще одна попытка отстоять революционные задачи»…
Начну с того, что Короленко совершенно определенно указал печатные источники (а не «документы»), которые положены в основу заметки «Истязательская оргия». Это, во-первых, статья господина Базилевича в «Речи». Это, во-вторых, местная прогрессивная газета «Псковская жизнь» и это, в третьих, местная же правая националистическая газета «Правда». Ни одна из этих заметок не составляет не только буквального, но и никакого воспроизведения «прокламации». В «Псковской жизни» была помещена не прокламация, а просто «письмо из тюрьмы». Псковская «Правда» его перепечатала, прибавив от себя, что, по ее мнению, г. Черлениовский «вполне заслуживает обращенные к нему… со стороны всех знакомых с его тюремной деятельностью частных, лиц обвинения в жестокости и полной бессердечности», что псковская администрация смотрит на арестанта не как на человека, а как на «бездушную тварь, обреченную на безысходные страдания и, что еще хуже, – издевательства».
И это «все (?!) буквальное воспроизведение революционной прокламации»? «Россия», очевидно… заблуждается: это просто свидетельское показание правой газеты, утверждающей, что тюремные жестокости вызывают негодование в обществе, независимо от «правых» или «левых» убеждений. Речь идет о самом элементарном бесчеловечии… Это крик возмущения, и «официозу» было бы небесполезно научиться, наконец, отличать такие крики от революционных призывов.
Однако раз уже «Россия» упомянула о «прокламации», которую якобы я воспроизвел буквально, то и мне приходится обратиться к этому документу. В ней политические заключенные говорят о том, что, «оторванные от родной стихии революционной борьбы», они некоторое время пытались еще бороться за свои человеческие права. Порой, «платя жизнию», им удавалось, по их словам, «приводить в замешательство своих врагов, не находивших „законных“ оснований (sic) для своих действий». После суда они очутились перед перспективой «законной» порки в центральных тюрьмах, под давлением, во-первых, «каторжного» закона, во-вторых, – еще более отягчающих его временных правил и, в-третьих, – личного усмотрения тюремщиков. Изолированные не только от внешнего мира, но и друг от друга, они «теперь думали только об одном: об устранении всяких с своей стороны поводов для применения розог».
«За все время существования псковского централа с декабря 1908 года, – говорят они, – не было сделано ни одной попытки к побегу, ни подготовки к нему. Ни разу не было ни частных, ни общих беспорядков… ни даже попыток к таковым…» А между тем по количеству наказанных розгами псковская тюрьма, по их мнению (может быть и ошибочному), занимает едва ли не первое место. Чувствуя приближение назревающей катастрофы, авторы просят по возможности сделать известным их заявление и перечисляют разные случаи беспричинных наказаний, которых мы здесь воспроизводить теперь не станем.
Так вот это и есть «революция»?..
Люди, присужденные уже к тяжким наказаниям, заявляют, что они мечтают уже только о том, чтобы их не пороли… На разных конгрессах по тюрьмоведению наши официальные представители говорят много хороших слов и развивают много правильных теорий. Но есть одна общепризнанная аксиома: меру наказания за то, что сделано до суда, определяет только суд. Тюремное начальство получает от суда людей, приговоренных к стольким-то годам. И только. Позвольте тюремщикам и с своей стороны усиливать меру наказания из политических видов, допустите в тюрьму борьбу не с поведением арестантов, а с убеждениями людей, – и вы получите именно то, что теперь происходит в России во многих местах: тюремную жестокость, растущую, как лавина. Всякая жестокость, не сдержанная во-время, всегда имеет тенденцию расти, как лавина…
И вот восставать против этого – значит затевать «революционную» интригу?!.
Мне вспоминается следующий случай. Я был еще молодым человеком, когда мой знакомый, совсем юноша, спросил меня:
– Ты знаешь, что такое революция?.. И социализм?..
– А что?
– Вот, прочитай. – И он подал мне номер «Голоса» с корреспонденцией, кажется, из Екатеринослава. Рассказывалось о заседании съезда мировых судей. Мещанин-портной искал долг с вице-губернатора. Когда съезд постановил с его превосходительства деньги взыскать, к очевидному торжеству истца-мещанина, – то один из членов съезда, старый почетный мировой судья из «последышей», демонстративно поднялся с места, заявив, что он этого постановления не подпишет и дальше участвовать в разборе дел «с революционерами и социалистами» не станет.
Это смешно. Но это и знаменательно. Тогда это была струя уходящая, теперь это струя вновь водворяющаяся. «Только при господстве революции мещане-портные и вообще простые люди могут рассчитывать на справедливое удовлетворение своих исков к господам вице-губернаторам…» – вот ведь что в сущности говорит екатеринославский «последыш»… Только революционеры могут восставать против бесцельных жестокостей, «превосходящих всякую меру разумной строгости»… Так хочет нас уверить официозная «Россия» своими киваниями на революционные прокламации, мечтающие только… об «избежании розог»…
Иначе сказать: существующий строй и свобода вице-губернаторов от оплаты счетов портного… существующий строй и жестокости в тюрьмах – неразлучны?..
К таким выводам приводит иной раз излишество охранительного усердия…
На первый взгляд это может показаться своего рода «программой» и даже довольно удобной. Мечтали о республике, – пусть теперь помечтают о простом человеческом обращении без розог… Задачи «революции» сужены и отогнаны от настоящей политики в область элементарнейших вопросов.
Да… Но зато посмотрите, как расширяется количество «революционеров». Воспроизведением революционных прокламаций приходится признавать уже статьи правой газеты, «разделяющей негодование против истязаний». Вот и г. Панчулидзев со своими саратовскими единомышленниками недавно разоблачил на суде (господина Панчулидзева судили за «клевету») истязательские подвиги саратовской полиции и излишнюю терпимость к ним саратовской губернской власти. Господин Панчулидзев, сколько нам известно, ультраправый. Однако спросите теперь саратовскую администрацию: пожалуй, окажется, что с ее точки зрения г. Панчулидзев – тайный революционер, расшатывающий основы власти разоблачением того, что для власти удобнее скрывать.
Мы позволим себе обратить сыскное внимание «России» еще на один документ революционного характера. Исходит он от… генерала Мищенко.
Имя генерала Мищенко – очень известно.
Я не считаю себя компетентным в оценке чисто военных явлений, но и для профана ясно, что среди неудач, преступлений и несчастий, составляющих в совокупности историю прошлой войны, генерал Мищенко вынес репутацию мужественного человека и талантливого военачальника. А на гражданском поприще еще не успел заявить себя так ярко, как некоторые другие генералы, далеко не столь счастливо воевавшие в Манчжурии…
Теперь генерал Мищенко состоит войсковым наказным атаманом Донской области и недавно произвел осмотр тюрем. Он нашел, кроме всяких других непорядков, также и непорядки «режима»: грубое обращение, побои, отсутствие врачебной помощи и т. д. Но особенно интересно, что генерал Мищенко, среди этих злоупотреблений, отмечает еще одно: «предъявление несоответствующих требований по отношению к политическим заключенным, сопровождающееся несоразмерным наказанием»[226].
Теперь припомните, что в ужасной прокламации, которую открыла «Россия», – под всеми печатными протестами по поводу Пскова, есть как раз и это: от политических арестантов требуют воинской выправки, и на приветствие «здорово» они обязаны отвечать: «Здравия желаем, ваше высокоблагородие». Когда они отвечали вежливо, но иначе, – их жестоко пороли…
Что же: генерал ли Мищенко заимствовал целиком свое мнение о таком образе действий из «революционной прокламации»? Или, наоборот, прокламация почерпнула это из приказа генерала, считающего, что даже «политического» врага можно победить, но не следует унижать, истязать и преследовать за убеждения; что каторга есть место сурового наказания по закону, но не беспредельных унижений и издевательства по усмотрению тюремщиков.
А «Россия» находит, что такие мнения можно заимствовать только из революционных прокламаций?
Я мог бы ограничить этим мой ответ на инсинуации официоза по поводу псковской истории. Но я вынужден еще просить места для нескольких слов по личному вопросу.
Господину из «России», скрывавшему свою фамилию под загадочной буквой Б., угодно по поводу псковской истории вспомнить историю филоновскую. Он говорит:
«Известный писатель Короленко, соблазненный успехом, который выпал на его долю в деле советника полтавского губернского правления Филонова, убитого революционным подпольем сейчас же (?) после статьи г. Короленко…» и т. д.
«Россия» повторяет уже в третий раз эту низкую клевету, которой одно время были полны десятки «правых» газет… В самый день похорон Филонова, когда я был еще в Полтаве, раздавали на улицах местную газету с «посмертным письмом Филонова писателю Короленко»… Я не жаловался тогда, что это «подстрекательство» против меня. Я только доказал в свое время и установил официально, что это письмо есть самый бесстыдный и заведомый подлог, что в нем нет не только ни слова правды, но и ни одного слова, написанного Филоновым… А затем судебное расследование доказало, что, наоборот, все, что я написал в своем открытом письме, была правда, и ее только подтвердили показания свидетелей: полицейских, священников и даже участников экспедиций, казачьих офицеров и урядников. Подтвердило ее и постановление суда… Теперь официоз продолжает пользоваться этой низкой и давно гласно опровергнутой ложью, начавшейся с подлога. С тех пор, как она опровергнута и оглашена[227], она стала ложью заведомой. Но для «российской официозной газеты» и это орудие достаточно чисто. Правда, они делают это с похвальной осторожностью: бережно держась у самых пределов законно квалифицируемой клеветы, они извиваются и шипят в сумеречной области ползучих инсинуаций, намеков и «злословия»… Выскажитесь, господа, несколько точнее и определеннее, тогда я не откажусь еще раз поднять перед обществом все это дело. И еще раз докажу, что если во всем этом мрачном клубке, начавшемся административными арестами после манифеста, продолжавшемся буйством толпы, загипнотизированной неизвестным агитатором, и закончившемся еще более мрачными массовыми истязаниями сотен людей, стоявших на коленях в снегу… Если был среди этого ужаса голос, напоминавший о законе, равном для мужика и чиновника, указывавший, хотя и без успеха, единственный законный выход; если был человек, пытавшийся стать между револьвером террориста и безнаказанностью вопиющего беззакония, – то это был только мой голос, и это был только я, столь усердно оклеветываемый вами, господа официозные писатели, – нижеподписавшийся Вл. Короленко.
24 декабря 1911 года
Дело Бейлиса*
На Лукьяновке (во время дела Бейлиса)*
Вагон трамвая доставил нас к церкви св. Феодора на Дорогожицкой, откуда мы пошли по узким, своеобразным улицам. Киев вообще стоит в разных плоскостях, но здесь, на окраинах, эта топографическая особенность становится необыкновенно причудлива. Я теперь понимаю частые известия, попадающиеся в газетах, о приключениях киевских бандитов, отстреливающихся так удачно в этих глинищах и оврагах от преследующей их полиции.
Мы приближаемся к Лукьяновке, к знаменитой отныне усадьбе Зайцева. Какой-то низкорослый сутулый человек медлительно подметает улицу перед домом. Фигура показалась мне характерной: «потомственный» мещанин старого города. Мы подходим к нему, отрываем его от полезного занятия, спрашиваем дорогу и кстати осведомляемся о том, какого он лично мнения об убийстве Ющинского Он кладет метлу на левую руку, показывает, как нам выйти на Половецкую улицу, и затем, принимаясь опять за метлу, отвечает равнодушно:
– Ну-у… что тут… Никто тут на Бейлиса не думает… Были такие, что сделали и без жидов…
Я пытаюсь спросить о ритуальных убийствах вообще, но его этот вопрос, видимо, не интересует. Он бормочет что-то, и вокруг него опять начинает клубиться подметаемая пыль.
Этот мало сообщительный человек сразу взял ноту, которая впоследствии являлась господствующей в отзывах других обывателей. Есть люди, которые непременно добиваются решить вопрос в корне: может это быть, чтобы евреи выкачивали кровь из христианских детей, или этого никогда не бывает? Для серого обывателя в данном случае вопрос стоит не так: он берет только данный факт и только в данных пределах. Погиб мальчик. Кто-то убил, безжалостно и жестоко. Говорят, это сделали евреи, потому что им нужна будто бы христианская кровь для мацы. Бог его знает, – нужна ли? Но в данном случае работали другие…
Я еще несколько раз останавливался, спрашивал о дороге и задавал вопросы. Чем ближе к самому месту страшной драмы, тем эта уверенность обывателя звучит определеннее.
Газеты отмечали, что во время судебного осмотра усадьбы Зайцева по адресу Бейлиса раздавались со стороны соседей голоса привета и участия. На суде иные тоже кланяются Бейлису.
Мы на углу Верхней Юрковской и Половецкой. Второй от угла двухэтажный деревянный домик. В нижнем этаже над дверью вывеска – «монополия».
Здесь, в верхнем этаже, жили супруги Чеберяковы. Он мелкий почтовый чиновник, безвольный и безличный. Она – особа с очень ярко выраженной индивидуальностью. У них было трое детей: мальчик Женя и две дочери. Одевала она их, особенно девочек, довольно чисто, «держала, как барышень». Старалась завести знакомства с соседями, приглашала их к себе, обещая интересное общество профессоров и врачей. Теперь, если есть что-нибудь в этом деле установленное вполне прочно, то это тот факт, что мнимые профессора и врачи были профессиональные воры. В квартире г-жи Чеберяковой был известный полиции воровской притон, и сама она осуждена за кражу.
Внизу живет сиделица монополии, г. Малицкая. Она утверждает, что в марте, около дня убийства Ющинского, слышала у себя над головой сначала детские шаги, как будто вбежал ребенок. Потом шаги взрослых, потом детские заглушенные стоны и возню.
Что-то тащили, и одно время эта возня имела такой характер, «как будто делали мерное танцовальное па». Потом что-то пронесли, все стихло. И в квартире, по показанию других свидетелей, некоторое время царил будто бы темный ужас. Боялась чего-то Чеберякова, безотчетно пугались гостьи, приглашенные к ней ночевать.
Во время судебного осмотра здесь делали опыт: вверху стучали и воспроизводили детские крики. Внизу слушали.
– Я ничего не слышу, – сказал кто-то из обвинителей Бейлиса (и, значит, защитников Чеберяковой). Но тотчас же раздались голоса:
– Слышно, слышно… Совершенно ясно.
Итак, по одной версии, убийство произошло в этом доме. Но эта версия не признана официально. К следствию ни хозяйка квартиры, ни «врачи и профессора», посещавшие Чеберякову, не привлекались…
Против дома стоит кучка любопытных посетителей, и какой-то местный житель объясняет им значение этой двухэтажной коробки в деле, интересующем всю Россию.
Мы идем за угол, по Половецкой… Направо большая прореха в заборе и невдалеке от забора хибарка. Она имеет вид какой-то опущенности и убогости. Ход из нее на Нагорную – очевидно, для удобства – в эту прореху, заменяющую калитку. Вообще здесь щели, прорехи и лазы разного рода – дело обычное.
В хибарке живут супруги Шаховские. Их профессия – зажигать фонари. Это люди бедные и опустившиеся: Шаховскую редко видели трезвой. Муж ее тоже, выражаясь
по-старинному, «непрестанно обращается в пьянстве». Кроме общей с женой профессии фонарщика, он имеет еще другую: ловит щеглов и продает их; как все люди этого типа, он склонен к созерцанию. В житейских разговорах, по-видимому, довольно бестолков. Часто отлучается из дома, и зажигание фонарей достается на долю жены. Когда Шаховская выходит вечером с лестницей на плечах, то ее нетвердая походка привлекает ироническое внимание мальчишек, которые порой ходят за ней и благодушно оказывают помощь.
По странной иронии судьбы, этой паре, далеко неустойчиво держащейся на собственных ногах, довелось служить одной из важнейших опор обвинения: муж и жена первые сболтнули о Бейлисе…
Минуем усадьбу Шаховских и идем дальше.
Навстречу беспечной походкой школьников, гуляющих в праздник, идут двое мальчиков-подростков. Один в гимназической шинели. Оба в таком возрасте, что легко могли быть товарищами Ющинского. Мы заговариваем, и юноши охотно останавливаются и даже поворачивают с нами.
Улица делает угол и ныряет между двух откосов. Направо к откосу, отделяющему улицу от усадьбы Зайцева, лепится очень высокий, но, очевидно, и очень непрочный забор, придающий улице мрачный и характерный вид. Он устроен странно, как бы в два яруса, и в некоторых местах в нем виднеются такие же недавние, как и забор, заплаты.
– Хотите посмотреть «мялья»? – спрашивает наш чичероне и указывает на щели в заборе. Мы охотно подходим и заглядываем в эти щели: о «мялах» много говорили в суде.
В щель виден двор кирпичного завода, навесы, клади кирпича. Невдалеке виднеется вертикальный столб, на столбе длинный горизонтальный шест. Тут разводили глину и мяли ее. Для этого к горизонтальному шесту запрягали лошадь, а внизу прикрепляли тяжелые колеса (кажется, от старых лафетов). Лошадь шла по наружному кругу, колеса под шестом бегали внутри и месили глину.
Когда не было работы, – это была отличная карусель… Ребята разгоняли горизонтальный шест и вскакивали на него. Это бывало очень весело. Порой выходил кто-нибудь из завода и прогонял веселую стаю…
– Вы тоже катались? – спросил я у гимназиста.
– Сколько раз!
– Зачем же вас гоняли оттуда? Кому это вредило?
– Понятное дело, – говорит он тоном мальчика, начинающего чувствовать себя взрослым, – кирпичи портили.
– Гонял Бейлис?
– Ничего подобного. Когда же ему было самому гонять? На это есть сторожа!
Этому вопросу – кто гонял? гонял ли Бейлис? – суд посвятил много времени и тонких обследований. Сами дети и большинство свидетелей утверждали, что Бейлис не гонял. Шаховские, наоборот, первые заявили, что гонял. Это послужило исходным пунктом обвинительного силлогизма: если Бейлис гонял, то мог и догнать… Если мог догнать, то мог и схватить. Если мог схватить, то мог и унести, а дальше, конечно, мог и выточить кровь. Ну, а мог, – значит, и сделал.
Первые указали на эти возможности супруги Шаховские. Сначала они сказали, что по делу ничего не знают. Потом припомнили, что им говорила старуха Волкивна, будто она видела, как за двумя мальчиками гнался человек с черной бородой. Потом человек с черной бородой определился: это был Бейлис…
Волкивна – женщина тоже пьяная. Выходит, таким образом, что двое хронически пьяных людей ссылаются на третьего, тоже нетрезвого… Вдобавок Шаховские часто меняли показания, а Волкивна не подтвердила ссылки. Она подходила, разговаривала, но о Бейлисе ничего не говорилось.
При разговоре присутствовало третье лицо – мальчишка, привлеченный, вероятно, обычным ироническим любопытством к особам, не вполне твердым на ногах. Его разыскали и спросили. Он, действительно, стоял около женщин и слушал. Но о Бейлисе Волкивна ничего не говорила. У следователя и на суде супруги Шаховские взяли странную ноту. На вопрос: было ли то-то, они отвечают: «Было». – А может, и не было? – «Не было».
Побившись с ними некоторое время, следователь г. Фененко, в руках которого это дело имело еще вид настоящей, а не «ритуальной» следственной процедуры, махнул рукой, не считая возможным арестовать Бейлиса на таком шатком основании.
Г. Машкевич, преемник г. Фененко, нашел, что «для ритуального дела» это сойдет. И когда вдобавок к Шаховским присоединилась еще семья Чеберяков, дело окончательно определилось в следующем виде.
Около мяла дети щебечут, как стая птиц. Бейлису как раз нужен младенец для мацы. Он выходит из конторы, оглядывается. Целая стайка детей (лет по 10-ти) катается на мяле… Долго ли схватить одного? Бейлис кидается, как коршун, дети разлетаются подобно воробьям, но он продолжает гнаться за двумя. Один из них, Женя Чеберяк, убегает, другой, Андрюша Ющинский, попадает ему в руки. Вот и отлично. Среди белого дня, при рабочих, которые возят глину (установлено документально!), Бейлис спокойно тащит мальчика к пустой печке., как хозяйка несет пойманного цыпленка: дело, очевидно, к спеху.
Возможно ли привлечение, арест и суд на основании обвинения, исходящего из таких предпосылок? Г-н Фененко от них отказывается. Г-н Машкевич их принимает. Бейлиса арестуют.
Мы живем в странные времена. Недавно, в связи с тем же делом Бейлиса, в Государственной думе депутат Марков живописал следующую яркую картину. Дети в яркий солнечный день играют в садике, не чуя беды… Но вот к ним (среди белого дня!) уже «подкрадывается еврейский резник с кривым ножом (!) и, наметив резвящегося на солнышке ребенка, тащит к себе в подвал».
Большинство депутатов хохотали. Тогда «оратор» стал прямо грозить погромом. И это, конечно, было единственное место речи, в котором звучало хотя некоторое правдоподобие.
Картина, изображенная г. Марковым, стала чем-то вроде эпиграфа к делу, торжественно разбирающемуся теперь на глазах у всей России: г. Машкевич опять вызвал Шаховских, опять получил от них (кажется, в один день) три противоречивых ответа. Показания Шаховских были подкреплены не менее достоверными показаниями, исходящими из дома Чеберяк. И это главное, что имеется о Бейлисе по этому делу! Остальное касается цадиков, хасидов, страшных резников с кривыми ножами, которые сторожат «играющих на мяле детей», и тому подобных мотивов в чисто марковском вкусе… Целые заседания проходят даже без упоминания имени Бейлиса…
Тон был дан. Из двух мест, о которых говорили в связи с делом Бейлиса, внимание правосудия повернулось решительно в сторону усадьбы Зайцева. Двухэтажный дом на Юрковской взят под защиту, и сомневаться в его благонадежности стало прямо опасно. В показаниях Шаховского один только раз на суде мелькнуло что-то новое. На вопрос, почему он не хочет сказать правды, он ответил угрюмо:
– Всякому жизнь мила… Меня уже били…
– Кто, кто вас бил? – встрепенулись гражданские истцы. – Вас били евреи?..
– Нет, не евреи.
Господа Мищук и Красовский посильнее. Шаховского. И, однако, стоило им только повернуть испытующий взгляд к двухэтажному дому, на который указывала молва Лукьяновки, и они потерпели полное крушение. Опасно было сомневаться в невинности «врачей и профессоров», посещавших Чеберякову… Когда я был в суде, я видел г-на Красовского уже в штатском платье и в очень щекотливом положении: господа «обвинители» настойчиво, упорно и не особенно тонко старались внушить присяжным, что он не просто бывший полицейский, а мрачный злодей, отравивший при помощи пирожного детей Чеберяковой…
В ритуальном деле можно, очевидно, так «свободно» обращаться со свидетелями, ничем в сущности не опороченными.
Зато над домом, где жила семья Чеберяковых, на глазах у Лукьяновки как будто реет некое невидимое патриотическое знамя… в суде происходят приблизительно следующие интересные диалоги:
– Скажите, свидетель, вы, не правда ли, 12 марта были заняты?
– Да, был занят, – отвечает свидетель, приведенный под конвоем.
– Вы в то время взламывали магазин Адамовича?
– Да, взламывал…
– И у вас не оставалось времени для других дел?..
– Не оставалось… был занят…
Нельзя не считать чрезвычайно своеобразным положение, при котором обвинителям приходится защищать от судебного внимания тяжко заподозренных лиц при помощи таких экстраординарных аргументов…
На Лукьяновке тоже чувствуется это заштемпелеванное отношение к посетителям и жильцам двухэтажного дома на Юрковской…
Пока мы смотрим в щели забора, к нам по Половецкой подходят один за другим новые любопытные. Сегодня воскресенье. Приезжают из города… Наша кучка становится все больше. Подходят, смотрят в щели и молчат. Что-то, очевидно, мешает общему простому и доверчивому разговору. Я нарочно не начинаю, чтобы услышать непосредственное мнение. Они молчат, потому что не знают друг друга, а предмет, очевидно, считается щекотливым.
Так шло до тех пор, пока не подошел к нашей компании человек в длинном пальто и котелке, полумещанского, получиновничьего типа. Это был, очевидно, человек экспансивный, подвижной и неробкий. В нашу молчаливую компанию он врезался, как большой шмель в стайку мух, прошел к забору, посмотрел в щель и, повернувшись, сказал:
– Ну, только я прямо говорю: тут жиды столько же работали, как и я.
Это сразу разрешило настроение, и дальше мы пошли вместе, громко разговаривая, делясь впечатлениями и жестикулируя.
– Вы знали Ющинского? – спросил я у гимназиста и его спутника.
– А как же! Приятели были. И Женю Чеберяк, и Валю, и Люду… Вон там, направо, – гофманская печь, куда Бейлис будто бы потащил Андрюшу!
– Да, среди белого дня… – замечает кто-то из старших… – Что ж он думал: другие дети не скажут?
– Конечно.
Вообще, мнение детей ярко и определенно.
Это было заметно и на суде. Ни один из свидетелей-ребят не дал показаний против Бейлиса. Ни один не повторил, будто Бейлис гонял их с «мяла» и поймал Андрюшу. На суде был такой эпизод. Какой-то бутуз говорит против г-жи Чеберяк. Г-жа Чеберяк – женщина цыганского типа, с жгучими черными глазами. На очной ставке она потребовала, чтобы мальчик смотрел ей в глаза.
– Пусть он смотрит мне в глаза… Пусть смотрит в глаза, – говорила она настойчиво и страстно. Но детские глаза свободно устремились в ее лицо, и мальчик сказал просто:
– Я вас не боюсь…
Мне рассказывали еще другой случай: вызвана девочка. Председатель спрашивает, знает ли она Бейлиса. Девочка несколько смущена и растеряна. Она ищет глазами и вдруг встречается с взглядом Бейлиса. Лица обоих освещаются улыбками добрых знакомых. Девочка кланяется «страшному» Бейлису, который гонял с «мяла» и ловил детей на мацу. Ни прокурор, ни гражданские истцы не задерживают эту явно для них безнадежную свидетельницу.
Да, дети решительно за Бейлиса…
Есть, впрочем, смутные показания, – и то запоздалые и загробные, – о Бейлисе и о том, что он гнался за Ющинским. Это сказал Женя Чеберяк, и это показание суду доставил г. Голубев, известный деятель «Двуглавого орла». То же говорила на суде Люда Чеберяк под взглядами матери. Она сама не видала. Ей говорила покойная сестра Валя…
Перед смертью сына г-жа Чеберяк наклонялась над ним, целовала его и умоляла:
– Скажи, что твоя мама тут ни при чем.
Но мальчик отвернулся к стене и сказал только:
– Ах, мама, оставь…
Я не знаю теперь в России женщины несчастнее г-жи Чеберяк. И она проявляет изумительное самообладание… Во всяком случае, это факт, из дела неустранимый: дети против нее… Дети за Бейлиса.
Мы огибаем заборы зайцевской усадьбы, проходим мимо усадьбы Марра и подымаемся на пустырь, поросший лесом.
Это усадьба Бернера и «Загоровщина», куда так влекло Андрюшу вместо училища… Трудно представить себе место, более привлекательное для детей. Гора широким склоном спускается к Кирилловской улице. Внизу, за ней, точно на плане, лежит чей-то кирпичный завод; видны навесы, высокие трубы и «мяла». За заводом – широкая синяя даль, подернутая легкой дымкой, луга, излучины Почайны и далеко, на самом горизонте, прерывистая лента Днепра. Луговой и днепровский ветер налетает сюда широкими, ласковыми взмахами.
Этот уголок видел и Андрюшу Ющинского, и Женю, и девочек Чеберяк, которых уже нет на свете. Андрюша убит, Женя и Валя умерли от дизентерии…
– Сколько раз мы тут играли! – говорит гимназист под влиянием нахлынувших воспоминаний.
– Андрюша был хороший товарищ? – спрашиваю я.
– Очень хороший. Бывало, играем с ним в солдатики или во что другое, – всегда все возвратит, никогда ничего не утащит.
Меня несколько удивила мерка нравственности в этой молодой компании, и я спросил невольно:
– А Женя Чеберяк?
– Женя таскал… И потом станет спорить: «мое».
– А очень способный был!.. Пушки умел отливать! Сделает в песке форму, растопит олово и выльет пушку… Ей-богу! Все умел сделать…
– Но был вспыльчивый. Чуть что – сейчас драться.
– Бывало, пристанет: давай, поборемся. Я говорю: уходи к чорту… – Нет, давай! Ну, я его раз так стиснул, что он только запищал.
Юноша расправляет плечи, как будто с удовольствием вспоминая о расправе с задорным товарищем и забывая, что этого товарища уже нет на свете.
– Ну, а дочери Чеберяковой? – спрашиваю я.
– Девочки ничего… Хорошо себя держали…
– Вы с ними тоже играли?
– А как же, очень часто…
Другой улыбается улыбкой взрослого над недавним детством и говорит:
– Даже ухаживали немного… Девочки были хорошие.
Здесь, на Загоровщине, разыгрался и эпизод с прутиками… Некоторые свидетели показывают, что Андрюша и Женя вырезали по прутику. Прутик Андрюши оказался лучше, и Женя заявил на него претензию. Андрюша не отдал. Женя погрозил.
– Я скажу твоей матери, что ты не учишься, а ходишь сюда.
И у Андрюши сорвались роковые слова:
– А я скажу, что у вас в квартире притон воров…
Сказал и, очевидно, забыл, и опять прибежал вместо школы на Лукьяновку… Но злопамятный Женя не забыл и передал матери, конечно, не думая о страшных последствиях этого для товарища. Может быть, во всем ужасном объеме не думала и Чеберякова… Но в это время в «работе» компании часто стали случаться неудачи: Чеберякову раз, другой, третий арестовали, делали обыски, нашли краденые вещи, таскали по участкам… А законы этой среды в таких случаях ужасны…
И вот Малицкая утверждает, что она слышала наверху возню и топот и сдавленный детский крик…
Гипотезы s этом роде невольно возникают на лукьяновской почве между заводом Зайцева и двухэтажным домом на Юрковской улице…
– Для исследования вы изволили взять шесть образчиков глины, – спрашивает на суде один из защитников у эксперта г. Туфанова. – И все шесть с завода Бейлиса?
– Да.
– И тожества ни в одном не оказалось… А со двора Чеберяковых глину брали?
– Нет, не брали…
– А! Не брали, – подчеркивает защита, Этого мотива невозможно устранить из этого поистине странного дела… Все оно пресыщено такими, вопросами и сомнениями…
Среди разговоров мы минуем большой глинистый курган, поросший травой… В нем виднеется пещера.
– Нет, это еще не та…
Та оказывается в нескольких шагах дальше, там, где начинается склон к Кирилловской улице и приднепровским лугам. Холмик разрыт… Видна обнаженная глина. Два дерева выросли на вершине холма, соединенные корнями. Под этими корнями зияет темный ход, довольно круто, коридором уходящий вглубь. В конце этот коридор пересечен узким и коротким ходом накрест, как делают обыкновенно кладоискатели… В одном из концов этого креста и нашли прислоненным в темном углу тело несчастного Андрюши Ющинского… Первая опознала его Чеберякова…
– В пещере темно, а она опознала по шитой рубашке, – иронически замечает один из юношей… VII
Назад мы возвращались более кратким путем, наискось с горки, на Нагорную улицу. Влево уходила Половецкая улица с ее высоким забором и глинистым откосом. Кое-где, утопая в этом мрачном и пустынном проезде, виднеются фонари, которые зажигали Шаховские. Страшно, должно быть, здесь в темные весенние ночи даже при свете этих фонариков. И воображение невольно рисует такую мрачную ночь, и ветер, свистящий на Загоровщине в голых деревьях, и темные фигуры людей, несущих таинственную ношу…
Кто же, кто сделал это ужасное дело?
На горку, точно на богомолье, идут одни за другими кучки людей. Поднимаются двумя рядами девочки школьницы, идут горожане, чиновники, торговцы, мещане… Вот мы встречаемся с одной кучкой, громко и возбужденно обсуждающей что-то. Они спрашивают у нас дорогу к пещере.
– Ну, вот, господа, – говорю я без дальних приступов, – вы киевляне. Скажите что вы думаете об этом деле?
– То-то, что вот… милостивый государь, – говорит один возбужденно. – Не знаем, думать. Еще недавно казалось нам одно… теперь выходит совершенно наоборот…
Компания, очевидно, до известной степени черносотенная, но и для добросовестной черносотенной массы истина становится все более очевидной. На одной стороне чувствуется живая, бытовая правда. Светит солнце, играют дети, режут прутики, ссорятся, жалуются друг на друга, по-детски грозят… Двухэтажное здание на Верхней Юрковской улице кидает тоже совершенно реальную тень на мирную картину. Его посещают люди вполне определенного склада и профессии, близость с которыми для детей всегда опасна. Здесь изобретаются планы воровства, ночных набегов и разгромов…
Обвинение предпочло этой реальной картине – фантастический бульварный роман, без всякой прочной связи с бытовой обстановкой и реальной жизнью.
– Как вы думаете, – спросил я у своего спутника, интеллигентного киевского жителя, – кому следовало бы судить несчастного Бейлиса?
– Я поручил бы судить его лукьяновцам, – ответил он.
Через полчаса вагон нес нас по улицам современного Киева, с красивыми домами, вывесками, газетами и электричеством. А в душе стояло ощущение XVI столетия.
1913
Господа присяжные заседатели*
Каждый раз, когда начинается заседание суда, повторяется неуклонно одна и та же выразительная сцена:
– Суд идет!
Публика подымается, входят судьи с цепями и занимают места за длинным столом.
Публика опять усаживается. Но тотчас же судебный пристав провозглашает вновь:
– Прошу встать!
Зал опять на ногах. Сидят только коронные судьи. Из двери налево от председателя появляется худощавый человек в черном сюртуке и светлом жилете. Он проходит быстро, даже с некоторой торопливостью, будто опасаясь, что кто-нибудь может опередить его и этим умалить его достоинство. Дойдя до скамьи присяжных заседателей, он делает полуоборот и останавливается в одной и той же позе: левый локоть приподнят на парту, стан изогнут с некоторой грацией, нога чуть заложена за ногу. В такой позе есть статуя какого-то великого человека. В правой руке у худощавого господина – неизменный карандаш, который в этом ансамбле напоминает жезл полководца или подзорную трубу адмирала.
На полминуты худощавый господин замирает. Если бы скульптор или хоть фотограф в это мгновение собирались его увековечить, он был бы, очевидно, к этому уже готов.
Так, в величавой неподвижности, он остается, пока мимо него, как солдаты, дефилируют остальные присяжные.
– Это – старшина присяжных Мельников, мелкий писец контрольной палаты.
Когда предпоследнее место занимает человек городского вида в широком сюртуке, старшина быстрым движением почти вспрыгивает на последнее место. Выходит, как будто он не просто садится, а замыкает собою какой-то загон и остается на карауле. Заседание начинается. Внимание переходит на коронных судей, на прокурора, на гражданских истцов, на защитников… Присяжные на одной стороне, молчаливый Бейлис – на другой, как бы выпадают из поля зрения.
Взглядываю по временам на эти скамьи, где сидят 12 человек, держащих в своих руках судьбу процесса. Что они делают, какие мысли выступают на их лицах, в каких жестах и движениях проскальзывают их чувства?
«Киевлянин» в одной из своих статей отмечал некоторое отсутствие достоинства, с которым старшина держится по отношению к председателю. Так как черта эта дополняется несколько комичными приемами, как бы командира над присяжными, то в общем складывается представление о мелком чиновнике, привыкшем смотреть в глаза начальству. А так как воля начальства в этом процессе, если не высказана, то выказана с подобающей ясностью, то на старшину присяжных одни смотрят с опасением, другие с надеждой отмечают, что он хватается за карандаш в тех случаях, когда можно записать что-нибудь благоприятное обвинению.
Все это, конечно, шатко и неопределенно. Нужно, однако, сказать, что и Мельников делает очень много, чтобы как будто афишировать свое отношение к делу. Подчеркнутая внимательность по адресу прокурора и гражданских истцов, величавое невнимание к свидетелям и заявлениям защиты… дают право к отзыву «Киевлянина» прибавить: старшина присяжных держится без достоинства не только по отношению к председателю.
Что касается остального состава присяжных заседателей, то общее впечатление от него именно серое. Пять деревенских кафтанов, несколько шевелюр, подстриженных на лбу, на одно лицо, точно писец с картины Репина «Запорожцы». Несколько сюртуков, порой довольно мешковатых. Лица то серьезные и внимательные, то равнодушные… двое нередко «отсутствуют»… Особенно один сладко дремлет по получасу, сложив руки на животе и склонив голову…
Состав по сословиям – семь крестьян, три мещанина, два мелких чиновника. Два интеллигентных человека попали в запасные. Старшина – писец контрольной палаты.
Состав для университетского центра, несомненно, исключительный. По этому поводу в городе много разговоров, и «Киевлянин» уже обещал в сдержанном намеке какие-то разоблачения… Все замечают, что обычный состав присяжных изобиловал в гораздо большей степени именами интеллигентных людей.
Когда при мне в зале суда заговорили об этом деликатном предмете, один господин, по-видимому, довольно компетентный, ручаясь, что здесь нельзя видеть никакого злоупотребления, объяснил дело просто. В прежние годы, действительно, состав был гораздо интеллигентнее, потому что в гораздо большей степени к исполнению этой повинности привлекался город и меньше уезд. В нынешнем году нашли нужным несколько восстановить равновесие между городом и уездами. Таким образом, общий список оказался более серым. Вот и все.
Когда же это сделано? С января нынешнего года, то есть система изменена именно в год процесса Бейлиса. Говоривший слегка покраснел. Ему, по-видимому, это соображение на приходило в голову, и он понял, к каким неудобным заключениям может подавать повод.
Этого, однако, мало. В перерыве дела Бейлиса по коридорам и по лестницам то и дело проводили арестантов в другое отделение. Оказалось, что параллельно идут заседания еще в двух уголовных отделениях, пятом и шестом (Бейлиса судят в десятом). Меня заинтересовал состав присяжных в этих отделениях, и я был приятно (или неприятно?) удивлен. Оказалось, что для суда по мелкому уголовному делу шестое, например, отделение киевского суда имеет в своем распоряжении двух или даже трех профессоров, десять человек интеллигентных присяжных и только двух крестьян. Выходит, таким образом, что то изменение, которое произошло в списках, по удивительной случайности коснулось самым резким образом той сессии и того отделения, где должны были судить Бейлиса.
Как же это вышло? Известно, между прочим, что суд производил жеребьевку присяжных для данной сессии публично. Значит, случайность, постигшая состав присяжных, судящих Бейлиса, сложилась в какой-нибудь из предыдущих стадий. У меня есть списки по трем уголовным отделениям, и они очень красноречивы. Не имея возможности в настоящей статье приводить подробные цифры, ограничиваюсь следующим грубым сравнением. На 33 присяжных пятого отделения – крестьян и мещан приходится 10, чиновников – 14; шестого отделения – крестьян и мещан – 14, чиновников – 10; десятого, где судят Бейлиса, крестьян и мещан – 20, чиновников – 4. Детальное рассмотрение этих цифр, если принять в. соображение еще дворян, лиц интеллигентных профессий, профессоров, высших чиновников и низших, приводит к выводам еще более определенным.
Откладывая подробный анализ на будущее время, заканчиваю пока следующим.
Интеллектуальный уровень присяжных, которым предстояло судить сложное дело, связанное с мировым спором о ритуале, является пониженным против среднего уровня для университетского города, и, если в университетском центре не нашлось другого кандидата в старшины, кроме мелкого писца, не умеющего с достоинством представлять институт присяжных, то это является исключительным и случайным. Совершенно понятно, что воображение местного общества встревожено и идет гораздо дальше пределов, намечаемых указанными фактами.
Как бы то ни было, близкий уже момент, когда эти присяжные удалятся в свою совещательную комнату, выйдет глубоко-драматичен и вызовет чувства чрезвычайно сложные, далеко не исчерпываемые обычным отношением к суду…
1913
Господа присяжные заседатели*
(статья вторая)
В прошлой статье я говорил о поразительном и резком отступлении от среднего интеллектуального и образовательного уровня состава присяжных, судящих Бейлиса. Об этом много говорят, пожимают плечами, недоумевают. Воображение отказывается объяснять это простой случайностью, и в кругах, – интересующихся юридической стороной дела Бейлиса, задаются вопросом, в какой именно стадии составления списков могло случиться это резкое отклонение от нормы.
Объяснений несколько. Я пока не стану вдаваться в подробное их изложение и анализ. Все они выделяют суд, производивший последний акт, жеребьевку очередных присяжных на данную сессию. Она происходила публично, на ней присутствовали лица заинтересованные, в суд щеголял особенной корректностью всей процедуры. С другой стороны, как мы видели, общие списки, составляемые на весь год, изменению не подверглись. В них естественное преобладание города Киева над уездом осталось неприкосновенным.
Отсюда следует, что данный вопрос локализируется в стадии составления и присылки суду готовых очередных списков на ту сессию, в которую попало дело Бейлиса. Говорят, что если бы просмотреть списки присяжных на всю ту серию сессии, которая совпала с разбирательством ритуального дела, то оказалось бы, что все они так же резко отличаются от среднего состава, и норма вновь восстановляется по окончании этой серии. Это, конечно, легко проверить.
В задачу настоящей статьи не входит подробный анализ этого вопроса, и я, быть может, вернусь к нему в другое время, теперь я имею в виду лишь констатировать факт, отметить толки, им порождаемые, и указать на необходимость осветить всю процедуру составления очередного списка так же всесторонне и ясно, как была освещена процедура жеребьевки; также необходимо освещение того материала, над которым она производилась.
Как бы то ни было, данный состав присяжных заседателей скоро сегодня получит поставленные судом вопросы и удалится для своего совещания. Слово этих скромных, серых деревенских людей телеграф разнесет по всему миру.
Вопрос стоит так: признают ли они при наличии указанной «случайности» существование ритуала, или даже при таких условиях они его отвергнут?
Мне невольно вспоминается другой состав присяжных, тоже по ритуальному делу и тоже очень серых, гораздо более серых, чем теперешние киевские присяжные. Они судили мултанцев. Два полуинтеллигентных человека и 10 мужиков. Правда, там были коренные мужики с предрассудками деревни, но и с крепкой, нетронутой деревенской совестью. Здесь пригородье и деревня киевская, в которой нередки отделения союзов русского народа, разъедающая агитация и националистская демагогия. И там два первых состава присяжных вынесли обвинительные приговоры, имея дело с вопиюще искаженным следственным и судебным материалом, но они не колебались, когда завеса была приподнята.
Дело Бейлиса тоже искажено ложным направлением следствия, но и оно стало ясно после суда и речей защиты. В своей реплике сегодня прокурор уже не аргументировал. Вся его речь была страстным демагогическим воззванием к чувствам племенной ненависти и вражды.
Этим подчеркнуты ожидания, какие обвинение возлагает на этот состав присяжных.
Оправдаются ли они, трудно быть пророком при таких сложных обстоятельствах и не имея уверенности, до каких пределов могли доходить «случайности». Я лично не теряю надежды, что луч народного здравого смысла и народной совести пробьется даже сквозь эти туманы, так густо затянувшие в данную минуту горизонт русского правосудия.
Правда, испытание, которому оно подвергнуто на глазах у всего мира, тяжелое, и если присяжные выйдут из него с честью, это будет значить, что нет уже на Руси таких условий, при которых можно вырвать у народной совести ритуальное обвинение,
1913
Присяжные ответили…*
Среди величайшего напряжения заканчивается дело Бейлиса. Мимо суда прекращено всякое движение. Не пропускаются даже вагоны трамвая. На улицах – наряды конной и пешей полиции. На четыре часа в Софийском соборе назначена с участием архиерея панихида по убиенном младенце Андрюше Ющинском. В перспективе улицы, на которой находится суд, густо чернеет пятно народа у стен Софийского собора. Кое-где над толпой вспыхивают факелы. Сумерки спускаются среди тягостного волнения.
Становится известно, что председательское резюмэ резко и определенно обвинительное. После протеста защиты председатель решает дополнить свое резюмэ, но Замысловский возражает, и председатель отказывается. Присяжные ушли под впечатлением односторонней речи. Настроение в суде еще более напрягается, передаваясь и городу.
Около шести часов стремительно выбегают репортеры. Разносится молнией известие, что Бейлис оправдан. Внезапно физиономия улиц меняется. Виднеются многочисленные кучки народа, поздравляющие друг друга. Русские и евреи сливаются в общей радости. Погромное пятно у собора сразу теряет свое мрачное значение. Кошмары тускнеют. Исключительность состава присяжных еще подчеркивает значение оправдания.
1913
О суде, о защите и о печати*
В Москве вышла книга г-жи Е. И. Козлининой. Называется она «За полвека» и имеет, кроме того, еще три подзаголовка: «Записки старейшей русской журналистки», «Пятьдесят лет в стенах суда» и «Воспоминания, очерки и характеристики». Каждый из этих подзаголовков способен возбудить внимание читателя. «Пятьдесят лет в стенах суда»! Сколько можно бы сказать на одну эту тему любопытного, значительного, радостного или скорбного. Ведь это – от медового месяца обновленного суда до времен Лыжина, дела дашнакцутюнов и ритуальных процессов. Какая знаменательная эволюция, сколько ярких «воспоминаний, очерков и характеристик» могло бы вырисоваться на этом фоне, если бы г-жа Козлинина умела наблюдать и добросовестно излагать наблюдаемое.
К сожалению, г-жа Козлинина отнеслась к своей задаче слишком односторонне и узко. Через всю ее объемистую и солидную по внешности книгу проходит одна господствующая нота. Это панегирик магистратуре и сатира на защиту. Почти все светлые краски ее палитры уходят на изображение магистратуры и прокурорского надзора; почти все темные ложатся на сторону адвокатуры. Некоторая часть, впрочем, достается еще на долю всесословной школы и разночинца, «преждевременно» допущенного к образованию реформами 60-х годов.
До какой наивности доходят приемы автора при распределении этой светотени, показывает хотя бы следующий пример, который я беру наудачу. «Спросите, – говорит г-жа Козлинина на стр. 164, – кто был беспристрастнейший из судей? Вам скажут: Н. П. Посников» (бывший товарищ председателя московского суда и затем прокурор судебной палаты). Чтобы обрисовать его суровое беспристрастие, г-жа Козлинина приводит следующий случай: «По делу присяжного поверенного Глаголева, судившегося в отделении Посникова за мошенничество в 80-х годах, свидетелем являлся председатель московского суда В. Н. Лавров, роль которого в этом деле была сомнительна (курсив мой). Когда допрос его был кончен и он хотел пробраться на судейские места сзади судей, Н. П. Посников обратился к нему со словами: „Свидетельские места вон там, – потрудитесь занять там место!“ И председатель покорно исполнил это его приказание».
Факт действительно красноречивый и поучительный, едва ли возможный в настоящее время. И г-жа Козлинина, для того чтобы оттенить его ярче, не жалеет другого представителя магистратуры, В. Н. Лаврова. Но каково должно быть удивление читателя, когда через восемь страниц он встречает того же Лаврова с самой похвальной рекомендацией: «Были почтенные деятели и среди товарищей председателя гражданских отделений суда, например, – С. С. Перфильев… Н. И. Белюстин и… В. Н. Лавров, около двадцати лет состоявший председателем суда» (стр. 173). Читатель, конечно, несколько озадачен. Едва ли может служить к авантажу магистратуры то обстоятельство, что человек, двадцать лет состоящий председателем столичного суда, «играет сомнительную роль» в деле о мошенничестве… И читатель непременно подумает, что тут в мемуарах что-нибудь неладно. Но г-жу Козлинину нимало не трогает это читательское недоумение: г-н Лавров в обеих, по-видимому столь противоположных, ролях годится ей для ее цели.
Впрочем, должен сознаться, я далек от судебных кругов и не стал бы занимать внимание читателя книгой старейшей русской журналистки, если бы она ограничилась подробностями чисто судебного характера, биографиями, послужными списками и фотографиями судебных деятелей. Но она задевает мимоходом два дела уже не технически судебного, а общественного значения и один вопрос чисто литературной этики. И сделала она это в связи с моим именем. Таким образом, г-же Козлининой угодно было, вместе с злополучной российской адвокатурой, повлечь и меня за триумфальной колесницей любезной ее сердцу магистратуры. Мне эта роль не нравится, и я намерен в этой церемонии произвести маленький беспорядок.
Мое имя г-жа Козлинина упоминает в своей книге несколько раз. Начну с самого маловажного, но довольно характерного последнего упоминания. Речь идет об известном в свое время и до сих пор еще не забытом деле так называемых «павловских сектантов», разбиравшемся в 1902 году в городе Сумах. По отношению к защите даже г-жа Козлинина не находит в данном случае никаких поводов для упреков. Но она, к сожалению, очень мало касается роли магистратуры, которая, однако, должна бы привлечь внимание сколько-нибудь наблюдательного и добросовестного летописца. Вся печать отмечала в свое время, что заседание напоминало скорее средневековой застенок, чем обстановку современного суда с равенством сторон. Двери суда были закрыты так плотно, что даже родители подсудимых не получили доступа в залу. Вместо ближайших родственников подсудимые имели утешение видеть «командированных различными ведомствами» чиновников, в том числе жандармского полковника от департамента полиции и господина Скворцова по синодскому ведомству. Разумеется, никакие подробности не проникли в печать через плотно закупоренные щели этого суда, кроме одной замечательной черты: между концом судебного следствия, после того как суд удалился для постановления приговора, и самым объявлением вердикта прошло более двух суток… В то время как сотня несчастных подсудимых и несколько сот родственников трепетно ждали решения своей участи, судьи развлекались, насколько было возможно в глухом городе, и… чего-то ждали. Совершенно понятно, что в обществе возникло изумительное толкование этого странного явления, проникшее даже в печать. Говорили – и обстановка делала это вполне правдоподобным, – будто приговор независимого суда путешествовал в Петербург для сведения (?) министра юстиции г. Муравьева и его высокопревосходительства обер-прокурора святейшего синода Победоносцева. Это было бы, конечно, осуществлением замечательного циркуляра г. Муравьева, гласившего, что суд должен «согласовать свою деятельность с видами правительства». И г-жа Козлинина не сочла нужным отметить хотя бы то обстоятельство, что в этих замечательных для эволюции русского суда заседаниях председательствовал один из старейших членов магистратуры, седовласый «шестидесятник» А. А. Чернявский, а от министерства юстиции был командирован И. Г. Щегловитов, ныне министр юстиции.
Какое же, казалось бы, значение, при таких умолчаниях, имеют незначительные обстоятельства, связанные с моим именем? Но г-жа Козлинина считает нужным отметить, что защита по этому делу понесла обиду. Не от суда и его порядков, а от… писателя Короленка. Упомянув (на стр. 532) о том, что Л. Н. Толстой прислал подсудимым сектантам записочку, рекомендуя в качестве защитников гг. Тесленка, Маклакова и Муравьева, г-жа Козлинина считает нужным прибавить:
«А в это же время другой видный общественный деятель, В. Г. Короленко, тоже очень интересовавшийся этим делом, писал: „К сожалению, в процессе этом отсутствует коренная русская адвокатура, и защиту взяла на себя молодежь, какие-то (оба курсива мои) Тесленко, Маклаков и Муравьев“. Правда, впоследствии он изменил о них свое мнение (какое?) и оценил их по достоинству, но тогда этот отзыв ужасно их огорчил» (стр. 533).
Госпожа Козлинина не поясняет, что собственно в моем отзыве могло огорчить гг. Тесленка, Маклакова и Муравьева и в чем мне пришлось «впоследствии изменить свое мнение». Если речь шла о том, что одиннадцать лет назад не только гг. Маклакова и Муравьева, но и г. Тесленка я позволил себе причислить к «адвокатской молодежи», то, конечно, с тех пор мне пришлось отступиться от этого взгляда: теперь они, несомненно, люди среднего возраста; а еще лет через двадцать, если я до этого доживу, мне придется, наверное, изменить мнение еще более радикально. Но ведь по этому поводу можно питать горькие чувства разве против общей судьбы человеков, которая сменяет лишь постепенно цветущие ланиты юности старческими морщинами… И уж никак не против писателя, который молодых адвокатов называл в свое время адвокатской молодежью, а не ветеранами адвокатуры. Если же обида истекала из того, что я не причислял их к коренной русской адвокатуре и употребил местоимение какие-то, то это было бы еще менее основательно, так как в моей статье этих выражений совсем не было. Да, как это ни странно, но «старейшая русская журналистка» за свою долговременную практику не успела усвоить общепринятого в литературе обычая ставить в кавычки лишь подлинные чужие слова, а не собственную слишком вольную передачу. Прочтя это место в изложении г-жи Козлининой, я сразу почувствовал, что это не я, а г-жа Козлинина выражается подобным образом. Я обратился за разъяснением недоумения к редакции «Русских ведомостей», где (в № 33 за 1902 год) была напечатана единственная моя заметка о деле павловских сектантов, и редакция любезно сообщила мне следующую выписку:
«…Защитников одиннадцать человек, причем имена перворазрядных светил адвокатского мира отсутствуют. Нет ни г. Плевако, ни г. Карабчевского, которых газеты называли в предварительных сообщениях. Защита разбивается на три группы. Во-первых, представители молодой московской адвокатуры: гг. Муравьев, Маклаков, Тесленко. Затем несколько харьковских адвокатов…» И т. д. Больше имена гг. Маклакова, Муравьева и Тесленка не упоминаются вовсе, ни о какой коренной русской адвокатуре нет речи и ни к кому из участвующих в деле эпитет какие-то не прилагается ни разу.
Каким же образом, – позволю себе спросить у старейшей русской журналистки, – названные ею адвокаты могли обидеться на меня и в 1902 году за слова, которые она за меня выдумала одиннадцать лет спустя!
Слово «выдумала» может показаться резким. Я, конечно, не утверждаю, что г-жа Козлинина намеренно выдумывала это с какой-нибудь целью. Некрасивая цитата явилась, конечно, результатом простой неряшливости ее в обращении с чужими словами и кавычками. Но это-то и характерно для этих «мемуаров»: говоря об эпизоде, полном самого драматического значения в истории русского суда вообще и нравов магистратуры в частности, – она скользит мимо самого важного и значительного, останавливается на сущем пустяке и при этом беззаботно ставит в кавычки слова, которых никто не писал. Невольно возникает вопрос: если такова точность г-жи Козлининой даже тогда, когда она цитирует «по печатному», – чего ждать от ее «мемуаров» в тех случаях, когда она делает оценку явлений более сложных, пытается читать в сердцах и ставить кавычки к побуждениям и намерениям лиц, о которых пишет?
А именно это г-жа Козлинина считает возможным делать по отношению к защитникам и ко мне лично, касаясь нашей роли в мултанском деле.
Мултанское дело – это тоже своего рода веха, отмечающая скорбный путь русского правосудия от введения судебных уставов до наших дней. Но, конечно, и здесь г-жа Козлинина не видит ничего, кроме повода для уязвления защиты. Я, конечно, не стану восстановлять перед читателем всех подробностей этого «ритуального процесса» 90-х годов и коснусь его лишь постольку, сколько это нужно для характеристики разбираемой книги, во-первых, и взаимных отношений в этом деле магистратуры и защиты – во-вторых.
«К этому же приблизительно времени, – говорит г-жа Козлинина (на стр. 452), – относится вновь усвоенная (?) адвокатурой манера раздувать уголовные процессы. Прежде всего (?) таким образом было раздуто дело мултанских вотяков, целое село которых обвинялось в принесении человеческой жертвы.
В сущности же это дело, действительно страшное, было как нельзя более просто. Язычники-вотяки, заселяющие вятские лесные дебри, и приняв православие, о котором имели самое смутное понятие, продолжали совершать свои языческие обряды, в числе которых было и жертвоприношение двурукого (?), кровь которого была нужна для совершения некоторых обрядов.
Но однажды, совершив этот обряд (?!), они оплошали и не позаботились подальше убрать труп убитого нищего, а бросили его на проселочной дороге, где на него и наткнулось случайно ехавшее начальство, которое и возбудило по этому поводу дело.
Что можно было по такому делу требовать от обвиняемых (!). Виноваты ли они были в том, что на их долю не нашлось ни церкви, ни школы, которые хоть до некоторой степени могли бы их просветить?
И что на этих дикарей не поднимется рука ни коронных, ни судей совести, – в этом, конечно, не сомневались ни известный писатель В. Г. Короленко, ни присяжный поверенный Н. П. Карабчевский, ни другие представители адвокатуры, ехавшие их защищать в Мамадыш. И в данном случае шумиха, поднятая вокруг этого дела, имела исключительно тот смысл, чтобы напомнить, что необходимо сделать что-нибудь и для этого забытого богом и людьми края.
Так и смотрела на это читающая публика и, конечно (sic), так же смотрел В. Г. Короленко. Но нечто иное усмотрели во всем этом адвокаты. Им более всего этот трезвон понравился, как великолепная реклама» (стр. 452–453)[228].
Право, сделав эти выписки, мне пришлось на некоторое время положить перо, чтобы вернуть себе возможность вести дальше беседу в серьезном и спокойном тоне. Я опять напоминаю себе, что г-жа Козлинина написала все это без должного разумения, по неряшливости и предвзятому взгляду, усвоенному, вероятно, в те времена, когда она в качестве репортера от судебного ведомства ездила в министерских поездах, в среде судебной администрации. Это не всегда проходит даром для ясности взгляда. Но даже и эти «смягчающие обстоятельства» должны же иметь пределы и не оправдывают такой степени извращения фактов.
Ведь можно сказать, не боясь впасть в преувеличение, что в этом изложении в свое время широко оглашенного дела нет ни одного слова правды. «Старейшая русская журналистка» ухитрилась не сказать, хотя бы ненароком, хотя бы случайно, хотя бы в какой-нибудь второстепенной подробности, хотя бы одну фразу, которая бы не была неправдой и извращением.
Начать с того, что в Мултане есть и церковь, и школа. Среди обвиняемых находился Кузнецов, грамотный, состоятельный торговец, ездивший на Нижегородскую ярмарку, и даже – церковный староста. На «проселочной дороге» никто мертвого тела не бросал, а найдено оно на непроходимой тропе, куда от Мултана даже не было проходу иначе, как через русские села. Но, чтобы проложить туда тропинку от Мултана, понадобился подлог плана, впоследствии разоблаченный защитой. Само собою, что и начальство там на него наткнуться не могло. Ни, о каком «двуруком» в деле не было речи (упоминалось о «двуногом», а двуногие есть и курицы). И т. д., и т. д.
Но эта путаница и беспомощная сбивчивость речи «старейшей русской журналистки» только курьезны. Иной характеристики заслуживает оценка ею роли магистратуры, печати и защиты. Г-жа Козлинина уверяет, что ни у коронных судей, ни у присяжных «не поднялась бы рука» на этих темных людей, нуждавшихся в просвещении, а не каре. И это хорошо будто бы знали и адвокаты, и Короленко, шумевшие для рекламы. Чем же тогда объясняет г-жа Козлинина то обстоятельство, что вотяки два раза были приговорены в каторжные работы? Два раза сенат кассировал эти приговоры, указывая на то, что коронный суд добился обвинения посредством ряда вопиющих правонарушений. В том числе устранением по чисто формалистическим основаниям всех свидетелей защиты. И несмотря на то, что сенат дважды признал в этом кассационные поводы, в третий раз уже другой суд (казанский) вновь повторил все указанные сенатом правонарушения, отказав защите в вызове хотя бы одного свидетеля. Это была настоящая война магистратуры с сенатом… И прямо дерзкое невнимание к категорическим указаниям высшей судебной инстанции не могло бы, разумеется, иметь места без прямой поддержки министра. Это была схватка магистратуры в ее целом с сенатом, тогда еще действительно независимым и стремившимся восстановить элементарнейшие начала правосудия и поставить преграды коррупции судебных нравов…
И у г-жи Козлининой хватает духу говорить о том, что «шумиха» поднята защитой в целях саморекламы! Это опять фактическая неправда: первые статьи, имевшие явною целью привлечь на мултанское дело общественное внимание и сделать из него cause célèbre[229], были напечатаны «Волжским вестником», имели чисто обвинительный характер и были инспирированы честолюбием прокуратуры. Защита в лице М. И. Дрягина, малоизвестного тогда частного поверенного сарапульского окружного суда, скромно и тихо делала свое дело. И если господину Дрягину одному не удалось разорвать на глазах у присяжных сеть судебной интриги, опутавшей его несчастных клиентов, то все же настоящей его заслугой, прямо подвигом, является то обстоятельство, что он сумел, наконец, довести изнанку этого дела до сената. Общество, печать и столичная адвокатура в лице Н. П. Карабчевского сделали остальное. И несмотря на то, что в третий раз обвинение совершенно незаконно было усилено еще одиннадцатью свидетелями, что защите опять не позволили вызвать ни одного, – истина выступила перед присяжными с такой же приблизительно ясностью, как впоследствии в деле дашнакцутюнов подлоги Лыжина. И вотяки были оправданы присяжными, а злой предрассудок опровергнут.
И ведь удивительно: г-же Козлининой стоило прочитать хотя бы одни только речи А. Ф. Кони и кассационные постановления сената, чтобы избегнуть курьезных и предосудительных для мемуариста заблуждений. Но г-жа Козлинина, воспевая дифирамбы магистратуре «за полвека» как соловей, закрывает глаза на очевидную истину и не замечает, что в сущности по поводу таких дел, как павловское и мултанское, уместнее было бы читать отходную великим началам судебной реформы.
Мне остается еще сказать несколько слов, pro domo[230], о той роли, которую г-жа Козлинина отводит на мою долю. «Так, – говорит она, – смотрела на это читающая публика, и, конечно, так же смотрел В. Г. Короленко».
Иначе сказать, я сам был убежден, что вотяки принесли в жертву человека, но из маниловского сожаления к темным людям (которое со мной будто бы разделяли даже «коронные судьи») лицемерно уверял читающее общество, что я не допускаю мысли о существовании кровавого обычая.
Откуда же Козлинина узнала, как я смотрел на это дело, и что дает ей право читать в моей душе и вскрывать мои побуждения? Я не знаю, как сама «старейшая журналистка» смотрит на такое защитительно-утилитарное применение печатного слова. По-видимому, в ее манере сквозит в данном случае готовность оказать мне лично некоторое снисхождение: я действовал глупо и нецелесообразно, я лгал и стучался в открытые двери, но это – из филантропических побуждений. Я должен, однако, сказать, что решительно отвергаю эту снисходительность и г-жи Козлининой, и той среды, которой она, по-видимому, является бессознательным отголоском. Я не адвокат, а профессиональный писатель, и считал бы такой образ действий настоящим преступлением. И потому ту истинно «дамскую» беззаботность, с которой г-жа Козлинина роется в моей душе, вскрывая в ней лицемерие и ложь «с благою целью», считаю для себя глубоко оскорбительной.
Темноты у нас море. И такое же море бездушного формализма. Отсюда масса судебных драм и трагедий, вызывающих часто острое сожаление к так называемым жертвам правосудия, даже виновным перед законом. Но я не адвокат, а писатель и журналист. Дело моей жизни – литература, а не судебная защита. И если я один раз выступил на судебной трибуне по вопросу, о котором писал, то это не значит, что я писал как профессиональный защитник, а, наоборот, я защищал как писатель, изучивший лучше профессиональных защитников этнографическую сторону данного явления. Не писатель в этом случае служил адвокату, а случайный адвокат стремился закрепить судебным приговором убеждение писателя. Благородная задача судебной адвокатуры – защитить невинного и сказать все, что может послужить к смягчению вины виновного. Порой – даже часто, но всегда попутно – защите удается вскрыть и общие, широко действующие условия, порождающие то или другое отрицательное явление или извращающие отношение к ним общественной совести. Но это лишь побочная и подчиненная задача защиты. Главное для нее в каждом данном деле – участь живого человека и только через нее – общие условия.
Для писателя, наоборот, главная задача – освещение общих условий и типичных явлений. В этой области он не вправе – не говорю уже: прямо солгать хотя бы из сожаления, – но даже скрыть что бы то ни было, что он считает истиной… Из сожаления к живым людям он может не вмешиваться со своим взглядом до произнесения приговора. Но когда он уже говорит печатно о том или другом вопросе общественного значения, – то это должна быть только правда и вся правда, как он ее понимает…
Я писал по мултанскому делу именно то, что думал, и взялся за защиту потому, что в том, что я писал, не было ни слова, которое противоречило бы или моему убеждению, или интересам подсудимых. Я был убежден в том, что среди народа, давно живущего одной жизнью с народами земледельческой культуры, не может быть человеческих жертвоприношений. Что такого рода обвинения всегда являются плодом темного предрассудка, поддерживаемого сознательной злонамеренностью. Что для суда просвещенной страны позорно поддаваться этому предрассудку и ставить такие дела, как было бы позорно восстановлять средневековые процессы о ведьмах.
И еще я был убежден в том, что наше правосудие, которое в идее я ставлю очень высоко, уже тогда ступило на опасный путь, на роковую наклонную плоскость, по которой оно с тех пор лишь спускалось все ниже. И для меня, как для журналиста, лишь за этими идеями общепублицистического порядка рисовалась участь девяти невинных людей, опутанных сетью судебной интриги. И так как для судебной защиты мне не приходилось поступиться хотя бы одной йотой своих убеждений, так как в интересах подсудимых вотяков важно было то самое, что нужно для иллюстрации моих публицистических взглядов… Так как, наконец, я мог принести пользу делу защиты своим прежним общением с полуязычниками инородцами и некоторым знанием их верований и быта, то я не видел причины отступить перед не свойственной мне ролью защитника. И я счастлив, что участвовал в качестве сотрудника в славном деле этой судебной борьбы адвокатуры с магистратурой. При всех инквизиционных приемах следствия, при всех неслыханных ограничениях защиты со стороны коронного суда, – присяжные разглядели истину, и сеть была разорвана. Вердикт присяжных сказал ясно: «Нет, народная, хотя бы и инородческая, масса – не каннибалы. Она лучше, чем вы ее считаете, при всей ее темноте и бесправии. Но ваш суд гораздо хуже, чем вы думали, – он пошел назад, в сторону покровительства предрассудкам, подлогам, истязаниям, инквизиционному процессу».
Госпожа Козлинина со своими дифирамбами запоздала приблизительно на четверть века.
Да, обновленный русский суд вначале был действительно орудием правового сознания и прогресса в области права. Он учил русское общество, только что вышедшее из крепостничества, новым отношениям, вытекавшим из освобождения крестьян, и внедрял в него идею равенства перед законом. Самой власти он умел внушить на некоторое время уважение своей независимостью и подчинением только закону. Если он и был органом правительства, то лишь в самом общем смысле, поскольку и правительство, проводя реформы, стояло впереди своего народа, в его рабской и рабовладельческой массе, и вводило новые начала жизни.
Эту роль и магистратура во всем ее составе, и следственная и прокурорская власть выполняли одно время с последовательностью и настойчивостью, заслуживающими уважения. Я ничего не знаю о Н. П. Посникове, о котором говорит г-жа Козлинина, но я знаю, что судьи этого типа действительно были. В Нижнем-Новгороде, например, где я поселился в середине 80-х годов, мне пришлось слышать очень много о таком председателе суда, Панове, умевшем поднять достоинство судьи в глазах общества, администрации и защиты на высоту непререкаемого нравственного авторитета.
И около того же времени Щедрин создал своего Балалайкина, который нам совершенно понятен: когда суду предстояло при помощи закона бороться с остатками крепостнических пережитков, – адвокатуре eo ipso[231] часто могла выпадать на долю их защита. А так как по взглядам и убеждениям адвокатура была, конечно, на стороне новых начал, то нередко на этой почве возникала та степень компромисса, которая не проходит безнаказанно для человеческой совести…
С тех пор многое радикально изменилось. Правительство давно остановилось на пути реформ и стало бороться с теми самыми началами, которые реформы вызвали к жизни. А общество не остановилось. И это вело к постоянным столкновениям двух течений – передового и попятного. Отголоски этих столкновений в области права заполняют собою историю суда в последние десятилетия, и тот самый министр Муравьев, которого прославляет г-жа Козлинина, при своем вступлении в министерство издал знаменитый циркуляр, в котором заявил без обиняков, что «суд должен согласоваться с видами правительства», то есть – из независимого орудия закона и права стать политическим орудием в руках каждого данного министерства, и преимущественно министра внутренних дел. А так как «правительства» были неизменно реакционны, то и суду предстояло стать орудием реакции и сопротивления очевидным требованиям развивающейся жизни.
Это повело к своего рода отбору: судьи типа Посниковых и Пановых должны были постепенно стушевываться перед судьями нового типа. «Виды правительства» поглотили сначала институт следователей и прокуроров. Потом низшую магистратуру, затем сенат. На этом учреждении, как на высокой горе, дольше всего держались еще отблески великой реформы, но, наконец, и они погасли, последними… На наших глазах сенат явно и покорно склонился перед влиянием министра юстиции… И в то же время роль адвокатуры радикально изменилась. Конечно, были и в прежнее время почтенные адвокаты, настоящие рыцари права, как есть и теперь такие рыцари права в магистратуре. Но история – великий волшебник. И в то время, как прежде она выдвигала на свет действенную роль суда в защите права, – теперь эта роль перешла к адвокатуре. Когда по всей поверхности нашей жизни кипит и пенится правительственный отлив и вся бюрократия, в том числе и судебная, в тысячах мелких и крупных бытовых столкновений противится тому, что прежде сама проводила, – на долю адвокатуры выпала тяжелая, но благодарная историческая роль: в тысячах бытовых столкновений отстаивать остатки права и защищать общество от оживающего старинного бесправия. Сама история предъявила это требование, и в живом народе нашлись силы, услыхавшие этот призыв. И вот на наших глазах происходит грандиозная перекраска, меняющая отношение тонов в картине судебных нравов. Есть и теперь Балалайкины в адвокатуре и, может быть, много. Но на первом плане общество видит не их, а целые кадры людей, борющихся за право, противодействующих судебным ужасам, отстаивающих те области жизни, где творится новое правовое будущее. Есть и Пановы в судебной среде. Но они уныло утопают в тени, уступив первый план деятелям, называть которых нет надобности… Они у всех на виду. А иной раз…
Я редко видел фигуру красивее и благороднее покойного А. А. Чернявского. Глядя на эти седые волосы, на это лицо истого шестидесятника, – трудно было представить себе этого человека в роли председателя по делу павловских сектантов, создающего сознательно и умело обстановку судебного застенка. И, однако, это было. Было и то, что этот же Чернявский направлял действия прокуратуры в третьем мултанском процессе… в качестве прокурора казанской судебной палаты. После речей защиты этот старый судебный деятель подошел в перерыв к одному из защитников и, горячо пожимая его руку, сказал растроганным голосом, не стесняясь присутствием публики, товарищей прокурора и других защитников:
– Если бы в наших судах почаще раздавались такие речи, то суд, быть может, не дошел бы до такого унижения…
И голос старого судебного деятеля, помнившего медовый месяц судебных уставов, дрожал, казалось, искренним волнением.
А через семь лет – он сам председательствовал в Сумах, на процессе павловцев.
На мултанский процесс он был специально командирован министром. После приведенных выше его слов защитнику можно было ожидать, что его доклад нарисует правдивую картину этого «ритуального» дела, где несчастные люди явились настоящими жертвами прокурорского честолюбия, и что это послужит предостережением всему судебному ведомству. Предостережением это не послужило: наоборот, обвинитель мултанцев, руководивший и чудовищным дознанием, и следствием, и даже судом, получил повышение… Несмотря на то, что в деле ясно проступили и истязания, при дознаниях, и подлоги, обвинитель вотяков г. Раевский был переведен из Сарапула в Петербург. И вот теперь, в конце эволюции, начатой мултанским и продолженной павловским процессом, мы имеем еще более яркие подлоги Лыжина в деле дашнакцутюнов… А вместо «ритуального процесса» в глухих городишках Вятского и Казанского края – дело о новом «ритуале», которое должно привлечь внимание к нашим судебным нравам всего просвещенного мира.
1913
Случайные заметки*
Соня Мармеладова на лекции г-жи Лухмановой*
Этот маленький эпизод имел место совсем недавно. Имя г-жи Лухмановой пользуется довольно широкой известностью. В последнее время эта писательница, не довольствуясь пером, обратилась также, к устному воздействию на общество: она объезжает разные города нашего обширного отечества и читает лекции о воспитании, о семье, о положении женщины, о нравственности… кажется, даже особенно о нравственности в разных областях нашей жизни. Мы лично не имели удовольствия слышать ни одной из этих лекций и потому не имеем об них собственного мнения. То, что писали по этому поводу провинциальные газеты, было по большей части весьма неодобрительно. Дело, однако, не в оценке лекций г-жи Лухмановой по существу, и потому отзывы газет оставляем на их совести. Факт состоит в том, что известная в литературе г-жа Лухманова, трактуя о разных проявлениях нравственности и безнравственности, добродетели и порока, коснулась, между прочим, и проституции.
Газеты говорят, что, рассматривая этот вопрос с высоты женских и семейных добродетелей, г-жа Лухманова была очень строга к бедным Магдалинам. Читатели помнят, быть может, некоторые черты из воспоминаний о Глебе Ивановиче Успенском, имеющие прямое отношение к данному вопросу. Покойный писатель с большим негодованием говорил о том, что он называл «бездушием добродетельных женщин» по отношению к своим несчастным сестрам. Там, где происходит какая бы то ни было купля-продажа, всегда логически неизбежны две стороны: продающая и покупающая. И, значит, вина тоже двусторонняя, даже с точки зрения самой рафинированной добродетели. Но при этом всегда есть люди, готовые склонить чашку весов не в пользу более слабой и более несчастной стороны. Несмотря на то, что одни часто (ох, как часто) вынуждены продавать свое тело тяжкими условиями жизни, а другие хотят покупать его для так называемого «наслаждения», ходячая мораль распределяет свое суждение, как подобает ходячей морали – в сторону наименьшего сопротивления. И оттого заведомые «покупатели» свободно остаются в добродетельной среде и приходят слушать лекцию г-жи Лухмановой под руку с добродетельными женщинами, а заведомые «продавщицы» ютятся в своих «вертепах», иной раз даже не зная, какие громы летят на их головы с высоты иных кафедр, на которых лекторы или лектрисы трактуют вопросы нравственности и морали…
Если верить газетным отчетам, г-жа Лухманова стала как раз на ту точку зрения, которая Успенского приводила в такое негодование. Идеализировать мир падших женщин (как это сделал, например, Гаршин в своей повести «Надежда Николаевна») нет никакой надобности. Да, это мир порока, гибели, разврата, разложения человеческой личности, быстро и страшно извращающий женскую душу. Однако – какова связь между этим разложением личности и самым явлением? Где тут причина и где следствие? Потому ли женщина попадает в эти ужасные условия, что она лично, по натуре, роковым и прирожденным образом склонна к пороку, или она становится порочна вследствие условий воспитания, нищеты, невежества, наконец, нередко, быть может, и прямо под давлением бремени, тяжкого и неудобоносимого, наложенного жизнью на слабые плечи?..
Газеты говорят, что г-жа Лухманова очень решительно и очень непреклонно стала на первую точку зрения, и с высоты кафедры, занятой женщиной-писательницей и моралисткой, сыпались громы осуждения на головы «несчастных». «Добродетельная дама, – читаем мы, например, в „Волыни“, откуда я заимствую эти фактические сведения[232], – уверяла аудиторию, что проституция – продукт женской (личной?) испорченности, а проституток называла „тварями“, „животными“ и тому подобными милыми словечками…» В евангельском рассказе о суде Христа над блудницей, к сожалению, не говорится ничего о том, были ли в толпе, окружавшей Христа, также и женщины. Во всяком случае не было ни одной г-жи Лухмановой, иначе едва ли предложенье Христа «первому бросить камень» осталось бы без соответствующего отклика…
Итак, г-жа Лухманова решительно осудила «тварей» и «животных», вероятно к большому удовлетворению добродетельных слушательниц и даже «слушателей»… Была, однако, среди слушательниц почтенной лекторши одна, которая не только не согласилась с ее выводом, но и позволила себе прислать печатное «возражение».
Это была… Соня Мармеладова из романа Достоевского. «На другой день после лекции, – читаем мы в „Волыни“, – в редакции местной газеты было получено письмо следующего содержания:
„Облегчая свое сердце, переполненное горечью несправедливых укоров по адресу нас, несчастных женщин, попрошу выслушать мою исповедь – защиту от того клейма, которое публично в своей лекции г-жа Лухманова накладывает, без разбора, на всех женщин, не устоявших в борьбе за свою жизнь и брошенных судьбой в проституцию, или иначе, принужденных продавать свое тело.
Судьба моя не сложна, и я могу рассказать ее вкратце. Я дочь слесаря, работавшего в одной из мастерских Харькова за 80 коп. в сутки. Я была старшею в семье, а после меня два брата и две сестры. Мать умерла, когда мне было 13 лет; после этого отец отправился в Севастополь, в надежде получить более выгодный заработок, и вот уже 6 лет, как о нем нет никаких вестей; умер ли он, или жив – не знаю. Эти шесть лет я выстрадала: голод, холод и самую отчаянную нужду. Чтобы не умерли с голоду мои сестренки и братья, еще малые, я поступила на табачную фабрику, где мне за день работы с 6 часов утра до 6 вечера, платят 25 коп., и я в месяц зарабатывала до 7 рублей, если нет только праздников, и эти деньги покрывали наши нужды. Но пять человек, которым надо одеться, кормиться и жить под крышей, в какой-либо конуре, как ни ухитрялись, как ни старались привыкнуть меньше есть, штопать дыры и прорехи и греться, где только возможно, – не могли долго вынести. Я, видя и слыша плач своих братишек, билась во всю мочь, напрягая свои силенки. Придя с фабрики, носила соседям воду из колодца за 50 коп. в месяц, мыла белье, если попадалась такая работа, но изнемогла совсем. По совету добрых, участливых людей ходила в разные харьковские общества помощи нуждающимся. Просила какого-нибудь места, как немного грамотная, служить хотела, но везде неудача: то обещали, то жалели, что нет у меня аттестата и т. п., а нужда добивала жизнь моих бедных сестер и братьев. Что делать? Я теряла голову. Надежд никаких. Читала я когда-то, еще в школе, что блажен тот человек, который жизнь свою отдаст за ближнего или друга своего…“»
И вот дальше… обыкновенная история, с которой читатель знаком давно в изображении Сони Мармеладовой… «Ибо, – позволю себе привести слова старого пропойцы Мармеладова, – обращусь к вам (добродетельные моралистки) с вопросом приватным: много ли может, по-вашему, бедная, но честная девица честным трудом заработать?.. 25 копеек в день, сударыня, не заработает, если честна и не имеет особых талантов, да и то рук не покладая работавши… А тут ребятишки голодные»… «А тут уж Дарья Францовна, женщина злонамеренная и полиции многократно известная, раза три через хозяйку наведывалась…» И вот, «этак часу в шестом, Сонечка встала, надела бурнусик и с квартиры отправилась, а в девятом часу и назад пришла… Ни словечка при этом не вымолвила, а взяла только большой драдедамовый платок, накрыла им совсем голову и лицо и легла на кровать лицом к стене и только плечики да тело все вздрагивают…» После чего, как известно, один добродетельный человек в амбицию вломился: «Как, дескать, я с такой в одной квартире буду жить…»
Это, впрочем, все в романе. Та Соня Мармеладова, которая позволила себе прислать «возражение» на лекцию известной моралистки г-жи Лухмановой, не умеет, очевидно, описывать так ярко, как Достоевский, и потому в ее письме сказано только, что она «вышла на улицу и отдалась первому прохожему, но утерла слезы братьям и сестрам. И с той поры, – продолжает она свою исповедь, – уже третий год, с восьми часов, придя с фабрики, которой я все-таки держусь, иду на улицу, в город. Один брат поступил в учение к сапожнику, другой дома, а две сестры одеты, по воскресеньям идут в воскресную школу, а в будни у печки стряпают и моют белье…»
Конец этой истории, как видите, значительно отличается от того, какой Достоевский придумал для своей Сони. Последняя, как известно, встречается с Раскольниковым, и перед ними мелькает впереди свет искупления, оправдания и новой жизни. Очевидно, даже «мучительный талант» Достоевского почувствовал потребность смягчить ужас действительной жизни. И хотя в этом есть несомненная художественная правда, но действительная жизнь в подавляющем большинстве случаев остается чужда этому снисходительному смягчению. «Имя и фамилия несчастной девушки, – сказано в „Волыни“, – приведены были полностью. Навели справки: автор письма действительно служит на фабрике и содержит „на свои средства“ целую семью…» Таким образом, перед нами своеобразное смешение, по-видимому, совершенно несходных элементов: порок и грязь бьются у самого порога семьи. И сколько нужно нравственной силы, чтобы не дать грязному потоку хлынуть за этот порог, где «брат учится ремеслу, а сестры работают у печки и читают книжки, готовясь к воскресной школе». И сколько таких девушек, которым никто не протянет руку помощи, никто не поможет избавиться от этого тяжкого бремени…
Свое письмо эта Соня Мармеладова действительной жизни заключает пожеланием, чтобы, вместо огульного осуждения, строгие моралистки, вроде г-жи Лухмановой, принимали в соображение еще многое другое, кроме испорченности этих «тварей».
И нам кажется, что эта дерзкая возражательница права. Мы знали до сих пор о скорбно негодующем заступничестве Успенских, Достоевских, Толстых… Мы со слезами на глазах читали рассказ Достоевского о том вечере, когда Соня Мармеладова лежала, завернувшись с головой в драдедамовый платок, и как при этом вздрагивали ее плечики. И никто, даже Катков, даже кн. Мещерский не смели восставать против Сони Мармеладовой в романе и против того чувства, которое автор будил этим изображением в читателе. Теперь Соня Мармеладова из действительной жизни просит примерить к ней, к ее собственному положению эти наши чувства и эти вычитанные взгляды… И мы полагаем, что на это она имеет право и что вообще в этой своеобразной полемике неожиданная возражательница более права, чем г-жа Лухманова со всею своею «строгою моралью», направленной, к сожалению, столь явно «в сторону наименьшего сопротивления»…
Июнь 1904 г.
Новые возражатели*
Небольшой эпизод, рассказанный в предыдущей заметке, невольно вызывает один вопрос, связанный с некоторыми характерными особенностями нашей современности… Ведь вот эта бедная девушка не только пошла на лекцию, в которой трактовался предмет, так трагически касавшийся ее собственной жизни, не только заплатила за вход и внимательно выслушала все горькие для нее сентенции лекторши, но еще у нее явилось побуждение ответить, возразить, подать голос из глубины своего падения на интеллектуальные высоты, где образованные господа и дамы вели разговор о добродетели и пороке. И она прибегла к помощи местной газеты. Если даже допустить, что она не сама написала это «письмо в редакцию» (хотя… отчего же и нет?), если даже ей составил кто-нибудь письмо совершенно так же, как добрые люди пишут «письма из деревни», переводя на грамотный язык горькие излияния женского сердца, – то ведь и в этом случае нужно немало собственной инициативы и желания отозваться на обсуждаемый вопрос, чтобы мужественно отослать в редакцию эту автобиографию, не скрыв даже своей фамилии…
Явление, несомненно, новое, и возражение довольно неожиданное. И вот, вопрос состоит именно в том, – почему это так ново и так редко?
Правда, в «возраженьях» и «опроверженьях», как и в литературных процессах, пресса наша не только не чувствует недостатка, но, пожалуй, терпит от некоторого их излишества. «Россия такая чудная страна, – писал когда-то еще Гоголь, – что если скажешь что-нибудь об одном коллежском асессоре, то все коллежские асессора от Риги до Камчатки непременно примут на свой счет…» И действительно – возражают, опровергают, обижаются, тащат в суд у нас часто и охотно. Возражают господа исправники, пристава, акцизные, священники, учителя, возражают за себя лично и от лица сословий, классов, должностей, мундиров… Но среди этих возражений и опровержений наблюдатель русской жизни не встречает ничего, или почти ничего, исходящего от так называемых «низших сословий»…
А между тем, – почему бы?.. Правда, когда-то в старину люди этих «низших сословий» назывались прямо «подлыми». «Людей подлого звания не убить и не увечить», – этого было тогда достаточно для тогдашнего чувства справедливости: разумеется, об оскорблении чести человека, который уже с рождения признавался «подлым», не могло быть и речи. Старинные законы считали «бесчестье» (нынешнюю клевету, брань и диффамацию) наказуемым прямо пропорционально окладу жалованья, получаемого обиженным. Человек, не имевший благородного званья и не получавший жалованья, тем самым ставился вне действия этого закона.
Великая освободительная реформа уничтожила «подлое звание», и с тех пор законы пишутся для всех одинаково. В том числе, разумеется, и законы о клевете в печати, злословии, брани и пресловутой диффамации.
Но одно дело – существование закона, другое – фактическое его применение. До сих пор еще пережитки старины, воспоминания о «благородстве» одних и безнадёжной «подлости» других живы в наших нравах и отражаются даже в печати, которая призвана бороться и вытравлять из жизни эти действительно подлые пережитки… Когда-то, непосредственно после реформы, покойный Фет «наполнял страницы „Русского вестника“ „злословьем и бранью“ по адресу своего бывшего крепостного, а в то время уже вольного и „равноправного“ человека, Семена. Каждый шаг этого злополучного субъекта заносился в дневник помещика-литератора и затем обсуждался печатно самым беспощадным и язвительным образом. И я уверен, что если бы современный юрист просмотрел эти писания Фета, то нашел бы в них материал для беспроигрышного процесса „по жалобе бывшего крепостного крестьянина Семена на отставного гвардии корнета Афанасья Шеншина в клевете и оскорблении в печати…“»
Но, разумеется, «наглость» этого безнравственного Семена до такой ужасной степени не доходила. И даже лет тридцать спустя тот же самый Фет самым беспечным образом обвинил жителей целой деревни (с точнейшими указаниями) в том, что они воры, разбойники и поджигатели. «Неужели и этим поджигателям, – спрашивал он в „Московских ведомостях“, – тоже выдадут казенную ссуду?..» Обвинение было опровергнуто по пунктам, но не самыми обиженными, а земским начальником… И никому опять не приходило в голову, что эта легкомысленная клевета могла бы при другом объекте повлечь за собою несколько месяцев тюремного заключения для автора. Просмотрите еще теперь с этой точки зрения страницы любой газеты, и вы увидите, как она осторожна по отношению ко всем сословиям, кроме «низших». Что же говорить, например, о «Гражданине», чуть не каждый номер которого содержит очень точно квалифицируемую «клевету» или хоть «злословье и брань» по адресу меньшего брата с самыми определенными нередко указаниями.
И это, конечно, имеет свои глубокие причины. Одна из них – разобщенность печати и массы. Для фетовского Семена, для обличенных им «поджигателей», для жителей той или другой деревни, относительно которой «пишут князю Мещерскому» многочисленные его сотрудники из господ земских начальников, печать есть что-то отвлеченное, далекое, почти фантастическое, и оскорбление в печати, если они и узнают об нем, не будит никаких рефлексов… А это в свою очередь отражается на приемах печати…
В нашем архиве есть один очень характерный эпизод из этой области и относится он не к «Гражданину» или «Московским ведомостям», а к либеральной провинциальной газете. Было это года три назад, в Самаре. В то время в «Самарской газете» писал фельетоны некто г. Б. (так начинался его псевдоним), человек, по-видимому, очень развязный. За отсутствием ли материала, или теснимый «опроверженьями» и «возраженьями» со стороны культурных обывателей, фельетонист направил стрелы своего остроумия «в сторону наименьшего сопротивления» и избрал предметом своей сатиры рабочего, да еще татарина, Мухаметзяна Ахметзянова. Татарин этот служил на городском элеваторе и по воскресеньям обучался русской грамоте в воскресной школе. В то время, о котором идет речь, общество взаимного вспомоществования ремесленников, открывшее воскресную школу, разослало своим членам извещение о возобновлении занятий с 15 октября, причем, называя их на печатных бланках «Милостивый государь», сообщало о дне обычного в таких случаях молебствия. Татарин Мухаметзян Ахметзянов тоже получил это приглашение.
Откуда фельетонист узнал об этом, сказать не можем, но только самый факт, что рабочий назван «милостивым государем», – а татарин получил приглашение на молебствие, – показался господину Б. необычайно «смешным», и он подверг его некоторой «обработке». Сообщив предварительно, что Ахметзянов слыл будто бы под кличкою «немца», фельетонист нарисовал затем целую картину прихода почтальона на элеватор и чтения самого письма, причем обращение «Милостивый государь» вызвало, будто бы, общий хохот среди рабочих, а сам «немец» вел себя совершенным паяцем и дураком. «Скорчив пресерьезную мину и ударяя себя перстом в грудь, он слог за слогом, медленно и торжественно произнес: „Мы-ло-сты-вой государь!“ – после чего повернулся к присутствующим спиной, руки в боки и важно так удалился…»
Написав все это, фельетонист совершенно спокойно перенес свое остроумие на другие предметы, в полной уверенности, что осмеянный им татарин, как существо безгласное и безличное, или совершенно не узнает о фельетоне, или, если узнает, то останется нечувствительным к этому вороху коротеньких строчек, проникнутых беспредметной смешливостью по адресу живого человека. Оказалось, однако, что газета не только попала на элеватор, но была там прочитана со вниманием и дня через два редакция (тогдашняя) была неприятно удивлена, получив с элеватора «возражение» за подписью Мухаметзяна Ахметзянова, написанное с большим достоинством и тактом.
«Я действительно (писал этот скромный человек) состою учеником воскресной школы, открытой самарским обществом взаимопомощи ремесленников, и получил от правления общества письмо. Но при этом никаких нелепых телодвижений я не совершал, равно как ничьего хохота при чтении письма не раздавалось… письмо мне читал заведующий элеватором, и других служащих при этом не было.
Точно так же „немцем“ (или, как остроумно выражается автор фельетона, „нимса“) никто меня не называл. Сам я тоже не называл себя „нимса“, ибо ничего позорного (можно бы прибавить и смешного) в том, что я татарин по рождению, не вижу… Я очень благодарен правлению названного общества за то, что оно дает мне возможность учиться по-русски, равно как доволен и тем, что оно, обращаясь ко мне, маленькому человеку, употребило выражение „Милостивый государь“, а потому не придал никакого значения тому обстоятельству, что правление пригласило меня, природного мусульманина, „на молебен“, тем более что, во-первых, это меня ни к чему не обязывало, а во-вторых, произошло это, вероятно, потому, что правление, рассылая извещения всем ученикам школы, не сочло нужным посылать мне таковое в особливой редакции…»
Таким образом, читатели газеты узнали, что вся эта сцена с гоготаньем и кривляньем, в которой рисовалась какая-то полудикая толпа рабочих, а Мухаметзян Ахметзянов изображался полуобезьяной, явилась плодом вдохновения фельетониста. Правда, на этот раз уже несомненно, что письмо писал не сам Ахметзянов, только еще «обучавшийся русскому языку в воскресной школе». Кто бы, однако, ни составлял письмо – товарищ рабочий, знакомый студент или заведующий элеватором, – несомненно все-таки, что на этот раз газета получила урок элементарного такта и даже либерализма и что урок этот исходил из рабочей среды, оскорбленной печатным отзывом.
Итак, – «падшая» девушка в Харькове напоминает об элементарной гуманности просвещенной лектрисе; рабочий из самарского элеватора читает лекцию терпимости и такта либеральной газете. Нет сомненья, что эти два случая можно бы дополнить и другими иллюстрациями, хотя все-таки их еще слишком мало. Тем не менее, мы считаем их внутреннее значение гораздо более важным, чем их количество, которое, несомненно, будет расти. До сих пор печать разговаривала о народе так, как говорят о нем между собою просвещенные люди, не принимающие во внимание «людей», стоящих за стульями. Теперь есть уже признаки, что это должно измениться. Книга, газета, даже журнал уже проникают в широкие массы, и нет сомнения, что мы накануне некоторых, быть может даже очень существенных, «поправок» и «возражений» из этой до сих пор для нас безличной и часто безразличной массы. А если это так, то нам придется и самим идти навстречу этим «поправкам». И несомненно также, что это будет в интересах человечности и правды, а стало быть, и в интересах самой печати…
И значит, – новым возражателям, как их ни мало еще, – привет!
1904
Морской штаб «на мирном положении»*
Н. А. Демчинский в «Слове» рисует жанровую картинку, которая от наших тревожных дней после Порт-Артура, Ляояна, Мукдена и Цусимы, переносит воображение к добрым старым временам дореформенной обломовщины. Вы, конечно, помните: «Можно было пройти по всему дому насквозь и не встретить живой души…» И далее: «Это был какой-то всепоглощающий, ничем не победимый сон, истинное подобие смерти…» Это из гончаровского «Обломова»[233].
Теперь послушайте, что рассказывает г. Демчинский уже прямо с натуры. Известно, что г. Демчинский – человек предприимчивый и беспокойный. Одно время он весь был поглощен предсказаниями погоды, которая, однако, решительно не оправдала его ожиданий. После этого он обратил свое внимание на предметы, более доступные человеческому воздействию. Он составлял проекты реформ, писал о войне, порицал Куропаткина и хотя, как русский человек, не мог обойтись без неумеренных (для равновесия) славословий по адресу других генералов, но все же в общем, по-видимому, несколько ожесточился, и его статьи последнего времени писаны уже не пряно-патриотической водицей, а уксусом и желчью.
В таком настроении г. Демчинский отправился в один прекрасный день в главный морской штаб, чтобы навести справки по одному действительно интересному предмету. Дело в том, что, по распоряжению главного морского штаба, семьи офицеров, участвовавших в цусимском бою, лишены выдававшегося им прежде содержания…
Эта «гуманная мера» практиковалась уже и ранее. В газетах много раз отмечались случаи, когда жены офицеров узнавали о смерти мужей на полях битв именно от полковых казначеев, которые, «за выбытием из строя по случаю смерти», сразу прекращали осиротелой семье содержание… Таким образом, жены и дети оставались сразу не только без мужей и отцов, но также и без всяких средств к существованию. Это приказное бездушие вызывало в свое время негодование всей печати, и в газетах появилось «компетентное сообщение», что против него уже приняты соответствующие меры. Мы не знаем в точности, как отразились эти меры на сухом пути, но относительно семей моряков влияние их выразилось в формах довольно неожиданных: прежде шла речь о лишении содержания семей офицеров, заведомо убитых; теперь, после цусимского боя, содержание прекращено и семьям живых. Штаб знает достоверно, что погибло «много», но так как ему не известно, кто именно остался в живых, то «для большей вероятности» перестали выдавать всем. Кто окажется жив, тому предоставляется доказывать законным порядком, что он не умер…
Гуманная экономия коснулась, между прочим, и родственницы господина Демчинского, почему последний отправился за справками в канцелярию главного морского штаба. Здесь он, разумеется, прежде всего обратился к курьеру, с которым и произошел у него нижеследующий замечательный диалог, достойный занесения на страницы истории:
– Кто начальник штаба? – спрашивает г. Демчинский.
– Рождественский.
– Он здесь?
– Никак нет… В Японии.
«Тут только, – говорит г. Демчинский, – я сообразил, о каком Рождественском идет речь. До этого я никак не мог совместить эти две должности».
– Ну, а теперь кто же начальник штаба?
– Адмирал Безобразов.
– Он тут?
– Никак нет, они в отпуску.
– Да кто же теперь-то начальник? – спросил г. Демчинский, уже с понятной досадой.
– Адмирал Вирениус.
– Он здесь?
– Никак нет. Третий день с дачи не приезжали.
– Да что ты: шутишь, что ли?
– Помощник ихний…
– Кто помощник?
– Адмирал… (фамилию г. Демчинский не расслышал).
– Здесь?
– Никак нет. И они не приезжают.
– Да кто же, чорт возьми (грубо, но… понятно), приезжает?
– Второй помощник, адмирал Нидермиллер. Только… они тоже ушли…
– Ну, дай мне адъютанта штаба!
– Старший адъютант Зилотти…
Припоминаем, – кажется, г. Зилотти несколько известен литературе: в похвальном рвении он выступал на защиту своего начальства против нападок капитана Кладо, причем несколько превысил меру усердия и подвергся даже взысканию… Весьма понятно, что… на вопрос г. Демчинского: «Ну, вот, давай Зилотти!» – последовал опять тот же неизменный ответ:
– Их нет-с… Может быть, в третьем часу… иногда заезжают…
– Так с кем же мне говорить-то? – спрашивает т. Демчинский в отчаянии.
– Только вот дежурный чиновник.
Действительно, «в приемную вошел утомленный коллежский регистратор и подошел к очередной даме. Но тут, – говорит г. Демчинский, – я наступил ему на горло…» – и только после этого энергичного воздействия г. Демчинскому удалось узнать, что «жалованье семьям офицеров не платят потому, что нет донесения о цусимском бое от старшего адмирала, а потому канцелярия не знает, кто жив и кто погиб» (!).
– Да ведь вы же сообщили списки в газетах!
– Да, но это по японским и французским сведениям, которые не могут служить оправдательным документом перед контролем!..[234]
Превосходная система контроля и замечательное отношение к «иностранным источникам». Прекратить выдачу содержания многим семьям на основании этих источников – можно. Но восстановить хоть одной семье – нельзя… Удивительно, что при столь экономическом контроле наш побежденный флот стоил все-таки в полтора раза дороже победоносного японского…
Господин Демчинский выражает желание, чтобы господин морской министр «хоть раз попал в главный штаб просителем»… Истинно российское упование на министров Гарун-аль-Рашидов… А между тем, – что бы произошло, если бы г. военный министр, хотя бы даже переодевшись капитаном Копейкиным, испытал на себе все тернии «просительства» в штабах? Очень может быть, что мы прочитали бы еще один приказ, обличающий с бюрократических высот канцелярские порядки и вместе рисующий мудрую бдительность высшего начальства… И только. Бывало ведь это много раз, и приказы писались многократно. Мне вспоминается читанный где-то рассказ о том, как еще Петр Великий объехал однажды присутственные места, спустя два часа после законного срока для начала занятий, и не застал «господ присутствующих» на местах. Петр Великий! Не адмиралу Бирилеву чета! И приказы он писал, как известно, очень выразительно. Например: когда бригадир Трубецкой и его товарищ Исаев промедлили два года с исполнением порученного им дела, то Петр послал им указ с угрозой: «Ежели сих дел не учините в пять месяцев или полгода, то ты (Трубецкой) и товарищ твой Исаев будете в работу каторжную посланы»[235]. Кажется, довольно сильно, но бывало и еще сильнее. Например, в 1711 году вице-губернатору города Москвы Ершову обещано было от сената: «и черевы на кнутьях выметать…»[236] Однако канцелярские нравы плохо исправлялись канцелярскими же воздействиями и угрозами, так что преемникам Петра приходилось, в свою очередь, неустанно прибегать к весьма своеобразным мерам. Так, в 1734 году Мельгунов рапортом доносил о медленности губернаторов и воевод, «коим в 1732 и 1783 г. послано по двенадцать указов и, сверх того, подано на них в сенат три доношения, и по определениям сенатским последовало три указа», и по тем указам «велено тех губернаторов и воевод за неприсылку рапортов держать под караулом, а секретарей и подьячих в оковах»(!)[237]. Но… и после сего рапортов все же не прислано, и волокита тянулась та же, и никакие грозные указы не могли победить непобедимую канцелярскую бездеятельность…
С тех пор прошло два столетия… Никогда еще, кажется, не было ничего подобного тому, что пережила Россия на Дальнем Востоке. И что же? Все быстро вошло в колею. Даже гром цусимской канонады, возвестившей всему миру гибель целого флота, и небывалое торжество противника над русским флагом – ничто не могло преодолеть «ничем не победимый сон, истинное подобие смерти» в обломовских канцеляриях военной бюрократии. Флот побежден, порядки морского штаба устояли! На беспримерные поражения главный морской штаб реагировал немедленным и огульным прекращением содержания семьям и живых, и пленных, и убитых офицеров без разбору, а сам… перешел на мирное дачное положение…
И вот в военной канцелярской пустыне бродит беспокойный партикулярный человек Н. А. Демчинский, заступаясь за права «ошибочно не погибших» офицеров, и в раздражении восклицает:
– Да кто же, наконец, сюда, чорт возьми, приезжает? Давайте мне кого-нибудь… кого хотите, но давайте…
И на эти отчаянные вопли, точно бледное сновидение из глубины сонного царства, выходит… «утомленный коллежский регистратор», унылое олицетворение порядка, при котором, по бессмертному выражению Николая I, «всем в стране правит столоначальник»…
Понятно, что и он, бедняга, утомился до смерти…
В заключение маленькое газетное сообщение из области той же военной экономии: «Слово» сообщает, что генерал-лейтенант Сахаров, при оставлении поста военного министра, получил для переезда с казенной квартиры на частную пятнадцать тысяч рублей! Новый военный министр, генерал-лейтенант Редигер, для переезда с одной казенной квартиры на другую, казенную же (с Исаакиевской площади на Мойку, 67), получил десять тысяч рублей. Назначенный на новую должность начальника генерального штаба, генерал-лейтенант Палицын получил для переезда с одной казенной квартиры на другую, казенную же, десять тысяч рублей…
Это известие, первоначально оглашенное в «Слове», я заимствую уже в перепечатке из провинциального «Южного слова» (от 27 августа, № 60). Разумеется, это только «газетные известия», и, наверное, тот самый контроль, которого так боится коллежский регистратор морского штаба, имеет по этому предмету самые точные сведения, исходящие на сей раз уже не из одних только японских и французских источников…
Но – и российский контроль давно и бесповоротно тоже… отправился на дачу…
1905
Единство кабинета или Тайны министерства внутренних дел*
Уже по заглавию читатель видит, что роман плохой и едва ли заслуживает библиографического отзыва, так как кто же станет серьезно разбирать лубочные произведения? Это совершенно справедливо, и мы, конечно, не стали бы занимать внимание читателя разбором этой плохой стряпни, если бы… это было только произведение лубочной литературы, а не реальное явление лубочной политики.
Не так давно в газетах появилась первая глава этого плохого романа. Завязка, совершенно во вкусе Габорио или Монтепэна, состояла в том, что однажды граф Витте с одним из своих чиновников, проходя под покровом ночи мимо охранного отделения, услышал странный глухой шум. Заинтересованный этим шумом, граф вошел в отделение и там… застиг шайку охранных черносотенников, печатавших при трепетном свете керосиновых ламп хулиганские прокламации… Продолжение следует…
Продолжения, однако, не последовало, а последовало, как и нужно было ожидать, категорическое опровержение: граф Витте ночью мимо охранного отделения не ходил, глухого шума не слышал, в помещение не входил, черносотенную шайку за печатанием хулиганских прокламаций не застигал… И значит, как все плохие романы, и это начало охранно-уголовного романа оказалось нимало не похожим на действительность.
Однако русские газеты, лишенные просвещенного руководства цензуры, удивительно испортили свои литературные вкусы, и потому вскоре же продолжение сенсационного романа было вновь поднесено читающей публике в измененной редакции. Хотя первая глава была опровергнута и «Русским государством», и официозным телеграфным агентством, но газеты с преступным упорством заявили, что в ней события были изложены лишь «несколько не точно»; по существу же завлекательное начало проникнуто не только художественной правдой, но в общем соответствует действительности. «Из источников, безусловно достоверных, – писали, например, в „Руси“ (№ 10), – нам известно, что тайная типография была обнаружена не в охранном отделении, а в помещении департамента полиции (в доме № 16 по Фонтанке). В этой типографии печатались распространявшиеся затем по всей России черносотенного типа прокламации и воззвания против оппозиционной интеллигенции и евреев. Заведывал типографией жандармский офицер Комиссаров, под главным руководством г. Рачковского. Обо всем изложенном было доведено до сведения господина Витте, который и распорядился о немедленном закрытии типографии…»
«И похоже это на правду и может это случиться на Руси?» – спросит благонамеренный читатель, обладающий хоть каплей литературного вкуса и не читающий лубочных романов… В департаменте полиции!.. в учреждении, еще так недавно состоявшем под просвещенным директорством господина Дурново, ныне служащего украшением первого конституционного министерства Российской империи! Черносотенные прокламации!.. Призывы к погромам и убийствам!.. И читатель, конечно, с досадой кидает вторую главу плохого романа, ожидая нового опровержения…
Однако газеты, лишенные просвещенного руководства цензуры, продолжают уверять, что «все похоже на правду и все может случиться» в нашем богоспасаемом отечестве. Это ведь сказал еще Гоголь, а Пушкин, как известно, прибавил: «Там чудеса, там леший бродит…» Теперь же, кстати, над Русью распростерлась та самая предрассветная тьма, под кровом которой наиболее охотно бродят всякие призраки, пока их не вспугнет громкий крик петуха. Итак, газеты дают третью главу плохого романа.
Третья глава состоит в том, что господин Р-в, сотрудник «Руси», шел по Невскому проспекту и встретил там одного своего приятеля. Дело, как видите, происходит днем и на людном месте. Приятель поздоровался и затем протянул ему листок.
– Предлагаю прочесть, – сказал он, – черносотенский chef d'oeuvre[238], последняя прокламация.
Господин Р-в взял листок, развернул его, прочел и изумился. Заглавие его гласило: «Воззвание к русскому народу. Причина всех несчастий России. Меры пресечения зла от евреев. Цена 2 коп.». Господин Р-в дает лишь краткое извлечение из этого замечательного произведения, но князь Мещерский знакомит с ним читателей подробнее. Вот, например, начало воззвания:
«Знаете ли, братцы, рабочие и крестьяне, кто главный виновник всех ваших несчастий? Знаете ли, что жиды всего мира, ненавидящие Россию, армяне и затем Германия и Англия составили союз и решили разорить Россию дотла, разделить ее на мелкие царства и раздать ее врагам народа русского… Затем хотят позднее хитростью и обманом отобрать землю у русского мужика и самого его обратить в раба Мидовского, попов его расстричь, а православные церкви и монастыри обратить в жидовские хлевы и свинятники (sic)… A теперь решили разорить единственных защитников русского народа и его веры – православных русских помещиков, фабрикантов и купцов, чтобы потом без помехи жид все забрал в свои руки…»
В средине красуются следующие строки:
«Как только явятся к вам эти христопродавцы, истерзайте вы их и избейте… Сейчас русские честные люди, любящие Россию, хлопочут у государя, чтобы он скорей согнал с президентского места (курсив наш) главного помощника жидовского…»
Здесь князь Мещерский ставит целомудренные точки, но господин Н. Р-в приводит и конец фразы, который гласит буквально: «главного помощника жидовского с его женой жидовкой…»
Главное, однако, волшебство в этой третьей главе лубочного романа заключается не в содержании этого дикого и бестолкового кликушества, а в том, что под листком напечатано мелким шрифтом: «Дозволено цензурою. Спб., 19 февраля 1906 г. Типография Спб. Градоначальства… Склад издания во всех магазинах „Нового времени“ и в редакции „Русское знамя“…»
«По наивности, свойственной русским гражданам, – признается господин Р-в, – я заподозрил здесь злостную мистификацию и чуть было даже не обиделся за спб. градоначальство, но раздумал, отправился в магазин „Нового времени“, с трудом протискался сквозь толпу „женихов и невест“ и обратился к приказчику с просьбой продать мне воззвание. „Вам о жидах?“ – спросил он меня галантно и великолепным жестом указал на кипу лежащих на прилавке прокламаций…»
Итак, плохой лубочный роман оказался еще худшею действительностью. Что же после этого не похоже на истину и чего не может случиться на Руси на заре российской конституции? Все похоже на истину, и все может случиться…
«В правительственных типографиях (восклицает другая газета) печатаются с дозволения цензуры призывы к избиениям. В казармах раздаются эти воззвания, по всей Руси рассылаются прямо из правительственной типографии, точно циркуляры, приглашения к погромам. Открыто продаются в притонах, вроде магазинов „Нового времени“ и редакции „Русского знамени“… Попросту говоря: среди бела дня, без помех и стеснений ведется агитация к погромам, и на каждом акте этой агитации имеется отчетливая надпись: „Дозволено цензурой…“»[239]
Лубочная действительность на этот раз превзошла самый лубочный вымысел: вместо ночной работы черносотенных охранников – оказалось легальное производство типографии градоначальства! Автор не какой-нибудь безвестный уголовный субъект из шайки Крушевана, а действительный статский советник Алексей Максимович Лавров, «состоящий при министерстве внутренних дел».
В квартире его (ул. Жуковского, 28–12) оказался целый склад отпечатанных в типографии градоначальства черносотенных воззваний. «Г-н Лавров, по слухам, имеет близкое отношение к охранному отделению; он сослуживец В. М. Пуришкевича, чиновника особых поручений при том же министерстве внутренних дел, призывавшего в свое время, как это сообщалось в газетах, – на собраниях „Союза русского народа“ в манеже к избиению интеллигенции» («Речь», № 10).
Последняя глава этого сенсационного уголовно-политического романа переносит нас в заседание совета министров. Мы так много, еще до российской конституции, читали о необходимости «единого и солидарно-ответственного кабинета», что было бы очень странно, если бы у нас не было такового и по объявлении конституции… Конечно, он есть, и это именно – кабинет Витте-Дурново. Понятно, что этот «единый и солидарный» кабинет собрался, чтобы всем его членам совместно, как говорится, вкупе и влюбе дочитать любопытный роман и критически обсудить его достоинства и недостатки. Если бы Илье Ефимовичу Репину было предоставлено набросать картину этого замечательного собрания, то это несомненно была бы превосходная иллюстрация к политической истории наших дней… Председательствовал на президентском кресле (а быть может, между двух?) граф С. Ю. Витте, которому, конечно, было очень интересно услышать от своего солидарного сотрудника, министра внутренних дел, какими соображениями, относящимися до «единства действий», руководствовались видные деятели его министерства, ставя имя «главы кабинета» (и даже его супруги) во главе «внутренних врагов», коих следует истребить? Правда, у П. Н. Дурново был готовый и весьма остроумный ответ, данный им ранее по другому случаю: стоит ли жалеть стекла в горящем доме? Но господин Дурново, как сообщают газеты, молчал. Говорили: петербургский градоначальник, генерал фон-дер-Лауниц, и начальник главного управления по делам печати, г. Бельгард. «Господин градоначальник просто объяснил, что типография градоначальства приняла к печатанию воззвание, как всякий частный заказ, не входя в обсуждение его содержания, так как на рукописи имелась разрешительная пометка цензора». К тому же заказ был доставлен в типографию г. Лавровым, лицом, заведомо весьма благонадежным, приближенным к генералу Богдановичу и даже чиновником министерства внутренних дел.
Объяснение вполне, конечно, успокоительное. Речь начальника главного управления, к сожалению, была не столь гладкая. Если верить газетам, то господин Бельгард вынужден был признать, что «с прокламацией вышла некоторая неловкость и ошибка». Но вместе с тем он счел необходимым указать на заслуги цензора. Последним оказался Николай Матвеевич Соколов, «известный, между прочим, как переводчик Канта, и не лишенный поэтического дарования». Господин Бельгард мог бы прибавить, что цензор Соколов, кроме того, является видным членом «Русского собрания»… Графу Витте, вероятно, доставили большое, утешение эти объяснения господина Бельгарда: из них видно, что приглашение к истреблению премьер-министра и его супруги одобрено к печати не заурядным цензором, а лучшим из цензоров, переводчиком Канта (идеалист) и «не лишенным дарования поэтом»…
Каков будет эпилог этого лубочного, но все же очень интересного, фантастического, но и совершенно правдивого романа, состряпанного усилиями коллективного творчества господ чиновников министерства внутренних дел?.. У господина Лаврова уже произведен обыск и изъято известное количество прокламаций. Цензор H. M. Соколов получил аттестацию своих поэтических талантов… А далее?..
Многие полагают, что этим роман и кончается и что последние страницы его никому не принесут огорчения. Правосудие, в лице министра юстиции господина Акимова, слишком занято преследованием прогрессивных органов печати, чтобы обратить внимание на кровожадные печатные шалости благонадежных чиновников… Конечно, призыв к избиению премьер-министра есть уже некоторое излишество и «ошибка» (по счастливому выражению господина Бельгарда), но… при «солидарности единого кабинета министров» приходится прощать друг другу и не такие еще маленькие «ошибочки»…
Итак, да здравствует первый единый и солидарный кабинет российских конституционных министров!
1906
Возвращение генерала Куропаткина*
«Генерал Куропаткин вернулся с Дальнего Востока и скромно проехал в свое имение». В этом коротеньком газетном известии – целая драма…
Генерал Куропаткин восемь лет был военным министром. Так как у министров самодержавного режима всегда и все должно обстоять благополучно, то все обстояло благополучно и по военному ведомству в министерстве генерала Куропаткина. Производились парады, учения, смотры, разъезжали инспектора, солдаты изучали «словесность» («что такое хоругвь» и «кто внутренний враг»), им внушалась самобытная тактика времен очаковских и покорения Крыма, вроде известного афоризма: «Пуля дура, штык молодец»; в офицерстве культивировалась «честь мундира», ради которой дозволялось рубить более или менее безнаказанно беззащитных русских людей, – и все это называлось «духом армии» или даже «духом непобедимой русской армии»… Генерал Куропаткин наследовал все эти традиции от своего предшественника, благодушного, но малообразованного старца генерала Ванновского, неожиданно для себя попавшего волею судеб сначала в военные министры, а затем в Вольтеры по ведомству просвещения… Как истинно русский служащий человек, не склонный к критике и отрицанию чего бы то ни было, генерал Куропаткин смиренно принял ковчег с военными традициями и беспечно понес его далее в том же направлении, в надежде, по достижении глубокой старости и самых высших чинов, благополучно сдать его в том же виде своему будущему заместителю… И когда на восточном горизонте стало появляться легчайшее облачко в виде безобразовско-корейской авантюры, то на вопросы о могуществе и готовности российской армии поддержать, в случае надобности, «престиж русского имени» – счастливый преемник благодушного Ванновского имел полнейшую возможность, положа руку на сердце, сказать, что по всем имеющимся у него рапортам и донесениям всюду и все находится в наилучшем состоянии…[240]
Случилось, однако, так, что перед самым началом уже надвигавшейся войны генерал Куропаткин был послан на Дальний Восток и проехал в Японию… Мы, штатские люди, не компетентны в оценке специальных военных талантов генерала Куропаткина. Однако не нужно быть ни Веллингтоном, ни Мольтке для того, чтобы, побывав на месте, увидеть воочию и сравнить наше военное благополучие и нашу готовность с грозными приготовлениями Японии… И вот генерал Куропаткин увидел все эти наши бумажные форты и крепости, напоминавшие отчасти уральские фортеции с их гарнизонами, описанные еще Пушкиным в «Капитанской дочке»… И, конечно, при этом зрелище министерский сон с приятными видениями должен был сразу рассеяться… Российский военный министр, генерал Куропаткин, проснулся и прозрел…
Пробуждение это должно было быть прямо ужасным для человека, хоть сколько-нибудь восприимчивого к идее отечества и его судеб…
Существует полулегендарный (но какая легенда у нас, в России, не может оказаться действительностью?) рассказ о том, как генерал Куропаткин мчался в поезде-молнии через великую Сибирь, стараясь обогнать Безобразова, чтобы первому сделать в Петербурге доклад о неблагополучии и предупредить столкновение с Японией. Говорят, в начале этой гонки военный министр был впереди авантюриста и если бы удержал это преимущество до конца, то, быть может, поспел бы со своим докладом ранее. Но, – так гласит легенда, – в Иркутске предстоял смотр… Проехать через центр военного округа и манкировать смотр – это до такой степени нарушает традиции, что генерал Куропаткин ни из каких видов не мог решиться на этот слишком смелый шаг. Он произвел смотр, он парадировал перед полками, полки с положенным по штату одушевлением кричали «ура», а в это время Безобразов пролетел мимо, выиграл несколько дней, и оптимистический доклад безоглядного авантюриста опередил предостережения прозревшего военного министра… Роковые шаги были сделаны. Страшная ставка была поставлена в расчете на цельность, крепость, могущество и непобедимость армии. И она была бита.
Разумеется, очень может быть (и даже весьма вероятно), что этот рассказ действительно только легенда. И без этой гонки, без этого опоздания, какую силу могли иметь заявления министра, противоречившие всем его прежним рапортам о полном благополучии и готовности… Война началась, последовали неудачи. Они были приписаны неумелости верховного командования, и генерал Куропаткин был послан командовать доблестной армией, в которой у него в течение восьми лет все обстояло благополучно.
Это уже начиналась трагедия… Человек, который увидел прозревшими очами нашу неподготовленность и неизбежность поражения, получил приказ вести армию к победе… Это случилось с Куропаткиным, как случилось впоследствии с Рождественским, и по отношению к Куропаткину это было более справедливо: он был военный министр, у него в течение восьми лет было «все благополучно», он брал на себя ручательство за всякие «победы и одоления», он усыплял самодержавие, а с ним и страну, шаблонно патриотическими заверениями, и теперь суровая Немезида поставила его во главе армии, заранее обреченной на бедствия и поражения…
Куропаткин ли виноват в этих поражениях? Как главнокомандующий, – едва ли уже он мог поправить дело. Если бы даже Суворова послали командовать армией на Дальнем Востоке при данных условиях, то и Суворов едва ли избег бы поражения. Зато – как военный министр, как ближайший участник того строя, который привел Россию к страшному катаклизму внутри и позорнейшему поражению на полях и в горах Манчжурии, – Куропаткин не имеет оправдания…
И если, вообще, нужно страдание на этом свете, если оно может быть признано элементом справедливости в качестве возмездия за тяжкую вину, то мы должны признать, что унижение и бесславие, которые встречают теперь на родине этого «скромно проехавшего в свое имение» человека, – вполне им заслужены и приготовлены его же многолетней деятельностью…
А унижение и бесславие очень велики… Мнение о человеке миллионов его соотечественников нельзя взвесить на весах и измерить вещественной мерой. Но оно ложится огромною, неизмеримою тяжестью, подавляющей теперь вчерашних «героев» и архистратигов. Еще так недавно большинство русских газет превозносило (в кредит) таланты великого стратега… Теперь даже «Новое время» не находит для него ничего, кроме горечи и упреков… А между тем один ли Куропаткин, в самом деле, виноват в этих беспримерных поражениях?
Этим вопросом задается один из военных людей в газете «Слово»[241]. Автор этот, г. Родзевич, спрашивает, между прочим: не лежит ли часть вины на всей армии? «Во всем виноват Куропаткин! – восклицает он, – а мы-то все мелкая сошка: военные чиновники, офицеры, начальники частей, – жертвы вечерние? Мы свято, как могли и умели, исполняли свой долг?»
И господин Родзевич приводит примеры глубокой деморализации в офицерской среде. «В Харбине, – говорит он, – я слышал от сестер и врачей, что перед каждым большим боем с юга прибывали поезда, переполненные храбрыми офицерами, и все это устремлялось в госпитали. Так что наплыв в Харбин больных офицеров являлся здесь предвестником (а не последствием) больших сражений».
Затем г. Родзевич приводит далее рассказы о своеобразных подвигах генерала Ренненкампфа, посылавшего в главную квартиру донесения о целых полках неприятелей там, где на самом деле японцев было две-три роты.
Из этого г. Родзевич делает вывод, не лишенный основательности, что в наших поражениях виноваты также и сотрудники главнокомандующего, и общий дух армии… Так. Но тогда невольно является вопрос: от кого же зависела подготовка армии в мирное время и кто устанавливал, поддерживал, направлял ее военное воспитание? Разумеется, главным образом все это зависело от военного министра.
Это до такой степени очевидно, что отрицать это не могут даже и защитники генерала Куропаткина. «Сам превратившись в придворного генерала, – говорит тот же автор, – он не смог за восемь лет своего управления министерством побороть чиновничьего духа, заразившего армию, как и другие сферы жизни (вопрос: а стремился ли он к этому? где признаки его борьбы?)… Повинен Куропаткин и в том, что в боевой жизни развел роскошь и изнеженность (не для солдат, конечно?), подавая к тому личный пример. Он жил не как великий солдат и учитель Суворов, а как большой русский барин, в роскошном поезде с электрическим освещением, салонами, ванной, кухней, с огромным штатом челяди и прихлебателей…»
Эта черта генерала Куропаткина, которой и одной было бы достаточно, чтобы поставить крест на всей репутации полководца, теперь является общепризнанной. «На войне барские нравы, – пишут, например, в „Новом времени“, – сослужили стране плохую службу. Все помнят такие подробности войны, как поезда, набитые цветами одного адмирала в страшные дни, когда не хватало поездов для снарядов, или батальон солдат, во время сражения поливающий водой вагон с генеральской коровой, не выносившей жары… Одною из главных причин мукденского погрома генерал Церпицкий считает привычку наших генералов к роскошной жизни. Полководцы жили в салонах, а солдаты мерзли в палатках! Как сытый голодного не понимает, так главнокомандующий не понимал состояния оборванных, закоченевших солдат – посылал их в бой иногда в двадцатиградусный мороз»…
Так пишет теперь о генерале Куропаткине недавно превозносившее его «Новое время»[242]. Правда, это не устраняет вопроса о виновности и других, и цитированный выше г. Родзевич совершенно справедливо спрашивает, обращаясь к сотоварищам: «Ну, а мы все, товарищи офицеры, во имя справедливости и в интересах истинного обновления родной армии вспомним нашу мирную и боевую службу… и искренно покаемся, – есть в чем!..»
Да, конечно, есть в чем!.. И напомнить это тем необходимее, что русская армия после войны, обнаружившей ее страшные язвы, не только не думает о таком покаянии перед родиной, но еще волей изумительных российских судеб становится судьей, и судьей непомерно строгим над сынами этой же несчастной и растерзанной родины, повинными в том, что они сознали непригодность существующего строя жизни и стремятся к ее обновлению…
По-видимому, некоторые члены военной среды сознают это и, например, письма покойного Церпицкого дают много правдивых и горьких признаний. «Наша армия, – писал этот боевой генерал, – есть в сущности толпа рабов, руководимая людьми из светских гостиных, которые в военном деле ничего не понимают… Наша армия рабская, а ведь нет беды больше рабства. Благодаря этому наша необразованная, грязная и невоспитанная армия, в которой около двадцати процентов офицеров алкоголики, не способна к энтузиазму и одушевлению…»[243]
Много нужно было пережить и испытать, чтобы на склоне жизни, в конце своей боевой карьеры, написать слова, полные такой горечи. Но, если это так, то надо же отдать себе отчет в причинах явления. Там, где организация проникнута гнилью и разложением, несомненно виновны главные организаторы. Солдаты – лишь материал в руках офицеров. Офицеры зависят от генералов, генералитет формируется штабом и министерствами, через которых уже оно соприкасается с высшим правительством страны. Военный министр – в действительности глава военной организации, и хотя у нас не было, да и теперь еще нет ответственных министров, но – никакие отговорки не снимут с генерала Куропаткина тяжкой ответственности и перед родиной, и перед историей… Не было ни одного поражения на полях Манчжурии и нет ни одной победы над безоружными соотечественниками, ни одного бессудного расстрела в Голутвине или в Лифляндии, за которые генерал Куропаткин не нес бы своей доли ответственности – как военный министр, создававший «дух русской армии» в долгие мирные годы… Излишняя уступчивость перед внешним врагом и излишняя суровость в отношении безоружных или разоруженных соотечественников – таковы два полюса этого режима, выработанного послемилютинским управлением Ванновского и Куропаткина.
Есть некоторые признаки, указывающие на то, что и сам генерал Куропаткин не прочь прикрыть свои неудачи как полководца, свалив их на плохие качества армии, которой ему пришлось командовать. Господин В. А. в газете «Слово» приводит ряд фактов несправедливого отношения генерала Куропаткина к нижним чинам и даже «массового оскорбления Куропаткиным людей, выполнявших свой долг, – недоверием, поспешными выговорами и приговорами…» Так, отрешив полковника Громова от командования 22 полком за отступление под Тюренченом, ранее, чем следствие выяснило обстоятельства, при которых оно совершилось, генерал Куропаткин распространил свое неудовольствие и на солдат этого полка. Натыкаясь на них среди раненых (!) при обходе санитарного поезда, он никому не дал креста и, говорят, иронически спрашивал: «А ты японцев видел?..»[244]
Можно было бы отнестись скептически к этому карикатурному разговору так приятно разъезжавшего в салон-вагонах полководца с людьми, раненными на поле сражения, но, к сожалению, генерал Куропаткин уже перед самым отъездом из Манчжурии позаботился самолично и документально засвидетельствовать свое отношение к подчиненным. В одном из его последних приказов по 1-й манчжурской армии (от 2 февраля 1906 года) мы читаем между прочим:
В числе возвращающихся из плена в ряды вверенной мне армии господ офицеров и нижних чинов встречаются попавшие в плен не ранеными. – Предписываю во всех частях войск, куда прибыли пленные, произвести тщательные и подробные дознания об обстоятельствах их пленения и, в случае выяснения отсутствия уважительных причин к сдаче в плен, привлекать их к ответственности по 262 или 263 ст. XXII кн. с. в. п. изд. 3.
Подписал: командующий армией
генерал-адъютант Куропаткин[245].
Итак, все без исключения офицеры и нижние чины, пережившие горечь плена и взятые, конечно, не в салон-вагонах, а на полях сражений, если только они не ранены, объявляются огульно заподозренными в позорной и беспричинной сдаче… Все бесправие и отсутствие уважения к низшим, весь произвол и безграничное самодурство высших, разъедающие нашу армию, сказались в этом коротком приказе генерала, который, вероятно, полагает, что сам он менее всех ответствен за расстройство и деморализацию русской армии, подготовленные годами его собственного высшего управления.
Впрочем, теперь он возвращается на родину «с эшелоном»… Прекрасная заботливость о «солдатике», но… невольно приходит в голову неприятная мысль, что это «общение» было бы гораздо уместнее во время войны.
1906
Заботы доброго пастыря о грешной пастве*
Томский епископ Макарий проявляет трогательную заботу о душевном спасении своей паствы.
Томский епископ Макарий известен далеко за пределами своей епархии. Всюду, куда проникает газета, достигли в свое время отголоски октябрьского томского погрома и отблески томского зарева, а в связи с ними звучало и имя томского епископа. В день, когда толпа черносотенцев под руководством сыщиков обливала керосином и зажигала входы здания, где задыхались и горели люди, а толпа народа стояла тут же в немом ужасе и недоумении, – епископ Макарий в нескольких саженях совершал богослужение… К епископу Макарию, в стены храма с площади прибегали смятенные и плачущие люди, умоляя его выйти к толпе с крестом и словом евангелия, чтобы спасти «овец его паствы», одних – от страшной гибели, других – от столь же страшного преступления. Но епископ Макарий не внял ни этим мольбам, ни треску пожара, ни крикам ярости и ужаса, доносившимся с улицы. «Яко твердый адамант», он пребыл спокоен и продолжал с умиленным духом молиться, возглашать и воздевать горе пастырские руки. Впрочем, в некоторых газетных известиях сообщалось, будто епископ Макарий единожды все-таки изыде из храма и, став на паперти, благословил… неизвестно кого: умиравших в огне «козлищ» или «добрых овечек», убивавших и кидавших в огонь тех, кто спасался из пламени. И затем паки ушел священнодействовать во храме. Предоставляем будущим историкам современной российской церкви проверить сие «предание», а пока считаем вероятным, что, «твердый в обрядех», епископ просто не прервал для сих неважных происшествий важного священнодействования и продолжал умиленно возглашать во храме под вопли благочестивых убийц и стоны избиваемых «грешников»… Не достаточно ли и сей пастырской твердости для внесения имени епископа Макария на страницы церковной истории?
Теперь епископ Макарий вносит свое имя на скрижали церковной литературы. Просмотрев «исповедные росписи», томский владыка с сокрушением сердечным усмотрел, что (в первый же великий пост после томских октябрьских событий?) многие из его пасомых не были у исповеди и причастия, отчего исповедные росписи имеют вид воистину плачевный. Чтобы не дать столь многим душам зле погибнуть в своем закоснении, епископ Макарий решил принять благопотребные меры. Но, – о времена антихристовы! – какие благопотребные меры остались ныне у пастырей казенной церкви, кроме обращения к светской власти? И вот епископ Макарий пишет нижеследующее послание к «господину начальнику железной дороги»:
«Ваше превосходительство, милостивый государь. Усматривая из исповедных росписей, что не говевших и не исполнивших долга исповеди и св. причащения ныне (после октябрьских событий?) особенно много среди чиновных лиц и служащих в разных учреждениях, и озабочиваясь исполнением своего пастырского долга в отношении к таким членам томской православной общины, обращаюсь к вам, милостивый государь, с покорнейшей просьбой оказать мне ваше содействие приглашением состоящих в вашем ведении лиц к исполнению христианского долга исповеди и св. причащения в дни текущей четыредесятницы и распространением среди них прилагаемых листков „Поговейте!“. Призывая на вас благословение божие, остаюсь ваш, милостивый государь, покорнейшим слугою, Макарий, епископ томский».
Мы не знаем, конечно, какие меры, с своей стороны, счел нужным принять начальник дороги, чтобы, следуя пастырскому призыву, зажечь в сердцах своих служащих яркое пламя религиозного усердия. Прежде в распоряжении власти были для сего кнуты, плети, колодки, кандалы, заточение, даже в экстренных случаях срубы, отчего «благочестие сияло паче звезд» и «церковь процветала яко крин». В наши злопагубные времена, как известно, все сие упразднено и даже, среди других призрачных свобод, в гибельном истекшем году как будто провозглашена, между прочим, также и свобода совести. Многие уповают, однако, что и за всеми сими суетными новшествами иного благочестивого начальника можно еще подвигнуть на служение церкви: в его распоряжении есть, например, увольнение со службы, лишение казенной квартиры, денежные штрафы и внушения… Опытный сердцевед, изучивший грешную человеческую природу, знает, какое благодатное действие может произвести в душе иного семейного грешника хотя бы простая угроза – выкинуть всю семью из казенной квартиры накануне светлого праздника. Очевидно, при некоторой благожелательной ревности начальствующего, вероисповедные списки могли бы значительно наполниться и принять вид почти прежнего отчетно-бумажного благополучия… Что и есть на потребу всякой консистории для надлежащего годичного синодского отчета…
Как уже сказано выше, нам неизвестно, какое действие произвело это пастырское послание и подвигнулся ли его превосходительство начальник дороги подвигом добрым на миссионерскую деятельность среди своих служащих. Нас только смущает невольное сомнение: не объясняется ли отчасти столь резкое и «особенное» уменьшение говельщиков и исповедников в томской иерархии той истинно адамантовой твердостью, какую томский епископ проявил в достопамятные октябрьские дни? В самом деле, – быть может, одни из говельщиков не явились «за умертвием», будучи убиты менее, чем во едином поприще от места пастырского священнослужения. Другие, пожалуй, сидят в тюрьмах или скрылись, как заведомые участники убийств. Третьи – оплакивают убитых родичей, четвертые – собственное заблуждение, и все вместе – смущаются тем равнодушием, какое проявили пастыри во главе с владыкой Макарием в темные дни, когда именно нужно было явить христианское участие к грешной жизни, когда, быть может, несколько евангельских слов могли образумить, прояснить души, вернуть им сознание любви и правды.
Тогда это слово не было сказано… Церковь замкнулась в своих холодных стенах, оглашаемых только обрядом, и теперь, кто знает, сколько недавних еще смиренных и простодушных говельщиков вспоминают евангельское слово: «Пастырь добрый душу полагает за овцы» и говорят себе: где же были наши пастыри в дни смятения и ужаса? Яко облацы безводни, ветрогонимые, – так они, гонимые лишь ветром начальственных предписаний, напояют нас одними обрядами, и не от них ждать нам росы евангельской любви и добрых примеров самоотречения и братской любви…
Во всяком случае в этом предположении есть много вероятия. А если так, то… поможет ли в сем затруднительном случае его преосвященству, начальнику томской епархии, его превосходительство начальник железной дороги?..
1906
Генерал Думбадзе, ялтинский генерал-губернатор*
Двадцать шестого февраля на Ливадийском шоссе из дачи Новиковой в проезжавшего Думбадзе была брошена бомба. «Думбадзе легко контужен, преступник застрелился», – гласят телеграммы официального агентства и к этому прибавляют, что «дача Новиковой горит». Первоначально приходило в голову, что дача загорелась или от взрыва бомбы, или от поджога, с целью скрыть какие-нибудь следы преступления. Вскоре, однако, выяснилось, что дача сожжена полковником Думбадзе. Думбадзе вызвал из Ливадии стрелков и приказал им разгромить все имущество во всех квартирах и во всех комнатах не только той дачи Новиковой, из которой была брошена бомба, но и соседней дачи, отделенной от первой садом.
В предыдущей заметке господина S., из которой мы взяли приведенный выше эпиграф, дан общий свод известий об общественной и литературной деятельности неограниченного ялтинского владыки. Нам приходится дополнить характеристику несколькими позднейшими чертами.
В апреле месяце в газетах появились известия, что здоровье полковника Думбадзе улучшается. Останется или не останется полковник Думбадзе на своем посту? – этот вопрос, разумеется, очень волновал ялтинских жителей… Сначала казалось, что непременно останется, и притом не по иной какой-нибудь причине, как только для того, чтобы досадить А. А. Суворину, редактору газеты «Русь». Так можно было заключить из любопытной переписки, которую храбрый полковник затеял с редактором тотчас после того, как на него было произведено покушение. Эпистола полковника гласит тако:
«Поздравляю с успехом вашей травли: я ранен взрывом бомбы, со мной несколько человек. Но назло вам и вам подобным я с полком сумею послужить царю и родине. Полковник Думбадзе».
«Травлей» полковник называл, очевидно, оглашение газетой его необыкновенных действий. Есть много людей, которые полагают, что делать известные вещи можно и они будут даже очень хороши, пока не оглашены во всеобщее сведение. Но когда оглашены, то немедленно является соблазн… И соблазн истекает отнюдь не от действий, а от их оглашений. У этих простодушных «начальников» живо представление о Ное и его сыновьях. Они – добродетельные Нои, несколько опьяненные вином власти, пресса – непочтительный Хам, обнажающий патриархальные неприличия…
Однако – это только к слову… А. А. Суворин, получивший эту замечательную «поздравительную телеграмму», тотчас же поместил ее в своей газете (вероятно, в интересах выяснения типичной физиономии ялтинского владыки) и снабдил ее с своей стороны следующим комментарием:
«Мы искренно поздравляем полковника Думбадзе с избавлением от смертной опасности и глубоко сожалеем о пострадавших около него адъютанте и кучере. Но тем решительнее утверждаемся в мысли, что полковника Думбадзе необходимо освободить от непосильных ему административных обязанностей. Какой же уравновешенный администратор, только что уцелев от бомбы, станет рассылать по редакциям подобные телеграммы, читать которые трудно без жалости и к автору, и к той административной системе, которая всю и всякую вину готова переносить на газеты. Во всем газеты виноваты!.. Даже и те, что отрицают, как мы, всякую кровь. Полковник Думбадзе желает продолжать „назло“ нам. Было бы лучше – на пользу ялтинскому населению. А пока он вместо пользы сжег дом, откуда произошло покушение на него, хотя виновник покушения сам с собой покончил…
Во всяком случае, желаем полковнику Думбадзе успешно лечиться и выздороветь».
Вскоре после этого в газетах появились известия, что полковник Думбадзе на свой пост, хотя бы даже назло А. А. Суворину, уже не вернется. Основывались эти предположения на одном разговоре полковника с врачом. Полковник спросил, как идет его выздоровление. Врач ответил: «Дело идет отлично. Вы скоро будете в состоянии вернуться к исполнению своих обязанностей». На это полковник Думбадзе заметил якобы с задумчивым видом:
– Полковник Думбадзе к исполнению обязанностей более не вернется…
«Задумался», – говорили по этому поводу обыватели. По-видимому, этот новый признак сведущие люди считали для полковника Думбадзе несколько необычным и ждали от него практических последствий. Действительно, «задуматься» в положении полковника Думбадзе после всего, что он наделал без оглядки… это ведь своего рода душевная трагедия. Оказалось, однако, что толкователи впали в ошибку. Полковник Думбадзе вовсе не задумывался. За процесс рефлексии они приняли процесс некоего пророческого наития. Полковник Думбадзе, по-видимому, просто провидел, что его за искусную бомбардировку ялтинского дома скоро сделают генералом. Так и вышло. Он повышен в чине и к должности вернулся уже не полковник, а генерал-майор Думбадзе.
И вот «назло А. А. Суворину» генерал Думбадзе объявляет, что он вновь вступил в должность и намерен по-прежнему «служить царю и родине». Дальнейшую программу своих действий он излагает с ясностью, способною повергнуть в трепет всех домовладельцев и жильцов.
«Установить строгий надзор на некоторые дома (обыкновенно надзор, по правилам русской грамматики, устанавливают за домами), в коих вожаки боевых дружин и анархисты-террористы имеют гостеприимство. Предупреждаю хозяев домов, что виновных в приеме кого-либо из числа злодеев-врагов порядка, желающих превратить этот курорт в гнездо разбоев, беспощадно буду наказывать, а дома их, служащие жилищем и складом оружия и боевого запаса, наподобие дома Новиковой, уничтожать без остатка. На улицах требую соблюдения порядка и тишины и ни под каким видом не позволяю сборища. Советую господам „освободителям-товарищам“ сбросить с себя широкие пояса и особый костюм боевой дружины (?!), в которых, оказывается, опять некоторые из них за время моей болезни начали щеголять и бравировать их ноской (sic!). Мальчишек и шатающихся по улицам с красными тряпками, наподобие флагов, драть за уши (!) и под расписку передавать их родителям, при повторении брать под стражу.
При возникновении где-либо беспорядков, приказываю исправнику действовать решительно и в тот же момент давать мне знать по условленному шифру телефоном для своевременной высылки рот стрелков для подавления беспорядков. Вас же, мирных жителей города и уезда, уверяю, что я со своими стрелками и полицией не будем дремать и без всякой устали постараемся оберегать ваше спокойствие. В этом мое назначение и вполне ручаюсь.
И. д. главноначальствующего, командир 16-го стрелкового императора Александра III полка, генерал-майор Думбадзе»[246].
Перспектива для «мирных жителей» необыкновенно успокоительная! Вы приехали в Ялту лечиться, но прежде всего должны тщательно шпионить за соседями, которые ответят вам полной взаимностью. Стоит оказаться в одном доме с вами «анархисту-террористу», и – генерал Думбадзе не дремлет: дом, в котором вы живете, будет, подобно дому Новиковой, уничтожен без остатка… Спать вам, на всякий случай, лучше всего одетым, багажа иметь поменьше, так как недремлющий генерал уничтожит его тоже без остатка.
Нам кажется, однако, что ялтинский генерал-губернатор недостаточно последователен: по его мнению, лица, виновные в недосмотре за анархистами, должны подвергаться бомбардировке жилищ и уничтожению имущества. Допустим, хотя и трудно допустить такую нелепость. Но тогда, – спросим мы, – кто же всех более обязан «следить» и не допускать в городе разных «противообщественных проявлений»: партикулярные лица и случайные приезжие или – власти данного города? Ответ ясен: более всех виновны в таких недосмотрах именно власти. Отсюда логически следует, что, в случае обнаружения «недосмотров», – вместо погромов партикуляных лиц и их жилищ генералу Думбадзе надлежало бы бомбардировать квартиры подчасков, помощника пристава, пристава, полицеймейстера и, наконец, – самого генерал-губернатора!..
История знает примеры подобной героической неуклонности. Известно, например, что в средние века людей, которые по недосмотру и недостатку бдительности допускали нечистой силе овладеть своими душами, подвергали истязаниям, а порой и казни. И вот однажды главный судья одного округа, некто Ремигий (имени-отчества и чина припомнить не могу), оглянувшись на себя самого и строго взвесив состояние своей души, решил, что он-то, главный страж чужой осмотрительности, сам провинился в недосмотре… Тогда он сказал себе: «Ремигий! Ты, как лицо официальное, поставленное на страже, несомненно повинен всех более». И потому… он нарядил суд, заставив пытать себя, постановить приговор и сжечь на костре… Вот это был человек неуклонной последовательности, хотя многие и считают его сумасшедшим.
Не так давно Л. Ф. Пантелеев привел из Готского альманаха справку об образе правления в нашем отечестве. Оказалось, что этот образ правления есть самодержавно-конституционный. Всех особенностей этого строя, разумеется, «не поймет и не оценит гордый взор иноплеменный». Ну, а мы, русские самобытные люди, отлично понимаем, в чем дело.
В Таврическом дворце – конституция… В остальной России – генералы Думбадзе.
К Таврическому дворцу приставлены поручики Пономаревы, как классные дамы к институткам, чтобы конституция не выходила за пределы дворца и не совалась, куда не надо.
За генералами Думбадзе никто не смотрит, и только от времени до времени их повышают в чинах.
Депутаты в Таврическом дворце поговаривают, генералы Думбадзе постреливают, и таким способом водворяется гармония властей – законодательной и исполнительной.
Только обыватели должны спать одетыми, часто вскакивают, кричат и подымают тревогу, не зная, откуда им ждать полного благополучия: снизу, сверху, справа или слева.
На нашем выразительном языке это называется – не житье, малина! Генерал Думбадзе «ручается»! После такого ручательства можно быть уверенным твердо в одном: что уцелеет от бомбы террориста, то генерал Думбадзе разрушит уже «без остатка».
1907
О латинской благонадежности*
«Как солнце в малой капле вод!»
В Государственной думе говорят и в газетах пишут, что г. Шварц, «новый» министр народного просвещения, «воздвиг новые барьеры на пути к высшему образованию».
Всем, у кого есть учащиеся дети, нет нужды слышать думские речи и читать газетные статьи; мы в натуре знакомимся с этими интересными сооружениями, как новыми, изобретенными г. Шварцом, так и прежними, которые воздвигнуты усердием его почтенных предшественников. Так что мы можем довольно легко судить о «прогрессе» в области этого «просветительного строительства». И нужно отдать справедливость, – некоторые из этих остроумных заграждений способны привлечь внимание всякого наблюдателя.
Я, например, живу в Полтаве. Здесь окончили гимназию мои две дочери. Одна из них захотела держать «дополнительный экзамен» по латыни и еще некоторым предметам, чтобы быть свободнее в выборе факультета.
Еще недавно – до «конституции», до «успокоения», до нового министра г. Шварца – это делалось сравнительно просто. Ведь речь идет даже не о новом аттестате, а лишь о прибавке трех-четырех отметок в аттестате, уже выданном. Прежде требовалось подать до 20 марта заявление с предъявлением аттестата. 20 марта совет рассматривал просьбы, а с 1 мая начинались экзамены.
Никаких официальных извещений о перемене этого установившегося порядка не было, и все заинтересованные считали, что и теперь этого достаточно. Поэтому десятки экстернов и экстернок явились в гимназию на прежних основаниях в первых числах марта.
Здесь их, однако, ждал сюрприз в виде «новых барьеров». Новый директор полтавской гимназии г. Клюгге принял сколько-то прошений, а остальным отказал по разным причинам. Между прочим, некоторые просители и просительницы узнали, что… они явились слишком поздно.
Почему поздно? К какому сроку они опоздали? Совет еще только будет 20-го, экзамен начнется только 1 мая… Я, признаться, не поверил и 10 марта отправился, чтобы лично вручить г. директору просьбу моей дочери.
Господин директор принял у меня документы, пересмотрел их, не сказал, что «уже поздно», но совершенно корректно выставил другой барьер: недостает еще… «свидетельства о благонадежности».
Признаюсь, несмотря на мой почтенный возраст и разносторонний опыт, это требование г. директора гимназии меня несколько… ошеломило. Положим, как российский обыватель, я обязан был знать, что «благонадежность» в нашем отечестве есть нечто очень важное и необходимое, как пища, как вода, как воздух, даже более – как паспорт. Без «благонадежности» вы – человек, в сущности лишенный всех прав состояния. Вы, положим, окончили учительскую семинарию и получили «право» заниматься учительством. Но если «администрация» не пожелает признать вас «благонадежным», вы потеряли годы учения напрасно: учителем вам не быть. Точно так же вам загражден доступ на службу государственную, земскую, а порой (при особенной энергии власти) даже и на частную. Одним словом, без особого милостивого разрешения полиции, называемого «свидетельством о благонадежности», человеку остается порой одна торная дорога – в экспроприаторы. Разрешение на это не нужно, но зато самый «род деятельности» не всякому по силам…
Сколько и каких драм разыгрывается на этой «благонадежной» почве по лицу русской земли, какие «благонадежные» чувства вызывает этот «порядок» в сотнях и тысячах русских людей, встречающих его на первых же распутьях своей жизни, – это представить нетрудно. Мне рассказывали в одном провинциальном городе случай, когда один еще молодой, хотя и семейный человек, согласившись спеть «Ласточку сизокрылую» на любительском литературно-музыкальном вечере, чуть не сгубил этим всю свою карьеру. Маловероятно, но просто: перед «утверждением афиши» г. полицеймейстер наводит справку о «благонадежности» исполнителей. Нельзя же в самом деле допустить, чтобы «Ласточку» всенародно пело на эстраде лицо, политическая репутация коего, быть может, небезупречна. И вдруг – увы! – оказывается, что на политической репутации нашего молодого человека есть пятна… в прошлом. Что-то маловажное: он и сам не знал, Что когда-то, на заре юности, попал на замечание, внесен в секретный список и одно время состоял под секретным надзором. Кончил после этого гимназию, поступил на службу, был на хорошем счету, женился и жил незаметно, забытый до времени полицией. И вдруг – этот ужасный любительский вечер в пользу какой-то библиотеки!.. Роковое заблуждение юности всплывает… Разрешения на «Ласточку» начальство не даст, преступное имя придется снять с афиши, поднимутся разговоры, узнает непосредственное начальство. О господи!.. Молодой человек в отчаянии, жена плачет, на месте недавнего семейного и служебного благополучия – трагедия…
Справедливость требует сообщить, что в данном случае дело кончилось благополучно: полицеймейстер оказался человеком снисходительным и, посоветовав молодому человеку вперед «быть осторожнее», согласился на компромисс: молодой человек якобы сам отказался петь на вечере, афиша была перепечатана без излишней огласки мотивов, «Ласточку» спел человек вполне благонадежный, а злополучная «справка о благонадежности» NN утонула в забвении. Впредь до нового неосторожного шага.
Все это я, конечно, знал. Но… все-таки до сих пор справки требовались в случаях более «важных»: поступление на службу, учительство, «публичное выступление» на эстраде. Что делать? Тут справки давно уже в «порядке вещей». Мы свыклись с мыслью, что «порядок вещей» есть нечто очень хрупкое и неустойчивое, вроде горных лавин, которые, как известно, обрушиваются иной раз от тихого ветерка, даже от громко сказанного слова. Выйдет вот этакий «недосмотренный» начальством молодой человек, в прошлом которого было «что-то», на эстраду и вместо «У меня ль была тоже ласточка» споет нечто не по программе, например: «У меня ль была жизнь свободная»… Или скажет такое магическое «слово», от коего «существующий строй» рухнет внезапно с грохотом и треском и похоронит всех нас под своими обломками. И все это случится так стремительно, что даже злоумышленника не успеют подвергнуть законной или административной ответственности. Во избежание такого ужаса необходимо, значит, чтобы полиция тщательно проверяла секретные жизнеописания всех обывателей, дерзающих выступать публично с пением, чтением, декламацией…
Пусть так. Но экзамены… Да еще дополнительные. Ведь тут нет еще ни учительства, ни земской службы, ни публичных выступлений. Здесь в четырех стенах учебного заведения, в присутствии благонадежнейшего педагогического персонала, так сказать, с глазу на глаз и чуть не по секрету предстоит только спросить у юноши или девицы, какого он или она мнения о числе латинских спряжений, об imperfectum или ablativus absolutus[247], или, наконец, заставить его или ее перевести кусочек из Тита Ливия или Цицерона… Неужели и тут допускается возможность произнесения такого «слова», от коего общественное спокойствие и государственная безопасность поколеблется в основаниях?! Ведь даже самое превратное истолкование сослагательного наклонения может прозвучать не далее благонадежных стен гимназии. И самым осязательным его результатом явится лишь отметка в экзаменационном листе. А если бы даже оказалось в конце концов, что какой-нибудь ужасно «неблагонадежный» юноша получил удостоверение, что он знаком с Овидием «в пределах гимназического курса», то неужели это так опасно?.. То есть так опасно, что из-за этой опасности необходимо тревожить г. местного губернатора? А тот в свою очередь потревожит полицеймейстера, а тот напишет частному приставу «по месту жительства», а тот адресуется секретно в жандармское управление… А если кандидат в «благонадежно экзаменующиеся» выезжал хоть временно из города, то эта цепь изысканий поползет в уезд к исправнику, от него к становому, от станового к уряднику… И потом обратно вверх по административно-иерархической лестнице до самого губернатора. И это всякий раз, как юноша или девица пожелает «подвергнуться испытанию».
Скажите, самые «благонадежные» господа, хоть бы даже носящие мундир ведомства просвещения, неужели это не кажется вам полной бессмыслицей?..
Я позволил себе высказать одну сотую этих соображений г. директору… «Кажется, еще недавно такого свидетельства для дополнительных экзаменов не требовалось»… Господин директор, разумеется, не мог рассеять моих недоумений: «Общее правило… Требование свыше…»
Я понял: в этом выражается тот «прогресс», который с своей стороны внес в дело средней и высшей школы г. Шварц. Прогресс очень знаменательный. Несколько лет назад, задолго еще до «конституции», обнаружилось как-то, что в гимназиях завелась практика «секретных аттестаций». Кроме официального аттестата, учебная администрация посылала в высшие учебные заведения тайные отзывы. Юноша приезжает в Петербург, Москву или Киев. Аттестат у него в порядке, начальство удостоверило «явно», что поведение у него отличное. И вдруг – отказ в приеме. Это значит, подействовала тайная аттестация директора, произошло лишение прав по усмотрению, быть может, по личным счетам с родителями, – тех самых прав, которые официально удостоверены аттестатом.
Это показалось всем до такой степени… предосудительным и даже гнусным, что, помнится, даже кн. Мещерский приветствовал отмену этих аттестаций, как признак «оздоровления» в области средней школы. Но «оздоровление» было непродолжительно: через некоторое время тайные аттестации вновь водворились у порога средних учебных заведений. Только теперь они выдаются не директорами, а полицией и носят название «свидетельств о благонадежности». Трудно сказать, что лучше. Так как и тут, и там действует «усмотрение», тайно и бесконтрольно лишающее явно приобретенных прав, то многие не без основания думают, что это по существу одно и то же. Всевластное сыскное начало, прогнанное в одну дверь, преспокойно вошло в другую.
А теперь господин Шварц это еще «усовершенствовал». Еще в прошлом году «свидетельство о благонадежности» требовалось от экстерна для получения полного аттестата. Теперь оно нужно и для дополнительного экзамена хотя бы только по одной латыни.
Делать, однако, нечего. Приходится отправляться за «свидетельством о благонадежности» в канцелярию г. губернатора. Прошение, гербовый сбор: две марки по 75 копеек.
Вежливый молодой чиновник принимает прошение, пробегает его и говорит с озабоченным видом:
– Таких просьб поступает к нам теперь много. Но… к двадцатому марта мы никак не поспеем; нужны справки…
– Как же, однако, быть экзаменующимся?
– А когда начинаются экзамены?
– Только с первого мая.
– Может быть, можно не к совету, а к экзамену?
Соображение, по-видимому, справедливое: государственная безопасность достаточно обеспечивается, если «отзыв» последует хотя бы к экзамену. В прошлые годы, до конституции и до г. Шварца, это так и делалось: экстерны допускались советом условно.
Теперь «прогресс» и «реформа»: 20 марта состоялся педагогический совет, и всем, о ком отзыва о благонадежности не поступило, в допущении к испытаниям отказано. Допущено всего человек восемнадцать, которые удостоверили свою «благонадежность» к 20-му числу. Позднейшая благонадежность по решению ли г. министра, или киевского попечителя г. Зилова, или же по усердию полтавского педагогического совета оказалась уже недействительной…
Во время одного из своих посещений гимназии по сему, как видит читатель, очень сложному, трудному и мудреному делу я увидел у гимназического крыльца кучку встревоженной молодежи. Это были кандидаты и кандидатки на полные или дополнительные экзамены. Шел взволнованный разговор о «новых барьерах» и неожиданных препятствиях. Говорили о том, как все это сделано грубо, неожиданно и без предупреждения. И во всем видна одна тенденция: допустить к экзаменам как можно меньше. Одним просто отказали («поздно»). Другим указали, что по «новым правилам» они должны держать экзамен «по месту рождения», хотя бы учились и кончили гимназию в Полтаве… У третьих потребовали благонадежности к 20-му, что равносильно отказу… У некоторых собеседниц на глазах стояли слезы. Год потерян – год усилий, лишений, надежд… И к чему это? Для чего? С какой разумною или хоть благовидною целью?
Недоумение разрешил небольшой гимназист, только что вышедший из класса с двумя другими и остановившийся, чтобы послушать, о чем так горестно беседуют экстерны и экстернки. Вникнув в суть вопроса, он толкнул локтем товарища и беззаботно пошел от крыльца, уронив на ходу короткую обобщающую сентенцию: «Подсидели! Здор-рово!»
Это краткое изречение поразило меня своим удивительным значением. Юноша говорил, по-видимому, вполне объективно: ему самому еще долго придется идти проторенным путем от класса к классу, и на сей раз «подсидели» не его и не его товарищей. Но я подумал невольно: что если бы можно было в эту минуту заглянуть в этот юный мозг и отыскать там узелок, в котором формируются представления об «учебном» начальстве, о педагогическом мире, о «наставниках, хранящих юность нашу»? Не оказалось ли бы там совершенно непредвиденное определение: педагогическое начальство вообще – это такие взрослые люди, которые за казенное жалованье «здорово подсиживают» молодежь в ее стремлении к просвещению.
Если это психологический фундамент для радикального успокоения умов в среде учащейся молодежи, то, нужно признаться, фундамент очень своеобразный и едва ли устойчивый.
В заключение этого бесхитростного очерка не могу отказать себе в удовольствии привести небольшой эпизод из недавнего прошлого, о котором мне приходилось уже упоминать в другом месте[248]. Было это во второй половине 80-х годов, то есть в «спокойное» царствование Александра III. Московское студенчество что-то пошумело, и сотни полторы молодых людей были препровождены в Бутырскую тюрьму. Туда же попало сколько-то петербургских студентов за преступное намерение отслужить панихиду по писателе Добролюбове. Таким образом в Бутырках составилось многочисленное и шумное общество, которому пришлось разрешить некоторые отступления от обычных тюремных порядков. Молодежи отвели отдельный коридор, двери камер не запирались, происходили общие чтения, и даже издавалась рукописная газетка.
Я имел случай видеть несколько номеров этого органа тюремной гласности, и мне запомнились некоторые пародии «правительственных известий», в которых непочтительная молодежь характеризовала тогдашние «реформы» и бессилие правительственного «творчества» в этой области. Так, под видом телеграммы из Петербурга сообщалось: «Министерство народного просвещения, считаясь с назревшими требованиями времени, проводит важную реформу в области среднего образования: отныне уроки греческого языка переносятся на место языка латинского и обратно: латинский язык будет преподаваться в часы, когда преподавался греческий».
Однако в одном из следующих номеров появилось вскоре новое официальное известие: оказалось, что смелая реформа, произведенная министерством народного просвещения, не дала желаемых результатов: и юношество, и общество, и даже педагогический персонал оказались неподготовленными к важной перемене, которая может оказаться благодетельной только при высшем уровне культуры. Ввиду этого признано за благо: уроки греческого языка вновь перенести на место латинского и обратно!
«Хотя, таким образом, – писали в передовой статье, комментировавшей важное известие, – все возвращено опять в первобытное дореформенное состояние, однако нельзя не видеть в этой кипучей деятельности нынешнего министерства признаков чуткости к запросам жизни. Кто, кроме самых крайних разрушителей, решится отрицать, что министерство, которое на расстоянии столь короткого времени провело две столь важные реформы, может быть обвиняемо в чем угодно, только не в косности и застое?»
Не могу поручиться за полную точность цитат. Боюсь даже, что «передовицу» я изложил несколько вольно. Но самые пародии известий привожу точно, так как они тогда же поразили меня своей непосредственной меткостью, как и неожиданное обобщение полтавского гимназиста. Прошло более двадцати лет… Мы видели много «реформ». Но не было ли это все переносом уроков греческого языка на место латинского в «либеральные» периоды и возвращение к прежнему порядку в периоды «здоровой реакции»? Ввели родительские комитеты. Упразднили экзамены. Теперь собираются упразднить родительские комитеты. Ввели экзамены… Да, при добром желании это можно считать двумя, нет, даже четырьмя реформами на расстоянии короткого времени…
Кипучая реформаторская деятельность!
Наконец, пришел г. Шварц, человек науки, бывший профессор. Реформаторское творчество его проявилось тотчас же… постановкой еще нескольких барьеров из того же старого, потрескавшегося от долгого употребления материала. Потребовать свидетельство о благонадежности для дополнительных экзаменов… Дополнительные экзамены по месту рождения… Не пущать евреев, не пущать семинаристов, прогнать вольнослушательниц! О почтенный Мымрецов! Претендовал ли он когда-нибудь на то, что его формула превратится в лозунг российского реформаторского творчества!
И, разумеется, г. Шварц еще не сказал нам последнего слова, хотя г. Дубровин и приветствовал его, как истинно-русского министра, который, наверное, введет успокоение… И уже говорят об отставке г. Шварца. Можно думать, что на место г. Шварца придет кто-нибудь еще «истиннейший» и еще руссейший. Он может называться Черновым или Вейссом. Дело не в фамилии, а в продолжении истинно-русских традиций. Придет этот Чернов или Вейсс, и г. Дубровин приветствует его как уже самого настоящего. А о г. Шварце, пожалуй, напишет, что он по ближайшем рассмотрении оказался инородцем и изменником и потому не довел успокоения до конца. При нем требовали одной «благонадежности» для всех дополнительных экзаменов, которых могло быть четыре или пять. Чернов или Вейсс бесстрашно пойдет далее и потребует свидетельства о благонадежности на каждый предмет отдельно: выдержал экзамен по латыни – беги стремглав в полицию и хлопочи о благонадежности для географии. Потом пойдет благонадежность немецкая, французская, арифметическая, геометрическая, физическая, химическая и т. д., и т. д. Перспектива таких реформ очень длинна – вплоть до требования благонадежности при переходе из приготовительного класса в первый. Вот только когда можно будет поручиться за полное успокоение в области российского просвещения. При таком порядке скорее все нынешнее учащееся поколение вырастет, переженится, перестреляется и перемрет, чем хотя один «неблагонадежный» юноша или таковая же девица получит официальное удостоверение в том, что он (или она) может удовлетворительно перевести цицероновское: Quousque tandem, Catilina?..
«Прежде всего – успокоение»!
1908
Из записок Павла Андреевича Тентетникова*
Старинный знакомый отца моего, Павел Иванович Чичиков, будучи, при первом визите, спрошен его превосходительством генералом Бетрищевым об имени и отчестве, с присущею ему скромностию ответил:
– Должно ли быть знаемо имя человека, не ознаменовавшего себя доблестями?
На что сей снисходительный генерал милостиво возразил:
– Однако же… все-таки…
После чего уже Чичиков назвал себя, и тако имя его стало известно избранному обществу.
Через кого? Через генерала!
Тот же коллежский советник Чичиков доложил оному же генералу Бетрищеву и об отце моем, неслужащем дворянине Андрее Ивановиче Тентетникове. При сем случае, желая извлечь отца моего из гнусной неизвестности, в коей он в то время погрязал, сей истинно благонамеренный человек намекнул его превосходительству, якобы он, отец мой, сочиняет в тиши сельского уединения историю российских генералов. Каковое занятие от его превосходительства удостоилось милостивой апробации. Генерал Бетрищев с своей стороны не замедлил сообщить о сем знатному сочинителю Николаю Васильевичу Гоголю, а сей последний о таковом роде занятий отца моего опубликовал в ведомостях. И сим образом скромное имя Тентетниковых, никакими доблестями не ознаменованное, стало знаемо всему свету.
Паки спрошу: через кого? И отвечу: через генерала.
В сих мною выше изложенных обстоятельствах благосклонный читатель усмотреть может те причины, коими отец мой побуждаем был с тех самых пор и даже до преклонного своего возраста непрестанно посвящать перо свое прославлению генеральских доблестей. «Пою богу моему дондеже есмь», – восклицал некогда вдохновенный псалмопевец. «Хотя, конечно, генеральское звание, при всех присвоенных оному преимуществах, не может, однако, приравниваемо быть к божественному, – так говаривал отец мой, – но потолику же и я, неслужащий дворянин, должен почитать себя прениже царственного псалмопевца. И тако – меньшему меньшее – пою и я генералам моим дондеже есмь, усматривая в том назначение моей скромной жизни. Не ознаменованная собственными доблестями, ниже отличиями по службе, – да озаряется доблестями российских генералов, преимущественно военных, однако же не обегая и штатских. Ибо иной хороший, хотя и штатский генерал стоит иного военного, который похуже». Сие занятие по наследственной от отца склонности продолжаю и я, сын его от законного брака с девицею Ульяной Бетрищевой, генеральскою дочерью…[249] В последнее время, однако, увидел я себя вынужденным приобщить к сей летописи также полковников и даже капитанов. Ибо случается ныне, что полковник или капитан, состоя в сих чинах, попадают, однако, в генералы-губернаторы. (Пример – ялтинский Думбадзе.) То как же его не почтить?
А засим прибавлю еще в оправдание некоторой, быть может и излишней игры ума моего: ум, настроенный строем возвышенным, нередко восхищаемый в горние высоты, где приобщается к генералитету, приобретает наклонности к рассуждениям философическим, пиитическим, вообще скажу: трансцендентальным. Ширяя в сем состоянии, подобно орлу, подымается иной раз даже и превыше военного генеральства, а другой раз обозревает долины сей жизни, где влачат презренные дни свои люди штатского звания, в чинах малых, состояния бедного, а изредка – признаться ли? – вовсе без чинов и без состояния. «И о сих иной раз рассудить небесполезно», – говаривал вышеупомянутый знакомец отца моего, коллежский советник Чичиков, который и сам, чин имея невысокий, был, однако, человек знающий и всякого внимания достойный. И так, предупредив, начинаю.
Генерал Г-цкой, по свидетельству всех, знавших сего геройского военачальника, имел нрав вспыльчивый, но отходчивый и великодушный. Будучи однажды чем-то приведен в ярость, внезапно напал на вошедшего к нему солдатика, коего и принялся бить по щекам. И только уже изрядно сего нижнего чина окровянив, стал несколько приходить в спокойствие духа, причем заметил, что в сем случае вышла ошибка. Ибо потерпевший в самую сию минуту был прислан к генералу от другого командира и не только не был виновен, но и о причине постигшего его злополучия ничего знать не мог.
И что же? Будучи в душе своей весьма справедлив и великодушен, генерал Г-цкой не только перестал злобствовать, но, милостиво потрепав солдатика по плечу, сказал с большою снисходительностию сии знаменательные слова:
– Успокойся, любезный. Я больше на тебя не сержусь.
Знают ли бездушные иностранцы примеры столь же трогательного истинно русского благодушия, от коего сей солдатик проливал слезы умиления и долго успокоиться не мог. Прибавлю, впрочем, что ныне при быстро действующем военно-полевом правосудии иной раз таковое генеральское благодушие может и запоздать. Ибо напрасно расстрелянного человека ничем уже ни умилить, ни утешить невозможно…[250]
Некогда писатель Нестор Кукольник, будучи спрошен, как мог он сочинить нечто из области, его дарованию совершенно несродной, ответил вопрошателю:
– Я русский человек. Прикажут – сделаюсь акушером.
Сие правило издавна вдохновляет многих наших деятелей, весьма часто и с великой готовностию попадающих из фельдфебелей прямо в Вольтеры. Так, в недавнее время бравый некий полковник (что ныне генерал-майор), по фамилии Думбадзе, объявился уездным генерал-губернатором Ялтинского уезда. Будучи обстрелян на сей позиции газетчиками, пытался дать оным отпор, однако вскоре заряды его словесности иссякли, почему на дальнейшую канонаду отвечать более не мог. Сей прискорбный для себя оборот уездный генерал-губернатор с благородною армейскою откровенностию объяснил читателям ссылкою на свой послужный список:
– Служил тридцать семь лет, в сражениях с неприятелем участвовал, ранен бывал, имел дело только со стрелками да с винтовками. Почему к писанию и отпискам весьма непривычен. Впрочем, и по военным артикулам в сем деле искусным быть не обязан.
Однако к управлению краем, по приказу начальства, способен в такой даже степени, что в краткое время уподобил Ялту республике известного древнего философа Платона. Ибо, разогнав и больных, и врачей, упразднил равно: и болезни, и необходимость лечения оных…
Из чего явствует, что истинно-русский человек, даже и в грамоте не искусный, по приказанию начальства одинаково легко может стать и бабкой-голландкой и общественным реформатором[251].
О боевых подвигах сего генерала сказать не имею, ибо таковые весьма выразительно прославлены уже в сочинении генералиссимуса манчжурских армий Куропаткина. Не многим, однако, памятно, что сей истинно-русский генерал, с остзейскою фамилией, по приказанию начальства с таким же успехом подвизался на поприще дипломатическом. Ибо, когда замечено было, что в сердцах освобожденных нами болгар иссякает благодарность к освободителям, заменяясь стамбуловским злопыхательством, то генералу Каульбарсу поручено было похвальные чувства словом убеждения паки возжечь и должным образом направить. Почему, объезжая болгарскую страну, созывал на стогнах многое множество народа и перед оным усердно произносил пространные речи. И хотя за то получил полностию как суточное свое довольствие, так и прогоны по чину (лошадей предположительно на сорок), – однако другие плоды сей генеральской элоквенции были уже не столь для отечества нашего благопрятны. Скажу больше: они радовали токмо коварного Стамбулова. Ибо замечено было, что даже в тех местах, в коих население еще колебалось между добродетелью и злодейством, – после предик превосходительного ритора всякое колебание прекращалось и власть врагов наших укреплялась.
По сему поводу вспоминаю следующее: в городе Нижнем, при освящении новопостроенного одного парохода, владельцы оного устроили великое торжество, на которое приглашен был губернатор и многие градские знатные персоны. На коем пиршестве некий весьма известный красноречием купец, по фамилии Башкиров (который ко всякой своей речи имел обыкновение прибавлять: «а больше ничего»), встав с бокалом шампанского в руке и поклонясь губернатору, произнес со слезами на глазах следующие знаменательные слова:
– А теперь, почтенные господа, как мы здесь все истинно-русские люди, то позвольте поднять сей бокал за истинно же русского генерала Каульбарса, который (оратор утирает слезы) вдали от родины (паки утирает слезы) терпит, можно сказать… (еще слезы) знаменитые неудачи.
После чего изобильно оросив в последнее слезами крахмальный пластрон своей сорочки, прибавил, согласно своему обыкновению:
– А больше ничего!..
Все, на обеде бывшие, военные, а равно и штатские персоны сему необычайному тосту много смеялись, не подозревая в то время, что простодушный сей коммерсант несколькими словами своими успел охватить все существо как боевой, так равно и дипломатической деятельности не токмо прославляемого им в ту минуту, но и многих других генералов…
Ныне, когда генерал Каульбарс с равным тому успехом искореняет уже не болгарскую, а российскую крамолу, подвизаясь на поприще административном, уместно вспомнить и о красноречивом нижегородском ораторе.
Некий сибирский губернатор, объезжая вверенную губернию, застигнутый бураном на некоторой станции, стал просматривать на досуге расходную книгу, из коей увидел, что в числе расходов часто упоминалось: «На угощение проезжавшего начальства». Будучи губернатор строг и справедлив, издал после сего циркуляр, в коем приказывалось, под страхом жестокого по законам наказания, дабы на станциях, при проездах чиновных лиц, угощение сим последним никоим образом не отпускалось «без денег».
И что же? Когда после сего один исправник предпринял с своей стороны объезд своего округа, то ему все же подано было обильное угощение, а денег не спрошено и о циркуляре не напомнено. Но исправник, человек тоже строгий, сам вспомнил о губернаторском приказе и сказал тако:
– Это что? Разве вам не известен циркуляр его превосходительства, коим повелевается строжайше, дабы угощение начальствующим лицам «без денег» отнюдь подаваемо быть не могло… Под страхом законной ответственности!
Почему с этих пор, кроме угощения, неизменно требовал еще и знатную сумму денег. А от него сей похвальный обычай позаимствовали и другие…[252]
Известно из гражданской истории, что некто Алкивиад (великий либерал, а впоследствии генералиссимус греческих войск) уже в молодости своей был снедаем честолюбием. И когда однажды заметил, что сограждане мало уже обращают внимания на его слова и поступки, то отрубил великолепной своей собаке хвост. И тогда о сем странном действии в городе паки стала быть молва, с упоминанием Алкивиадова имени…
Генерал Баранов, будучи нижегородским губернатором, для той же цели любил прибегать к разным экстренным мероприятиям, особенно же предпочитал публичное сечение обывателей в порядке административном. А так как при всяком таковом случае не токмо не скрывался, но еще сам печатал о сем приказы и приглашал на экзекуции корреспондентов, то приобрел репутацию великого либерала.
– Посмотрите, – писали о нем в газетах, – как сей прославленный генерал уважает гласность.
Один знакомый мне вице-губернатор, любитель сочинений исторических, поучительных, преимущественно до вице-губернаторского и губернаторского звания относящихся, таким образом изъяснял мне сию свою склонность:
«История, – говорил он, – не токмо поучает, но и утешает зрелищем возрастающего прогресса нравов. Поясню примерами: в 1719 году марта 24 дня Петр Великий послал с нарочным повеление „Смоленскому вице-губернатору с товарищи прислать надлежащие ведомости об окладных и неокладных приходех и расходех“. „А если, – прибавил сей весьма сурьезный монарх, – в мае месяце сего не исполните, то имеет сей посланный указ: всех вас, как вице-губернатора и протчих подчиненных, которые до сего касаются, сковать за ноги и на шею положить чепь и держать в Приказе потамест, покуда вышеписанного не исполните…“»[253]
«Вспоминаю при сем, – добавил вице-губернатор, – другой, не менее прискорбный случай, когда, в царствование сего же великого, но слишком сурьезного монарха, Сенат на бумаге и со внесением в исходящий послал московскому вице-губернатору угрозу: „За молчание, проволочки и не дельные отписки, – черевы на кнутьях вымотать“».
Как сей вице-губернатор был уже стар и душу имел чувствительную, то, при сих горестных воспоминаниях, пролил изобильные слезы. Но тотчас же ободрился и с радостным видом заключил:
– О, сколь велик прогресс нравов со времени Петра и до наших дней! Возможно ли ныне даже самому разнузданному воображению представить себе вице-губернатора, скованного за ноги с старшим советником губернского правления и другими присутствующими, да еще вдобавок с чепью на шее!.. Нет, в наши гуманные времена таковой гнусности даже представить уже невозможно.
И засим, наклонясь ко мне и имея вид лукаво-радостный, старец прибавил тихим голосом:
– Ныне, наоборот, лично я знаю примеры, когда вице-губернаторы, особливо во время исполнения губернаторской должности, – сами ковали за ноги и налагали чепи на обывателей и при сем, благодаря гуманной снисходительности Сената, ни малейших за то неприятностей даже на бумаге не претерпевали…
Не есть ли это явный прогресс нравов!
П. А. Тентетников
1907
Комментарии
Павловские очерки*
Впервые напечатано в журнале «Русская мысль» за 1890 год, No№ 9, 10, 11.
Павловские кустарные промыслы привлекали особое внимание народнических публицистов 80-90-х годов XIX века. Для народников промышленное село Павлово было ярким образцом так называемого народного производства, якобы не имевшего ничего общего с капиталистическим укладом. Тенденциозное и идеализированное освещение жизни павловских кустарей в народнической литературе не могло удовлетворить В. Г. Короленко. В конце 80-х годов Короленко приступил к самостоятельному изучению положения кустарей. Не доверяя народнической литературе, Короленко пытливо и глубоко знакомится с экономикой, бытом и нравами кустарей в самом селе Павлове. Первые поездки писателя в Павлово относятся к 1889 году. Подготавливая отдельное издание «Павловских очерков» в 1897 году, Короленко снова посетил Павлово и на месте проверил и дополнил свои впечатления о положении кустарей.
Дневник писателя за этот год содержит большие записи о «скупке» и разговорах с павловскими кустарями. «Ничего не изменилось», – пишет Короленко в дневнике от 3 февраля 1897 года, сравнивая все то, что он увидел в то время, с картинами «кризисного» 1889 года. Об этом же он писал и в письме к жене от 5 февраля: «Третьего дня я был опять на зимней скупке. Приехал сюда нарочно, чтобы посмотреть скупку при более спокойном настроении рынка (тогда был кризис) и думал, что придется смягчить краски. Представь, что вышло наоборот: ничего смягчать не пришлось. Кризис длится с тех пор для большей части Павлово (замочников), и опять точь-в-точь те же разговоры, и те же картины, и та же ужасная нужда».
Отличное знание экономики и быта павловских кустарей, в которых идеологи народничества видели патриархальных «общников», помогло Короленко нарисовать потрясающую картину обнищания кустарей, отданных на разграбление капиталистической «скупке». В. И. Ленин, работая над книгой «Развитие капитализма в России», направленной против теоретиков народничества, изучал «Павловские очерки» Короленко и упоминает о них в своей работе (Ленин. Соч., т. 3, стр. 382).
«Новая Элоиза» – роман в письмах знаменитого французского писателя и философа-моралиста Жан Жака Руссо (1712–1778); «Дух законов» – сочинение французского писателя Шарля Луи Монтескье (1689–1755).
«Павел и Виргиния» – роман французского писателя Жака Анри Бернарден де Сен-Пьера (1737–1814), в котором описана идиллическая любовь свободных от сословных предрассудков молодых людей,
Роберт Оуэн (1771–1858) – великий английский социалист-утопист, один из предшественников современного научного социализма.
Вольтер Мари Франсуа (1694–1778) – писатель, поэт, философ, историк, публицист, один из крупнейших французских просветителей XVIII века.
В голодный год*
Очерки «В голодный год» находятся в непосредственной связи с работой по оказанию помощи голодающим крестьянам, которую Короленко вел в 1892 году в деревнях Лукояновского уезда Нижегородской губернии. «Наблюдения, размышления и заметки» из записей дневника писателя перешли на столбцы газеты «Русские ведомости» (ряд номеров за 1892 и 1893 гг.), затем на страницы журнала «Русское богатство» (No№ 2, 3, 5 и 7 за 1893 год) и в конце 1893 года вышли отдельной книгой. Историю написания и появления в печати «Голодного года» писатель рассказывает в сборнике очерков «Земли! земли!» («Голос минувшего», 1922 г., кн. 1) в главе «К истории одной книги»:
«…Я решил побывать на местах, присмотреться к бедствию и написать ряд статей о голоде. Приступая к этим очеркам «Голодного года», я имел в виду не только привлекать пожертвования в пользу голодающих, но еще поставить перед обществом, а может быть и перед правительством, потрясающую картину земельной неурядицы и нищеты земледельческого населения на лучших землях. Печать оставалась единственным скромным средством общественного воздействия… Задача при наших порядках была нелегкая.
Мне нужно было провести эти очерки через цензурные затруднения. Сначала они печатались в «Русских ведомостях» с некоторыми невольными выкидками. Потом ежемесячный журнал «Русское богатство» решил перепечатать их из газеты, чтобы дать их в более цельном, менее разбросанном и значительно дополненном виде. Журнал был подцензурный, но цензура мягче относилась к перепечаткам, особенно из московских изданий. Воспользовавшись этим, я стал в первоначальный текст «Русских ведомостей» вставлять дополнения, которые цензор пропускал подряд, не замечая, что это позднейшие вставки. Наконец, то, что окончательно задерживалось петербургской цензурой, – я проводил в других журналах, некоторые главы прошли в «Русской мысли»…
Вот к каким хитростям приходилось прибегать русскому писателю, который тридцать лет спустя после освобождения крестьян хотел в самой скромной форме говорить в печати о невозможном положении земледельческого народа. В своих очерках я описывал лишь то, что видел… У меня была надежда, что, когда мне удастся огласить все это, когда я громко на всю Россию расскажу об этих дубровцах, пралевцах и петровцах, о том, как они стали «нежителями», как «дурная боль» уничтожает целые деревни, как в самом Лукоянове маленькая девочка просит у матери «зарыть ее живую в земельку», то, быть может, мои статьи смогут оказать хоть некоторое влияние на судьбу этих Дубровок, поставив ребром вопрос о необходимости земельной реформы, хотя бы вначале самой скромной.
Русский писатель – большой оптимист, а я тоже русский и писатель. Если мне удастся, – думал я, – обратить внимание хотя бы на эти пределы народного бедствия, на этих «нежителей», если удастся показать, как они остаются до сих пор в прежней крепостной зависимости и к какому справедливому озлоблению это подает повод, то, быть может, начнется некоторое движение в стоячей воде и наконец приступят хоть к этому маленькому уголку реформы… Об ней заговорит литература, ученые общества… Лиха беда начать. В этом деле все так связано одно с другим, что стоит нарушить этот запрет, эту печать невольного молчания, тяготеющего над вопросами земли, – и необходимость серьезной земельной реформы выступит сразу во всем объеме…
В июле месяце 1893 года я напечатал в «Русском богатстве» последние заключительные главы «Голодного года», и мы решили издать его отдельной книгой. Книга была набрана. Но вдруг над нею нависла цензурная гроза…
В Воронеже был вице-губернатором некто Позняк. Покойный писатель Эртель писал мне, что этот вице-губернатор, присутствуя на вечере в пользу голодающих, на котором читались выдержки из моего «Голодного года», – пришел в ужас и с трудом поверил, что все это напечатано в легальной газете. И случилось так, что этот же Позняк был вскоре назначен членом главного управления по делам печати. Одним из первых его дел по вступлении в новую должность была большая докладная записка, составлявшая донос одновременно на меня и на цензурное ведомство, допустившее печатание моих очерков.
…Теперь цензор Позняк выступал не с гласными возражениями, а с келейным бюрократическим доносом. «Итак „черный передел“, – говорил он в своей записке, обобщая по-своему мои призывы к пересмотру наших земельных порядков. – Вот до чего договорился г-н Короленко, откровенно братаясь на страницах подцензурного журнала о единомыслии с органами подпольной прессы…»
Легко представить себе тревогу, какая водворилась в цензурном ведомстве. Ведь это оно, начиная с цензора Елагина и кончая цензурным комитетом и главным управлением, – допускало в течение многих месяцев проповедь «черного передела», тогда как, по словам Позняка, подобные идеи не могут быть терпимы даже и в бесцензурных органах печати, как «опасные для общественного спокойствия» и «порождающие несбыточные надежды в малограмотных слоях общества»…
Но… давно уже сказано, что Россия только и жива чиновничьей непоследовательностью. Бывают порой счастливые случайности, и одна из них оказалась в пользу моей книги. В то время в недрах самодержавного строя были еще живы деятели первой либеральной половины царствования Александра II. Они уже были не ко двору, но самодержавие благодушно предоставляло им нечто вроде почетной опалы…
Один из таких обломков был некто Деспот-Зенович, поляк, бывший сибирский губернатор, известный своей честностью и независимостью. Теперь он состоял «членом совета министра внутренних дел» и живо интересовался литературой и общественными вопросами. Между прочим он следил за моими очерками и ждал выхода книги.
Узнав о записке Позняка, он поднял маленькую бурю в высших чиновничьих кругах. Он был человек настойчивый и пользовался большим уважением в своей среде. Ему удалось заинтересовать даже
Победоносцева и Плеве. Первому он указал на мой теплый отзыв об одном действительно интересном священнике. Второй, – тогда еще не министр фактически, но уже министр в возможности, – слегка либеральничал и был в естественной оппозиции к фактическому министру внутренних дел Дурново…
Я говорю не о знаменитом Петре Николаевиче Дурново, тогда еще директоре департамента полиции, а о другом Дурново, Иване Николаевиче, бывшем черниговском предводителе дворянства и ека-теринославском губернаторе. С миросозерцанием уездного предводителя, некоторым внешним лоском, достаточным для придворного представительства, но необыкновенно невежественный и легкомысленный, – он едва ли прочел в своей жизни хоть одну русскую книгу. И это-то, быть может, спасло мой «Голодный год»! Когда Деспот-Зенович пристал к нему, – он обещал прочесть, но исполнить это обещание было выше его сил. Несколько раз он отговаривался недосугом и, наконец, чтобы отделаться, сказал:
– Да, да, прочел… Совершенно с вами согласен…
– Значит, книга будет пропущена?
– Да, да… Я им скажу…
– Конечно, книгу вашу он не прочел, – говорил мне впоследствии Деспот-Зенович. – И бог знает еще, что вышло бы, если бы прочел…
Разумеется, взгляды Позняка были ему гораздо ближе, чем взгляды писателя Короленко, но… Как бы то ни было, книга была спасена, и даже цензурное ведомство вздохнуло с облегчением».
В начале ноября 1893 года книга «В голодный год» вышла в свет. В связи с этим Короленко записал 7 ноября в дневнике: «Я и доволен и не доволен. Доволен потому, что она чуть не погибла, висела на волоске, – и все-таки вышла и все-таки хоть что-нибудь в ней сказано из того, что у нас погибает в цензуре. Но мне грустно видеть, как она неполна и бледна». Накануне Короленко писал А. И. Иванчину-Писареву, заведывавшему издательством журнала «Русское богатство», о максимальных скидках книгопродавцам, о том, что ни одной своей книжки ему не хотелось распространить быстрее. «Пусть расходится бедное мое детище, унылое, серое и невзрачное, пока его еще не гонят и позволяют показываться в люди».
Книга «В голодный год» выдержала семь отдельных изданий и была напечатана в полном собрании сочинений Короленко, изд. А. Ф. Маркса, 1914 г. Изменение цензурных условий после 1905 года дало писателю возможность в шестое издание книги в 1907 году внести значительные дополнения и изменения. К книге было приложено также «Особое мнение В. Короленко», изложенное им в Нижегородской продовольственной комиссии 27 мая 1892 года. Последующие издания почти не отличались от шестого. В настоящем томе «В голодный год» печатается по последней авторской редакции.
…в письмах (покойного ныне) Фета. – Речь идет о поэте Фете (Шеншине) Афанасии Афанасьевиче (1820–1892), бывшем по своим политическим взглядам крайним консерватором.
Анненский Н. Ф. – см. в восьмом томе настоящего собрания сочинений статью Короленко «Третий элемент» и примечания к ней.
…известный генерал H. M. Баранов, моряк, «герой Весты». – Баранов Николай Михайлович (1837–1908) – генерал-лейтенант, бывший моряк, участник русско-турецкой войны, затем петербургский градоначальник, губернатор виленский, архангельский и с 1883 по 1897 год – нижегородский (см. в восьмом томе настоящего собрания сочинений статью «Третий элемент»). Относительно «Весты» см. в шестом томе настоящего собрания сочинений примечание к стр. 186.
Котерия (франц. coterie – кружок) – сплоченная группа лиц, преследующих какие-либо узкогрупповые своекорыстные цели.
…яркая фигура Колупаева или Дерунова – персонажи из «Пошехонских рассказов» Салтыкова-Щедрина.
Мымрецов – персонаж из очерка Г. И. Успенского «Будка».
Все это уже известно… из брошюры Л. Н. Толстого. – Имеется в виду статья Л. Н. Толстого «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая». Статья была помещена в сборнике «Помощь голодающим», выпущенном 10 декабря 1891 года газетой «Русские ведомости»; через несколько дней она вышла отдельной брошюрой (см. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого, т. 29, Гослитиздат, 1954).
Авсеенко в одном из своих романов сравнивал нашу русскую жизнь с гороховым киселем. – Авсеенко Василий Григорьевич (1842–1913) – сотрудник «Русского вестника», а затем издатель «С.-Петербургских ведомостей», автор романов преимущественно из жизни великосветского чиновничьего общества.
…он слывет настоящим Лекоком. – Лекок – сыщик, герой «уголовного» романа «Г-н Лекок» французского писателя Эмиля Габорио (1835–1873).
В докладе благотворительному комитету, в свое время напечатанном в газетах. – Статья Короленко «Поездка в Лукояновский уезд Нижегородской губернии (Доклад Нижегородскому благотворительному комитету)» была напечатана в газете «Русские ведомости», 1892 г., No№ 93 и 97 (4 и 10 апреля).
Мастерская картина, набросанная Л. Н. Толстым в его известной брошюре «Как помочь голодающему населению» – См. примечание к стр. 163.
Мултанское жертвоприношение*
Статьи печатались в журнале «Русское богатство» и газете «Русские ведомости», начиная с 1895 года. Под названием «Мултанское жертвоприношение» десять статей и заметок на эту тему были собраны в Полном собрании сочинений В. Г. Короленко 1914 года.
Дело по обвинению удмуртских крестьян в человеческом жертвоприношении было, начато в 1892 году. В этом же году суд вынес обвинительный приговор, по которому девять крестьян были приговорены к каторжным работам. В 1895 году на вторичном разбирательстве мултанского дела Короленко присутствовал в качестве корреспондента. Царский суд и в этом случае признал удмуртских крестьян виновными и приговорил их к длительным срокам каторжных работ. 18 января 1896 года в письме к H. H. Блинову Короленко писав: «Рассмотрев все обстоятельства дела, – я до такой степени твердо уверен в полной невинности этих людей и в самой подлой фальсификации следствия и дознания, что у меня нет и тени сомнения. В обвинительном акте – подлоги, в свидетельских показаниях – вынужденность и насилие, в плане, приложенном к делу, – заведомые искажения».
Короленко добивается пересмотра дела и начинает кампанию в печати. В публичных докладах и выступлениях Короленко разоблачал провокационное, подстроенное полицией обвинение удмуртских крестьян и добился нового судебного разбора мултанского дела. На этот раз оно слушалось выездной сессией Казанского окружного суда в мае – июне 1896 года в городе Мамадыше, Казанской губернии. На этом суде Короленко выступил в качестве защитника. Несмотря на тяжелую обстановку, созданную полицией и судебными властями, Короленко сумел раскрыть реакционную сущность клеветы и навета на удмуртских крестьян. Благодаря деятельности Короленко фальсифицированное обвинение было разоблачено и крестьяне оправданы. В письме к брату от 16 июня 1896 года он писал: «Думаю, ты порадовался и за самое дело и за меня! Для всех моих друзей повсюду это было огромное торжество. Между тем, пока еще тут не раскрыта и половина и даже 1/10 доля тех подлостей, которые проделывались над несчастными вотяками, чтобы склеить это якобы „жертвоприношение“. Тут просто действовала шайка полицейских с товарищем прокурора во главе…»
По поводу этого процесса газета «Правда» в 1913 году писала: «В Вятской губернии против местных инородцев-вотяков был затеян судебный процесс по обвинению в убийстве с целью человеческого жертвоприношения. Это кошмарное и невероятное дело, взволновавшее все общество, тянулось очень долго; оно три раза пересматривалось, подсудимые была вконец измучены этой судебной волокитой и висевшим над ними обвинением. Короленко принял горячее участие в судьбе мултанцев Он выступил в процессе в качестве защитника рядом с профессиональными адвокатами, своим выступлением и газетными статьями привлек к делу внимание общества и много, если не главным образом, содействовал оправданию мултанцев, а вместе с тем реабилитации целой народности от позорного обвинения».
Ессеи – древнееврейская секта, искавшая «спасение» в бегстве от жизни, в религиозной мистике. Адонаи (древнеевр.) – господь.
Паллас Петер Симон (1741–1811) – натуралист и путешественник. Миллер Федор Иванович (1705–1783) – ученый-историк, этнограф.
Это видели два стража. Баба, шедшая на рынок, Да причетник кафедральный, Возвращавшийся с поминок, – парафраз заключительной строфы стихотворения А. Н. Майкова «Приговор».
Знаменитость конца века*
Впервые статья была напечатана в одиннадцатой книге журнала «Русское богатство» за 1898 год.
В 1894 году военный суд в Париже признал капитана французской армии еврея Альфреда Дрейфуса виновным в шпионаже и продаже германскому правительству секретных документов. Главной уликой против Дрейфуса являлось выкраденное у германского военного агента препроводительное письмо (бордеро). Некоторые эксперты признали почерк, которым написано бордеро, почерком Дрейфуса. Капитан Дрейфус был разжалован и сослан на Чертов остров. Начиная с 1896 года в левой печати и в общественных кругах Франции стали раздаваться голоса о том, что. Дрейфус – жертва судебной ошибки и подлогов ряда лиц. В январе 1898 года в газете «Aurore» появилось письмо Эмиля Золя к президенту республики под заголовком «J'accuse» («Я обвиняю»). В этом письме Золя доказывал, что Дрейфус не виновен, что генеральный штаб и военное министерство сознательно направили следствие по ложному пути. Автором бордеро Золя назвал майора Эстергази. Дело об этой статье было передано в суд. Золя был осужден за клевету и приговорен к году тюремного заключения и штрафу. Писателю пришлось эмигрировать. Общественная жизнь Франции была потрясена делом Дрейфуса: вся страна разделилась на два резко враждебных лагеря – дрейфусаров и антидрейфусарсв. На стороне обвинения была вся военщина во главе с министрами (Мерсье, Кавеньяк) и генеральным штабом (генералы Буадеффр и Гонз). К ним примкнули клерикалы, националисты и, главным образом, антисемиты (Рошфор, Дрюмон). На сторону Дрейфуса стали радикалы (Клемансо), социалисты (Жорес), умеренные республиканцы (Кестнер). В 1896 году полковник Жорж Пикар, начальник разведывательного бюро французского генерального штаба, обнаружил документы, свидетельствовавшие о невиновности Дрейфуса и шпионской деятельности майора Эстергази. Пикар установил, что автором бордеро был Эстергази. За выступление в печати с этими материалами Пикар был переведен реакционным командованием на службу в Тунис, а затем арестован по обвинению в разглашении государственной тайны и заключен в тюрьму.
Выборы президента Лубе обнаружили перевес дрейфусаров. Военный министр Кавеньяк вынужден был признать, что предъявленный суду документ был подделан подполковником Анри. Анри был арестован и покончил в тюрьме самоубийством. В 1899 году кассационный суд признал целый ряд документов подложными. К этому времени майор Эстергази, бежавший в Англию, заявил публично, что автором бордеро является он. Общественное возбуждение достигло крайнего напряжения во время вторичного слушания дела в 1899 году; во время судебного процесса был ранен защитник Дрейфуса Лабори. Дрейфус вновь был признан виновным, но при смягчающих вину обстоятельствах. Суд заменил пожизненное заключение на Чертовом острове десятилетним тюремным заключением. В 1903 году Дрейфус потребовал нового пересмотра дела. Было произведено новое следствие, и в 1906 году суд отменил не только приговор, но и самое постановление о предании Дрейфуса суду. Уже выборы в палату депутатов в 1902 году свидетельствовали о провале клерикалов и антисемитов, но во Франции оставалось еще много активных антидрейфусаров. В 1908 году во время перенесения праха Эмиля Золя в Пантеон антисемит Грегори ранил Дрейфуса. Однако влияние прогрессивной части общества непрерывно росло., Когда в 1913 году военный министр Мильеран принял на службу Пати дю Клама, одного из следователей-фальсификаторов в деле Дрейфуса, то Мильерану пришлось уйти в отставку.
Дело Дрейфуса явилось одной из самых ярких страниц истории Франции на рубеже конца XIX и начала XX века. Это дело стало в центре общественного внимания не только во Франции, но и во всем мире.
19 ноября 1898 года Короленко записал в дневнике:
Черты к истории цензуры, – вечно юная история!
В этом месяце в «Русском богатстве» должна появиться моя заметка «Знаменитость конца века». Речь идет о знаменитом Эстергази, обещающем свои «разоблачения», которые должны одновременно появиться в Лондоне и Париже. Герой подлогов, готовый из-за денег разоблачить свое и чужое негодяйство, стал знаменитым писателем, откровений которого с нетерпением ждут две, а может и более столиц! Попутно я касаюсь также дела Дрейфуса и того любопытного явления, что у нас и до сих пор есть горячие защитники французского «штаба подделывателей». Как известно, во Франции существовал проект памятника Апри, сознавшемуся в подлогах. Это будет первый еще памятник, поставленный заведомому и доказанному негодяйству. На нем придется написать: «Здесь покоится прах Анри, доблестного подделывателя документов».
Цензор это место вычеркнул.
Другая выкидка. «Рошфор, обращаясь к толпе своих фанатизированных приверженцев, придумывает казнь для членов кассационного суда. Сжечь живьем? – это не ново. Гильотинировать? – это слишком мягко. (И вот французский патриот изобретает вид казни, который я не привожу в подробностях, так как это хуже всякой порнографии. Достаточно сказать, что речь идет о вырезывании ножницами век, после чего к глазам привязываются в ореховых скорлупах голодные тарантулы!). Вот для чего эти господа употребляют теперь изобретение Гутенберга».
Все, поставленное в скобках, цензор вычеркнул!
В прошлом году наш парижский сотрудник написал, что Рошфор «все-таки человек остроумный». Это было вычеркнуто. Цензор вспомнил, что он – бывший коммунар. Теперь мы приводим с негодованием изуверство Рошфора, – и цензура считает нужным оберегать его репутацию. Вероятно, цензор вспомнил, что он – «все-таки патриот».
Впрочем, об остроумии не позволил говорить цензор Елагин. Об изуверстве – запретил упоминать цензор Соколов.
В архиве писателя сохранилось его письмо от 24 сентября 1899 года к французскому журналисту и путешественнику Жюлю Легра, в котором он пишет: «Сестра передавала мне, что вы были огорчены моей статьей („Знаменитость конца века“), трактовавшей о Дрейфусе и Эстергази. Что делать… Так мне и, скажу смело, всему либерально настроенному русскому обществу это дело представляется. На одной стороне тут стоит человеческое право и защита правосудия – посредством свободного и смелого слова – устного и печатного. На другой – подлоги (заведомые и доказанные), тайные убийства, извращение истины, стремление зажать рот и возбуждение дурных страстей и национальной вражды. На одной стороне – гражданин, на другой – штабной генерал. Вы скажете, что мы, иностранцы, не можем правильно судить о Ваших делах. Очень может быть. Но, во 1-х, Франция давно уже приучила нас многие свои дела считать общими делами, а во 2-х, есть много французов, думающих, как и мы. И мы видим „общее дело“ человечества, к которому стремятся все наши симпатии, на той стороне, где отдельные лица выступили против предрассудка и торжествующей силы – за невинно осужденного. На этой стороне – Ш. Кестнер, Золя, Лабори, – Лабори, в которого за это стреляли. А на другой – господа генералы, которые каким-то странным образом „устранили“ того самого Анри, которому теперь хотят ставить памятник. Первый еще в истории человечества памятник фальсификатору – за фальсификацию! – Простите эти резкие слова, но ведь в самом деле многие дела Франции не могут считаться только ее делами…»
Включая эту статью в пятый том полного собрания сочинений, изд. А. Ф. Маркса, 1914 г., писатель восстановил второй из отрывков, вычеркнутый цензурой в 1898 году.
Барнум Тейлор (1810–1891) – американский антрепренер, наживший миллионы долларов благодаря умению привлекать публику самой беззастенчивой рекламой.
Джек-потрошитель – известный преступник, совершивший в девяностых годах в Англии ряд зверских убийств женщин.
…как Тропман, казнь которого так превосходно описана Тургеневым. – И. С. Тургенев «Литературные и житейские воспоминания. Казнь Тропмана» (1870).
…знаменитый некогда Веллингтон. – Веллингтон Артур Уэлсли (1769–1852), герцог, английский полководец и политический деятель. Одержал в 1815 году победу над Наполеоном при Ватерлоо.
…как некогда Мадзини, Виктор Гюго и другие «шаблонные герои» устаревшей европейской истории – г. Эстергази переправляется тайно через границу. – Мадзини Джузеппе (1805–1872) – крупнейший деятель итальянского национального освободительного движения, вождь революционного крыла итальянской буржуазии в период борьбы за воссоединение Италии. В 1830 году подвергся изгнанию. Неоднократно тайно, возвращался в Италию, руководя попытками революционных восстаний. Виктор Гюго (1802–1885), в связи с его выступлением против захвата власти Луи Наполеоном Бонапартом, также вынужден был уйти в изгнание и вернулся на родину лишь после падения Второй империи.
Может быть злополучный Мадрид забудет на время несчастия своей страны и позор своих поражений. – Имеется в виду разгром Испании в испано-американской войне, в результате которой по Парижскому миру 1898 года Испания принуждена была отказаться в пользу САСШ от суверенных прав в отношении Кубы, Порто-Рико, Филиппин и Маршальских островов. В 1899 году Испания окончательно потеряла свое значение как колониальная держава, продав германскому правительству Каролинские, Марианские и острова Палау.
Вершина Чимборасо – одна из высочайших вершин Южно-Африканских Анд в Эквадоре (6310 метров).
Рошфор Анри (1831–1913) – французский публицист и политический деятель. В 1870 году за призыв к свержению Империи был заключен в тюрьму, откуда его освободила революция. В 1872 году по приговору версальского военного суда был сослан в Новую Каледонию, откуда в 1874 году бежал в Англию. В 1895 году вернулся во Францию. С этого времени он резко изменил своему революционному прошлому и в деле Дрейфуса стал на сторону реакционеров-антисемитов.
…хочется сказать великому народу: Ты жалкий и пустой народ! – из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Последнее новоселье» (1841).
Что им Гекуба, что они Гекубе? – Слова Гамлета из второго действия трагедии Шекспира «Гамлет». По греческой мифологии, Гекуба – жена несчастного троянского царя Приама и мать девятнадцати погибших при осаде Трои сыновей.
У Лесажа, в истории Жиль-Блаза де-Сантильяна. – Лесаж Ален-Рене (1668–1747) – французский романист и драматург, создатель французского реалистического романа XVIII века. Его роман «История Жиль-Блаза» содержит широкую сатирическую картину нравов французского общества в период упадка абсолютистского строя.
Монтионовская премия – так называемая «премия добродетели»; выдавалась французской академией за сочинения, «способствующие улучшению нравственности». Средства на выдачу этой премии завещал французский филантроп Монтион Антуан-Оже (1733–1820).
Дом № 13*
Очерк опубликован отдельной брошюрой в 1905 году. Написан летом 1903 года для журнала «Русское богатство», но не был пропущен цензурой. До опубликования в России очерк был напечатан в нескольких заграничных изданиях.
Сорочинская трагедия*
Впервые напечатано в четвертой книге журнала «Русское богатство» за 1907 год.
Газета «Правда» по поводу «Сорочинской трагедии» в 1913 году писала: «Экзекуция над крестьянами Полтавской губ<ернии> на почве земельных „недоразумений“ заставляет его (Короленко. – Ред.) выступить в печати с протестом против действий руководителя этой экзекуции – советника Филонова. Эта кампания влечет за собой привлечение Короленко к ответственности по обвинению в подстрекательстве к убийству Филонова».
Протест Короленко против массовых расправ над крестьянами Миргородского уезда, Полтавской губернии, имел громадный общественный резонанс. Как отмечал сам Короленко, его выступление против Филонова «производило огромное впечатление: чиновничество всполошилось, как муравейник, общество (за исключением правового порядка) и крестьянство ободрялось».
Бытовое явление*
Впервые: Русское богатство. 1910. N 3, 4. В этом же году статья опубликована отдельным изданием в Петербурге. Отдельное издание статьи было выпущено в середине июля 1910 г. тиражом 3000 экземпляров и разошлось в течении нескольких дней. Еще раньше оно вышло на русском языке в Германии в изд. Ладыжникова.
В 1918 г. Короленко внёс в статью дополнения и исправления. Документы и материалы о смертной казни, использованные в статье, Короленко собирал с 1899 г.
Прочитав первую половину статьи, Толстой писал Короленко:
Короленко.
27 марта 10 года. Ясная Поляна.
Владимир Галактионович,
Сейчас прослушал вашу статью о смертной казни и всячески во время чтения старался, но не мог удержать не слёзы, а рыдания. Не нахожу слов, чтобы выразить вам мою благодарность и любовь за эту и по выражению, и по мысли, и главное, по чувству – превосходную статью.
Её надо перепечатать и распространять в миллионах экземпляров. Никакие думские речи, никакие трактаты, никакие драмы, романы не произведут одной тысячной того благотворного действия, какое должна произвести эта статья.
Она должна произвести это действие – потому, что вызывает такое чувство сострадания к тому, что переживали и переживают эти жертвы людского безумия, что невольно прощаешь им, какие бы ни были их дела, и никак не можешь, как ни хочется этого, простить виновников этих ужасов. Рядом с этим чувством вызывает ваша статья ещё и недоумение перед самоуверенной слепотой людей, совершающих эти ужасные дела, перед бесцельностью их, так как ясно, что все эти глупо-жестокие дела производят, как вы прекрасно показываете это, обратное предполагаемой цели действие; кроме всех этих чувств статья ваша не может не вызвать и ещё другого чувства, которое я испытываю в высшей степени – чувство жалости не к одним убитым, а ещё и к тем обманутым, простым, развращаемым людям: сторожам, тюремщикам, палачам, солдатам, которые совершают эти ужасы, не понимая того, что делают.
Радует одно то, что такая статья, как ваша, объединяет многих и многих живых не развращённых людей одним общим всем идеалом добра и правды, который, что бы ни делали враги его, разгорается всё ярче и ярче.
Лев Толстой.
Впервые письмо Толстого было напечатано: Речь. 1910. 18 апр.
Во всех заграничных изданиях письмо печаталось в виде предисловия к статье Короленко.
После прочтения оставшейся части статьи, Толстым было написано еще одно письмо к Короленко:
Ясная Поляна. 26 апреля 1910 года.
Прочёл и вторую часть вашей статьи, уважаемый Владимир Галактионович. Она произвела на меня такое же, если не ещё большее впечатление, чем первая. Ещё раз, в числе, вероятно, многих и многих, благодарю вас за неё. Она сделает своё благое дело. Надо бы непременно напечатать и как можно больше распространить её. Будет ли это сделано?
Сейчас читаю замечательную книгу, появившуюся в Лос-Анжелос под заглавием «Преступление и преступники» Grifith J. Grifith, «Crime and Criminals», которая даёт богатый материал, доказывающий всё большее и большее увеличение числа преступлений в Америке; показывает по верным данным, что ежегодный, всё увеличивающийся, расход на подавление преступлений доходит – страшно сказать – до 6 биллионов долларов, статистическими данными доказывает, что карательная деятельность правительства, в особенности смертные казни, заразительно действуют на общество, увеличивая число убийств. Книга очень смелая и интересная. Я думаю, что хорошо бы было напечатать её. Если найду переводчика, предложу вам.
Дружески жму руку.
Лев Толстой.
(Л. Н. Толстой. Собр. соч. в 22 тт. М., «Художественная литература», Т. 20., 1984.)
«Определение святейшего синода» об отлучении Толстого от церкви появилось в «Церковных ведомостях» 24 февраля 1901 г., а на другой день почти все газеты вышли с полным текстом этого определения на первых полосах. «Святейший синод» рассчитывал, что удастся подорвать авторитет Толстого, унизить его и тем ослабить его мощное воздействие на умы современников, особенно простых русских людей. Впрочем, отлучение было проведено с некоторой робостью и неуверенностью: торжественное анафемствование Толстого не провозглашалось с амвонов православных церквей ни в 1901 г, ни позднее. Прежде всего потому, что личная анафема, т. е. упоминание имён грешников, была отменена в России задолго до 1901 г. Кроме того, с редактированием и публикацией текста отлучения церковники намеренно медлили и пропустили тот день (единственный в году), когда полагалось возглашать анафему. Свой ответ синоду Толстой начал спустя месяц после публикации отлучения побуждаемый «увещательными» письмами. В своём ответе он ещё раз подтвердил свои взгляды на религию и официальную церковь.
Чертков Владимир Григорьевич (1854–1936) – друг и единомышленник Толстого, издатель его сочинений, организатор издательства «Посредник»(1884–1935), издавал вместе с П. И. Бирюковым газету «Свободное слово»(Лондон, 1901–1905), сб. «Листки „Свободного слова“» (1892–1902), редактор полн. собр. соч. Л. Н. Толстого в 90 тт.
Витте Сергей Юльевич (1849–1915) – русский государственный деятель, в 1905–1906 гг. – председатель Совета Министров.
Шмидт Пётр Петрович (1867–1906) – лейтенант Черноморского флота в отставке, руководитель севастопольского восстания 1905 г. Расстрелян.
Его судили с беспристрастием… – писал по этому поводу Виктор Гюго… – здесь и далее Короленко цитирует воззвание известного французского писателя В.Гюго (1802–1885) «Жителям Гернси» (1854) (Из речей и воззваний Виктора Гюго в изгнании. СПб., 1887. С. 30–47).
Черты военного правосудия*
К работе над статьей «Черты военного правосудия» Короленко приступил летом 1910 года. «Нырнул в статью. Пишется пока хорошо… Вчера и третьего дня немножко нервничал (как всегда перед настоящим приступом к работе). Сегодня бодр. Написанное мне нравится», – писал Короленко жене 24 июля 1910 года. На другой день Короленко сообщает ей же: «Статья двигается хорошо. Пока идет живо и бодром тоне, о котором я тебе говорил: не жалость, а негодование». Статья была окончена в сентябре, уже по возвращении Короленко из Петербурга в дер. Хатки на Полтавщине. «Погряз я в смертницком вопросе и все еще не выбрался. Надеюсь дня через три послать последнюю из обязательных статей этого цикла и сейчас же перейду к другим работам. А то ни за что не могу взяться, пока не выгружу», – писал Короленко 2 сентября А. Г. Торнфельду.
Статья была напечатана в октябрьской книжке «Русского богатства» за 1910 год. 29 октября на книжку был наложен арест, но постановлением Судебной палаты от 5 ноября арест с книжки был снят.
Пятого ноября 1910 года Короленко писал дочерям:
«Эти статьи для меня все-таки больное место. Каждый раз, когда пишу, мне то кажется, что выходит, то опять думается, что бледно, и то чувство, которое все время кипит во мне, не находит выражения.
…Вы уже знаете, что арест снят. Сначала я очень обрадовался. Просто почувствовал, что мне все-таки не зажали рта и книжка дойдет до читателей. Но потом к этому все-таки присоединилась мысль, что, может быть, было бы и лучше, если бы судили и даже хоть посадили. Чорт бы с ними, а дело было бы все-таки еще подчеркнуто».
Общественный интерес, вызванный «Чертами военного правосудия» был очень велик, что сказалось, между прочим, в большом количестве писем, полученных писателем в связи с опубликованными им фактами.
В отдельном издании «Черты военного правосудия» не появились, несмотря на некоторые упоминания в письмах Короленко о том, что он готовился выпустить эту статью отдельной книжкой.
Как и «Бытовое явление», «Черты военного правосудия» не были пропущены цензурой в полном собрании сочинений Короленко, изд. А. Ф. Маркса в 1914 году. 5 ноября 1914 года в письме к заведующему издательством «Нивы» А. Е. Розинеру Короленко писал: «Известие о цензурном вмешательстве в издание огорчило меня до глубины души: запрещены самые значительные мои публицистические работы».
Для готовившегося в 1918 году издания дополнительного десятого тома собрания сочинений Короленко значительно переработал статью «Черты военного правосудия». Изменено количество и названия глав, введены фактические поправки, печатавшаяся ранее отдельно статья «Дело Глускера» введена в «Черты военного правосудия», как вторая глава статьи.
В настоящем издании статья печатается в последней авторской редакции.
Такую же роль сыграло «особое внимание» Победоносцева в деле Скитских. – В конце 90-х годов при загадочных обстоятельствах в Полтаве был убит секретарь полтавской духовной консистории Комаров. В этом убийстве обвинили двух братьев Скитских. Суд дважды выносил обвинительный приговор, но он оба раза был кассирован сенатом. В 1900 году, после третьего разбирательства, братья Скитские были оправданы.
…похож на злополучного ялтинца, который, избегнув осколка брошенной террористом бомбы, попадает тотчас оке под выстрелы храброго генерала Думбадзе. – См. в этом же томе статью «Генерал Думбадзе, ялтинский генерал-губернатор».
Князь Урусов в своих известных воспоминаниях губернатора… – Урусов Сергей Дмитриевич (род. 1862 г.) – крупный землевладелец. В 1903–1904 годах после кишиневского погрома был бессарабским губернатором, в 1905 году – тов. министра внутренних дел. Член I Государственной думы, где выступал с разоблачением погромной деятельности департамента полиции после 17 октября 1905 года. За участие в составлении так называемого «выборгского воззвания», обращавшегося к населению с призывом бойкотировать выполнение каких бы то ни было повинностей государству в знак протеста против разгона I Государственной думы, был приговорен к трем месяцам заключения в крепости и лишению избирательных прав. В 1907 году выпустил получившую широкую известность книгу «Записки губернатора».
Родичев Ф. И. – См. примечание к стр. 477.
…двинского полицеймейстера Булыгина. – Описка автора – Булыгин был помощником полицеймейстера.
…судей скоро вернули бы к трезвой действительности теми мерами, какими добились, например, смертных приговоров в Новороссийске. – Имеется в виду дело о «Новороссийской республике», просуществовавшей в 1905 году две недели. Даже военный суд дважды отверг обвинение по статье, карающей смертной казнью, и установил, что администрацией во время следствия были допущены вопиющие правонарушения. В 1910 году дело слушалось в третий раз в новом составе суда, и в результате исключительных мер воздействия, примененных в отношении судей, обвиняемым были вынесены смертные приговоры.
…как библейское «Мане-текел-фарес». И не надо быть Даниилом, чтобы, понять его смысл. – Как рассказывается в библии, «мане, текел, фарес» – таинственные слова, появившиеся на стене дворца, где происходил устроенный вавилонским царем Валтасаром пир, на котором, по его приказанию, пили из священных сосудов, похищенных из иерусалимского храма. Словами этими якобы карающая рука бога предвещала гибель Валтасара и всего его царства. Понять и разъяснить смысл этих слов смог, по преданию, только пророк Даниил.
Меллер-Закомельский Александр Николаевич, барон (род. в 1844 г.) – рижский генерал-губернатор, один из свирепейших царских палачей, подавлявших первую русскую революцию 1905 года.
Леонтьев Константин Николаевич (1831–1891) – реакционный писатель, публицист. Идеалом Леонтьева было неограниченное самодержавие и воинствующая православная церковь.
Что случилось потом с Фрунзе? – Владимирским военным судом были допущены по делу М. В. Фрунзе столь грубые процессуальные нарушения, что главный военный суд был вынужден по кассационной жалобе защиты отменить приговор и передать дело на новое рассмотрение. Вторично суд состоялся 22 сентября 1910 года. Фрунзе снова был приговорен к смертной казни через повешение. Однако приговор этот своей необоснованностью вызвал исключительное возмущение в самых широких общественных кругах. Политические протесты приняли такие размеры, что царское правительство принуждено было заменить Фрунзе смертную казнь десятилетней каторгой, которую он отбывал во Владимирском, Николаевском и Александровском централах.
…очерки господина С. («Смертники») – напечатаны в 7 и 8 книгах «Вестника Европы» за 1910 год.
В успокоенной деревне*
Статья написана в январе 1911 года в деревне Дубровке, Сердобского уезда, Саратовской губернии. Впервые напечатана в газете «Русские ведомости» № 27, 4 февраля 1911 года.
Истязательская оргия*
Статья впервые напечатана в газете «Речь» 18 декабря 1911 года № 347. Включена писателем в девятый том полного собрания сочинений, изд. А. Ф. Маркса, 1914 г.
Псковская Центральная каторжная тюрьма была открыта в декабре 1908 года. В ней содержались тысяча уголовных и сто пятьдесят политических заключенных. По тяжести режима она считалась на первом месте среди всех тюремных централов. В Псков переводили «для исправления» заключенных из других тюрем.
В октябре 1911 года политзаключенным удалось передать на полю обращение «Ко всем социалистическим партиям в России и за границей». В прогрессивной печати началась кампания против истязаний заключенных в псковском централе. Статьи Короленко сыграли большую роль в этой кампании.
В декабре 1911 года в псковском централе возникла голодовка заключенных, выставивших ряд требований. Через четыре дня тюремное начальство уступило, и режим был несколько смягчен. В мае 1914 года снова была объявлена голодовка, в которой участвовало 286 человек. Социал-демократическая фракция Государственной думы внесла запрос о голодовке, но его рассмотрению помешала начавшаяся война.
О «России» и о революции*
Статья впервые напечатана в газете «Речь» 24 декабря 19J1 гола, № 353. Включена писателем в девятый том полного собрания сочинений, изд. А. Ф. Маркса, 1914 г.
Господина Панчулидзева судили за «клевету». – Разоблачения Панчулидзева касались преступных действий полиции в деле крестьян деревни Кромщина. (См. в настоящем томе статью «В успокоенной деревне».)
…по поводу псковской истории вспомнить историю филоновскую. – См. в настоящем томе статью «Сорочинская трагедия».
Дело Бейлиса*
Статьи, печатаемые под этой рубрикой, написаны в 1913 году в Киеве, во время процесса Бейлиса, обвинявшегося в ритуальном убийстве христианского мальчика Андрея Ющинского. Процесс этот, привлекший к себе огромное, напряженное внимание всей России, был организован главарями киевских черносотенцев при содействии высших властей, в том числе самого министра юстиции Щегловитова. В 1911 году ввиду предстоящего процесса в Петербурге происходили совещания юристов и прогрессивных писателей, и В. Г. Короленко, который участвовал в этих совещаниях, составил текст коллективного протеста, озаглавленный «К русскому обществу (по поводу кровавого навета на евреев)». Протест этот был опубликован за многими подписями писателей, ученых и общественных деятелей. В декабре того же 1911 года появилась статья Короленко «К вопросу о ритуальных убийствах», посвященная истории происхождения разного рода ритуальных легенд и их опровержению («Русское богатство», 1911, кн. 12). По мере приближения процесса, исход которого очень волновал все передовое русское общество, к Короленко стали обращаться с разных сторон с просьбами лично выступить на суде в защиту Бейлиса. Это отвечало собственному желанию Короленко, но обострившаяся в это время болезнь сердца сделала для него невозможным подобное выступление. Лечившие его врачи старались удержать его даже от поездки в Киев.
«…Но сидеть здесь и только читать газеты не могу», – писал Короленко из Полтавы сестре. Он приехал в Киев 11 октября 1913 г. и оставался здесь до конца процесса, присутствуя на суде в качестве журналиста. «Нахожусь в Киеве собственно потому, – писал он Ф. Д. Батюшкову, – что не мог бы себе во время этой подлости найти места в Полтаве. Нашел ли место здесь? Не скажу. Но все-таки хоть вижу собственными глазами». Начиная с 20 октября в столичных газетах стали появляться корреспонденции
В. Г. Короленко, посвященные происходящему процессу. Из этих корреспонденции здесь даются четыре. За одну из них, разоблачавшую фальсификацию состава присяжных, Короленко был привлечен к суду.
Судебное разбирательство по делу Бейлиса продолжалось с 25 сентября по 28 октября 1913 года. Председательствовал на процессе Ф. А. Болдырев (председатель Киевского окружного суда), единомышленник черносотенцев. В качестве «ученых экспертов» судом привлечены были также злейшие ненавистники евреев, настаивавшие на существования у последних ритуальных убийств.
Заведомые виновники убийства Андрея Ющинского, преступные элементы из воровской шайки, известной полиции, фигурировали на процессе в качестве свидетелей, причем суд всячески старался их обелить. «Все это волнует, раздражает, печалит… Это прямо какая-то Лысая гора, а не суд», – писал Короленко своим близким. «Дело до такой степени явно и бесстыдно, что даже удивительно, – говорит Короленко в своем письме, – и нужно разве совершенно подобранный (лично и поименно) состав присяжных, чтобы обвинить Бейлиса».
При всех тяжелых впечатлениях, которые Короленко выносил из залы суда, он все же до конца не терял надежды на то, что даже темные и предубежденные присяжные разглядят правду. Процесс закончился 28 октября. Черносотенные организации, ожидавшие обвинительного приговора, сделали уже все приготовления к погрому, который должен был начаться немедленно после обвинения Бейлиса. Однако присяжные вынесли оправдательный приговор.
На Лукьяновке (во время дела Бейлиса)*
Об этой первой своей киевской статье В. Г. Короленко писал родным 19 октября: «В статье я пытаюсь дать самый остов этого дела в связи с впечатлениями на Лукьяновке, предместьи Киева, где завод Зайцева. Там, по-видимому, жители убеждены, что Бейлис не виновен». Статья «На Лукьяновке» вошла в собрание сочинений издания А. Ф. Маркса,
т. IX. Дается в настоящем томе по тексту этого издания. В статье встречается упоминание о Мищуке и Красовском. Первый – бывший начальник киевской сыскной полиции, второй – бывший становой пристав. Оба были отстранены от расследования из-за неудобства, связанного с тем, что они повели розыски в сторону настоящих виновников – воровской шайки Веры Чеберяк.
Господа присяжные заседатели*
Статья эта появилась в газетах «Русские ведомости» № 248 и «Речь» № 294 от 27 октября 1913 года. В собрание сочинений издания А. Ф. Маркса не вошла (см. следующую статью на ту же тему).
Господа присяжные заседатели (статья вторая)*
Напечатана 28 октября в приложении к № 248 «Русских ведомостей» (в собрание сочинений издания А. Ф. Маркса не вошла). Статья эта была конфискована и Короленко был привлечен к судебной ответственности. Глубоко уверенный в своей правоте, Короленко писал сестре: «Буду рад суду, но суда, вероятно, не будет». Процесс несколько раз откладывался и, по мнению юристов, грозил обвиняемому заключением в крепости, так как по существовавшим законам подобная статья о присяжных вменялась в большое преступление. В. Г. Короленко и его защитнику было категорически отказано в вызове свидетелей и в представлении документов, подтверждающих факт фальсификации состава присяжных. Суд угрожал В. Г. Короленко вплоть до 1917 г., – был отменен революцией.
Присяжные ответили…*
Корреспонденция эта появилась 29 октября в «Русских ведомостях» № 249 и в газете «Речь» № 296 (в последней под заглавием «Приговор»). В собрание сочинений издания А. Ф. Маркса не вошла. О впечатлении от приговора В. Г. Короленко писал брату Иллариону по возвращении в Полтаву: «…Ты, брат, не можешь и представить себе, что это делалось на улицах Киева в момент оправдания. Такая общая радость, такой поток радости, что в нем прямо потонуло впечатление от тысяч черносотенцев, собравшихся темным пятном у Софийского собора (почти рядом с судом)». (Письмо от 5 ноября 1913 года «Избранные письма», т. II.).
О суде, о защите и о печати*
Статья впервые напечатана в восьмой книге «Русского богатства» за 1913 год. Вошла в восьмой том полного собрания сочинений Короленко, изд. А. Ф. Маркса, 1914 г.
…от медового месяца обновления суда до времен Лыжина, дела дашнакцутюнов и ритуальных процессов. – Лыжин – судебный следователь по особо важным делам, ведший следствие по делу членов армянской партии Дашнакцутюн. Дело слушалось в особом присутствии сената в феврале 1912 года. Во время слушания процесса выяснились многочисленные подлоги Лыжина с целью привлечь возможно большее количество подсудимых. Из ста сорока девяти подсудимых девяносто четыре были оправданы.
Речь идет о… деле так называемых «павловских сектантов». – Дело павловских сектантов слушалось в Сумах в конце января 1902 года. Короленко ездил в Сумы, но допущен на суд не был. Четвертого февраля 1902 года в газете «Русские ведомости» напечатана была его корреспонденция об этом деле. В дневнике писателя под датой «февраль 1902 года» имеется следующая запись: «Дело это чрезвычайно знаменательно. Кроткое, туманное и расплывчатое русское сектантство, соприкасающееся вдобавок с толстовским „непротивлением“ – здесь выступает в роли воинствующей и фанатически изуверной… Мои знакомые полтавские толстовцы говорили мне, что здесь имела место провокация. Я отнесся к этому скептически, как к обычным толкам подобного рода. Однако поездка в Сумы сильно поколебала этот скептицизм».
Щедрин создал своего Балалайкина. – Балалайкин – один из персонажей «Современной идиллии» и «В среде умеренности и аккуратности» Салтыкова-Щедрина.
Случайные заметки*
Под этим общим заголовком Короленко объединил в шестом томе полного собрания сочинений, изд. А. Ф. Маркса, 1914 г., двадцать две статьи и заметки, написанные на различные общественно-политические темы и опубликованные в свое время в газетах и журналах. Многие из них представляют широкий интерес и сейчас, как отличные образцы публицистики.
Соня Мармеладова на лекции г-жи Лухмановой*
Статья впервые напечатана в 1904 году в шестой книге «Русского богатства».
Читатели помнят, быть может, некоторые черты из воспоминаний о Глебе Ивановиче Успенском, имеющие прямое отношение к данному вопросу. – См. в восьмом томе настоящего собрания сочинений статью «О Глебе Ивановиче Успенском».
Катков M. H. – См. восьмой том настоящего собрания сочинений, примечание к стр. 242.
Мещерский В. П. – См. восьмой том настоящего собрания сочинений, примечание к стр. 284.
Новые возражатели*
Заметка впервые напечатана в шестой книге «Русского богатства» за 1904 год, непосредственно за статьей «Соня Мармеладова на лекции г-жи Лухмановой». В собрание сочинений изд. А. Ф. Маркса не вошла. На корректурном оттиске, хранящемся в архиве писателя, пометка рукой Короленко: «Можно будет поместить (если будет новое полное издание) вслед за Соней Мармеладовой».
«Россия такая чудная страна…» и т. д. – несколько не точно приведенная цитата из повести Н. В. Гоголя «Нос» (1836).
Морской штаб «на мирном положении»*
Заметка впервые напечатана в девятой книге «Русского богатства» за 1905 год.
Демчинский Николай Александрович (1851–1915) – журналист. Широкую известность получил своими сенсационными, но весьма далекими от действительности метеорологическими предсказаниями, основанными на существующей якобы связи между изменениями погоды и фазами луны.
Куропаткин Алексей Николаевич (1848–1926). – См. в настоящем томе статью «Возвращение генерала Куропаткина».
Рождественский Зиновий Петрович (1848–1909) – адмирал; в 1903–1904 годах был начальником Главного морского штаба; во время русско-японской войны командовал 2-й Тихоокеанской эскадрой. Бездарное руководство Рождественского явилось одной из причин гибели русской эскадры в бою с японским флотом у Цусимы. Понеся поражение, Рождественский вместе со своим штабом сдался в плен.
…он выступал на защиту своего начальства против нападок капитана Кладо. – Кладо Николай Лаврентьевич (1862–1919) – моряк, литератор. В статье «Наши „государственные люди“ и новый пулльский инцидент» (журн. «Современные записки», 1906, кн. 1) Короленко писал: «Всем еще памятно шумное выступление капитана Кладо в период отправления балтийских эскадр. В бойких статьях его читающая публика встретила несколько обличительных черточек, которые сразу сделали его имя популярным. Но все эти писания сводились практически к необходимости прибавить к одной никуда негодной эскадре другую, еще более негодную…»
Истинно российское упование на министров Гарун-аль-Рашидов – Гарун-аль-Рашид (736–809) – багдадский халиф, герой народных сказок «Тысяча одна ночь», рисующих его мудрым правителем, неустанно заботящимся о благе своих подданных.
Капитан Копейкин – персонаж из первого тома поэмы «Мертвые души» Н. В. Гоголя.
Единство кабинета или Тайны министерства внутренних дел*
Статья впервые напечатана в первой книге журнала «Современность», март 1906 года, за подписью W. В статье «Нашим читателям» («Русское богатство», май 1906 года) Короленко писал: «Те наши читатели-друзья, которые в это время не потеряли связи с нами сохранят на память три разные обложки и названия: „Современные записки“, „Современность“ и опять „Русское богатство“. „Современность“ благополучно совершила свой переход от январского крушения „Современных записок“ до майской пристани, откуда, как видит читатель, вновь начинает свое плавание их старый знакомец „Русское богатство“». Автор имел в виду неоднократное закрытие журнала «Русское богатство» и выход его под новыми названиями.
Позднее, в 1914 году, журнал «Русское богатство» был снова приостановлен на все время войны и выходил под новым названием – «Русские записки».
Завязка совершенно во вкусе Габорио или Монтепэна. – Эмиль Габорио (1835–1873) – создатель жанра уголовно-сыщического романа во французской литературе. Ксавье Монтепэн (род. в 1824 г.) – весьма плодовитый французский писатель, произведения которого представляли смесь мелодрамы со скабрезным описанием парижских вертепов и изображением всяких ужасов, убийств, отравлений и т. п.
…под главным руководством г. Рачковского. – Рачковский был в то время директором департамента полиции.
…в учреждении, еще так недавно состоявшем под просвещенным директорством г-на Дурново, ныне служащего украшением первого конституционного министерства Российской империи. – Дурново Петр Николаевич (1844–1915) – в 1884–1893 годах был директором департамента полиции, в 1905–1906 годах – министром внутренних дел в кабинете Витте. Известен своим жестоким подавлением революционного движения и как вдохновитель черносотенных организаций. Возглавлял группу крайних правых в Государственном совете.
Крушеван Паволакий Александрович (1860–1909) – журналист, черносотенец, один из организаторов кишиневского погрома (см. в настоящем томе очерк «Дом № 13» и примечания к нему).
Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870–1920) – ярый черносотенец, основатель погромных организаций: «Союз русского народа» и «Союз Михаила Архангела», депутат II, III и IV Государственной думы.
Возвращение генерала Куропаткина*
Впервые статья напечатана в первой книге журнала «Современность», в марте 1906 года, за подписью W.
Свое отношение к русско-японской войне Короленко высказал еще в 1904 году следующим письмом в редакцию газеты «Биржевые ведомости» от 8 июля 1904 года: «Вы желаете знать, какое впечатление производит на меня настоящая война. Вопрос имеет огромное значение, и я не вижу причины для уклонения от ответа, тем более, что впечатление мое, как, я думаю, и многих еще русских людей, разных профессий и положений, совершенно определенное: настоящая война есть огромное несчастие и огромная ошибка. Приобретение Порт-Артура и Манчжурии я считаю ненужным и тягостным для нашего отечества. Таким образом даже прямой успех в этой войне лишь закрепит за нами то, что нам не нужно, что только усилит и без того вредную экстенсивность наших государственных отправлений и повлечет новое напряжение и без того истощенных средств страны на долгое, на неопределенное время. Итак – страшная, кровопролитная и разорительная борьба из-за нестоящей цели… Историческая ошибка, уже поглотившая и продолжающая поглощать тысячи человеческих жизней, – вот что такое настоящая война, на мой взгляд. А так как для меня истинный престиж, то есть – достоинство народа, не исчерпывается победами на поле сражений, но включает в себя просвещенность, разумность, справедливость, осмотрительность и заботу об общем благе, – то я, не пытаясь даже гадать об исходе, желаю прекращения этой ненужной войны и скорого мира для внутреннего сосредоточения на том, что составляет истинное достоинство великого народа».
Банковский Петр Семенович (1822–1904) – генерал, реакционер; в 1881–1898 годах – военный министр, в 1901 году, после убийства министра народного просвещения Боголепова, был назначен министром народного просвещения для ликвидации студенческих волнений и проведения «сердечного попечения о школе».
…на восточном горизонте стало появляться легчайшее облачко в виде безобразовско-корейской авантюры. – Безобразовско-корейской авантюрой Короленко называет деятельность «Русского лесопромышленного товарищества», основанного статс-секретарем Безобразовым. Членами «товарищества» были высокопоставленные лица, в том числе и несколько великих князей. На казенную субсидию в два миллиона рублей компания приобрела у корейского правительства концессию на эксплуатацию лесов по берегам реки Ялу. Компания столкнулась здесь с интересами Японии. Безобразов выступал за агрессивную политику против Японии, получая в этом поддержку со стороны министра внутренних дел Плеве. Последний полагал, что война отвлечет народ от нарастающей в стране революционной смуты. Война 1904–1905 года в значительной степени возникла в результате этой политики.
Веллингтон (см. примечание к стр. 396) и Мольтке Гельмут (1800–1891) – известные полководцы и организаторы военного дела.
Рождественский – см. примечание к стр. 685.
…таковы два полюса этого режима, выработанного после-милютинским управлением… – Милютин Дмитрий Алексеевич – см. шестой том настоящего собрания сочинений, примечание к стр. 15. Милютину не удалось завершить реорганизацию русской армии на новых, прогрессивных началах вследствие противодействия консервативных кругов высшего командования.
Заботы доброго пастыря о грешной пастве*
Впервые напечатано во второй книге журнала «Современность» за 1906 год за подписью В. К.
В день, когда толпа черносотенцев… обливала керосином и зажигала входы здания… – Автор имеет в виду поджог черносотенцами в октябре 1905 года в Томске здания, в котором происходил организованный прогрессивными партиями митинг в связи с манифестом 17 октября.
…убиты менее, чем во едином поприще от места пастырского священнослужения. – На церковнославянском языке поприще – путевая мера, около двадцати верст.
Генерал Думбадзе, ялтинский генерал-губернатор*
Статья впервые напечатана в пятой книге «Русского богатства» за 1907 год. В журнале она следовала непосредственно за статьей о деятельности Думбадзе, написанной другим автором. Этим объясняется первоначальное заглавие статьи – «О том же предмете». В собрании сочинений изд. А. Ф. Маркса автор изменил первоначальное заглавие.
В конце октября 1906 года в Ялте было введено положение о чрезвычайной охране, и полковник Думбадзе стал неограниченным в своем произволе властителем Ялты и Ялтинского уезда. Он терроризировал население Ялты и приезжих больных обысками, арестами и высылками, прибегал к самым жестоким мерам бессудной расправы. Думбадзе возглавлял ялтинский отдел «Союза русского народа» и поощрял его погромную агитацию. 26 февраля 1907 года на Думбадзе было произведено покушение, причем он отделался царапиной. Столыпин покровительствовал Думбадзе, и запросу об его деятельности, внесенному октябристами в Думу, не был дан ход. В 1910 году Думбадзе был отстранен от занимаемой им должности, но вскоре был в ней восстановлен и вернулся в Ялту.
О латинской благонадежности*
Впервые статья напечатана в 1908 году в газете «Русские ведомости», № 137.
Шварц Александр Николаевич (1848–1915) – министр народного просвещения в 1908–1910 годах, провел ряд реакционных мероприятий в отношении высшей, средней и низшей школы (отмена университетской автономии, ограничение возможности доступа к высшему образованию для женщин, строгое применение процентной нормы для евреев и т. п.).
О, почтенный Мымрецов! Претендовал ли он когда-нибудь ни то, что его формула превратится в лозунг российского реформаторского творчества! – Формула Мымрецова (Г. Успенский, «Будка») – «Тащить» и «не пущать».
Дубровин Александр Иванович (1855–1918) – врач, черносотенец, один из основателей и бессменный председатель «Союза русского народа», редактор погромной антисемитской газеты «Русское знамя». Принимал активное участие в организации еврейских погромов и убийстве ряда прогрессивных деятелей, членов Государственной думы – М. Я. Герценштейна, Г. Б. Иоллоса, А. Я. Караваева. После Октябрьской революции, осенью 1918 года, был расстрелян.
Quousque tandem, Catilina… – начало фразы из речи знаменитого римского оратора и политического деятеля Цицерона, произнесенной им в римском Сенате против Каталины – организатора заговора с целью захвата власти. Вся фраза – Quousque tandem, Catilina, abutere patientia nostra? – означает: «Доколе, Каталина, ты будешь испытывать терпение наше?»
Из записок Павла Андреевича Тентетникова*
«Из записок Павла Андреевича Тентетникова» впервые напечатано в 4, 5 и 6 номерах еженедельного сатирического журнала «Пятница», выходившего в Петербурге весною 1907 года. После выхода шестого номера, 30 июня 1907 года журнал был конфискован по распоряжению Главного управления по делам печати, с последующим арестом всех ранее вышедших номеров. «Записки Тентетникова» впоследствии не перепечатывались и ни в одно издание сочинений Короленко не входили.
Соответственно трем номерам журнала, где они были помещены, текст рукописи разделен на три части, две из которых были подписаны (после заметок «Добродушие генерала Г-цкого» и «О генеральском либерализме») «Павел Тентетников», а последняя – «П. А. Тентетников».
В записной тетради Короленко 1890–1900 годов имеется ряд набросков заметок на злободневные темы, выписок из журналов и вырезок из газет с замечаниями автора. Часть их объединена заглавием «Из записок обывателя». По замыслу и частично по содержанию «Из записок Павла Андреевича Тентетникова» совпадает с этим материалом,
В первой главе, «Вместо вступления», Короленко прибегает к образам поэмы Гоголя «Мертвые души». Автор записок – сын Андрея Ивановича Тентетникова, персонажа второго тома «Мертвых душ». Генерал Бетрищев и Ульяна Бетрищева также действующие лица из второго тома «Мертвых душ». В «Записках» встречаются также образы и других классиков русской сатиры – Грибоедова и Салтыкова-Щедрина.
…восклицал некогда вдохновенный псалмопевец. – Имеется в виду Давид, царь иудейский (II век до нашей эры), автор древнееврейских религиозных песнопений.
Пример – ялтинский Думбадзе – см. в настоящем томе статью «Генерал Думбадзе, ялтинский генерал-губернатор».
Генерал Г-цкой. – Первоначально в рукописи стояла полная фамилия – Ганецкой. Автор, вероятно, имеет в виду генерала Ганецкого Н. С. (1815–1904), участника русско-турецкой войны 1877–1878 годов.
…при быстро действующем военно-полевом правосудии. – Военно-полевые суды были введены в России в августе 1906 года как одно из средств борьбы с революционным движением в местностях, объявленных на военном положении. Им было предоставлено право применения смертной казни. Судопроизводство велось ускоренным порядком – в течение не более двух суток, а приговор приводился в исполнение не позже суток со дня его объявления. Военно-полевые суды были отменены 20 апреля 1907 года. Короленко в сноске говорит «о переименовании», очевидно, имея основание считать, что, несмотря на отмену их, положение дела по существу не изменилось.
Записано со слов С. Д. Пр-ва. – Протопопов Сергей Дмитриевич (1861–1933) – журналист, юрист по образованию. Хороший знакомый Короленко по Нижнему-Новгороду.
Кукольник Нестор Васильевич (1809–1868) – писатель, автор многочисленных ходульно-патриотических пьес. Приведенный здесь ответ Кукольника заимствован Короленко у Салтыкова-Щедрина. В введении к роману «Господа ташкентцы» Щедрин пишет: «В рассказах Глинки (композитора) занесен следующий факт. Однажды покойный литератор Кукольник без приготовлений, „необыкновенно ясно и дельно“ изложил перед Глинкою историю Литвы, и когда последний… выразил свое удивление по этому поводу, то Кукольник ответил: „Прикажут – завтра же буду акушером“. – Ответ этот драгоценен, ибо дает меру талантливости русского человека. Но он еще более драгоценен в том смысле, что раскрывает некоторую тайну, свидетельствующую, что упомянутая выше талантливость находится в теснейшей зависимости от „приказания“…»
…уподобил Ялту республике известного древнего философа Платона. – Платон (427–347 до н. э.) – древнегреческий философ-идеалист. В своем учении о государстве он говорил об устройстве совершенного общества, которое управлялось бы по идее высочайшего блага для всеобщего счастья.
Истинно-русский человек. – «Истинно-русскими людьми» называли себя члены «Союза русского народа», «Союза Михаила Архангела» и других погромно-монархических организаций. Этим выражением Короленко, в частности, иронически подчеркивает в ряде мест «Записок Тентетникова» политическую сущность генералов с фамилией Думбадзе, Каульбарс и т. п.
Каульбарс Александр Васильевич (род. в 1844 г.) – генерал, родом из прибалтийских баронов (почему Короленко и говорит «с остзейской фамилией»), участник русско-турецкой и русско-японской войн. Генерал Куропаткин (см. в настоящем томе статью «Возвращение генерала Куропаткина») в своих мемуарах, изданных по окончании войны с Японией, говорит о Каульбарсе как об одном из основных виновников поражения русской армии под Мукденом. По окончании войны, в 1905 году, А. В. Каульбарс возвратился на прежний пост – командующего войсками Одесского военного округа. Здесь он ревностно принялся за подавление революционного движения и укрепление черносотенных организаций.
Когда замечено было, что в сердцах… болгар иссякает благодарность к освободителям, заменяясь стамбуловским злопыхательством, то генералу Каульбарсу поручено было похвальные чувства… паки возжечь… – После русско-турецкой войны и заключения в 1878 году Сан-Стефанского мира, по которому Болгария, в результате побед русского войска, получила национальную независимость, начался период борьбы России и Австрии за экономическое влияние в Болгарии. В 1886 году болгарский князь Александр Баттенбергский, державшийся австрийской ориентации, был низложен, и в Болгарии водворилось русофильское правительство. Но через несколько месяцев это правительство было свергнуто, и у власти оказалось регентство из трех человек во главе со Стефаном Стабуловым (1854–1895), связанным с австрийским промышленным капиталом. В связи с этими событиями в сентябре 1886 года был послан в Болгарию в качестве специального эмиссара царя Александра III с поручением добиться согласия болгарских регентов на возвращение к власти правительства, дружественного русскому царю, – не А. В. Каульбарс, как ошибочно думал Короленко, а брат его, генерал Николай Васильевич Каульбарс (1842–1905). Н. В. Каульбарс действовал неумело и еще больше испортил русско-болгарские отношения. Кончилось дело отозванием его и разрывом дипломатических отношений между Россией и Болгарией.
Алкивиад (ок. 451–404 г. до н. э.) – афинский политический деятель и полководец. Отличался крайним честолюбием и беспринципностью. Рассказанный здесь эпизод с собакой упоминается во всех его биографиях.
Баранов Николай Михайлович. – См. в настоящем томе очерки «В голодный год» и примечания к ним.
Петр Великий послал с нарочным повеление… – Приведенный далее текст почти точно совпадает с указом Петра от 24 марта 1719 года, опубликованным археологом H. H. Мурзакевичем в октябрьской книжке «Русской старины» 1874 года.
Примечания
(1) Железные остатки, лом, которые сплавляются под молотом в одну массу, опять годную в дело.
(2) Личить – значит обтачивать поверхность ножей на камне, перед полировкой.
(3) На скупке принимаются от кустаря образцы, к которым привешивается ярлычок с обозначением условной цены. Во время приемки кустарь доставляет условленное количество самого товара.
(4) «Боец» – особенность павловского говора.
(5) Позже был освобожден из-под следствия.
(6) В Павлове существует музей образцов, открытый отделением технического общества.
(7) Рунье – старое тряпье.
(8) См. Журнал Нижег. продов. ком. от 8 марта 1892 г.
(9) Собственные имена как этой деревни, так и Потапа Ивановича вымышлены.
(10) Теперь через Арзамас прошла уже железнодорожная линия.
(11) Из песни слова не выкинешь, – потому я заношу этот характерный факт, засвидетельствованный мне с двух сторон. Однако не объясняется ли он какими-нибудь местными особенностями остоженского попечительства?
(12) См. протокол Нижегород. губ. продов. комиссии от 8 дек. 1891 г., стр. 8–9: «H. M. Баранов сообщает, что по известиям от васильской земской упр., несмотря на распоряжение мин. вн. дел, хлеб из Вятской губернии, закупаемый там крестьянами Васильского уезда, не выпускается поставленными на дорогах кордонами…»
(13) Там же (журнал 10 ноября 1891 г.), доклад макарьевского уездного предводит, дворянства: «Население ветлужской стороны Макарьевского уезда ежегодно закупает хлеба до 240 тыс. пудов из Костромской и Вятской губ. В настоящем году вывоз из этих губ. воспрещен. Многие из крестьян жаловались, что за вывоз из Костромской губ. берут пошлину!»
(14) Журнал заседания лукояновской уездной продовольственной комиссии от 28 января 1892 года.
(15) В октябре 1889 года третья часть уезда оставлена была без представителей в земском собрании. Предлогом послужило то обстоятельство, что выборы на съездах прошли без баллотировки шарами. Помимо того, что выборы шарами в сельских съездах вообще большая редкость, оставленные за флагом гласные тщетно указывали, что и в других участках выборы происходили так же, и просили о назначении новых выборов. Эта совершенно законная просьба оставлена была в угоду лукояновской дворянской партии без последствий. Наиболее самостоятельная демократическая часть земства отпала, остальная была деморализована, и… наступила лукояновщина.
(16) См. газету «Волгарь», № 19, 1894 г. То же: «Нижегор. губ. ведомости». Валов просил все-таки о предании суду для полной реабилитации. Процесс мог бы быть очень интересен, но добиться суда Валову не удалось.
(17) Факт, оглашенный в свое время «Волжским вестником».
(18) Писано в разгар крепостническо-дворянской реакции.
(19) См. «Русск. богатство», 1898, Кн. V, VI, VII.
(20) См. «Чтения в О-ве истории древностей российских», 1859, кн. III. Статья: «Мнения адм. Мордвинова».
(21) «Русские ведомости» 1893 г., № 31.
(22) «Вершинками» называют здесь верхушки оврагов или ручьев, поросшие лесом или кустарником.
(23)
(24) В заседании уездного попечительства уполномоченный от Особого комитета К. Г. Рутницкий счел нужным заявить свой протест против такого сокращения.
(25) При губернаторе гр. Кутайсове.
(26) В 1894 г. Починки опять постигнуты страшным пожаром: сгорело до 200 домов.
(27) Любопытно, что в то время он не имел еще права на монашеское одеяние, так как принят в послушники только в 1896 году. Все это было оглашено в газетах («Русская жизнь», 1893 г., № 33, «Нижегор. лист.», «Русск. вед.»).
(28) Теперь (1906-7 год) в голодающих местностях отцы продают дочерей торговцам живого товара. Прогресс русского голода очевидный.
(29) Любопытно, что в своеобразном стиле лукояновской полемики фамилия г. Зверева стала после этого нарицательной; вместо «господа статистики» лукояновский продовольственный комитет писал в официальных бумагах: «господа Зверевы».
(30) См. Журнал Нижегор. губ. продовольств. комиссии от 18 ноября 1891 г., стр. 3. Таким образом, человек, получивший заведомо недостаточную помощь в одном учреждении, лишался права просить помощи в другом. Такова очень часто эта «воспретительная» логика!
(31) К сожалению, так именно случилось впоследствии и для всей России с «новым продовольственным уставом», совершенно устранившим фактически всякую частную инициативу в деле помощи голодающим. А теперь, уже к выходу пятого издания этой книги, вся Россия обращена в этом отношении в сплошной Лукояновский уезд.
(32) См. устав о народном продовольствии, изд. 1889 года, ст. 2, 3 и 4, и положение о земских учрежд. 12 июня 1890 г., ст. 2. III. Цитирую из записки Н. Ф. Анненского, внесенной в Нижегородскую губ. продовольственную комиссию 27 мая 1892 г.
(33) Засед. 24 ноября 1892 г.
(34) Нужно заметить, что тексты губернаторских речей всегда цензуруются с особым вниманием, и, значит, печатный текст речи был признан совершенно точным.
(35) «Нижегор. бирж, листок», 4 июля 1891 г., № 151.
(36) См. Журнал Нижегор. губ. продов. комиссии от 15 янв. 1892 г. Слова ген. Баранова: «Но что же мы видим? Одни подделки, кем сделанные – все равно!!»
(37) В том числе, между другими, – «известного» г-на Иванюшенкова.
(38) Заметим кстати, что главным деятелем в этой комиссии явился доктор Д. Ф. Решетилло, который, как мы видели выше, нашел возможность украсить своею подписью два прямо противоположные заключения о санитарном состоянии села Саитовки (впоследствии этот «деятель» сошел со сцены после оглашения самых некрасивых проделок по службе).
(39) См. «Волгарь», 1893 г., № 16. Указав на «длинный ряд заслуг» А. В. Баженова (в том числе организацию статистич. бюро, «материалы которого и беспримерная деятельность статистиков оказали неисчислимую пользу делу борьбы с невзгодой»), ген. Баранов закончил пожеланием, «чтобы будущие выборы поставили у земских дел таких же деятелей…» Этим, очевидно, ген. Баранов брал назад свои страстные и слишком торопливые обвинения по адресу земства.
(40) К сожалению, только, – на последующем ходе продовольственного дела не заметно поучительного влияния этого опыта. Скорее наоборот: заимствованы как раз лишь одни отрицательные стороны Барановской системы. Результаты теперь (1907 г.) налицо, в виде господ Гурко, Лидваля, Фредерикса.
(41) «Нов. ср.», 27 сент. 1891 г.
(42) См. Журнал Нижегор. губ. продов. комиссии 24 ноября 1891 г., стр. 5 и 6. «В заключение г. Зубов сообщает, что весь его проект основан на практических хозяйственных соображениях».
(43) По Лукояновскому уезду г. Обтяжнов официально сообщал, напр. (от 8 мая 1892 г. за № 63), что в участке земского нач. Железнова низшие власти берут с крестьян, коим выдаются ссуды, – «незаконные поборы за хлопоты по ссудам», в том числе даже за размен денег (!) с 11 обществ явно незаконно вычтено 72 р. 4572 коп. А так как «жалобы по этому поводу всегда имеют последствием арест господином земским начальником самих жалобщиков, то смелость должностных лиц в деле притязаний не имеет границ». И это тоже сходило с рук совершенно безнаказанно, хотя было установлено в официальных бумагах.
(44) Однофамилец свергнутого председателя.
(45) См. протоколы Губ. продов. комиссии, засед. 27 марта.
(46) Напомню, что это – тот самый земский начальник, в участке которого официально констатированы впоследствии «незаконные поборы по хлопотам о ссудах» и даже поборы «за размен денег»!..
(47) В дополнение, а отчасти в объяснение описанного здесь эпизода следует припомнить примечание в конце главы VIII. В том же официальном документе упоминается о незаконных арестах некоего Якушкина за жалобу на злоупотребления сельских властей.
(48) Желания (лат.).
(49) Последний, решительный довод (лат.).
(50) Интересно, что через несколько лет в настроении этого чуткого человека произошла новая перемена: в земском собрании (1896 года) г. Обтяжнов утверждал опять, что «школа, школа и школа», – вот в чем решение всяких кризисов.
(51) См. журнал от 27 марта 1892 г.
(52) См. «Русская жизнь». 1893, № 33, ст. «Будничные истории в Лукояновском уезде».
(53) Во избежание возможного упрека прибавлю, что общей столовой в сифилитической деревне мы не открыли. Е. А. Чеботарева, взявшая на себя заведывание, устроила выдачу каждому приходящему отдельно.
(54)
(55) См., напр., журнал 20 дек. 1891 года, стр. 6.
(56) См. протоколы Губ. продов. комиссии за декабрь и январь.
(57) Сильно опасаюсь, что большая часть «общественных работ» в этот и последующие голодные годы имели тот же или близкий к этому характер.
(58) Травой крестьяне называют лебеду.
(59) Умер через несколько лет после голодного года.
(60) Малороссами же называет всю группу Н. И. Русинов в статье, помещенной во 2-м томе «Нижегор. сборника», издававшегося поя редакцией А. С. Гациского.
(61) Автор относит переселение к концу XVII или началу XVIII века, но это, по-видимому, ошибка. Так как речь идет, очевидно, о сыне бывшего гетмана Кирилла Гр. Разумовского, то переселение должно было совершиться уже при Екатерине. С другой стороны, автор говорит о построении первого храма в Василевом-Майдане в 1716 году, то есть еще при Петре. Это или тоже ошибка, или переселенцы-малороссы из имений Разумовского могли быть поселены в готовом селе, из которого жители разбежались (это ведь у нас бывало), или, наконец, они вышли, действительно, гораздо ранее.
(62) Пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает (франц.).
(63) Мне стоило большого труда внушить мужикам, что я не имею права на этот титул.
(64) Александр Николаевич – декабрист.
(65) Увы! – оказалось, что господа земские начальники поспешили сократить ссуды во всех семьях, в которых кто-нибудь пользовался столовой. Я уже знал об этом, но надеялся добиться (и добился) отмены странного распоряжения, делавшего всю частную благотворительность совершенно бесцельной.
(66) «Зевать» – по-местному кричать.
(67) Я не привожу здесь имен и цифр, чтобы не утомлять читателя повторениями. У меня записаны десятками и самым точным образом соответствующие факты, доказывающие, что это была именно бездушная и сознательно жестокая система.
(68) Выпущены в виде альбома в 1893 г. фотографом М. Дмитриевым.
(69) Этот замечательный документ я процитировал полностью в заседании губ. продовольств. ком.
(70) См. протокол губ. продов. комиссии от 28 марта 1892 г.
(71) См. протоколы засед. губ. продов. комиссии от 2 апреля 1892 г.
(72) См. «Протокол» от 10 ноября 1891.
(73) Впоследствии г. Решетилло выслуживался на экспертизе земского хлеба и кончил довольно плохо: устранен от должности за поступки, не согласные с обязанностями врача. Что касается до г. Обтяжнова, то и его «обновление» было непродолжительно: во время голода 1906–1907 года он вновь доказывал, что голода нет и что мужики «не идут на выгодные работы на жел. дороге…»
(74) Об этом старшине упоминалось уже в прежних очерках. Это был номинальный подчиненный и фактический начальник земского начальника Бестужева.
(75) Обществ. хроника. Ноябрь 1894 г. и июнь 1895 г.
(76) «Русск. Вед.», 7 ноября, № 308.
(77) Смирнов – Вотяки. Стр. 241.
(78) «Русские ведомости», № 288, 18 октября 1895 г.
(79) Тимофей Гаврилов оправдан в Малмыже, но все обстоятельства его якобы участия в деле приводились все-таки в елабужском процессе.
(80) На этом обстоятельстве защита основывает новую кассационную жалобу.
(81) Арестованный Дюняшев был подвешен на жерди и в таком положении у него требовали сознания. О подвешивании же говорили и вотяки-мултанцы. Отчет о деле слободских полицейских был напечатан в газетах. Мы заимствуем из «Нижегор. листка», № 272.
(82) Я вас! (лат.)
(83) Юридический прецедент (лат.).
(84) Так хочу, так приказываю, да будет вместо разума моя воля (лат.).
(85) Независимо от опыта, от проверки (лат.).
(86) «Нижегородский листок», 1895, № 342.
(87) Эта статья была напечатана без моей подписи. В. К.
(88) Знаменитые дела (франц.).
(89) Бедняга (франц.).
(90) Городская телеграмма (франц.).
(91) Сударь (франц.).
(92) Контора (англ.).
(93) Роман – это зеркало, которое передвигают вдоль дороги (франц.).
(94) Эту цитату покойный цензор Елагин вычеркнул из моей статьи в «Р. богатстве», находя ее, вероятно, слишком яркой для «национализма», хотя бы и французского.
(95) Писано в 1903 году.
(96) Не совсем точно: газета «Полтавщина» и журнал «Русское богатство» в то время были приостановлены и выходили под другими названиями: «Полтавское дело» и «Современные записки». (Ред.).
(97) Здесь и несколько ниже (в примеч. к главе III) автором допущена ошибка в нумерации статьи: В. Г. Короленкои Д. О. Ярошевич привлекались по п. В, гл. 5 отдела VIII временных правил о печати, утвержденных 24 ноября 1905 г., за оглашение «заведомо ложных сведений о действиях должностных лиц и войск». (Ред.).
(98) «Полтавщина», No№ 310 и 314.
(99) «Полтавщина», 20 декабря 1905 г., № 307. (Корреспонденция из Зенькова.)
(100) «Полтавщина», № 308. (Корресп. из Лохвицы.)
(101) «Полтавский вестник», 5 февраля 1906 г., № 972.
(102) Лист моего дела 50 и последующие. На полковника Бородина этот случай произвел такое потрясающее впечатление, что он заболел нервным расстройством. Передают, что ему все чудится убитая баба.
(103) Изувеченных и раненых оказалось, по словам корреспондента, более 40 человек (22-м была оказана медицинская помощь).
(104) В апреле 1906 г., № 23, уже после смерти Филонова.
(105) Показания по моему делу старш. сов. губ. правления Ахшарумова. Лист 247 и след.
(106) «Полтавщина», 1906, № 8.
(107) Лист моего дела 209.
(108) Лист моего дела 178. Показание учителя духовного училища Кремянского.
(109) «Полтавщина», 12 января 1906 г., № 8. Все примечания, которыми я здесь снабжаю текст своего письма, взяты из следственного дела о писателе В. Г. Короленке и редакторе газ. «Полтавщина» Д. О. Ярошевиче, привлеченных к следствию по п. 6, гл. 5, отд. III временных правил о печати. Ссылки не полны. Я отдавал предпочтение показаниям казаков, полицейских, священников и должностных лиц.
(110) Показания: свящ. Греченко (лист дела 215): «Казак перегнулся через забор и выстрелил». Показ. дворянина Малинки (лист 245 я след.): «Отрешко был ранен подъехавшим казаком из-за забора в то время, как он был во дворе». Показания старшины Копитько (лист 214), старосты Повзика (лист 216), урядника Котляревского (л. 216–217) и др. Интересно указание дворянина Малинки, что серия выстрелов, от которой между прочим погиб Отрешко, раздалась долго спустя после залпов у волостного правления. Урядник Котляревский слышал, что это стреляли казаки, возвращавшиеся из больницы, куда они отвезли Барабаша.
(111) Об Евстафии Гарковенко есть показания, что он ранен не во дворе, а на площади. Ковтун найден в 20 саженях от своих ворот (показания: урядника Котляревского, лист 216; старосты Повзика, л. 216; Кияшко, л. 217 и след.; старшины Копитько, л.214 и др.), Келепова не ранена, а убита у женской школы, а у Маковецкой прострелены щеки недалеко от ее ворот (урядник Котляревский, кр. Кияшко, староста Повзик, свящ. Греченко и др.).
(112) Показания кр. Кияшко (217). На его глазах стреляли в женщин, убегавших по улице. Женщины шли не от волости, а иные стояли у своих ворот. Анна Сорока (218) видела, как казаки стреляли в лежавшую на снегу девушку. В нее (Сороку) тоже стреляли, когда она перебегала улицу (далеко от волости). Гриценко (217) и урядник Котляревский (216) слышали, что это делал отряд, возвращавшийся из больницы, куда отвезли Барабаша. Факт погони и убийств на улицах признан и определением суда по моему делу.
(113) Не точно: тело Барабаша увезено 22 декабря утром. Отряд Филонова прибыл еще накануне, 21-го, и уже в ночь были произведены аресты. Это показывает еще яснее, что в Сорочинцах к этому времени не было никаких признаков бунта, если уже накануне экзекуции можно было не только арестовывать, но и истязать арестованных. Показание старшины Копитько (л. 214 и след.): «21 в 4 ч. утра потребован Филоновым в волость и видел там арестованных Готлиба и Герасима Муху. Они были избиты до того, что их трудно было узнать».
(114) «На следующий день все было спокойно» (показание урядника).
(115) «Филонов говорил, что, наверное, по местечку придется открыть огонь» (показание подъесаула Ончакова, л. 116 и след.). «Филонов объявил, что если бы отряд вновь был встречен набатом, то местечко могло бы быть сожжено» (показание подъесаула Чернявского, л. д. 118).
(116) Показания о грабежах в Сорочинцах и Устивице: урядника Котляревского: «многие, в особенности евреи, заявляли мне об ограблении» (л. д. 216–217). Поч. миров. судья Лукьянович (со слов урядника Бокитько, л. д. 124). Урядник Бокитько: «казаки забирались в частные дома. Мне заявляли, что они просто грабили» (л. 211 и след.); Кремянский (воспитатель дух. уч., л. д. 178): «стражник Балакший подтвердил, что забирались в дома, и сказал: мы сами их отгоняли». Свящ. Станиславский показал, что были грабежи, но приписывал их не казакам (л. 208). Старшина Луценко (Устивица) по приказанию исправника собирал заявления потерпевших, но затем исправник приказал заявления уничтожить, а свою (исправника) бумагу вернуть ему обратно (л. 209). Есть еще показание старшины Повзика (л. 216), Анны Сороки (грабеж в присутствии пристава), Юровского (219), Герасима Мухи, Авр. Готлиба. Существование упорных слухов о насилиях над женщинами подтверждает Кремянский, Гриценко (л. 217), Сура Готлиб (220), Кияшко (л. 217) и др.
(117) О том, что толпа была поставлена в снег на колени, единогласно говорят все, начиная с полковника Бородина и кончая казаками и урядниками. Разно определяют только время: хорунжий Дюжин и подъесаул Ончаков (112 и 114) определяют время в 3 часа, старшина Копитько (214), староста Повзик (216) и урядник Котляревский от 4 до 4½ ч. В Устивице 2–2½ часа.
(118) Относительно собственноручной расправы Филонова и дальнейших побоев нагайками свидетели показывают единодушно. Привожу наиболее характерные показания: хорунжий Дюжин: «некоторых из наиболее главных зачинщиков Филонов сам вытаскивал, давая тумаки» (л. 112); подъесаул Ончаков (114): «Филонов своими руками выхватывал подлежащее экзекуции лицо и приказывал идти в волость, в арестантскую, и его по дороге принимала экзекуц. команда и била нагайками». Свящ. Греченко (215) видел, как «Филонов какого-то человека толкал ногами, когда тот не в состоянии был встать». Священник два раза уходил со схода, чтобы не видеть этого.
(119) Эпизод со студ. Романовским единогласно подтверждают все свидетели казаки, утверждая только, что по голове вообще не били.
(120) Этот факт тоже установлен многочисленными свидет. показаниями. Особенно характерны: подъесаул Ончаков (116–118): «Короленко написал неправду, будто били толпу. Действительно, был такой эпизод: местные евреи были поставлены отдельно на колени. Когда Филонов подошел к ним и они „загалдели“, начали вставать с колен, то Филонов приказал несколько человек из них проучить нагайками». То же показали: подъесаул Чернявский (119), сотник Иванов (119) прибавляет: «давали 10–15 ударов, не более», – «экзекуция была легкая» (!!). Староста Повзик (216): «всей толпы поголовно казаки не били, а избили выделенную толпу евреев». Кр. Кияшко (217): «Всей толпы не били, евреев же колотили всех поголовно».
(121) Показ. свящ. А. А. Троцыны: жители еще в октябре ходатайствовали о закрытии винной лавки. Когда приезжал чин. Коновалов, они повторили просьбу, и он обещал ходатайствовать (л. 175).
(122) Показания: старшины Луценко (л. 209–212): Филонов начал бить людей у черного входа в волость. Достал откуда-то простую палку и начал бить находившихся в коридоре людей. Его (старшину) начал бить сразу, сорвал знак, разбил губы и велел еще бить казакам. Писарь Волошин, избитый Филоновым, «теперь (июнь 1906) еще в больнице в Полтаве». – Ур. Бокитько (211–213): при нем Фил. побил старосту Кирьяна, судью Панкова и писаря Волошина (последнего бил счетами и канцел. книгами). Фил. посылал его разыскивать учительницу и, по словам казачьего сотника, «хотел ее для примера сильно выпороть». – Учит. Крапивина (209): Филонов кричал в волости: «подайте мне эту бабу, я ее проучу». – Терещенко (177): Дениса Бокала 9 казаков били 3 раза: «я думал, его убьют». – Свящ. Троцына (188): Фил. избил старшину и писаря. Сход был поставлен на колени (2 часа). Свидетель стал заступаться, доказывая, что старшина и писарь не виновны, а на сходе по большей части находятся люди, непричастные к закрытию винной лавки. Тогда Филонов велел людям встать с колен и потом вновь поставил на колени и заставил извиняться перед старшиной за то, что он, Филонов, наказал его невинно, за людей. Сторож Галайдич рассказывал свидетелю, что у него в хате казаки 23 декабря избили его чахоточного сына солдата, вернувшегося раненым с войны, за то, что будто бы он не хочет идти на сход. Бережной (учит. мин. шк., 176). У избитого Филоновым Панкова видел кровь на лице.
(123) Кремянский (воспит. дух. уч., л. 178): местная жительница, молодая, красивая женщина, еле отделалась от любезностей казаков, которые гонялись за нею, и так перепугалась, что нервно заболела.
(124) Лист дела 110.
(125) Прибавим: долго спустя после столкновения у волостного правления.
(126) Позволяю себе исправить «фактическую неточность», допущенную судом. В деле есть показания урядника, сельских должностных лиц и священника, говорящих не только о случаях, но и о прямых заявлениях потерпевших, а это не одно и то же. Урядник Бокитько, старшина Луценко и поч. миров. судья Лукьянович говорят о начатом уже дознании и о составленных списках потерпевших, уничтоженных исправником. Можно ли при таких условиях говорить, что слухи не подтвердились, а если не подтвердились, то – почему?
(127) Цитата из моего открытого письма.
(128) «Полтавский вестник», 15 января 1906 г.
(129) Интересно, что на мою просьбу – приобщить к делу переписку об этом дознании, мне было отвечено, что такой переписки… не было!
(130) Показание г. Ахшарумова, лист дела 247.
(131) Курсивы мои.
(132) Этот двор проходной.
(133) «Полтавский вестник», 19 января 1906 г.
(134) «Полтавский вестник», 20 января 1906 г., № 959. В книге эта заметка не воспроизведена.
(135) Одна из этих поправок особенно характерна. Письмо начинается словами: «Я третьего дня вернулся в Полтаву и прочел Ваше письмо…» Затем «третьего дня» зачеркнуто и чьей-то рукой написано: «Я только что вернулся». Филонов вернулся 17-го, убит 18-го. «Третьего дня» он мог бы написать только после смерти.
(136) Показание Л. И. Ахшарумова (л. д. 247).
(137) См. книгу «К убийству Филонова», стр. 17.
(138) «Полтавский вестник», 19 января 1906 г. Воспроизведено в книге «К убийству Филонова», стр. 17–18.
(139) Все показания о моменте убийства говорят, что молодой человек выстрелил и тотчас бросился бежать.
(140) Лист дела 108.
(141) «Полтавский вестник». 31 января 1906 г., № 968.
(142) «Россия». Цитирую из «Русск. вед.», 16 сент. 1906 г., № 228.
(143) Стенография, отчет о заседании Госуд. думы 18 мая 1906 г.
(144) «Наша жизнь», 17 мая 1906 г., № 447.
(145) Курсивы и далее наши.
(146) Многоточие в присланной нам рукописи.
(147) Из газеты «Киевские вести», 8 марта 1909 г., № 66.
(148) Здесь мы опускаем личное указание.
(149) Автор имеет, очевидно, в виду громкую и памятную историю в девяностых годах, когда молодая девушка, курсистка, заключенная в крепости, облила себя керосином и зажгла на себе платье. В городе много говорили о причинах этой смерти, и во всяком правовом государстве невозможно было бы оставить мрачную загадку без всестороннего освещения. Самодержавное правительство того времени предпочло заглушить ее, сделав таким образом тайну какого-то служебного преступления своим общегосударственным делом. Волнения молодежи по этому поводу обошли все высшие заведения России. Фамилия покойной девушки была, если не ошибаюсь, Ветрова.
(150) Письмо это (с некоторыми сокращениями) я заимствую из судебного отчета, напечатанного в местной газете «Киевские вести» (11 сент. 1900 г., № 242).
(151) Курсивы всюду мои.
(152) Напечатано в «Сарат. листке» (№ 262). Заимствую его из «Речи», № 2991; год, к сожалению, на моей вырезке не отмечен, кажется, 1908.
(153) «Киевские вести», № 64, 6 марта 1909 г.
(154) «Наша газета», № 53, 5 марта 1909 г.
(155) «Речь». – Заимствовано «Нашей газетой» 28 марта 1909 г., «Киевск. вестями» 2 апр. 1909 и др.
(156) «Петербургская газета», заимствовано «Речью» (7-го дек. 1909 г. № 336) и почти всеми остальными русскими газетами.
(157) Полностью (лат.). – Ред.
(158) «Р. Вед.», № 55, 9 марта 1910 г.
(159) «Киевские вести», 27 июня 1909 г., № 169.
(160) «Речь», «Киевские вести», янв. 1909 г.
(161) «Новая Русь», 14 дек. 1908 г., № 121.
(162) Цитирую по «Вятской речи», 8 марта 1910, № 52.
(163) В заседании Госуд. думы 19 июля 1906 года министр юстиции г. Щегловитов говорил: «В уложении 1903 года, которое с 17 июня 1904 г. составляет закон… обращает на себя внимание установленная замена для всех несовершеннолетних смертной казни другими наказаниями» (см. стенография, отчеты). А 19 июня 1909 года русские газеты отмечали пятьдесят пятую годовщину указа императора Николая I об отмене смертной казни в России.
(164) «Киевские вести», 27 июня 1909 г., № 169.
(165) Многие, вероятно, помнят историю неожиданного восстания в Андижане. Тогда были казнены, если не ошибаюсь, восемнадцать человек.
(166) «Речь», 10 ноября 1909, № 309.
(167) Нахождение в другом месте (лат.).
(168) «Киевские вести», 24 ноября 1909 года.
(169) См. «Киевские вести», 24 ноября 1909 г.
(170) «Новое время», 22 июня 1910 г., № 12311.
(171) «Гражд.». Цитирую по «Одесской почте», 30 июня 1910 г., № 542.
(172) «Новое время», 7 июля 1910, № 12326.
(173) «Земщина». Цитирую из «Речи», № 176 (от 30 июня).
(174) Этот эпизод послужил впоследствии кассационным поводом и был оглашен в газетах. Это и дает мне возможность восстановить его здесь.
(175) «Бирж. вед.», цитирую из «Волыни», 24 окт. 1906 г., № 252.
(176) «Бирж. вед.», цит. из «Киевск. голоса», 29 ноября 1906 г., № 70.
(177) «Гол. Москвы», цит. из «Киевских вестей», 3 дек. 1907 г., № 170.
(178) «Рус. вед.», 26 авг. 1908 г., № 231.
(179) «Соврем. обозр.», 21 янв. 1907 г.
(180) См., напр., «Русские вед.», 27 авг. 1908, № 198.
(181) Человеку свойственно ошибаться (лат.).
(182) Приказ вр. ген. – губ. Ясенского напечатан в «Тереке». Цитирую по газете «Слово» от 7 ноября 1908 г. Приказ кавказского наместника оглашен в телеграммах официозного СПб. телегр. агентства.
(183) «Рус. вед.», 16 февр. 1910 г.
(184) «Речь», 1 июля 1907 г., № 153; «Русские вед.», 26 окт. 1907 г., № 245.
(185) «Нов. Русь», 6 дек. 1908 г.; «Киевские вести», 25 марта 1909 г.
(186)
(187) «Русское слово», 3 марта 1911 г., № 51.
(188) Сведения взяты много из газет: «Волынь», 3 июня 1909 г., № 149 и «Нижегор. листка», 24 мая 1909 г., № 138.
(189) См. также газеты того времени, между прочим: «Речь», 2 дек. 1910 г., № 331.
(190) Цитирую по «Киевским вестям», 15 февр. 1910 г., № 46.
(191) «Киевские вести», 3 авг. 1909, № 231.
(192) «Р. слово». Цит. из «Полт. голоса», 7 мая 1910.
(193) Цит. из «Волыни», 20 дек. 1908 г., № 20.
(194) «Огни» («Киевская копейка»), 14 сент. 1910 г., № 194. «Рус. ведом.», 19 января 1911 г., № 14. Честь защиты принадлежит г-ну Шишко.
(195) «Слово», 28 апр. 1909 г., № 779.
(196) «Р. вед.», 24 апр. 1910 г., № 93.
(197) «Русские вед.», 26 ноября 1909 г., № 271.
(198) «Русск. сл.», цит. из «Нижегор. листка», 10 ноября 1907 г.
(199) «Киевские вести», 20 мая 1908 г., № 135.
(200) «Киевские вести», № 251, 21 сентября 1908 г.
(201) В 1909 г. жители гор. Ирбита поднесли адрес члену Госуд. думы А. Ф. Бобянскому за избавление их города от «висевшего над ним призрака смертной казни», которая грозила 11-ти крестьянам. («Слово», 30 мая 1909 г., № 811.)
(202) «Киевские вести», 5 июня 1910, № 151.
(203) «Киевские вести», 14 февр. 1910 г., № 45.
(204) «Слово», 2 февр. 1909 г., № 697.
(205) «Киевские вести», 17 авг. 1908 г.
(206)
(207) «Рус. вед.», 4 янв., 1908 г., № 3.
(208) «Речь», 5 ноября 1909 г., № 340.
(209) «Киевские вести», 9 августа 1910 г., № 213.
(210) «Русские вед.», 5 мая 1907 г., № 111.
(211) «Слово», 22 мая 1909 г., № 803.
(212) «Русские вед.», 10 сентября 1909 г., № 207.
(213) «Речь», 27 ноября 1909 г., № 326.
(214) В «Крымском вестнике» было напечатано сообщение о том, что «бердянский полициймейстер Андреев переводится в Феодосию. Если вспомнить недавнее сообщение газет о последовавшем предании суду полиц. Андреева за изнасилование девушки в полицейском участке, то известие нельзя не признать довольно странным» (Цит. из «Черном, побер.» 18 янв. 1905 г.). Не тот ли самый «известный» Андреев, который был исправником в Перекопе?
(215) «Нижег. листок», 17 янв. 1909 г., № 16.
(216) «Речь». Цитирую из «Киевских вестей», 23 ноября 1907 г., № 160.
(217) Цит. из «Киевских вестей», 3 декабря 1907 г., № 170.
(218) Пропускаю резкое слово.
(219) «Р. слово», 12 июня 1910 г., № 133.
(220) «Совр. слово», И сент. 1910 г., № 965.
(221) «Южный край», 12 июня 1910 г., № 10012.
(222) Фамилии «понятых»: Митрофан Степанович Илюшин и Василий Филиппович Танин. Один из подводчиков – Григорий Варламович Хохлов.
(223) Через некоторое время, однако, полицейские понесли наказание.
(224) «Псковская жизнь» 3 дек. № 521.
(225) «Правда» 14 декабря 1911 г., № 82.
(226) Цит. из «Нижег. листка» от 19 сент. 1911 г. № 255.
(227) См. мою брошюру «Сорочинская трагедия».
(228) Курсивы мои.
(229) Знаменитое дело (франц.).
(230) Про себя (лат.).
(231) Этим самым (лат.).
(232) «Волынь», 22 мая, № 41.
(233) Полное собрание сочинений Гончарова, 1899 г., т. III, стр. 141.
(234) «Слово». Заимствуем из «Спб. вед.» – 21 авг. 1905, № 201.
(235) Соловьев, 1-е издание Истории, т. XVII, стр. 178.
(236) Там же, т. XVI, 182.
(237) Соловьев, 1-е издание Истории, т. XX, 183.
(238) Образцовое произведение (франц.).
(239) «Наша жизнь», 3 марта, № 384.
(240) Впоследствии в книге бар. фон-Теттау «Куропаткин и его помощники», вышедшей, если не ошибаюсь, в 1913 году, – была приведена докладная записка ген. Куропаткина, представленная государю в февр. 1904 г., тотчас после начала русско-японской войны. Вот ее заключительный параграф:
«ї 12. Операционный план весьма прост. Борьба флота за господство на море.
Воспрепятствование высадке японцев.
Оборонительные действия и широкое развитие малой войны до сосредоточения достаточных сил.
Переход в наступление по его окончании, именно:
Вытеснение японцев из Манчжурии.
Вытеснение японцев из Кореи.
Высадка наших войск в Японии. Овладение главным городом Японии и взятие в плен микадо…»
(241) 8 марта, № 405.
(242) «Нов. время» 15 февраля. Цит. из «Биржев. ведомостей», веч. изд., № 9198.
(243) «Наша жизнь», № 373, 18 февр. 1906 г. Эти слова цитированы, между прочим, в приказе по войскам Туркест. округа. В том же приказе военное начальство распорядилось снять во всех частях округа портреты ген. Церпицкого.
(244) «Военный голос». Цит. из «Слова», 17 февр., № 386.
(245) «Слово», 15 февр., № 402.
(246) «Русь». Цитируем из «Биржевых ведомостей» 18 апреля (веч. вып.), № 9855.
(247) Латинские глагольные формы (прим. ред.).
(248) «Русское богатство», апр. 1907 г. «Случ. заметки».
(249) Восприемником был Павел Иванович Чичиков, оправданный по суду во внимание благонамеренности, в честь коего и я назван Павлом.
(250) Писано до переименования военно-полевого правосудия в «военно-окружное». – Записано со слов С. Д. Пр-ва.
(251) Сведения сии почерпнуты из многих газет.
(252) О случае сем писано в 1895 году в сибирской газ. «Окраина».
(253) Зри: «Русская старина», 1874, окт., стр. 370.
