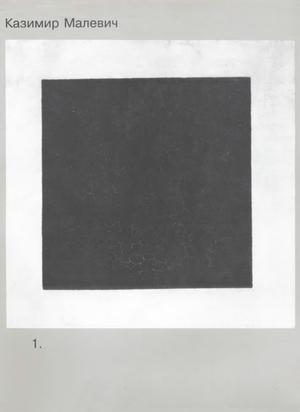
Первый том Собрания сочинений Казимира Малевича содержит статьи, манифесты, теоретические сочинения и другие работы 1913-1929 годов.
Казимир Северинович Малевич
Собрание сочинений в пяти томах
Том 1. Статьи, манифесты и другие работы 1913-1929
А. Шатских. Слово Казимира Малевича*
Имя Казимира Малевича стремительно обрело подобающее ему место в истории русского искусства, как только рухнула официальная советская идеология. Произошло это с тем большей легкостью, что великий художник давно завоевал прочную славу за пределами Отечества. Посвященную ему библиографию впору издавать отдельным изданием, и на девять десятых она состоит из книг и статей на иностранных языках; многочисленные исследования на русском стали публиковаться с конца 1980-х годов, когда состоялась первая большая выставка Малевича на родине после десятилетий замалчивания и хулы1.
Освоение творческого наследия Малевича в отечественной культуре началось с живописи, графики, архитектонов. Ныне с определенной долей уверенности можно утверждать, что круг работ Малевича-художника выявлен почти полностью, и историки искусства получили возможность, опираясь на эту основу, углублять, расширять, уточнять свои оценки и исследования2.Теперь настала пора представить другую ипостась великого творца. В России теоретические работы мастера известны фрагментарно, недостаточно – наследие же Малевича-мыслителя и литератора не уступает по масштабности его художественному наследию.
Русские исследователи волею исторических судеб довольно поздно подключились к весьма продвинутому на Западе процессу изучения философского и литературного творчества художника3. Тем не менее их поле деятельности от этого почти не сузилось. Если о живописи, графике, в какой-то мере архитектонах можно говорить, что их состав зафиксирован и подлежит ныне всесторонней каталогизации, то в отношении теоретических трудов вся эта работа впереди.
Библиография трудов, опубликованных при жизни художника, насчитывает несколько десятков названий. Однако это надводная часть айсберга: множеству трактатов, статей, исследований не суждено было обрести читателя; они образовали огромный архив, вывезенный Малевичем в Европу (в конце концов большая часть бумаг сосредоточилась в Стейделик Музеуме в Амстердаме4). Но и на родине, в частных и государственных собраниях, осело немало рукописей. На сегодняшний день состав литературных произведений Малевича еще не поддается описанию – обнаружены далеко не все тексты, и здесь возможны открытия и находки.
Публикации литературного, философского, критического наследия Казимира Малевича и будет посвящен предпринятый агентством «Гилея» выпуск Собрания сочинений.
Биография Малевича как литератора и теоретика началась в знаменательном 1913 году. Малевич, М. В. Матюшин и А. Е. Крученых, инициаторы и делегаты Первого всероссийского съезда баячей будущего (поэтов-футуристов), написали в июле 1913 манифест, вскоре появившийся в печати. Эпатажные заявления, декретирующие искоренение всех устоев старого мира и декларирующие приход новой реальности, – наиболее любимый, привычный жанр крайних авангардистов, и не только российских. На отечественной почве он обретал еще большее значении ввиду конституционной черты национальной культуры, ее мессиански-утопических устремлений. Русские будетляне и кубофутуристы, отмежевываясь от «блуждания в голубых тенях символизма», осознавали себя тем не менее в сугубо романтических категориях – демиургами, создателями собственных новых миров. Слово и дело в творчестве Малевича, провозгласившего себя новым реалистом, постепенно связалось в неразрывное целое – и в этом проявилось родовое свойство авангардного мышления как такового, где пластические эксперименты и тексты были неразъединимы, одно продолжало другое.
1913 год в перспективе времени вырос в одну из великих дат всей отечественной истории XX века. Последний мирный год старой России, пик ее экономического и культурного расцвета, он обладал какой-то магнетической притягательностью – вокруг 1913 года постоянно кружила мысль Малевича, этот год он объявлял главной датой супрематизма, сделав его точкой отсчета в развитии своей художественно-философской системы. Дотошные историки выяснили, что первые полотна абстрактного геометризма появились лишь весной 1915 года, а само слово «супрематизм» и того позже, – но год постановки футуристической оперы «Победа над Солнцем» по праву открывал хронологию изобретенного Малевичем направления.
Следствием художественного опыта, откристаллизовавшегося после декабрьских спектаклей «первого в мире театра футуристов», стало возникновение легендарной пластической формулы. Рождение Черного квадрата, превратившегося в одушевленного героя мировой культуры XX века, не могло не закрепиться в слове. Осенью 1915 года появился второй – уже единоличный – манифест Малевича со знаменитым заглавием-лозунгом «От кубизма к супрематизму». В дальнейшем пункт исхода, отталкивания менялся, погружаясь в толщу прошлого, – движение отсчитывалось «от Сезанна», «от импрессионизма», дорога пролегала через футуризм, кубофутуризм – заветная же цель всегда была одна, супрематизм.
Слово это пришло из родного языка художника, польского, где оно в свою очередь укоренилось благодаря католической латыни. Вначале термин «супрематизм», по мысли Малевича, означал высшую стадию развития живописи, в которой энергия цвета доминировала, господствовала надо всем остальным. В первый период существования новой системы (1915–1918) целью и смыслом деятельности ее родоначальника стало формирование круга единомышленников, консолидация единоверцев под знаменем живописного супрематизма. Отстаивание своей истины вызывало резкую полемику с «академиками» (так собирательно назывались все неавангардисты), она диктовала жанр и стиль общественных выступлений Малевича.
Левые художники обе революции 1917 года восприняли с энтузиазмом – в особенности Февральскую, показавшуюся такой прекрасной, очистительной, интеллигентно-бескровной. В грандиозных общественных переменах они видели справедливое, великое, доброе дело, воцарение той новой реальности, которую давно предчувствовали, призывали. Отрезвление приходило к кому быстрее, к кому медленнее – но в первые послереволюционные месяцы обретенная свобода казалась безграничной и вечной. Свобода была ключевым словом, паролем крайне левой политической партии, партии анархистов – и крайне левые в искусстве нашли понимание и прибежище у крайне левых в политике. Статьи инициатора супрематизма в московской газете «Анархия» (1918) составили законченный, по-своему совершенный цикл его работ.
Общественный темперамент, личностные качества прирожденного лидера выдвинули Казимира Малевича в ряды деятелей искусства, с большой энергией приступивших к строительству новой культуры. Художник обращался к разным сферам этого строительства – и к сугубо прикладному, пропагандистски-просветительскому музейному делу, и к обоснованию новых принципов художественной педагогики, и к утверждению новых горизонтов в поэзии.
Беспредметное искусство в России, как известно, развивалось в нескольких направлениях. Линия Казимира Малевича и линия Владимира Татлина, другого гиганта русского авангарда, все более и более расходились в претворении потенций абстрактного творчества: подспудно копившиеся разногласия начинали обнаруживать свою полярность в раннесоветские годы, что также закреплялось в текстах основоположника супрематизма.
Иная жизнь открылась перед Малевичем после переезда в ноябре 1919 года в Витебск. Еще во время создания последних статей для газеты «Анархия» геометрическая беспредметность достигла белой стадии – появились полотна «белое на белом»; отныне супрематизм делился своим создателем на три периода: черно-белый, цветной, белый. Но и это были лишь три ступени: живопись, пройдя через них, вышла к абсолюту – пустым холстам, которыми завершил художник свою первую персональную выставку в декабре 1919 – январе 1920 года5. Через год Малевич афористически сформулировал смысл своей акции: «О живописи в супрематизме не может быть речи, живопись давно изжита, и сам художник предрассудок прошлого»6.
Витебские годы, отданные сочинительству, в биографии Малевича отмечены высоким профетическим пафосом. В бессмертном городе Марка Шагала родились главнейшие философские трактаты его страстного антагониста. Инструментом постижения мироздания для живописца-беспредметника сделалось слово. Супрематизм вышел в пространство мысли – заголовок одного из фундаментальных витебских трудов гласил: «Супрематизм как чистое познание».
Объем созданного Малевичем в 1919–1922 годах огромен. На эти же годы пришлось сравнительно регулярное печатание его сочинений – свет увидели пять отдельных книжек и статьи в витебских изданиях. К ним нужно присовокупить ряд текстов, которые условно можно считать опубликованными (они были помещены в машинописном Альманахе Уновис № 1, выпущенном «тиражом» в пять экземпляров7).
Малевич работал в слове – как и в живописи – своего рода циклами, углубляя, развивая изложение выношенных идей в пространстве и времени. Сочинения, опубликованные в витебские годы, являлись, по сути дела, фрагментами единого текста, созидаемого на протяжении всех провинциальных лет. Примечательно, что такая корневая общность впрямую отразилась и на реальном бытовании некоторых из них: так, книжка «От Сезанна до супрематизма» представляла собой несколько крупных фрагментов сочинения «О новых системах в искусстве», смонтированных в самостоятельный текст, а трактат «Бог не скинут. Искусство, церковь, фабрика» был частью второго раздела основного философского труда Малевича «Супрематизм. Мир как беспредметность», законченного 19 февраля 1922 года.
Брошюре «Бог не скинут» суждено было стать последней книжкой великого человека, изданной на родине. Это сочинение, построенное на чисто спекулятивных рассуждениях, говорило о последовательности и бесстрашии мыслителя-самородка: обретенный им философский абсолют принял образ иррационального, непостижимого Ничто, мирового вакуума, конца и начала Вселенной.
После переезда в Петроград появилась последняя декларация Казимира Малевича, где все размышления и выводы закрепились в необычной формуле. Лаконичный манифест «Супрематическое зеркало» (1923) представлял собой словесно-математическое уравнение, в котором левая часть с перечислением разнообразных предметов и явлений мира была связана через знак равенства с огромным Нулем. Амбивалентная сущность Ничто, заключавшего в себе Всё и vice versa, была выражена с прямодушной, непреложной наглядностью.
Силы и потенции художника, соприкоснувшегося с Ничто, отнюдь не были исчерпаны. Теперь смыслом его деятельности стало исследование и пропагандирование открывшегося перед ним художественного и духовного опыта: в биографии Малевича началась своеобразная академическая стадия. Он погрузился в научно-исследовательскую работу, стремясь экспериментально, как в точных дисциплинах, обосновать выстраданные концепции возникновения новейших систем в искусстве. Над этими обоснованиями трудился и сам творец, и его последователи в Государственном институте художественной культуры (Гинхуке), которым Малевич руководил в 1924–1926 годах. В его жизнь вновь возвратилось пластическое творчество, вылившееся в создание объемных супрематических моделей, архитектонов. Они, по мысли автора, могли служить реальными проектами «супрематического ордера», нового большого стиля, способного определить все сферы духовной и материальной жизни человечества – от архитектуры до кинематографа. Малевич считал, что конструктивизм, ведший свою родословную от татлинских контррельефов, двигался совсем не той дорогой в утверждении нового стиля, нового искусства: полемика не утеряла прежнюю важную роль для пророка супрематизма.
Напряженная, многомерная деятельность художника-теоретика все реже и реже получала доступ к общественной трибуне. В советской действительности воплощались иные утопии, которым одинаково чужд, враждебен был и супрематизм, и конструктивизм; статьи Малевича принимались к публикации все неохотней, почти всегда сопровождаясь редакционным открещиванием – «дискуссионная». Разгром Гинхука в 1926 году, уничтожение уже готового сборника трудов института с малевичевским трактатом «Введение в теорию прибавочного элемента в живописи» ознаменовали быстро надвигающееся завершение его публичных выступлений в прессе. После 1930 года воцарилось полное молчание – на многие десятки лет.
Литературное творчество Малевича при его жизни вызывало волну неприятия. Об идеологическом, мировоззренческом отторжении супрематических идей и говорить не приходилось – слишком разительно отличалось исповедуемое художником великое Ничто от оптимистической, «единственно верной» теории марксизма-ленинизма. Но были – и остаются – черты малевичевской словесности, которые не так легко поддаются усвоению и сейчас. Речь идет об обескураживающей самобытности литературного изложения. Стиль Малевича, порывающий с общепризнанными литературными и языковыми нормами, при поверхностном знакомстве кажется неуклюжим, безграмотным, варварским. Читать его сочинения есть трудно труд, который вознаграждается сторицей. Вникая в насыщенную, плотную, органично-корявую речь Малевича, – по ошеломляющей выразительности она подчас напоминает прозу Андрея Платонова, – невозможно не поддаться совершенно особому ее очарованию, если не сказать, магии. Неологизмы и этимологическая свежесть малевичевского словоупотребления, восходящие к поэтике будетлян и заумников, энергия мысли, озаряющая тугую, шероховатую фразу, обнаруживали все ту же креативную мощь, которой столь полно, столь щедро был наделен гениальный инициатор супрематизма.
В стихии Слова, захватившей его, Малевичу суждено было достичь и самой высокой, божественной ее сферы – поэзии. Собственно стихотворения художника в печати почти не появлялись – только отдельные примеры (заумная строфа в статье «О поэзии», эпиграф к текстам книги «О новых системах в искусстве»). Однако многие строки и целые прозаические творения из «Анархии» – такие, как «Обрученные кольцом горизонта», «К новому лику», «К новой грани», – продиктованные вдохновенным, темным наитием, давали почувствовать подлинную меру поэтического дара соратника Велимира Хлебникова. Всепроникающий, повелительный ритм превращал великолепные периоды малевичевской прозы в белые стихи, глубоко родственные его монументальной философской лирике, дошедшей до нас8.
Первый том настоящего Собрания сочинений состоит из произведений Казимира Малевича, увидевших свет в 1913–1929 годы (кроме трудов, изданных в переводах на другие языки9). Корпус прижизненно опубликованных сочинений Малевича в достаточной мере репрезентативен: в нем присутствуют все жанры, все направления, в которых осуществлялись мысль и слово великого художника.
С 1913 года и вплоть до отъезда из Витебска (1922) работы Малевича печатались почти без правки, в том виде, в каком выходили из-под его пера (после 1922-го появились примеры приглаживания и усмирения языка художника). Большая часть помещенных в настоящем томе произведений счастливо миновала бдительную редакторскую опеку – поэтому читателю представляется возможность самому оценить их литературную оригинальность.
В состав книги включены все обнаруженные на сегодняшний день опубликованные тексты, подписанные именем Малевича, в том числе открытые письма, обращения, извещения и коллективные работы. В последнее время было выявлено более десятка статей, ранее неизвестных исследователям; они также вошли в настоящий том (первые переиздания произведений отмечены в комментариях).
Тексты Малевича, сгруппированные в несколько разделов, расположены в хронологическом порядке; в случае последовательного выхода одной работы в разных изданиях воспроизводится первая публикация. Хронологический принцип не был соблюден составителем в единственном случае последняя статья художника, опубликованная в прессе на русском языке, была включена в раздел работ о кино: тематическая общность четырех текстов Малевича, с одних и тех же позиций анализировавшего проблемы кинематографа на протяжении 1925–1929 годов, дала основание объединить их в своеобразный цикл «Статьи о кино».
Непосредственно в конце каждой работы указаны место и время ее первого появления. Комментарии, справки и примечания публикатора помещены в конце тома. Там же находится развернутый указатель, включивший собственные имена исторических лиц, упоминаемых художником.
Воспроизведение текстов Малевича основано на максимальном сохранении авторского стиля, словоупотребления, написания. Все выделяемые Малевичем слова, фразы, абзацы набраны разрядкой. Дополнения, толкования и расшифровки публикатора приводятся в ломаных скобках, предположительное чтение неясных слов – в квадратных; принятые автором сокращения раскрываются также в ломаных скобках, а в случае их общеупотребимости не раскрываются. Исправлены явные опечатки, пунктуация в необходимых для понимания текста случаях приближена к современной. Фразы, не поддающиеся осмыслению, оставлены в нетронутом виде. Все сноски и примечания Малевича отмечены звездочками, комментарии публикатора – арабскими цифрами. Написание фамилий и имен в подавляющем числе случаев приведено к современным нормам. Даты, относящиеся к событиям до 1918 года, даны по старому стилю, после введения нового летосчисления – по новому.
А. С. Шатских
Основные даты жизни Казимира Малевича
1878 – 11(23) февраля Казимир Северинович Малевич родился в Киеве в семье управляющего сахарным заводом.
1880 – Семья жила на Украине. Малевич закончил пятиклассное 1890-е агрономическое училище.
1895–1896 – Занятия в Киевской рисовальной школе Н. И. Мурашко.
С 1896 по 1904 – Жил в Курске, где вместе с братом создал кружок любителей искусства; работал в управлении железной дороги.
1904 – Переехал в Москву.
1905–1910 Занимался в студии Ф. И. Рерберга.
1907 – Познакомился с Д. Д. Бурлюком, М. Ф. Ларионовым, Н. С. Гончаровой.
1910 – Экспонировал работы на выставке «Бубнового валета».
1912 – Познакомился с А. Е. Крученых, В. В. Маяковским, Велимиром Хлебниковым, Е. Гуро; начало пожизненной дружбы с М. В. Матюшиным.
1912–1913 Участвовал в выставках «Ослиный хвост» и «Мишень», организованных М. В. Ларионовым.
1913 – Вступил в «Союз молодежи» (Санкт-Петербург).
Декабрь 1913 – Оформление футуристической оперы «Победа над Солнцем»(Санкт-Петербург).
1913–1915 Участвовал в диспутах и вечерах футуристов, иллюстрировал литографированные издания поэтов-футуристов. Экспонировал работы на выставках «Союза молодежи» вплоть до своего выхода из этого объединения (февраль 1914).
Декабрь 1915 – На «Последней футуристической выставке картин „0,10“» (ноль-десять) в Петрограде показал 39 супрематических полотен. Опубликовал манифест «От кубизма к супрематизму».
1916 – Образование общества «Супремус» во главе с Малевичем; подготовка журнала «Супремус» (не издан).
В мае призван в армию; служил в запасном полку.
1917 – Был избран в Московский Совет солдатских депутатов.
1918 – Член Коллегии Отдела Изо Наркомпроса. Профессор Петроградских Государственных свободных художественных мастерских. Оформил постановку «Мистерии-буфф» В. В. Маяковского (режиссер В. Э. Мейерхольд). Опубликовал цикл статей в газете «Анархия» и ряд статей в петроградской и московской печати.
1919 – Главный мастер I и II Государственных свободных художественных мастерских в Москве.
Ноябрь 1919 – май 1922 – Жил и работал в Витебске. Руководитель мастерской в Витебском Народном художественном училище (Витебские Государственные художественные мастерские, Витебский художественно-практический институт). Организатор и лидер Уновиса (с 1920). Опубликовал ряд книг и статей.
1919–1920 Первая персональная выставка Малевича (Москва, Музей живописной культуры).
1922 – Возвращение в Петроград.
1923 – Персональная выставка в московском Музее живописной культуры. Занял пост директора петроградского Музея художественной культуры, на основе которого в 1924 году был создан Институт художественной культуры (с 1925 – Государственный институт художественной культуры). Работа над архитектонами; создание теории прибавочного элемента в живописи (середина 1920-х).
1926 – Ликвидация Гинхука. С частью сотрудников Малевич был переведен в Государственный институт истории искусства (ГИИИ).
1927 – Поездка в Польшу и Германию. Персональные выставки в Варшаве (март) и Берлине (май-сентябрь). Издательство Баухауза опубликовало книгу Малевича «Мир как беспредметность» (Malewitsch K. Die gegenstandlose Welt. Bauchausbucher no 11. Munich, 1927).
1927–1929 Руководитель комитета экспериментального изучения художественной культуры ГИИИ.
Конец 1920-х – Создал постсупрематические полотна. Преподавал в Киевском художественном институте. Опубликовал цикл статей в харьковском журнале «Нова генерація» (1928–1930).
1929–1930 – Персональные выставки в Москве и Киеве.
Осень 1930 – Был арестован и несколько недель находился в заключении в тюрьме ОГПУ в Ленинграде.
1932–1933 – Руководил экспериментальной лабораторией в Государственном Русском музее.
1933 – Начало тяжелой болезни.
1935 – 15 мая скончался в Ленинграде; урна с прахом Малевича была захоронена под Москвой, близ Немчиновки.
I. Работы 1913–1917 годов
Первый всероссийский съезд баячей будущего (поэтов-футуристов)*
Отмечается и намечается образима действий на будущий год, рассматривается деятельность истекшего года, заслушиваются доклады: Д. Бурлюка, Хлебникова, «О новой музыке»1 и др. В общем планы и мнения выражаются в следующем постановлении: Мы собрались, чтобы вооружить против себя мир!
Пора пощечин прошла2:
Треск взорвилей3 и резьба пугалей всколыхнет предстоящий год искусства!
Мы хотим, чтобы наши противники храбро запрещали [защищали?] свои рассыпающиеся пожитки. Пусть не виляют хвостами и не сумеют укрыться за ними.
Мы приказывали тысячным толпам на собраниях и в театрах и со страниц наших четких книг, а теперь заявим о правах баячей и художников, раздирая уши прозябающих под пнем трусости и недвижности:
1) Уничтожить «чистый, ясный, честный, звучный Русский язык», оскопленный и сглаженный языками человеком от «критики и литературы».
Он не достоин великого «Русского народа!»
2) Уничтожить устаревшее движение мысли по закону причинности, беззубый здравый смысл, «симметричную логику», блуждание в голубых тенях символизма, и дать личное творческое прозрение подлинного мира новых людей.
3) Уничтожить изящество, легкомыслие и красоту дешевых публичных художников и писателей, беспрерывно выпуская все новые и новые произведения в словах, в книгах, на холсте и бумаге.
4) С этой целью к первому Августа сего года взлетают в свет новые книги «Трое». Хлебников, Крученых и Е. Гуро. Рис. К. Малевича4; «Небесные верблюжата» Е. Гуро5; «Дохлая луна»6 – «Сотрудники Гилея»7 – «Печать и Мы»8 и др.
5) Устремиться на оплот художественной чахлости – на Русский театр и решительно преобразовать его. Художественным, Коршевским, Александрийским, Большим и Малым нет места в сегодня! – с этой целью учреждается новый театр «Будетлянин».
6) И в нем будет устроено несколько представлений (Москва и Петръградъ9). Будут поставлены Дейма: Крученых «Победа над Солнцем» (опера), Маяковского «Железная дорога», Хлебникова «Рождественская сказка» и др.10
Постановкой руководят сами речетворцы, художники: К. Малевич, Д. Бурлюк и музыкант М. Матюшин.
Скорее вымести старые развалины и возвести небоскреб, цепкий как пуля!
С подлинным верно. Председатель:
Секретарь: А. Крученых, К. Малевич.
Усикирко. 20 июля 1913 г.
Отмежевавшиеся от Ларионова. Письмо в редакцию*
Прочитав в № 10 Вашей уважаемой газеты фельетон, в котором г. Петров разделяет русских футуристов на две группы: последователей Ларионова и Бурлюка1, вспоминаю рыболова, который поймал рыбку, посмотрел на нее и сказал:
– Да, это она и есть глава всех рыб! Видите, как плюется?
С другой стороны, присоединяюсь к письму Вадима Шершеневича и заявляю, что забрасывание тухлыми яйцами, обливание кислым молоком, а также пощечины, на чем строит свой футуризм и популярность лучист Ларионов, принадлежат дикой толпе, к которой приобщается и он, что видно из газеты «Вечерние Известия» № 3812.
Прошу вас довести до сведения читателей, что группа русских футуристов-художников с лучистом Ларионовым ничего общего не имеет и ограждает себя от такого главы.
Художник К. Малевич.
Новь, 1914, № 12
Пасха у футуристов. пасхальные пожелания*
1. Разум – каторжная цепь для художника, а потому желаю всем художникам лишиться разума.
Художник К. Малевич
2. Присоединяюсь.
Александра Экстер
3. Освобождения от варварского ига.
Артур Лурье
4. Воскресения
Н. Кульбин
5. Ужасно боюсь Пасхи: похристосуешься, – а вдруг – Измайлов?!1
Поэт В. Маяковский
6. Отчаянно люблю Пасху. – Она весной и куличевая (а кулич – вкус мудрецов) и, главное, можно целоваться даже с незнакомыми. И еще – я родился на Пасхе.
Василий Каменский
Синий журнал, 1915, № 12
От кубизма к супрематизму*
Пространство есть вместилище без измерения, в котором разум ставит свое творчество.
Пусть же и я поставлю свою творческую форму.
Вся бывшая и современная живопись до супрематизма, скульптура, слово, музыка были закрепощены формой натуры и ждут своего освобождения, чтобы говорить на своем собственном языке и не зависеть от разума, смысла, логики, философии, психологии, разных законов причинности и технических изменений жизни.
То было время вавилонского столпотворения в искусстве.
Искусство живописи, скульптуры, слова – было до сей поры верблюдом, навьюченным разным хламом одалиск, Египетскими и Персидскими царями Соломонами, Саломеями, принцами, принцессами с их любимыми собачками, охотами и блудом Венер.
До сей поры не было попыток живописных как таковых, без всяких атрибутов реальной жизни.
Живопись была галстухом на крахмальной рубашке джентльмена и розовым корсетом, стягивавшим разбухший живот ожиревшей дамы.
Живопись была эстетической стороной вещи, но она никогда не была самобытна и самодельна. Художники были судебными следователями, чинами полиции, составлявшими разные протоколы о порченых продуктах, кражах, убийствах и бездомных бродягах.
Художники были также адвокатами, веселыми рассказчиками анекдотов, психологами, ботаниками, зоологами, археологами, инженерами, но художников творцов не было.
Наше передвижничество раскрашивало горшки на заборах Малороссии и старалось передать философию тряпок.
Ближе к нам молодежь занялась порнографией и превратила живопись в чувственный, похотливый хлам.
Не было реализма самодельной живописи, не было творчества. Нельзя же считать композицию развратных баб в картинах – творчеством.
Нельзя также считать и идеализацию греческих изваяний, ведь там было лишь желание улучшить субъективное «Я».
Также нельзя считать и те картины, где есть утрировка реальных форм: иконопись Джотто, Гоген и т. п., а также и копии натуры.
Творчество лишь там, где в картинах является форма, не берущая ничего созданного уже в натуре, но которая вытекает из живописных масс, не повторяя и не изменяя первоначальных форм предметов натуры.
Футуризм, запретив писать женские окорока, копировать портреты, – удалил и перспективу.
Но и он внес запрет не во имя раскрепощения живописи от упомянутых принципов: возрождения, антиков и т. п., а в силу изменения технической стороны существования.
Новая железная машинная жизнь, рев автомобилей, блеск прожекторов, ворчание пропеллеров разбудили душу, которая храпела, задыхаясь в погребе перечисленных ошибок.
Динамика движения навела на мысль выдвинуть и динамику живописной пластики.
Но усилие футуризма дать чистую живописную пластику как таковую не увенчалась успехом: он не мог разделаться с предметностью вообще и только разрушил предметы ради достижения динамики.
И последнее было достигнуто тогда, когда наполовину изгнан был разум, как старая мозоль привычки видеть предметы целыми и неустанно сравнивать их с натурой.
Но еще больше удаляет цель достижения чистой живописной пластики в футуризме то, что в картине конструкция пробегающих вещей – имеет в виду передачу впечатления состояния движения натуры.
Раз выставлена такая задача, необходимо оперировать с реальными формами, чтобы получить впечатление.
Но как бы ни было, в кубофутуризме налицо нарушение целости предметов, разлом и усечение их, что приближает к уничтожению предметности в искусстве творчества.
Кубофутуристы собрали все вещи на площадь, разбили их, но не сожгли. Очень жаль!
Живопись была ими выведена из модно-галантерейных, мануфактурных и парфюмерных магазинов, и ее одел наш машинно-железо-бетонный век.
Футуристов поразила необыкновенная сила несущихся предметов, быстрая их смена, и они стали искать средство, каким образом передать современное состояние жизни.
Конструкция же картины возникала от нахождения на плоскости точек, где бы положение реальных вещей при их разрыве или при встрече их дали бы время наибольшей скорости.
Нахождение этих точек может быть сделано произвольно, независимо от физического закона естественности и перспективы.
Поэтому мы видим в футуристических картинах появление дыма, туч, неба, лошадей, автомобилей и разных других предметов в положениях и местах, не соответствующих натуре.
И состояние предметов стало важнее их сути и смысла.
Мы увидели картину необычайную, новый порядок предметов заставлял содрогаться разум, критики бросались, как собаки из подворотни, на художника.
Позор им!
И нужно было <иметь> громадную силу воли, чтобы нарушить все правила и содрать огрубевшую кожу души академизма и плюнуть в лицо здравому смыслу.
Честь им!
Отвергая разум и выставив интуицию как подсознательное, кубофутуристы одновременно пользуются для своих картин формами, созданными разумом для своей цели.
Интуиция не могла бы выразить все подсознательное в реальном виде особых форм.
В искусстве футуристов мы видим все формы реальной жизни, и если они помещены в несоответствующих местах, то это сделано не подсознательно, а имеет свое законное, сознательное оправдание вызвать впечатление хаоса движения современной жизни.
Интуиция могла лишь находить новые красоты в предметах уже созданных (Кубизм).
Разум, цель, сознание выше интуиции. Он творит из ничего форму совершенно новую или же совершенствует первичную. От двуколки к паровозу, автомобилю, аэроплану.
А между тем интуитивному чувству приписывают, что оно, высшее, способно предугадывать, опережать время.
Чувство, которое из каких-то бессознательных пустот тащит в реальную жизнь все новое и новое.
В искусстве этого доказательства нет. Интуиция отыскивала новое, эстетическое только уже в созданных вещах.
Разумному творчеству предшествует цель, а самосознание есть средство.
Интуитивное же творчество бессознательно и не имеет цели и точного ответа.
Футуристические картины не оправдывают этого, что доказывается конструкцией картины, расчетом порядка и задачей расположения вещей.
Если мы возьмем в картине любую точку, то найдем в ней уходящую или же приближающуюся вещь или заключенное красочное пространство.
Но не найдем главного – живописной формы как таковой.
Живописный элемент здесь не что иное, как верхнее платье данной вещи.
И количество живописи было дано, насколько нужна была величина формы, для своего назначения, а не наоборот.
Выдвигая в картинах как новое динамику живописной пластики, не уничтожив предметность, футуристическая картина может быть сведена к 1:20, не потеряв своей силы движения.
Мне кажется, нужно передать чисто красочное движение так, чтобы картина не могла потерять ни единой своей краски. Движение, бег лошади, паровоза, можно передать однотонным рисунком карандаша, но передать движение красных, зеленых, синих масс – нельзя.
Поэтому нужно обратиться непосредственно к массам живописным как таковым и искать в них форм, им присущих.
В футуризме мы встречаем главным образом обращение к предметам и оперированию с ними, от чего надо отказаться ради чистого живописного создания новых творческих форм.
Динамизм живописи есть только бунт к выходу живописных масс из вещи к самосвойным, не обозначающим ничего формам, т. е. к господству чисто самоцельных живописных форм над разумными, к Супрематизму как к новому живописному реализму.
Обобщаю: Футуризм через академичность форм идет к динамизму живописи.
Кубизм – через уничтожение вещи к чистой живописи.
И оба усилия в своей сути стремятся к супрематизму живописи, к торжеству над целесообразными формами творческого разума.
Если рассматривать искусство кубизма, то возникнет вопрос, какой энергией вещей интуитивное чувство побуждалось к восторгу и деятельности. Увидим, что живописная энергия была второстепенной – живопись не была эстетической стороной конструкции, выходящей из взаимоотношения цветовых масс.
Сам же предмет, а также его сущность и назначение, смысл или желание представить предмет полнее (как думают многие кубисты) тоже были ненужной заботой.
Интуитивное чувство нашло новую красоту в вещах – энергию диссонансов, полученную от встречи двух форм.
Вещи имеют в себе массу моментов времени, вид их разный, а следовательно, и живопись их разная. Все эти виды времени вещей и их анатомия: слой дерева и т. п. – стали важнее сути и были взяты интуицией как средство для постройки картины, причем конструировались эти средства так, чтобы неожиданность встречи двух анатомических строений дала бы диссонанс наибольшей силы напряжений, чем и оправдывается появление частей реальных предметов в местах, несоответствующих натуре.
Таким образом, за счет диссонансов вещей мы лишились представления целой вещи. С облегчением можем сказать, что перестали быть двугорбыми верблюдами, нагруженными вышеуказанным хламом.
Предмет, писанный по принципу кубизма, может считаться законченным тогда, когда исчерпан диссонанс его. Все же повторяющиеся части могут быть опущены художником. Но если в картине художник находит мало напряжения, то он волен взять его в другом предмете.
В принципе кубизма лежит еще очень ценная задача, не передавать предметы, а сделать картину.
Но в кубизме еще не оправдывается положение, что всякая реальная форма, созданная не в силу потребности живописи, есть насилие над последней.
Если в прошедших тысячелетиях художник искал вещь, ее смысл – сущность, старался оправдать ее назначение, то в нашей эре кубизма художник уничтожил вещь как таковую с ее смыслом, сущностью и назначением.
Вещи, предметы в реальном мире – исчезли как дым для новой культуры искусства.
И глаза мои могут быть взяты в паноптикум как атрибуты средневековья для обзора предметности.
Кубизм и Футуризм создали картину из обломков и усечения предметов за счет диссонансов и движения. Интуиция была задавлена энергией предметов и не достигла самоцели живописи.
Кубофутуристические картины создавались по нескольким принципам:
I) Искусственной живописной скульптуры (лепка форм).
II) Реальной скульптуры (наклейка), рельефа и контррельефа.
III) Слова.
В Кубизме живопись выражалась главным образом в плоскости, до него она была как иллюминационное средство!
Что же касается живописных плоскостей в кубизме, то они не были как таковые самодельны, а служили своей живописной формой для диссонанса. И сама их форма была такой, которая бы могла дать сильный диссонанс при направляющихся к ней прямых, кривых и т. п.
Всякая живописная плоскость, превращенная в выпуклый живописный рельеф – есть искусственная скульптура, а всякий рельеф – выпуклость, превращенная в плоскость, есть живопись.
Итак, в живописном искусстве интуицией не были созданы формы, вытекающие из массы живописной материи, из глыбы мрамора не выводилась ему присущая форма куба, квадрата, шара и т. п.
Мы встречаем восторг интуиции – комбинациями в картине. Но интуиция также восторгалась и росписи горшка на заборе, написанному подсолнуху…
Изображенные в картинах уродства человеческого тела и других форм происходят оттого, что творческая воля не согласна с этими формами и ведет борьбу с художником за свой выход из вещи.
Творческая воля до сей поры втискивалась в реальные формы жизни. И уродливость есть борьба творческой силы от тоски заключения. Я эту творческую силу, волю, в искусстве назову А. Б. Абизмом, как охраняющую самоцель каждого искусства, формы которого будут новым выявлением живописного реализма масс, материалов, камня, железа и других.
Так, например, глыбе мрамора не присуща человеческая форма. Микельанджело, изваяв Давида, сделал насилие над мрамором, изуродовал кусок прекрасного камня. Мрамора не стало – стал Давид.
И глубоко он ошибался, если говорил, что вывел Давида из мрамора.
Испорченный мрамор был осквернен сначала мыслью Микельанджело о Давиде, которую он втиснул в камень, а потом освободил, как занозу из постороннего тела.
Из мрамора надо выводить те формы, которые бы вытекали из его собственного тела, и высеченный куб или другая форма ценнее всякого Давида.
Тоже и в живописи, слове, музыке.
Стремление художественных сил направить искусство по пути разума давало нуль творчества. И в самых сильных субъектах – реальные формы: вид уродства.
Уродство было доведено у более сильных почти до исчезающего момента, но не выходило за рамки нуля.
Но я преобразился в нуль формы и вышел за 0–1.
Считая Кубофутуризм выполнившим свои задания – я перехожу к Супрематизму – к новому живописному реализму, беспредметному творчеству.
Далее о Супрематизме, живописи, скульптуре и динамике музыкальных масс – скажу в свое время.
К. Малевич
Июнь, 1915 г.
От кубизма и футуризма к супрематизму*
Когда исчезнет привычка сознания видеть в картинах изображение уголков природы, мадонн и бесстыдных венер, тогда только увидим чисто живописное произведение.
Я преобразился в нуле форм1 и выловил себя из омута дряни Академического искусства.
Я уничтожил кольцо – горизонта, и вышел из круга вещей, с кольца горизонта, в котором заключены художник и формы натуры.
Это проклятое кольцо, открывая все новое и новое, уводит художника от цели к гибели.
И только трусливое сознание и скудность творческих сил в художнике поддаются обману и устанавливают свое искусство на формах натуры, боясь лишиться фундамента, на котором основал свое искусство дикарь и академия.
Воспроизводить облюбованные предметы и уголки природы, все равно что восторгаться вору на свои закованные ноги.
Только тупые и бессильные художники прикрывают свое искусство искренностью.
В искусстве нужна истина, но не искренность.
Вещи исчезли как дым для новой культуры искусства, и искусство идет к самоцели – творчества, к господству над формами натуры.
Дикарь – первый положил принцип натурализма: изображая свои рисунки из точки и пяти палочек, он сделал попытку передачи себе подобного.
Этой первой попыткой была положена основа в сознании подражательности формам природы.
Отсюда возникла цель подойти как можно ближе к лицу натуры.
И все усилие художника было направлено к передаче ее творческих форм.
Первым начертанием примитивного изображения дикаря было положено начало искусству Собирательному, или искусству повторения.
Собирательному потому, что реальный человек не был открыт со всеми его тонкостями линий чувств, психологии и анатомии.
Дикарь не видел ни внешнего его образа, ни внутреннего состояния.
Его сознание могло только увидеть схему человека, зверя и т. п.
И по мере развития сознания усложнялась схема изображения натуры.
Чем больше его сознание охватывало натуру, тем усложнялась его работа и увеличивался опыт умения.
Сознание развивалось только в одну сторону – сторону творчества натуры, а не в сторону новых форм искусства.
Поэтому его примитивные изображения нельзя считать за творческие создания.
Уродство реальных форм в его изображении – результат слабой технической стороны.
Как техника, так и сознание находились только на пути развития своего.
– И его картины нельзя считать за искусство.
Ибо не уметь – не есть искусство.
Им Только был указан путь к искусству.
Следовательно, первоначальная схема его явилась остовом, на который поколения навешивали все новые и новые открытия, найденные ими в природе.
И схема все усложнялась и достигла своего расцвета в Антике и Возрождении искусства.
Мастера этих двух эпох изображали человека в полной его форме, как наружной, так и внутренней.
Человек был собран, и было выражено его внутреннее состояние.
Но несмотря на громадное мастерство их – ими все-таки не была закончена идея дикаря:
Отражение, как в зеркале, натуры на холсте.
И ошибочно считать, что их время было самым ярким расцветом в искусстве и что молодому поколению нужно во что бы то ни стало стремиться к этому идеалу.
Такая мысль ложная.
Она уводит молодые силы от современного течения жизни, чем уродует их.
Тела их летают на аэропланах, а искусство и жизнь прикрывают старыми халатами Неронов и Тицианов.
Поэтому не могут заметить новую красоту в нашей современной жизни.
Ибо живут красотой прошлых веков.
Вот почему непонятны были реалисты, импрессионисты, Кубизм, Футуризм и Супрематизм.
Эти последние художники сбросили халаты прошлого и вышли наружу современной жизни и находили новые красоты.
И говорю:
Что никакие застенки академий не устоят против приходящего времени.
Двигаются и рождаются формы, и мы делаем новые и новые открытия.
И то, что нами открыто, того не закрыть.
И нелепо наше время вгонять в старые формы минувшего времени.
Дупло прошлого не может вместить гигантские постройки и бег нашей жизни.
Как в нашей технической жизни:
Мы не можем пользоваться теми кораблями, на которых ездили сарацины – так и в искусстве мы должны искать форм, отвечающих современной жизни.
Техническая сторона нашего времени уходит все дальше вперед, а искусство стараются подвинуть все дальше назад.
Вот почему выше, больше и ценнее все те люди, которые следуют своему времени.
И реализм 19 века гораздо больше, чем идеальные формы эстетических переживаний эпохи Возрождения и Греции.
Мастера Рима и Греции, достигнувшие знания анатомии человека и давшие до некоторой степени реально изображение:
были задавлены эстетическим вкусом, и реализм их был опомажен, опудрен вкусом эстетизма.
Отсюда идеальная линия и красивость красок.
Эстетический вкус увел их в сторону от реализма земли, и они пришли в тупик Идеальности.
Живопись у них есть средство для украшения картины.
Знания их были унесены с натуры в закрытые мастерские, где фабриковались картины многие столетия.
Вот почему оборвалось их искусство.
Они закрыли за собою двери и тем уничтожили связь с натурой.
И тот момент, когда идеализация формы захватила их – надо считать падением реального искусства.
Ибо искусство не должно идти к сокращению или упрощению, а должно идти к сложности.
Венера Милосская – наглядный образец упадка – это не реальная женщина, а пародия.
Давид – <Микель>Анджело – уродливость:
Его голова и торс как бы слеплены из двух противоположных форм.
Фантастическая голова и реальный торс.
Все мастера Возрождения достигли больших результатов в анатомии.
Но не достигли правдивости впечатления тела.
Живопись их не передает тела и пейзажи их не передают света живого, несмотря на то, что в телах их людей сквозят синеватые вены.
Искусство натурализма есть идея дикаря – стремление к передаче видимого, но не создание новой формы.
Творческая воля у него была в зародыше, впечатление же у него было более развито, что и было причиной воспроизведения – реального.
Также нельзя считать, что дар воли творческой был развит и у классиков.
Так как мы видим в их картинах только повторение реальных форм жизни в более богатой обстановке, чем у родоначальника дикаря.
Композицию тоже нельзя считать за творчество, ибо распределение фигур в большинстве случаев зависит от сюжета: шествие короля, суд и т. п.
Король и судья уже определяют на холсте места лицам второстепенного значения.
Еще композиция покоится на чисто эстетическом основании красивости распределения.
Так что распределение мебели по комнате еще не есть процесс творческий.
Повторяя или калькируя формы натуры, мы воспитали наше сознание в ложном понимании искусства.
Примитивы понимались за творчество.
Классики – тоже творчество.
20-ть раз поставить один и тот же стакан – тоже творчество.
Искусство как умение передать видимое на холсте считалось за творчество.
Неужели поставить на стол самовар тоже творчество?
Я думаю совсем иначе.
Передача реальных вещей на холсте – есть искусство умелого воспроизведения, и только.
И между искусством творить и искусством повторить – большая разница.
Творить значит жить, вечно создавать новое и новое.
И сколько бы мы ни распределяли мебель по комнатам, мы не увеличим и не создадим их новой формы.
И сколько бы ни писал художник лунных пейзажей или пасущихся коров и закатиков: будут все те же коровки и те же закатики. Только в гораздо худшем виде.
А ведь от количества написанных коров определяется гениальность художника.
Художник может быть творцом тогда, когда формы его картин не имеют ничего общего с натурой.
А искусство – это умение создать конструкцию, вытекающую не из взаимоотношений форм и цвета и не на основании эстетического вкуса красивости композиции построения, – а на основании веса, скорости и направления движения.
Нужно дать формам жизнь и право на индивидуальное существование.
Природа есть живая картина, и можно ею любоваться. Мы живое сердце природы. Мы самая ценная конструкция этой гигантской живой картины.
Мы ее живой мозг, который увеличивает ее жизнь.
Повторить ее есть воровство, и повторяющий ее есть ворующий; ничтожество, которое не может дать, а любит взять и выдать за свое (Фальсификаты).
На художнике лежит обет быть свободным творцом, но не свободным грабителем.
Художнику дан дар для того, чтобы дать в жизнь свою долю творчества и увеличить бег гибкой жизни.
Только в абсолютном творчестве он обретет право свое.
А это возможно тогда, когда мы лишим все наши мысли мещанской мысли – сюжета – и приучим сознание видеть в природе все не как реальные вещи и формы, а как материал, из массы которого надо делать формы, ничего не имеющие общего с натурой.
Тогда исчезнет привычка видеть в картинах Мадонн и Венер с заигрывающим, ожиревшим амуром.
Самоценное в живописном творчестве есть цвет и фактура – это живописная сущность, но эта сущность всегда убивалась сюжетом.
И если бы мастера Возрождения отыскали живописную плоскость, то она была бы гораздо выше, ценнее любой Мадонны и Джиоконды.
А всякий высеченный пяти-, шестиугольник был бы большим произведением скульптуры, нежели Милосская или Давид.
Принцип дикаря есть задача создать искусство в сторону повторения реальных форм натуры.
Собираясь передать жизнь формы – передавали в картине мертвое.
Живое превратилось в неподвижное, мертвое состояние.
Все бралось живое, трепещущее и прикреплялось к холсту, как прикрепляют<ся> насекомые в коллекции.
Но то было время вавилонского столпотворения в понятиях искусства.
Нужно было творить – повторяли, нужно было лишить формы смысла и содержания – обогатили их этим грузом.
Груз надо свалить, а его привязали на шею творческой воли.
Искусство живописи, слова, скульптуры было каким-то верблюдом, навьюченным разным хламом одалиск, Саломеями, принцами и принцессами.
Живопись была галстуком на крахмальной рубашке джентльмена и розовым корсетом, стягивающим живот.
Живопись была эстетической стороной вещи.
Не она не была никогда самособойна, самодельна.
Художники были чиновниками, ведущими опись имущества натуры, любителями коллекций зоологии, ботаники, археологии.
Ближе к нам молодежь занялась порнографией и превратила живопись в похотливый хлам.
Не было попытки чисто живописных задач как таковых, без всяких атрибутов реальной жизни.
Не было реализма самодельной живописной формы и не было творчества.
Реалисты-академисты есть последние потомки дикаря.
Это те, которые ходят в поношенных халатах старого времени.
И опять, как и прежде, некоторые сбросили этот засаленный халат. И дали пощечину старьевщику – академии, объявив футуризм.
Стали мощным движением бить в сознание, как в каменную стену гвозди.
Чтобы выдернуть вас из катакомб к современной скорости.
Уверяю, что те, кто не пошел по пути футуризма как выявителя современной жизни, тот обречен вечно ползать по старым гробницам и питаться объедками старого времени.
Футуризм открыл «новое» в современной жизни: красоту скорости.
А через скорость мы двигаемся быстрее.
И мы, еще вчера футуристы, через скорость пришли к новым формам, к новым отношениям к натуре и к вещам.
Мы пришли к Супрематизму, бросив футуризм, как лазейку, через которую отставшие будут проходить.
Футуризм брошен нами, и мы, наиболее из смелых, плюнули на алтарь его искусства.
Но смогут ли трусливые плюнуть на своих идолов. –
Как мы вчера!!!
Я говорю вам, что не увидите до той поры новых красот и правды, пока не решитесь плюнуть.
Все до нас искусства есть старые кофты, которые сменяются так же, как и ваши шелковые юбки.
И, бросив их, приобретаете новые.
Почему вы не одеваете костюмы ваших бабушек, когда вы млеете перед картинами их напудренных изображений.
Это все подтверждает, что тело ваше живет в современном времени, а душа одета в бабушкин старый лифчик.
Вот почему приятны вам Сомовы, Кустодиевы и разные старьевщики.
А мне ненавистны такие торговцы старьем.
Мы вчера с гордо поднятым челом защищали футуризм. Теперь с гордостью плюем на него.
И говорю, что оплеванное вами – приемлется.
Плюйте и вы на старые платья и оденьте искусство в новое.
Отречение наше от футуризма не в том, что он изжит и наступил конец его. Нет. Найденная им красота скорости вечна, и многим еще откроется новое.
Так как через скорость футуризма мы бежим к цели, мысль движется скорей, и те, кто в футуризме, те ближе к задаче и дальше от прошлого.
И вполне естественно ваше непонимание. Разве может понять человек, который ездит всегда в таратайке, переживания и впечатления едущего экспрессом или летящего в воздухе.
Академия – заплесневевший погреб, в котором самобичуют искусство.
Гигантские войны, великие изобретения, победа над воздухом, быстрота перемещения, телефоны, телеграфы, дредноуты – царство электричества.
А наша художественная молодежь пишет Неронов и римских полуголых воинов.
Честь футуристам, которые запретили писать женские окорока, писать портреты и гитары при лунном свете.
Они сделали громадный шаг – бросили мясо и прославили машину.
Но мясо и машина есть мышцы жизни.
То и другое – тела, двигающие жизнь.
Здесь сошлись два мира:
Мир мяса и мир железа.
Обе формы есть средства утилитарного разума.
И требуется выяснить отношение художника к формам вещей жизни.
До этой поры всегда художник шел вслед за вещью.
Так и новый футуризм идет за машиной современного бега.
Эти оба искусства: старое и новое – футуризм – сзади бегущих форм.
И возникает вопрос: будет ли это задача в живописном искусстве, – отвечать своему существованию?
Нет!
Потому, что идя за формой аэропланов, автомобилей, мы будем всегда в ожидании новых, выброшенных форм технической жизни…
И второе:
Идя за формой вещей, мы не можем выйти к самоцели живописной, к непосредственному творчеству.
Живопись будет средством передать то или иное состояние форм жизни.
Но футуристы запретили писать наготу – не во имя освобождения живописи или слова к самоцели.
А по причине изменения технической стороны жизни.
Новая железная, машинная жизнь, рев автомобилей, блеск электрических огней, ворчание пропеллеров – разбудили душу, которая задыхалась в катакомбах старого разума и вышла на сплетение дорог неба и земли.
Если бы все художники увидели перекрестки этих небесных дорог, если бы они охватили этот чудовищный пробег и сплетения наших тел, с тучами в небе – тогда бы не писали хризантемы.
Динамика движения навела на мысль выдвинуть и динамику живописной пластики.
Но усилия футуристов дать чисто живописную пластику как таковую – не увенчались успехом.
Они не могли разделаться с предметностью, что облегчило бы их задачу.
Когда ими был наполовину изгнан с поля картины разум, как старая мозоль привычки видеть все естественным, – им удалось построить картину новой жизни вещей, но и только.
При передаче движения цельность вещей исчезла, так как мелькающие их части скрывались между бегущими другими телами.
И конструируя части пробегающих вещей, старались передать только впечатление движения.
А чтобы передать движение современной жизни, нужно оперировать с ее формами.
Что и осложняло выход живописному искусству к его цели.
Но, как бы там ни было, сознательно или бессознательно, ради ли движения или ради передачи впечатления, –
Цельность вещей была нарушена.
И в этом разломе и нарушении цельности лежал скрытый смысл, который прикрывался натуралистической задачей.
В глубине этого разрушения лежало как главное не передача движения вещей, а их разрушение, ради чистой живописной сущности, т. е. к выходу к беспредметному творчеству.
Быстрая смена вещей поразила новых натуралистов – футуристов, и они стали искать средства их передачи.
Поэтому конструкция видимых вами футуристических картин возникла от нахождения на плоскости точек, где бы положение реальных предметов при своем разрыве или встрече дали бы время наибольшей скорости.
Нахождение этих точек может быть сделано независимо от физического закона естественности и перспективы.
Поэтому мы видим в футуристических картинах появление туч, лошадей, колес и разных других предметов в местах, не соответствующих натуре.
Состояние предметов стало важнее их сути и смысла.
Мы видим картину необычайную.
Новый порядок предметов заставлял содрогаться разум.
Толпа выла, плевалась; критика бросалась, как собака из подворотни, на художника.
(Позор им.)
Футуристы проявили громадную силу воли, чтобы нарушить привычку старого мозга, содрать огрубевшую кожу академизма и плюнуть в лицо старому здравому смыслу.
Футуристы, отвергнув разум, провозгласили интуицию как подсознательное.
Но создавали свои картины не из подсознательных форм интуиции, а пользовались формами утилитарного разума.
Следовательно, на долю интуитивного чувства ляжет лишь нахождение разницы между двумя жизнями старого и нового искусства.
В самой конструкции картины мы не видим подсознательности.
Мы видим скорее сознательный расчет построения.
На футуристической картине есть масса предметов. Они разбросаны по плоскости в неестественном для жизни порядке.
Нагромождение предметов получено не от интуитивного чувства, а от чисто зрительного впечатления, а построение, конструкция картины делалась в расчете достижения впечатления.
И чувство подсознательности отпадает.
Следовательно, в картине мы ничего не имеем чисто интуитивного.
Тоже и красивость, если она встречается, исходит от эстетического вкуса.
Интуитивное, мне кажется, должно выявиться там, где формы бессознательны и без ответа.
Я думаю, что интуитивное в искусстве нужно было подразумевать в цели чувства искания предметов. И оно шло чисто сознательным путем, определенно, разрывало свою дорогу в художнике.
(Образуется как бы два сознания, борющихся между собой.)
Но сознание, привыкшее к воспитанию утилитарного разума, не могло согласиться с чувством, которое вело к уничтожению предметности.
Художник не разумел этой задачи и, подчиняясь чувству, изменял разуму и уродовал форму.
Творчество разума утилитарного имеет определенное назначение.
Интуитивное же творчество не имеет утилитарного назначения. До сих пор в искусстве идут сзади творческих форм утилитарного порядка. Картины натуралистов все имеют форму ту, что и в натуре.
Интуитивная форма должна выйти из ничего.
Так же, как и Разум, творящий вещи для обихода жизни, выводит из ничего и совершенствует.
Поэтому формы разума утилитарного выше всяких изображений на картинах.
Выше уже потому, что они живые и вышли из материи, которой дан новый вид, для новой жизни.
Здесь Божество, повелевающее выйти кристаллам в другую форму существования.
Здесь чудо…
Чудо должно быть и в творчестве искусства.
Реалисты же, перенося на холст живые вещи, лишают их жизни движения.
И наши академии не живописные, а мертвописные.
До сих пор интуитивному чувству предписывалось, что оно из каких-то бездонных пустот тащит в наш мир все новые и новые формы.
Но в искусстве этого доказательства нет, а должно быть.
И я чувствую, что оно уже есть в реальном виде и вполне сознательное.
Художник должен знать теперь, что и почему происходит в его картинах.
Раньше он жил каким-то настроением. Ждал восхода луны, сумерек, надевал зеленые абажуры на лампы, и это все его настраивало, как скрипку.
Но когда его спросишь, почему это лицо кривое или зеленое, он не мог дать точного ответа.
«Я так хочу, мне так нравится…»
В конце концов это желание приписали интуитивной воле.
Следовательно, интуитивное чувство не говорило ясно. А раз так, то оно находилось не только в полусознательном состоянии, но было совсем бессознательное.
В картинах была путаница этих понятий. Картина была полуреальная, полууродливая.
Будучи живописцем, я должен сказать, почему в картинах лица людей расписывались зеленым и красным.
Живопись – краска, цвет, – она заложена внутри нашего организма. Ее вспышки бывают велики и требовательны.
Моя нервная система окрашена ими.
Мозг мой горит от их цвета.
Но краска находилась в угнетении здравого смысла, была порабощена им. И дух краски слабел и угасал.
Но когда он побеждал здравый смысл, тогда краски лились на ненавистную им форму реальных вещей.
Краски созрели, но их форма не созрела в сознании.
Вот почему лица и тела были красными, зелеными и синими.
Но это было предвестником, ведущим к творчеству самодельных живописных форм.
Теперь нужно оформить тело и дать ему живой вид в реальной жизни.
А это будет тогда, когда формы выйдут из живописных масс, т. е. возникнут так же, как возникли утилитарные формы.
Такие формы не будут повторением живущих вещей в жизни, а будут сами живой вещью.
Раскрашенная плоскость – есть живая реальная форма.
Интуитивное чувство переходит теперь в сознание, больше оно не подсознательное.
Даже скорее наоборот, – оно было всегда сознательным, но только художник не мог разобраться в требовании его.
Формы Супрематизма, нового живописного реализма, есть доказательство уже постройки форм из ничего, найденных Интуитивным Разумом.
Попытка изуродовать форму реальную и разлом вещей в кубизме – имеют в себе задачу выхода творческой воли в самостоятельную жизнь созданных ею форм.
Если мы возьмем в картине футуристов любую точку, то найдем в ней уходящую или приходящую вещь или заключенное пространство.
Но не найдем самостоятельную, индивидуальную живописную плоскость.
Живопись здесь не что иное, как верхнее платье вещей.
И каждая форма вещи была постолько живописна, посколько форма ее была нужна для своего существования, а не наоборот.
Футуристы выдвигают как главное динамику живописной пластики. Но, не уничтожив предметность, достигают только динамики вещей.
Поэтому футуристические и все картины прошлых художников могут быть сведены из 20-ти красок к одной, не потеряв своего впечатления.
Картина Репина – Иоанн Грозный – может быть лишена краски и даст нам одинаковые впечатления ужаса, как и в красках.
Сюжет всегда убьет краску, и мы ее не заметим.
Тогда как расписанные лица в зеленую и красную краски убивают до некоторой степени сюжет, и краска заметна больше. А краска есть то, чем живет живописец: значит, она есть главное.
И вот я пришел к чисто красочным формам.
И Супрематизм есть чисто живописное искусство красок, самостоятельность которого не может быть сведена к одной.
Бег лошади можно передать однотонным карандашом.
Но передать движение красных, зеленых, синих масс карандашом нельзя.
Живописцы должны бросить сюжет и вещи, если хотят быть чистыми живописцами.
Потребность достижения динамики живописной пластики указывает на желание выхода живописных масс из вещи к самоцели краски, к господству чисто самодельных живописных форм над содержанием и вещами, к беспредметному Супрематизму – к новому живописному реализму, абсолютному творчеству.
Футуризм через академичность форм идет к динамизму живописи.
И оба усилия в своей сути стремятся к Супрематизму живописи.
Если рассматривать искусство кубизма, возникает вопрос, какой энергией вещей интуитивное чувство побуждалось к деятельности, то увидим, что живописная энергия была второстепенной.
Сам же предмет, а также его сущность, назначение, смысл или полность его представлений (как думали кубисты) тоже были ненужными.
До сих пор казалось, что красота вещей сохраняется тогда, когда вещи переданы целиком в картину, причем в грубости или упрощении линий виделась сущность их.
Но оказалось, что в вещах нашлось еще одно положение, которое раскрывает нам новую красоту.
А именно: интуитивное чувство нашло в вещах энергию диссонансов, полученных от встречи двух противоположных форм.
Вещи имеют в себе массу моментов времени, вид их разный и, следовательно, живопись их разная.
Все эти виды времени вещей и анатомия (слой дерева) стали важнее их сути и смысла.
И эти новые положения были взяты кубистами как средства для постройки картин.
Причем конструировались эти средства так, чтобы неожиданность встречи двух форм дали бы диссонанс наибольшей силы напряжения.
И масштаб каждой формы произволен.
Чем и оправдывается появление частей реальных предметов в местах, не соответствующих натуре.
Достигая этой новой красоты или просто энергии, мы лишились впечатления цельности вещи.
Жернов начинает ломаться на шее живописной.
Предмет, писанный по принципу кубизма, может считаться законченным тогда, когда исчерпаны диссонансы его.
Все же повторяющиеся формы должны быть опущены художником как повторные.
Но если в картине художник находит мало напряжения, то он волен взять их в другом предмете.
Следовательно, в кубизме принцип передачи вещей отпадает.
Делается картина, но не передается предмет.
Отсюда вывод такой:
Если в прошедших тысячелетиях художник стремился подойти как можно ближе к изображению вещи, к передаче ее сути и смысла, то в нашей эре кубизма художник уничтожил вещи с их смыслом, сущностью и назначением.
Из их обломков выросла новая картина.
Вещи исчезли как дым для новой культуры искусства.
Кубизм, как и футуризм и передвижничество, разны по своим заданиям, но равны почти в живописном смысле.
Кубизм строит свои картины из форм линий и из разности живописных фактур, причем слово и буква входят как сопоставление разности форм в картине.
Важно ее начертательное значение. Все это для достижения диссонанса.
И это доказывает, что живописная задача наименьше затронута.
Так как строение таких форм основано больше на самой накладке, нежели на цветности ее, что можно достигнуть одною черною и белою краской или рисунком.
Обобщаю:
Всякая живописная плоскость, будучи превращена в выпуклый живописный рельеф, есть искусственная красочная скульптура, а всякий рельеф, превращенный в плоскость, есть живопись.
Доказательство в живописном искусстве интуитивного творчества было ложно, так как уродство есть результат внутренней борьбы интуиции в форме реального.
Интуиция есть новый разум; сознательно творящий формы.
Но художник, будучи порабощен утилитарным разумом, ведет бессознательную борьбу, то подчиняясь вещи, то уродуя ее.
Гоген, убежавший от культуры к дикарям и нашедший в примитивах больше свободы, чем в академизме, находился в подчинении интуитивного разума.
Он искал чего-то простого, кривого, грубого.
Это было искание творческой воли.
Во что бы то ни стало не написать так, как видит его глаз здравого смысла.
Он нашел краски, но не нашел формы, и не нашел потому, что здравый смысл доказывал ему, что нелепость писать что-либо, кроме натуры.
И вот большая сила творчества была им повешена на костлявом скелете человека, на котором она и высохла.
Многие борцы и носители большого дара вешали его, как белье на заборах.
И все это делалось из-за любви к уголку природы.
И пусть авторитеты не мешают нам предостеречь поколение от вешалок, которые они так полюбили и от которых им так тепло.
Усилие художественных авторитетов направить искусство по пути здравого смысла – дало нуль творчества.
И у самых сильных субъектов реальная форма – уродство.
Уродство было доведено у более сильных до исчезающего момента, но не выходило за рамки нуля.
Но я преобразился в нуле форм и вышел за нуль к творчеству, т. е. к Супрематизму, к новому живописному реализму – беспредметному творчеству.
Супрематизм – начало новой культуры: дикарь побежден как обезьяна.
Нет больше любви уголков, нет больше любви, ради которой изменялась истина искусства.
Квадрат не подсознательная форма. Это творчестве интуитивного разума.
Лицо нового искусства!
Квадрат живой, царственный младенец.
Первый шаг чистого творчества в искусстве. До него были наивные уродства и копии натуры.
Наш мир искусства стал новым, беспредметным, чистым.
Исчезло все, осталась масса материала, из которого будет строиться новая форма.
В искусстве Супрематизма формы будут жить, как и все живые формы натуры.
Формы эти говорят, что человек пришел к равновесию из одноразумного состояния к двуразумному.
(Разум утилитарный и интуитивный.)
Новый живописный реализм именно живописный, так как в нем нет реализма гор, неба, воды…
До сей поры был реализм вещей, но не живописных, красочных единиц, которые строятся так, чтобы не зависеть ни формой, ни цветом, ни положением своим от другой.
Каждая форма свободна и индивидуальна.
Каждая форма есть мир.
Всякая живописная плоскость живее всякого лица, где торчат пара глаз и улыбка.
Написанное лицо в картине дает жалкую пародию на жизнь, и этот намек – лишь напоминание о живом.
Плоскость же живая, она родилась. Гроб напоминает нам о мертвеце, картина о живом.
Или, наоборот, живое лицо, пейзаж в натуре напоминают нам о картине, т. е. о мертвом.
Вот почему странно смотреть на красную или черную закрашенную плоскость.
Вот почему хихикают и плюют на выставках новых течений.
Искусство и новая задача его было всегда плевательницей.
Но кошки привыкают к месту, и трудно их приучить к этому.
Для тех искусство совсем не нужно. Лишь бы были написаны их бабушка и любимые уголки сиреневых рощ.
Все бежит из прошлого к будущему, но все должно жить настоящим, ибо в будущем отцветут яблони.
След настоящего стирает завтра, а вы не поспеваете за бегом жизни. Тина прошлого, как мельчайший жернов, тянет вас в омут.
Вот почему мне ненавистны те, которые обслуживают вас надгробными памятниками.
Академия и критика есть этот жернов на вашей шее – старый реализм, течение, устремляющееся к передаче живой натуры.
В нем поступают так же, как во времена великой Инквизиции.
Задача смешна, потому что хотят во что бы то ни стало на холсте заставить жить то, что берут в натуре.
В то время, когда все дышит и бежит, – в картинах их застывшие позы.
А это хуже колесования. Скульптурные статуи одухотворенные, значит, живые, стоят на мертвой точке, в позе бега.
Разве не пытка?
Вложить душу в мрамор и потом уже над живым издеваться.
Но ваша гордость – это художник, сумевший пытать.
Вы сажаете и птичек в клетку тоже для удовольствия.
И для знания держите животных в зоологических садах.
Я счастлив, что вырвался из инквизиторского застенка академизма.
Я пришел к плоскости и могу придти к измерению живого тела.
Но я буду пользоваться измерением, из которого создам новое.
Я выпустил всех птиц из вечной клетки, отворил ворота зверям зоологического сада.
Пусть они расклюют и съедят остатки вашего искусства.
И освобожденный медведь пусть купает тело свое между льдов холодного Севера, но не томится в аквариуме кипяченой воды академического сада.
Вы восторгаетесь композицией картины, а ведь композиция есть приговор фигуре, обреченной художником к вечной позе.
Ваш восторг – утверждение этого приговора.
Группа Супрематистов: К. Малевич, И. Пуни, М. Меньков, И. Клюн, К. Богуславская и Розанова – повела борьбу за освобождение вещей от обязанности искусства2.
И призывает академии отказаться от инквизиции натуры.
Идеализм есть орудие пытки, требование эстетического чувства.
Идеализация формы человека есть умерщвление многих живых линий мускулатуры.
Эстетизм есть отброс интуитивного чувства.
Все вы желаете видеть куски живой натуры на крючках своих стен.
Так же Нерон любовался растерзанными телами людей и зверями зоологического сада.
Я говорю всем: бросьте любовь, бросьте эстетизм, бросьте чемоданы мудрости, ибо в новой культуре ваша мудрость смешна и ничтожна.
Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски.
Снимайте же скорее с себя огрубевшую кожу столетий, чтобы вам легче было догнать нас.
Я преодолел невозможное и пропасти сделал своим дыханием.
Вы в сетях горизонта, как рыбы!
Мы, супрематисты, – бросаем вам дорогу.
Спешите!
– Ибо завтра не узнаете нас.
К. Малевич
1915 г. Москва
Из книги: «Тайные пороки академиков»*
Художники, пишущие для театра художественные вещи, как-то: дно ямы, вишневые сады, мизерариумы, ревности – занавоживают не только свои головы, но даже побуждают других строить отдельные амбары, как-то: Художеств<енный> театр – в Москве, Своб<одный> театр. Где наглядным образом забивают в зрителе всякую способность видеть настоящее.
Поэтому главным образом обращаюсь как к более деятельным художникам – Куприну, Андрееву, Юшкевичу, Горькому – не заполнять свои книги разными отбросами дна города и деревень.
За вас это сделает городская управа и свезет в более надлежащее место.
Художнику разум нужен только для домашнего обихода, а художники употребляют его в картину.
Обезьяна нанизывала очки на хвост и нюхала.
За ненадобностью я отказываюсь от души и интуиции. 19 февр<аля> в 1914 году я отказался на публичной лекции от разума1.
Предупреждаю об опасности – сейчас разум заключил искусство в 4-стенную коробку измерений, предвидя опасность 5-го и 6-го измерений, я бежал, так как 5-е и 6-е измер<ение>, образуют куб, в котором задохнется искусство2.
Бегите, пока не поздно.
Достоевский по наивности сказал: «На то и ум, чтобы достигнуть, чего хочешь».
Поэтому вместо художественных произведений написал умные. Высшее худо<жественное> произведение пишется тогда, когда ума нет.
Отрывок такого произведения:
– Я сейчас ел ножки телячие.
Удивительно трудно приспособиться к счастью, проехавши всю Сибирь.
Всегда завидую телеграфному столбу. Аптека. –
Конечно, многие будут думать, что это абсурд, но напрасно, стоит только зажечь две спички и поставить умывальник3.
К. Малевич
Листовка художественной секции культурно-просветительного отдела Совета солдатских депутатов*
Уважаемые товарищи!
Художники живописи, Скульптуры, Артисты, Поэты, Музыканты и Архитекторы.
Под сильным натиском народной воли была снесена мертвая точка, закрывавшая крышкой, погребая живой росток Творчества народа.
Стремительным ударом бегущих революционных волн разбит трон, подножием которого срубались лучшие народные силы.
Такая же мертвая точка была и в искусстве: вместо создания условий, ведущих к развитию творческой энергии, – создавались тупики и капканы.
Ядом казенных императорских домов разлагалось молодое творчество.
И только исключительные силы под гнетом ужасных преград выбивались на поверхность смрадного омута, вынося с собою то святое, живое, таящееся в тяжелых загонах условий.
Но теперь, когда снесена замерзшая кора с лица России, когда поля вздохнули живой силой весны, засеем на них зерна свободного творчества.
Воздвигнем на площадях городов каменных новые ратуши, откроем ворота к полю широкому, вольному. Пусть вздохнут молодые ростки и не томятся в тени чердаков, в холоде и голоде. Пусть свободно куют новый путь к искусству.
Но кто же откроет ворота?
Кто разбудит ключаря ворот?
Кто сможет зажечь маяк плавающим – в волнах стихийной бури<?>
Кто воздвигнет ратуши искусству?
От кого можно ждать поистине великого дела?
В особенности теперь, когда мир занят грехом великой бойни народов.
Кто обратит внимание на искусство и бросит ему спасательный пояс в море крови?
Только вы, художники живописи, скульптуры, артисты, поэты, музыканты и архитекторы, должны стать как один на защиту. Только вы бросите помощь молодому поколению, несущему в себе новые искры. Только от вас разнесется зов к искусству во всю страну.
Наш призыв пусть услышат все те организации, которые так или иначе стоят на страже культуры народа, а также те, кто собирает искусство в хранилища, и те, чей дух пылает радостью к искусству, и в свою очередь помогут нам достигнуть цели.
Создани<ем> Народной Академии Искусств в Москве Художественной секцией Культурно-просветительского Отдела М.С.С.Д.1 призывает вас откликнуться на ее клич и принести свое искусство для искусства.
Путем устройства выставки и аукциона пожертвованных картин, устройством спектаклей, концертов-вечеров Художественная секция при вашей помощи соберет необходимые суммы для нужд первой необходимости.
Верим, что голос наш не возвратится мертвым эхом к нашему слуху – принесет с собой живой отзыв, который и ляжет в основу Дома Искусств.
Художественная секция культ<урно>-просветительского Отдела С.С.Д.
Адрес для справок:
Кремль, Кавалерийский Корпус, Художественная комиссия, телефон 3-25.
II. Статьи в газете «Анархия» (1918)
Задачи искусства и роль душителей искусства*
В момент коренной ломки старого уклада жизни, когда все новое, молодое стремится найти свою форму и проявить свое «я», выползают мертвецы и хотят наложить свои холодные руки на все живое.
Социальная революция, разбив оковы рабства капитализма, не разбила еще старые скрижали эстетических ценностей. И теперь, когда начинается новое строительство, создание новых культурных ценностей, необходимо уберечь себя от яда буржуазной пошлости.
Яд этот несут жрецы буржуазного вкуса, короли критики Бенуа, Тугендхольды и Кº1.
Прежде без «печати» Бенуа и присных не могло ни одно художественное произведение получить права гражданства и благ жизни.
Так было с Врубелем, Мусатовым, П. Кузнецовым, Гончаровой2, которых они, после долгих обливаний помоями, признали. А сколько осталось непризнанных!
Молодым художникам-новаторам, не хотевшим идти в соглашательство, приходилось с громадным трудом пробивать себе дорогу.
Нельзя было надеяться, что произведения их кто-либо купит без рекомендации «душителей».
А ведь продажа картины была единственным средством, чтобы художник мог кормиться и платить за помещение.
Положение искусства было случайным и зависело от критиков и коллекционеров.
Третьяковская галерея ведь создалась случайно.
Все частные собрания картин также собирались по прихоти владельца с художественных выставок.
И все те художники, которые не могли попасть на привилегированные выставки Союза русских художников, «Мира искусства», «передвижников»3, оставались за бортом.
И теперь, когда буржуазия осталась не у дел, демократия создает пролетарскую культуру, ловкие Бенуа забирают судьбы русского искусства в свои руки.
Во главе петроградского художественного совета стоит Бенуа!4
Опять жизнь искусства замыкается в официальные рамки.
Опять торжество гонителей искусства!
Опять те же лица за столом.
Опять покойники протягивают свои костлявые руки к светильнику и хотят потушить его.
Но этого не должно быть!
Прочь с дороги, палачи искусства! Подагрики, вам место на кладбище.
Прочь все те, кто загонял искусство в подвалы. Дорогу новым силам!
Мы, новаторы, призваны жизнью в настоящий момент отворить темницы и выпустить заключенных.
Ал. Ган, А. Моргунов, К. Малевич
Анархия, № 25
К новому лику*
Очищайте площади от обломков старого, ибо выдвинутся храмы нашего лика.
Очищайте себя от накопления форм, принадлежащих прошлым векам.
Так как должны поместить новый ритм времени. Уведите себя с протертых дорог, усеянных забором крестов кладбищ, ибо они служат путями к угасшим дням.
Лицо ваше стерто, как старая монета, – чистили его много веков авторитеты и на тряпке прошлых красот растерли ваш бодрый лик.
Старались отшлифовать вашу душу и творческий дух по образу и подобию давно угасших богов, чем сглазили ваше острое я.
И вы стали тем самым камнем, который умертвил Микельанджело в угоду прошлому и будущему.
Но мы сумели отрыть наше я от касания рук авторитетов и сотворили свой лик.
И объявляем время наше площадью нашего века, на которой раскинем свои формы.
Пусть Праксители, Фидии, Рафаэли, Рубенсы и все их поколение догорают в кольях <опечатка; следует читать «кельях»> и кладбищах.
Пусть сторожат свое умершее время.
Пусть несут к их останкам свое я.
Но мы закуем лицо свое нашим временем и формами, образуем время, поставим печать лица своего и оставим узнанным в потоке времен.
Анархия, № 28
Ответ*
Я с радостью читал ваши слова о футуризме, жму вашу руку. Ваш упрек товарищам-футуристам справедлив: избрание королей, солдат, министров в искусстве, также устройство всякого рода кафе1 есть контрреволюция в искусстве.
Это то, что до боли ущемляло меня.
Я видел пламя футуризма как бунт, сжигающий все заторы.
Оно разорвало окованные ворота прошлой мудрости.
Я принял зарю бунта футуристического искусства.
Открыл себя и разбил череп свой, метнул разум прошлого в его бегущий огонь.
В пламени его очутился весь алтарь искусства.
Я видел, как закопошились брандмейстеры тушения.
Бенуа, Мережковские, Эфросы, Глаголи2 – все бросились к тушению своей ненаглядной Венеры.
И вот еще больней мне было, когда поэты-футуристы заявили, что сбросили с парохода современности Венеру3 и всю обслуживающую ее литературу, и под их свист над морской волной она хлестнулась волною. Они сами прилипли к ее трупу.
Вместо того, чтобы уничтожить руль парохода, они оставили руль свой на нем, и вместо углубления революции они приплыли к берегу, к утопленной литературе.
И мириады слов, как комары, мошки, целой тучей засеяли их лица.
Всмотрелись ли вы в их лицо? Не состоит ли оно из тех же слов? А кафе поэтов не есть ли утопленница? «Живая табакерка» не есть ли их бабушка, нюхающая табак? Ведь вся и разница в том, что внуки по недоразумению выбросили табак, а табакерку оставили наполненной словами.
А самое слово есть сходство, родственное бабушке, и разница в них лишь в том, что бабушкино лицо пропахло парфюмерией Пушкиных, а у них копченой воблой или сыростью бетона и машин.
А последнее время совсем приближается к блеску поэзии затхлой луны и новорожденных «Венер».
Не показалось ли вам, товарищ, что лицо футуризма построено из тех же камней, машин, котелков, юбок синего неба и людей, и не иллюстрация ли это обломков, а, пожалуй, и жизни?
И не находите ли вы, что футуризм – авангард певцов, отпевающих вещи?
Возьмите в руку любое слово, вглядитесь в него. Если отдельно взглянете, будет ли в нем разница? Не будет ли оно напоминать вчерашнее слово?
И не будет ли сложена тюрьма, так как слово осталось словом?
И как бы мы ни строили государство, но раз оно – государство, уж этим самым образует тюрьму.
И раз слово осталось словом, то оно обязательно образует собою ряд построений, подобных себе, и создает такое же государство того или иного порядка.
Видя в футуризме бунт, мы больше ничего не видим, и приветствуем его как бунт, приветствуем революцию, и тем самым требуем уничтожения всего и всех основ старого, чтобы из пепла не возникли вещи и государство.
Социальные перевороты прекрасны будут тогда, когда из организма социальных строений будут вынесены все обломки старого строя.
Я как член группы художников или цветоведов супрематистов, заявляю, что, выйдя на открытую площадь, мы чистили себя от всех осколков разбитого царства, пепел его разбросали во всех глубинах земли. Мы умышленно закопали в сердце земное, ибо отреклись от земли в себе.
И то искусство <, что> так тонко и ловко, как жонглер цирка, оперировало с вещами всех поэтов, украсивших голову свою словом, считаем отошедшим в предание.
Превыше и отдаем первенство нашему «я».
И если мы облечены еще в мускулы, то через машину их гибкости вынесем себя за пределы всего хлама и багаж мудрости старого, которое затопило сознание зловонью и пылью.
Итак, наше «я» освобождено.
Наше творчество не воспевает ни о дворцах, ни о хижинах, ни о бархатах, ни о сермягах, ни песни, ни слова.
Ни горя, ни радости.
Мы, как новая планета на синесводе потухшего солнца, мы, грань абсолютно нового мира, объявляем все вещи несостоятельными.
Анархия, № 29
К новой грани*
Гибнет все в лаке блеска утонченных линий и колорита.
Мы раскрываем новые страницы искусства в новых зорях анархии.
Мы вступаем впервые на грани творчества и вскроем новую тревогу на поле лакированных искусств.
Уже многие годы сложились в десятки. Под крышей холодных чердаков мы прятали себя от власти авторитетов и выскребли ступни искавших нас.
Мы устояли перед напором зловонных волн глубокого моря невежд, обрушившейся на нас критики.
Наши головы украшены погромными статьями.
Заржавленные гвозди старого слова вбивали в наше выпуклое сознание.
Но в разрыхленные поля – впустую их удары.
Мощной бурей революции снесен чердак, и мы, как облака в просторе, поплыли к своей свободе.
Знамя анархии – знамя нашего «я», и дух наш, как ветер свободный, заколышет наше творческое в просторах души.
Вы, бодрые, молодые, скорей вынимайте осколки распыляющегося руля.
Омойте касания рук властвующих авторитетов.
И чистые встречайте и стройте мир в сознании нашего дня.
Анархия, № 31
Мертвая палочка*
Перед нами огромная работа – возвысить живой костер в России, разжечь его пламя в широкое, просторное море.
Поднять искусство в душе народа.
Это может быть там, где возможно устроить целое свободное «государство» художников.
Деятелям искусства и его поля.
Если нет полей, если стоят заторы к ним, снять все и занять места. Так должны поступить художники.
На очереди у них большая работа: раскрыть сундук Москвы, вынуть искусство и разметать по лицу России образов звездные дороги.
Москва, как Кощей, собирала многие годы сокровища, копила их в мрачных сундуках, держала закованные души умерших мастеров.
Скрытые, они томились, не соприкасаясь с жизнью. Сейчас пришло время раскрыть сундуки, вытащить и показать.
Москва должна стать колыбелью искусства. Она ею есть. Она должна засветить свой маяк в стихийных бурях.
Москва – сердце творческого моря.
Уже прошел год революции, а что сделали для искусства все комиссии театров, художественные отделы? – Ничего.
Мертвая палочка касалась живой инициативы.
Много кричали об искусстве, но никому до него не было дела.
Много бегало лиц с деловым видом, но им нужен был вид.
Были призваны художники, были созданы художественные секции, выносились постановления, выносили мертвые идеи, но их поражала мертвая палочка.
Последняя попытка образовать художественный совет1 на демократических началах была сведена той же мертвой палочкой к нулю.
Правда, саботаж художников удалось сорвать.
И теперь кончились крики об искусстве.
Да что такое искусство на самом деле?
Кому оно нужно? Сейчас нужно дело, а не советы художников.
И вот на поле искусства воссела мертвая палочка. Ей нужны канцелярии и «дело».
Есть секретарь, один, другой; есть кабинеты, зеленые столы, диваны; есть писцы, швейцары; лежат дела, стучит машинка, и серьезный деловой человек за закрытыми дверями.
Все есть, но только где художники, где искусство?
Но это в прошлом.
Мертвая палочка заперлась. Теперь потихоньку отойди от дверей, беги к полям, уже весна кличет.
Сундуки раскрываются, весной выноси ценное и сей.
Последняя вспышка в доме «Анархия» должна осветить новые начала путей навсегда2.
И мы встанем, устроим музей3, организуем Москву, разделим клады по городам, устроим там музеи.
Устроим студии для творцов4. Поле искусства принадлежит нам, и каждый займет свою полосу своей области.
Так разделится армия художников и станет на новую дорогу общей работы.
Анархия, № 33
Архитектура как пощечина бетоно-железу*
Искусство двинуло свои авангарды из тоннелей прошедших времен.
Тело искусства безустанно перевоплощается и укрепляет основу скелета в упорные крепкие связи, согласуясь с временем.
Вулканы новых зародышей творческих сил сметают все, распыляют скорлупу и воздвигают новую.
Каждый век бежит скорее прошлого и принимает на себя большие грузы, кует себе дороги из железобетонных тел.
Наш век бежит в четыре стороны сразу, как сердце, расширяясь, раздвигает стенки тела, так век XX раздвигает пространства, углубляясь во все стороны.
Первобытное время устремлялось по одной линии, потом по двум, дальше – по трем, теперь – по четвертой в пространство, вырываясь с земли.
Футуризм нарисовал новые пейзажи современной быстрой смены вещей, он выразил на холстах всю динамику железобетонной жизни.
Таким образом, искусство живописи двинулось вперед за современной техникой машин.
Литература оставила чиновничью службу у слова, приблизилась к букве и исчезла в ее существе.
Музыка от будуарной мелодии, нежных сиреней пришла к чистому звуку, как таковому. Все искусство освободило лицо свое от постороннего элемента, только искусство архитектуры еще носит на лице прыщи современности, на нем без конца нарастают бородавки прошлого.
Самые лучшие постройки обязательно подопрутся греческими колонками, как костылями калека.
Обязательно веночком акантиковых листиков увенчается постройка.
Небоскреб с лифтами, электрическими лампочками, телефонами и т. д. украсится Венерой, амуром, разными атрибутами греческих времен.
С другой стороны, не дает покоя и русский умерший стиль.
Нет-нет, да вдруг и выплывет; некоторые оригиналы даже думают его воскресить и оригинальностью занавозить поля нашего быстрого века.
И вот воскресший Лазарь ходит по бетону, асфальту, задирает голову на провода, удивляется автомобилям, просится опять в гроб.
Трамваи, автомобили, аэропланы тоже с удивлением посматривают на беспомощного жильца и с жалости подают ему три копейки.
Смешной и ничтожный воскресший Лазарь в своей мантии – среди бешеной скорости наших электромашин.
Его плечи жалки, сваленное на него время раздавит его в лепешку.
Господа-оригиналы, уберите поскорей умерших старцев с дороги быстрин молодого духа.
Не мешайте бегу, не мешайте новому телу расправить живые мускулы.
Убедитесь, что сколько ни воскрешали труп, труп трупом и остался.
И только больное, наивное воображение архитектора-оригинала полагает, что труп, подмазанный бетоном и подкованный железом, может поддержать его сгнивший скелет.
Абсолютная бездарность и скудость творческих сил заставляют бродить по кладбищам и выбирать гнилье.
Такие постройки, какими обогатилась Москва – Казанский вокзал и дом казенной палаты по Афанасьевскому переулку1, – доказывают бездарность строителя наглядно.
Наше время огромно-сильно трепещет в нервном беге, ни минуты не имея покоя; его разбег стремителен, молниеносен; каждая секунда, <слово неразб.> винтик, вызывает негодование. Скорость – это наш век.
И вот эту скорость хотят одеть в платье мамонта и приспособить киево-печерские катакомбы для футбольного бега.
Затея смешна. Наш двадцатый век нельзя заковать в кафтан Алексея Михайловича или надеть шапку Мономаха, также нельзя подпирать его изящно-неуклюжими колонками греков. Все это разлетится в прах под напором нашего темперамента.
Я живу в огромном городе Москве, жду ее перевоплощения, всегда радуюсь, когда убирают какой-нибудь особнячок, живший при алексеевских2 временах.
Жду с нетерпением, что новый рожденный дом будет современных матери и отца, живой и сильный.
На самом же деле происходит все иначе – не так сложно, но оригинально: покойника убирают, закапывают, а рядом, умершего при Рогнеде, выкапывают и ставят на его место, предварительно подмазав по рецептам железобетоники, в прогнившие места вводятся двутавровые балки.
Когда умер во времени почтенный Казанский вокзал (а умер потому, что платье его не могло вместить современный бег), думал я, что на его месте выстроят стройное, могучее тело, могущее принять напор быстрого натиска современности.
Завидовал строителю, который сможет проявить свою силу и выразить того великана, которого должна родить мощь.
Но и здесь оказался оригинал. Воспользовавшись железными дорогами, он отправился в похоронное бюро археологии, съездил в Новгород и Ярославль, по указанному в книге умерших адресу.
Выкопал покойничка, притащил и поставил на радость Москве.
Захотел быть националистом, а оказался простой бездарностью.
Представляли ли себе хозяева Казанской дороги наш век железобетона? Видели ли они красавцев с железной мускулатурой – двенадцатиколесные паровозы?
Слышали ли они их живой рев? Покой равномерного вздоха? Стон в беге? Видели ли они живые огни семафоров? Видят ли верчу – бег едущих?
Очевидно, нет. Видели перед собою кладбище национального искусства, и всю дорогу и ее разветвления представляли кладбищенскими воротами – так оно получилось при постройке, хотящей быть шедевром современности.
Задавал ли себе строитель вопрос, что такое вокзал? Очевидно, нет. Подумал ли он, что вокзал есть дверь, тоннель, нервный пульс трепета, дыхание города, живая вена, трепещущее сердце?
Туда, как метеоры, вбегают железные 12-колесные экспрессы; задыхаясь, одни вбегают в гортань железобетонного горла, другие выбегают из пасти города, унося с собою множества людей, которые, как вибрионы, мечутся в организме вокзала и вагонов.
Свистки, лязг, стон паровозов, тяжелое, гордое дыхание, как вулкан, бросают вздохи паровозов; пар среди упругих крыши стропил рассекает свою легкость; рельсы, семафоры, звонки, сигналы, груды чемоданов, носильщики – все это связано движением быстрого времени, возмутительно медлительные часы тянут свои стрелки, нервируя нас.
Вокзал – кипучий вулкан жизни, там нет места покою.
И этот кипучий ключ быстрин покрывают крышей старого монастыря. Железо, бетон, цемент оскорблены, как девушка – любовью старца. Паровозы будут краснеть от стыда, видя перед собою богадельню. Чего же ждут бетонные стены, обтянувшие дряхлое тело покойника? Ждут новой насмешки со стороны живописцев, ждут лампадной росписи3.
Анархия, № 37
К приезду вольтеро-террористов из Петербурга*
«Петербург в Москве»1 – как широко, размашисто сказано! (Репинский мазок, и только!) Но кто же такие? Неужели Петроград весь?
Оказывается, что это «по слухам». Приехали только трое (Альтман, Пунин и Лурье) вольтеро-террористов с бомбами, стальными стержнями для московских знамен «отсталостей с радиями, стальными морями; рычагом сжигающим и лево-рулями»2.
Вся художественная Москва притаилась от испуга.
Но оказалось, что и это «по слухам» было сказано для виду, на самом деле приехали купцы, гости заморские с вольтеро-террористическим товаром.
– Мы, – говорили они, – у лево-руля, и потому заключите с нами договор покрепче.
Мы у рычага (из американской стали), который сжигает прошлое невидимое.
Видя, что действительно сталь американская, нового каления, чуть-чуть было не заключили договор, если бы не обратили внимания на систему сжигания.
Ведь, позвольте, рычаг-то рычаг, но чтобы он мог сжигать, – это мы уже не поверим (за что извиняемся).
Я сожалею, что этот чудо-рычаг в ваших руках; имея такое орудие, вы не смогли сжечь «Мир искусства» и вместе Ал. Бенуа и «Аполлона»3. Даже академию, и ту не смогли сжечь рычагом. Либо рычаг сжигает постольку, поскольку есть керосин или бензин, а так как ни того, ни другого нет, то вам пришлось прибегнуть к принципу государство (которое вы распыляете) сажать в ящик. Совсем не вольтеровский способ.
Из вашего письма видно, что много в вас жару, но только от него и бомб ваших никак не может сгореть и взорваться будуар Бенуа «Мир искусства» и прекрасный «лево-руль» – «Аполлон».
А то, чтобы мы, москвичи, одели «сепараторы» для отделения творчества от искусства, то это сделано давно, и много лет уже не участвуем там, где, как лилии в болоте, произрастает искусство.
Вам, очевидно, сделать это трудно. Попробуйте надеть сепаратор, авось уйдете из «Мира искусства» – ведь, признайтесь, что это болото с лилиями.
Как это у вас все вышло неудачно, вроде письма частного поверенного футуристов Клюна4. Жалко мне музеев, должно быть, одни щепки лежат теперь в Петрограде, а над ними треплется знамя «Мира искусства» и «Аполлона».
Анархия, № 41
Государственникам от искусства*
Через многие годы наша живая жизнь работы в новых дорогах творчества была загнана «академическими генералами» в застенки, целая орава критиков, как борзые, охотилась за нами. На простынях газет Койранских, Глаголей, Эфросов, Тугендхольдов аршинные статьи бранных слов выбрасывались на наши головы.
Авторитеты, а больше подавторитеты, где только можно, подзвякивали и старались оборвать полы нашего нового мышления.
Нигде не было доступа, ни слова в оправдание свое.
Величаво в золотых коронах сидели мудрецы из «Аполлоновых костей» и судили нас.
Не буду приводить приговоры мелких мировых судей, Эфросов, Койранских, из разных газет и журналов.
Приведу лишь мысли монархов критики, их утверждения, коими должно руководствоваться поколение.
Историк и критик Александр Бенуа, тот самый, который был приглашен г. Луначарским на кресло председателя петербургского художественного совета1.
И другой – это писатель Мережковский.
Вот что говорит и думает А. Бенуа о новом творчестве – футуризме[1], кубизме[2] и супрематизме[3].
1) «Не допускаю той мысли, что я очутился в положении отсталого ценителя. Вообще во все отсталости и ультрапрогрессивности я не верю.
В области искусства мне свойственно мыслить, ощущать и чувствовать вне условий места и данного момента истории. Даже вне условий техники».
2) «Футуризм – не простая шутка, не простой вызов, а это один из актов самоутверждения того начала, которое имеет своим именем мерзость и запустение».
3) «И скучно на выставках футуристов, потому что творчество их – сплошное утверждение пустоты и мрака».
4) «Как не почувствовать скуку, если утрачен секрет заклятия, после которого это наваждение и беснование может переселиться в стадо свиней и исчезнуть в пучине морской».
5) «Откуда бы, откуда достать эти слова заклятия. Как бы произнести тот заговор, который вызовет на фоне черного квадрата снова милые любовные образы».
6) «Это какая-то недотыкомка, которая вот-вот бросится на слона искусства нашего и вопьется до самого мозга, и слон свалится и больше не встанет».
7) «Это уже не „Грядущий хам“2, а пришедший».
8) «Футуризм скучен, потому что кощунствует на святыню, а мы терпим его кощунство».
9) «Мы поистине все жители земного шара, подлинные декаденты, такие же упадочники, как те римляне, которые, уповая на устои быта, прозевали нашествие варваров и появление новой силы – христианства.
Нам все нипочем, все мы терпим и, уверенные по привычке в том, что мы полны сил, тогда как уже расслаблены, больные насквозь и лишены основной жизненной силы»3.
Так предупреждал народ историк Бенуа, – предупреждал о том, что идет «Хам Революции», который снесет все и так же погибнет, как идолопоклонники.
Пала монархия, так должен пасть и академизм.
Пало Царское Село, Зимние и Таврические дворцы, так должна пасть и академия.
Петроградский художественный совет, во главе с Бенуа, должен быть распущен, как контрреволюционный в искусстве, как скопление буржуазных художников в «Изографе»4, как гонители революции творчества.
Писатель Д. Мережковский также поддерживает гонение Бенуа и говорил следующее:
1) «Футуризм – это грядущий Хам, святотатцы, дикари, расчленившие язык.
Шайка хулиганов, табор дикарей, всеоглушающий звук надувательства, голый дикарь, готтентот в котелке».
2) «Футуризм, кубизм – кликушество, футуризм – убийство души мира, вечной женственности».
3) «Замена размножения механическим путем, мерзость и запустение».
4) «Академический Валерий Брюсов в „Русской мысли“, в этом доме, очищенном от бесов, выметенном, развел футуристическую нечисть».
5) «Футуризм – имя Грядущего Хама. Встречайте же его, господа эстеты, академики. Вам от него не уйти никуда. Вы родили его, он вышел, как Ева из ребра Адама, и не спасет от него вас никакая культура, – что хочет, то сделает. Кидайтесь же под ноги хаму Грядущему»5.
Вот как встречали новые истины, революционные творческие силы.
Не так ли встречали Треповы, Дубасовы витязей революции жизни?
Так думали гонители новых истин, так думали генералы государства.
Первые сидели на троне академии, вторые – в государственных дворцах.
Г. Мережковский говорит о футуризме, как о грядущем хамском движении на святое искусство.
Отказ футуризма от вечно женственной Психеи и переход его к механическому размножению обидел г. Мережковского.
Он обнаружил в себе, что «Грядущий хам» вырвет у него Психею, и заревновал, как готтентот, привыкший к своей самке и своим привычкам.
Футуризм дал пощечину вкусу его сознания и поставил на пьедестал скорость как новую красоту современности.
Обездоленный бесчинством футуризма, обессиленный злобою, выругался на опрокинутый лоток с греческими побрякушками.
Любовник Психеи защищает ее бесхитростно, и это мне нравится.
Но коллега его, г. Бенуа, будет похитрее (политичнее). Он в конце концов сделается и защитником футуризма, если «будет на квадрате милое личико».
Не верит в свою «отсталость» – это уже гарантирует надежду.
Но уверен ли г. Бенуа в этом?
Не ошибка ли?
Его коллега менее политичен, прост и не скрывает своих мыслей: что в уме, то и на языке.
Верен своему барину (старому искусству).
Хотя барин его стар, дряхл, разбит временем, не способен драться.
Он все-таки его почитает и ждет его воскресения.
А г. Бенуа уже не доверяет слону (старому искусству) и не доверяет недотыкомке (футуризму).
Чему не доверяет? Петербургским франтам? («Весенние фиалки» – общество петербургских художников6).
Но тогда он отстал, как и его коллега Мережковский, который стоит на стране у развалин ворот старого искусства и ждет, что вот-вот принесут знаменитых цезарей, что снизойдет Психея и зажжет старую кровь в молодых венах.
Но – увы! Проходят века – на кладбище не несут цезарей. Проходят еще годы – ворота и гробы еще больше разрушились, а кости обнажила земля.
А в ворота развалин не несут умерших, и из гробниц никто не воскрес…
И старый стражник, лишившись рассудка, но верный раб цезаря, хватает его торчащие кости и, высоко подняв над головой, бегает по простыне непонятного ему века и кричит о их красоте.
Но боги умерли и больше не воскреснут…
Торчат их белые кости и безразлично смотрят на реющие над облаками аэропланы.
Воскресшие боги – слоны современной им культуры, но в дни Бенуа слонов нет.
И вот слон («Мир искусства»), о котором он говорит, не слон, а борзая собака, загоняющая молодое поколение в академию для погребения.
Из десятка тысяч не многим удается ускользнуть от академического гроба.
И хамы все идут один за другим.
И в наше время сколько их пришло.
Мане, Курбе, хам Сезанн и еще больше охамившиеся Пикассо, Маринетти (не говоря о нас, доморощенных хамах).
Идут хамы, утверждают свой приход.
А на площади нового века, среди бешеного круговорота моторов, на земле и небе стоит Мережковский, смотрит обезумевшими глазами, держит кость цезаря над седой головой и кричит о ее красоте.
Но не слышны слова его на аэропланах, а на земле для многих понятнее, ближе и живее гудение пропеллера.
Признание г. Бенуа о дряхлости слона не есть ирония.
И на самом деле он обнаружил большое, большое дупло.
Да, погиб слон, древний, упитанный вином и развратом венер.
Его не подняли даже мадонны.
Хам пришел…
Трезвый, мускулистый, полный жизни.
Плюнул и растоптал пьяное, обрюзгшее тело.
Признание г. Бенуа коллегам, что серьезным считает то, что все смотрят на движение нового искусства не серьезно, несправедливо.
Так как несерьезность увеличивает силу пришельца, г. Бенуа убежден, что можно отнестись к новой идее искусства серьезно.
И спрашивается:
Какое мнение он высказал в своей статье?
Может быть, это и есть серьезные размышления, способные спасти слона?
Но ведь таких статей многое множество.
И не верится, что его статья серьезная и спасающая положение.
Его несерьезность находит себе подтверждение в язычестве греков и римлян, которые, уповая на устои быта, созданного праотцами, прозевали нашествие варваров, собственное разложение и появление новой силы: христианства.
«Нам все нипочем», – говорит г. Бенуа.
«Самые чудовищные кощунства, самое гадкое издевательство над событиями – все мы терпим, уверенные по привычке в том, что мы, полные крепости, здоровья, жизненных сил, тогда как уже расслаблены, больны насквозь и лишены как раз основной жизненной силы».
Но не совсем равнодушны и молчаливы, не совсем также прозевали и язычники христианство.
Кто же истреблял на колизеях и крестах первый росток новой идеи?
И кто же не обрушился в печати на наши новые проповеди?
И «прозевали» – не совсем верно.
Вернее, одряхлели мышцы, устали терзать жизненную силу нового ростка.
Нет у Бенуа бодрости сознания, опущены челюсти воли, и скучно и холодно оттого ему, что новый росток не греет остывшее его сознание.
Так как скучно и холодно язычникам.
Так было скучно и холодно язычникам при появлении христианства.
Убогие катакомбы не могли спорить с храмом идолов. Скромность христианина не могла зажечь римлянина подобно развратному жесту Венеры.
Было скучно, холодно и мрачно.
Но в холоде и мраке таилась жизнь нового источника живого семени.
Вырос росток, развившийся в роскошный храм христианства. (В смысле архитектуры, живописи).
Бенуа терпит кощунство.
Но как же иначе?
Всякое появление новой идеи есть кощунство.
Но г. Бенуа кощунствует, ибо признает дряхлость слона.
Еще больше грешит, ибо, не свергнув, упрекает в дряхлости старый день.
Христианство считалось кощунством над язычеством.
Мое творчество – кощунство над его искусством.
Скука и холод для него, но не для искусства.
Он не находит в новом творчестве силы – скука.
Это ясно даже темному погребу.
Бенуа – все тот же язычник у костра Ивана Купалы.
Уверяю вас, что загорающийся костер Купалы в двенадцать часов ночи среди росистых папоротников, в темной глуши, на поляне лесной, ближе, теплее душе и красоте его сознания, нежели святые мадонны Рафаэля и Джоконда.
Автомобиль прекраснее, чем статуя Победы Самофракии.
Мережковский спрашивает: для кого?
Для Мережковского и готтентота ближе статуя Самофракии, нежели автомобиль.
Ближе желуди, чем дуб.
Там, где приходят мышцы культуры к полной негодности, сознание живет обманом благополучия.
Туда всегда приходит «Хам», стирает кажущееся благополучие и продолжает новое, устойчивое, делает шаг к жизни новой поступи.
Рим и Греция пали не потому, что пришел хам, а потому, что одряхлели их мышцы.
Мне кажется, что гг. Мережковский и Бенуа не могут отличить хамство от движения новых идей.
Нельзя же считать того хамом, кто не верит в прочность фундамента вчерашнего дня.
Он учит: любите лошадей, Венеру, Психею. Любите каждую вещь, тыкву, подсолнух.
Футуризм учит любить скорость как современную ценность.
Но для нас нужнее только живописная ценность, ее супрематия над вещью.
Мы очищаем формы нашего искусства от налета дряхлости. Чем меньше прошлого касания, тем светлее новый день нашего творчества.
Хамство ли это?
Через хамство ли зовем мы молодых, чтобы они вырастили плоды на своем огороде.
Они должны быть лицом своего времени.
А вы, отцы, не забудьте, что завтрашний день – день детей наших.
И не мешайте им соорудить новое нашего времени.
Наше время заковали в латы старого искусства, и хотелось бы открыть и очистить лицо современности.
Латы прошлого не подходят к нашему железному времени.
И человек в маске противогазов – настоящий сегодняшний лик.
Но это техника.
Мир наш с каждым полвеком обогащается творчеством техники.
Но художник чем обогатил наш век?
Подарил пару кринолинов и несколько мундиров петровского времени.
Это дали коллеги Бенуа и Мережковского – декаденты всего мира.
Бенуа продолжает звать молодежь на толкучку старья, и старую идею, но покрытую лаком, всучают за новое.
И молодежь надевает старый пиджак и щеголяет в праздничные дни в котелке мещанской логики.
Его лозунг: «все что угодно, но только не к новому».
Мережковский кричит: «Идите на кладбище, вырывайте старые кости и на их фундаменте стройте храмы».
Футуризм посылает к будущему, супрематизм – к настоящему.
Но смешно возвеличиваться в будущем, как и в прошлом.
Пусть каждый день будет нашим отношением.
И я счастлив, что живописная плоскость, образовавшая квадрат, есть лицо современного дня.
И знайте, что все до сегодняшнего дня сольется в музее Бенуа-Мережковских.
И исчезнет в пыли столетий.
Но лицо квадрата – никогда.
Авторитеты, любящие молодежь, стараются, чтобы поступки были похожи на них.
Устроили академии, заняли аудитории, и клеймят их молодое сознание, как в участке паспорта.
Получив права жительства, загрязненные штемпелями, отставшие на тысячу лет, бродят без дорог, не зная почему и куда. (Свободные художники.) Академию и музеи лишили настоящего смысла.
Сделали их строго партийными собраниями, капканами застоя. Поставили там свои шаблоны и создали славу им.
И кто шаблону верен, вешается в музей.
И бедные, нищие, голодные по славе, идут к шаблону за дипломами признания.
Сезанн, больший из мастеров, «хам» Франции, умер и не удостоился висеть с ними в галереях.
Но некоторые, вскормившись на шее Сезанна, красуются.
Как стали, как сели на голову эти голодные тыквенники.
И система авторитетов торжествует.
Они поют гимны старому, и кто же не соблазнится, слушая прекрасные звуки гениальной песни авторитетов?
Кто не сядет на ноги и кто не плюнет себе в лицо и не наденет машкеру?
Ведь так соблазнительно висеть и быть признанным в толпе.
И нам, «хамам», трудно бороться с культурной системой авторитетов. У них все орудия.
А у меня голая, без рамы, икона моего времени.
И мне кажется, что их философия похожа на ту, которая сдувает миллионы жизней.
Ведь такие, как генералы войны, прекращают всякое движение заграждающим огнем.
Моя философия: периодическое уничтожение городов и сел как устаревших форм.
Изгнание природы, любви и искренности из пределов творчества.
Но не как живого родника – даятеля человека. (Война.)
Уже не удовлетворяют: выставка «Передвижная», Осенние, Весенние франты.
Даже от слона – сюда требуют обновления.
Заметно искание нового человека – новых путей в искусстве.
Но удивляет меня, что ищущие отправляются на кладбище и никогда не ищут в пустоте.
И только там надежда.
Всюду изведали люди и пророки все щели головы своей, но не изведали пустот простынь пустыни.
Я ощущаю дыхание пустот пустыни и ставлю живописную супремативную плоскость в новую жизнь.
Я верю, что только так, в пустыне, можно дать новый росток.
Только в пустыне.
И никогда не нужно искать обновления в прошлых засиженных местах старой культуры.
Спрошу идущих: ясно ли видят сигнал, указывающий новый росток?
И когда придут к нему, узнают ли?
Не пройдут ли как евреи мимо Христа?
Новые люди тысячу раз встречаются, но не проходите, не замечая.
Много было новых, но их узнали мертвыми.
И живущие переживают уже пережитое.
Оставили давно облик обезьяны, но не оставили обезьяньих способностей в искусстве.
Вы, художники и поэты, обогатились и обогатили других мещанской логикой обыденности, не выходя из задворка предметности.
И вы, русские поэты-футуристы: Маяковский, Бурлюк, Каменский, погрязли в том же задворке.
Кто, как не вы, отбросили с парохода современности за борт спасательное слово.
Вы, чей свист над шлепнувшейся в море старой литературой разнесся по целому свету, приплыли к тому же берегу, где погрязли в утопленнике сброшенной литературы.
Искусство сделали шарманкой ремесла.
Вы стали теми же идолопоклонниками предметности.
Идите к новому сознанию и перестаньте быть рабами вещей.
– Уничтожьте любовь к уголкам природы, венерам и машинам.
Выходите из древне-основанных начал дикаря и его подражаний натуре.
Чем кичатся талантливые авторитеты и восторг критики, нашедшей в картине обезьяньи способности?
Вы можете любить природу, можете есть ее под разными соусами, но в творчестве вашем ей не должно быть места.
Любя ее, мы обречены всегда болтаться, как теленок на привязи.
Вот почему гг. Бенуа и его единомышленники Мережковский и коллеги правого крыла не идут дальше екатерининских кринолинов и петровских мундиров в искусстве.
В творчестве есть обязанность выполнения его необходимых форм.
Помимо того, что люблю я их, красивы они или нет. Есть закон, который создает форму независимо от слов: красиво или некрасиво.
Искусство творит, не спрашивает, нравится или не нравится.
Как не спрашивало вас, когда создавало звезды.
Г. Бенуа упрекает футуризм и супрематизм в холоде и скуке.
Но почему обязательно должно быть весело и жарко от искусства творчества?
Неужели картины должны отоплять остывшее нутро?
Неужели для того творчество, чтобы развеселить грустные лица?
Тогда идеальное: Петрушка и Венера.
Петрушка вызывает хохот, Венера гримасой разогревает ваши чувства. (Какие удобства!)
Но мчащийся экспресс, плывущий дредноут не вызывают у вас смеха.
Времена Петрушки и вечно женственной, не стареющейся Психеи для нас прошли.
Мы на руле аэропланов, на дне и гребне морей, среди клокочущих бездн пространства должны внимательно строго смотреть за движением и с застывшим лицом идти в пустыню.
Вот почему мы не смеемся, и наше творчество без улыбки.
Вам, авторитетам задворков и предметности, привыкшим греться у милого вам личика, не согреться у лица квадрата.
Я согласен, что улыбающаяся Венера или Джоконда будут теплые.
Но голландская печка еще теплее.
Но теплота Венеры мне не нравится. Очень несет от нее потом цезарей.
Теплота и пот вызывают у вас чувство любви.
Но какое это имеет отношение к творчеству в искусстве? Эту теплоту выставили, как икону, поколению.
К этой теплоте гнали целые стада молодежи, как к рысистому заводу.
Все, что было до супрематизма в искусстве: иллюстрация настоящего и прошлого, анекдотов, рассказов – три четверти его пособие для учебников.
Я не хочу, чтобы это искусство исчезло.
Но хочу, чтобы оно имело свое место и оценку.
Чтобы его не выдавали за нечто высоко-творческое. И чтобы не обольщались им, как формой еще неизведанного.
Чтобы не думали, что через искусство портретов, пейзажей мы идем ввысь.
Что перед нами откроются души вещей.
Это ошибка, обман.
Тыква всегда будет тыквой.
И через нутро ее нам не пройти к выси.
Тоже через портрет души не попадем в царство небесное.
Тыквы, Венера – красивы, а далеко не поедешь.
Наше время обогащается творчеством техники и занимает первое место.
Техник – истинный деятель нашего времени.
Ему нет дела до царей, шахов персидских, равно как и до колесниц римских воинов.
Так как каждый момент времени требует присущих ему форм.
Но почему-то право на какое-то божество провидца считают художника, вдохновляющегося вечно подсолнухом, грушей и формами прошедшего времени.
Простой балаган – «академия» – пользуется почетом храма, из которого должны выходить пророки и провидцы…
Но факт налицо.
Никто из них ничего не провидит.
Картины кокошников, боярышень, каски римских воинов, дискоболов, ахиллесовы пяты прекрасно доказывают, что они слепы, и луч зрения их лежит в тех эпохах, кости которых давно уже сгнили в земле.
Вот куда вас, гг. критики и президенты критики, нужно бомбардировать.
Но сейчас чудное время.
Все живет или прошлым, или будущим.
Многие из художников мечутся из стороны в сторону.
Одни идут к будущему, другие к примитиву. Происходит страшная путаница в движении. Каждый из них чувствует, что нужно двигаться и двигать.
И возврат Гогена к примитиву: метание из стороны в сторону.
Ван Гог, его движение полезнее.
Ибо через ростки земли проводит динамику, ведущую к футуризму. К разлому и свободному обращению с вещью.
Дальше, к освобождению краски, к пространству и самоцели цвета: его супрематии. Возврат же к той форме, которая уже была в искусстве, – возврат к вчерашнему дню.
Писать или быть под влиянием художников вчерашнего дня – толочь в ступе один и тот же день.
Новый день тот, в котором творчество отринет настолько, что потеряет точки сближения.
Нужно напрячь всю волю, энергию, чтобы через пропасть прошедших культур вытащить новую форму.
Каждый день, дающий нам новое, есть новая ступень в пространстве.
Итак, г. Бенуа хочет найти заклятие и вогнать новый день творчества в стадо свиней.
Но, увы…
Заклятия лежат в будущих днях, и ему их не догнать, и новое сбудется.
И на супремативной живописной плоскости ему не увидать больше улыбки теплой и милой ему Венеры.
Ответив старому дню, я зову тех, кто способен выйти за пределы аудитории старого дня.
У кого либо мозг, либо большая воля, кто любит силу…
Кто не обольщен красотою старых морщин мозга, кто не ищет приюта музеев путем примерок вчерашних учителей и кто, зажав челюсти и напрягши мышцы, ринется из кольца угасшего вечера к новому дню.
Унесите все, уже отжившее, хотя и дорогое, на кладбище, как умерших.
И не стройте благополучие свое на уже угасающем дне.
Ибо новый день творчества как новая планета украсит небосвод.
Величие нового дня будет постольку большим, поскольку вы оставите за собой багаж сплетен и мудрости старого.
Бросьте упорство прикрывать сознание ваше колпаком мещанской мысли.
В нем продолжение дряхлости старого дня.
Коронуйте день новым сознанием, так как свет его больше и ярче солнца.
Не думайте, что гениальность Греции и Рима – недосягаемость. И что обязаны стремиться к ней.
Она померкла среди наших богатств.
Мы богаче и гениальнее.
Мы обогатились машинами, светом, ужасными пушками, стальными дредноутами, экспрессами и многоэтажными домами.
Перед которыми пирамиды Хеопса и Колизей кажутся игрушками.
Гениальность не в том, чтобы передать возможно правдивее эпизод и украсить картину.
Для их времени было достаточно.
Наша гениальность – найти новые формы современного нам дня.
Чтобы наше лицо было печатью нашего времени.
Нашли многое в технике.
Мы нашли также в творчестве красочном, музыке и литературе новые формы, которые не затеряются на фоне прошлых дней.
То, что в прошлом было средством, стало чистым, самодельным, самотворческим.
Мы идем к супрематии каждого искусства.
Предметы остались торговцам и хлопотливым хозяйкам, художественным ремесленникам.
С ними же остались: горе, ужас, злоба, любовь, нравственность и все пороки и добродетели.
Вся сутолока обыденности.
На сутолоке, анекдотах, рассказах было основано все то гениальное искусство, к которому так заманивают вас художественные ремесленники.
Нам же это основание не нужно, как и формы природы.
Воля наша творить – выше, и цели ее другие.
Природа есть декорация, а наше творчество увеличение жизни.
Мы готовим сознание к принятию больших начал, чем земные.
Сознание новых живописцев горит пламенем цвета.
Живой и свободный…
Звук музыки звучит сильнее, стремительнее и сложнее, чем [может воспринять] слух нашего старого уха.
Живописцы дадут новое лицо живописи, композиторы – новое ухо чистой музыке.
На этих двух началах стройте новые театры самодельного искусства, освобожденные от багажа сплетен и сутолоки обыденности.
Мы порушили зерна в пространстве, и они дали новый росток.
Анархия, № 53
В государстве искусств*
Тело государства без руля быть не может, обязателен руль, да такой, чтобы никто, кроме рулевого, держаться за него не мог.
Так с незапамятных времен сажали царей за этот руль. Некоторые цари вертели сами рулем, а более слабоумные только сами сидели, а подручные вертели руль вместе с седоком.
До сих пор идет борьба за руль, и все революции пока озабочены поимкой руля.
Каждой партии хочется подержаться за этот приборчик.
Все думают, что вот как я возьму или мы посадим рулевого, то уже наверное завертится так все, что одни свободы посыплются.
А выходит, что, куда ни верти рулем, все тюрьма и угнетение.
Может быть, рулевые хотят доплыть к свободам, да как-то трудно.
Государственный корабль так и сносит к Бутырскому или Петропавловскому маякам.
И мне кажется, что кто бы ни плавал, кто бы ни держался за руль государства, никогда не выплывет из Ладожского океана к простору.
Секрет лежит в том, что в принципе руля лежит система:
1) «Аз есмь Господь Бог твой, и не будут тебе бози иные, разве Мене».
2) «Не сотвори себе кумира и всякого подобия елико на небеси горе и елико на земли низу и елико в водах под землею»1.
Ибо я у тебя – единый руль, и ты – прах у подножия моего, ты – ничто.
Я управляю тобою.
И ты – мой раб.
Я поплыву по волнам твоего сознания и превращу бурю негодования в шоссейную дорогу.
Волю твою превращу в монету и вырежу на ней лицо свое.
Я утолю жажду свою твоею кровью.
И голод свой – телом твоим.
Будь готов всегда и каждую минуту, ибо не знаешь, когда уничтожу тебя.
Я выну ребра из детей твоих и огорожу государство свое, а потому даю тебе свободу размножения.
Я – руль твой, да не сотворишь себе другого, кроме меня.
Как только что взошло солнце, только что проснулась природа, дети уже шепчут: «Аз есмь». Заклятые слова свивают себе гнездо, выживая из молодого ростка волю.
Но те, кто отринул, сидят за решеткой государственной души, неустанно крича:
– Дайте, чтобы я разросся в могучий дуб.
– Дайте, чтобы творческий знак мой раскинулся подобно ветвям.
– Дайте, чтобы на щите земного шара осталась поступь моя.
Так приходится просить подаяния рулевых в государстве жизни.
Но не лучше обстоят дела и в государстве искусства, здесь тоже свои короли, свои рулевые.
А казалось бы, что в искусстве не должно быть государства.
Казалось бы, что здесь витает мое я, воля моя бьет крепкими волнами творчества моего.
И опять война, опять партия, опять за руль, к рулю дружными усилиями.
Оказывается, что и здесь «Аз есмь» – опять тот же принцип.
Да иначе и быть не может: вглядитесь в формы государства искусства, разве оно чем-либо разнится от жизни?
Разве оно не из этих форм, что и жизнь, тот же корабль, нагруженный хламом анекдотов, фотографий и рассказов о тайнах будуаров и проч.?
Разве Репины, Рафаэли, Шаляпины чем-либо разнятся от участковых государственных протоколов?
Разве академию можно отличить от канцелярии комиссариата?
Разве виллу Репина2 можно отличить от буржуа?
И вот с тысяча девятьсот восьмого года3 началась революция в «государстве искусств». «Чердачное творчество» вывалилось на улицу, объявило бой против полчищ Александра Бенуа, Маковского из «Аполлона» и взводным и унтер-офицерам Эфросам, Койранским, Глаголям.
С 1910 года под новым напором художников футуристов и кубистов были выдвинуты новые формы4.
Шаг за шагом, гонимые со всех сторон, с трудом устраивали свои выставки.
Цель наша была в том, чтобы распылить государство искусств и утвердить творчество. Никаких рулей и рулевых.
И сейчас, несмотря на опрокинутый трон старого дня, руль остался цел.
То же и в искусстве: руль захватили учителя чистописания или же архитектор-могильщик.
Вот этим чистописателям и могильщикам объявила войну «левая Москва».
Роль-де принадлежит нам, как и большевикам, в жизни государства.
Мы, мол, будем диктаторы. Ох, товарищи ловкачи, как бы у вас не подвело желудки! (Положим, рулевым всегда хватит).
Приезд из Петрограда гг. Альтмана и Пунина поддержал москвичей5.
Вольтеро-террористы, взрыватели музеев, скрепив договор, кому что достанется после победы, вооружившись бомбами, шилами, радиями, думали сразу сломить маститых «чистописателей и могильщиков».
Петроградские диктаторы мобилизовали средства по выбору, на всякий случай, чтобы не попали в самом деле бомбисты.
На общем смотре «левачей» было все-таки решено, что хотя «станции искусства мы взрываем», но главные вокзалы пока не стоит.
И не лучше ли пустить в ход уже испытанное средство – «соглашение»?
Сказано – сделано. Вместо бомб решено вождям вдеть в петлицы хризантемы, а рядовым бомбистам – по две книги надгробных стихотворений Северянина.
И только таким хитрым способом удалось избежать кровопролития.
Мир подписан.
Мы, левачи, обязуемся принять в председатели могильщика и его помощника чистописателя.
Новый кабинет должен быть составлен по образу и подобию сборника установлений петроградской парфюмерии.
За это мы, «могильщики», даем вам прямой провод с главной парфюмерией и ее отделами «Мыло молодости» и «Крем Вежетель, средство для ращения волос».
Так удачно прошла гроза.
Но руль-то остался. А вы образовали собою ножки, поддерживающие трон «могильщика».
Разве «анархистам», да еще террористам, вольным носителям своих заветов живого духа, подобает носить на упругих плечах «похоронное бюро»!
Но буря прошла, и «Аз есмь» в покое летал над тихой обителью «левой федерации творчества».
Анархия, № 54
Футуризм*
Футуризм повел восстание против оплота плотины, накопившей за собой вековой инвентарь ненужной в наши дни рухляди.
Плотина стала порогом мешающих сплаву дней отживших форм.
Чудовищное недомыслие старой мудрости затопляло ростки молодого сознания.
И вздыбивших циклоном бура восстания горбов волн Нового смели плотину затора.
Зеркало глазу сказало новую скорлупу тела дня.
Железо-стале-бетонные пейзажи жанра мгновений переместили стрелки быстрин.
Война, спорт, дредноуты, горла вздыбившихся пушек, ртов смерти, автомобили, трамваи, рельсы, аэропланы, провода, бегущие слова, звуки, моторы, лифты, быстрая смена мест, пересечений дороги неба и земли скрестились низу.
Телефоны, мышцы мяса заменились железо-током тяги.
Железо-бетонный скелет через вздохи гущин бензина мчит тяжести.
Вот новая скорлупа, новый панцирь, в котором заковалось наше тело, превратившись в мозг стали.
Только теперь можем сказать, что мы на руле пространства, на гребне и на дне глубоких океанов.
Мы в вихре стихийной бури приближаемся управлять ими.
В сторону нового панциря гибкого бега, к отысканной современной скорости – ценности дня футуризм повернул лицо художника и, предвосхищая силу, указывает, как на рассвет бетона, железа и тока в будущем беге.
Бег мчит шаги мгновений, и – ни минуты покоя.
Вот лозунг футуризма.
Футуризм раскрыл новые пейзажи жанра изображений и перед новым пейзажем трупом видится старый день мяса и кости.
Новый пейзаж бега-скорости футуризм запечатлел на холстах.
Футуризм боролся со старым и дилетантским академизмом, восстановил новый академизм.
Но мы оставили в покое прекрасный скорый бег мира, со всеми его чудовищами железных животных, оставаясь зрителями.
Воспроизводить же новый железный мир мы оставляем для дилетантов-любителей.
Также родоначальники оставили идею академизма.
То, что было нужно для искусства, как известный процесс достижения температуры для получения результата, было принято дилетантами как нечто необходимое безустанного повторения.
Нам нужен был кубизм-футуризм для того, чтобы сломать мировое наваждение дилетантства, накопившегося пластом ила, – академизм, ил, гнездо дилетантов.
Но многие могут понять, что новую ценность футуризма – скорость – нужно трактовать без конца.
Кубизм и футуризм – знамена революции в искусстве.
Ценны для музеев, как и реликвии социальной революции. Реликвии, которым нужно поставить памятник на площадях.
Я предлагаю создать на площадях памятники кубизму и футуризму как орудиям, победившим старое искусство повторения и приведшим нас к непосредственному творчеству.
– Цветописцами, свободными от вещей.
Академическому мышлению не представляется возможным существование искусства без сутолоки личной, семейной и общественной жизни протоколов. Ему невозможно обойтись без кусков природы.
С одной стороны, это искусство есть как средство, обслуживающее часть туземцев, выполняющее заказ, удовлетворяя их вкусы; другие ведут посредством форм природы и жизни пропаганду; третьи, как дилетанты, ищут красоты. Это целая вереница, как поток пасмурных дней, тянется без просыпа многие века, это вечный круг повторений, это омут.
Возникшие в связи <с> российской великой революцией союзы, цехи живописцев, как нельзя лучше говорят о тех ремесленных принципах. Это – форма классифицирования людей по цехам. Но есть в искусстве нечто такое, что не подлежит никакой классификации и никакому цеху. Это нечто бывает в первых шагах идеи, в первых найденных формах, и кончается там, где разработка, дальнейший анализ их развития прекращают свою работу.
Предоставляя шлифовать, обрабатывать, прикрашивать, делая уже вещи для обихода большинства.
Всю работу выполняют цехи дилетантов, мастера.
Эту характерную черту цехов мастерства сохранили все училища живописные, академии.
Выданный диплом мастера академии свидетельствует перед заказчиком о его способности, об умении исполнять ту или иную задачу живописца.
Настоящий момент великих переломов, порогов, граней, нового строительства в социальной жизни связан с революцией отдельных единиц искусства, восставших на образовавшиеся цехи мастеров.
Также восстали искусства кубизма, футуризма, супрематизма.
Этим последним уже течением кладется новый камень строительства в искусстве.
Мир старый, как и его искусство, такой же труп, как развалившийся трон монархов от первого прикосновения живой руки.
Всем казалось, что алтарь и жрец монархизма еще вчера вечером был силен, строен, мощный. В твердой руке законы жизни и смерти, трепетали народы.
А утром оказалось, что уже много лет сидел труп.
Такой же труп и искусство академизма, группирующееся теперь в цехи, образуя целые полка ремесленников.
Супрематическая выставка цветописных полотен не похожа на все предыдущие выставки картин1.
Не похожа и жизнь на прежнюю.
Как жизнь, так и искусство еще больше выступают гранью нового дня.
Найдены новые отношения к цвету, новый закон, новые построения самоцельного цветового искусства, росток молодого искусства новой эпохи кладет зародыш новой культуры искусства супремативной лаборатории.
Анархия, № 57
Путь искусства без творчества*
В отдаленных доисторических временах берет свое начало зрительное искусство; наш первобытный художник, которого современная культура называет дикарем, положил начало изобразительному искусству.
Это время возникновения желания передать то, что он видит, – было вспышкой живого духа выйти к пути творения.
Но так как в художнике-дикаре еще не было ясного представления об отвлеченных формах и его творческий дух был в зачаточном состоянии, то первобытный художник начал основывать свое «я» на формах природы.
Старался передать, запечатлеть один из моментов предмета, животного и человека. Рисунки его, нацарапанные на кости, стенках пещеры, были примитивны, т. е. он их изображал самым простым способом, схематично, так что вначале изображение человека ограничивалось точкой и пятью соединенными палочками. Точкой была выражена голова, а палочки изображали туловище, руки и ноги.
И эта несложная операция уже была эволюцией, поступью многих предыдущих, еще более простых изображений. Так как он не мог вначале выйти из отдельных форм человека, изображая его чурбанообразным, с легким развитием головы в виде утолщения.
Изображая точкой и пятью палочками человека, художник-дикарь положил основу подражать природе или записывать все то, что будет открыто, найдено в человеке, вещах и творениях природы.
Идя по этому пути, первооснова дикаря через многие века стала осложняться, так как художник все больше и больше видел и находил в человеке формы и наносил на остов человекообразной схемы.
Схема в конце концов обогатилась, из точки и пяти палочек превратилась в сложный вид, покрытый мускулатурой.
Развивая и описывая свою схему, дикарь-художник привыкал к природоизображению, мало-помалу стал развивать в себе чувство, что называется красотой, а от простого исследования стал искать красоты и стал украшать свое пещерное жилище и утварь орнаментами, т. е. рядом повторений одной и той же формы упрощенной природы цветка, листика и т. д.
Таким образом подражал природе, влюблялся в ее творчество, он связал любовью с ней себя. И поколение до наших дней трактует его идею.
Имея только в виду природу, раскапывая в ней все новые и новые формы, дикарь воспитывал сознание в сторону природы, как бы признав ее совершенной по красоте и искусству, отвел ей место украшения жизни и жилища.
Но формы жизни потребовали от него более серьезного обращения на внутреннюю сторону и заставили в себе искать того, чего в природе не мог он найти.
С этого момента он разделился на две части: в изобразительном искусстве он подражал природе, а в жизни, технической ее стороне, шел к творчеству.
Хотя в обоих случаях источником была природа, но техника во многом пользовалась лишь случаем: может быть, катящийся камень с горы побудил мысль сделать колесо, может быть, плавающий лист заставил сделать лодку, углубление в земле (яма, наполненная водой), побудило сделать горшок.
Но возникшие формы, например колесо, ничего общего не имеют ни по форме, ни по конструкции, ни по материалу. Форма кувшина далека от ямы.
Но на его стенках появился листик, контур которого и послужил ему украшением.
В искусстве изобразительном не нашлось каких-либо форм для украшения, а были взяты готовыми с природы.
Техническое творчество первобытного человека брало материалы природы и создавало, творило новые.
Если художник-дикарь изображал дерево и старался подойти к его совершенной копии, то техник срубал его и творил из него стул, лавку, строил дом.
В искусстве изобразительном нужно было следовать подобно технике, тогда мы избегли бы подражания и не было бы искусства подражания, а было бы искусство творчества.
Анархия, № 72
Изображение было единственным средством человека познавать мир. Потом это средство распалось на разные науки и познавало мир помимо изображений.
Искусство изображений осталось и по сие время, изменяя свою форму, но в некоторых случаях оставляя прошлый принцип задачи познания мира и простой копии.
Отсюда человечество привыкло рассматривать искусство с его естественной стороны и требует от художника только природы, рассказанной ему еще дикарем. Оно желает видеть его таким, как научил его праотец-дикарь.
Но к творчеству техники, механики оно не предъявляет такого требования и принимает созданную машину без критики, видя, но не понимая ее, и не претендует на ее понимание, и не ругает автора, подобно художнику, увидевшему мир по-иному, т. е. нашел новое в мире, доселе невиданное множеством.
В наше время до сих пор считают как примитивы дикаря, так и современное искусство наших художников творчеством.
Но это ошибка.
Примитивное изображение дикаря не может считаться творчеством и искусством потому, что это есть не совершенный рисунок, не умение изобразить, а неумелость, которая не может быть искусством.
Примитив есть только указанный путь к искусству.
И когда художник овладел в совершенстве формой изображаемого, может считать искусством.
Такое совершенство в искусстве наступило в эпоху развития античного греческого искусства и в эпоху Возрождения, где умершие греки возродились Рафаэлем, Рубенсом1, Тицианом и другими.
Дикарь стал мастером.
Остов первобытный обогатился, получил мускулы живого. Пять палочек и точка превратились в сложное тело.
Но, несмотря на огромное мастерство, на совершенную передачу природы, ими была достигнута половина той идеи, которую положил дикарь: видеть картину зеркалом природы.
Мастера Возрождения достигли большого умения построить тело, но не сумели, не достигли света, воздуха, чего в совершенстве достигли мастера 19 века.
Ошибочно будет полагать, что все старинные мастера-художники настолько совершенны, что им все молодое поколение должно следовать и преклоняться перед их мастерством, и работать по их рецепту, или же их поставить как идеал, и всю свою энергию направить к их пьедесталу.
Признать их, признать прошлое – значит лишить себя жить современным богатством, приковать себя к мертвой точке, уйти из современной нам жизни.
Не можем же мы теперь строить то, что строили Хеопс или Рамзес, царь египетский, живший за две или три тысячи лет до Рождества Христова.
У нас есть свое время, новые законы и новые формы. Наша жизнь ни единым днем не похожа на прошлую, разве только схожа войнами и убийствами.
Уже многие реки высохли, в море исчезли моря, но реки крови не высыхают. В этом мы верны и тоже совершенствуем дубину Каина, превратив ее в машину смерти.
Анархия, № 73
Наши мастера 19 века завершили идею дикаря, они достигли воздуха, которым были овеяны изображения в картинах, чем приблизились и с этой стороны к природе. У старых мастеров не было этого, и их изображения были раскрашены красками, красивыми по сочетанию, но не воздушно-прозрачным светом.
Художникам 19 века удалось вывести идею дикаря к лицу природы, из лабиринтов идеальных стилей, в которых нашло себе смерть искусство художника Возрождения.
Картины художников 19 века суть зеркала, отражающие живую природу, что было мечтой идеи дикаря.
Мастера Возрождения от Рафаэля до Веласкеса, которым заканчивается эпоха Возрождения, не уяснили себе силуэтов впереди лежащих дорог.
Они затворили за собой двери к природе, изгнали или вынули из живого воздуха тело и совершенствовали его в технике искусства в своих мастерских.
Их мастерские уподоблялись хирургическим столам врачей, на которых изучали мышцы и кости учащиеся.
Они изучали в совершенстве человека, но он был изображен далеко не реально, тело его было закрашено краской, но не покрыто живым воздухом.
Художники 19 века поняли это, раскрыли двери своих мастерских, вышли с этюдниками[4] в природу, начали постигать свет и достигли совершенства. Это можно увидеть в картинных собраниях, галереях и музеях, какая разница между работами старых и новых художников 19 века.
Если мы посмотрим картины Левитана, Поленова или Верещагина, то в их картинах мы увидим много правды реальной. Солнце и воздух на первом месте, и такого солнца не встретим у старых. То же и портрет.
Но еще более сильное впечатление получили бы от работ художников-импрессионистов, пуантелистов в особенности, у последних свет есть главная задача достижения, что достигалось и другим способом. Если первые – Поленов, Левитан – смешивали краски, подбирая их ближе к натуре, то последние – пуантелисты – располагали краски так, чтобы при отдалении они смешивались в нашем глазу подобно солнечному спектру[5].
Ими можно закончить всю эпоху подражания природе, так как их изображения достигали иллюзии довольно сильно и, будучи мертвыми в изображении, не могли спорить с живой природой. Но, во всяком случае, подделка была большая.
Но авторитеты и критики продолжают воспитывать поколение на идеалах Рафаэлей и воспитывают, только их ставя как первоисточник сильного искусства.
Умерли Рафаэли и пало искусство, – говорят они.
Толпа не смотрит на день современный, кричит на новаторов, ругает их, иначе она и не может. Ведь целые века шея толпы была привязана все в ту же сторону, а жизнь шла большим шагом и выдвинула новые формы, новые изображения.
Но авторитеты, знаменитые художники и историки стараются отодвинуть молодое сознание подальше от современного и указывают на усыпальницы старых, изжитых форм минувшего, как на источник, где возможно молодому поколению черпать жизнь.
Поколение слепо верит, идет, черпает минувшее время.
А между тем каждая картина музея и галереи есть последний момент прошедшего. Это есть отметка времени.
Поэтому молодому художнику никогда не следует подражать и брать музейное и облачать <в> современное.
Музейное собрание – картины времени, и из них не нужно делать шаблона, ибо они сами по себе не есть шаблон, и мерить ими свое время нельзя.
Музей – это следы пути художника, в которых он заключил свое время. Но не училище.
Но благодаря некоторым одаренным субъектам стараются постигнуть свою форму и ею передать современное.
Эти индивидуумы устремляются прямо к жизни, их окружающей, и в ней стараются найти то, чего не было найдено предыдущим коллегой.
Отсюда выявляются новые формы в картине и, будучи непохожими на музейные авторитеты, не признаются толпой, поднимаются смех и крик.
Когда-то во Франции жил художник Сезанн; он нашел много нового в природе; его изображения были просты по линиям и форме, то же и по краске. Он звал, чтобы природу писали или приводили ее формы к геометрии, т. е. к самым простым формам куба, конуса, угла и т. д., за что был гоним.
У нас в России можно видеть его работы в частном собрании С. И. Щукина на Воздвиженке2. В государственных музеях для него не оказалось места. Хотя его работы после его смерти признаны целым миром и достигли огромной ценности в искусстве.
В России образовалось целое общество художников его школы – «Бубновый Валет». Оно подверглось страшному гонению как со стороны критики, так и интеллигенции.
Пролетарий его не знал совсем, ибо раннее утро угоняло его в смрадные заводы, а ночь загоняла в трущобы на койки.
Анархия, № 74
Общество художников «Бубнового Валета», претерпев гонения, через несколько лет победило, и картины стали приобретаться в частные руки, а некоторых членов общества – приобретали в Третьяковскую галерею. Илья Машков и Петр Кончаловский теперь висят в галерее. Правда, им пришлось немного сойти с революционного пути, даже умалить идею своего учителя Сезанна, который главным образом вынес на себе гонение.
Представители «Бубнового Валета» пошли дальше по намеченному пути Сезанна, они ослабили бурю и почили на лаврах вчерашних завоеваний.
Но во Франции нашлись новые силы, которые понесли на знаменах своей души идею Сезанна к его апогею, т. е. к кубизму[6].
Группа художников, создававших кубизм во Франции, состоит из Брака, Пабло Пикассо, Леже, Метцинера3 и друг<их>.
(О кубизме и его принципах я буду говорить в свое время, как о направлении в искусстве4.)
Их произведения еще широким массам неизвестны, а суть-то его мало понятна и интеллигенции, которая вместо изучения его набросилась с пеной у рта под предводительством критиков разных газет. (Между прочим, проскальзывает сейчас в печати, что футуризм и кубизм есть буржуазное искусство, так по крайней мере толкуют в пролеткультах, но очевидно они столько же понимают в «буржуазном» кубизме, сколько петух в жемчужном зерне.)
Ни кубизм, ни футуризм не были приобретены казенным государством, а между прочим, эта страница искусства, как современное толкование времени нашего мира, является необходимой, как этапы нашего стремления к творчеству, и пролетарий должен требовать устройства музеев, где бы были представлены все течения искусства. Ибо молодое поколение, идя в галереи, смотрит на остывшие постели давно прошедшего времени, задерживая пламень духа своего, и начинает раздувать потухшие уголья, но пламени не достигает, и мир угасает в их душе.
Молодое поколение должно жить с теми художниками, которые живут среди жизни, которые не ушли еще в предание, и верить тому, кто не почивает на матрацах прошлых учителей.
Как мы можем жить тем, чем жили наши отцы? У них было одно, у нас другое Наша жизнь пробегает среди вихреворота, это сильнее, чем вулканизм, ибо оно не вытекает из вулкана, а вихреворот есть верча фабрик.
Мы среди бега экспрессов, автомобилей, гигантских дредноутов, железных дорог, цепеллинов, аэропланов, пушек, электроосвещения, лифтов, машин, моторов, многоэтажных домов, небоскребов, телефонов, радиотелеграфа, проволоки, рева рожков, звонков, свистков.
Это новый, совершенно новый мир, новый пейзаж современной жизни, сплошной гул и бег.
Разве можно всю эту быстрицу бега мерить шаблонами того времени, когда тяжело скрипучие ползали телеги? Разве можно приспособить наше передвижение петровскому времени? Нет.
Также нельзя приспособить душу молодого современного художника к идеалу Рафаэля.
Но интеллигенция вместе с критикой смотрит на современное футуристическо-кубистическое искусство с точки зрения Рафаэля или ближайших художников – Репина, Маковского и др<угих>, и топчет ногами новую поступь художника-новатора.
И хотелось бы, чтобы ныне воскресший народ не шел по пути интеллигенции и не искал гениев с вершины Репиных, Пушкиных или старинных мастеров.
Авторитеты искусства говорят, что жизнь может бежать, но искусство должно стоять у точки прошедших мастеров.
Время наше новое по форме, мы другие, и следовательно, искусство тоже другое. Недавние передвижники уже кажутся дряхлым пнем. Союз русских художников, московское товарищество и другие выставки тоже отдаленные песенки, которые пелись тогдашними современниками.
Но теперь это швяканье старой бабушки, так же швякают и молодые, которые стараются петь так, как пели предки, и их песни уподобляются той же бабушке.
Анархия, № 75
Мы осознали новую истину среди современной нам жизни. Кубизм[7] и футуризм[8] предшествуют супрематизму[9] – новому живописному реализму цвета, но не неба, горы, птиц и всякой вещи.
Эту новую истину сколько бы ни старались душить авторитеты, им не удастся, ибо истину задушить нельзя.
Осознав ее, мы расстались навсегда со следами прошедшего, которое похоронили не только время, но уже и формы.
Дупло прошлого не может вместить гигантскую нашу жизнь. Формы прошлого слабы, не смогут выдержать потока бурной нашей жизни.
Наши моря не могут носить на хребтах волн корабля сарацин, море наше привыкло к железным спинам дредноутов.
Также мы не можем вмещать в себе старые основы и на их дряхлости строить свое творчество.
Техническая сторона нашего времени уходит все дальше вперед, а искусство стараются двинуть назад.
Туда, к Рафаэлям, туда, к примитивам, к старым персам, индийцам, импрессионистам[10], к академизму зовут муллы с башен академии[11].
Но устарел их маяк, рухнули фундаменты и потух огонь Рафаэлей.
Искусство должно было выйти из мертвого маяка, и вот художники XIX века вышли с холстами на воздух и стали изучать его, взялись за то, от чего ушли Рафаэли и от чего умерли.
Таким образом, идея дикаря через художников XIX века возродилась и пошла к своему совершенству, пошла к земле. Но в этом усилии было одно: достигнуть правды в картине или в природе.
Но это усилие давало забавные результаты: во-первых, написанное солнце потухало в картине, как только солнце природы закрывало лицо свое. Достигая тождества в картине с природой, мы умаляем свое творчество, чувство творения угасает все дальше по мере приближения к природе, ибо мы приближаемся к готовой форме, копируем ее, а свое горение, которое могло бы быть печатью для выжигания новых форм творческой силы, угасало на копиях.
Но живой дух все время боролся и протестовал против природы, и борьбу свою знаменовал тем, что уродовал ее в картинах. (Об уродстве в искусстве буду говорить в отдельной статье.) И мало-помалу идея дикаря потухла на чурбанах природы.
Идеалом художника была встарь природа: леса, небо, солнце, лунные ночи. Каждое воспроизведение возводилось авторитетами-жрецами в нечто великое, самих художников считало гениальными, написанную тыкву старались втиснуть в душу как жемчужину, и поколение гонялось за тыквами и ломало себя в достижении ее красоты.
Природа была установленным шаблоном, академия была построена на фокусах, где показывались вещи, написанные как живые, все удивлялись, как жонглеру в цирке.
Главное это то, что написанную тыкву уже выдавали за новую ценность. Были еще художники-жанристы: они обыденную жизнь, сплетню трактовали в своих холстах и возводили ее в нечто недосягаемое, высокое. И к искусству сплетни звали молодежь.
Когда появились футуризм и кубизм, все маэстро зарыдали. Тугендхольды (критики из газет) завопили, полились потоки насмешек и ругани. Объявили, что искусству пришел конец, кризис наступил.
Действительно, что кризис наступил: сплетня стала отходить на задворки, футуризм объявил новое искусство, которое имеет дело со скоростью, быстротою. Быстрота жизни – его модель.
Искусство перешло к своему языку, и сплетню о романе Прасковьи Ивановны оставили для любителей.
Слова у поэтов и краски у художников только и были для описания похождений Прасковьи Ивановны. Поэты и художники обладали способностью, чтобы шероховатости подслушанной сплетни передать в более гибком виде, чтобы Прасковья Ивановна была разукрашена, нарумянена и описана под звуки скрипки (обязательно в сумраке).
Тоже над этим потеют все артисты, – гнутся подмостки театров, – самые гнусные и бесстыжие дела задворков выставляют на подмостки и под псевдонимами выставляют на показ поколению под кисеею искусства.
Такому искусству приходит конец, а все наши художественные амбары сплетен должны задохнуться в астме Прасковьи Ивановны и Пусиков.
Дух творчества был закован обыденностью, пошлостью искусства, оно господствовало и давило творчество, в этом душении приспособили свои руки и знаменитости: Куприны, Горькие, Юшкевичи и много, много других.
И только кубизмом удалось разбить этот мусорный горшок, выбросить любовные подушки, матрацы, заменив их бетонно-железными сводами и колесами скорости.
Кубизм и футуризм сбросили сплетню с пьедестала величия на стойку обывательской распродажи Мережковских, Бенуа, Сперанских5, Коганов[12].
Анархия, № 76
Перелом*
В живописном искусстве авторитетов не было ничего более того, что давала копия натуры и уродства. То и другое основали на эстетизме, вкусе и композиции, т. е. удобном субъективном распределении вещей на картинах.
Подобные картины назывались творческими произведениями. Если это «верно», то распределение мебели по комнатам можно считать тоже «творчеством».
Скопированный арбуз – тоже творчество. Написанный же змей – творчество, но уже мистическое. К этому творчеству относятся все кресты и черные краски. Так считали авторитеты от искусства. Но мне думается, что во всех этих копиях-подражаниях творчества нет, ибо между искусством творить и искусством повторить – большая разница.
Творить – создавать новые конструкции, не имеющие ничего общего с натурой. Распределением же мебели по комнатам мы не увеличим и не создадим новой их формы (также новой развеской картин в Третьяковской галерее не увеличить их ценности).
Называют того великим художником, чьи картины больше напоминают живое солнце. Только в блокнот, – гениальная книжка для памяти, – много можно кое-чего записать.
Музеи и галереи – блокноты и сундуки, набитые протоколами по поводу природы, а некоторые прямо описи инвентаря ее.
На художнике лежит обет быть свободным творцом, но не свободным копировальщиком, грабителем, имитатором или ловким сплетником.
Художнику дан дар, чтобы творчеством своим он увеличивал сущность нашей жизни, а не загромождал ее лишними копиями.
Искусство художника и искусство техники должны идти творческим путем. Но пока только техника делает чудеса в мире. И за формами ее творения следует художник и записывает на свои холсты – блокноты.
Цвет – краска природы, те же элементы кристаллы, которыми художник должен пользоваться для постройки нового, независимо от того, что окрашивает в данный момент.
Художник должен снять цвет с природы и дать ему новую творческую форму.
Природа – живая картина, можно ею любоваться. Мы – живое сердце природы, ценная конструкция гигантской живой земли и звезд – между тем кощунствуем, умерщвляем куски природы на холстах – ведь всякая картина, писанная с живого, – есть мертвая кукла. Величайшие произведения греков и римлян – безжизненные, бескровные трупы, камни с потухшими глазами.
Все эти гениальнейшие произведения напоминают о живом столько, сколько юбки о женщине.
Сила мирового большого творчества лежит в нас, а потому нормально художник должен творить, ибо он мировая сила, он хранитель ее, должен идти наряду с природой к изменению, вернее, выходить из оболочки перехода в другую, только живую форму, ибо его дело – дело творения, а творчество есть жизнь. И ненормально, когда художник копирует природу, ибо живые формы, переданные на холст или страницу, уподобляются манекену или чучелу, набитому соломой.
Как бы ни подражал художник, его произведения будут мертвы, но когда он найдет форму новую и введет ее в природу – она будет жизнью и будет правдою. Тогда не будет поговоркою, что искусство есть ложь.
Поэтому художник, поэт, музыкант должны быть чуткими, чтобы услышать колебание творческих форм и видеть внутри себя их очертание и передать в реальную жизнь.
И всячески избегать всех форм, которые существуют уже, ибо страшно скучно и бесцельно, когда видишь одни и те же повторения.
Как дикарь, так и до наших дней художник был заключен в кольце природы – в горизонте, и бесконечное видоизменение лиц природы уводило художника из одного кольца в другое, и он заносил в блокнот всякое изменение в кольце.
Творчество техники окончательно вырвалось из кольца горизонта, оно твердо идет по своему пути и сокрушает все препятствия природы: пространство приспособляя для своих новых птиц, зверей-машин и т. д.
Но в искусстве пластическом (живописи, скульптуре) чувство творческое тоже пробивало себе дорогу.
Одно искусство стало выражаться в уродливых формах, шло к искажению, другое – к идеальной форме и тождеству с природой. То искусство, которое шло к уродству, разворачивало природную форму и перестраивало ее по своему образу. Это был путь разрушения тех оболочек, которыми был скован творческий дух.
Уродуя формы, раскрывалась масса возможностей, больше, нежели приведения природы в идеальную форму. Ибо, в первом случае, в разрушении рождаются новые формы, а в идеализировании предмета мы лишь придаем ему некоторую элегантность, утонченность, приглаживая прическу, нарумянивая щеки.
Те художники, которые шли по пути разрушения, встречались толпою гиком и криками. Они были новаторами и будоражили спящее сознание, которое так приятно покоилось на пуховиках Рафаэлей.
В нашем двадцатом веке революция в искусстве выразилась в большом напряжении. Искусство подражаний природе воевало с творчеством, и по сей день идет бой реакции.
(Даже при новом строе искусство удерживает поле сражения, ибо нынешнее правительство и пролетарий скорее примкнут к Репиным, Маковским, Рафаэлям, нежели новаторам.
В данный момент борются между собой две организации. В Москве художественная коллегия, утвержденная Луначарским, и другая, во главе с реакционером в искусстве Малиновским и Кº1 Но это было и в социалистических движениях, и не скоро народ осознает идею социализма. Так еще не скоро будет осознано движение новаторов искусства, творчества.)
Много художников боролось с этим замкнутым реакционно-рутинным кольцом. И много молодежи высохло, как вобла на солнце, боясь смело шагнуть к новой идее.
Но сильные, смелые устаивали на площади искусства, и на грудах сваленных позорных слов водружали знамя новой идеи. Так водрузил знамя художник Ван Гог и художник Поль Сезанн. Знамя первого понесло время в глубину наших дней футуризма.
Знамя второго – кубисты.
Вот два столпа самых ярких разрушителей искусства изображений природоподражаний.
Сезанн и Ван Гог положили в дороге искусства новую идею, идею освобождения <от> рабского преклонения и распыления ее вещей.
Первый приводил ее к упрощенно-геометрическим формам – второй к вседвижению.
Кубизм и футуризм – венцы, завершившие их идею.
Как Сезанн, так и Ван Гог много претерпели, так же были оплеваны, осмеяны интеллигенцией того времени. Но их идея победила, и после смерти (как принято) стали воздвигать славу им. И на страницах художественного журнала «Аполлон» поют им хвалебные гимны, преследуя современных новаторов – кубизма и футуризма.
В пролеткультах некоторыми лекторами говорится о кубизме и футуризме как о буржуазном искусстве, следовательно, Сезанн и Ван Гог тоже буржуазны, но к сожалению, у лекторов не находится более веских аргументов, как я знаю, что признание Сезанна и Ван Гога среди буржуазно-интеллигентской публики, а также и прессы было необходимостью, ибо неудобно не признать то, что признано во Франции – вообще за границей.
С другой стороны, ни Сезанн, ни Ван Гог не поняты и сейчас, и если они висят у буржуа, это еще не значит, что они буржуазны. Если бы были поняты оба художника, то не вызвали бы бурю кубизм и футуризм, среди буржуа главным образом.
И я скажу, что ни интеллигенция, ни пролетарий еще себе не уяснили истинных задач искусства, ибо в их пролеткультах не был бы причислен кубофутуризм к буржуазному искусству. Что общего с классом имеют течения кубизма и футуризма, если в сути одного распыление вещи, в сути другого – скорость.
Очевидно, как интеллигенции, так и подобным лекторам более понятны рамы, нежели картины.
Анархия, № 77
* См. «Путь искусства без творчества».
Я пришел*
Я пришел к супрематизму – творчеству беспредметному.
Няни вчерашнего дня рассказывают нам сказки о Хеопсовых пирамидах. И молодое ваше сознание лежит у подножия пирамиды, присыпанное сонной пылью прошедших веков.
А няни в ковчеге казенной академии до сих пор проповедуют величие и красоту вчерашнего. И под звуки песенки дремлет молодая душа. Молодые художники, как молитвенники, держат на стенах портреты вчерашнего дня и приспосабливают огромное машинное время для того, чтобы протянуть в ушко иголки старого.
Мы, супрематисты, были непослушными детьми, как только завидели свет, сейчас же убежали от слепой няни.
Мы выбежали к новому миру, там увидели чудеса, не было ни кости, ни мяса, мир железа, стали, машины и скорости царил там.
Старый мир уложил свое бремя на десятине кладбища. В новом же мире тесно на земле, мы летим в пространство, роем в его упругом теле новые проходы, и орлы остаются в низинах нашего совершенства.
Мы побеждаем того, кому приписано творение, и мы доказываем полетами крыльев, что мы все пересоздадим, себя и мир, и так без конца будут разломаны скорлупы времени и новые преображения будут бежать.
Мы, супрематисты, заявляем о своем первенстве, ибо признали себя источником творения мира, мы нормальны, ибо живы.
Новый мир метнулся, как вихрь, нарушил покой угасающих старцев, вместо матрацев, мягких перин положил бетонные плиты, вместо тяжелых в беге телег двинул колеса паровозов.
Мы услыхали в себе шум вихреворота, мир фабрик, мы увидели, как из души огнерабоче-рук срывались ввысь новые птицы; как один за другим, миллионами мчались напоенные бензином, сытые автомобили, как метали машины с горбатых, дугообразных тел огонь, свет, электричество.
Мы увидели, как версты расстояний сгущенными снопами пролетали десятками.
Мы из томительно длинного ползущего чада перенесли версты в терции мгновений.
Но вы, убаюканные в тиши песков Египта, в смертельно тоскливом покое пирамид, не скоро услышите стуки бегущей современности.
Но ты, пролетарий, кузнец нового времени, ты куешь время формами, из твоей груди идет вихрь рождений, ты новатор. Ты должен увидеть хоть в субботу мир твоей руки.
Все это увидели мы, будучи футуристами, и на холстах запечатлели мы мир нового дня.
Мы только указали, что мир кости и мяса давно вами съеден и скелеты лежат на кладбищах.
Мы указали, как на лазейку, на последнюю баррикаду – мир вещей.
И ринулись с баррикады к миру нового преобразования, к легкому, беспредметному, ибо наступает великое перевоплощение нашего бессмертного духа. Мы сейчас живы, мы с вами, мы говорим вам, но слова наши не слышны, уши ваши забиты ватой, ветошью, и до сознания вашего дыхание слов наших не доходит.
Но звук наших слов висит, как солнце, в пространстве и не сегодня, так завтра проникнет к вам. Это уже будет тогда, когда в первых словах мы умрем, и будет отзвук, эхо, возвращающееся из леса к вашему слуху.
Ибо мы будем уже мертвы.
Анархия, № 79
* См. № 27 по № 77 газ<ету> «Анархию» («Путь искусства без творчества и перелом»).
Родоначало супрематиума*
Наше время XX века многоликое, много спорящих истин ведет борьбу. Представляется площадь торговая, где толпа выглядит фигурками, вышедшими из антикварных магазинов на улицу футуризма. Хохочет, негодует, удивляется, что все перестало быть похожим, естественным. И радуются, когда увидят старые картины, фарфор, подносы, шлемы, кости римских воинов, туфли шахов персидских, галстуки или кринолины.
Во главе на площади старья стоят опытные продавцы-авторитеты, предлагают доброкачественный товар, умело вытканный эстетизмом, вкусом и красотой. А другие говорили проще: «Одна красота и только». Молодежь потоком идет на эту Сухаревку, и ловкие авторитеты одеваются в старый лакированный жилет Рубенса, пушкинский галстук, кафтан времени Михаила Федоровича, крахмальный воротник современных Брюсовых; прикрыв голову мещанским колпаком, щеголяет молодежь в праздничные дни в академическом саду искусств! И маэстро довольны, ибо надгробный памятник поставили на современных молодых душах. Совершались прогулки с молодежью по академическому саду. Вкус, красота, мистика, фантазия, эстетика – все было здесь и казалось гениальным.
Обыкновенные тыквы были сущностью, в обнаженных бесстыдных позах стояли группами Венеры, но авторитеты сейчас же старались рассеять это впечатление и объяснить, что под кисеей искусства выходит все по-иному – «прилично». И уже не грубый акт, а легкая эротика, целый сад академии был помешан на художественной эротике. Здесь были и лебеди эротичные, и змии, лошади, фавны и мн. др. Но где уже нельзя было скрыть и эротика перешагнула свои границы, авторитеты закрывали ее фиговыми листиками.
Весь академический фиговый сад искусства охранялся стражей, дабы за его ограду не проникли безобразники, не посрывали фиговых листиков и не погубили красоты сада.
В благоуханном эротическом благополучии засыпала молодежь, и лишь старцы бодрствовали, оберегая от злых веяний.
Но в один прекрасный день на горизонте показалась комета, шум и вихре-ворот доносились к старцам, затрепетало все от их вихря, хвост кометы – футуризм – смел, свалил все побрякушки старого искусства.
Видя замешательство на базаре, Мережковский и Бенуа стали успокаивать общество, говоря, что идея нового искусства не что иное, как поступь «грядущего Хама», и что оно скоро пройдет, и академический сад по-прежнему будет стоять, увенчанный фиговыми листиками. Но, несмотря на всю предосторожность, много молодежи встало под знамена нового искусства – футуризма.
Они увидели новый футуристический мир, мир бега, скорости; миллионы проводов в теле города натянулись как нервы; трамваи, рельсы, автомобили, телеграф, улицы города и небо – все перекрестилось в бешеном круговороте вещей. И тут же сбоку перепуганная рать академического сада в мещанских колпаках с дрожью смотрела на крушение старого дня, держась за фалды вчерашнего кафтана.
футуризм сорвал завесу и показал нам новый мир, открыл новую реальность. Если раньше мир, жизнь наша были показаны в неподвижной форме, то футуризм показал ее текучий, быстрый бег. Но из этого не следует, чтобы молодые художники сидели на распыленных вещах кубизма и их освобожденных единицах (вещь состоит из массы единиц, кубизм видит не вещь, а разъединенные единицы), или же передавали новое футуристическое впечатление бега вещей, – иначе было бы нашей ошибкой, т. е. мы бы повторили то, что делала академия. Нам нужно идти дальше – к полнейшему освобождению себя не только от вещи, но и от единиц, чтобы иметь дело только с элементами цвета (краски) и ими выдвигать, окрашивать рожденную в нас готовую форму, новое тело.
Художники-супрематисты только прошли путь революции в государстве искусства и вышли к творчеству, т. е. приобщились теперь к одному вселенскому закону природы. У нас остался цвет, объем у скульпторов, звук у музыкантов, у поэтов буква и время. Все эти средства не служат для передачи природы, писания рассказов, анекдотов. Изображения нами строятся в покое времени и пространства. Мы, супрематисты, в своем творчестве ничего не проповедуем, ни морали, ни политики, ни добра и зла, ни радости, ни горя, ни больных, ни слабых, также не воспеваем ни бедных, ни богатых.
Оно одинаково для всех.
Мы – поколение XX века – итог старого и страница новой книги, открытого нам кредита времени, мы закончили том 20-ти веков, и в нашей библиотеке архива прибавилась новая книга старых изжитых форм. Там мудрый археолог спрячет ее от времени, ибо оно не терпит следов своего преступления и рано или поздно съедает их.
Мы острою гранью делим время и ставим на первой странице плоскость в виде квадрата, черного как тайна, плоскость глядит на нас темным, как бы скрывая в себе новые страницы будущего. Она будет печатью нашего времени, куда и где бы ни повесили ее, она не затеряет лица своего.
Анархия, № 81
Мир мяса и кости ушел*
Мне ненавистны авторитеты прошлого, как «шурум-бурумы» бродят они в новом мире и ищут старья, зачастую захватывают молодые души в свои казематы.
Культ их – кладбище, мастерство их – раскопки и имитация, и сплошная ложь, чем они даже гордятся, находя в них прекрасное, большое.
Много говорят о гениальности всего старинного, да, оно гениально постольку, поскольку оно самобытно времени. И гениально постольку, поскольку оно составляет силуэт к будущему.
Но и мы не менее гениальны. Наш телефон, телеграф, пути сообщения, наш кубизм, футуризм – гениальность нашего времени. И как старое не может жить в новом, так и новое не может жить в старом.
Но принято ругать новое и восхвалять старое, и мы должны бросить эту привычку, наше поколение должно и в этом случае выйти и принять в своей стране пророков, ибо пока они живы, могут поделиться собою. Не ждать, пока умрут, и тогда разговаривать с трупом.
Так у нас было до сих пор, но пусть этого не будет.
Совершилась огромная поступь в живописном, цветовом искусстве, переворот в музыке, поэзии, науке, механике.
Но лишь в архитектуре стоит мертвая палочка; архитекторы, как калеки, до сих пор ходят на греческих колонках, как на костылях.
Без старинки ни шагу; что бы ни случилось, сейчас зовут за советом няню, она оденет их в старые кокошники, душегрейки, даст по колонке, немного акантикового листа, и милая компания путается, как ряженые под новый год, среди трамваев, моторов, аэропланов.
Вот вам наглядный образец у нас в Москве. Постройка Казанского вокзала, где, как ни здесь, можно создать памятник нашего века? Но разве понятна была задача, разве архитектор уяснил себе вокзал?1 Вокзал – дверь, тоннель, первый пульс, дыхание города, отверстие живой вены, трепещущее сердце.
Туда, как метеоры, летят железные двенадцатиколесные экспрессы, одни вбегают в гортань железобетонного горла, другие убегают из пасти города, унося с собою множество людей, которые, как вибрионы, мечутся в организме вокзала и вагонов.
Свистки, лязг, стон паровозов, тяжелое дыхание, как вулкан, бросает вздохи паровоз, пар среди упругих стропил рассекает свою легкость. Рельсы, семафоры, звонки, цветные сигналы, горы чемоданов, носильщики, мчатся извозчики…
Комок, узел, связанный временем жизни.
И вдруг кипучий ключ кричащей скорости секунд покрывается крышей новгородского или ярославского старого монастыря.
И паровозам стыдно; они будут краснеть, въезжая в богадельню. Не знаю, кто будет расписывать стены, но думается, что будут выбраны художники, как всегда, неподходящие. Должно быть, Лансере2 и Рерих не избегнут участи. Один распишет фавнов, наяд, бахусов; другой – доисторические виды земли закончит медведями и пастухами. Это должно связать архитектурное с живописью в гармонию. Паровоз с наядой, бахус и фонарь электрический, фавн – начальник станции, телефонная трубка. Медведь и семафор. Удивительный концерт. И еще упрекают футуризм в нелогичности.
Мир мяса и кости ушел в предание старого ареопага. Ему на смену пришел мир бетона, железа. Железо-машинно-бетонные мышцы уже двигают наш обновляющий<ся> мир. Мы – молодость XX века – среди бетона, железа, машин, в паутине электрических проводов, будем печатью новой в проходящем времени.
Закуйте лицо в бетон, железо, чтобы на стенах святых масок мышцы лица были бы очертаниями новой мудрости, среди прошедшего и будущего времени.
Анархия, № 83
Обрученные кольцом горизонта*
Человек – разум земли.
Одно из ценных сокровищ.
Художник, поэт, музыкант – любовники земли. Земля – любовница их. Обрученных кольцом горизонта, богатством творчества, земля обольстила любовников. И поработила, и отдала все богатства свои. Но была нема. Уста ее закрыты, глаза скрыли тайну красоты.
С тех пор среди колец горизонта поэт, художник, музыкант искали скрытую красоту. Каждая вещь, каждая жизнь казалась им скрытым ларцем красоты. Запах цветов, шум леса, пение птиц чаровали, и через них хотели узнать о тайне красоты, зарытой землею. Но ни шум леса, ни бегущие облака в синем пространстве, ни птицы и цветы не понимали вопроса. Язык любовников был чужд.
И опять среди сети колец горизонта ходили любовники, обрученные.
С отчаянием слушали шепот убегающего ветра и превращали его шум в оковы музыкальных знаков. И зеленое лицо поля с колеблющимися травами делали красивым на холстах и страницах.
Люди восторгались красотой, но красота картины была мертва.
Не знали, что в последнем мазке и последнем слове переставали жить лицо поля и шум ветра. И красота уходила к жизни: с холста в поля. Простые чурбаны казались им богатством, и на холстах и страницах украшали их, как кресты над могилами, создавая памятники о живом.
Проходило много времени, века проползали полосами, сменяя друг друга. Внизу по лицу земли, среди колец горизонта, ходили искатели красоты. Обручальное кольцо земли крепко сковало искателей, а дух угасал в догадках.
Чем больше искали, тем больше рассекалось сознание на миллионы нитей и прикреплялось к вещи. Так золотили чурбаны, одухотворяли, и дух угасал в тисках щелей чурбана.
В паутине нитей дорог запуталось сознание. Вера в обручальное кольцо горизонта приковала к земле свободный дух.
Сознание билось, толкаемое надеждою развязки, дух напрягал все усилия, чтобы разорвать кольцо. И каждый толчок уродовал паутину дорог, комкались тропинки, и <все> угрожало провалиться в пропасть. Но разум – сводник земли, – как паук, заплетал прорывы.
Любовники стояли на тропинках и ждали разгадки тайны. Уста земли были недвижны. Смелые хотели силой раскрыть уста молчания, но были слабы их мышцы и не были ловки. Создавали тогда богатырей тела и духа и посылали. Но дух в них вселяли свой, и богатыри уносили с собой мысль с миром вещей.
Так Дон Кихот нес с собой образы земли и воевал с ними в том же обручальном кольце горизонта. И тайна оказалась мельницей, и то, на чем он ехал, лошадью, и Санчо был человеком, и Дульцинея – женщиной. И дух его разрывался на ветре неопределенных тропинок. И скользит Дон Кихот по стальному лицу земли, дух его распыляется в бессилии.
Поныне стоят многомиллионные толпы поэтов, художников, музыкантов и, как спасения, ждут шепота. Ждут заколдованного слова красоты. В каждую вещь, каждый звук вселяли молитву свою и несли как разгаданный знак. Но знак сменялся знаком, спор о знаке сменялся спором. Через знак слова, краски и звук создавали построения, чтобы при помощи их найти сокровенные вещи. Но вещи оставались вещами, гордо защищая чело своей тайны, бежали к чурбану и гибли в щелях его. Душа задыхалась по просторному пространству. Поэт, художник и музыкант не могли приспособить звук, слово и цвет, чтобы высказать себя. Сознание любовников, обрученных кольцом горизонта, металось, как рыбы в сетях, среди разбросанных красот богатой невесты земли. Жадные собирали сокровища в академические ломбарды. Музыканты накапливали звуки в скрипки, поэты обращали язык свой словами, художники палитру украшали краской. Но высказать себя на страницах не могли. Ибо краски, звуки и слова были повторением вещей. Не знали, что высказать себя сутью и формой вещи нельзя.
И пока поэт, художник и музыкант будут в кольце горизонта вещей, слова, кисти и звуки нальются ужасом, печалью, тоской, отчаянием, и на страницах, холстах и струнах как звезды рассыплются слезы, а по буквам страниц будут прыгать ужасные следы смерти.
Анархия, № 84
Выставка профессионального союза художников-живописцев. Левая федерация (молодая фракция)*
Кубистическое направление представлено слабо: очевидно, кубизм России отжил свое, вылившись главным образом в тех художниках, которые сейчас перешли к «беспредметному» и «супрематическому» творчеству. Я считал бы необходимым, чтобы в следующий раз левая федерация выразила бы собою и тот путь, по которому она шла, чтобы еще раз показать кубистическое построение новым посетителям, да и завсегдатаям выставок, в том числе и Максиму Горькому: чтобы он присмотрелся к настоящему виду кубистического строения и не путал его с комбинациями какого-то «даровитого» кубиста-декоратора в Петрограде и изображениями фабричных труб и рабочих с засученными рукавами.
Пусть посмотрит, на чем основан кубизм и что он трактует.
К сожалению, в комнате левой федерации есть намалеванный еврей, которого тоже принимают за кубизм.
Это доказывает, что для наглядности и уяснения необходимо рядом с последними работами ставить кубизм-футуризм. (Конечно, если это необходимо.)
Ибо Максим Горький в «Новой жизни» облегченно вздыхает, услышав слова рабочих, которые, увидев в своем театре (в Петрограде) рампу, разделанную в кубистическом стиле, сказали: «Долой! Нам эти молотки и рабочие на фабриках надоели!»1
Хороший «кубизм», что он надоел на фабрике, а кубисты совсем и не знали, что вдали, в шуме пыльных заводов кубизм уже приелся.
Отсюда г. Горький выводит мораль, что всякие новаторства – «несвоевременные мысли».
Интересно, когда это можно узнать, что именно своевременно, и когда, какую такую примету г. Горький будет видеть, чтобы пустить в ход новое.
Рабочие ему заявили, что им нужен не «кубизм» и не «линейное» цветовое искусство, а пейзаж, лужайки, синее небо, зеленый лес, нам нужна красота (что еще кому нравится), а мне заявили, что им нравится более таинственное, где бы человек смог отдаться мышлению и постижению, а все пейзажи, лужайки, леса, небо и солнце, тучи хороши в природе, а в картинах одно убожество мертвое.
Да и не дело рук человека подражать природе, ибо он давно вышел из обезьяньего возраста.
Да еще сказали, что этот «мир зеленый» нравится постольку, поскольку в человеке живет животное.
«Когда-то мы паслись травами, как скот, но теперь варим себе в кухне на разных посудах и с разными приспособлениями.
И мир весь в скором будущем перестроим в новый, где будет одна „верча“, и что все леса будут помещаться, как редкость, на „газонах“.
На огромной наковальне родим младенцев железных, и матери перестанут рожать».
Многое говорили, г. Горький, и говорили то, что трудно услыхать у мудрейших Шишкиных и Вербицких2.
Очевидно, московские рабочие немного думают иначе.
Ось кубизма, на чем основано построение формы, состоит из прямой, кривой и дуги. Конструкция на плоскости выражается из плоскости живописной, объема и линии, причем для начертательного контраста вводятся буквы и части вещей.
Свет рассматривается как светотень, изменение цвета зависит от времени, в котором находится форма и пространство.
Кубистическая конструкция состоит из характерных особенностей единиц вещи, необходимых для напряжения конструкционного движения или покоя.
Кубизм оперирует формами, но не натурой как таковой. Кубисту нужна картина, но не вещь. (Если бы кубисту пришлось воспользоваться позировкой рабочего с молотком, то в самой композиции могла появиться дуга, кривая, прямая и несколько объемов.)
В идее кубизма есть разрушительное стремление вещи, в которой лежат причина освобождения моего «я» от вещи и выход к непосредственному творчеству (см. газ<ету> «Анархия», № 72–79, раздел «Творчество»), и путем противоречащих форм и цветовой фактуры достичь особой напряженности живописного формового диссонанса.
Кубизм – реализм, установивший в своем построении новый порядок единиц, образовал крепкую, логическую, смысловую и целесообразную композицию, не считаясь с натурой как таковой.
Кубизм есть ясное и точное выраженное понятие, а потому обнаруживается подделка и выдает все непонимание автора идеи кубизма. Много поддельного скрывается под флагом академического искусства.
Но чтобы написать «кубистическое», необходимо быть богачом, обладать огромной чуткостью, быть способным мало, чего много в академическом <так!>.
И благодаря «способностям малым» образовался потоп, отчего зритель утерял чутье и способность различать истинное от поддельного, зачастую принимает «бесподобно написанный букет роз» или портрет «как живой» за чистую монету, а истину считает за мазню.
И то, что в кубизме до сих пор не видно наплыва кубистических талантов, говорит за то, что суть кубизма сложная, и для постижения нужно, кроме способности, перестроиться по-иному.
Что же касается супрематизма (направление цвета), то он по своему внешнему виду может вызвать наваждение «понимающих» и «сочувствующих».
На вид как будто просто, и это – простота слепцов, которые наощупь пишут плоскость, не зная ей места.
Однако, касаясь одной стороны супрематизма, грани, они вводят обывателя в заблуждение, у которого и без этого душа набита опилками, чувства – как стертые рогожи.
А сами знатоки, завсегдатаи выставки, через «монокль» видят только розы и хризантемы.
Вышедши из кубизма к супрематизму, я формулировал его в первой своей брошюре как «новый реализм цветописных плоскостей беспредметного творчества». «Беспредметное» я употребил как необходимое для наглядной характеристики.
Но так как в супрематическом строении выяснились положения, характерные супрематизму, и выдвинулась определенная основа его идеи, то беспредметное было изъято, так как под его флагом можно вводить любые комбинации цветового и скульптурного характера, <с чем> супрематизм ничего общего не имеет. В беспредметном каждый автор может по-своему строить, здесь формы могут быть расплывчатые, объемные, туманные пятна и упорные <так!>.
В супрематизме же лежит одна определенная основа, ненарушимая ось, на которой строятся все или одна плоскости.
Причем индивидуальность, желающая работать в супрематизме, должна подчиниться этой основе, развивая свое лишь в радиусе основы.
Сюда могут войти только те, у которых уклад и интуитивные движения совпадают, сходятся в самой основе.
Беспредметное дает развернуться каждому, как хочу: «я так хочу», «так красиво» и «мне нет дела до всего остального». «Я – анархист в своем существе» – последнее утверждение.
Я смотрю на все эти ответы иначе и свое «хочу» могу установить только на законно-логическом основании, на неизбежном пути общего развития мирового закона.
Я «хочу» ездить в таратайке, «хочу» открыть магазин деревянных велосипедов, а до всего остального мне дела нет. Конечно, всего можно хотеть и открыть, но это не будет иметь ничего общего с главной магистралью.
И анархист тоже с неба не свалился и шел к своему торжеству по тем неизбежным путям погибших авангардов, мысль которого, как ток телеграфа, миллионы раз пробегала по дорогам и народам, ища утверждения.
Я употребил большую и долгую работу, через посредство которой вытащил из мусора бывших строителей свое «я».
Я был в начале начал и, когда пришел к супрематической плоскости, образовавшей квадрат, выковал образ свой.
Я хочу указать, что не так все просто, что кажется простым. И что в искусстве, может быть, и было много дорог, но идея была одна, которая образовала одну магистраль, как главную основу на этой дороге, были искусственные битвы двух стремлений. Одно вело искусство к уродливому, другое к изысканному, утонченному.
Уродливое бежало от смерти-утонченности к грубому, к земле, на чем давало новые всходы.
В самом «я» кроются законы, в которые вложен смысл, логика, и что оно в вечном перевоплощении идет по пути совершенства в эволюционном порядке.
И утверждение своего «я» возможно только там и тому, кто достиг конца истока предыдущей инициативы, став перед бездной, бросить свою грань как новую ступень.
И как только обрисовалась форма новой инициативы, она будит других к ее умножению или развитию по радиусу основы, так образуется коллектив вокруг основы инициатора главной магистрали.
Каждая индивидуальность коллектива сохраняет личное.
В данное время, когда мною была сделана основа супрематического движения и когда по радиусу ее образовался ряд индивидуумов, мне бы хотелось отодвинуть поток идущего со стороны беспредметного в сторону супрематической основы, очистить ту путаницу в критике, для которой все беспредметное является супрематическим.
Но здесь придется встретить трудность, ибо со стороны беспредметного выходит ребро плоскости, которое может внести путаницу в понятие зрителя, что и было на выставке профессионального союза художников-живописцев в левой федерации, где трактовка отдельных плоскостей и самая грань плоскости совпадают с супрематическим. Но в своей сути ничего общего не имеет.
В супрематизме лежит законная основа конструкции плоскостей:
1) Свободных от взаимоотношений как цвета, так и формы; цветовые композиции неприемлемы.
2) Конструируются плоскости, или одна плоскость в покое, во времени и пространстве.
3) Конструируются плоскости в таком законе, где бы их бесконечному впечатлению движения не угрожала катастрофа.
4) Фактура имеет самое тщательное отношение, как крепость тела живой плоскости.
5) Вес и тяжесть идут к атрофии.
6, 7, 8, 9, 10-е положения еще лежат в моей лаборатории цвета, которые вынесут цвет за пределы образующегося супрематического радиуса.
Все строение супрематизма представляет собой напряженную плоскость, строющую их установку, где в каждой плоскости виден смысловой ход, большая обеспеченность и сохранение знака.
То же, что выставлено на выставке под беспредметным, в отчетах отмеченных как супрематическое, не соответствует правде, кроме Розановой.
Я думаю, что авторы будут согласны со мною, если укажу на разность.
1) Г. Веснин строит плоскости несупрематично, ибо конструкция катастрофична, один-два момента делят от катастрофы, движения в них нет, есть падение.
2) Плоскость бессознательна, брошенная на произвол судьбы, но судьба ее видна и падение может быть определено, т. е. высота точки срыва. Причем чересчур материальна, несмотря на то, что беспредметна.
3) Падение играет главную роль, нежели упругое, динамически покойное движение супрематической плоскости.
4) Не рассчитана сила веса и масштаба, отчего самая плоскость перегружена, отсюда уклон катастрофы.
5) Цветовой раздел переходит за двухмерный закон и основан на живописном темпераменте, самый раздел имеет неукоснительную связь с фоном, но не пространством.
Неопределенность положения в чистой весомости двух соприкасающихся в разделе живописных окрасок.
6) Не достигнуто самое существенное в беспредметном лишении живописной формы материальности, несмотря на то, что все изображения беспредметной плоскости остаются вещевыми, материальными, тогда как в супрематическом направлении цвета все идет к его чистому истоку – нематериальному. Из цвета изъяты вес и материя (вещевая ясность).
Это – первая группа беспредметных конструкций.
Вторая группа основана на более чистых цветовых отношениях в смысле создания тела фактуры. Но сама композиция форм идет за счет первой плоскости на форме и цвете первой, третья на первой и второй, чем связывают себя и теряют цельность идеи каждой.
Это – форма, цвет же раздроблен боем лучей каждой индивидуальной формы, затемняет, ибо кажущееся достижение цветового гармонического или дисгармонического напряжения остается в действительно разжиженном состоянии.
Отношение к пространству не выражено (но, может быть, это входит в основу данного момента и взгляда на беспредметность).
Вызванная разбеленность в первой группе плоскостей мало осознана, и скорей всего, как я сказал, основа – на живописном порыве. В этом моменте супрематическая плоскость соприкасается тоже разбеленностью (выставка Бубнового Валета, октябрь, 1917 г.)3, но вызвана чисто психологически и технически материальным внедрением (рубка) в пространство, что связано с моим личным, может быть, философским размышлением, побуждаемым к этому моим «я», причем самый разбел имеет острие плоское, а не выпуклое.
То, что автор не оперирует с пространством, доказывает цветистость фона.
Г-жа Попова тоже строит композицию случайно; установив наспех, не дождавшись в себе положительного решения, дает впечатление, что композиция совершена случайно; автор сначала искал композицию одной плоскости, установив ее, компоновал другую, получилось несколько композиций, соединенных в одну, но в действительности композиции не соединились (это не достигнуто). Сам автор, разъединившись, не смог в себе соединить общее, прежде чем установить цвет, он установил форму, хотя форма, может быть, мелькнула в цвете.
Но при появлении второй формы композиция цвета и формы усложняется сильно именно в углах, угловых гранях, выходящих концами на белый, где, пересекаясь с первой плоскостью, остается отрезанным куском на белом, чем усложняет композиции, и в этом моменте начинается растерянность автора и забывчивость о цельном соединении формы и цвета.
Ее беспредметные плоскости совпадают с супрематическими, но только как таковые. По композиции и цветовому – не совпадают.
Г-жа Удальцова, к которой ближе стоит г. Веснин, немного спасает свое положение сжатостью форм, но сильно выражена зависимость цветовых «сочетаний», отчего масштаб последующей плоскости диктуется первой, второй ит. д., что влечет к бесконечному нагромождению, а последнее приводит к вещевому, материальному и катастрофическому.
Фактура колеблется, видна лихорадочная поспешность, неумение владеть темпераментом, не следует его теплотой нагревать небо.
Анархия, № 89
Декларация прав художника*
1) Жизнь и смерть принадлежат ему как неотъемлемая собственность, никто и никакие законы, даже в то время, когда угрожает смерть государству, отечеству, национальности, не должны иметь насилия над жизнью, а также управлять им без особого его на то соглашения.
2) Неприкосновенность моего жилища и мастерской.
1) Живя в капиталистическом государстве, в силу этого произведения свои должен обменивать на государственные денежные знаки. Рассматривать свои произведения как некоторую ценность, которая колеблется в своей оценке, и потому проданное произведение должно считаться ценной акцией, которая приносит доход.
Вкладывая произведения в частные собрания, я вкладываю акцию его ценности и, в случае принесения им доходов при продаже, пользуюсь условными процентами.
Для чего: а/ никакие сделки как государством, так и частными лицами не должны совершаться без ведома автора, в противном случае преследуются законом государства;
б/ продажа должна совершаться установленными правилами капиталистического государства, как всякая движимая и недвижимая вещь.
2) Государство является его первым покупателем, приобретая произведения в народные галереи и музеи, оставшиеся же вещи он волен продать туда, куда будет ему угодно, для чего государство должно знать обо всем выходящем из его мастерской или выставки; о своем произведении художник должен заявить в особый комитет по регистрации произведений. Государство должно взять на себя всю эксплуатацию изданий, распространяя самым живым образом, предупреждая всевозможные хищнические операции.
3) Государство обязуется немедленно приступить к организации по всем губернским, уездным и большим местечкам музеев, представив в возможно большем количестве знаков движения искусств по всем существующим направлениям к каждой отдельной личности. Для чего устраиваемые выставки, как обществами, так и отдельными лицами, должны посещаться государственными комиссиями.
4) В капиталистическом государстве я не пользуюсь ни даровыми мастерскими, ни жилищем, а также устройством выставок, если последние не входят в дело просвещения государства.
Анархия, № 92
III. Петроград – Москва. Произведения 1918–1919 годов
Обращение к актерам*
Товарищи актеры! Вы обязаны великий праздник революции ознаменовать революционным спектаклем. Вами должна быть разыграна «Мистерия-Буфф», героическое, эпическое и сатирическое изображение нашей эпохи, сделанное Вл. Маяковским. Приходите все в воскресенье 13 октября в концертный зал Тенишевского училища (Моховая, 33). Автор прочтет «Мистерию», режиссер изложит план постановки, художник покажет эскизы, а те из вас, кто загорятся этой работой, будут исполнителями. Центральное бюро по устройству октябрьских торжеств предоставляет все необходимые средства для осуществления «Мистерии». Все к работе! Время дорого! Просят являться только товарищей, желающих принять участие в постановке. Число мест ограничено.
В. Э. Мейерхольд, В. В. Маяковский, П. М. Лебедев, К. С. Малевич, Л. И. Жевержеев, О. М. Брик
Вестник общественно-политической жизни, искусства, театра и литературы, 1918, № 21
Извещение главного мастера свободных госуд<арственных> художественных мастерских*
Приглашаю товарищей текстильщиков работать в моей мастерской по изучению Нового Искусства – творчества СУПРЕМАТИЗМА.
Товарищей металлистов – КУБИЗМУ – ФУТУРИЗМУ: изучение новой симметрии композиции и света.
Желающие работать должны записаться в канцелярии уполномоченного Государственных Мастерских от 10 до 4 часов дня.
Занятия происходят целый день и вечером.
Искусство, 1919, № 1
Нерукотворные памятники*
На Российской площади установлено множество памятников выдающихся строителей и исполнителей в жизни новой ее формы.
Вообще в заданиях инициаторов постройки памятников была одна задача или цель увековечить портреты, агитируя через их лица то, что хотелось каждому провести в жизнь.
Поэтому памятники представляют из себя системы совершенных марок, рекомендуемых жизни.
На самом деле, изображение в памятнике человека не есть изображение того портрета, как принято понимать, а есть представление системы и плана выраженной в себе изображаемой индивидуальности.
Через долгий путь индивидуума, вместе с изображением какой-либо системы и плана, лицо его и фигура изменяют свое состояние и выражение. Лицо безустанно перерабатывается, и его переработка, видоизменение зависит от силы напряженности культуры той системы плана и мысли, над которой занят организм, и чтобы выразить ту или иную систему, прежде всего я заостряю или округляю себя как орудие, которым должен проникнуть или создать задуманную систему.
И прежде задуманности я сначала складываю в себе, в моей внутренней лаборатории мозга, необходимые элементы для сложения задуманности.
Все поставленные памятники есть системы, которые признаны лучшими нашей современности.
Современность потребовала извлечь из погребов их остовы наружу, а слова их вынуть из книг и превратить в огненные угли новой жизни.
Современность призвала мастеров, дала им системы и сказала исполнить по плану ее здание.
Были призваны скульпторы для того, чтобы построить пьедесталы и на их плечах установить задание – человека, фигуру, лицо, превратившееся теперь в современную живую жизнь.
С этой точки зрения должен подходить скульптор.
Такой подход смог бы поставить очень сериозный вопрос и заставить обратить внимание на всесторонний обхват того, что нужно изобразить.
Изобразить памятник не фотографическая задача. Нельзя рассматривать только с одной стороны в упор изображаемое, так сможет сделать фотографический аппарат.
Наши памятники или система, которая должна превратиться в памятник как образец, была рассмотрена художниками-скульпторами, с одной стороны, через дырку фотографического аппарата, с другой – через свой внутренний абажур построения.
Поэтому получилось то, что памятники наполовину реальны, наполовину вымазанные помадой своей ненужной внутренней парикмахерской.
На Миусской площади в Москве стоит бюст тов. Халтурина (казненного царским правительством)1. Нельзя позавидовать ему. Здесь скульптор чересчур использовал свое внутреннее дарование.
Тов. Халтурин изображен на кусочке пьедестала совсем несоответствующем размерам бюста. Сам бюст представлен допотопными величинами.
Засученные рукава и выражение лица наводят ужас на окружающих.
Вся накипь «внутреннего» уже чересчур и без меры вылилась в изображение и вместо желания сделать великим умалило его.
Памятник – серьезная вещь.
Нельзя искажать созданную систему до неузнаваемости. Сделать суровые складки на лбу, изобразить руки и кулаки до пять пудов – простая забава, и этой «нерукотворной» забавой заставлены все площади в Москве и Петрограде.
В Петрограде на Дворцовой площади был поставлен памятник Радищеву, исполненный по всем правилам «Барокко»2.
Мне приходилось слышать ответы скульпторов, когда их критикуют: «Эх, все это можно сделать, да знаете, нет мастерской хорошей, нет материала, нет пайка, мало средств…»
Но когда смотришь на памятники, то получаешь обратное, что все есть, но только нет таланта, мастерства, никакого понятия об объеме, масштабе, весе, а композиция осталась за границей.
Почему Вы так сделали памятник? – «Да я так понял».
И вот это «понял» многих положила на обе лопатки бездарности <так!>.
Что бы получилось, если бы план дома или систему архитектуры каждый каменщик понял бы по-своему? Хорош был бы дом!..
Хотя бы при наличии сегодняшних «греко-архитекторов» (4 века), может быть, таким путем удалось бы выйти на более современную дорогу.
Но в скульптуре эта проба не годится.
Это уже ясно…
Перед скульптором стоит система, которую нужно превратить в памятник. Перед каменщиком лежат планы, которые нужно превратить в дома. Всякое внутреннее, всякое индивидуальное и «я понял» не имеют места.
Если нет мастерства, если сам не заострен в зубило, если лоб твой не может быть молотом, если грудь твоя не может быть наковальней, если руки твои не могут быть фонарями – не берись за памятники, ибо будут они – «нерукотворны».
Искусство коммуны, 1919, № 10
О музее*
Центр политической жизни перешел в Россию.
Здесь образовалась грудь, о которую разбивается вся мощь государств старых оснований.
Отсюда идет и светит новое познание существа во все стороны мира и сюда, к центру, со всех щелей представители старой культуры несут свои обглоданные зубы, чтобы отгрызть себе кусок подола нового пальто.
Такой же центр должен образоваться и по искусству, творчеству.
Здесь вращательная творческая ось и бег, здесь должна возникнуть новая культура современности и нет места подаче старой.
Сюда, на новый полюс жизни-трепета, должны стекаться все новаторы, чтобы участвовать в мировом творчестве.
Новаторы современности должны создать новую эпоху. Такую, чтобы ни одним ребром не прилегала к старой.
Резкой гранью в отличие от прошлого мы должны признать в нашей эпохе «недолговременность», мгновенье творческого бега, быстрый сдвиг в формах, нет застоя – бурный рост.
А потому в нашей эпохе не существует ценности и ничто не создается на фундаментах вековой крепости.
Чем крепче обруч, тем безвыходнее положение нашей воли, которая вместе с временем стремится разрушить то, что оковал на многие годы разум.
Мы до сих пор не можем победить Египетских Пирамид. Багаж древности в каждом торчит, как заноза старой мудрости, и забота о его целости – трата времени и смешна тому, кто в вихре ветров плывет за облаками в синем абажуре неба.
Наша мудрость спешит и рвется в неизведанные бездны пространства, ища себе ночлега в ее пучинах.
Упругое тело пропеллера с трудом вырывается из объятий старой Земли, а тяжесть багажа наших бабушек и дедов отягощает плечи его крыльев.
Нужен ли Рубенс или пирамида Хеопса, нужна ли блудливая Венера Пилоту в выси нашего нового познания?
Нужны ли старые слепки глиняных городов, подпертых костылями греческих колонок?
Нужна ли утверждающая подпись руки умершей старухи, Греко-Римской архитектуры, для того, чтобы современные металлы и бетоны превратить в приземистые богадельни?
Нужны ли храмы во имя Христа, когда жизнь давно уже ушла из-под гула сводов и копоти свечной и церковный купол ничтожен в сравнении с любым депо миллионов железобетонных балок?
Нужна ли мудрость нашей современности тому, кто пробьет синий абажур и сорвется навсегда в вечно новом пути?
Нужен ли колпак Римского Папы двенадцатиколесному паровозу, который мчится по шару земному молнией, желая взлететь с его спины?
Нужен ли гардероб позументов древностей костюмов, когда новые портные шьют из металла одежду современности?
Нужны ли сальные лучины прошлого, когда на голове ношу лампы электричества и телескопы?
Ничего не нужно современности, кроме того, что ей принадлежит, а ей принадлежит только то, что вырастет на ее плечах.
И великое и мудрое Искусство, изображавшее эпизоды и лица мудрейших, ныне лежит, погребенное современностью.
Современности нашей нужна только живая жизненная энергия, ей нужны летающие железные балки, да семафоры цветные в новом пути.
На этих основах необходимо строить творчество, сжигая за собою свой путь.
Довольно ползать по коридорам отжившего времени, довольно расточать время на перепись его имущества, довольно устраивать ломбарды ваганьковых кладбищ, довольно петь панихиды – все это не восстанет больше.
Жизнь знает, что делает, и если она стремится разрушить, то не нужно мешать, так как в помехе мы преграждаем путь новому представлению в себе зарожденной жизни.
Современность изобрела крематорий для мертвых, а каждый мертвый живее слабого написанного портрета.
Сжегши мертвеца, получаем 1 г. порошку, следовательно, на одной аптечной полке может поместиться тысячи кладбищ.
Мы можем сделать уступку консерваторам, предоставить сжечь все эпохи как мертвое и устроить одну аптеку.
Цель будет одна, даже если будут рассматривать порошок Рубенса, всего его искусства – в человеке возникнет масса представлений, может быть, живейших, нежели действительное изображение (а места понадобиться меньше).
И наша современность должна иметь лозунг: «все, что сделано нами, сделано для крематория».
Устройство Современного Музея есть собрание проектов современности, и только те проекты, которые смогут быть применены к остову жизни или в которых возникнет остов новых форм ее, – могут быть хранимы для времени.
Если в глухую деревню мы привезем тракторы или автомобили и привезем соответствующие школы, то вряд ли окажется необходимым рядом устройство тележной учебы.
Если мы современной техникой в деревне в недельный срок сможем поставить и оборудовать трехэтажный дом, то вряд ли придется пользоваться старой формой стройки.
И деревня скорее пойдет за готовыми домами, нежели в лес рубить дом.
Следовательно, необходимо живое осязать неразрывно с жизнью и музеем такового искусства.
Есть живая форма жизни, которая, изнашиваясь, перевоплощается в другую или заменяется живой ее износившаяся часть.
Не смогли мы сохранить старую стройку Москвы под стеклянны<м> колпак<ом>, зарисовали рисуночки, а жизнь не пожелала и строит все новые и новые небоскребы и будет строить до тех пор, пока крыша не соединится с луною.
Что же тогда представит собою избенка Годунова или палаты Марфы?
Скорее можно пожалеть о сорвавшейся гайке, нежели о разрушившемся Василии Блаженном.
Стоит ли заботиться о мертвом.
В нашей современности есть живые и есть консерваторы. Два противоположных полюса, хотя в природе полюсы держатся друг друга, но нам это не указ.
Живые должны эту дружбу расторгнуть и делать так, как нужно нашей творящей жизни, и так же быть беспощадным, как время и сама жизнь.
Жизнь вырвала из рук музееведов современность и то, что они не консервировали. Мы можем собрать как живое и непосредственно соединить с жизнью и не дать законсервировать.
На что нам мануфактура Барановых, когда у нас есть Текстиль, поглотивший, как крематорий, все заслуги и достоинства старых мануфактур.
И не знаю, будет ли плакаться поколение по старой мануфактуре.
Путь изобразительного отдела лежит через объем и цвет, через материальное и нематериальное, и оба соединения образуют жизнь формы.
На улице и в доме, в себе и на себе – отсюда живое и в этом наш живой музей.
Думаю, что устраивать саркофаги ценностей, устраивать Мекки для поклонения не нужно.
Нужно творчество и фабрика изготовления частей, чтобы разносить по миру, как рельсы.
Всякое собирание старья приносит вред. Я уверен, что если бы был своевременно уничтожен русский стиль, то вместо выстроенной богадельни Казанского вокзала возникла бы действительно современная постройка.
Консерваторы заботятся о старом и не прочь, чтобы какой-либо лоскут приспособить к современности, иначе говоря, спину современности к чужому.
И мы не должны допустить, чтобы наши спины были платформами старого времени.
Наше дело двигать к новому и новому. Нам не жить в музеях. Наш путь лежит в пространстве, но не в чемодане изжитого.
И если мы не будем иметь собраний, тем легче уйти с вихрем жизни.
Не наше дело фотографировать следы, на то есть фотографы.
Вместо того, чтобы собирать всякое старье, необходимо образовать лаборатории мирового творческого строительного аппарата, и из его осей выйдут художники живых форм, а не мертвых изображений предметности.
Пусть консерваторы едут с мертвым багажом в провинции с блудливыми амурами прошлых развратных домов Рубенсов и Греков.
А мы повезем двутавровые балки, электричество и огни цветов.
Искусство коммуны, 1919, № 13
Наши задачи*
1. Война академизму.
2. Директория новаторов.
3. Создание мирового коллектива по делам искусств.
4. Учреждение посольств искусств в странах.
5. Создание статических музеев современного искусства по всей стране.
6. Создание магистрали по всей Российской Республике движения живых выставок искусства творческого.
7. Основание Музея Центрального современного творчества в Москве.
8. Назначение комиссаров по делам искусства в губернских городах России.
9. Агитация среди народов о жизни творчеств в России.
10. Издание газеты по вопросам искусства для широких масс.
Изобразительное искусство, 1919, № 1
Ось цвета и объема*
Приступая к организации и реорганизации общей художественной строительной машины в Государстве, было обращено внимание на создание сети музеев как центров пропаганды и просвещения широких народных масс.
До сих пор старое музееведение, хотя и было «научно-художественное», но в реальной жизни далеко не осуществило и не оправдало присвоенного себе звания. Отношение с их стороны было самое губительное в искусстве, так же как и в жизни творцов.
Ограниченность, бессознательность, трусость мешали им широко взглянуть и охватить весь горизонт бега и роста перевоплощений искусства.
Как строй царских приставов, так и возглавленные в художественные научные музееведы люди относились одинаково к идущей идее творческого искусства, так же освистывались утонченной интеллигенцией, общественным мнением, которое во главе с утонченной прессой гикало на все творческое, новаторское.
Творчество новаторов было загнано условиями, созданными этими утонченными знатоками, в холодные чердаки, в убогие мастерские и там <новаторы> ждали участи, положась на судьбу.
И если через наибольшие усилия удавалось выходить на улицу с революционными произведениями, то встречали с бранью, руганью, гиком и насмешками.
Только старое прекрасно, кричали со всех сторон в одном лагере, только царь прекрасен, кричали в другом. Гнать дерзкое новаторство из предела наших утонченных лиц, гнать их из художественных училищ и т. д.
Так характеризовали те все и «научно-художественные» музееведы, которые до сих пор в революционных учреждениях свивают себе гнезда, упорно выставляя старое за прекрасный алтарь истины, которому молодежь должна кланяться и верить.
«Там, у подножья пирамид Египта, в тиши, среди вековых песков должна молодежь слушать шепот старых Рамзесов» – таков их лозунг.
Научно-художественное музееведение доказало свою бездарность во всех отношениях; идя рука в руку с «державными» стран, не смогли вовремя собрать остатки изъеденных временем памятников прошлого, и только случай давал им в руки ту или иную работу старого.
Все созданные старые музеи строились на случае, а возникновение новых – на случайном любителе, который ограбил, за гроши выкупал у голодного художника произведения и составил себе имя.
Разве образование Третьяковской галереи не есть случай?1 Разве галерея С. И. Щукина не есть второй случай, который выразился в любителе собирания новых замыслов новаторов?2
Но где же научные художественные музееведы, где их научность, где их художественность, где их понимание, или они в силу научности и понятия не нашли в новаторах художественности или ценности явления?
Так почему же ими ныне признан Врубель, Мусатов, Сезанн, Гоген, Ван Гог и даже начинает приобретать популярность Пикассо?
Они установили время как барометр понимания. Когда произведение проваляется в уродливых, бездарных мозгах общественного мнения солидное количество лет, такое несъеденное произведение, но засаленное слюной общества принимается в музей. Оно признано.
Это участь новаторов.
Но есть еще другие новаторы, которые признаются ими сразу. Это то, что на поверхности своей имеет три четверти образа старого. Это, говорят, Культура, «логика», гений. Его мы принимаем в лоно своей культуры, а всех остальных, безобразных, гнать из «чисто выметенных храмов». Так кричит интеллигенция во главе с утонченными вождями Бенуа и Д. Мережковским с бесчисленными сподвижниками политики3. Кричали о гонении «грядущих хамов» в искусстве4.
Им было жутко и страшно видеть стопу «ХАМА», идущего и ломающего сладко-пряные завитушки Людовиков, разных румяных помпадуров и блудливых Венер с бесчисленными амурчиками.
Так было и до сих пор, еще с экрана современности нельзя очистить весь похотливо-развратный хлам.
И еще сейчас, когда нужно живой, мощной рукой сорвать маску мертвечины, встречается масса заслонов «культурных», утонченных лбов, которые мешают проникнуть в гущу изрыхленных борозд революцией и вытащить занозы прошлого.
Гром октябрьских пушек помог встать новаторам и разжать старые клещи, и восстанавливать новый экран современного.
Перед нами стоит задача выровнять гроб уродливого отношения старого к новому, разбить до конца авторитетные лики, нарушить их опору ног, разогнать всех старьевщиков, чтобы не мешали нашей «дерзости» поставить на пьедестал ковку нового нашего образа как знамя живого трепета.
Мы предсказали в своих выступлениях свержение всего академического хлама и плюнули на алтарь его святыни.
То же было сделано и другими авангардами революционных наших товарищей в жизни.
Мы пришли, чтобы очистить личность от академической утвари, выжечь в мозгу плесень прошлого и восстановить время, пространство, темп и ритм, движение, основы нашего сегодняшнего дня.
Мы, среди клокочущих бездн, на крыльях времени, на гребне и дне океанов построим упругие формы, которые разрежут утонченный будуарный запах парфюмерной культуры, всклокочут прически и обожгут лики мертвых масок улиц.
Но, чтобы осуществить факты наших революционных поступей, необходимо создание революционного коллектива по проведению новых реформ в искусстве страны.
При такой организации является чистая кристаллизация идеи и полная очистка старых площадей от всякого мусора прошлого.
В Художественной Коллегии по делам искусства и промышленности обсуждался вопрос о создании музея современного искусства, потом о создании музея живописной культуры по преимуществу.
Это огромная уступка, огромный шаг назад, огромное соглашение со вчерашним.
Уступка тем, кто еще мечтает навьючить всевозможных призраков прошлого на плечи современности.
У кого еще страшно болит сердце доброе и льются слезы и кто хочет показать вчерашнему, что и мы можем найти сокровенное вчерашнего, но только с другой стороны и осветить его не белым, а красным огнем.
Таково большинство, и меньшинству приходится или соглашаться, или всегда оставаться при особом мнении, до времени, видя в соглашении часть завоевания своего будущего зерна.
Сейчас происходит закладка музея по преимуществу живописной культуры. Под этим знаменем будет собрано все, что будет иметь наибольшую часть живописного. Следовательно, сюда попадут все направления школы.
Предусматривая это неизбежное, я предложил, чтобы в музей чистой живописной культуры поступили определенные течения Нового Искусства <и> куда если бы и поступило что-либо из прошлого, то в незначительном количестве.
Но и это оказалось невозможным. Товарищи оказались мягкосердечными и приняли в свое лоно старейшин.
Все комбинации и лавирование происходят потому, что коллегия состоит хотя из левых художников, но разной левизны.
Мне бы казалось, что музей должен основываться даже и не на живописной культуре, а вообще из тех форм, что способствуют будированию мертвых к большей напряженности к жизни, к творчеству.
Музей мне представляется местом, где стоит в целом собрании человек, где бы каждый мог видеть видоизменение, рост и развитие целого организма, не рассматривать каждую деталь общего в отдельных складах. Причем составить образ человека только современной формы его последнего видоизменения и не натаскивать на его плечи плащи и тоги прошлого.
Нужно поступить со старым – больше чем навсегда похоронить его на кладбище, необходимо счистить их сходство с лица своего.
Стоя на этой точке зрения и видя ее сложность, – пришлось далеко уступить и принять мнение большинства, выразившееся в специфически специальном профессиональном смысле.
Но все-таки в новой организации музея лежат основы, которыми не пользовалось научно-художественное музееведение. Здесь нет места ни времени, ни истории, ни эстетическим переживаниям, ни реальной трактовке.
Здесь культ живописи руководит созданием музея.
Этот музей должен быть центральной главой развития всей музейной сети по площади Рос<сийской> Сов<етской> Фед<еративной> Республики. Он же распределяет все работы художественных сил страны во все отдаленные центры.
Таким образом живое дело творческих образцов проникнет в страну и даст толчок к преобразованию форм в жизни и художественных изображений в промышленности.
Принимая во внимание, что музей будет состоять из самых разнообразных форм изображений, – следовательно, вопрос о развеске будет иметь чрезвычайно важное значение, ибо развеска играет большую роль в конструкции и ее концепции, и, чтобы выявить настоящее ее лицо, необходимо изменить старый принцип распределения произведений по школам, течениям, по времени и событиям.
Поэтому полагаю, что стены музея есть плоскости, на которых должны разместиться произведения в таком порядке, как размещается композиция форм на живописной плоскости, т. е. если на живописной плоскости возникают ряды однообразных форм, то само произведение ослабляется в напряженности, и наоборот.
Если развесить ряд однообразных работ на плоскости, то мы получим орнаментальную линию, что аннулирует силу, которая смогла бы выявить<ся> среди разнообразных сопоставлений.
Поэтому самым выгодным является развеска в порядке: икона, Кубизм, Супрематизм, классики, футуризм – живописное восприятие.
Что же касается скульптуры, то в собрании скульптуры пластической – нужно руководиться тоже по преимуществу <той>, где <есть> форма, которая является и как таковая довлеет над актом. Но в этом случае я бы стоял за создание чистого объема форм как таковых, где стройка, конструкция базируется на чистой форме, возникшей из нереальной концепции вида.
Обобщаю вид музея:
реальное живой оси живописного цвета в современном музее – Кубизм, Футуризм, Симультанизм5, Супрематизм, беспредметное творчество.
Скульптурный объем как чистая форма, объемные рельефы, кубизм, футуристический динамизм объема.
Изобразительное искусство, 1919, № 1
О поэзии*
1) Поэзия, нечто строющееся на ритме и темпе, или же темп и ритм побуждают поэта к композиции форм реального вида.
2) Поэзия – выраженная форма, полученная от видимых форм природы, их лучей – побудителей нашей творческой силы, подчиненная ритму и темпу.
Иногда поэт реальную форму мира облекает в ритм и темп, а иногда побуждает поэта буря восставшего в нем ритма чистого, голого к созданию стихотворений без форм природы.
В первом поэт перебирает кладовую-природу вещей, беря подходящее по форме и по содержанию в себе ритма и строит строку в неустанно текущем ритме и темпе.
Законченное стихотворение зависит или от определенной высказанной мысли, или угасания в себе ритма. Последнее наивернейшее состояние и отношение. В первом случае мысль, во втором напряжение.
Есть поэзия, где поэт описывает клочок природы, подгоняя его под загоревшийся в нем ритм, есть поэзия, где ритм идет в угоду формы вещей. Есть поэзия, где ради ритма уничтожает поэт предметы, оставляя разорванные клочки неожиданных сопоставлений форм.
Есть поэзия, где остается чистый ритм и темп как движение и время; здесь ритм и темп опираются на буквы как знаки, заключающие в себе тот или иной звук. Но бывает, что буква не может воплотить в себе звуковое напряжение и должна распылиться. Но знак, буква зависит от ритма и темпа. Ритм и темп создают и берут те звуки, которые рождаются ими и творят новый образ из ничего.
В других случаях, например, в описании вечера, сенокоса, – здесь природа очаровала поэта, и он хочет оправить ее в ритм, сделать ее поэтической, передать ее поэзию уже в иной форме, сами вещи являются довлеющими, а ритм как орудие обработки. Здесь под ритм и темп подгоняются вещи, предметы, их особенности, характер, качество и т. д.
То же в живописи и музыке.
В художнике загораются краски цвета, мозг его горит, в нем воспламенились лучи идущих в цвете природы, они загорелись в соприкосновении с внутренним аппаратом.
И поднялось во весь рост его творческое, с целой лавиной цветов, чтобы выйти обратно в мир реальный и создать новую форму. Но получается совершенно неожиданный случай. Разум, как холодильный колпак, превращает пар опять в капли воды, и бурный пар, образовавший нечто другое, чем был, превратился в воду.
Тоже лавина бесформенных, цветовых масс находит опять те формы, откуда пришли ее побудители. Кисть художника замалевывает те же леса, небо, крыши, юбки и т. д.
Тоже художник объема, скульптор – форма его главный побудитель, вызывающий в нем силу нового, особенного строения и как таковая иногда заставляет отдалять свой побудительный прообраз.
Но и здесь объемовед вырубает те же формы, рубит старое, не может никак съехать в сторону от Венеры.
Буря форм, их новая конструкция, новое тело под колпаком сводится к Венере Милосской, к Аполлону. А то настоящее, творческое, новое, лежит в отрубленных кусках под ногами Венер и фавнов. В отбитых кусках мрамора, глины, дерева отрубилось то сокровенное, что лежит в пустых формах виденных скульптур.
Жизнь не создала для поэта слова, специально для его поэтического творчества, и он сам не позаботился об этом.
Предметы родили слова или слово родило предмет, а утилитарный разум приспособил их к своему обиходу, он был большим работником и, пожалуй, главным в создании себе знаков для своего удобства.
Поэт пользуется всеми словами и в свою очередь хочет их приспособить к своему переживанию, к нечто такому, что, может быть, ничего не имеет ни с какой вещью и словом, если я скажу «плачу» – разве можно исчерпать в слове «плачу» – все. Если я скажу «тоскую» – тоже. Все слова есть только отличительные знаки, и только. Но если слышу стон – я в нем не вижу и не слышу никакой определенной формы. Я принимаю боль, у которой свой язык – стон, и в стоне не слышу слова. Я целиком слышу, что чувствует, что терпит, нежели напишу «стонет». И сам стонущий больше облегчает себя в стоне, нежели говорит, что болит. Ибо «болит» есть добавочное, пояснительное о стоне, о его причине.
Поэт даже не поступает так, как живописец и скульптор. Он не возвращает полученное от форм природы – природе. Ибо природа получила одежду разумом, он ее одел для отличия, все тончайшие ее отростки, в обувь, платье, качество и т. д.
И поэт говорит лишь через одежду об одежде, о тех отличительных знаках, которые нужны разуму, его гастрономии, его ломбарду.
Для поэта не всегда солнце бывает солнцем, луна – луною, звезды – звездами. Поэт может перемешать все названия по-своему. Ведь может сказать, что потухло солнце.
Но с точки разума оно вовсе не потухло, а зашло.
Пользуясь совсем неподходящими средствами – в поэте тоска и почти на редкость бывают стихотворения, где бы поэт не плакал, не тосковал о невозможности передать то, что хотел сказать о природе, ибо хотел говорить о природе, а говорит в стихотворении об одежде, о слове. А она хотя и сшита хорошо, но все же не то тело, о котором хотелось говорить.
Еще впуталась «она», «любовь», «Венера» – с ней поэт совсем закис, застонал и ищет спасения в смерти.
Поэту присущи ритм и темп и для него нет грамматики, нет слов, ибо поэту говорят, что мысль изречения – есть ложь, но я бы сказал, что мысли еще присущи слова, а есть еще нечто, что потоньше мысли и легче и гибче. Вот это изречь уже не только что ложно, но даже совсем передать словами нельзя.
Это «нечто» каждый поэт и цветописец-музыкант чувствует и стремится выразить, но когда соберется выражать, то из этого тонкого, легкого, гибкого – получается «она», «любовь», «Венера», «Аполлон», «Наяды» и т. д. Не пух, а уже тяжеловесный матрац со всеми его особенностями.
Ритм поэты чувствуют, но силу его, силу своего настоящего употребляют как спаивающее средство. Себя обкладывают предметами, подчищая их, подтачивая или просто подбирая друг к другу, и спаивают, связывают ритмом.
Самое подбирание и составление форм в темпе и ритме есть характерность, отделяющая поэта от поэта.
Сходство их в пользовании одними и теми же вещами и песни о «ней» в постановке есть мастерство. Пушкин достиг большого мастерства, может быть, и многие другие достигали и достигают молодые поэты.
Но мастерство как таковое – грубое, ремесленное даже в том случае, когда говорят о художественности и еще вплетают «красота», а если хотят еще тоньше выразить, говорят «одна поэзия».
Поэт есть особа, которая не знает себе подобной, не знает мастерства или не знает, как повернется его Бог. Он сам внутри себя, какая буря возникает и исчезает, какого ритма и темпа она будет. Разве может в минуты, когда великий пожар возникает в нем, думать о шлифовании, оттачивании и описании.
Он сам как форма есть средство, его рот, его горло – средство, через которое будет говорить Дьявол или Бог. Т. е. он, поэт, которого никогда нельзя видеть, ибо он, поэт, закован формой, тем видом, что мы называем человеком.
Человек-форма такой же знак, как нота, буква, и только. Он ударяет внутри себя, и каждый удар летит в мир.
Поэт слушает только свои удары и новыми словообразованиями говорит миру, эти слова никогда не понять разуму, ибо они не его, это слова поэзии поэта.
И когда разум выявил их в понятие, они реальны и служат единицею мира. Будучи непонятым, но действительно реальным.
Мысль исчезла; как неуклюжее, громоздкое стихотворение лежит неподвижным камнем векового образования.
Стихотворения всех поэтов представляют, как комок собранных всевозможных вещей, маленькие и большие ломбарды, где хорошо свернутые жилеты, подушки, ковры, брелоки, кольца и шелк, и юбки, и кареты уложены в ряды ящиков по известному порядку, закону и основе.
Строка очень странная, наивная, может, наивность и велика, но мне она тоже наивна и собою напоминает нечто примитивное.
Способ, которым передавал поэт свое, очень забавный.
Если рассмотреть строку, то она нафарширована, как колбаса, всевозможными формами, чуждыми друг другу и незнающими своего соседа.
Может быть в строке лошадь, ящик, луна, буфет, табурет, мороз, церковь, окорок, звон, проститутка, цветок, хризантема. Если иллюстрировать одну строку наглядно, получим самый нелепый ряд форм.
Ими поэт хочет рассказать свою «душу», ими рассказывает о «любви», о «ней». Не знаю, можно ли формами природы высказать исчерпывающе свое внутреннее слышание, слышится ли оно в образах лошади, Венеры, солнца, луны, хризантемы, – мне кажется, что нет.
Все стихотворение состоит из названий отличительных, из свойств, качеств и ощущений, вкусов и т. д. «Гудели колокола». – Страшно, грубо и несуразно. Разве в слове «гудели» поэт дал то гудение, которое он слышал и что переживал в этом гудении, – я уверен, что поэт переживал очень многое. Он слушал гул, забыв о всем, ибо звуки будили в нем необычайные движения.
А в стихотворении только указывается, что «гудели», так скажет всякий. Разуму нужно отличить, что колокола в это время гудели и чтобы было понятно положение того, кто был в месте, где гудели, народ толпился у церкви.
Один расскажет, другой расскажет в стихотворении, третий споет о «крестном ходе» и «плачущей малютке», четвертый напишет красками.
Никто из них не доволен, и все плачутся, стонут; я думаю, что если бы плотнику пришлось строить дом и он собирал все предметы и вещи, как они есть в природе, и стал складывать все предметы и вещи, как они есть в природе, в дом, то тоже наплакался бы. И в этом случае разум поступает иначе, он претворяет каждую вещь природы в неузнаваемый вид, создавая совсем иное тело. Он смешивает разнородные по виду формы в одну и творит новый вид и форму, какой нет в природе. Тоже церковь, тоже колокол.
Чем же отличаются наисвободнейшие творцы, певцы сверхземного. Люди, заглядывающие в иной мир, «боги», приписывающие себе обладание большим и сверхчеловеческим, нежели природа, земля.
В этом случае они только думают о «сверхе», но на самом деле нет ничего, кроме реальных, ими не сделанных колоколов, их звука и т. д.
Поэты и художники, музыканты – больше слушают звон колоколов, нежели себя.
Они трусы, привыкшие к оковам вещей, без которых не могут жить.
Но голос настоящего неустанно звучит в каждом из них, но принять его, как он есть, боятся, ритм и темп колышит неустанно поэта, но поэт берет его и одевает лошадей, колокола и т. д., и на хвостиках строки висит настоящее созвучие того, что должно занять первое место и показать себя во-всю.
Поэт боится выявить свой стон, свой голос, ибо в стоне и голосе нет вещей, они голые, чистые образуют слова, но это не слова, а только ради буквы – в них. В них нет материи, а есть голос его бытия, чистого, настоящего, и поэт боится самого себя.
Ритм и темп включают образ поэта в действо. Сам же невидим и не видавший мир, не знающий, что есть в мире, ибо это знает только разум, как буфетчик свой шкап.
Буфетчик принимает настоящее и охорашивает свои предметы. Венера в поэтическом костюме, «могила в хризантеме», «он», «она» – все это обуто в особую высшую обувь ритма.
А самого поэта нет, есть мастера дела «обувных», и только.
Поэт не мастер, мастерство чепуха, не может быть мастерства в божеском поэта, ибо он не знает ни минуты, ни часа, ни места, где воспламенится ритм.
Может быть, в трамвае, улице, площади, на реке, горе – с ним будет пляска его Бога, его самого. Где нет ни чернил, ни бумаги и запомнить не сможет, ибо ни разума, ни памяти в данный момент не будет у него.
В нем начнется великая литургия.
Тоже дух, дух религиозный (мне кажется, что дух не один, а несколько, или, может, один, но, попадая в индивидуальные особенности – по-иному говорит).
Дух церковный, ритм и темп – есть его реальные выявители. В чем выражается религиозность духа, в движении, в звуках, в знаках чистых без всяких объяснений – действо, и только, жест очерчивания собой форм, в действе служения мы видим движение знаков, но не замечаем рисунка, которого рисуют собой знаки. Высокое движение знака идет по рисунку, и если бы опытный фотограф сумел снять рисунок пути знака, то мы получили бы графику духовного состояния.
Церковный религиозный дух находится в таком же владении буфетчика, так же обвешан значениями знаков, каждый знак превращен в символ чего-то, стал недвижим, неуклюж, как носильщик. Носильщиком в данный момент и есть служитель, но в большинстве случаев служители церковные религиозного духа – носильщики, которые из нош сделали себе кусок хлеба.
Такие носильщики живут, как клопы в щелях, они не сбегут. Но есть служители, которые хотят служить по требованиям голоса религиозного духа и вошедшие в дом, облеченный в багаж утвари церковной, – бросают и бегут.
Люди, в которых религиозный дух силен, господствует, должны исполнять волю его, волю свою и служить, как он укажет, телу, делать те жесты и говорить то, что он хочет, они должны победить разум и на каждый раз, в каждое служение строить новую церковь жестов и движения особого.
Такой служитель является Богом, таким же таинственным и непонятным, – становится природной частицей творческого Бога.
И может быть постигаем разумом, как и все.
Тайна – творение знака, а знак реальный вид тайны, в котором постигаются таинства нового.
Своим действом будит присущий ему дух в других, и в этом пробуждении он преемствен, и преемственность таинственна и непостижима, но реальна.
Подобный служитель, действующий, образует возле и кругом себя пустыню, многие боясь пустыни бегут еще дальше в глушь сутолоки.
И через пустыню он по-настоящему выйдет в народ, и народ в него, и если народ почувствует родственность в себе его, воскликнет с ним каждый по-иному, – но едино.
И будут едины, пока не сгорит служитель.
Тот, на которого возложится служение религиозного духа, – являет собой церковь, образ которой меняется ежесекундно. Она пройдет перед ними движущаяся и разнообразная.
Церковь – движение, ритм и темп – ее основы.
Новая церковь, живая, бегущая, сменит настоящую, превратившуюся в багажный железнодорожный пакгауз.
Время бежит, и скоро должны быть настоящие.
В поэзии уже промчались бегом первые лучи нового поэта, свободного от искусства мастерства, легкого и свободного. Гортань его зеркально чиста, и говор его чист, и нет в нем вещей неуклюжих – ведь ужасен современный и прошедший поэт.
Черна гортань его, выползают слова-вещи: табурет, розы пахучие, женщины, гробы и тучи – это какой-то ящер, изрыгающий вещи, без разбору глотавший все.
Лучи нового поэта осветили буквы, но их назвали набором слов. Что можно без труда набрать сколько хочешь. Такие отзывы были среди мудрейших старейшин.
Пушкин мастер, может быть, и кроме него много мастеров, других, но ему почет как старейшей фирме. Есть много мастеров других профессий и много старейших фирм – везде искусство, везде мастерство, везде художество, везде форма.
Само искусство – мастерство есть тяжелое, неуклюжее и по неповоротливости мешает чему-то внутреннему, тому, о чем часто говорят мастера художественного «достигнуть трудно и нельзя», нельзя передать натуры и нельзя высказать себя.
Все искусство, мастерство и художество, как нечто красивое – праздность, обывательщина.
Самое высшее считаю моменты служения духа и поэта, говор без слов, когда через рот бегут безумные слова; безумные ни умом, ни разумом непостигаемы.
Говор поэта – ритм и темп – делят промежутки, делят массу звуковую и в ясность исчерпывающие приводят жесты самого тела.
Когда загорается пламя поэта, он становится, поднимает руки, изгибает тело, делая из него ту форму, которая для зрителя будет живой, новой, реальной церковью.
Здесь ни мастерство, ни художество не может быть, ибо будет тяжело земельно загромождено другими ощущениями и целями.
Улэ Эле Лэл Ли Оне Кон Си Ан
Онон Кори Ри Коасамби Моена Леж
Сабно Оратр Тулож Коалиби Блесторе
Тиро Орене Алиж.
Вот в чем исчерпал свое высокое действо поэт, и эти слова нельзя набрать, и никто не сможет подражать ему.
Изобразительное искусство, 1919, № 1
Супрематизм. Из «Каталога Десятой Государственной выставки»*
Плоскость, образовавшая квадрат, явилась родоначалом супрематизма, нового цветового реализма как беспредметного творчества (см. брошюру I, II, III издания «Кубизм, Футуризм и Супрематизм», 1915 и 1916 год издания1).
Супрематизм возник в 1913 году в Москве, и первые работы были на живописной выставке в Петрограде2, вызвав негодование среди «маститых тогда Газет» и критики, а также среди профессиональных людей – мастеров живописи.
Упомянув беспредметность, я только хотел наглядно указать, что в супрематизме не трактуются вещи, предметы и т. д., и только, – беспредметность вообще ни при чем. Супрематизм – определенная система, по которой происходило движение цвета через долгий путь своей культуры.
Живопись возникла из смешанных цветов, превратив цвет в хаотическую смесь на расцветах эстетического тепла, и сами вещи у больших художников послужили остовами живописными. Я нашел, что чем ближе к культуре живописи, тем остовы (вещи) теряют свою систему и ломаются, устанавливая другой порядок, узаконяемый живописью.
Для меня стало ясным, что должны быть созданы новые остовы чистой цветописи, которые конструировались на требованиях цвета, и второе, что в свою очередь цвет должен выйти из живописной смеси в самостоятельную единицу – в конструкцию как индивидуум коллективной системы и индивидуальной независимости.
Конструируется система во времени и пространстве, не завися ни от каких эстетических красот, переживаний, настроений, скорее является философской цветовой системой реализации новых достижений моих представлений как познание.
В данный момент путь человека лежит через пространство; супрематизм, семафор цвета – в его бесконечной бездне.
Синий цвет неба побежден супрематической системой, прорван и вошел в белое как истинное реальное представление бесконечности и потому свободен от цветового фона неба.
Система твердая, холодная, без улыбки приводится в движение философской мыслью, или в системе движется уже ее реальная сила.
Все раскраски утилитарных намерений незначительны, малопространственны, имеют чисто прикладной совершившийся момент того, что было найдено познаванием и выводом философской мысли, в горизонте нашего зрения уголков, обслуживающих обывательский вкус или создающих новый.
Супрематизм в одной своей стадии имеет чисто философское через цвет познавательное движение, а во второй – как форма, которая может быть прикладная, образовав новый стиль супрематического украшения.
Но может появляться на вещах как превращение или воплощение в них пространства, удаляя целостность вещи из сознания.
Через супрематическое философское цветовое мышление уяснилось, что воля может тогда проявить творческую систему, когда в художнике будет аннулирована вещь как остов живописный, как средство, и пока вещи будут остовом и средством, воля его будет вращаться среди композиционного круга вещевых форм.
Все, что мы видим, возникло из цветовой массы, превращенной в плоскость и объем, и всякая машина, дом, человек, стол – все живописные объемные системы, предназначенные для определенных целей.
Художник должен также превратить живописные массы и создать творческую систему, но не писать картинок душистых роз, ибо все это будет мертвым изображением, напоминающим о живом.
И если даже будет построено и беспредметно, но основано на цвето-взаимоотношениях, воля его будет заперта среди стен эстетических плоскостей вместо философского проникновения.
Только тогда я свободен, когда моя воля через критическое и философское обоснование из существующего сможет вынести обоснование новых явлений.
Я прорвал синий абажур цветных ограничений, вышел в белое, за мной, товарищи авиаторы, плывите в бездну, я установил семафоры супрематизма.
Я победил подкладку цветного неба, сорвал и в образовавшийся мешок вложил цвета и завязал узлом. Плывите! Белая свободная бездна, бесконечность перед вами.
К. Малевич
Из «Каталога десятой Государственной выставки. Беспредметное творчество и супрематизм». М., 1919
IV. Издания витебского периода (1919–1922)
О новых системах в искусстве*
Я иду
У – эл – эль – ул – эл – те – ка
Новый мой путь
«Ниспровержение старого мира искусств да будет вычерчено на ваших ладонях».
Став на экономическую супрематическую плоскость квадрата как совершенства современности, оставляю его жизни основанием экономического развития ее действа.
Новую меру, пятую, оценки и определения современности искусств и творчеств объявляю экономию, под ее контроль вступают все творческие изобретения систем техник, машин сооружений, так и искусств живописи, музыки, поэзии, ибо последние суть системы выражения внутреннего движения иллюзированного в мире осязания.
Утилитарная форма не создается без участия эстетического действа, которое видит во всем, кроме утилитарного, – картинное построение. Весь мир построен с участием эстетического действа картинного: оперение, каждый листок орнаментально вырезан, выстроен и скомпонована целая ветка. Цветок вычерчен с циркульной точностью и расцвечен. Мы восторгаемся ему и природе, и всему звездному небу. Восторгаемся потому, что построение природы образовало собою действо (согласия – противоречия), которое мы назвали эстетикой. Эстетика существует в мире, и потому мы находимся в единстве с ней. Ибо движется действо творческое, и из его достижений, согласованности противоречий, возникает дружба под эстетикой, так что можно полагать, что действо творческих образований знаков неразрывно связано согласованностью нескольких элементов, совокупность которых рождает единство формы с распыленными единицами. Как в природе, так и в творчестве человека существует стремление, чтобы создаваемую форму (будь она утилитарная или нет) украсить, придать ей вид художественный, красивый, хотя последнее условно – ибо в новой вещи – новая красота. Это устремление исходит от эстетического движения, которое загорается от возникновения творческой мысли возникающей формы. Так в природе могут быть вырезаны орнаментально листья и устроены цветы, и разукрашены птицы, и весь мир раскрашен, и горит цветом каждый его камень, металл, все различное смешивается в общем единстве и образует картину. Казалось бы, в этом высшем эстетическом единстве должно быть всё и все наши творческие цели должны идти к этому единству, ибо в них высшая цель, в них красота, ради чего все стремится и перед чем все поклоняются. Но выдвигается еще вопрос – вопрос экономический, который поставит себя, пожалуй, в первоисток всего действа и который скажет, что всякое действо совершается через энергию тела, а всякое тело стремится к сохранности своей энергии, а потому всякое мое действо должно совершаться экономическим путем. Так движется все творчество человека. И его творческая мысль давно уже убегает от путаных, может быть, красивых узорных сплетений и украшений к простому экономическому выражению энергийного действа, так что все сложения такого действа уже слагаются не из эстетического, а из экономического веления.
Последние течения в искусстве – кубизм, футуризм, супрематизм – основаны на этом действе.
Эстетическое действо не стоит, а вечно движется и участвует в новообразованиях форм.
Мы восклицаем: «Как прекрасна природа!» Но почему она прекрасна?
Разве цветок был бы прекрасен, если б не было рядом с ним другой формы и если б в нем самом не было разновидности построения? Нет, не был бы. Красота и прекрасное вызываются потому, что природа состоит из разнообразных знаков. Мы говорим: «Чудный пейзаж», – говорим потому, что горизонт виден в глубокой дали, покрытой синевой, сквозь которую виднеются горы, леса, дали, что внизу среди лугов бежит река, что по ней плывут лодки, суда, что на лугу идут расцветшие цветными платьями люди и что мы стоим на горе и смотрим на дали, низы и видимая картина вызывает действо эстетики, и мы восклицаем: «Как прекрасно и красиво».
Что же видит живописец в обрисованном выше пейзаже? Он видит движение и покой живописных масс, он видит природную композицию, единство разнообразных живописных форм, видит симметрию и согласованность противоречий в единстве картины природы. Он стоит и восторгается течением сил и их дружеством. Так построила природа свой пейзаж, свою большую всестороннюю картину техники противоречивой формы человека – связала поля, горы, реки и моря и подобием его распылила связь между животными и насекомыми. Так образовала градацию форм на своей творческой поверхности. Такая же возникла перед творцом-художником творческая поверхность – холст его, место, где строит мир его интуиция и также текущие силы живописно-цветовых энергий регулируются им в разнообразных формах, линиях, плоскостях; также он творит формы, отдельные элементы их знаков и достигает единства противоречий на своей живописной поверхности. Так создание контрастов форм образует единое согласие тела постройки, без чего немыслимо творение.
Все творчество, как для природы, так для художника и вообще творящего человека, – задача построить орудие преодоления бесконечного нашего продвижения, и только через изображение знаков нашего творчества мы продвигаем себя и отдаляем от вчерашнего дня. А потому, изобретая новое, мы не можем установить вечную красоту.
Сколько бы мы ни старались удержать красоту природы, остановить ее нам не удается, и не удается по причине, что мы сами природа и стремимся к скорейшему уходу, к преобразованию видимого мира. Природа не хочет вечной красоты и потому меняет формы и выводит из созданного новое и новое.
Мы растем, и рост наш изменяет вид свой, и потому немыслимо возвратиться к прошлому, и ни одна мысль, ни одна попытка не может осуществить возврата назад и идти в искусстве под флагом прошлого или достигать сегодня того, что было достигнуто вчера, ибо жизнь растет, и рост ее виден в новообразовании вырастающей формы. В новой форме и есть отличие ее от прошлого дня. Кажется, что природа одинакова, пейзажи те же, что были в прошлом году и десять лет тому назад, что солнце одинаково светит и выращивает травы, леса, цветы.
Но, усилив наблюдательность, увидим, что совсем не одинаково в природе. Мы увидим, что среди полей выросли деревни, среди них выросли города. В них храмы, дворцы, заводы, памятники. Среди полей прошли железные дороги, бегут паровозы, на реках выплыли лодки, корабли, по улицам сел и городов бегут автомобили, люди расцветают новыми платьями. Каждый день нам приносит новое, и потому природа неодинакова и неодинаково прекрасно возрастание новых форм, каждое возрастание дает нам новое впечатление, новые красоты.
С каждым днем природа выходит все больше и больше из старого зеленого мира мяса и кости и придет к тому моменту, что зеленый мир угаснет, как угас ландшафт первых эпох, и если смогли бы перенестись в одну из первичных эпох развития нашего земного шара, то увидим разницу. Разница движется дальше и дальше и постепенно заменяется новым миром. Новая картина строится и новым эстетическим действом. Новые животные рождаются в наших депо современных, раскрашиваются, как нам нравится, и пускаются в мир.
Прошло много эпох мирового переустройства, возникли всевозможные организмы, и возрождение идет из одной фабрики земного черепа, из него мы выводим новые и новые тела и в них видим уже не природное, а наше изобретение, что хотим присвоить себе, стараясь вырваться из рук природы и построить новый мир, мне принадлежащий. Иду к новой природе, но не вырывает ли меня природа, и не я ли раньше расцветал зеленым миром и всем, что вижу, и не я ли новый земной череп, в мозгу которого творится новый расцвет, и не мой ли мозг образует собой плавильную фабрику, из которой бежит новый железный преображенный мир и, как с улья универсальности, летят жизни, которые мы называем изобретением.
Мы не можем победить природу, ибо человек – природа, и не победить хочу, а хочу нового расцвета, и что я этого хочу, есть отрицание предыдущего, а так как искусство есть одна из частей общего сложения культуры орудий природы, то и оно должно отрешаться от вчерашнего, ибо не успеет за ростом творческих выводов. Искусство должно расти вместе со стеблем организма, ибо его дело украшать стебель, придавать ему форму, участвовать в целесообразности его назначения.
Но зачастую в искусстве происходит протест старого эстетического действа, захватывающий разум. Последний, ужившись с эстетическим действом старого, выносит логические выводы о том, что искусство что бы ни делало – все прекрасно, хорошо и современно, даже если оно трактует древний мир. Потому так упорно художники держатся за старое и потому так не признается новое сложение знаков сегодняшнего искусства. Следуя старому эстетическому действу, искусство не участвует в строительстве сегодняшнего мира.
Когда природа через ряд своих совершенств достигла в лице своем организма человека как орудия совершенного, она через него начала создавать новый мир, сегодняшний железный организм, который имеет большую тождественность с миром мяса и кости. Мы можем сравнить аэроплан с птицей, размножающейся на многие разновидности железных птиц и стрекоз; поезда имеют сходство со змеей и делятся на разновидности, как и змеи. Мы увидим, какого совершенства достиг человек в искусстве, и вообще, как у него должны быть заточены все орудия и его общего искусства, чтобы картина его нового мира была совершенна во всех отношениях, как во всех научных искусствах и художественно творческих. Все, что творит человек, – деталь, элемент его общей коллективной картины мира.
Кроме достижения совершенного искусства мирового строительства, его современных перевоплощений мировой картины, человек стремится еще к тому, чтобы в преображенном мире достигнуть единства и, преображая мир животный, лишает его разума. Движение нового животного мира находится в моем черепе как едином творческом центре. И новые животные современного мира бегут и делают то, что нужно мне, моей природе. Таким образом я достигаю большой экономии энергийных сил, растрачивающихся неэкономно в зеленом и животном мире, я стремлюсь к централизации, чтобы мог управлять миром, всеми его деталями, и сам тоже иду к преображению, ибо во мне много сохранилось животного мира. Преображая мир, я иду к своему преображению, и, может быть, в последний день моего переустройства я перейду в новую форму, оставив свой нынешний образ в угасающем зеленом животном мире.
Новым своим бытием я прекращаю расточительность энергии разумной силы и прекращаю жизнь зеленого животного мира. Все будет направлено к единству черепа человечества как совершенному орудию культуры природы.
Поэтому, что бы ни складывалось, необходимо складывать в единстве общей культуры современного движения мира.
Как только первобытные организмы достигли человека как орудия новой культуры в природе, человек стал познавать мир, и одним из познавательных средств его было сложение знаков как исследований и зарисовываний того, что было им усмотрено. Ото видно> в дошедших до нас изображениях, в которых первобытный человек видел мир примитивно. Но и примитивные изображения, в которых мы познаем подобия, были уже совершенством. До примитивных изображений существовали более путаные линии, как мы видим у детей. Вначале изображение выражается в движении линий – узлообразном, спиральном, потом прямые – толщина, объем и т. д. – переходят в схему, деленную на точку, – голову или кружок и пять палочек, выражающих туловище, ноги и руки. Очевидно, и первобытный человек шел в таком направлении. Свои изображения рисовал на стенках пещер, орудиях утвари, что и послужило одновременно <их> украшением. Направляя свои познания через изображения, <он> одновременно утверждал в себе начало художественное, развившееся после добытых новых средств познания мира в чисто художественное искусство.
Через научное познание мира изобразительным средством образовался путь натурализма в искусстве. Цель его была в ближайшем подходе к натуре и выражении ее в естественном виде, и по мере познания, изучения и естественность становилась ярче. Первое систематическое изображение послужило остовом, на который навешивались результаты познания природы, и через долгий путь изучения искусство достигло совершенства передачи природы, и изображение человека в полном тождестве отразило ее, как отражает зеркало. Греки и римляне и другие достигли высокого мастерства и опыта исследований и дали лучшие образцы своего искусства, выражая как внешнее, так и внутреннее человека, облекая его в эстетическую и художественную красоту.
Но ошибочно думать, что мастерство и полнота их искусства были бы исчерпывающими, в силу чего нам нужно стремиться к ним и достигнуть такого же искусства в оперировании с формами современности. Искусство идет неустанно, и многое было познано после греков и римлян, познается сейчас и будет познано после нас. Жизнь растет новыми формами, и для каждой эпохи необходимо и новое искусство, средство и опыт. Стремиться к старому классическому искусству равносильно стремиться современному экономическому государству к экономике старых государств. Не видеть современного мира его достижений – не участвовать в современном торжестве преображений. В нашей природе существа живут старым миром, но мы не обращаем на них внимания, идем своей дорогой, и наша дорога в конце концов сотрет их.
Можно, конечно, трактовать сюжеты прошлого и показывать их современному миру, но от этого не свернет бег сегодняшняя жизнь и автомобили не обратятся в двуколки, телефоны не исчезнут и подводные лодки не превратятся в корабли классических греков. Новая жизнь рождает и новое искусство, и если мы будем опираться на то, что красота вечна, то в новой жизни – новая красота. Если в классиках красота, то ведь и до них она была и после них, и сейчас в новой нашей жизни мы находим новые красоты, ибо возникли новые формы. Ничего нет в мире, что бы стояло на одном и том же, и потому нет одной вечной красоты. Были разные красоты, праздники и торжества: Перуну, Купале и <был> Колизей греков и римлян, но у нас новые торжества и новое искусство – торжество депо. К нему не подойдут классические Венеры Милосские и Аполлоны. У депо свой мир и свое великое искусство и художество. Мы можем допускать, что художник свободен и что он может отправиться в разные века, в страны живых и мертвых миров, но если из этих стран и будет принесен в наш современный мир деревянный велосипед или костюм Рамзеса II, то мы, пожалуй, повесим костюм в гардероб Художественного театра, велосипед в музей сдадим, но от этого ничего на улице не изменится и не украсится. Сами мастера Греции, Рима и других стран никогда не стремились к культуре прошлого, они были выразителями, иллюстраторами той жизни, в которой жили, стремились в искусстве к сложности, как осложнялась жизнь, и своей культурой достигли не больше, чем было достигнуто окружающей их жизнью, и они всегда будут одной из точек на линии развития новой и смены старой культуры. Таковых смен было много, и они идут по одной магистрали развития жизненного преобразования, но точками, выдающимися в культуре искусства, является та художественная сила, которая вынесла новые сложения как познание мирового движения и создала из них ступень в культуре общего движения современности.
Мы замечаем в искусстве стремление к примитиву, к упрощению видимого, называем такое движение примитивным даже тогда, когда оно происходит в нашем современном мире. Многие относят Гогена к примитивному стремлению, к первобытному, но это неверно. В наш век примитивного в искусстве не может быть, ибо мы перешли через примитив первобытного изображения и кажущаяся примитивность есть новый подход – <к> контрпримитивному движению. В своей сути оно имеет обратное движение – разложение, распыление собранного на отдельные элементы, стремление вырваться от порабощения предметной тождественности изображения, идеализации и претворения к непосредственному творчеству. Я хочу быть делателем новых знаков моего внутреннего движения, ибо во мне путь мира, и не хочу копировать и искажать движение предмета и других разновидностей форм природы. Но Гоген, не найдя кипевшим в котле его мозга краскам формы, вынужден был воплощать их в видимом ему мире острова Таити.
Кажущаяся примитивность во многих современных художниках – стремление к приведению форм к геометрическому телу; и к этой геометризации звал и указал <ее> Сезанн приведением натуры к конусу, кубу и шару.
Новая сложность современного пути искусства, сознательного приведения к научным геометрическим средствам, стала необходимой ясностью в создании системы движения развития новых классических построений, интуитивных движений, связанных общим ходом мирового развития.
Получается как бы распыление всех добытых богатств на элементы для нового образования тела. Новыми выводами, как государственно-экономического характера, так и выводами искусства, можно установить новую точку культуры современного дня.
Работы Сезанна относят к примитиву, но Сезанн не думал и не строил свои работы на примитивности как неумелости, он знал примитивность первобытную, знал классиков, ложноклассиков, реалистов, импрессионистов и знал, на каких основаниях строить свою работу. Сознательность Сезанна в живописи ярче его предшественников, Сезанн говорил: «Я строю натуру на геометричности и свожу ее к геометризации не как простоте, а как ясности выражения плоскости объема прямой и кривой линии, как сечений живописно-пластических выражений». Осознавая необходимость такого действа, <он> все же не смог достигнуть выражения пластических живописных построений без предметного основания, но положил указание, которому суждено было развиться в большое направление кубизма.
Кажется, что было бы вполне логичным и даже необходимым совершенствовать то великое классическое искусство, за фалды которого хотят многие удержаться и молятся, как грешники, чтобы достигнуть такого же царства небесного, – но этого не будет, ибо новые преодоления на живой дороге требуют иного совершенства. На новой дороге натурализм как познание перестает быть существенным, иллюстрация характера тоже отпадает, новые требования чисто живописно-пластических бессюжетных и беспредметных выражений стали целью. Стало ясно то положение, что натюрморт разделывать под натуральную эстетическую гармоничность не имеет никакого значения, выяснилась причина составления композиции натюрморта из нескольких предметов. Подбирались предметы на законе сочетания формы, фактуры и цвета, но этого не знали и полагали, что необходимо передать разнообразие отдельными нагромождениями предметов и, устремляясь к этому, теряли истинное значение, а истинное было в том, чтобы сочетать разнообразности линий, объем, плоскость, цвет – их фактуры в одно тело как таковое. Но тела как такового не могли создать, ибо не было у нас творческого выхода. Предметы, жанры, историческое, географическое нас держало, и мы облекали все видимые формы только в художественное искусство, и потому иною ценностью представляется написанный горшок, груши, портрет, вобла и Венера.
Но, оправляя предметы в художественные рамки своего эстетического заведения, мы не сможем дать новое образование знаков, вытекающих из нашего творческого мозга. Воля наша на привязи изобретения природы и техники, и мы ждем, какие формы вытекут из ее русла, и заносим на холсты, на память поколения; может быть, это нужно как архивы разных дел прошедшего – но в жизни формы творческие складываются, и искусство должно сложить свои образования. (В смысле художественного украшения утилитарных форм мы также прибегаем к природе, цветам, насекомым, животным и из их тела создаем орнаменты для украшений: ворота украшаем львами, лошадьми, на тарелках рисуем цветы, тогда как должны изобретать абсолютно новые знаки-формы для украшений.) Это было бы логично связано с творческой композицией ворот, тарелки и других вещей.
Интуиция толкает волю к творческому началу. А чтобы выйти к нему, необходимо отвязаться от предметного, нужно создавать новые знаки, а заботу о предметности возложить на новое искусство, фотографию, кинематограф. Мы же должны творить, как и вся наша техническая жизнь.
Дойдя до полного аннулирования предметности в искусстве, станем на творческую дорогу создания новообразований, избегнем всякого жонглирования на проволоке искусства разными предметами, <в> чем упражняются теперь и <к чему> стремятся подтянуть и школу изобразительного искусства.
Дети идут по дороге первобытного примитивного познания мира через изображения, проделывают ту же эволюцию в малом масштабе. В школах стремятся подвести их к одному маяку Греции и Рима и все меры употребляют для того, чтобы они пошли на этот маяк и не свернули на какую-либо «непонятную» дорогу. Дети рисуют почти все, и по мере возрастания и познания мира другими средствами процент рисующих сильно понижается и достигает не больше одного на тысячу или более. Изобразительное искусство остается у немногих уже под видом художества – эстетического действа, заботясь о том, чтобы выразить предмет или портрет в гармоничном сочетании живописных отношений, выразить картину не предмета, а оправить его в картину. Художник, оперируя с природой, имеет эту цель, – в таковом действии мы не видим творчества, в котором может участвовать и картинность. Сложение творческого знака, что будет живой картиной – будет живым членом всего живого мира, – всякое же изображение природы в художественной рамке будет уподобляться мертвецу, украшенному живыми цветами.
Художество служит лишь средством, украшающим творческие утилитарные формы природы, предназначенные к техническим <целям>. Птица оперена цветистыми перьями, бабочка расцвечена узором, орнаментирована, автомобиль выкрашен в цвет, дом расписан и раскрашен, человек узорит себя цветными костюмами, но их назначение как формы было техническим интуитивным преодолением бесконечного движения природы. Конструкция и система вещи есть знак уже совершившегося преодоления, ибо сложение формы – уже преодолевающее движение, и система организма является вместе с искусством, художеством новой симметрией расположения элементов, поэтому оно едино и неразрывно. Художество как таковое не может быть выше и впереди всего, оно придаток к форме и отдельно не имеет ни времени, ни пространства и возникает тогда, когда во времени и пространстве возникает творческая форма изобретения.
Эволюция в искусстве движется дальше и дальше, ибо движется и все в мире, и не всегда в искусстве бывает эволюция, а и революция.
Кубизм и футуризм были движения революционные в искусстве, предупредившие и революцию в экономической, политической жизни <1>917 года.
Эволюция и революция в искусстве имеют одну цель, выбраться к единому творчеству – сложению знаков вместо повторения природы. Как на яркое движение можно указать на работы Сезанна.
Сезанн – выпуклый и сознательный индивидуум – осознал причину геометризации и не подсознательно указал нам на конус, куб и шар как на характерные разновидности, на принципах коих нужно было строить природу, т. е. приводить предмет к геометрическим простым выражениям.
Сезанн – можно сказать, законченная трактовка мира по образу и подобию мира классических отношений и заданий: им заканчивается искусство, державшее на привязи предметного изобразительного искусства нашу волю, заставляя идти в хвосте творческих форм жизни. Сезанн был один, и долго и много ему пришлось работать и быть в опале французской и русской критики: клеймо шарлатана и рекламиста было вычеканено ими, пропечатано на простынях газет.
С выставок его гнали, как водится всегда. В настоящее время критика относится к нему с почтением и выносит его на пьедестал, и приходится краснеть за своих товарищей, критиковавших Сезанна, Милле, Курбе и друг<их>. Но это не указ, критику окружает новое движение искусства – кубизм, футуризм, супрематизм, и она ему тоже привешивает те же ордена шарлатанства (см. «Рус. ведом.» критика Осоргина, «Речь» Бенуа, – Известия, Моск., Центр исп. Ком., РСФСР, № 84 за 1919 г.)1. Но искусство новаторов привыкло и идет своей дорогой и не сегодня-завтра осилит мещанский критический мозг и станет крепко как жизнь.
Всегда требуют, чтобы искусство было понятно, но никогда не требуют от себя приспособить свою голову к пониманию, и наикультурнейшие социалисты стали на ту же дорогу, с таким же требованием к искусству, как купец, требовавший от живописца вывесок, чтобы он изобразил понятно те товары, которые имеются у него в лавке. И думается многим, в особенности социалистам, что искусство для того, чтобы писать понятные бублики, – тоже полагают, что автомобили и вся техническая жизнь служит только для удобства экономического харчевого дела.
Итак, Сезанн положил значительные выпуклые основы кубистического направления, расцветшего в лице Брака, Пикассо, Леже, Метценже и Глеза во Франции; это направление> было выдвинуто в России с новым уклоном аллогизма.
Хотя Сезанн и дал толчок к новой фактурной живописной поверхности как таковой, выводя живописную фактуру из импрессионистического состояния; формою дал ощущение движения форм к контрасту, что можно наблюдать в произведениях Сезанна, где все прямые горизонтальные идут почти к центру вертикальной линии или живописной плоскости, что все мятые кривые группируются в контрасте с плоскостью или объемом и что сам объем контрастен плоскости. Эти чрезвычайно важные для будущего развития кубизма намеки не были сразу взяты кубистами как суть, подлежащая развитию. Кубисты интуитивно в глубине своего сознания восприняли эту схему контрастов, но осуществить ее не могли иначе, как через академическую, на вид логическую, задачу, заключающуюся в исчерпывающей полноте представленной вещи. Оставив как будто в стороне Сезанна, они приступили к трактовке предмета со всех сторон. Они рассуждали, что до сих пор художники передавали предмет только с трех сторон, пользуясь трехмерным измерением, тогда как мы знаем, что предмет имеет шесть, пять, десять сторон, и, чтобы полнее его передать как в действительности он есть, необходимо изобразить все его стороны. Академизм давал нам только три стороны, если можно сказать, красот предмета, но остальные стороны были от нас в картине скрыты; мы видим собор с одной стороны, но он красив с другой, третьей, снаружи так же красив, как и внутри. Следовательно, перед кубистами возникла огромная академическая задача достигнуть полной передачи вещи; упрекая старый академизм, они сказали, что мало изобразить вещи только с тех сторон, которые видим, мы должны еще изображать их со стороны знания. Мы знаем, что в самоваре есть труба и решетка, мы знаем, что в соборе – алтарь, арки, и если все стороны знания и видения соединим, то получим действительную полноту вещи. Такая мысль была моментом наивысшего развития академического протокола в кубизме; это было стремление разума как логического охранителя, который только и стоит на пороге, как страж, и боится, как бы чего не случилось в искусстве неестественного, так он верит в то, что все, что с натуры рисуется, то все естественно, и научил нас верить этому, забыв, что череп его давно оставил природную естественность, ибо дано ему ходить, но он построил себе паровоз и даже захотел летать по небу, это же противоречие природе. К естественности он привел кубистов, и они стали строить предметы так, чтобы все их стороны были видны; до некоторой степени можно было их построения приравнять к интересному чертежу с планами, объемами, разрезами и проекциями. Каждый такой план самой понятной для нас машины – автомобиля, становился непонятным в чертежах инженера; <так> получалось и у кубистов, что изображенный предмет на холсте для многих стал непонятен, ибо зритель не мог уловить единства всех форм в целом. Но эта точка зрения не могла долго держаться, чисто живописное движение скоро вышло на свой творческий путь, отказавшись от всяких вещей как таковых. Оказалось, что вся сила была не в том, чтобы передать полноту вещи, а наоборот, распыление и разложение на ее составные элементы были необходимы как живописные контрасты. Вещь рассматривалась интуитивной стороной как собрание противоречий живописи и начертательных линий, которые нужны были как материал для постройки новой живописной уже конструкции, но не узко утилитарной технической. И поэтому в начале развития первой стадии кубизма натура приводилась к абстракции, геометрической простоте объемов. Лицо натурщика писалось анфас и профилем, как контрастные сопоставления разновидностей начертательной формы.
Когда кубистическому сознанию удалось победить первую логическую трактовку предмета как сдвигов новыми выводами, освободившими <живопись> от предмета, кубисты (вторая стадия) сказали, что если художник находит мало необходимых живописных, фактурных, начертательных, объемных, линейных и др. форм в данном предмете для его конструкционного построения, то он волен взять таковое в другом и собирать необходимые элементы до тех пор, пока его построение достигнет нужного напряжения гармонийных и динамических состояний. Ввиду таковых выводов первое предположение кубизма о полной трактовке предмета было аннулировано новым логическим выводом, – что выявление в пространстве разного времени предмета было лишь для того, чтобы на плоскости сконструировать разновидность единиц в новую кубистическую асимметрию единства.
Такой сдвиг натуры был выявлением на плоскости разнообразных форм времени, того момента, когда была усвоена новая гармонийность и система построения, новая связь прямых, кривых, объема, рельефа, контррельефа, цвета, плоскостей, фактуры и материалов как таковых, и из перечисленных возможностей возникло новое материальное тело (третья стадия) гармонийных кубистических выражений в пространстве. В строении возникло два момента видимой статики и движения как динамического нарастания форм.
До кубизма находили интересным предмет как таковой и как живописное содержание определенного фактурного и цветового насыщения; <художники> не могли иначе передать живописное содержание, не перенося всю форму предмета, который мешал чистому непосредственному выражению живописи. Предмет был таким же подспорьем и у импрессионистов в разрешении чисто световых операций.
Необходимость перенесения предметности на живописный холст происходит потому, что живописец не имеет основы, не обладает инициативой постройки чисто живописного организма. Сезанн, несмотря на огромное чувствование живописного в предмете, дал только небольшие сдвиги форм, но чисто живописной конструкции не мог дать, хотя, стремясь к конусу, кубу, шару, указал на них как на фигуры организационных живописных построений.
Его автопортрет в собрании С. И. Щукина в Москве лучшая живописная работа2, он не столько видел лицо портрета, сколько вложил в его формы живописное, которое не столько видел, сколько чувствовал. Кто чувствует живопись, тот меньше видит предмет, кто видит предмет, тот меньше чувствует живописное.
Главной осью кубистического построения была прямая и кривая. К первой – шли прямые, образуя угол и кривые, к кривой, обратно, на этих осях группировались разновидности живописных фактур: лакированной, занозистой, матовой, располагались наклейки как фактурная и начертательная разновидность, вводился гипс, корпусная фактура, конструировалось все так, чтобы достигнуть кубистического фактурного и формового ритма и конструктивного единства между элементами живописных начертательных форм.
Кубисты впервые начали сознательно видеть, знать и строить свои конструкции на основаниях общего единства природы. Ничего нет в природе, что было бы единично, все состоит из многих элементов и возможностей сравнений. Возьмем лампу – она состоит из самых разнообразных единиц, как форм, так и живописных. Техническое сложение создало организм лампы, из массы отдельных разнообразных единиц получился живой организм, ниоткуда не скопированный, тоже и кубистическое построение слагается из самых разнообразных единиц в определенную организацию.
Если цель сложения организма лампы было горение, освещение, то кубистическое сложение – выражение динамики, статики и новой симметрии, ведущей к организации новых знаков и культуры мирового перевоплощения.
Кубистам незачем было трактовать предмет и перетаскивать его на холст со случайно находящимися в нем живописными содержаниями; тот, кто делал вещи, не думал о выражении в них живописного, а думал о техническом их назначении и преодолении формою пространства, фиксируя изображением вещи культуру современного. Так же должен художник думать о живописном, но не о техническом, должен выстроить живописную систему как живое тело.
Кубистическая конструкция стремится к экономии, отвергая повторение однообразных форм, – повторяемость формы и фактуры ослабляет напряжение конструкции; простым выражением, геометричностью объемов, плоскостей, прямых, кривых являет собою экономию, не вдаваясь в поверхностные комбинации академической натуры ее трактовки.
Если раньше строили натюрморт, то составление его из разных предметов и было несознательным подходом к разновидности форм. Натюрморты компоновались и собирались по цветовому, живописному, эстетическому чувству; два, три предмета гармонировали по цветовому живописному и количественному живописному весу, но гармония формовая исключалась, так же все предметы зависели от линии, на которой они стояли, тогда как кубизм рассматривает все предметы как сумму их.
Художник, абсолютный живописец, должен выявлять и живописное тело. Кубисты благодаря распылению предмета вышли за предметное поле, и с этого момента началась чисто живописная культура. Живописная фактура начинает расцветать как таковая, выходит на сцену не предмет, а цвет и живопись. Кубизм выводит из зависимости от окружающих творческих форм природы и техники и ставит художника на абсолютную, изобретательскую, непосредственную творческую дорогу. Ему не нужно ни историческое, ни биографическое – бытовое, ни портретная отрасль, а эпизодами и трофеями жизни пусть займутся фотографы, художникам же необходимо создавать новые и новые формы и бежать вместе с мировыми изобретениями.
Кубизм кроме конструктивных, архитектонических и философских содержаний имеет разнообразную живописную фактуру. Живописная фактура рассматривается не только масляная, но так же гипсовая, штукатурная (как живописные и цветовые соотношения), в строение конструкции вводится и материал, но только не как таковой, а как живописное, разнохарактерное, индивидуальное сложение живописного цвета. Мы встречаем или до иллюзии написанную доску с выраженными слоевыми особенностями, или натуральные введения, которые рассматриваются как слоистое, живописное, фактурное; и начертательный рисунок, стекло, жесть, медь и др. материалы вводятся также не как таковые, а живописные.
Не все бывает живописное, что написано маслом, мы можем написать чищеный медный таз, послуживший поводом для живописного выявления форм таза, местом развития живописного действа; и может быть написан таз как таковой, будет передана медь, материал, но живописного в нем ничего не будет.
Развитие живописной культуры в кубизме достигло правильной системы; в нем выяснилась живопись и через него стало ясно отношение к предмету и природе, и через кубистическую систему мы должны культивировать выводы, образуя новые и новые конструкционные живописные построения.
Разбирая живописное движение в кубизме, я нашел, что живописная культура должна пойти через беспредметность, что было мною опубликовано в 1915 г. в книжечке «О супрематизме как беспредметном новом живописном реализме»3. Став перед беспредметностью, мы должны построить, не подражая готовым формам, новую живописную форму, следовательно, выходим уже на непосредственную дорогу творчества, причем ничто, нигде в живописном мире не растет в бессистемности.
Живописец на мир смотрит не как на предметы – леса, реки как таковые, а смотрит как на живописные растения, что живопись растет лесом, горою, камнем и т. д. Для него все разновидности, свойства и качества не что иное, как живописные разницы. Оттого при построении живописных форм необходима система их построений, закон конструкционного взаимоотношения форм. Как только выстроится таковая конструкция, она будет выражать собою новый физический вывод и станет предметностью наряду со всемировыми живописными растениями.
Если рассмотрим кубизм со стороны живописной, то найдем в нем наибогатейшую систему развития растущей живописи; его конструкция состоит из распределения наиразнообразнейших форм живописных разниц. Живописное действо расцветает разными фактурами – и смешанными цветовыми, и единым цветом, матовой, блестящей, шероховатой, слоистой, узорчатой, прозрачной, стеклянной и т. д.
Разности строятся так, чтобы не ослабить друг друга, а, наоборот, ярче выразить каждую форму и фактуру, для чего и выискиваются их не тождественность, но контраст.
Кубизм не есть буржуазное разложение, как понимают его социалисты, кубизм – орудие, распыляющее существующие суммы предыдущих выводов и закрепощений творческой стороны живописных движений, раскрепощение художника из подражательного подчинения вещи к непосредственному изобретению творчества.
Кубизм раскрепостил живописные ветви, в воле художника живопись стала расти; как природа разлагает труп на элементы, так старые живописные выводы кубизм распыляет и строит новые по своей системе. Природа поступает так, выключая и разлагая предыдущую свою культуру, выводя заключения и образуя сумму нового вывода культуры. Ничто не является разрывным, отдельным, пришедшим с другой стороны, но все идет по одной магистрали и из одного пути вытекает – из выводов движения. Пересыпающиеся песчинки через свое движение образовали камень, и обрушившийся камень с горы своим вращением дал мысль о создании колеса. Колесо дало идею повозки, следовательно, произошло распыление камня на несколько выводов. Выводы, распыляя друг друга, образовали новые распыления, из которых составлялись последующие, и, может быть, движение камня через долгий путь своего разложения и дало распыление единиц, выразившихся в сложном выводе паровоза, – в свою очередь вошедшего в соприкосновение с другими соображениями на экономических и других движениях. Выстроенное кубистическое тело не есть противное жизни, оно, новый вывод из предыдущих сложений живописного движения, не имеет ничего национального, географического, отечественного, ни узко народного.
Итак, если наши представления и воля были до сих пор связаны природой в смысле подражания прямого и подражания под разными видами стилизаций претворений, то в кубизме мы приводим к непосредственному с ней единству. Она требует этого, ибо через наши уста растет ее преобразование.
Нетерпимость ко всему новому вызывается потому, что наступает смерть живущего еще вывода, сумма старого должна рассыпаться, ибо ее единицы необходимы для образования новых экономических итогов. Потому обрушилось общественное мнение на кубизм, футуризм и супрематизм, что вывод о искусстве старого должен распылиться. И если социалисты тоже поднимают гонение в газетах и журналах против образования новых выводов в искусстве, то лишь потому, что в них живет еще то искусство, которым жило общественное мнение до социалистического времени. С другой стороны, большое влияние имеет разум, привыкший к уюту, который боится, чтобы его не побеспокоили новыми введениями, и представляет целый ворох томов логических и «здравых» выводов, чему без спора верила мещанская коалиция. Но интуиция совершает свой путь и исключает форму новым включением, и если бы наш разум смог осилить причинность интуитивного включения, то новое принималось бы за естественный ход. Не было случая, чтобы разум не признал того, что некогда было им отвергнуто. Общественное мнение отвергло Милле, Курбе, которому на базаре пришлось выставить свой реализм. Сезанн и Пикассо ныне уже чтятся, а перед Милле преклоняется все французское общество, и почитают Сезанна, лучшие работы которого находятся в России и собраны любителем искусств Сергеем Ивановичем Щукиным, пренебрегшим мнением общества и собравшим «выродков» от искусства.
Кажется, что ясно поставлен диагноз целесообразности железных дорог. О паровозах, вагонах разум говорит, что человечество для себя выстроило и выстроит все удобства, оно прогрессирует для этого. Природа будет побеждена, ибо ноги мои, данные ею, ничто в сравнении с созданными мною колесами. Поезд будет возить меня и багаж с быстротою молнии кругом земного шара. Я буду сообщаться с городами легко и удобно. Все свое государство я построю на удобстве, мало того, <по> своему удобству я перестрою иные государства и, наконец, весь земной шар, чтобы жилось мне хорошо, сытно и удобно, покойно, и потому стремлюсь победить природу и ее стихию, чтобы она мне не чинила бедствий и беспокойства. Стремлюсь победить стихию в человечестве, ибо последнее в тысячу раз сильнее и беспокойнее стихии природы, стремлюсь к братству и единству, чтобы через братство и единство было мне покойно и сытно. И тогда создам совершенную культуру, буду заниматься только ею, а вся культура и выразится в экономическом харчевом деле, и об этом хлопочет разум всегда и сейчас, ибо культура у него удобство.
Погоня за совершенной культурой напоминает мальчика, выдувающего мыльный пузырь. Выдувает в нем красочные переливы и старается выдуть пузырь больше и больше. И в самый расцвет пузырь лопается, ибо мальчику не виден его конец, и приходится выдувать новый.
Так лопается культура за культурой, и никогда не будет покоя, ибо где же не покойно, как в гробу. Но и там нет покоя. От поиска удобств происходит разрыв с природой или с интуитивным разумом, который совсем не думает о том, чтобы было удобно жить человеку. Интуиция не видит в нем нечто вечное, совершенное. В отдаленных глубинах ее лежат новые и новые совершенства его и мира, которые совершаются через череп человека. Совершенство мира – совершенство человека, а совершенство его в организме, вечно изменяющемся, по-иному заостряющемся, ибо конструкция его, его система не что иное, как орудие, преодолевающее бесконечное. Каждый шаг такого движения вызывает крушение и вымирание существующего мира, так что видимый зеленый и мясной наш мир не что иное, как прообразы совершенства культуры орудий. Каждый наш шаг вызывает новые приготовления, ибо старые орудия не годятся. Экономия движения, защита своей энергии, быстрота перемещения неумолимо развиваются в нас – и мы выдвигаем новые обретения, удовлетворяющие их, для чего лишаем энергии предыдущие организмы. Удобства, о которых человек хлопочет лично для себя, окажутся пустыми. Для мировой интуиции не существует ни культуры, ни человека, ни лошади, ни паровоза, и она ничего не делит на национальное, отечественное, государственное, как делает человек, привесивший на каждый кустик номер о роде, происхождении, вероисповедании и звании. Интуиция ныне уже срывает все номера, но для особых необходимых ей целей, которые разумом рассматриваются как экономическое харчевое дело и единство, братство «вечной любви».
Интуиция – зерно бесконечности, в ней рассыпает себя и все видимое на нашем земное шаре. Формы произошли от интуитивной энергии, преодолевающей бесконечное, отчего и происходят разновидности форм как орудий передвижения.
Шар земной не что иное, как комок интуитивной мудрости, которая должна бежать по путям бесконечного. Все с земли восстало и бежит, и каждый шаг – эпоха культуры, и каждый шаг встречает новое преодоление и должен быть иным, по-иному заостренным; формы предыдущего распыляются, входят обратно в элементы, и так до тех пор, пока не исчезнет их энергия. От этого меняется культура и миры. В бесконечном движении предыдущего вышел новый знак движения – человек, и о покое, удобстве нечего думать, ибо в тот момент, когда человек достигнет или будет достигать видимого совершенства, интуиция выведет из него все человеческое в новый знак, и образ человека исчезнет как допотопный мир.
Итак, вывод, что паровоз создан человеком для удобства экономического харчевого дела возить нас по всем городам и странам, как полагает разум, – интуиция говорит иное: я для того бросила в пучину частицу своей мудрости, чтобы из ее мозга в свою очередь были набросаны ее пылинки. И не для того выполз паровоз из твоего человеческого черепа, чтобы возить тебя для твоего удобства, а для того, чтобы захватил тысячу черепов твоего мозга в вагоны своего организма и через быстрину своей энергийной силы слетел с земного шара, ибо блага твоего мозга нужны мне в моем бесконечном беге. Я хочу засыпать бесконечность зернами своей мудрости, и мозг твой послужит грядой, ибо ты произошел от того, что было, и от тебя произойдет то, что создается сейчас и что будет.
Вместо того чтобы человек выполнил мировую интуитивную цель, он подумал об удобстве культуры железных дорог, построил станции, задерживая на каждом шагу бег интуитивного мира. Но, захватив железные дороги, человеку не удалось удержаться на покое и удобстве, покой был нарушен вспорхнувшим из его черепа аэропланом как действительным срывом в пространство, что разум тоже приспособляет для экономического дела и своего нового удобства.
Но интуиция говорит: «Все-таки унесу твой череп в пространство, и он будет фабрикой культуры орудий преодоления. Я перекину тебя по всем планетам моей мудрости и через тебя распылю миры. И сколько бы ты ни создавал культур для своего удобства, они окажутся средством преодоления бесконечного моего движения».
А разум человеческий устраивает государственные огороды на культурно-гуманно-экономических харчевых выводах и думает, что когда шар земной будет опоясан человеческим единством, тогда засеем ржи и пшеницы много и создадим культурные усовершенствованные печи и напечем булок.
Но в момент достижения булочной культуры пузырь радужный лопнет и погорят булки в печи, ибо перед нами встанет новое препятствие, потребующее две, может быть, пилюли на два года путешествия.
Разум человеческий разделен на многие клетки, и в каждой клетке живет народность, и она устраивает свое клеточное огородное государство, и нельзя разобрать клетки, чтобы был единый огород, до тех пор, пока травы не перерастут заборы и не спутаются с травами соседних клеток. Так говорит разум и, несмотря на все разумные эволюционные препятствия к единению народов, интуиция революционно разрушит клетки народностей, отечеств, национальностей и порвет все метрические свидетельства, ибо это нужно мировой экономической энергии, и разум, видя неизбежность, выбирает покойные пути, отчего происходит борьба энергийных сил разума и интуиции.
Происходит фактическое разрушение мозгового черепа войною. Такое разрушение – разорение клеток в мозгу – переустройство мозга в одну литую человеческую единицу, и кажущаяся война происходит в самом нашем мозгу как реальное действо.
До сих пор энергийной силой пользуются единицы или группы – развивая ее приобщением масс к идее культурного развития орудий. Масса становится мышцевой силой, двигающей орудия идеи – не сумев использовать свою массовую энергию массовой идеи, благодаря чему энергийной личности или группе приходится делать неимоверные усилия к развитию энергийной силы выдвинутой идеи, которая из единоличной хочет развиться в массовую. Последнее стремление – интуитивная необходимость, стремящаяся к вооружению каждого человека энергийной силой, армия которых двинула бы массовую идею к единой цели культуры знаков орудий преодоления бесконечного этапа.
Так что все выводы человека о культуре удобств только затуманивают цель. Война европейская 1914 года, под какими <бы> предлогами она ни была, стремилась к переорганизации государств на экономических и политических основаниях. Так предполагал разум групп и единиц, у которых находилась энергийная сила, но на самом деле происходила стихийная буря человеков, буря, с которой не может сравниться природная стихия, произошел крах, уничтожение всей культуры, ее экономических и политических выводов. В ней зародилась новая война. Контр-переорганизация государств, война как уничтожение военной культуры и организация единого человеческого государства, или безгосударственной харчевой культурной плантации, которая и послужит для интуитивного дальнейшего движения как массовая идея.
Когда человечество придет к единству, в пути которого находится и сейчас, ему необходимо будет идти к единству с новым миром, вылетевшим из его черепа, – организмами, с которыми находится в борьбе и борется через кровь. Пилот ведет неустанную войну с аэропланом, он хочет овладеть им, он хочет врастить в себя нововыросшее тело, он хочет слить его со своим организмом как нечто нераздельное, и операция должна произойти через боль и кровь до тех пор, пока мы из кости, мяса и крови.
Так же <мы> стремимся к единству со стихией, хотим не победить, уничтожить, а слить ее в единый наш организм. Ветер – стихия, но крылья мельницы ищут с ним единения, принимают его в себя, вода – стихия, колеса мельницы не боятся падения воды, корабли ищут глубины, подводные лодки не боятся взбесившегося моря.
В человечестве образован полюс единства, к нему сойдутся все культуры радиусов как сумма всех выводов, и <эта сумма> распылится перед образованием нового преображения мира через мозг человечества.
Может быть, на человеческое творчество огромное влияние имело понятие земного шара, может быть, оттого, что рассматривался земной шар по-разному и создавалась культура, может быть оттого, что неправильно был понят и происходило много путаницы, но где-то в глубинах интуиции покоятся точные законы и понятия, которым трудно преодолеть наше несовершенство, и потому, может быть, мы полагаем, что делается форма для нашего домашнего обихода, а на самом деле движения ее находятся на пути другого назначения. В искусстве красок предполагалось, что они служат живописным средством и что живопись в свою очередь – средство для выражения тождества природы. Несмотря на все повороты и дорожки живописного искусства, живопись шла по своей магистрали. Она в конце концов заняла свое место и образовала единство с природой, вырастая новым цветком.
Всякие попытки восстановления чисто живописной пластики карались общественным мнением, ибо естественность и удачные талантливые пейзажики пренебрегались <предпочитались?> живописцами интуитами. Общество никогда не рассматривало живопись как таковую, оно рассматривало произведения со стороны сходства, мастерства и убранства красочного, анекдотика была на первом месте. И лишь немногие художники смотрели на живопись как на самодельное действо. Такие художники не видят ни домов, ни гор, неба, рек как таковых, для них они живописные поверхности и потому им не важно, будут ли они схожи, будет ли выражена вода или штукатурка дома, или живописная поверхность неба будет написана над крышей дома или же сбоку. Растет только живопись, и ее передают, пересаживают на холст в новую стройную систему.
Я наблюдал как-то в собрании С. Щукина, что многие подходили к Пикассо, старались во чтобы то ни стало увидеть предмет в его целом, в Сезанне находили недостатки «естественности», но определили, что он примитивно видит природу, грубо, неестественно расписывает. Подойдя к Руанскому собору Моне4, тоже – щурились, хотели найти очертания собора, но расплывчатые пятна не выражали резко форм собора, и руководивший экскурсией заметил, что когда-то он видел картину и помнит, что она была яснее, очевидно, полиняла, при этом рассказал о прелестях и красотах собора. Было сделано оригинальное предложение повесить рядом фотографический снимок, ибо краски переданы художником, а рисунок может дать фотография, и иллюзия будет полная.
Но никто не видал самой живописи, не видал того, как цветные пятна шевелятся, растут бесконечно, и Моне, писавший собор, стремился передать свет и тень, лежавшую на стенах собора, но <и> это было неверно, на самом деле весь упор Моне был сведен к тому, чтобы вырастить живопись, растущую на стенах собора. Не свет и тень были главной его задачей, а живопись, находящаяся в тени и свету. Сезанн и Пикассо, Моне выбирали живописное как жемчужные раковины. Не собор нужен, а живопись, а откуда и с чего она взята, нам не важно, как не важно, с какой раковины выбраны жемчуга.
Если для Клода Моне были живописные растения на стенах собора необходимы, то тело собора было рассмотрено им как грядки плоскости, на которых росла необходимая ему живопись, как поле и гряды, на которых растут травы и посевы ржи. Мы говорим, как прекрасна рожь, как хороши травы лугов, но не говорим о земле. Так должны рассматривать живописное, но не самовар, собор, тыкву, Джоконду.
И когда художник пишет, насаждает живопись, а грядой ему служит предмет, то он должен так посеять живопись, чтобы предмет затерялся, ибо из него вырастает видимая живописцем живопись. Но если вместо живописи заблестит чищеный таз, тыква, горшок, груша, кувшин, то будет гряда, на которой ничего не взошло.
Для последних движений живописного искусства огромное указание дали Сезанн – кубизму и Ван Гог – динамическому футуризму.
К Ван Гогу подходили с такой же точки анекдотичности, так же рассматривали со стороны естественного, неестественного и психологического. Но Ван Гог подходил к натуре как к грядам. Кроме увода из видимых форм живого мира чисто живописных фактур он увидел в них живые движущиеся элементы; он увидел движение и устремленность каждой формы, форма была для него не чем иным, как орудием, через которое проходила динамическая сила. Он увидел, что все трепещет от единого вселенского движения, перед ним было действо – преодоление пространства, и все устремлялось в его глубины. В мозгу его происходило неимоверное напряжение динамического действа, которое виделось ему сильнее, нежели в травах, цветах, людях и в буре. Движения ростков его мозга в стихийном порыве сомкнулись в черепе и, может быть, не найдя выхода, должны были задохнуться в рытвинах его мозга.
Его пейзажи, жанры, портреты служили ему формами выражения динамической силы, и он спешил в расстрепанных иглообразных живописных фактурах выразить движение динамизма; в каждом ростке проходил ток, и его форма соприкасалась с мировым единством. Все приписываемые Ван Гогу чисто импрессионистические задачи были так же ошибочны, как и родоначальнику импрессионистов – Моне, который искал в тени и свету живописной фактуры, а второй в динамике фактурного цвета. Но благодаря тому, что у Ван Гога, Сезанна, Моне все перечисленные действа были в подсознательном зародыше, они подпали под всевозможный хлам предметности, усугубившиеся критикой, покрывшей их общей скатертью импрессионизма.
Несмотря на все скатерти, подсознательное-интуитивное росло и в конце концов сезанновский «импрессионизм» развился в кубистическое тело, а Ван Гог – в футуристический динамизм. Последний с большой силой начал выражать динамику через разлом и пробег вещей, бросаемых энергийной силой на путь вселенского единства движения к преодолению бесконечного.
Футуризм отказался от всех знаков зеленого мира, мяса и кости и обнаружил новый знак – символ скорости машины, которая в миллионах видов готовится бежать в новые пляжи будущего и лишь по какому-то неясному представлению разума бегает по шару земли и пожирает все попадающееся, как бы насыщая свою утробу для долгого путешествия, и, благодаря тому, что разум не может расстаться с багажом кухмистерских, мечется из стороны в сторону в полях экономическо-харчевых гряд.
Как Сезанн, так и Ван Гог живописное строили на эстетическом действе, и образование фактур во многом зависело от пропорционального эстетического смешения количества цветовых лучей, из которых образовали слоистую или щетиновидную шероховатую фактуру. Сезанн развивал в фактурных слоистых поверхностях тяжесть, Ван Гог – устремленность фактурных волн к выходу из предметов, самые предметы были для него формой наибольшего насыщения динамической силы.
Но все построение живописных масс особой фактурной системы не имеет. Сезанн только шел к абстрагированию природных тел, так как видел в них только живописные поверхности и объемы, потому предмет был связан с ним как весом, <так> и живописными содержаниями, а <у> Ван Гога еще и динамическим движением.
Кубизм приходит к определенной системе построения живописных формовых разновидностей, строя всю конструкцию исключительно на развитии живописных фактур, сопоставляя их противоречивость поверхностей для общего напряжения и остроты живописной концепции… В построение кубистической конструкции кубизм не ограничивается статикою, – он вводит и динамическое ощущение, насыщая форму живописью, а замыкает и сжимает форму до чрезвычайно большого давления силы, так что сама форма начинена взрывчатостью, последнее почти является основанием кубизма в первых его стадиях. Будучи монументальным – конструкция зависит от основания фундамента, с которого будет расти живописное монументальное построение, следовательно, середина композиции изображения зависит от основания, и от обоих – завершается верх построения произведения. Так как кубизм основывается на элементах предметного, черпает разновидности видимого мира вещей, то, приступая к построению живописной поверхности, он устанавливает свою зависимость от натуры. Если, допустим, перед нами стоит натурщик, – устанавливаем прежде всего оси, по которым распределены живописные формы, натурщик послужит фундаментом или планом, который разовьется в живописную постройку. Распыляя натурщика, его объемы, прямые, кривые линии и включая материализованное пространство формообразований, мы развиваем постройку живописного организма, вырастающего из натурщика, завершая <его> совершенно отвлеченными формами, возникшими от развития конструкционных контрастов. При сооружении кубистической постройки нами руководят или монументальность, или легкость, от этих задач строится весь живописный фактурный росток.
В сезанновских работах сущность была тяжесть, весомость вещи, которую Пикассо удалось развить в своей женщине, в упоре, который достиг такой силы, что шар земной от его упора смог бы повернуться в обратную сторону (смотр, собрание С. И. Щукина в Москве)5, но по мере приближения Пикассо к кубизму его работы становятся легкими, эстетическими, и только в «Человеке с кларнетом»6 достигает развития монументальности и динамического содержания, последнее настолько сильно, что самое живописное угасает. В этой вещи динамичность форм достигает последнего момента кубизма, после чего дальнейшее динамическое развитие уже находит себе место в футуризме и супрематизме.
В искусстве живописи существуют два варианта – тяжесть и легкость. Сезанна можно отнести к тяжеловесному живописному нарастанию, Ван Гога – легкому. Тяжесть Сезанна – медлительное движение; Ван Гог тоже тяжесть, но лишенная медлительности, а следовательно, больше обеспечена в длительности нарастания в пространстве. Чем сильнее и крепче хочет художник построить тело, тем фактура и формы будут насыщены весом и монументальностью постройки.
Тяжесть, статика, момент длительности – <вот> что распыляется кубизмом. Кубизм – время развития движения статической медлительности, но так как сам по себе основан на статике, то система его определена известной границей, после которой кубизм не может развивать своего движения, так как границы его определяются основанием фундамента конструкций и согласием противоречий.
Если кубизм <связан> фактурною живописною зависимостью в строении своего тела, то футуризм выходит из живописной фактурной зависимости, и его фактура уже не живописная, а фактура динамичности, и эстетическое действо в связи взаимоотношений живописных пропорций тональностей пятен выходит за борт, ибо связующей силой служит динамическая зависимость. Если во вращении города пробегают черные, белые, красные, синие, желтые пятна людей и вещей, то они находятся в зависимости от движения, но не во взаимном цветовом соотношении. Само же движение города, сконцентрирование миллионов форм человеческого творчества стремится, бежит распутать запутанный клубок человеческого движения прямой и ясной магистралью. Футуризм в своих выражениях находится в центре движения и передает бег в сконцентрированной форме, переходя в высшую динамическую станцию.
Отношение футуризма к предметам, машинам, исключительно к миру городского творчества, было такое же, как у Моне к Руанскому собору – в живописном смысле. Для футуризма предметы и машины не были как таковые, но были средствами, символами, выражающими скорость динамики. Если кубисты и академисты, весь дофутуристический мир искусства, рассматривали предмет как содержание живописи, то футуризм рассматривал машинность как динамическое содержание. Выходя за пределы целого предметного выражения нового железного мира, футуризм находится в последней стадии предметного выражения движения, сделав новые системы построения таковых.
Когда установили законы перспективы, для изобразительного искусства была установлена привязь. Для художника было установлено стойло, в котором он должен был оперировать.
Горизонт, образовавший кольцо, синее небо, крыши и были зданием академических упражнений, конторой всяких дубликатов. В ящике под голубым небом вращалось наше сознание, ударяясь лбом в торчащие звезды, луну, солнце; не было никакого выхода из академической конторы фабрикации «понятных» дубликатов классических древних бухгалтеров. Привыкли к конторе, и до сих пор большинство молодежи стремится к конторке, к каллиграфическому, ясному и «понятному» почерку предков. Немногие сейчас уже примкнули к «непонятным» движениям искусства, сбросили классических Милосских со своих плеч как ненужный багаж для современности. И так был создан перспективный клинообразный путь, замыкающийся точкой схода своих лучей в клинообразном пути, это был путь искусства, так видели весь мир. Живописное искусство не могло спорить с философией, свободной от всяких путей. Оно замкнулось и ходило только до точки схода, не смея перекинуться за нее.
И перспективный клин имеет уже большое влияние на сознание человека. В познавании и видении мира наше тело всегда двигалось по перспективным линиям, но, благодаря тому, что точка схода все удалялась, тело наше не чувствовало над собой и под собой сходящихся линий, если бы они оставались такими же незыблемыми, как для искусства, то и тело наше росло <бы> по форме клина, как и искусство.
Искусство в перспективном клине двигалось к трактованию того, что было перед ним, и мир рассматривало только с этой точки, для нас не существовало мира ни снизу, сверху, с боков, сзади, мы только догадывались о нем. А когда искусству понадобилось развернуть рост своего тела, пришлось разбить клиноперспективную катакомбу. Мир стал рассматриваться по-иному, мы обнаружили многогранное его движение и стали перед задачей полноты его передачи; отсюда и возникли системы и законы, современные нашему познанию.
Наступило чистое познание в искусстве фактурных ценностей как таковых, не требующих линейного архитектурного построения домов. На плоскости холста они содержали в себе живописное фактурное содержание. Фактурные построения строились на своих взаимоотношениях или контротношениях, и нетождественность в живописном изображении построения дома аннулировалась потребностью живописной.
Была обнаружена динамика энергийных сил вещей, которая так же передавалась, как фактурная живопись.
Футуризм выяснил положение места изобразителя движущегося мира. Человек образует собою центр, кругом которого происходит движение; выяснил, что таковое вовсе не происходит только в одном радиусе клинообразного схода, а происходит и спереди и сзади, с боков, сверху, снизу, человек стоит осью, кругом которой движется миллион механизмов; а так как видеть мир еще не значит видеть его глазами, но видеть мир можно и знанием и всем существом, и так как футуризм заинтересован <в том, чтобы> во вседвижении передать силу мечущихся организмов города, <то>, переходя к мировому динамизму, передавая общее состояние вращения, в нашем психическом <мире> фиксируется новое реальное представление о современном состоянии нашего миропонимания или же в психическом мире мозг наш отражает как в зеркале свои реальные состояния.
Ясно станет каждому протестующему против футуризма, что движение мира – и в деталях его города; зритель является центром всего театра действий, и, чтобы представить весь театр действий, необходимы новые выводы и законы для их выражения. Если мы привыкли рассматривать только часть движения какой-либо улицы, то, конечно, мы привыкли видеть несколько человек, повозок, домов и то только в самом незначительном, крошечном движении, выражающемся в поднятии ноги, небольшом уклоне фигуры; движение паровозов показывалось только тем, что пар и дым шли противоположно бегу, и если бы паровозы были бездымные, то художнику никогда не удалось бы показать их движение.
Став на точку зрителя, находящегося в центре движения театра, футурист начал строить свое воображение сразу со всех сторон; так как от него пошли все линии радиуса и в каждом делении линий совершалось движение вдали, вблизи от центра, по прямым и пересекающим его линиям, то, конечно, обывателю, привыкшему видеть несколько карет и именно карету, трудно разобраться в новом массовом движении города, в котором вдобавок все изображения служат постольку, поскольку их форма необходима как контрастное взаимодействие, <для> усил<ен>ия выражения динамичности.
И если рассмотреть с точки зрения академизма как передачи действа, то ясно, что футуризм пошел к более сложному и полному выражению сумм движущейся городской энергии. Энергия, динамика города Москвы, Берлина, Нью-Йорка футуристически может быть представлена как мера реального напряжения.
Все направление в искусстве, выражающееся в движении, так же стремилось по своей современной линии развития движения, и когда по его линии <искусство> достигло нового, более сильного напряжения, то сами формы как движущиеся знаки стали иными; ясно, что футуризм как больший выразитель дал иную картину движения, дал собранную силу напряжения, и если в дальнейшем движении энергийные знаки будут идти к своему развитию, то силомеры искусства будут расти.
Человек – организм энергии, крупица, стремящаяся к образованию единого центра. Все остальные только предлоги. Села, небольшие организационные центры энергии, которые в свою очередь выделяют силу в центральные города целой страны, в них сосредоточена вся сила целого народа. Но энергийная сила не знает <ни> народов, ни государств, ни национальностей, потому стремится к высшей и высшей своей централизации; разные предлоги человека, выходящие из экономического и политического харчевого дела, мешают прямому движению. Но все предлоги уступят место интуитивному мировому движению энергийных сил, и будет образован высший город как выделение сил городов целых народов, последние к этому времени будут образовывать собою единую движущуюся силу.
Возникающая экономическая политика и вытекает главным образом от обладания другим народным центром, которое и проходит под уродливым видом войны как насильственного порабощения вместо сознательного движения единства. В силу того, что мировая энергия земного шара бежит к единому центру, – и все экономические предлоги должны будут стремиться к политике единства. В искусстве футуризма вытекает единая цель, выражение энергии находящейся в вечном движении машин, моторов. В них видят культуру домашнего удобства и под сутолокой такового закрывают истинный смысл.
Футуризм еще не развил вполне своей системы, в нем еще многое можно развить в дальнейшем, но наше сознание неимоверно идет дальше и развивает новые знаки в пути бесконечного преодоления, и может быть, что новый супрематический вывод уведет к новым системам, за пределы предметной путаницы, к чисто энергийной силе движения.
Мировая энергия идет к экономии, и каждый ее шаг в бесконечное выражается в новой экономической культуре знаков, и революция не что иное, как вывод новой экономической энергии, которую колышет мировая интуиция. Без особых предлогов революция не происходит, и потому разум выводит всевозможные предложения, за кои не мешает потрудиться, ибо за целью простого движения в бесконечность никто не пойдет. Революция всегда стоит на распылении всех экономических выводов предыдущего. Искусство идет неразрывно, ибо в нем живет та же энергия, с той же единой бесконечной целью.
Кубизм – искусство распыляющее, превращающее сумму или суммы старых заключений <в> равносильные единицы, чтобы из них вывести новый экономический материальный вывод.
Сейчас время особое, может быть, никогда не было такого времени, время анализов и результатов всех систем, некогда существовавших, и к нашей демаркационной линии века принесут новые знаки. В них мы увидим несовершенства, которые сводили к делению и розни и, может быть, от них возьмем только рознь для того, чтобы выстроить систему единства.
Сегодня интуиция мира меняет систему нашего зеленого мира мяса и кости, происходит новый экономический порядок сложения рытвин нашего творческого мозга для совершения дальнейшего плана своего продвижения в бесконечное, в том лежит философия современности, по которой должны двинуться наши творческие дни.
1919 года, 15-го июля.
Немчиновка.
1) Устанавливается пятое (экономия) измерение.
2) Все творчества изобретений их построения, конструкция, система должны развиваться на основании пятого измерения.
3) Все изобретения, развивающие движения элементов живописи, цвета, музыки, поэзии, сооружений (скульптуры), оцениваются с точки пятого измерения.
4) Совершенство и современность изобретений (произведений искусства) определяются пятым измерением.
5) Эстетический контроль отвергается как реакционная мера.
6) Все искусства: живопись, цвет, музыка, сооружения, отнести под один параграф «технического творчества».
7) Духовную силу содержания отвергнуть как принадлежность зеленого мира мяса и кости.
8) Временно признать силою, приводящей в действо форму, динамизм.
9) Признать свет как цвет металлического происхождения, изображения лучей как соответствие экономического развития города.
10) Солнце как костер освещения отнести к системе зеленого мира мяса и кости.
11) Освободить время из рук государства и обратить его в пользу изобретателей.
12) Признать труд пережитком старого мира насилия, так как современность мира стоит на творчестве.
13) Признать за всеми способность изобретений и объявить, что для осуществления таковых для каждого найдется неограниченная потребность материалов в земле и над землею.
14) Признать жизнь как подсобный харчевой путь главному нашему движению.
15) Отвергаются все блага небесного, как и на земле, царствий и все их изображения работниками искусств как ложь, закрывающая действительность.
16) Передать на социальное обеспечение всех работников академических искусств как инвалидов-староваторов экономического движения.
17) Кубизм и футуризм определяются экономическим совершенством 1910 года; их конструкции и системы определить классицизмом десятых годов.
18) Созвать экономический совет (пятого измерения) для ликвидации всех искусств старого Мира.
Витебск 15 ноября 19<-го> года
К. Малевич
<Подпись под литографским воспроизведением «Черного квадрата»>
1) Последняя супрематическая плоскость на линии искусств, живописи, цвета, эстетики, вышедшая за их орбиту.
2) Построена в пятом (экономия) измерении как основа, на которой должны развиваться формы всех творческих усилий изобретений и искусств.
К. Малевич
Супрематизм. 34 рисунка*
Друзья задались целью издать книжку супрематических моих работ. Несмотря на их желание издать ее как можно лучше и полнее, удалось выполнить только небольшую часть задуманного. Она вышла в черном и сером с небольшим количеством построений. Средства не позволили издать их в тех состояниях, как они есть. Супрематизм делится на три стадии по числу квадратов, – черного, красного и белого, черный период, цветной и белый. В последнем написаны формы белые в белом. Все три периода развития шли с 1913 по 1918 год. Периоды были построены в чисто плоскостном развитии. Основанием их построения было главное экономическое начало одной плоскостью передать силу статики или видимого динамического покоя.
Если до сих пор все формы чего бы тони было выражают эти ощущения осязания не иначе как через множество всевозможных взаимоотношений между собою связанных форм, образующих организм, то в супрематическом достигнуто экономическим геометризмом действие в одной плоскости или объеме. Если всякая форма является выражением чисто утилитарного совершенства, то и супрематическая форма не что иное, как знаки опознанной силы действия утилитарного совершенства наступающего конкретного мира. Форма ясно указывает на динамизм состояния и является как бы дальнейшим указанием пути аэроплану в пространстве не через моторы и не через преодоление пространства разрывающим способом неуклюжей машины чисто катастрофического построения, а плановым включением формы в природоестественное действие. Какие-то магнитные взаимоотношения одной формы, которая, может быть, будет составлена из всех элементов естественных сил взаимоотношений и поэтому не будет нуждаться в моторах, крыльях, колесах, бензине. Ее тело не будет построено из разнообразных организмов, творя целое.
Супрематический аппарат, если можно так выразиться, будет единоцелый, без всяких скреплений. Брусок слит со всеми элементами подобно земному шару, несущему в себе жизнь совершенств, так что каждое построенное супрематическое тело будет включено в природоестественную организацию и образует собою нового спутника; нужно найти только взаимоотношение между двумя телами, бегущими в пространстве. Земля и Луна – между ними может быть построен новый спутник, супрематический, оборудованный всеми элементами, который будет двигаться по орбите, образуя свой новый путь. Исследуя супрематическую форму в движении, приходим к решению, что движение по прямой к какой-либо планете не может быть побеждено иначе, как через кольцеобразное движение промежуточных супрематических спутников, кот<орые> образуют прямую линию колец из спутника в спутник. Работая над супрематизмом, я обнаружил, что его формы ничего общего не имеют с техникой земной поверхности. Все технические организмы тоже являются не чем иным, как маленькими спутниками – целый живой мир, готовый улететь в пространство и занять особое место. Ведь на самом деле каждый такой спутник разумом оборудован и готов жить своею личною жизнью. В огромном стихийном масштабе планетных систем произошло так же распыление, отделение каких-то состояний, кот<орые> образовали самоличную жизнь, творя целую систему миростроения, связуясь дружески для того, чтобы обеспечить себе жизнь, устраня катастрофу. Супрематические формы, как абстракция, стали утилитарным совершенством. Они уже не касаются Земли, их можно рассматривать и изучать как всякую планету или целую систему. Я говорю, не касаются Земли не в смысле отрыва, оставляя ее брошенной, указываю только на построение прообразов технических организмов будущего супрематического <мира>, кот<орые> обусловлены чисто утилитарной необходимостью, таковая необходимость остается их связью. Смысл каждого организма утилитарной техники имеет ту же цель и намерение и ищет случая проникнуть в ту область, кот<орую> мы видим в супрематическом холсте. На самом деле, что такое холст, что в нем изображено? Разбирая холст, мы прежде всего видим в нем окно, через которое обнаруживаем жизнь. Супрематический холст изображает белое пространство, но не синее. Причина ясна – синее не дает реального представления бесконечного. Лучи зрения ударяются как бы в купол и проникнуть не могут в бесконечное. Супрематическое бесконечное белое дает лучу зрения идти, не встречая себе предела. Но мы видим движущиеся тела, каково их движение и каковы они подлежат раскрытию. Изобретши эту систему, я стал исследовать проходящие формы, кот<орые> должны раскрыть и найти все их существо, и они стали в ряду всего мира вещей. Раскрытие требует большой работы. Построение супрематических форм цветного порядка ничуть не связано эстетической необходимостью как цвета, так формы или фигуры; тоже черный период и белый. Самое главное в супрематизме – два основания – энергии черного и белого, служащие раскрытию формы действия, имею в виду только чисто утилитарную необходимость экономического сокращения, потому цветовое отпадает. В творениях цветовое выявление или тональное не зависит от эстетического явления, а от самого родового происхождения материала, сложения элементов, образующих комок или форму энергии. Теперь если всякая форма или всякие родовые материалы – энергия, окрашивающая свое движение, то, след<овательно>, в бесконечном творении происходит изменение материалов и образование новых энергийных сложений, следов<ательно>, каждый ряд движений видоизменяет форму вследствие экономических соображений, и окраска тоже изменит свой вид. Город как форма энергийного сложения материалов утерял цвета и стал тонален, где преобладает черное, белое.
(Но разбор вопроса о движении цвета как энергии потребовал бы повторить мои исследования о цвете 1917 г.)
Я упомянул, что черное и белое в супрематизме служат как энергии, раскрывающие форму, это касается только моментов построения на холсте объектов объемного супрематизма, в реальном же действии осязательном роли не играют, ибо выявление формы предоставляется свету, но в формах уже реального супрематизма остается лишь черное и белое, и от них вся градация энергии материала, т. е. наступит эпоха новых материалов, лишенных цвета и тона. (Считаю белое и черное выведенными из цветовых и красочных гамм.)
Супрематизм в своем историческом развитии имел три ступени черного, цветного и белого. Все периоды проходили под условными знаками плоскостей, как бы выражая собой планы будущих объемных тел, и действительно, в данный момент супрематизм вырастает в объемном времени нового архитектурного построения. Таким образом, супрематизм устанавливает связи с Землею, но в силу экономических своих построений изменяет всю архитектуру вещей Земли, в мирском смысле слова соединяясь с пространством движущихся однолитных масс планетной системы.
При исследовании обнаружил, что в супрематизме лежит идея новой машины, т. е. нового бесколесного беспаробензинного двигателя организма.
(Об этом надо писать много обоснований.)
Одна из основ супрематизма – природоестество как опыт и практика, дающая возможность изжить книжный мир, заменив его опытом, действием, через что все приобщается к всетворчеству.
Отношение супрематизма к материалам противоположно ныне нарастающей агитации в пользу культуры материала – призыв к эстетике – обработка поверхностей материалов является психозом современных художников. Вместо того, чтобы выводить образ через утилитарное совершенство экономической необходимости, оставляя природоестественное преобразование, и касаться его обработки в тех местах, где является техническая необходимость, но не эстетическая – забота о красоте перьев организма.
Супрематические три квадрата есть установление определенных мировоззрений и миростроений. Белый квадрат кроме чисто экономического движения формы всего нового белого миростроения является еще толчком к обоснованию миростроения как «чистого действия», как самопознания себя в чисто утилитарном совершенстве «всечеловека». В общежитии он получил еще значение: черный как знак экономии, красный как сигнал революции и белый как чистое действие.
Белый написанный мною квадрат дал мне возможность исследовать его и получить брошюру о «чистом действе»1.
Черный квадрат определил экономию, кот<орую> я ввел как пятую меру искусства.
Экономический вопрос стал моею главною вышкою, с которой рассматриваю все творения мира вещей, что является главною моею работою уже не кистью, а пером. Получилось как бы, что кистью нельзя достать того, что можно пером. Она растрепана и не может достать в извилинах мозга, перо острее.
Странная вещь – три квадрата указывают путь, а белый квадрат несет белый мир (миростроение), утверждая знак чистоты человеческой творческой жизни. Какую важную роль имеют цвета как сигналы, указующие путь.
О цветах и о белом и черном еще возникнет масса толков, кот<орые> увенчаются через путь красного в белом совершенстве.
(Упоминая о белом, не говорю о понятии политическом, установившемся о нем сейчас.)
В чисто цветовом движении – три квадрата еще указывают на угасание цвета, где в белом он исчезает.
О живописи в супрематизме не может быть речи, живопись давно изжита, и сам художник предрассудок прошлого.
Обоснование этих вопросов выразились в написанной мной книжечке «Мы как утилитарное совершенство»2.
В данных мне трех страницах нельзя высказать всего того, как и что делалось и какие результаты дали исследования. Установив определенные планы супрематической системы, дальнейшее развитие уже архитектурного супрематизма поручаю молодым архитекторам в широком смысле слова, ибо вижу эпоху новой системы архитектуры только в нем.
Сам же удалился в новую для меня область мысли и, как могу, буду излагать, что увижу в бесконечном пространстве человеческого черепа.
Да здравствует единая система мировой архитектуры Земли.
Да здравствует творящий и утверждающий новое в мире Уновис.
К. Малевич.
Витебск 15 декабря 1920.
К вопросу изобразительного искусства*
Ниспровержение старого мира искусств да будет вычерчено на ваших ладонях.
Всякая форма – результат движения энергии по пути экономического начала. Отсюда вытекают право и политика человека. Право это то, без чего невозможно провести экономическое начало, и экономия это то, без чего нельзя провести право. Отсюда вытекает третье: свобода действа, которая реализует возникшую во мне форму экономического движения и право. Свобода действа не есть действом независимым, обособленным, стоящим вне общности, ибо она является средством экономического начала, как чисто харчевого, так и всякого вообще движения, и потому личность, получившая право и свободу, не может действовать независимо, и если ее призывает государство к строительству, то это не значит, что она будет делать то, что она хочет и как хочет. Никакое государство не может дать иного права и свободы личности, кроме вытекающего из его экономических совершенств, а всякое экономическое совершенство по форме своей система и план. Система и план – скелет, который разовьется всем усилием каждой личности, коллектива и целого общества в полный организм государства или мира, а всякий таковой план и система возникает в человеке как шаг вселенского экономического продвижения существа. Это существо человеческое в лице разнообразных индивидуальных форм природы достигло своего экономического совершенства в человеке, в нем как совершенном и лежат все средства, системы и план, через который двинутся эпохи миростроения. В нем все поступи нового и нового видообраза его существа. Человек-форма носит в себе вечное начало существа, и через экономическое движение в бесконечном его пути форма его так же преобразуется, как все живущее в природе преобразовалось в нем. Человечество – носитель вечной жизни существа своего, оно не стоит, а вечно совершенствуется, а каждое совершенство – шаг движения.
Совершенство не во всех пробуждается. Поступь совершенства пробуждается обыкновенно в одном из человечества, который своим криком пробуждает соседей и начинает собирать их в дорогу на путь вечного обновления, зовет к юности, предлагает скинуть омертвелую одежду вчерашнего дня, как плащ смерти, предлагает бросить весь багаж накопленного блага вчерашнего, чтобы обнаженное юное тело освободить от тяжи и посеять в нем новый юный мир. Пробуждение одного из человеков так сильно и могущественно, что <его> не может победить никакая армия государств. Что же будет, когда через систему совершенства все человечество крикнет одною мыслью, и мы идем к этому крику. Старое государство по наивности думало, что виселица одна способна задушить кричащего человека, но если бы оно подумало, кого хочет задушить, с кем имеет дело, то нашло бы, что через видимого ему человека кричит все существо мира его, вся вселенная, кричит бессмертие, которое пытаются задушить. Так были задушены все пророки религии духа, так были удушены вожди политическо-экономических прав человека, так старый хочет задушить зародыш, но из этого ничего не вышло, все задушенные остаются живыми, ибо в них бессмертное начало. Стоит государству оглянуться, чтобы проверить и увидеть абсурдность душений, увидеть, что всякий задушенный жив, мало того, из него растет целый юный мир, размножаются младенцы, и старое государство посылает на улицы воинов для избиения, оно ищет в каждом юном живое начало, чтобы умертвить его. Так практикуется в политической жизни, так же и в искусстве. Но так как юность бессмертна, то из этого ничего не выходит, она обеспечена жизнью, в силу чего юность идет к неизбежному своему росту, к определенной в ней конечности и утверждению и завершению положенного этапа форм совершенного мира. Она должна тоже оглянуться на действо старого и приготовить себя к познанию новой юности, в ней зарожденной, чтобы вместо виселиц приготовить и облегчить путь, уступить дорогу юной армии. Через долгий путь веков повседневного истребления носителей юности наступил сегодня день столкновения юности и старости. Сегодня ведется отчаянная борьба со стариком, старающимся задушить юность. Сегодня происходит одна из всегдашних ошибок старого, не познающего движения новой жизни; сегодня старшие стремятся, чтобы никогда не было весны, но она будет, ибо в ней рождение новой вселенной поступи. Сегодня экономическо-политические авангарды ведут бой за обладание территорией для того, чтобы приготовить место закладки нового мира, на ней собираются все юные силы и сотворят мир своего нового образа. Сегодня пробудился тот человек, который кричит на весь мир и зовет к единству все человечество. Существу его необходимо наше единство; и не для того оно нужно, чтобы получить права и свободу, построить экономическую утилитарную жизнь, а для того, чтобы через обеспечение харчевых прав наше существо могло продвинуться к единой слитности и цельности пути вселенского движения как единой и главной нашей цели. Единство всего человечества необходимо, ибо нужен новый единый человек действа. Мы хотим себя выстроить по новому образцу и системе, хотим построить так, чтобы вся стихия природы соединилась с человеком и образовала единый всесильный лик. Для этого экономическое начало ведет нас по своему пути и собирает все разбросанные в хаосе природы отдельные обособленные жизни в единую свою дорогу, и потому каждая личность, каждая индивидуальность, некогда обособленная, ныне воплощается в систему единого действия.
Вот почему ныне каждая личность не может иметь свободы обособленностей, не может жить, как ей вздумается, не может устраивать единоличную экономическую программу своего харчевого огорода, ибо она должна быть включена в систему общности общей свободы и права; отныне нет права у личности, ибо право общее, а сама личность не что иное, как осколок слитного существа, и все осколки со всеми особенностями должны слиться в единый <образ>, ибо произошли от единого. Таким образом, все множество жизней в природе со всеми своими преимуществами воплотились в человеке и принесли ему всю свою волю и разум, и теперь только он, человек, как центр сможет дальше перекинуть природу в новый образ, который будет не чем иным, как самим человеком совершенной поступи, бесконечного пути. Этим образом наше новое общество и должно заняться, а чтобы приступить к строительству, нужен план действия и система. Мы уже знаем, что всякое появление вида в жизни нашей базируется на экономии харчевой и вообще движения, отсюда возникает политика, право и свобода. Главная из них – экономия, являющаяся мерой нашей современности, через нее мы измеряем все, и что не подходит под эту меру – несовременно. Следовательно, эту меру мы должны применять абсолютно ко всякой форме нашего выявления, чтобы быть в единстве общего плана развития современности организма. В силу экономической системы всякая личность подчинена ей, и уже она ничего отдельного от системы общего не может сделать. Коммунистический город возникает не из хаоса личных сооружений, а возникает по общему плану, форма каждого дома будет происходить от общего, но не возникнет по прихоти отдельной личности.
Свобода личности не может быть другой как только согласованием общей свободы, отсюда всякая личность не имеет собственности, ибо каждая ее форма – явление экономического общего движения, отсюда же возникает и коллектив, представляющий собою группу личностей, объединенных согласием коллективного индивидуализма на почве общего экономического действа, и образующий собою единицу общего единства. Объединение всех коллективов и будет единством, к чему современность движется: отсюда видно, что всякая личность разгорожена от заборов, у нее отняли границы ее оседлости и развития, вся ее мудрость изобретения течет по единому пути, собираясь в единстве поступи совершенства. Таким образом, все ее богатство становится общим, а она – едино-целого организма. Она освобождается от багажа, ибо творческое ее изобретение становится общей деталью мировой машины. В этом она получает наибольшую свою свободу, она только теперь может развивать неимоверную силу, ибо нет ей преград, нет того ограниченного ящика, в котором она жила и развивалась раньше, теперь у нее нет десятин, а весь мир и бесконечность пространства. Я уже упомянул, что экономическо-политический авангард во главе с революцией завоевал себе территорию для приготовления великой харчевой кухни, а революция предшествует движению армии творческих строителей. Экономическо-политический авангард снес и сносит весь старый мир харчевой кухни права и свобод, он сносит и весь утилитарный мир вещей, и если вещи старого спасаются, то только приняв на себя крышу музея, обещаясь тихо сидеть и не показываться в жизнь новых вещей. Все формы старого мира экономического развития и вообще всего человеческого сознания не могут существовать, ибо наступил новый смысл. Никакая форма старого не может существовать, ибо революционное совершенство безостановочно несет существо свое дальше и дальше через наши сознания, расширяя, углубляя пространство путями энергийного экономического соображения. Если же мы оставляем форму старую – то служим контрреволюционному совершенству. В экономической и политической жизни каждый день несет очищение от старого, в этом совершенство. Но в искусстве происходит наоборот: чем старее произведение, тем оно лучше, ценнее, красивее, художественнее и искуснее, как в царстве алкоголизма ценится дороже старое вино. Старое искусство в жизни всегда стремятся показать народу как ценное и красивое, но зато все современное стараются задавить, заглушить, оклеветать. Сегодня в дни, когда Революционное Совершенство несет новый мир форм как тело существа, – реакционные элементы выносят на улицу ископаемые останки прошлого совершенства и показывают массам. Показывается оно не для знания открытой формы, как образец старой жизни, а стремятся доказать, уверить, что ископаемый мир искусств красив, его красота превыше, оно велико и трудно, чтобы его повторить, необходимо обладать талантом – быть великим искусником, чему много нужно учиться, а современное очень просто, легко, каждый может написать квадратик, а Рафаэля или Рубенса никто не сможет повторить. Но эти реакционеры забывают, что совершенство требует мгновенного действия. Всякий мальчик может зажечь спичку – добыть огня; в одно мгновение все позабыли о способе добывания огня первобытным трением дерева о дерево, и никто не рекламирует старый способ. В старое искусство стремятся вложить новый смысл революционного движения. Если икону жизнь выбросила из домов, то ее теперь показывают в одежде нового смысла. Икона спасается на чердаке черепа староваторов, которые хотят теперь выдать ее замуж современности, придав ей в приданое серебряно-золотые одежды, сшитые папами. В одежде нового смысла, и смысла не религиозного (ибо жених стал вне религий), она уже стала новым смыслом, почти тождественным современности. Но <в> действительно<сти> не так. Нет, это ложь, никогда церковное здание не будет иметь другого смысла, пока форма его сохраняется, даже если бы в нем была бы устроена лавка кооператива. Мы видим, что религия уже отмирает по той же причине нового смысла.
Уже икона не может быть тем смыслом, целью и средством, которым была раньше, она отошла в музей, где может еще спасаться под новым смыслом не религиозного понятия, а искусства; но по мере нашего углубления в новый творческий смысл она потеряет и это значение, в нее ничто нельзя вложить, ибо она будет бездушным манекеном прошлой духовной и утилитарной жизни.
Движение нового мира разделено на два: на боевой разрушительный авангард со знаменем экономии, политики, права и свободы и на творческую армию, которая вслед явится и создаст форму всему утилитарному и духовному миру вещей. Творчество – суть человека как главы природы, и каждый должен вступить в это действо. Творчество меняется в понятии так же, как и революционность партии. Некогда революцию видели в тех людях, которые оказались сегодня контрреволюционными, то же происходит и в искусстве. В академизме видели творчество, видели живопись и форму, но с наступлением новых течений оказалось, что в нем нет ни творчества, ни живописи, ни формы. Многие думают, что все может дать для народа благо, но только не коммунизм, тот же полагает, что академизм только может дать настоящее искусство, в обоих случаях заблуждение слепцов, не видящих своего совершенства.
До сих пор многие ясно не могут себе представить форму коммуны, так не могут увидеть форму и в новом искусстве, но тот, кто увидел, тот увидел новый мир своей жизни. Только потому, что в новом искусстве не видели ни формы, ни искусства, и были произведены нападки и гонения, и потому происходили гонения и в формах политических. Если раньше искусство опиралось на красоту художества, то сегодня нам нужно стать на чисто творческий путь экономического движения. Это единственный тракт всечеловеческого развития, из чего вытекает всякая форма, которая международна есть: автомобиль, аэроплан, телефон, машина и др. вещи. Разложение этого понятия среди народа и введение его в творческое русло изобретений поставит его в условие всемирного единства. Экономичность при движении равна всем, – вкусы к красоте в каждом разны и потому идут не к единству, а к разделению и обособленности, из чего современность выходит через коммунизм.
Необходимо творчество поставить в сознание как цель жизни, как совершенство самого себя, и потому на искусство должны измениться существующие взгляды как на картинку наслаждений, украшения, настроения, переживания, передачу прекрасного природы и т. д. Такого искусства больше нет, как нет шутов, плясунов и разного рода театральных кривляк (эти обезьяньи ужимки тоже кончились). Настало молчаливое динамическое творчество сооружения нового искусства, красного образа мира.
И потому все должны идти на его создание. Мы входим в новый рай, чтобы создать новый образ свой, сбросив личину подобия старого божества.
Мы же построим не по подобию своему, а по совершенству, отделяющему наше подобие. Новый человек и новый наш мир распылен, наше сознание не может его еще увидеть в целом, как старый мир видит меня как результат всех усилий его. Мы должны идти к обсерватории и привести туда наше сознание, чтобы оно увидело распыленный организм нового человека в целом. Вот наше единственное совершенно-вечное задание, и все, что бы мы ни строили, должно строиться для этого. И построение училищ, мастерских изобразительного искусства должно базироваться не на изобразительном, а на творческом сооружении. Каждый мастер и учащийся не должен быть художником-украшателем и слугою или шутом классов, никогда артист не станет артистом, пока будет видеть перед собою тоскующего или глупого обывателя, которого нужно размалеванной рожей увеселить, показать ему свои душевные внутренности. Ни природа, ни человек никому не должен служить и ни перед кем <ни> играть, ни петь, ни танцевать. Мы должны творить, и творчество наше будет нашим ростом. Но не бойтесь, что вы неученые, ибо вы сами великий опыт природо-естественного действа. Через великий опыт природо-естественного закона мы находим устойчивость и вводим свой всечеловеческий организм для реального сооружения мира. Такое сознание должно быть в наших природо-опытных мастерских. Все мастерские должны быть равны, будь они живописные или портняжеские, или посудные. Во всем должны видеть одну целость и взаимную зависимость и слитность единства организма. Один член движения и одна основа Сегодня, все отдельно обособленное, отдельно звучащее, имеющее особую задачу, цель, назначение, должно иметь и цельность, и единство. Нет обособленных форм в новом создании. Мы теперь увидели, что новое искусство творит и сооружает, а сооружение уже имеет одно основание. Уже оно в ряду изобретений, оно делает новое живое.
Академизм морализирует, копирует, компонирует художественную форму, сплетни жизни, чем переполнены подмостки театров и холсты изобразительного искусства; стоит в затылке действа, за спиною живой жизни и копирует, а новое искусство учит сооружению, идет в полной связи логико-развития природо-естества. Оно является тараном, делая живое время, отливая с него формы. Оно действительно выстраивает организм, но не залазит в душу соседа, в его психологию, оно не стоит под окном влюбленных или преступлений, оно не стремится в скелете человеческом воплотить художественный образ разбойника или добродетели, оно не кичится богатством дворцов, так же не плачется убогой хижиной. Этого нет в нашем природо-естественном существе, но этому уродству учил академизм; нам нужно молчаливое динамическое сооружение нового мира, чему должны учиться в наших новых велико-природо-опытных мастерских. Как мы должны учиться и на чем мы должны стоять – есть важный ответ, ибо на чем стоишь, таково будет и деяние. Что познается, то и реализуется; это происходит в моем познающем <сознании> и, пройдя опытное действо, фиксируется в бытие реальное; отсюда получается, что я разделен на два отделения: опытного познания лабораторного моделированного факта и второе – реального утилитарного живого действа; так естественно должны делиться и мастерские. Это главная основа, отсюда могут возникнуть отделы родов познания.
Итак, новые мастерские сооружений пойдут из художественной культуры эстетических красот в действо природо-опытного естества, потеряв все причуды изобразительного искусства. А чтобы выйти на путь новых мастерских, необходим план, программа единства надобна всем техническим сооружениям. Всякое явление формы – результат нашего энергийного движения, направленного по пути экономии, в силу чего происходит та или иная форма вещи. Каждое художественное направление есть форма того же порядка, устремление кратчайшим движением передать то или иное состояние вещи как вопроса, возникшего вовне. Но все направления, базируясь на эстетизме красоты художества, забыли о главном: экономии движения. Только в кубизме начинает выдвигаться ярче это основание, вылившееся в яркую форму супрематического направления. Новое искусство уже организуется не под флагом эстетического направления, а переходит в партийную организацию; «Уновис» уже партия, положившая в основу экономию. Таким образом, искусство вступает в единую связь с коммунизмом экономического блага человечества.
Статика, скорость, динамика суть современные смысловые выражения нового творчества, искусства и всей жизни. Каждая форма живет ими, а все силовые формы покоятся на экономичности ответа, что стоит в зависимости от познания, скажем, скорости и динамизма. Познав высшую напряженность скорости, получим как результат реальный образ машины, которая построится на экономическом начале скорейшего достижения.
Следующий процесс познания статики, скорости и динамики повлечет нас к неизбежному вопросу и ответу, выявляющимся в новоизобретенных вещах мира. Каждый такой вопрос и ответ требует особых армий делателей. Одной из таких армий была армия изобразительного искусства, но эта армия должна умереть, ибо стоит за спиной живого действа. Творческая армия сооружений двинет все свои силы по общему плану и системе экономической современности. Она должна быть так же построена, как построен общий план всего нового организма жизни современного человека, в ней уничтожены права собственности на искусство, каждая личность должна стать на точку общего развития, но не устраивать отдельные территории кабинетов искусства и жить своей личной программой и системой, она должна быть лишена своей личной программы так же, как всякий хозяин лишен развития своего харчевого экономического огорода. Армия сооружений искусств не может быть отделена от общности и пользоваться своими личными преимуществами и свободой подобно церкви, ибо будет противоречить революционному природо-естественному движению жизни. Всякое искусство есть форма, а всякая форма идет к совершенству через экономический путь движения, следовательно, она стоит в общей дороге общего пути форм жизни, и потому церковь как форма выхода из общего пути, оставаясь на своей платформе, будет или идти к падению, а если ее духовный мир будет прогрессировать, то он пойдет к духовному совершенству, что современности неприемлемо, ибо наступит разделение сил.
Всякая созданная форма духовного мира должна строиться в общем едином плане. Нет особых прав и свобод для искусства, религии и гражданской жизни; если в данный момент коммунистическое государство и отделило церковь, то это совершилось потому, что в сознании коммунистического общества не сознана причина отделения в смысле развития самодеятельности церкви. В логическом ходе коммунистического строительства церковь должна быть немедленно закрыта как частная торговля, как организм, употребляющий силу масс не на нужное сознание нового действа, <а> идущий вразрез с новым осознанием природо-вождя, как отвлечение силы от единства напряжения общего действа. И коммунистическое сознание борется другим способом, путем воспитания молодежи в бесцерковно-религиозном духе, представляя эту работу семье; но и оставление семьи есть так же уступка, ибо, чтобы довести полную логику до соответственности, нужно разбить семью, ибо всякий, родившийся в коммунистическом обществе, уже принадлежит обществу и его воспитанию. Таким образом придем к беспредметному миру, очищенному от всякой старой формы, и выйдем к супрематии новой формы предметного мира. И в недалеком будущем церковь и старое искусство должны окончить свое существование за неимением прихода. Новое искусство идет под одним знаменем общности. Но революция коснулась только гражданской жизни и установила в ней новую систему и план. Искусства революция не коснулась, она была использована молодыми вождями искусства, которые вторглись в насиженные кабинеты старых мастеров, частью их изгнали, частью помиловали, а потом подружил<ись>, оставили их на местах и рядом открыли такие же секретные кабинеты по обучению индивидуальной живописи, скульптуре, архитектуре. Революция была только в том, что каждый получил право иметь мастерскую, иметь церковь и свой приход и обучать в ней тому, чему ему хочется. У него своя программа, система и экономия, у него личный вкус, этому личному вкусу и обучает новый мастер свой приход художников. Революция добыла ему свободу, но он сделал свободу контрреволюционной общему положению о собственности и экономическому развитию каждого члена коммунистического общества. Она не ведет к единству целого, а раздробляет и укрепляет каждую личность в своей обособленности. Наши свободные Художественные Государственные Мастерские представляют собою контрреволюционные начала, они контрреволюционные академии. Академия шла по плану и системе, через что проходила каждая учащаяся личность. В этой системе стоял мастер, обучавший в определенном искусстве того времени гражданской и духовно-религиозно-моральной жизни. Ныне же наши мастерские представляют собою ряд секретных кабинетов. Каждый кабинет есть начало и конец познания совершенства мастера. Курс первый и курс последний, и потому мастерские не могут иметь единства, и не могут учащиеся познать то, что добыто жизнью. Никто не сможет уже отрицать новых течений, ни кубизма, ни футуризма, ни супрематизма. Эти направления существуют в жизни, их не вычеркнешь, мало того, они уже из направлений перешли в метод, в новое руководство.
Эти направления могут стать методом, планом и системою нашей современности мастерских. Они ставят каждую личность в план сооружений творческой конструкции. Кубизм не только познание нового начала, но и ставит наше сознание на новое философское реальное представление мира, чем подымает на новую поступь движения, а следовательно, ведет к супрематии утилитарного и духовного мира вещей новой формы. Академизм как художество, как философия познания, как психологическое явление уже есть определенная форма, образовавшая собою кольцо горизонта изобразительного искусства. Оставаться в этом горизонте не может больше творчество нового. Так же, как и экономическая, политическая, гражданская жизнь права и свободы.
Формой академизма как изображения, как агитации, посредством чего идет пропаганда, суть временное, так же, как и вывески бакалейных лавок. Грамотность уничтожит изображение предметов на вывесках, а выражение силовых ощущений возможно только отвлеченными формами движения красного против белого; как нельзя передать силовые движения машины через изображение человека, так нельзя передать действительную мощь красного, изображая рабочего в красном фартуке. Изобразительность не в сути новых искусств, в них лежит творческое сооружение; подымаясь через путь сооружений, мы достигаем высшего природо-естественного развития во всем человечестве. Мы идем к тому миру, в котором все будут творить, но не повторять, не машинизировать выброшенную идеедателем форму. Мы должны поставить путь творчеству так, чтобы вся масса участвовала в развитии каждой явленной творческой мысли, но не превращаться в машинное производство как штампование. Разрешение этого вопроса может вывести весь народ из машинного состояния фабрикации мысли одного идеедателя. Экономически-утилитарная жизнь вещей находится в самом отчаянном положении этого смысла. Весь пролетариат является производственной силой, потому стоит в рабстве одного или десятков идеедателей вещи. Один из творцов изобрел плуг или другую вещь и передает ее на фабрику и на завод, где она воспроизводится в миллионах повторений. Вся масса рабочих организмов превращается в машину и потому не может участвовать в творческом изобретении, ибо даже все фактурные особенности поверхности: качество, упругость и прочность материала – уже предусмотрены изобретателем.
В этом смысле лучше стоит дело в изобразительном и вообще в искусстве, где всякая творческая мысль одного выдвинувшегося направления никогда не попадает под машинность производства, хотя имеет целый ряд личностей, разделявших эту мысль, и в свою очередь продолжает в них участвовать в творчестве. Таким образом каждая личность горячо борется за выдвинутую мысль первого борца и превращает ее в массовую творческую работу, вливая в ее систему и план свою творческую инициативу. В каждом живет творческое начало, ибо каждый череп человека носит одну и ту же силу и начало, и потому бывает преемственность обоюдного понимания и согласованность друг с другом, потому только и получает развитие идея. Все же непонимания и само непонимание происходит потому, что в черепе человека не установлены в порядке развития мысли, они расставлены в хаосе, и чтобы добраться до нужной мне мысли, я должен совершить путь через нагромождения, нарушить их и приблизить нужную мне мораль. В человечестве существует мысль единства, в чем его существо, но она заставлена так, что с большим трудом достигаема, и наше современное коммунистическое начало идет к ней, но, ввиду того, что на пути стоят хаотические формы, нельзя иначе пройти, как через войну, хотя большой успех достижения будет достигнут через творческое построение форм жизни. Если бы народные массы были освобождены от границ и национального и разного рода патриотизма, собственности, навьюченного на их существо ложными вождями, то весь народ слился бы воедино и образовал свою природо-естественную связь общей слитности, шел бы к единоформию всех своих сил, но, будучи разбит национализмом и сохраняя его, не может соединиться и потому образует множество форм своего личного национального самоустройства.
Современность существа сегодняшнего нового человека идет в единство, стремящееся разграничить национальные огороды и призвать к одному полюсу все нации, чтобы они в единстве создали образ всего человечества. К этому объединению и единству путь один – экономический. Это тот бублик, за которым потянется человек для того, чтобы совершить форму чистого действа. Таков путь экономическо-политического авангарда, приготовляющего территорию для чистого действа творчества. В этом супрематия современности. Изобразительное искусство тоже шло в зависимости от всех особенностей национализма. Оно точка в точку развивалось согласно всем поступям экономическо-политического, морального, религиозно-анекдотического, историческо-бытовых явлений, оно тоже имело просыпающихся людей, кричащих о чистом единстве живописного действа. Но эти люди были не изобразительного искусства, это люди творческих сооружений, поэтому только многие из них были изгнаны государством, осмеяны обществом и позорной прессой критики. Они были брошены во власть холода и голода, но их согревала юность, и потому они живы, несмотря на всякие невзгоды. И вот мы дожили до дней, когда совершилась великая революция в изобразительном искусстве. 1910 год был разгаром, был столкновением революционного творческого сооружения кубизма с изобразительным искусством.
Эта гражданская война нового искусства со старым длится и до сих пор. Академизм староваторов вел отчаянную борьбу в печати, цензуре с новаторами искусства, и революция Октябрьская, разрушив основы старого государства, частью признала и новаторов искусства. Новаторов искусства признали и даже дали представительство в Коллегии староваторов, но это нас не удовлетворяет; изобразительное искусство должно быть уничтожено как империалистическая армия, мы, новаторы, протестуем против Учредительного собрания в искусстве, ибо в соглашении существует нелепость соединения двух противоположных течений, которые образуют всегда урода третьего рода, таково учредительное изобразительное искусство. Стоя в неустанной борьбе вчера и сегодня, мы идем к восстановлению нового пути новаторов искусства, которое сделаем методом и системою для устройства утилитарного мира вещей как тендера движущегося существа; пойдем к новому творчеству не единоличного, но единого, всемассового. Наши мастерские изобразительного искусства представляют собою учредительное собрание, ибо они вмещают в себе все направления и даже отдельные обособленные личности, стоящие вне направлений, – беспартийных. Мастерские даже имеют свой художественный педагогический Совет, что является недоразумением, ибо педагогического Совета из представителей разного рода вероисповеданий не может быть, и никакого коллектива не мыслимо построить. Тогда, когда общепознавательный план учащихся возможен в коллективном единстве, современное построение мастерских я считаю самым вредным элементом в то время, когда человек стремится через коллектив к общему плану всемирного единства. Преимущество имеют течения, направления, ибо они – массовые, они представляют собою партии, упирающиеся на экономическую платформу движения, образующего формы. И вот в этом смысле между ними можно находить их современность. Самое ценное в направлениях есть учение познания сооружения, где композиция в соответствии форм строится в природо-естественном сооружении, преследуя экономическое общее движение перевоплощающегося мира. Таковые направления стоят всегда с ходом всей жизни, всякое же личное, узкоиндивидуальное никогда не будет стоять в общем индивидуальном, оно всегда будет стремиться создать мир своих личных эстетических переживаний, создать то, что не нужно всей природе, которая идет целым направлением, выбрасывая миры новых вещей по экономической дороге и преодолевая бесконечности своего пути.
Из всех направлений современности я ставлю законным искусством Сезанна и Ван Гога как исходную точку, дальше кубизм как учение и опыт сооружения, в котором существует законность природо-естества. Через него оно познается и включается в личность. Через кубизм познается сущность природо-естественного сооружения, через опыт, ведущий к развитию внутренней чувствительности меры в связи и установлении между собою форм и разнородных масштабов и веса. Футуризм знакомит нас со скоростью сил, ведет к познанию скорости, что побуждает к изобретению новых построений. Скорость – наша сущность, мы с каждым днем стремимся скорее бежать, и сейчас наше сознание вышло уже из познания. В силу чего мы становимся чуткими к восприятию нового построения, выражающего силу динамизма. Каждая машина есть явление познания скорости, и всякое выявление чем бы то ни было новой скорости неуклонно ведет к изобретению реального знака, следовательно, футуризм и кубизм являются великими опытами естественного природо-развития, через которые рождается будущее и современный наш мир. Когда наше сознание постигнет величину скорости движения, постольку оно явит новые формы. Футуризм машин показал ничтожность колясок и колесниц Греции и Рима, тоже новое течение искусства покажет ничтожность академизма. Вот почему я останавливаюсь на кубизме и футуризме как главных истоках и допускаю все другие новые направления, базирующиеся на экономии. Сегодня на Российской территории образовался полюс нового мира, и весь старый мир восстал против него. Вожди экономическо-политических армий – права и свободы – ведут борьбу.
Как встарь запад, и восток, и юг давили нас своим экономическим правом, также и искусством. Сегодня мы уже имеем армию нового начала жизни экономической и уже имеем авангарды искусства. Экономическая жизнь нового мира выставила коммуну. Творчество нового искусства сооружений выставило супрематизм квадрата. Наши новые университеты творческих сооружений будут новыми, и о них мы должны заботиться, как о корне растущего человека, его жизни. Современный университет сооружений искусства не должен вмещать в себе личных мастерских, представляющих собой отдельные училища. Университет должен быть построен на единой аудитории живописной, скульптурной, архитектурной. Все вместе – аудитория творческих сооружений. Весь новый путь развития вопросов живописи останется единым познавателем для всех, ибо через каждое направление не только говорит обособленное «я», но и «я» всемирного стихийного движения, что нужно познать. Познать в нем частицу опыта для полноты единства сооружений. Необходимо немедленно приступить к подготовке кадра неведов искусства, чтобы создать действительно новый университет творчества по новому методу, тогда только мастерские примут систему и план современности.
Предлагаемый мною кубизм как исток живописного творческого познания объясняю тем, что в нем существует наибогатейшее развитие живописи и формы и строгие системы сооружений. Кубизм делится на четыре ступени: первая геометрическая абстрактная, познание чистой формы, вторая базируется на чистой живописи, и третья, где напряжение живописи входит в соприкосновение с разнообразными материалами как живописными слитками особых поверхностей, которых нельзя достигнуть путем имитации (но необходимых в развитии живописной полноты поверхностей сооружений), и четвертая, где наклейки материалов начинают развиваться в рельеф и контррельеф, выводя сооружение из холста в реальное пространство. Отсюда мы вступаем в сооружение новой архитектуры, современность которой может быть определяема мерой экономического выражения. Это мир стихии. Мир скорости начинаем познавать в футуризме, мир вращения бесфундаментных сооружений. Отсюда выходим к системе и плану супрематизма цветового и бесцветного, плоскостного и объемных сооружений, базирующихся на экономии супрематического квадрата как основы нового экономического реального тела.
Общий путь философский этих течений идет к распылению вещей, к беспредметному <искусству> и супрематизму как новому реальному утилитарному телу и духовному миру явлений. Наступает юность мира чистого действа. Итак, создание творческого университета сооружений ныне главное необходимое дело. Предстоит работа творческо-новых сооружений жизни. Уже не может выдержать старая форма ни архитектуры, ни скульптуры, ни живописи нового смысла жизни. Эти архитектурные и скульптурно-живописные кошельки нужны старому миру воззрений как кошельки капиталистического государства. Нам же не нужны. Новый смысл жизни не может быть скопляем в кошельках, ибо его весь мир. Так новый смысл жизни в корне подорвал архитектуру религиозную, подорвал ее живопись, новый смысл не посмотрел, что это была культура искусства, что это был один из путей развития искусства, но староваторы не хотят согласиться с тем, что икона уже потеряла свое значение и в новом смысле государства является обузою. Староваторы спешат, чтобы на освобожденных площадях революции воздвигнуть умершие стили и обелиски Рамзесов. Староваторы спешат, чтобы на подмостках театров укрепить царские пьесы, свергнутые в жизни революцией. Посмотрите постройки старого русского стиля или классического; не может ли он вместить футуризм нового смысла современности? Нет, он уже не может быть даже богадельней. Но нам угрожает эта опасность, нам угрожает воскресение трупов; кладбищенские сторожа по охране памятников старины найдут целебные воды, скрепят цементом современности их чахлые кости и позастроят наши живые красные площади. «Надо народу показать все», – говорят; тогда спешите, показывайте манекены, отвлекайте мертвых от создания нового. Надо учить народ всему, но тогда будьте логичны, учите авиатора сначала езде на греческих колесницах, учите править шестерней.
Да здравствует авиатор новой езды, плавания и летания, отвергший колесницу старого времени.
Да здравствует та молодежь, которая пойдет за авангардом современности нового смысла и форм.
Да здравствует ниспровержение старого мира искусств.
Да здравствует новый мир вещей.
Да здравствует единая Всероссийская аудитория сооружений.
Да здравствуют наши красные вожди современной жизни и красное творчество искусств нового.
О партии в искусстве*
Один из главных вопросов сегодняшних дней есть вопрос о создании современной культуры, постройка культурного парника, в котором смогло вырасти поколение современности как результат современного мировоззрения. Закладка такового парника не есть только разрешение местного значения, но является всемирным вопросом. Парник культуры должен быть построен так, чтобы вырастающая из него сила сознания смогла бы стать образцом и совершенством времени нашей новой эпохи. Меня будут убеждать о том, что при создании такового парника не должно быть партийного явления. Партийность-де может быть только в жизни политическо-экономической, что должно занять известную часть государства, т. е. парника, все же остальные его области должны быть беспартийными, в особенности искусство – при чем здесь партийность? Очевидно, как бы мы ни обходили вопрос партийности, его обойти нельзя не только в жизненном политическом вопросе, но и в чисто научном; партия и наука – это разное, мне скажут, изучение чего бы то ни было и не связано партией; я скажу дальше, что все материалы <, такие> как гранит, дерево, цемент и т. д., ничего не имеют общего с партиями; все еще скажут мне, что какое дело и значение партийность имеет, когда дело о знании. Надо поставить вопрос так о культуре, чтобы партийность не имела места, таково мнение большинства искусстводелателей; совсем другое мнение жизнеделателей – у них партийность прежде всего, партийный человек – человек с головой, какая голова – это уж зависит от того, в какой партии он состоит. Быть же во всех других областях беспартийным – быть безголовым. На самом деле, что есть партия? Мне кажется, что всякий человек, стремящийся установить известную истину, – уже партийный. Непартийным может быть только тот, который обладает таким устройством своего мозга и духа, кот<орый> никогда не имеет своего суждения. Мы привыкли страшно узко рассматривать вопрос о партии, нам кажется, что вождь политический есть партийный, а какой-либо изобретатель-ученый – не партийный. Но я полагаю, что партийный не только тот, кто записался в партию, но и всякий устанавливающий свою истину, какой бы эта истина ни была и в каком масштабе, это не важно, она хочет установить свое. Всякий ученый и научившийся человек открывает то, в большинстве случаев чему в науках прошлого не научился и что является фактом нового изучения. Что такое партийный человек? Это тоже ученый, изучивший прежнее состояние экономических положений, и <он> создал то, что ни в какой науке не существовало. И тот и другой – два научных деятеля, кот<орые> тем или иным способом проводят свою новую истину о жизни; как тот, так и другой одинаково терпят неудачу, ни тому, ни другому государство и общество не доверяют, и им приходится действовать за свой риск и страх. Что касается ученых, они больше увлечены своей научной работой, оставляют свои научные открытия на волю судьбы, и приходит волна, подхватывает его открытие и утверждает в жизнь. Я уверен, что если бы во времена четырнадцатого века изобретатель предложил свой телефон – его бы сожгли, и изобретение лежало бы до нашего времени. Тоже весь Запад поступил бы так с изобретателями нашего политического экономического аппарата. Маркс изобрел учение, ему не верили. Но уже сейчас наша современность утверждает его, и это утверждение сам он не смог сделать, пока не образовалась партия. И уже партия делает новые научные выводы из опыта, утверждающиеся в жизни или делающие новую жизнь. Но что партия несет в себе? Несет ли она только один харч или же в ней кроется еще что-то? На мой взгляд, партия несет с собою известное мировоззрение, получившееся от научного, философского, практического, экономического исследования. И если какая-нибудь непартия известной истины утверждает себя в жизни, то тем самым утверждает свое партийное мировоззрение, приступает к его реализации и образует миростроение. Таким образом, все возникающие миростроения есть партийные установления, и все материалы, наука, все знания будут средствами введения в жизнь партийного миростроения. В этом смысл всех партий и борьба за сложение в новую гармонию материалов. Стоит только обратить внимание и увидеть, что это так. Конечно, мне могут возразить партийные люди, что мы-де должны быть партийными, а все остальное, скажем искусство, должно быть беспартийным, ибо если оно будет партийным, то не сможет быть средством партии, и потому партия и ратует за то, чтобы построить так аппараты искусств, чтобы оно было полезным средством при постройке моей культуры новой гармонии. В этом выводе еще бессознательно кроется смысл агитации против партийного искусства, хотя часто упоминается «политика в искусстве». Такое возражение в порядке вещей, ибо кто же и какое государство и партия не заботились об искусстве. Но вопрос другой, выходит ли что из этого? Мы видим, что как ни гнали социализм и как ни хотели противники сделать его своим средством, но из этого вышел только социализм, да еще социальный. Таково<е> положение будет всегда. Таким образом, все искусстводелатели и учащиеся этому деланию по наивности думают, что они творят беспартийное дело, ибо заняты знанием, на самом деле <они> находятся во власти партии как средство реализации известного мировоззрения. (Этим самым я не хочу сказать, чтобы все искусстводелатели убежали из известного мировоззрения партии, хотя они все считают себя счастливыми, ибо думают, что они вне партии.)
Почему настаиваю на этом – к этому меня приводят исследования партийного экономического харчевого устройства жизни как научное практическое обоснование и то неясное, мятущееся положение партии в поисках культуры; сейчас это чрезвычайно острый вопрос, большое напряжение в искании новой культуры под разными флагами – пролетарской, коммунистической и общечеловеческой. Последнее начинает принимать супрематическое место (первенствующее), и я вижу, как глава просвещения ищет культуру с фонарем1. Это указывает, что в вопросах о культуре в политическо-экономических партиях не было ядра культурного движения, что было бы полнотою целого миропостроения. Если бы оно в партийном политическом ядре было, то культуры не пришлось искать, она была бы так же введена, как вводятся экономические и другие положения, в чистом виде, без всяких соглашательств и исканий по кладовкам антикварных лавок. Проводится чистая мысль известного выявления формы жизни. Совсем другое творится в политике культуры общего и в частности <в> политике в искусстве, здесь как будто, с одной стороны, представляется полная свобода, придерживающаяся принципа «неси все каждый, после разберемся»; с другой – стремление ограничить свободу и направить к определенной цели пролетарской, коммунистической, общечеловеческой; с третьей – представление всем существующим староваторам и новаторам пролетарской, коммунистической и общечеловеческой арены, на которой бы как фокусники или жрецы от искусств жонглировали своими талисманами, показывали свое знание, опыт, и тогда пролетариат, коммунисты, общечеловеки выберут себе подходящее и построят свою новую культуру; ясно, что от этой инкрустации получится. Конечно, на этой арене имеют преимущество староваторы, хотя бы в печатных органах. Новаторов нет, а все представители, как будто сочувствующие новаторам, стоят на страже, охраняя беспартийность искусства. Охраняя беспартийность, мы стремимся наивысшую, наиценнейшую силу «двигать вперед» обезглавить и добиться безглавой культуры. Ведь вся сила в партийности человека, а не в беспартийности (моя хата с краю, сижу хлебопашеством занимаюсь, огородничеством, а там пусть себе что хочешь, не трогай меня).
В данный момент искать новой формы культуры не приходится, <но> стоит только подойти к этому вопросу так, как подошли к политико-экономическим, так же строго анализируя хотя бы одну часть общего пути искусства, и мы сразу найдем те ступени развития, тот порядок совершенств, который включается в современный вывод и продолжает дальнейшее строительство, мы тогда увидим налицо последовательность и указание дальнейшего предполагаемого пути; в политико-экономических учениях всех политических партий коммунистическая партия была совершенством вывода, революционным путем утвердила новую форму, через свое действие ускорила совершенство, вычеркнув один или два века времени. Не есть ли таковое положение и даже полное соответствие в искусстве, не будут ли последние течения нового искусства теми же партиями, борющимися за восстановление определенной формы, в них уже ясен анализ академизма, так же и выводы дальнейшего. На них нужно базировать новую основу искусства; конечно, этим возможно заняться только тогда, когда к ним будем относиться без предрассудков и горячности. Но это касается исследователей, но не касается самих представителей, которые должны вести борьбу и восстанавливать, призывать все время революционный дух.
Рассматривая дальше положение о проведении в жизнь формы, я нахожу невозможным ждать, пока пролетариат сам выработает культуру, «строя ее из старого антикварного и новаторского». Это все равно, если бы наши новаторы Коммунистической системы ждали, когда народ построит новое из осколков разных партийных систем (получилось это в образе учредителей, системе, благополучно разломанной2), или ждали бы, пока сам пролетариат восстал и устроил свою жизнь по-новому. Пришлось вождям войти в пролетарскую массу, будучи в большинстве случаев людьми непролетарского происхождения; <они> стали проповедовать свое учение, указывая дорогу к освобождению от всего, что делало рабом человека. Это учение было трудно усва<ива>емое и по сие время.
Идея коммунистическая утверждается в России, где к учению была призвана и власть как уже сила скорейшего его проведения и таким образом <способная> остальную часть безголовых привести к новому харчевому стойлу силою и показать, что здесь тебе то, о чем сам смутно «мечтал». Очевидно, и в искусстве произойдет таковое же соответствие.
Учение новаторов должно пойти в массу и провести в жизнь с ее помощью свои совершенства действительного построения культурного парника нового формообразования.
Я хочу утвердить именно партийность в искусстве и доказать, что вне партийности быть – значит, не существовать. Существующий партиен. На самом деле, еще раз, что такое партия? Разве два человека, Маркс и Энгельс, подписавшие свой манифест3, не были партией, разве каждый в отдельности из них не был партией, не жило ли содержание в них или в нем, ныне выразившееся сотней тысяч членов, не из их ли семени выросли и растут сотни единиц <?>
Если возразят, что партийное лишь временное, а после наступит «любовь и братство», наступит «царство небесное», то во имя чего это достижение, во имя чего наступит беспартийность в единоликом единстве человечества? Но ведь эти слова будут только туманом, ибо что есть мир, любовь и братство и в чем заключается небесное царство на земле, а что делать с движением? Не есть ли туман еще одно слово – «свобода»? Что это за слово и как его нужно понимать?
Дальше – что есть искусство? В большей части оно есть средство отражения построенного в жизни мировоззрения. Ясно, что старая академия была результатом и училищем такового. В ней обучался человек и получал средства не для того, чтобы остаться с ними в полной свободе, этого никогда не может быть.
Все средства он получал такие только, которыми можно выразить существующее мировоззрение, ибо все средства произошли от мировоззрения. Если же один из учащихся сумеет отвергнуть их и указать на новые, то горе ему. Следовательно, мнимая свобода его творчеств по-за пределами училища остается только той свободой и формою того творчества, которое бы выражало живущее мировоззрение. Отсюда вопрос о творчестве раскрывается в очень интересный ответ его научаемости, именно: всякая творческая форма уже устанавливается системою мировоззрения.
(Напечатать об этих моих исследованиях не удается, т. к. бумага занята исследованием о раскрытии суздальских икон, см. «Худож<ественную> жизнь»)4.
Почему принцип свободных г<осударственных> х<удожественных> мастерских не выдержал критики и должен был замениться обязательством и дисциплиною? Это явление происходит от того, что в нас уже существует начало нового мировоззрения искусства; но это еще смутно. Произошла перегруппировка; свободн<ые> мастерские образовали кольцо под видом «специальных мастерских», второе кольцо «общеживописное»; остальное – испытательные5. Смысл – изучение фабричного или научного познания сил материалов и т. д. Главное – оборудовать учащегося всеми средствами знания и опыта для того, чтобы он мог после «свободно творить»; но тут ясно, что при этом построении и эти средства ничего ему не дадут, ибо нет ответа, во что и что творить; уяснены ли те системы, во что воплотятся новые гармонии материалов? Вот самый главный вопрос. Ибо последнее возможно тогда, когда уже ясно мировоззрение, т. е. установлена система, которая должна заполниться телом, сделанным средствами, данными училищем, что неясно современности. Но ведь оно их само пока [не знает], следов<ательно,> пусто. Нужно уберечь учащегося, чтобы он не был «маленьким Кончаловским, Машковым» в Москве, а в Витебске «крошкою Пикассо, Сезанном». Но в Москве, как нарочно или по необходимости, учащиеся опять поставлены так, что после прохождения всех дисциплин попадают в специальные, т. е. к тому же Кончаловскому, Машкову, и опять – начали за здравие, кончили за упокой. Но зато это уже беспартийно, никаких направлений нет, есть научное фабричное прохождение натюрмортов без всякого взгляда и отношения, ибо каждый взгляд уже партиен. Упущено главное – мировоззрение, забыто про то, что все от него рождается, забыто, что мировоззрение есть реальный мир распылившейся системы форм, что каждое воззрение требует соответствующие материалы и средства, почему каждая эпоха имеет новую форму. Нелепость и боязнь, чтобы учащиеся не были «маленькими Удальцовыми или Родченко-Древиными», – полный абсурд. Это равносильно тому, если бы вожди политическо-экономической жизни стремились, чтобы отстранить все учение и мировоззрение Карла Маркса и других деятелей от постижения масс, чтобы не было «маленьких Марксов».
В искусстве происходит то же самое, что и во всей полит<ической> экон<омической> жизни. В первой четверти нашего века произошли большие сдвиги. Кубизм – это не простая безделушка, обслуживающая мещанскую сутолоку, это целое мировоззрение, уже имеющее за собой целый ряд научных исследований. Разве это не партия, проведшая в жизнь свое отношение к вещи, а футуризм разве не мировоззрение? Даже т. Луначарский признал их полезными в пролетарской культуре, называя их просто «новаторскими». Разве Сезанн и Ван Гог не установили известного мироотношения? Отсюда следует, что если мы будем изучать все партии или отдельные единицы, то это не значит, что учащийся будет «маленьким Сезанном или Пикассо». Важно изучить все моменты, касающиеся и других возможностей последних изысканий. (Всякий живописец есть уже ученый, а его произведение разве не книга <?>) Важно изучить системы их, ибо отныне мы продолжим совершенство6. И вот когда мы приходим к слову «проведем», начинается острая, напряженная партийность. И в данный момент искусство нового мировоззрения хочет установить форму, напр<имер> архитектуру современной живописи в широком смысле слова. Мировоззрение это нужно изучить, ибо в нем уже средство.
Быть ли греками в нашем времени или же мы установим свою форму<?> Мы или они – строители новых сооружений нашей современности<?>
«Я – искусство – прежде всего свободно, куда хочу – полечу, передо мною все равны, лишь бы в этом равенстве я нашло свое эстетическое, моральное, религиозное, историческое или другое содержание и смысл. Для меня не может быть ограничений и границ; я без времени и чисел; я свободнее в своих творениях, чем ветер; я одинаково прекрасно и все формы всех времен будут прекрасны, как только я коснусь их, и мой художник не похож на вас, ограниченных свободой <в свободе?> системою и вечным стремлением к совершенству форм технической жизни. Вы никогда не можете быть такими гибкими, как он; вы смертельны <смертны?>, мой же художник не знает современности, для него нет <ни> времени, ни чисел, он свободен и сегодня живет в совершенствах прошлой вашей жизни так же, как и сегодняшних. Вам только сегодняшнее принадлежит, для него все; для него нет ничтожного ни в чем, стоит ему коснуться и воплотить меня, как вещи становятся равноценными во всех эпохах вашего времени. Я – искусство вечной или безвечной гармонии миров вещей – освобождаю из мрака времени убитые вами вещи событий, возвращаю им жизнь в моей бесконечной гармонии. Таково мое действие, в котором нет ни совершенства, ни культуры, ни силы».
Но так ли? Прежде всего – чем является гармония? Есть ли это действие или бездействование? Уже ясен ответ, что гармония – результат действия, образующего тело, а раз это действие, то, очевидно, его движение находится в бесконечном изменении, а всякое изменение есть новое созвучие, произошедшее от нового соотношения между собою, что создало образ.
Соотношение явилось через систему построения, ибо иначе не может выявиться [материя], звук в гармонию.
Ясно отсюда, что искусство и его художник во власти систем конструкций и законов, ибо все это он сам есть, он есть действие или он совокупность действия миллионов единиц построенного организма как вечно изменяющейся гармонии.
И вот тот, кто постиг новое соотношение звуков или тел, стремится построить мир в этой новой гармонии соотношений; эта гармония соотношений материалов, выражающихся в вещах, что называем утилитарным<и>, и будет гармонией мира. Это стремление настолько сильно, что никакое гонение и преследование сложителей новой гармонии тел не сможет уничтожить его.
К. Малевич.
ЕСЛИ
Если армия была нужна для победы над белыми, то теперь нужна для победы над культурою белых.
Если армия нужна для битвы с трудом, то нужна дивизия творцов форм, во что выльется труд.
Если армия труда нужна для завоевания материала, то нужен корпус для [завоевания] станков производства.
Если нужны станки производства, то нужно знать, что они будут производить.
Если мы воскресим станки производства, остывшие перед революцией, они воскресят нам культуру дореволюционную.
Если новаторы экономических харчевых благ воскресят белые булки и распределят и<х> поровну, то мы должны создать новую архитектуру культуры. От первого мы будем в теле, а от второго духовны и динамичны.
Если новаторы экономических харчевых благ ищут культуры – пролетарской, коммунистической, общечеловеческой, то мы поможем найти ее.
Если новаторы экономических харчевых благ подняли красное знамя, предвещающее катастрофу старой системы жизни, [то] мы подняли красный семафор, указывающий катастрофу старой культуре вообще и искусству.
Если новаторы экономических харчевых благ стоят у рукояти своих систем, делая жизнь, то новаторы искусств должны стать у рукояти культуры этой жизни.
Если убить новаторов искусства – убить архитектурную форму современности.
Если новаторы экономических харчевых систем победили белый экономизм, мы победим белую культуру.
Если вожди современного просвещения ищут культуры нового из образований староваторов и новаторов, – значит, не нашли нового мировоззрения.
Найти мировоззрение – значит, найти культуру. Никогда новую культуру нельзя образовать и<з> сочетания двух мировоззрений – таковая культура будет бесплодной.
Уновис*
Всякий экономически-политический шаг есть революционное движение, предшествующее нашему существу, как подобный кухонный авангард, приготовляющий возможность для выражения новых форм образа жизни, в чем и наступает действо нового смысла, так как всякий смысл идет через сознание человека во все века его движения из совершенства в совершенство, ибо он, человек как существо, был во всех образах мира и шел только экономическим путем, то отсюда экономия является одной магистралью всего творческого движения. Всякое действие человека идет по пути этого расчета, и всякая творческая форма строится на экономическом разрешении, и всякая вещь есть ответ разрешенного экономического вопроса. Искусство, сознательно строящее свои вещи на красоте художественности в бессознательном, упирается на экономическое разрешение задачи изображения, достигая сущности в кратчайшем пути ясности выражения.
Но все живописные движения шли к вещам как формам живописным, где в некоторых случаях они были протоколированы, в других – служили мостом развития живописного действа, осознанного в себе, где творческое начало выражалось только в созданиях живописной материи, достигаемой через смешение в творческом внутреннем центре живописца. Развившееся творческое начало захотело волю свою употребить на создание чистого живописного образа, избегая скелетов уже существующих вещей, вытекающих не из живописных движений человеческого существа, а утилитарных и религиозно-духовных необходимостей.
Таким образом, из бессознательного выросла степень нового сознания и смысла живописного побуждения. Ясно стало, что живописное существо не родилось для того только, что<б> быть средством для причин, но стало само причиною действа человека-живописца.
Если через искусство свое человек проникал в бытие вещей, выводя из него образ через ощущения в себе представляемых и существующих сложений, то в живописной самопричине выявленный образ есть то, во что нужно проникнуть как в новый организм вещи, – это есть действо чистого явления творческого опыта природоестественного движения к новому организму мира.
Бесконечное движение живописного творческого существа через вещи мира вышло на путь кубизма как разрушения его вещей, освобождения воли и разума от их смысла для создания нового смысла творческо-живописных самопричин.
Кубизм – самый яркий путь движения; обоснование его хотя и было на чисто формальных основах живописных соотношений, но в глубоком его смысле лежала мысль о чистом творчестве. Человек-живописец вернулся к чистому действу великого опыта, достигая через свои внутренние природоестественные побуждения новых конструкций мировыявления. Таков смысл кубистического существа, которое цеплялось еще за торчащие кости скелета старого, пробиваясь к беспредметности, а оттуда к супрематизму как новому реализму. Все выражения творческих сил идут для того, чтобы выразить самое сокровенное своего внутреннего познания, чтобы каждый возникший вопрос был чистым по форме ответом, поэтому всякая вещь не что иное, как ответ, а само совершенство – исправление ответа.
Всякий такой ответ строится на экономических началах движения, чтобы его форма была очищена от лишнего и представлена в исчерпывающем образе. Все усилие человека-техника направлено по экономической магистрали и движет свой вопрос к самому экономическому ответу. Никогда он не будет останавливаться на красоте и художестве своей предыдущей формы, а будет совершенствовать экономический ответ дальше, и потому соотношения формообразующих тело организма будут в соотношении экономическом, но не красоты оснований. Последствия созданного тела создают к себе известное отношение, привычку и воспитывают красоты.
Экономия – пятая мера современности. Только через экономическое измерение мы можем определить родственную ей форму. Экономия как измерение всегда революционно и никогда реакционно. Экономия – ключ к единству. Наше творческое существо базирует на ней свои установления и согласованность всех радиусов движения форм жизни. Через нее существо личности вводится в смысл общности единства, становясь рукоятью системы общего действа. Вот почему коллективы являются собирательной силой личности, чтобы перекинуть распыленное существо в мир единства общего действа. Об этом хлопочет существо человека, и в этом будет его экономический ответ, как образ нового мира, где станут ясны все предшествующие смыслы.
Итак, смысл каждой личности в этом, но благодаря сокрытию этого вопроса в глубине бессознательного личность стремится загородить себя от соседа и на загороженном месте строит свой мирок, ей лично принадлежащий, потому смысл существа как единого образа стремится разбить и воплотить в себя находящуюся в личности свою частицу.
Экономическо-политические права человека становятся к единому уровню как соответствие главного средства для всесоздания творческого образа, задуманного в существе плана.
Следовательно, искусство должно тоже выйти из бессознательного к сознанию того, на чем базируется все. Разрозненность и отчужденность должны быть побеждены новым смыслом. Кабинетные экономические права должны так же аннулироваться, как частная огородная система хозяина аннулирована экономическим ответом харчевой жизни.
Современная жизнь базируется на экономической общности единства и противопоставляет силу свою против личного кабинетного права отчужденности и неприкосновенности.
Каждая отдельная неприкосновенная личность живет своей экономией и вкусом. Отсюда современный город сегодняшнего представляет собою площадь, на которой расставлены в сумбурном, хаотическом порядке все дома и вся жизнь вещей. Этот хаос, который нам даже кажется красотою, произошел оттого, что личности, живущие в нем, не находятся в экономических соответствиях к общему. Таким образом, каждая личность выстроила себе отдельный мирок. Это еще следствие рассыпанных самостоятельных единиц существа, которое через экономическую магистраль стремится собрать свою волю и разум к единому центру. Новый город единой личностью будет строиться на общеэкономических началах. Его формы возникнут от диктатуры экономии, но не художественного начала.
Если мы говорим о прекрасном как о вечном, то прекрасное может быть воплощено в экономическое существо как важный вопрос и ответ. Следовательно, само прекрасное как отдельное понятие будет включено в единство общего, но не отдельно существующей неприкосновенной личности. Таким образом, заборы красоты мирков личности будут разломаны личностью экономической, единой.
Выйдя на экономический путь, личность неприкосновенная увидит свою бедность и познает великое свое богатство в образе единства. Она узнает, что она – крупица того существа, которое некогда распылилось, будучи целым, и распылилось в силу катастрофы или стремится сейчас к своей целости. Такая же параллель должна быть в искусстве, ибо тогда только пути жизни сойдутся к единому центру.
Новые искусства – кубизм, футуризм – дают уже возможность познать это новое начало и смысл живописного действа, но к ним вожди экономическо-политических прав человека относятся с пренебрежением и невниманием, но не буду обвинять их.
Мы не можем новый смысл запирать в катакомбы прошлых вещей.
Мы не можем строить ничто на обломках Ярославля и Помпейских раскопках, будь они сто раз классичны, прекрасны и священны. Это принадлежит прошлой личности старого смысла. Мы не можем так же поступать и во всех искусствах. Образы прошлого – давно угасшие скорлупы существа, идущего к своей целостности. Мы не можем даже их популяризовать, ибо все их сокровенное находится уже в ответах современного смысла и вопроса.
Только новая мысль современности может быть популяризована.
Итак, сегодня свет выявил авангард новой экономической харчевой кухни с распределением трудовых сил.
Новая война материалам объявлена. Они будут побеждены системой производства, и их ждет в нем преобразование. И в новой войне должны стать вожди новых искусств, ибо новая форма архитектуры, в широком смысле слова нашей современности, в них они несут новые артерии систем, образуя ее как форму нового смысла и сознания <так!>. Армии трудовых сил взроют материалы не для старых форм, а для новых. Основываясь на этом действительном соответствии, пришли к творящему и утверждающему Уновису, поставившему себе цели бороться за образ утилитарного нового миростроения.
Искусство, Витебск, 1921, № 1
Бог не скинут. Искусство, церковь, фабрика*
Началом и причиною того, что называем в общежитии жизнью, считаю возбуждение, проявляющееся во всевозможных формах – как чистое, неосознанное, необъяснимое, никогда ничем не доказанное, что действительно оно существует, без числа, точности, времени, пространства, абсолютного и относительного состояния.
Второй ступенью жизни считаю мысль, в которой возбуждение принимает видимое состояние реального в себе, не выходя за пределы внутреннего. Мысль – это процесс или состояние возбуждения, представляющееся в виде реального и натурального действия. Мысль потому не есть нечто такое, через что возможно размыслить проявление, т. е. понять, познать, осознать, знать, доказать, обосновать, нет, мысль – только один из процессов действия непознаваемого возбуждения.
Ничто поэтому на меня не влияет и «ничто» как бытие не определяет моего сознания, ибо все – возбуждение как единое состояние без всяких атрибутов, называемых общежитейским языком. Все то, что через мысль как средство размыслия, раскрывающее действительное, умеющее раз-делить действительное от недействительного и таким образом показать человеку тот или иной предмет в его точности и действительности, – абсурд есть, на самом деле видим всегда то, что не можем никогда познать и видеть действительно. И то, что проявляется человеком или в мире вообще, несмотря на все его «наглядные», «научные» и «другие» обоснования, остается недоказанным, ибо все проявления – результат непознаваемого возбуждения.
Беспричинное возбуждение Вселенной, как и всякого другого проявления во всех распылениях, не имеет закона, и только когда возбуждение распыляется на состояния реального и натурального, появляется Первый закон, т. е. ритм – первый и наиглавнейший закон всего, проявляющегося в жизнь, без этого ритма ничто не может двигаться и создаваться, но ритм не считаю за музыку, ибо музыка, как и все, основывается на этом законе. Музыка, как и все, ограничена, но ритм неограничен. Музыке ритм машины может быть чужд, музыка – действие, пытающееся связать в единство ритмы. Инженер связывает ритмы в машину. Мы же, однако, не считаем инженера за композитора. В своих сравнениях нужно уловить то, что музыка не есть закон ритма, но нечто строящееся на ритме проявления.
Возбуждение и мысль считаю главнейшими основами жизни общежития человека и во всем, что возбуждено и мыслит в себе. Но разделяю всю жизнь на три состояния возбуждения: первым <назову> возбуждение, вторым – мысль в реальном и <третьим –> реальность в натуральном, другими словами сказать – действительный факт как натуральное. Последние три раздела создают множество между собою отношений, и создается жизнь общежития. Все же факты жизни общежития разделяются на два состояния, внутреннего и внешнего; ко внутреннему нужно отнести те факты, которые пребывают в духовном или в возбуждении, такие факты называются одухотворенными, те же факты, в которых возбуждение находится в самом малом отношении, называются внешними. Но это точка общежития, на самом деле чистое проявление возбуждения в созерцании натурального никогда не достижимо, и то, что называем внутренним, никогда реализовать нельзя.
Оно всегда находится внутри и не поддается ни реальному, ни натуральному; ни первого, ни второго познать нельзя как возбуждение, и чтобы закрепить бесконечное, очертить его границы, – общежитие прибегло к одному закону условности, и потому жизнь принимает вид исключительно условный и напоминает собою великую детскую, в которой дети играют во всевозможные игры с представляемыми условностями, переживая действительность, – строят башни, замки, крепости, города, потом разоряют, после опять строят; родители считают этот факт бессмыслием, но забывают только то, что детское бессмыслие – результат взрослого бессмыслия.
Человек в своих проявлениях стремится в мысли своей достигнуть совершенства, т. е. передать действительность своего возбуждения, но в тот момент, когда проявляет форму, забывает про то, что форма – условность, в действительности формы – не существует, как же тогда возможно проявить ему возбуждение, когда возбуждение не есть форма – не имеет границ; второе – допустим, что условность будет условною реальностью или натуральностью, но и в тот момент само возбуждение условно выйдет вовнутрь формы, но как только форма проявлена, делается мертвою, ибо завершила в себе определенное совершенство, вернее, шаг совершенства – мысль же ушла в возбуждение другой формы, более совершенной по выявлению возбуждения, и таким образом жизнь мы видим в формах как степень возбуждения, но общежитие видит в жизни предметные, практические, законные формообразования – следовательно, сущность возбуждения как беспредметное в практическом сознании считается предметным.
Возбуждение – космическое пламя – живет беспредметным и только в черепе мысли охлаждает свое состояние в реальных представлениях своей неизмеримости, и мысль как известная степень действия возбуждения, раскаленная его пламенем, движется все дальше и дальше, внедряясь в бесконечное, творя по-за собою миры Вселенной. Возбуждением как духовным внутренним дорожит человек и превыше всего ставит его в жизни. Дорожит внутренним и о внутреннем хлопочет, в этом истинный план человека, стремящийся внутреннее передать в жизнь, и борется с внешним, все внешнее хочет превратить во внутреннее. Возбуждение как космическое пламя колышется во внутреннем человека без цели, смысла, логики, оно беспредметно в действии. Стремление человека сделать свои проявления внутренне одаренными – стремление доказать их возбуждение, но т. к. всякое его проявление проходит в предметный план практического, то возбужденность не может выразиться во всей ее чистой силе. Человек как мысль и возбуждение заботится о совершенстве своей жизни. Мыслит ли и заботится природа о своих совершенствах, или же она некогда помыслила о них и больше не мыслит, все стало в вечности движения и не требует никаких совершенств, ни ремонта, человеку же осталась забота о совершенствах своей жизни и ремонте. В этом, пожалуй, его разделение с природой, он мыслит о совершенствах, природа же больше не мыслит; или же, может быть, мысли их различны. Различие их в том, что природная мысль – простое действие беспредметных явлений, его же мысль практическая предметная, и потому его жизнь зарождается в вечном ремонте и совершенстве, и, вооружившись напильником, он хочет распилить природу и дать ей новый смысл, хочет превратить ее в предметное осмысленное состояние, хочет сделать ее умной, размышляющей о сложных вопросах, а у ней нет ничего этого, и распилить ее нельзя, ибо нет в ней материальной единицы и формы. В ней нет и границ. Все это он стремится в ней построить и совершенствовать ее. Думая о совершенстве природы, мысль его уходит все дальше, и все больше и больше разделяет их пропасть – пропасть эта его безумная культура о совершенствах предметного мира. Природа стала для него тайной – тайна стала перед мыслящим его челом, зорко всматриваются глаза и напряжен слух, разум напрягает все усилия рассудка, чтобы рассудить ее, следит за каждым ее движением, чтобы понять ее; но, увы, бесконечность не имеет ни потолка, ни пола, ни фундамента, ни горизонта, и потому слух его не может услышать шелеста движения, глаз не может достигнуть края, ум не может постигнуть. Разум ничего не может разумить, рассудок ничего не может рассудить, ибо нет в ней ничего такого, что бы возможно было рассудить, разумить, разглядеть, нет в ней единицы, которую возможно взять как целое. Все то же, что видим как будто отдельно, единично, ложь есть, все связано – и развязано, но ничего отдельного не существует, и потому нет и не может быть предметов и вещей, и потому безумна попытка достигать их. Что же возможно обнять, когда не существует ни линии, ни плоскости, ни объема; нет того, что возможно обмерить, и потому геометрия – условная видимость несуществующих фигур. Нет той точки, от которой возможно было бы провести линию, нельзя установить точку даже в воображении, ибо само воображение знает, что нет пустого места, нельзя также и провести линию и другой фигуры, ибо все занято и заполнено, и сама точка или линия уже множество, уже бесконечна и вширь, и вглубь, и в высоту, и во время, и в пространство, и все в бесконечности будет ничем, т. е. необъятным для сознания думающего овладеть выявлениями линии или объема и плоскости. Мир как скважность, и скважность не пустотелая. Так что же вырежу в этой бесконечной скважности – сито, линию или точку и могу ли из этого скважного сита изъять линию или точку, и в этом, может быть, действительность, а мы, видя линию или объем, уверены в их реальности и существовании.
Человек собирается постигнуть и узнать «все», но есть ли это «все» перед ним, может ли это «все» положить перед собою на стол и его исследовать и описать в книгах, и сказать: вот книга, где «все» описано, изучите ее и будете все знать. Мне представляется, что исследовать, изучить, узнать возможно только тогда, когда я смогу вынуть единицу, не имеющую никакой связи со всем окружающим, свободную от всех влияний и зависимости, если я сумею это сделать, познаю ее, если же нет – не познаю ничего, несмотря на массу данных выдержек и заключений. Закончит ли следователь дело по исследованию убийства тот, что найдет убийцу и причину, заставившую убить с целью ограбления ценности, или же ему нужно доисследовать его психологию, нервную и т. д. стороны. Потом обвинить государство в его системе, не предвидевшей преступности, не сумевшего распределить ценности и пр.
Природа скрыта в бесконечности и многогранности и не раскрывает себя в вещах, в своих произведениях она не имеет ни языка, ни формы, она бесконечна и необъятна. Чудо природы в том, что в маленьком зерне она вся, и между тем это все не объять. Человек, держащий зерно, держит Вселенную и в то же время не может ее разглядеть, несмотря на всю наглядность происхождения последнего и «научные обоснования». Нужно это маленькое зерно разумить, чтобы раскрыть и всю Вселенную.
Все вещи – признаки возбуждения, вводящие человека в возбуждение, т. е. вещи как признаки того, что в них существует возбуждение как беспредметное состояние. Вещь из вещи, возбуждение из возбуждения, из начала в начало, из беспредметного в беспредметное – полное бессмыслие вечного кругозора заполняет свой пробег вихрями колец пространства. Все человеческие смыслы тоже движутся в вихре предметов, гонят их практическое и экономическое сознание, опора всего смысла и логики, но, несмотря на последнее, равны бессилию первому, ибо по обоим концам для всех предметных смыслов стоят полюса бессмыслия, как зияющие бездны, поглощающие своей недосягаемостью, несут в вихре эпоху за эпохой совершенств в ничто.
Череп человека представляет собою ту же бесконечность для движения представлений, он равен Вселенной, ибо в нем помещается все то, что видит в ней; в нем проходят также солнце, все звездное небо комет и солнца, и так же они блестят и движутся, как и в природе, так же кометы в нем появляются и, по мере своего исчезновения в природе, исчезают и в нем, все проекты совершенств существуют в нем. Эпоха за эпохой, культура за культурой появляются и исчезают в его бесконечном пространстве.
Не будет ли и вся Вселенная тем же странным черепом, в котором без конца несутся метеоры солнц, комет и планет, и что они тоже одни представления космической мысли, и что все их движение и пространство и они сами беспредметны, ибо, если бы были предметны, – никакой череп их не вместил. Мысль движется, ибо движется возбуждение, и в движениях своих они творят реальные представления или в творчестве сочиняют реальное как действительность, и все сочиненное изменяется и уходит в вечность небытия, как и пришло из вечного бытия. И это вечное служит вечным исследованием человека, само же исследование простое сочинение представлений, а вернее, того, что не может себе представить, ибо если бы человек смог что-либо представить, была бы конечность для него. Жизнь и бесконечность для него в том, что он ничего не может себе представить – все представляемое так же неуловимо в своей бесконечности, как все. Таким образом, существует для него трудность сочинения, трудность постижения действительности, установить действительность ему не удается, ибо нет момента, который не изменился бы бесчисленно раз. Сумма его неустойчива, колебания ее бесконечно трепетны в волнах ритма, и потому ничего нельзя установить в этом ритме возбуждений, само представление мерцает как звезда, и нет возможности за мерцанием установить ее действительность, установить предметы.
Исследовать действительность – значит исследовать то, что не существует, то, что непонятно, а непонятное для человека несуществующее, следовательно, исследованию подлежит несуществующее. Человек определил существование вещей, заранее для него непонятных, несуществующих, и хочет исследовать их, взять любую из вещей, определенных человеком, и попробовать ее исследовать, и мы увидим, что она сразу под напором исследующего орудия распадется на множество составных вещей, вполне самостоятельных, и исследование докажет, что вещи не существовало, существовала только сумма вещей. Но какая же это сумма вещей, в каких цифрах она выразится, для этого необходимо выяснить сумму каждой вещи распавшейся суммы; приступается к исследованию распавшихся вещей, и при напоре исследования вещи распадаются опять на множество вещей; исследование вещей докажет то, что и распавшиеся вещи в свою очередь распались на самостоятельные вещи и породили массу новых связей и отношений с новыми вещами, и так без конца. Исследование докажет, что вещей не существует, и в то же время существует их бесконечность, «ничто» и в то же время «что». Итак, исследование ничего не принесло в понятие, оно не начертило суммы вещей, ибо если бы пыталось дать сумму, то принесло целый ряд цифр, бесконечность которых не была бы прочтена. Общежитие поступает просто с этой суммой, рассекает ее, устраивает себе понятную сумму, размножая ее без конца по своему понятному плану. Также предполагаю, что и вся наука, как научные обоснования чего-либо, поступает так же. Разбивая бесконечную вереницу бессмысленного строя цифр на отдельные суммы, общая сумма которой не может быть известна, общежитие радуется, что прочло сумму, и, следовательно, она ясна и понятна, но это только радость общежития и обман, в действительности же оно ничего не поняло, ибо не прочло всех страниц. Не существует ни первой, ни последней страницы, также неизвестны ни первые, ни последние цифры. Какие цифры стоят в вещи и какую составляет вещь цифру общей суммы. Итак, нельзя построить суммы, как нельзя построить предмет.
Перед человеком стрит мир как неизменный факт действительности, как незыблемая реальность (говор общежития), однако в эту незыблемую реальность как действительность не могут войти двое, чтобы вынести одну сумму, одинаково измерить. Сколько бы ни вошло в эту действительность людей, каждый принесет иную действительность, а иной ничего не принесет, ибо не увидит ничего действительного – каждый принесет свое суждение о той вещи, которую пошло видеть, их суждение и будет действительностью, доказывающей, что нет того объекта, о котором идет речь, ибо даже сами суждения при взаимном обмене создают множество оттенков противоречий. Поэтому то, что называем действительностью, – бесконечность, не имеющая ни веса, ни меры, ни времени, ни пространства, ни абсолютного, ни относительного, никогда не очерченного в форму. Она не может быть ни представляемою, ни познаваемою. Нет познаваемого, и в то же время существует это вечное «ничто». Человек же вечно озабочен тем, чтобы все у него было обосновано, обдумано, и тогда только приступает к постройке вещи, строя ее на крепком научно-обоснованном фундаменте, позабывая о том, что крепкий фундамент для вещи строит на том, что не имеет фундамента. Такова его нерушимая предметная логика.
Человек тоже космос или Геркулес, возле которого вертятся солнца и их системы, так, возле него в вихре вертятся все созданные им предметы, он, как Солнце, руководит ими и влечет за собою в неведомый ему путь бесконечного, как Вселенная со всеми своими возбуждениями, может быть, стремится к единству, так и все его распыленные «предметы» составляют единство его центра, который в свою очередь движется по путям вселенного увлечения. Так единство за единством, включаясь друг в друга, стремится в бесконечный путь беспредметного.
Человек, находясь в ядре вселенного возбуждения, чувствует себя перед тайной совершенств, пугаясь мрака тайны, он спешит их узнать, узнать же он может через совершенствование (суждение общежития), ибо только творя совершеннейшее орудие, познает или разрушает тайну, так говорит логика общежития. Так все явное в природе мощью своего совершенства говорит ему, что Вселенная как совершенство – Бог. Постижение Бога или постижение Вселенной как совершенного стало его первенствующей задачей. Постижение – познание всех проявлений природы, просто природы, не придавая ей первенства или титула совершенства, или нет, все-таки без этого познания ее мудрости человек не может сделать никакого совершенства, следовательно, путь его жизни – путь постройки совершенств, жизнь – путь последних. Такова точка всего общежития. Человек стал размышлять о всех явлениях в природе, и на основании их сил разумных познаний предлагает строить свой мир представлений. Признав Вселенной совершенство – признал Бога и тем самым признал то в природе, что она не мыслит, мыслит только он, ибо Бог как абсолют совершенства природы не может больше мыслить. Таким признанием он выделил себя в мыслящее существо и вывел себя из совершенства Божеского творения. Какие причины побудили его к этому выходу? Мне не представляется, как он вышел, выключил себя из общего абсолютного совершенства и почему ему стала необходимость мыслить, раз все уже было в абсолюте? Он, единый, стал устремляться к познанию природы как Бога совершенств; вышедши из немыслия как абсолютного совершенства, опять стремится через путь своих совершенных предметов воплотиться в совершенство абсолютного немыслящего действия, как будто какая-то неосторожность случилась, как будто соскользнул и выскочил за борт абсолюта. И таким образом он как частица абсолютной мысли, вышедшая из общей орбиты движущегося абсолюта, стремится теперь включить себя в орбиту. Может быть, поэтому в земле собирает свое тело, чтобы бросить его в бесконечность. Сначала сам освободил ноги свои, потом поднял их, и это было первым отрывом от земли, и так постепенно, через быстроту колес к крыльям аэропланов, все дальше и дальше к границе атмосферы, и потом дальше к своим новым орбитам, соединяясь с кольцами движений к абсолюту. Стремясь преодолеть совершенства, он вынужден строить свою природу – отсюда видно, что человек еще не воплощен всемирной или абсолютной мыслью как совершенство; он только движется к ней, путь его идет к человечеству, а оттуда к Богу как совершенству. Мысль его напряжена, и первым словом на устах его есть слово совершенство, или практичность вещи в преодолениях вопросов его жизни, а т. к. совершенство – Бог, то первое слово его всегда будет Бог. Через все свои производства он, в надежде достигнуть Бога, или совершенства, собирается достигнуть трона мысли как абсолютного конца, на котором он уже не как человек будет действовать, но как Бог, ибо он воплотится в него, станет совершенством. Но что же для этого нужно сделать – немного, управлять звездным пространством солнц, вселенными системами. А пока что Земля наша будет его уносить в безумном своем падении в бесконечное ничто, в звоне беспредметного движения ритмического вихря Вселенной.
Человечество через свое усилие выделяет из своей среды мысль, которую возводит на трон правления, или же новая истина возбуждает человеков и, поселившись в нем, возводит себя на трон нового пути. Все истины заложены в человечестве и загораются в нем, и потому истина стремится пробудить себя во всем, чтобы передвинуть все в новый путь. Такая мысль истины уже не человеческая, ибо творит через свой приказ «Да будет». Она высшее начало над людьми, она мыслит за них, сами они ничего не мыслят, как не мыслят о том, куда и зачем движется Земля и куда она их уносит. Такая мысль только искра того, что достигнуть должно человечество в будущем как целостное единство, поэтому каждый стремится воплотиться во вселенскую мысль как чистую мысль, чтобы стать в троне единой мысли как абсолютном совершенстве. (Общежитие.) Итак, к абсолютной мысли движется человечество через свои производства (хотя видит в нем простые предметы потребления.) Какая же мысль всего производства в его конечности? – одна – освобождение от физической действительности в новый акт действия. Совершение актов в чистой мысли достигнет того, что мысль будет средством перевоплощений (неизбежный результат из условия достижения совершенства общежития). Вся же ныне физическая действительность возложится на новые организации самопроизводящих в вечном, как это достигнуто в природе. Освобождение человека от физического труда есть условие техники, в этом ее сущность. И потому нельзя ли оправдать легенду или действительность о Боге как конечной цели всех суждений и совершенств общежития. Также оправдать легенду о сотворении рая и изгнании человека из него, в котором ему была дана возможность одного созерцания вечного, самотворящего, непогрешимого движения Божеского техникума, построенного без помощи науки, университетов, грамоты, инженеров, интеллигенции, рабочих и крестьян.
Величайшее самопроизводство в торжестве освобожденного Бога от творения было брошено в бесконечность. Бог этот, совершеннейший мыслитель (общежитие), через мысль свою творил мир, не употребив ни одной минуты труда (за исключ<ением> лепки человека из глины), через шесть раз («Да будет») построил мир. Шесть дней творения – и стала Вселенная – образец Божеского совершенства (общежитие), в котором человеку, как тоже совершенному земли творению, была предоставлена первенствующая роль над всем в раю. Но оказалось впоследствии, что человек не был совершенным, он согрешил. Грех отсюда – не что иное, как результат несовершенства системы – преступность ее последствия. Если бы Бог построил в совершенстве систему, не согрешил бы Адам, а если бы человек построил свой рай – государство, не было бы в нем ни суда, ни преступления. В чем же заключается ошибка? Вся ошибка в том, что в системе был установлен предел. Система, не имеющая предела, не имеет дефектов. Бог, очевидно, как будто для испытания установил предел, и испытание его дорого после обошлось. Рай рухнул, и вместо того, чтобы в его системе было совершенство через предел, оно стало разрушаться. Итак, в запрете лежат греховности и несовершенства. В жизнеустройстве человека все его области развиваются через запреты, т. е. установленная истина устанавливает запреты для новой же.
Область даже техническая находится в положении запретной истины, кажется, ее область очень наглядна в практическом смысле, однако многим изобретателям пришлось погибнуть (Моллер – изобретатель чулочно-вязальной машины утоплен жителями Данцига), и действительно, постройка системы проходит не иначе, как через преступность, разрушение предыдущей системы и постройку новой; каждая система есть построение единиц так, чтобы, двигаясь каждая в своем назначенном месте, не могла выйти по-за пределы системы. Крушение системы неизбежно, когда одна единица выходит по-за пределы ее, и нет системы, когда единицы не введены в ее пределы. Совершенство системы означается тем, что всякая единица, получая свободное движение, не испытывая давления, все-таки не может выйти за пределы системы. Таковую систему назову родовой. Родовые сцепления и творят родовые системы. Почему-то грехопадение системы постигло только земной рай, но не всю Вселенную, и даже сама Земля не стала в этом грехе, и потому вижу, что вселенная безгрешна в системе. Она, родовая система, не знает, ни запретов, ни пределов, ни границ, ни законов. Нет в ней разрушения и не может быть, ибо исчезновение планет, разрушение их, то, что общежитие называет катастрофой, в ней не существует. Родовые сцепления останутся в своей силе и жизни движения, а т. к. нет в них совершенства общежития, то формы их, те или другие, вечно равны в своих сцеплениях, их сознание никогда не исчезает. Адам преступил границу запрета, и было достаточно, чтобы род его весь наказать изгнанием. Началась история его человеческого страдания, пота, мозолей, кровопролития, история труда. Так ужасно был наказан Богом человек. Рай рухнул, все разбежалось и одичало. Благо рая исчезло, а ведь Адам должен был только созерцать вечное прекрасное движение, даже ничего не мыслить, ибо обо всем помыслил Бог.
Итак, Бог задумал построить мир, чтобы освободиться навсегда от него, стать свободным, принять на себя полное ничто или вечный покой как на мыслящее большое существо, ибо не о чем больше мыслить – все совершенно. Тем же хотел одарить и человека на земле. Человек же не выдержал системы и переступил ее, вышел из ее плана, и вся система обрушилась, и вес ее пал на него. Другими словами сказать, Бог, чувствуя в себе вес, распылил его в системе, и вес стал легким и обезвесил его, и поставил человека в безвесной системе, и человек, не чувствуя его, жил подобно машинисту, не чувствующему вес своего паровоза в движении, но стоит ему вынуть часть из системы, вес ее ляжет и задушит его. Так и Адам преступил за пределы системы, и вес ее обрушился на него. И потому все человечество трудится в поте и страданиях, что освобождается из-под веса разрушенной системы, стремится вес распределить в системах, вновь собирается исправить ошибку, и потому культура его и состоит в том, чтобы вес распределить в системы безвесия. И так каждая система, новая попытка, новая кровь освобождения.
Все скорее и скорее хочет человек пробежать системы, терпя невзгоды, все быстрее хочет пробежать площади наказаний и преступлений, и неужели в образе наказаний все преследует его мстящий Бог, неужели через строй ангелов и дьявола человеку суждено проходить под их бичом и не потому ли бежать, чтобы пробежать эту мысль Божеского строя, полосу преступлений и наказаний? пробежать законы и очутиться в беззаконном пути? выйти, наконец, в страну человечества, где бы перестал самобичевать себя (общежитие). Это вторая точка рассуждения. Третья точка или причина его бега в борьбе – «борьба за существование», которую искать нужно в весе или первом предположении в борьбе с весом, чтобы тяжестью своею не задушил его. И четвертая точка – стремление к Богу-совершенству, в котором наступит благо. На этих четырех предположениях можно базировать причины возникновения всех родов производства человека. Следовательно, в первом случае причиною к творчеству в Боге мира Вселенной предполагаю весораспределение, освобождение в безвесии. Бог снял с себя вес, или Бог как вес распылил себя в безвесие, но, распылив мысль в безвесие, сам же остался на свободе. Тоже и человек во всех трех пунктах стремится к тому же, к распределению веса <, чтобы> и самому стать в невесии, т. е. войти в Бога. Но так ли, верно ли, чтобы человек стремился к Богу, с которым произошел разрыв? Человек стал преступником, сосланным им на вечную каторгу труда, разошлись ли они совсем или же нет? Нет, Бог его не оставил, с каждым шагом человека продвигается сам, или человек не может сделать шагу без Бога (общежитие). Бог его сопровождает сегодня, вчера и завтра, и так они вдвоем идут изо дня в день, в труде распыляя вес греховный. И в том, что они идут вместе, творится жизнь. Куда же они идут? Идут к себе, к совершенству, к вечному покою, и человек идет через все свои усилия. Все усилия его – производство совершенств, и потому только, что они представляют собою шаги к совершенству, имеют цель и смысл. Но в то же время, идя к Богу, он собирается его свергнуть, но как это сделать и что нужно сделать, чтобы Бога свергнуть, раз Бог в каждой его вещи творений. Ведь каждая вещь построена на совершенстве, т. е. построена в Боге. Конечно, каждая вещь еще не есть Бог, ибо она идет к Богу, она есть мысль, а мысль еще не Бог как вечный свободный покой. Свергнуть Бога – свергнуть совершенство вещей, а человек стоит на этом совершенстве, в нем пока находится существо. Итак, общежитие построило себе Бога, ибо беспредметная Вселенная не сказала о его присутствии ни слова, она не указала человеку место его пребывания. Он сам заключил, что природа – признак, говорящий о великом творце непостижимых бесконечных явлений. И постройка Бога как абсолютного совершенства построена крепко. По-разному народы рисуют Бога, но как бы ни рисовали, все представления сходятся в одном, что Бог – совершенство. Определение Бога как совершенства – абсолютное совершенство, а что же перед человеком вечно стоит, как не один вопрос о совершенстве, это и будет его Богом, другими словами выраженным.
Каждый человек спешит к совершенству своему, стремится быть ближе к Богу, ибо в Боге его совершенство, следовательно, каждый шаг человека должен быть направляем к Богу, для чего он изыскивает пути или средства – просто ищет Божеских признаков. Думая о достижениях, он построил себе два пути. Религиозный техникум и гражданский или фабричный, церковь и фабрику. Религиозный техникум стремится сделать человека современным в духе и через духовное совершенство стремится достигнуть Бога. Религиозный техникум меняет свои системы, совершенствует их. Отсюда появление множества религиозных систем, представляющих собою ближайшую дорогу достижения Бога. Два техникума идут к одинаковой цели, перед обоими совершенствования технических вопросов, через которые возможно достигнуть или разрешить цель. Как в глубоком <, так> и внешнем смысле тоже одинаково, обрядность, святое отношение, поклонение, вера, надежда на будущее.
Как церковь имеет своих вождей, изображателей совершенных религиозных систем, так и фабричный техникум своих, первый чтит и почитает своих, второй – своих. Также стены обоих украшены ликами или портретами, также по достоинству и рангу как в первом <, так> и <во> втором существуют мученики или герои, также имена их заносятся в святцы. Таким образом, разницы нет, со всех сторон все одинаково, ибо и вопрос одинаков, цель одинакова и смысл – искание Бога. Если Христос сказал «не ищите нигде Бога, как только в себе», то и любой техник может сказать, ищите совершенства вещи только в себе, но как в первом, так и <во> втором этого места невозможно найти и в себе, ибо где я начинаюсь и где кончаюсь (какие безумные искания придумало общежитие), но, несмотря на все, человек ищет Бога через два пути. Спор между ними идет или может идти только в плоскости, какая из систем скорее достигнет того места, где в первом случае будет Бог, во втором совершенство практическое, а не в обвинениях и предрассудках, ибо как первое, так и второе можно обвинить в предрассудке, первого в достижении Бога, второго в достижении совершенства. Если же обвинитель не сможет обвинить, то докажут только, что оба движутся к Богу как человеческому пределу совершенства. Углубляясь же в вопрос совершенства, мы найдем, что достижение Бога или совершенства как абсолюта – предрассудок.
Бога человек сделал абсолютным совершенством умышленно или случайно, но, во всяком случае, в определение Бога в абсолютном им был установлен предел, ибо в противном случае никогда бы не достиг Бога. В абсолюте предел совершенств, и если бы Бог не имел границ, то человеку не представилось бы возможным достигнуть его. Но другая сторона говорит другое; например, Вселенная не имеет границ совершенства, как Бог, безгранична; поэтому установить абсолют трудно. Но с точки зрения церкви Бог безгрешен, следовательно, абсолют устанавливается совершенством непогрешимости, но сама непогрешимость, как и совершенство Бога, должна заключаться в самом ужасном, это в смысле; вот об этот камень разбиваются два пути, фабрики и церкви. Бог должен быть смыслом, а потому его совершенство должно иметь смысл. Какого же смысла он достигает, и может ли Бог достигать смысла, нет, если Бог будет достигать смысла, то он достигает нечто большего, чем сам, следовательно, он не может быть сам смыслом, он только смысл человека; с другой стороны, если он в себе не смысл, то какой же смысл видит человек и чего хочет достигнуть, какие же должны быть смыслы, приведшие его к совершенству, и к какому. Бог не может быть смыслом, смысл всегда имеет вопрос «чего», следовательно, Бог не может быть и человеческим смыслом, ибо, достигая его как конечного смысла, не достигнет Бога, ибо в Боге – предел, или, вернее, перед Богом стоит предел всех смыслов, но за пределом стоит Бог, в котором нет уже смысла. Итак, в конечном итоге все человеческие смыслы, ведущие к смыслу-Богу, увенчаются немыслием, отсюда Бог – не смысл, а несмысл. Его несмыслие и нужно видеть в абсолюте, конечном пределе как беспредметное. Достижение конечного – достижение беспредметного. Достигать же Бога где-то в пространствах неба действительно не нужно – ибо он находится в каждом нашем смысле, ибо каждый наш смысл в то же время и несмысл.
Проведение новых религиозных систем имеет те же средства, что и все экономические, политические или гражданский техникум. Язычество уничтожало христианскую систему, потом христиане уничтожали еретиков, так и в гражданских системах одна уничтожает другую. Каждая система религиозная доказывает народу свое преимущество и благо достижения Бога, также и гражданская система доказывает свое благо и скорейшее его достижение в совершенствах. Речь обоих сводится к благу, но к какому благу? Первая видит благо в духовном бытии с духовным Богом, какое благо второй? – тоже сводится к этому, если принять во внимание развитие техники, которое должно освободить тело от физического труда, приняв весь труд на себя; что же будет делать тело? Оно освобождено, не думаю, что оно возьмет себе роль исключительно пожирания, у него должны быть другие потребности: новая физическая жизнь в духовном. Если же нет, то, освободив тело от физического, он докажет то, что построил или восстановил рай, в котором человек будет на положении Адама. Это будет означать то же небо, к которому собирается привести церковь, религия своих прихожан, с тою только разницей, что первая приведет своих прихожан без тела, а вторая оставит свой приход в теле. Но если принять во внимание второе пришествие Христа судить грешников, то увидим, что все умершие оденутся в тело и уже такими войдут в небо, так что в обеих системах, религии и фабрики, лежат одни и те же совершенства. Один Бог и одно благо, и если существуют упреки в предрассудках, то они являются непонятными для меня. Религия читает своему приходу священные писания о совершенствах своих святых, фабрика читает свои научные книги о совершенствах. Первая учит в священных писаниях, как достигнуть религиозного совершенства, чтобы стать святым; техникум фабрики учит тому же, как достигнуть ученого. Из всех учащихся в религии единицы на протяжении веков или века встречаются святыми, тоже из сотен тысяч встречаются единицы ученых совершенных людей, остальные остаются грешниками как там, так и тут. Религия, или церковь, зачисляет к лику святых тех, кто совершил чудеса над техническим недугом человека. Фабрика зачисляет к лику ученых тех, кто совершил тоже чудо над техническим недостатком человеческой жизни. У обоих существуют язычники, убивающие проповедников религии и технических совершенств фабрики. Как тех, так и других сжигали, топили, преследовали. Как те, так и другие борются за совершенства, борются за Бога.
Стремление человека к единству – смутное стремление к тому, что предполагается видеть в единстве все управление в Боге, это единство в Троице, как управляющее Вселенной, в человеке, как управление своей всечеловеческой жизнью. Но человеческая жизнь разделилась на два понятия или познания жизни. Одно познание видит жизнь в духе как познание и служение Богу; и построило себе храм или церковь, в котором и проходит жизнь в служении, для чего творит свое производство средств, необходимое для служения. Второе сознание видит жизнь в служении совершенству самому себе, построило фабрику, в которой проходит служение в творении средств технических исключительно. Первое создает совершенство духовное, второе – тела. Рознь их, борьба материи и духа заставляют думать, что тело и дух два каких-то враждебных начала, существующие самостоятельно и независимо, но почему же между ними существует борьба? Потому ли, что в предвечном произошли их сцепления и сейчас хотят отторгнуться друг от друга и жить самостоятельно в своих планах. Но, с другой стороны, дух не может жить без материи, как и материя без духа; с третьей стороны, возникает вопрос, существует ли материя? И то, что мы называем материей, просто духовные движения, а может быть и так, что называем духом – движение материи. Но так или иначе, будет ли утверждено то или другое, не важно на сей раз, важно определение жизни, – появляется третье начало, определяющее, что есть жизнь, и от того определения и зависит, во что обратятся материя как дух или дух как материя; в одном случае принято, что жизнь истинная только в духе, в другом – истина в материи, таким образом, возникли два движения жизни – духовной и материальной, следовательно, предполагаемого сцепления двух начал не было, ибо было одно начало, рассматриваемое через два плана. Какое же это одно начало? Я обхожу два последних и ставлю началом возбуждение. Существует ли в нем дух или материя? По моим предположениям, материи не существует, ибо под материей разумею частицу неделимую, что, по моему выводу, во Вселенной не существует, следовательно, под материей общежитие разумеет известные плотности, но плотность есть делимое, следовательно, не может быть материей, то же и в духовном общежитие разумеет особое состояние, ведающее религиозным движением. Духовность действует в Боге, но, с другой стороны, духовное и дух составляют разницу; дух может быть всюду, в Божеском и в небожеском, говорим, нужно поднять дух армии, поднятие духа дает результаты – взятие крепости, уничтожение корпуса людей, если же поднимут духовное состояние, то армия пойдет с полей в храмы. Итак, дух и материя – начала, которые общежитие применяет к своим суждениям, реализуя их – чистое предметное техническое потребление, начала, ложно разделяемые и неверно понимаемые. Принявши плотность за материю, начинаем строительство мировоззрения как чего-то реального, действительного, так что оттого, как поймем основу, таков и будет реализм или действительность, оттого, каков фундамент, таково и здание. Человек можно сказать, что не выстроил ни одного здания, ибо мировоззрения, которые существуют, споры между собой, это только суждение о неизвестном, может быть, несуществующем. Здания еще нет, и я не уверен, будет ли оно когда-либо; не будет его потому, что человек стремится построить все на фундаменте, на законе, смысле, логике, практичности, т. е. на том, чего не существует в основах, им выведенных. Так, например, принимая за основу существования материю, он будет строить материальный мир как действительность; установив духовное, будет строить духовное. Но ведь все два доказательства находится в спорном, следовательно, реальность бытия находится у спорящих: у одного человека – духовная, у другого – материальная, отсюда у человека в его общей жизни существует две реальности мира, или жизни, но может быть и больше. Итак, один человек строит жизнь или здание на материальном законе или реальности, другой на духовном, и оба видят, но видит материалист то, что человек с духовным реализмом строит здание без крепкого фундамента, даже вовсе не верит, что существует фундамент; другой то же видит у материалиста, в результате объективной реальности для них не существует, у каждого своя, субъективная. Спор человека идет, а здания нет как нет, оба хотят доказать предметную основу как единственную прочность, а в действительности оба остаются в беспредметном.
Одинаково высоко Бог совершенства Религиозного и Гражданского техникумов. Так же бесконечно совершенство духовной души человека, как и производство фабрик и заводов. Одинаково отдалена линия горизонта материального совершенства как благо; так далеко и духовное благо; двигаясь к этому горизонту, двигаются через разный задор. Духовное движение ведет людей через путь уничтожения в себе своего «я» как разума и воли, «воля моя в Боге, на его волю полагаю себя и все дела свои». Следовательно, человек без воли и разума, ибо все это в Боге, вынув из себя волю и разум, тем уничтожает себя. Смысл последнего в том, что, уничтожая себя как отдельно существующую единицу, сам Бог как единство будет распыленным. Если же он себя уничтожит, то находящееся Божеское воплотится в Бога, соберется в нем; поэтому разум и воля, находящиеся в нем, – Божеское, и он несет его к Богу. Что же в этом рассуждении существует? Человек, полагающийся на волю Бога и поручая ему все дела, остается без воли и разума, признает себя несуществующим и всякое дело – делом Бога, но что же такое тогда человек? Я вижу один вывод, что человек в таком положении не существует, а существует Бог как воля, разум и совершенство. Религиозный духовный путь человека собирается только достигнуть неба, быть с Богом, но совсем не собирается воплотиться в него. Помирился человек с мыслью, что высоты, в которой существует Бог, не достигнуть, мало того, он даже не смеет думать об этом. И на самом деле, где та высота, где вершина, достигши которой мы бы сказали, вот мы на вершине всех вершин, мы совершенны, я, человек, теперь достиг той границы, в которой перестаю быть человеком, я Бог. Никто не достигает этой границы, ни Религиозный путь духовный, ни материальный, какие бы системы ни изобретали и как бы ни верили.
Итак, перед человеком стоит начертанный Бог, которого нельзя достигнуть, хотя воображение человека и ограничило его абсолютом.
Предметный путь просто свергает Бога, видя в нем один предрассудок, а людей, строющих жизнь на духовном Религиозном, считает просто недомыслием, не смогших домыслить того, что здание их строится на предрассудке, опирающимся на Бога. Подводя Бога в фундамент жизни, подводят пустоту. Материалист же уверен, что он строит свою жизнь на фундаменте из материи, но мне думается, что не будет ли и фундамент материалиста тоже построен на предрассудке, ибо что есть материя? Под материей я разумею плотность, а что такое плотность, из каких она состоит частиц неделимых – неизвестно. Так же, как нельзя сказать, что Бог состоит из трех частей.
Суждение человеческое построило Бога на трех началах – Бога, Духа и Сына. Это такая же точность, как и определение материальной единицы, и потому не будут ли оба фундамента предрассудком. Общежитие строит фундамент, будучи уверено в том, что берет камень, ничто другое; но уже для научного исследования не будет это камень, а плотность, состоящая из бесчисленного количества плотностей вовсе не каменного происхождения, и что общежитию доказано примером, что камень превращаем в пар подобно воде, в жидкое состояние как известную плотность, определить же в последней материальные единицы вряд ли представляется возможным. Итак, реализм общежития, и во многих случаях науки, может потерпеть неудачу в смысле определения точности состава частиц. И таким образом, человек, строя дом на каменном фундаменте как на чем-то неопровержимом, крепком, неделимом, может ошибиться в своем реализме.
Я, фабрика, в воле Бога вижу один предрассудок, только моя воля во всем и во мне смысл всех совершенств, «я устрою царство небесное на земле, и не на небе, и потому я есть Бог» (опять Бог «небесное царство» на земле). Я в руках держу мир моторов, земных и воздушных, я бросаю их в пространство и даю материи новую форму. Но вернее было бы, даю форму своему суждению (но материи дать форму, увы, никакой Бог не в силах), «в моих руках провода электричества (о которых так недавно узнал), земля станет новым началом, я только один всесилен и могущественен, я есть действительность, я ясная наглядная сила явлений материи». «Я владыка мира, ибо в руках моих труд» и «я Вселенная, ибо я владею ею». Не будет ли в этих словах скрыта причина – «овладения всеми Божескими силами». «Быть владыкой мира» только может быть Бог либо тот, кто взял все его особенности, но если человек возьмет все особенности у Бога, не возьмет ли и все его предрассудки и не построит ли царство небесное на земле на тех же предрассудках. Очевидно, человеку, свергающему Бога, нужно строить мир свой, небо свое на совершенно новых началах – «действительных наглядных причинах», а не на Божеских беспричинных предрассудках. Но оказывается, все человеческое производство строится на тех же основаниях, что и мир Божий. Если всякое творение Бога в мире питается, то и всякая новая машина тоже требует питания; материалист и берет последнее за причину всех причин, и оттого, что все хочет питаться, и загорается сыр-бор, это самая наглядная причина всего материального учения. Но только, несмотря на всю наглядность, я сомневаюсь в ней, ибо не могу представить того, чтобы мир как Вселенная потому только построен, что некогда что-то захотело есть. Если бы в этом ничто не возник аппетит, то Вселенной не существовало бы <?>
Итак, два человека представили себе по-разному Вселенную, один видит в ней духовное начало, другой материальное, один строит на духовном начале, видит нечто большее над тем, что видит материалист, материалист же видит мир как материю самопожирающуюся. Большее духовного заключается в том, что духовное творит не ради себя пожрания, а ради своей беспредметности; материалист же видит творение той же материи как цель самопожрания – творит предметы для своего аппетита. Но, с другой стороны, научно доказанная наглядность говорит, что материя не исчезает, ее нельзя ни сжечь, ни спечь, ни поесть; так как же понять материалистическое осознание материи, которое есть то, что не может <ни> поесть само себя, ни сварить в котле и ни съесть без остатка. Если это так, то действие предметного сознания – пустое действие. Видеть же в этом действии какую-то высшую причину и давать преимущество ей не вижу бо́льших заслуг, чем духовному, даже Религиозному миропониманию. Вообще перед обоими миропониманиями стоит все та же беспредметность.
Если же предметное сознание в предметных сооружениях видит только вышку, с которой возможно разглядеть мир, достигнуть того, чтобы материя увидела все свои видоизменения, то это то же простое дамское любопытство осматривать себя в зеркале. Предметное мышление занято постройкой зеркала, видеть мир – причина самой материи. Но и в этом «если» тоже совершенства нет, ибо зеркало все-таки не покажет всех сторон материи. Движение предметного сознания идет к тому совершенству, которое все-таки достигло бы своего смысла, именно построить таковой аппарат, чтобы насытил аппетит предметного сознания; другими словами сказать, собирается построить так материю, чтобы она все-таки удовлетворила свой аппетит. Последнее же – все возможно достигнуть тогда, когда будет съедена без остатка материя. Церковь стремится через свою религию привести сознание человека к Богу как совершенству, материалистическое стремится достигнуть совершенства в машине как самопитании, одни думают питаться Богом, другие – машиной.
Стремясь себя сделать владыкой мира, фабрика в то же время говорит «что», чтобы достигнуть последнего, нужно «все» знать, познать, осознать, исследовать, «научно обосновать», ибо только тогда возможно быть владыкою и управлять миром, когда все знаешь. И опять это «все», как бы это «все» собрать и удержать его, чтобы исследовать и распознать, как бы это «все» собрать и сделать его предметом нашего окончательного изучения.
А как много на вид кажущихся предметов окружает нас, а как только коснешься их умными приборами, то они разбегаются, и чем заостреннее ум, тем дальше вглубь, вширь, вниз, <в> высоту разбегаются предметы нашего изучения, как бы борясь за свою беспредметную истину, не хотят быть предметами, и наша воля, разум, практика, «наглядное постижение» разбивается об их беспредметную истину или просто беспредметность без всякой истины.
Определив Бога как абсолютное – определили совершенство, и, несмотря на это, все-таки это «все» ускользает, его границы неуловимы в абсолютном, и не можем управлять границами. И на самом деле, как бесконечны миры Вселенной, неисчислимы туманы несущихся солнц со своими системами, какой таксометр измерит их скорость и пройденное ими пространство? Вся бесчисленность солнечных туманов несется во мраке, и мы со своею Землею, как пылинка в общей пыли миров, несемся в безумном вихре и до сих пор не можем установить, откуда и куда летим, зачем и какой смысл в этом бесконечном вихревращении. И человек всю эту неисчислимость хочет исчислить и сделать предметом своего изучения и «научного обоснования» наглядностью примера через опыт, а над чем, над каким предметом производить опыт? Пусть же скажет человек, когда будет тот день, когда последний раз прогудит свисток на фабрике труда, когда скажет научный техникум, что все кончено, последняя смена, «все» узнано, и человек на фабрике крикнет – довольно, труд окончен, исследовано все. Я на вершине миров, или миры поглощены мною, я овладел совершенствами, «я – Бог».
Усилие человека в труде – существует потому, что он через труд собирается разрешить практический вопрос. Но, будучи не в силах завершить вопрос, в единой вещи достигнуть предел, вынужден трудиться, достигать его дальше, так проходят века, и вопрос остается неудовлетворительным. Может ли наступить момент, когда человек удовлетворится светом? Вначале изобретение лучины было, конечно, большим достижением, но человек не удовлетворился и нашел керосин, потом электричество, кажется, что с введением электричества должен закончиться вопрос – свет достаточен, но ведь работа по свету идет дальше, и, может быть, со временем наши электрические лампы просто будут коптилками. Итак, конца нет, нет того предела, где человек скажет – вот исчерпано все. И оттого, что невозможно предвидеть, предусмотреть всего, случается катастрофа построенного, непредусмотрительность являет грех. Как странно построен мир, что человеку нужно постигать, изучать, строить специальные приборы, чтобы раскрыть действительность мира, раскрыть туманности в бездне небытия. Еще он не владыка, когда производство его вещей служит для преодоления неизвестного, фабрики и заводы существуют только тем, что существует неизвестное совершенство, скрытое в природе, и они стремятся собрать его в един<ств>о своей технической машины. Таковое дело я бы считал высшей основой материалистического сознания, но не причину достижения материалистических благ, построенных на причине питания. И потому строить мир как производство питательных совершенств – чистый предрассудок. Материалистическое сознание, если оно строит просто леса, чтобы подняться к туманностям и стать самим туманом в вихре всего космического вращения, не вдаваясь ни в какие научные и «наглядные причины», считал бы положительною стороною, но <одно> только матермальное сознание просто как «борьбу за существование» и борьбу с природой преодолеванием считаю безумным. Все производство как бытие, как необходимость вынуждено противупоставить производству как борьбе. Через производство он<о> бытие. Но может быть, что и не только бытие в том, что творю предметы, но и в том духе возбуждения, который существует в человеке, что, может быть, одно стремление к постижению того, что нельзя постигнуть, тоже будет бытием. Человек может существовать не только потому, что мыслит, но и потому, что возбужден, что и есть его первоначало жизни.
Мысль же – это только известное состояние возбуждения. Бытие есть действие, но, действуя, можно и не быть, быть – значит делать предметы целеполезные, действовать без цели можно посчитать за небытие. К какому же бытию стремится человек? Стремится к покою, т. е. к недействию, и каждое его машинное совершенство говорит о том покое. Так, по крайней мере, человек думает, что машина облегчит его труд, а в будущем, может быть, и совсем даст ему отдых. Что же будет освобождаться в отдых, мышцы и напряжение в умственных изобретениях, что же остается в действии у человека – мысль о непрерывных постижениях несуществующего, ибо постигнуть действительность нельзя, постигается свое собственное сочинение как представляемость несуществующего, но в этом бытии не указаны средства, какими возможно познать действительность, ибо средства возникают тогда, когда существует препятствие, но раз нет препятствия, то не может быть и средств. Постижение мира как материалистическое бытие или постижение как духовное, это только сочинение бытия, в котором и нужно совершать постижение.
Человек, достигший совершенства, одновременно уходит в покой, т. е. абсолют, освобождается от познаний, знаний и разных доказательств и не может скрыться от Бога, ибо Бог сделан абсолютом, свободным от всякого действия.
Бог – покой, покой – совершенство, достигнуто все, окончена постройка миров, установлено в вечности движение. Двинется его творческая мысль, сам же он освободился от безумия, ибо больше не творит, и Вселенная как мозг безумный движется в вихре вращения, не отвечая себе куда, зачем. Итак, Вселенная – безумие освобожденного Бога, скрывавшегося в покое. Тоже человек, достигший совершенства, освободится от своего безумия, станет Богом. Но человек не выносит покоя, вечный покой его страшит, ибо он означает небытие, и когда приближается вечный покой, приближается к Богу, он подымается со всеми своими силами своего безумия и кричит «Нет, я хочу быть», иначе говоря, «Я не хочу быть Богом!»
Мысль моя пришла к Богу как покою или небытию – к месту, где уже нет совершенств. Но что есть цель всех совершенств? В совершенстве заключается предел наступающего ничто как бездейственный покой. Таков должен быть Бог. Если так, то религиозный путь – путь наименьшего сопротивления, признающий в себе «ничто» человека, оставляя «что» Бога. Таким образом, религия видит в человеке «ничто», «небытие», а в Боге «бытие». Фабрика же видит в человеке «что», а в Боге – «ничто», но так как Бог – покой в совершенстве, и фабрика видит тоже в совершенстве покой, то тем самым приходит к Богу как покою!
Религия, стремясь к Богу, стремится человека превратить в «небытие», а Бога в «бытие». Но превратить человека в бытие не удается, ибо в нем признает душу, которая и будет «бытием» в Боге, так что достижением Бога в религиозном совершенстве еще не достигается полного покоя – уничтожения человека, ибо человек освобождается только от тела и остается в его душе, а душа еще должна как-то действовать в Боге и в небе.
Чтобы достигнуть полного покоя или уничтожения себя, необходимо освободиться и от души, но душа в религиозном техникуме пока неделимый атом. Если религия видит Бога как бытие, то и всякая вещь в мире тоже бытие, ибо каждая вещь имеет в себе Бога, частицу совершенства (общежитие), а если глубже рассмотреть каждую вещь, то в ней весь Бог со всею бесконечностью или абсолютом совершенного. Что вещь не обратима в предмет постижения, как и сам Бог (общежитие), отсюда появление вещей или человека на алтарях в религиозных торжествах логически оправдываемо, ибо в вещи и человеке существует Бог как совершенство. Не иначе обстоит дело и на фабрике, алтарь ее увешан портретами людей, в которых живет совершенство, то есть Бог, и тоже существуют инженеры, изучившие их совершенство, как священники святое писание, и как первые учат совершенству тому, которые постигли у учителей своих, так и вторые учат тому, что постигли в совершенной жизни святого учителя.
Человек разделил жизнь свою на три пути, на духовный, религиозный, научный, фабрику и искусств. Что означают эти пути? Означают совершенство, по ним движется человек, движет себя как совершенное начало к своей конечной представляемости, то есть к абсолюту, три пути, по которым движется человек к Богу. В искусстве Бог мыслится как красота, и потому только, что в красоте Бог. Религия и фабрика призывают искусство, чтобы оно их облачило в ризу красоты, как бы не доверяя своей завершенности. Так торжественно движется религия в искусстве, так же и фабрика. Но, несмотря на взаимность, все-таки каждый путь считает себя первостепенным и истинным путем к Богу, самостоятельным учением и познанием Бога. Каждый проповедует Бога, в своем пути соединяющимся в одном слове (общежитие) совершенство.
Религиозный человек в церкви своей говорит: «Я стою на истинном пути, церковь моя ведет к истинному Богу, все то, что говорит человек вне церкви, есть тлен, только через меня душа перенесется в те вселенные высоты, куда никакое человеческое изобретение не достигнет, ничто так высоко не поднимает душу, как молитва, никакая катастрофа или смерть человека не страшна, ибо душа не подлежит никакой катастрофе. Смерть существует только для тела как технического вместилища, душа же вечно существует, ибо она не что иное, как частица Бога. Так все Божеское собирается к нему. Душа не смертна, Бог не смертен, все не смертное есть Бог. И потому душа в человеке не что иное, как частица несмертного Бога». Такие условия церкви. Правда, как всякие условия, <они> могут быть опровергаемы или иначе формулированы. Например, очень важно знать, существует ли душа в человеке. Если говорят «душа человеческая» – неверно, души человеческой не может быть, ибо душа несмертна, а все несмертное – Божеское, отсюда вытекает и другое соображение, вполне логически оправдываемое, что душа никогда не может быть погрешима, как бы тело ни было греховно, ибо Бог безгрешен, Он может только уйти из греховного тела, и человек как мясо может быть без души. Но если, паче чаяния, существует материя или другая сила, составляющая тело, которое не исчезает ни при каких условиях, то, следовательно, оно тоже несмертно, то <и> все тело как материя есть Божеское тело. Следовательно, мир безгрешен, ибо тело и душа – Бог. Итак, мною оправдан мир от греха. Что же является жизнью для церкви? Духовное состояние человека. Но в чем помещается духовность? В душе, ибо тело грешно, и когда душа убьет грех в теле, оно становится святым, превращается в Бога, тело исчезает, становится душою, но греха больше нет, есть Бог. Душу Бог не может наказать, ибо она его часть, тело как несмертное тоже. Отсюда наказаний нет в Боге.
Искусство признает себя как главное и говорит: «Я указываю человеку красоту, а что может быть выше и совершеннее красоты, – видящий меня, не видит греха.
Кто владеет мною, тот владеет и живет красотою, во мне нет греха, как в остальных истинах, ибо, если бы во мне не было красоты, не прикрывали бы мною свои истины другие учения, а при прикосновении моем все становится переполненным в красоте как совершенстве. Во мне гармония Бога, и потому мир сей совершенен, придите ко мне, и кто войдет, тот войдет в гармонию, тот услышит себя в общей гармонии. Я кладу венец на все и венчаю красотою гармонии. Я могу возгордиться тем, что во мне Бог, ибо только во мне гармония, а в гармонии нет греха. Во мне истинный мир человеков, во мне нет ни тюрем, ни наказаний, ничто не может сравниться со мною, ибо я уже достигла Бога. Все остальное еще разделено на чины, больших и малых, святых и грешных, еще находятся в войне и пребывают в крови и цепях, кто же хочет слушать гармонию ритмов: пусть идет в мой путь».
Фабрика опровергает два последних и в свою очередь говорит: «Я перестраиваю мир и его тело, я изменяю сознание человека, я его сделаю вездесущим через познание во мне совершенств, и я буду совершенно знающим, я буду Богом, ибо Бог только знает дела Вселенной. Вся стихия соберется во мне, и я буду вечностью. Я сделаю человека зорким, слышащим и говорящим на многие пространства, я выстрою технику его тела в совершенном образце. Я согласую всю его волю в себе, поглощу волю ветров, воды, огня, атмосферы и сделаю все это единым, принадлежащим человеку. Да в конце концов весь мир просто неудавшаяся техническая попытка Бога, которую построю в совершенстве». Кто же так смело говорит устами фабрики? а вдруг устами ее кричит сам Бог.
И так человек, разделившись на три, и пошел тремя путями к совершенству, как будто не доверяя одному какому-либо пути, не будучи уверен, что найдет в нем Бога или истину, ведущую его к совершенству, как благу или Богу. Но, разделившись, каждый в пути своем нашел истину и построил церковь, и вместо единого построили три единства спорящих между собою истин. В истине думают найти благо, для этого производят ее, и потому каждое производство есть благо и не благо, ибо его нужно делать. Делать благо, делать истину, ибо истина в производстве фабричном еще не достигла того блага, которое достигли Религия и искусство, ибо здесь каждый делает себе сам благо и развивает духовное свое начало. Фабричные люди делают блага, которыми пользуются не делающие их, поэтому новые учения социализма стремятся, чтобы все делали блага для себя в целом, и тот, кто не делает их, не пользуется ими. Поэтому церковь говорит: «Тот, кто не молится и не делает блага, не попадает в царство небесное», фабрика тоже объявила такой же лозунг: «Кто не трудится, да не ест». Тот и другой человек, не делающий блага, не получит их, не будет пользоваться царством благ. Для обоих делание благ имеет значение, решающее проблему достижения небесного, Божеского царства как блага окончательного. Логически должно быть так, ибо поставлено совершенство в цель. Если кто-либо из них скажет – хочу вечно совершенствоваться, быть бесконечным, равно сказать, хочу быть в бесконечном Боге, ибо человек определил цель свою бесконечностью Бога. Благо Религии заключается в достижении небесного царства, в которое человек войдет, освобожденный от всех физических недугов во всех смыслах тела, и чистый в душе сядет по одной из сторон Божеского трона; в вечной молитве освободится от всякой заботы телесной, ибо в небесном царстве достигнуто совершенство, где не нужно кормить тело – не нужно ничего преодолевать, все сделано и преодолено, остается одно духовное действие.
Что же думает достигнуть фабрика, завод – через труд достигнуть освобождения от труда. На это указывает забота и стремление освободить себя в машине, пока же она только облегчает труд человека. Если через труд человек освободит себя от труда, то и церковь через молитву должна в царстве небесном освободить человека или душу от молитвы, ибо какие молитвы можно творить, когда уже все достигнуто и приобщено к Богу, тем более, если принять, что душа есть частица Бога. Итак, в будущем у человека не будет ни фабрик, ни заводов, от этого он избавится при достижении блага; фабрики и заводы больше не будут вырабатывать благо, ибо оно, единое благо, достигнуто в совершенстве или Боге. Таким образом, в будущем не будет ни церкви, ни фабрики, ибо они были только проводниками народа. Таким образом, фабрика стремится в будущем освободить человека из всего материального, физического, больше ему не придется преодолевать материи. Не будет ли в этом тождества с духовною церковью, стремящейся освободить душу от тела как грешной материи. Но в небе, очевидно, душе нужно будет действовать в молитвах, что же это будет за действие – будет новое сложение молитвы через мысль о Боге. Не будет ли и в этом тождества в фабрике, через которую человек придет к совершенству действия одною мыслью, и весь технический аппарат будет двигаться, мысль моя движет мое техническое тело, все же функции выполняются помимо моей мысли управляющей, все функции вышли из власти моей мысли, и ими не нужно управлять. Итак, полагаю, что фабрично-научное совершенство стремится к тому же, чтобы его построенное производство совершало все функции помимо его физического, а дальше вышло и из власти мысли. Во всех сравнениях видно, что церковь и фабрика идут к одному (Богу не указываю места). Но между ними есть большая разница, разница в том, что церковь освобождает душу из тела, признавая ее несмертной, одни пока души несутся к небу. Фабрика поступает противоположно: души как бы она не знает, видит перед собою «наглядно» без всяких «научных оснований» человека, этого человека она стремится превратить в душу, сделать его не материальным, а духовным, или духом нового тела. Готовит новое тело для человека как духовной силы, и получится подобие того человека, которого церковь разделяет на тело и душу. Бронированное орудие, автомобиль, представляет собою небольшой образец сказанного. Если человек, сидящий в нем, еще разделен с ним, то просто потому, что данное тело, одетое человеком, не может совершать всех функций, сам же человек как организм технический может выполнить все функции, нужные душе, и потому душа живет в нем и выходит из него тогда, когда функции его не выполняются; если бы автомобиль был в совершенстве выполнения всего необходимого для человека, человек никогда не вышел бы из него. Признаки последнего существуют в большем разрешении; например, гидроплан, воздух и вода вмещены в нем, и когда будет обеспечено все, то человек больше не выйдет из своего нового тела.
Итак, фабрика и завод собираются человека привести в новое механическое царство, оковав его тело как душу в новую одежду или орудия, и в царстве том человек будет представляем, как ныне представляется форма души в человеке. Церковь же приведет душу в небесное царство; в обоих состояниях будет еще действовать мысль, но мысль уже не во всем будет иметь власть, некоторые возбуждения останутся вне ее. И это будет признаком того, что близость Бога не далека. Ибо мысль оканчивает свою физическую работу, и начинается царство немыслящее, наступает покой, то есть Бог, освобожденный от всего творения, находящийся в абсолютном покое. Ничто больше не нуждается в Боге, как и Бог в нем. Он больше не управляет техническим своим царством. Итак, все стремится к покою или Богу как немыслящему состоянию.
Бог не трудился, он только творил, таким творцом сделала его человеческая мысль в представлении своем. В шесть дней или через шесть раз «Да будет» совершил творение мира. Неосторожность человека обрушила гнев Божий на него, за что творец проклял его трудом, рождением, потом и кровью (общежитие). Но действительно ли человек согрешил и мог ли Бог его наказать? Этого не могло совершиться, ибо Бог, сотворив мир, удалился в вечный покой, вошел в седьмой день в царство свое немыслящее, следовательно, он уже не мог знать, что случилось с его творчеством, несмотря на то, что он всезнающим должен быть, но, может быть, он и знал, что случится с Адамом, но, может быть, это так нужно. Во всяком случае, войдя в седьмой день, вошел в полный покой, ибо построил в совершенстве мир. Необходимость войти в отдых Бога – обязательное условие, ибо если Бог не ушел бы в покой, то вынужден был бы бесконечно строить, а раз творить дальше, значит не быть совершенным. Бог не мог дольше творить, ибо построил совершенство, выше которого нет. Сотворив мир, он ушел в состояние «немыслия», или в ничто покоя. Выгнал ли человека Господь из рая или нет, но я больше склоняюсь к тому, что он <человек>, увидя совершенства, в представлении своем нашел их несовершенными и начал вновь творить по образу и подобию Бога. Может быть, эта причина как непосильна<я> работа и стала его проклятьем в труде, тоже мозолей и крови. Также по наивности установил себе шесть дней труда, в которые и думает построить новый мир как рай благ, а в седьмом быть в вечном отдыхе, как Бог, но на деле оказалось иначе, неделя за неделями идут, а каждый день мнимого отдыха только больше обнаруживает несовершенств, и с понедельника опять начинается работа по совершенствам. Седьмой день для Бога был отдыхом, а для человека только вышкою, с который видны всегда его ошибки, и в этом разница между ними.
Бог построил совершенство (общежитие), но из чего построил, зачем и какие причины побудили его строить, какие цели и смысл был в его совершенстве, все это пытается разобрать человеческое представление; разбирает то, что представило себе, но так как всякое представление не действительность, то и все разбираемое представление не может быть действительностью, следовательно, все разбираемое – ничто, то есть Бог, вошедший в покой, и получилось, что ничто было Богом, пройдя через совершенства, стало тем же ничто, ибо и было им. «Ничто» нельзя <ни> исследовать, ни изучить, ибо оно «ничто», но в этом «ничто» явилось «что» – человек, но так как «что» ничего не может познать, то тем самым «что» становится «ничто»; существует ли отсюда человек или существует Бог как «ничто», как беспредметность<?> И не будет ли одна действительность того, что все то «что», <что> появляется в пространстве нашего представления, есть только «ничто». Всякий же опыт или движение поезда или ядра, разрушающего стены, убивающего людей, не есть доказательство, будучи очень наглядным и убедительным, что последнее существует; я не могу себе представить себя, где я начинаюсь и где кончаюсь и какую часть тела моего прошло ядро, ведь для того, чтобы пролететь, ядру необходимо не только преодолеть пространство, но уничтожить и сонмы жизней, не видимых нам; но уничтожило ли оно их или изменило ли их движения – нет, ничего не изменилось, ибо ничего нет. Если бы было в мире что-либо, то не было бы «что». Итак, нет ничего удивительного, что Бог построил из ничего Вселенную, так же, как и человек строит все из ничего своего представления, и то, что представилось ему, не знает, что <он> есть сам творец всего и сотворил Бога тоже как представление свое, но если человек всю представляемость посчитал за Бога и нашел, что душа и тело не смертны, то очевидно, что нет ничего во Вселенной, как только «он», ибо «он» не смертный. Человек же смертный, но так как нет ничего смертного, то нет человека. Представление о смертном и неверно, ибо разрушило бы Бога. Отсюда, чтобы разрушить Бога, нужно доказать смерть души или тела как материи, но так как науки и всякие другие попытки доказать последнее не могут, то и скинуть Бога нельзя. Итак, Бог не скинут.
Возможны доказательства того, что не существует материи, как и я доказываю всею рукописью, но науки доказывают существование энергии, составляющей то, что называем телом.
Совершенством вселенного миродвижения или Бога можно считать то, что самим человеком обнаружено доказательство того, что ничего не исчезает в ней, только принимает новый вид. Таким образом, исчезновение видимости не указывает, что все исчезло. Итак, разрушаются видимости, но не существо, а существо, по определению самим же человеком – Бог, не уничтожимо ничем, раз не уничтожимо существо, не уничтожим Бог. Итак, Бог не скинут.
Как я раньше говорил о том, что ничего нельзя доказать, определить, изучить, постигнуть, то и все определения остаются недоказанными, ибо если бы было что-либо доказано, было бы, конечно, для Вселенной и самих себя. Отсюда всякое доказательство простая видимость недоказуемого. Всякую видимость человек называет предметом, таким образом, предмета не существует в доказуемом и в недоказуемом.
1920 г.
V. Статьи в журнале «Жизнь искусства» (1923–1924)
Русский музей*
9-е дек<абря> 1922 года – знаменательный день в истории новой живописи. В этот день Русским музеем был открыт отдел новой живописи. Открыт, вопреки всем препонам, которые ставились на пути новой живописи. Знаменательность события заключалась в том, что новый отдел был открыт не представителями новых течений. Новое было принято и утверждено сторонниками отошедших вглубь истории мастеров. Факт воистину небывалый в конституции и в традициях музейных советов. Старые времена прошли и не дали задержаться на чердаках на традиционное количество лет холстам. Старое сделало сдвиг, и новое искусство стало крышей исторического живописного этажа 19 века и основанием 20-го.
Но это только этажи, в которые наспех развешаны живописные страницы. Комиссия или музейный совет Русского музея, надо признаться, находится в затруднительном положении при разборе вещей и нахождении последовательной связи живописной линии между новыми течениями, а еще больше в отыскании границ с отдаленным прошлым, а только установлением границ возможно показать целостную историю одной и той же сущности развивающегося процесса живописи. Много провалов-промежутков, а в живом построении живописного организма в Русском музее таких недочетов не должно быть. Качественный подбор тоже страдает: не все – кубизм, что кубами написано, и не все то – футуризм, что непонятно. Не все то – золото, что блестит. И чтобы познать золотой блеск, обыкновенно люди несут его к эксперту. Если Русский музей не устрашился новой живописи, то еще менее должен страшиться он приглашения еще живущих экспертов в комиссию для серьезной работы, для поднятия уровня нового отдела живописи. Пригласив последних, можно будет избегнуть подмены и дилетантизма, который не замедляет занимать места, принадлежащие действительной ценности, оставляя ее в сараях музейного фонда на произвол крыс и дырявых водопроводов (Музей художественной культуры в Москве)1. А в другом более благоприятном случае новые произведения поджариваются буржуйками.
Вопрос о включении экспертов по новой живописи назрел и требует своего разрешения. В нем нуждаются и худ<ожественные> школы, и Изо Сорабис, и производство, и также музейное дело.
Это естественный ход событий живописной истории. В особенности когда обновленная страна ищет новых форм и ее нужно избавить от ушедшего старого и от наплыва дилетантизма в новом. Ввиду гениальной инициативы Московского Отдела музеев, выдвинувшего на очередь обмен произведений Москвы и Петрограда, Отдел новой живописи Русского музея может действительно выправить свою линию и создать полную историю Новой живописи, если, конечно, гениальная мысль будет распространяться не только на Румянцевский музей, Третьяковку и Цветковскую галерею, но и на собрания Морозова, Щукина, на Музей художественной культуры и фонд2 в Москве. Тогда, при этом условии, инициатива Москвы может увенчаться успехом, а составление комиссии по этой грандиозной работе с включением экспертов новой живописи поможет разобраться в материалах живописных и прочих, ибо только от этого строгого выбора материалов зависит ценность и прочность музея живописной истории. Новый отдел Русского музея без ущерба для Москвы может быть пополнен французской школой как основоположниками течений живописи: Мане, Писсарро, Ван Гог, Сезанн, Пикассо; возле них можно правильно организовать школы и связать в одно целое школу русских мастеров современности. Надо полагать, что обмен произведениями не окончится только простой заменой места, а повлечет за собой грандиозную реформу картины последовательного развития искусства, что падает главным образом на Русский музей, так как он завершает 19 век и открывает 20-й.
К. Иелевич <К. Малевич>.
Жизнь искусства, 1923, № 16
«Extra dry» (денатурат)*
Музейные собрания могут подтвердить, что критика некомпетентна в вопросах искусства вообще, а тем более в новом. Критика всегда ошибалась, люди ее ничего общего с искусством не имели, не изучали его в работе, не занимались исследованием в опыте, доверяясь созерцанию, вдохновению. Возникла таким образом порода людей с ниже-поверхностным талантом критики, создававшая такие же журналы, лекции, обращавшая их в застенки для расправы над направлением искусства, несовпадавшего с вдохновением Аполлона.
Человек, критикующий тот или иной вопрос, должен не иначе подступать к нему, как только изучив его в теории и опыте, проверив его всеми способами, давать свои обоснования за или против. Критика по искусству не желает считаться с таким положением, она вдохновенна, душевна, с фантазией и экстазом, – она «от Диониса». Обладая таковыми средствами, она приступает к анализу, разбору нового искусства, позабывая про то, что фантазией ничего нельзя проанализировать. Душа – экстаз – тоже неподходящие приборы.
На то существует критический разум, но не «душевное вдохновение». Он вне душевных волнений, аналитичен, теоретичен, методичен и синтетичен. Заниматься же критикой живописи, заведомо не зная ее сущности и «Истоков», нельзя. Это как нельзя лучше доказал Н. Радлов своей критической статьей «К истокам искусства» (№ 1, «Жизнь искусства» за 1923 г.).
А. Бенуа и С. Маковский дали бы ему академический зачет за этот критический разбор. Статья его вдохновлена перепевами критических кретинов из «Огонька» или Биржевки, но никакой критики по существу в ней нет. Радлов возмущен новым искусством, приглашает художников вернуться за ним к «истокам искусства». Где же эти истоки искусства? Радлов находит их в чувстве, в любви, в вдохновении, в переживании, в запечатлении на веки веков душевной жизни творящего.
«Дело творца, – говорит Радлов, – почувствовать мир глубже всех и передать глубину другому»1.
Как будто у мира есть глубокое и мелкое. Радлов еще убежден, что художнику не нужны ни руки, ни глаза, ни рассудок, ибо последние не делают художника. Какие же это творцы, у которых нет ни глаз, ни рук, ни рассудка? По его мнению, таковыми были: Рембрандт, Фидий, Микельанджело, Рафаэль. Но я лично сомневаюсь в том, что они были без рук, глаз и рассудка. Если, по Радлову, они писали исключительно душою и вдохновением, то не может ли он объяснить, что это за приборы, которыми, по его мнению, не обладают новые живописцы и не могут поэтому познать глубин мира. Радлов говорит:
«Под шутовским колпаком размахивает Маринетти, воображая, что колпак есть шлем Минервы, а голова Маринетти – просто пустой череп великосветского ловеласа»2.
Почему? Разве только потому, что в черепе Маринетти оказался рассудок без чувства, души и вдохновения? Читал ли Радлов железные манифесты Маринетти и не находит ли он в них связи с современностью?
«Мы будем воспевать огромные толпы, волнуемые трудом, погоней за удовольствиями или возмущением. Много-красочные, много-голосые бури революций в современных столицах, ночное мерцание арсеналов, фабрик под яркими электрическими лунами, прожорливые вокзалы, заводы, подвешенные к облакам за дымовые ленты, плавный полет аэропланов. Пусть наконец наступит электрическое царство, которое осветит мир, освободив Венецию от продажного лунного света меблированного дома»3.
Вот что было в черепе Маринетти, это он сказал от рассудка, а что сказал Радлов от души и вдохновения? чем заполнена его статья?
Строка за строкой унизана сплошной бранью или отзывами А. Бенуа, который тоже писал от души:
«Холодно, жутко, страшно. Эта жалкая недотыкомка (понимай, футуризм) стала страшною, того и смотри, что вскочит <на спину> слону нашему (понимай, Дионису) и поразит его. О, где бы, где бы достать слова заклятья, чтобы эта мерзость и запустение вошло в стадо свиней и погибло в пучине морской»4.
Это не от рассудка, а от вдохновения; голос вопиющего из «истоков» искусства.
Но что же случилось с изобразительным душевным искусством?
Этот вопрос досконально разобран Радловым. Причиною смерти изобразительного искусства, по его анализу, был сам Дионис. Полвека тому назад Дионис по рассеянности выпил вместо виноградного сока «Extra dry», денатурата, и искусство ослепло (понимай, от денатурата), обезумев, бросилось в пропасть материализма и погибло5.
Хорошо, но причем тут кубизм, футуризм, супрематизм?
Яд денатурата вошел в организм Диониса, и Радлов заключил, что Дионис сделался супрематистом. Может быть, Малевич и есть Дионис, после принятия денатурата. Мало того, Дионис (понимай, изобр<азительное> Иск<усство>) лишился души и вдохновения, стал делать искусство глазами, руками, рассудком – по-футуристически, от чего нужно его избавить, вернув ему душу, вдохновение, экстаз. В «Истоках» пишут только последним. Но как вернуть ему душу? Очень просто: Радлов находит средство: «нюхом души».
Он заметил, что когда Дионис пил виноградный сок вдохновения, то изобразительное искусство было «с душою, экстазом», а как хлебнул «Экстра драй», денатурату науки, изобразительное искусство погибло в пропасти материализма. Дионису надо вернуть душу, чтобы искусство возродилось, а возродится искусство может только тогда, когда Дионис будет принимать вовнутрь виноградный сок. Отсюда для нас – кубистов, футуристов, супрематистов, зорведов6 – мораль: бойтесь пить виноградный сок, знайте, что в нем заключается «жизнь Диониса», а ваша смерть, бойтесь нэп’а, это тот диавол, который искусил Пикассо виноградным соком, он может искусить и вас, и Дионис воскреснет. Потребляйте Экстра драй. Дальше Радлов усматривает, что реформа Академии художеств, введшая дисциплины, методы исследования, произошла от того же денатурата, который «вытравил начисто душу художника». Бедный Дионис превратился в бездушного материалиста.
Дальше еще Радлов сравнивает новое искусство, гоняющееся за современностью, с собакой, хотящей поймать свой хвост, но сам уподобляется ей, от него так же, как хвост собаки, уходит душа Диониса, сжигаемая денатуратом, и Радлов не может ее поймать и вернуть к «истоку».
Мой совет Радлову и всем критикам от Аполлона и Диониса – больше не браться за критику. Души больше не поймать на земле (что учел А. Бенуа), а лучше по умышленной ошибке хлебнуть денатурату и испариться с Дионисом. Но мне кажется, что и здесь угрожает несчастие: Дионису можно было испариться, у него была душа и вдохновение, а у Радлова – ничего. Итак, кубизм, футуризм, супрематизм, зорвед не отходят в вечность и тупик.
Как только отошел Дионис (понимай, Радлов) и Аполлон (понимай, Н. Пунин), мир праху не новому искусству, а вам всем, его похоронщикам.
По признанию Радлова, умирание Диониса началось с импрессионизма, а критика, не разобравшись, кто живет, а кто умирает, хоронит кубизм, футуризм, супрематизм, похоронная процессия идет полстолетия под носилками; сами умирают, а новое искусство никак не могут донести до могилы. Попы критической мысли, отец А. Бенуа и отец Мережковский, уже умолкли, передав голос дьяконам Н. Пунину[13] и Н. Радлову тянуть «вечную память» новому искусству. Но не будет ли и здесь ошибки; когда донесут гроб к могиле, то – в нем будут мощи Диониса и Аполлона.
В дворец Диониса (Русский музей) Новое Искусство вошло; «Святая Святых» осквернена; «Грядущий Хам» (футуризм) вошел. Исполнилось то, чего боялся Мережковский и отчего творил заклятие жрец А. Бенуа. Что может сказать Радлов против такого факта? Другого ответа нет, как только: «скверна произошла» оттого, что не стало старой власти, а новая принесла свободу новому искусству. Со старой властью не была бы осквернена душа Диониса и Аполлона. Этот факт показывает, что новое искусство живо и здорово, преодолевает баррикады Аполлона. Итак, товарищи критики, вам не помогут никакие виноградные «истоки». Виноградные лозы иссохли, а шлемы Минервы, надетые на вас, и фиговые листки будут скрывать лишь безжизненный гипс.
Жизнь искусства, 1923, № 18
Супрематическое зеркало*
Сущность природы неизменна во всех изменяющихся явлениях.
1) Науке, искусству нет границ, потому что то, что познается, безгранично, бесчисленно, а бесчисленность и безграничность равны нулю.
2) Если творения мира – пути Бога, а «пути его неисповедимы», то он и путь равны нулю.
3) Если мир – творение науки, знания и труда, а творение их бесконечно, то оно равно нулю.
4) Если религия познала Бога, познала нуль.
5) Если наука познала природу, познала нуль.
6) Если искусство познало гармонию, ритм, красоту, познало нуль.
7) Если кто-либо познал абсолют, познал нуль.
8) Нет бытия ни во мне, ни вне меня, ничто ничего изменить не может, так как нет того, что могло бы изменяться, и нет того, что могло бы быть изменяемо.
А2) Сущность различий. Мир как беспредметность.
Жизнь искусства, 1923, № 20
Ванька-встанька*
1) «Гораздо поразительней то, что наблюдаем у себя. Тут разлад между чутьем, толкнувшим наших „левых“ худож<ников> в первые же дни Окт<ябрьской> Рев<олюции> пойти нога в ногу с пролетариатом, всемерно помогая ему в деле крушения старых идолов, и идеологической отрыжкой…»
2) Художник Малевич, все годы революции не за страх, а за совесть работавший с Советской властью, казалось бы, исключительно трезвенный, здоровый, жизненный, разрабатывающий подлинные основы, обнаруживает такую же идейную неустойчивость, как и немецкие попутчики революции.
3) «И для него не „бытие определяет сознание“, а художник-творец, облекающий в форму хаос эмоций».
4) «Ведь призвание художника в том и состоит, чтобы облечь в форму образов сознание своей эпохи».
5) «Надо бить по церкви, по религии, чтоб у художника столбом пыль пошла».
6) «Надо разрушить твердыню Олимпа, свергнуть на землю всех богов».
«Церковь и художник».
С. Исаков.
«Жизнь искусства», 1923, № 141
Отвечаю пока по отдельным шести вышеприведенным выдержкам.
Во-первых, ничего «поразительного» не случилось со мною, если я написал брошюру под назв<анием> «Бог не скинут». Никакого разлада «между чутьем», «толкнувшим» меня в Революцию, не было, я всегда был революционером и умру в деле крушения старых идолов «Аполлонов и Дионисов». Дело хуже обстоит с революционера-ми-социалистами, они видят только идолов, на троне сидящих, а на театральных подмостках не только не видят, но даже утверждают свергнутых. Там и царь Эдип, и Король Лир, Цесаревич Алексей, Царь Федор Иоаннович, готовятся Екатерина II, Петр I, Павел III и проч., проч. Казалось бы, что Октябрьская революция и там должна быть, нет ли здесь «разлада» и той же немецкой или идейной неустойчивости, которая приписывается мне. Трезвенность моя останется непоколебимой, никакие «нэп’ы» не алкоголизируют ее, остается также непоколебима и сила любви социалиста к Минерве и Венере (хлебом не корми).
Я, хотя и не с «устойчивой идеей», но все же не утвердил бы главархитекторами ни Щусева, ни Жолтовского и не вручил бы им архитектуру обновленной России, а также не допустил бы к конкурсу на памятник павшим на Марсовом поле2, которые не замедлят «облечь» по вашему слову эпоху в форму образов Аполлонов. Они очень устойчивые в своей идее. Храмы Венер или Аполлона в копиях Палладио, Браманте, с одной стороны, а с другой, a la Казанский вокзал в Москве – не то монастырь, не то богадельня, – ископаемый русский стиль, – покроют всю площадь России.
Против этого, конечно, идти трудно, все понятно, ясно для масс, не футуристично, а классично. И вы все до одного революционеры-социалисты влюблены в древние стили, как женщины в окорока Аполлонов. Посмотрите на памятники пролетариату, от пролетариата звания нет, один Аполлон остался под шлемом Минервы.
Очевидным теперь становится, что спихни бога с неба, он на землю упадет, Аполлона выжили из Храма, а он превратил пролетариат в свой образ и стоит на площади, а когда кубисты-футуристы хотели распылить образ его, создавая новые формы, то сами знаете, какой конфуз вышел: «народные деньги растрачивают», а образов нет, одна фикция, мазня. Давай Щусева и Жолтовского, и опять «бог не скинут».
«Надо бить по религии, – говорит С. Исаков, – так, чтобы пыль пошла столбом у художника», ну что же, а если Щусев-Жолтовский вдруг художники-стилисты, то с них пыль и пойдет не столбом, а стильными колоннами да Аполлонами. Так что и здесь его рецепт не годится, даже опасный, Аполлон не скинут, и в этом случае он оформит пролетарское бытие через Щусево-Жолтовских. А мои основы могут жить только тогда, когда брак полюбовный пролетариата с ними будет расторгнут.
С. Исаков тоже неустойчив (даже немного сумбурен) в материалистическом мышлении. Он говорит: «Ведь призвание художника в том состоит, чтобы облечь в форму образов сознание своей эпохи». И тут образы, а образы, если не ошибаюсь, существуют «в идеалистической пыли», но не в материализме. И тут бог как образ не скинут. Образ ведь – это некая форма, в которой оформляется материя и существует, как душа и тело, душа летит к богу именно от образа на земле к действительности на небе. Таким образом, религия дальше идет, чем С. Исаков, она только на земле держит человека перед образом, после смерти «душа» как суть идет не к образу, а к «действительности». С. Исаков, наоборот, оставляет образы на земле, через художника стремится стащить образы на землю и оформить в них бытие. Отсюда бытие оформляется художником. Зачем же он упрекает меня в том, что я (не совсем верно) утверждаю право за художником оформлять бытие, а не наоборот. (Между прочим, не могу найти в своей брошюре слова «а художник – творец, облекающий в форму хаос эмоции», очевидно, – это С. Исакова слова.) Итак, ничего нет «поразительного», что бог не скинут ни во мне, ни в Исакове, ни в другом месте.
Сознание ли определяет бытие или бытие сознание, курица ли от яйца или яйцо от курицы. Существует ли бытие вне сознания или сознание вне бытия, как вы думаете, т. Исаков?
Комсомольцы задумали войну с богами, хотели свергнуть Иосифа, Марию, Иисуса, а что получилось: «В 1922 году Мария родила Иисуса, а в 23-м году комсомольца». Таким образом, комсомолец стал сыном Иосифа, а Мария матерью, а Иисус братом, думали сбросить, а сами родились от них. Итак, бог не скинут и здесь, а если и победим бога, то сами станем им. Христиане боролись с языческим Аполлоном и Венерою (но никогда с богом), сделали только то, что в том же храме Аполлону приделали бороду и назвали Петром, а вместо молнии на голове сделали венчик, вместо фигового листика покрыли тело ризой. Если Перуна стащили в Днепр за рога, то на том же посту стал новый Перун; прикрыв рога шапкой, став Владимиром, Купалу спихнул Иван, а христиане до сих пор прыгают через огонь.
Конец статьи совсем уже поражает меня, где Исаков предлагает разрушить «Олимп, свергнув всех богов на землю», что же это значит, он не только отрицает богов, но признает их существующими и даже хочет свергнуть их на землю. Если бы он скинул их с земли, это дело другое, но безвыходное положение для него и здесь: скинув с земли – полетят на небо.
Как здорово придуман «Ванька-встанька».
Жизнь искусства, 1923, № 21
* Редакция, не разделяя мнений автора, дает место настоящей статье, как принадлежащей перу представителя левого течения.
Художники об АХРР*
К. С. Малевич
Левые в идее АХРР видят красное передвижничество. Удивления достоин антагонизм со стороны АХРР к беспредметникам. Мы не враги, т. к. наши пути слишком различны.
Художники АХРР – бытописатели и изобразители события, левые же художники – сами творцы иного быта и участники революционных событий.
Творить и самому же описывать творимое – не совместимо.
В век материалистического мышления революционные художники АХРРа упрекают нас в отсутствии души, в отсутствии вдохновения в нашем творчестве. Да, души у нас нет! Я ощущаю энергию, а не душу! Сейчас обращают внимание на технику. А кто первый выдвинул вопрос о технике? Мы! Это наши положения – технитизм, конструктивизм и композитивизм.
Еще один упрек по нашему адресу: в несоответствии нашего творчества с современным моментом, т. е. в нереволюционности. Так ли это? Через кубизм, ломающий взаимоотношения художественных форм, художник приходит к беспредметности. Революция, уничтожая привычные вековые взаимоотношения, также рушит предметный мир. Где больше точек соприкосновения с революцией – у Маяковского ли, правда, еще при царизме писавшего свою «Ходынку», столь близкую к АХРРу, или у нас, непосредственных участников этой революции?
Повторяю, АХРРу мы не враги, но пути наши различны: у них в основе «изобразительность», у нас – наука и сама жизнь.
Жизнь искусства, 1924, № 6
Открытое письмо голландским художникам Ван-Гофу и Бекману*
Получив от Вас фотографические снимки с Ваших произведений: одного архитектурного, другого живописного, приветствую Ваше революционное желание создать новые формы в архитектуре и в живописи. Мы сейчас в советских странах, конечно, имеем больше возможности заниматься исследованием нового искусства и научно его оформить; для этого организован нами научно-исследовательский институт по вопросам художественной культуры1; здесь все вопросы по искусству получают иное оформление, здесь по-новому освещает сознание то, что было в подсознательном, «интуитивном». Этот новый подход даст возможность разобраться в причинах смены видов искусства и дать более системное направление линии искусства и связи его с общей линией жизни, что поставит живописца и архитектора в общий ряд со всеми остальными работниками, выводя его из «жреческого наития».
В настоящее время Вы обладаете большими средствами и можете ваши проекты фактически осуществить, как, например, дом Ван-Гофа2. Однако, плосковидный принцип, положенный в основу его, все же не соответствует современному осознанию динамических устремлений, а в последнем я вижу соответствие авангарда нашей жизни, которое борется с наседающей эклектикой, насаждающей формы разных отошедших на покой времен. Конечно, новые проекты встречают себе врагов со стороны людей несведущих и не осязающих динамику современную, которые обвиняют нас в фальсификации – Барбантини (Италия) раньше в спекуляции.
Современные строения искусства им кажутся не настоящим продуктом, а фальсификатом, и они нахальным образом утверждают подлинный фальсификат, составляя нашу эпоху из всевозможной смеси разных времен, Перикла, Браманте и т. п. Итальянец Барбантини с присущей ему чувствительностью сразу разобрал, что супрематизм – продукт фальсификации; он в нем не нашел специфических прибавок – ни перцу, ни эмоций, ни сахару, ни интуиции: нашел какой-то безвкусный абстракт, в котором ни эстетики, ни чувственности нет, именно нет того, что есть в старых здоровых мастерах прошлого.
Но так как последние обвинения являются исторической необходимостью очередной глупости и недомысла, из чего вся история и состоит, то, конечно, ее не избежит ни один новатор. Недавние шарлатаны живописи становятся богами, которыми история уже давно переполнена. Это в порядке вещей, что, впрочем, не значит, будто этот порядок должен быть и в жизни; в жизни мы должны осуществлять и искать новых отношений и утверждать их где бы то ни было, всюду должны возникать Уновисы (Утвердители Нового Искусства).
Ваша живописная группа представляет собой значительную силу, с которой можно утверждать новое искусство (Уновис) и вести борьбу за мировое выяснение наших задач в искусстве в связи с нашей динамической культурой на страницах «Жизни искусства».
Нужно обращать внимание на архитектуру, это единственное реакционное место, где скопляются «духи Периклова времени», которые имеют надежду «опарфенонить» и «оренессанснить» современное динамическое время, «отургенить» литературу. Но на фронте живописи уже вся работа кончена, ее великое противостояние совершает обратный путь к своему афелию3. Вывод из этого противостояния сделан в пользу архитектурных новых сооружений и все потуги обратить живописное искусство в новое «Революционное передвижничество» успеха не будут иметь, т. к. «Революционное передвижничество» будет выражено новым изобразительным реализмом – Кинематографом во всей его технической силе и правде. Быть на экране, но не холстах. Живопись не выхолощена выводом из нее элементов сооружений, и она сейчас представляет собою пальто, из которого выброшен человек. Живописцы ищут теперь тех сюжетов, тем или того человека-простачка, на которого можно было бы натянуть пальто. Первым делом, Пабло Пикассо взялся за дело, потому что всегда думал, что живопись – пальто и эстетическая косметика. А за ним и все остальные.
Но мне кажется, что сколько бы ни искали таких тем, все же в нашем времени им не найти их. Будучи живописцами, им нужно двигаться по живописному пути, а живописных путей дальше нет, следовательно, нужно возвращаться назад к старым, испытанным живописцам, на хорошо проторенную шоссейную дорогу, к Энгру, Пуссену, Ренуару, Мане, Коро, Рембрандту, и попытаться всю жизнь современную обратить в бесподобные ризы великих классиков. Итак, живописный фронт не жив, но в силу застаревшего живописного бронхита у живописцев происходит отхаркивание живописью. Во всем живописном движении у вас на Западе я замечаю сильный сдвиг в сторону плоскости, это самый верный сдвиг, потому что ведет неминуемо к организации объема, в чем и выражается новое пространственное выражение элементов объемных отношений, и если есть стремление к созданию «Нового классицизма» (не «нео»), то организующийся новый объем из выдвижения плоскостной живописи и даст его в сооружении, которое идет вровень с динамопланитами.
В своем супрематическом сооружении я даю один из элементов тех новых определений классических отношений, над которыми наша группа работает4.
С товарищеским приветом – К. Малевич.
Жизнь искусства, 1924, № 50
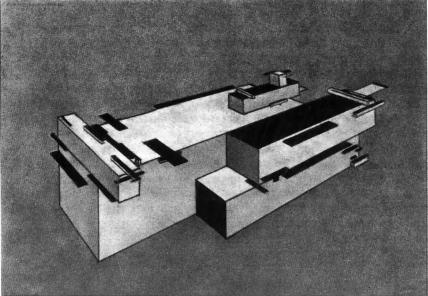
Иллюстрация к «Открытому письму голландским художникам Ван-Гофу и Бекману» (Жизнь искусства, 1924, № 50; подпись: «Супрематизм. Динамоплановое сооружение Уновиса, не обращенное в утилитарную архитектуру»)
VI. Статьи о кино (1925–1929)
О выявителях*
Киносекцией Государственной Академии Художественных Наук была устроена выставка киноплакатов1, или – как я назвал бы их – выявителей. Но это были не плакаты. Это – почти декоративно утрированные картины, которые делались по разным принципам станковых искусств, значительно расходящихся с органической сущностью плаката-выявителя. Ведь ни живописное, ни конструктивное искусство не имеют так называемых «непроницаемых планов», а без последних «выявитель» никогда не достигает своей цели.
Все плакаты, даже сделанные конструктивистами, строятся вне «непроницаемого плана», хотя многие из них и состоят из реального элемента плоскости «как таковой» и фотографии, в чем они и отличаются от так называемого «академического реализма». Но и те и другие плакаты безусловно зависят от станковизма, и поэтому их реальная сущность строится на той же разрыхленной поверхности «картинного живописного поля», или «распыляющей зрение поверхности», в силу чего «живописное картинное станковое поле» требует от зрителя малого полезного расстояния для восприятия.
По этому техническому признаку различают элементы декоративные как противоположные станковому элементу. Правда, часто непроницаемого плана нет в декоративных плакатах, т. е. нет планов, изолированных от света, линейной и воздушной перспективы, а все это увеличивает в плакате воздушные ямы, разрушающие «упорную поверхность», что в свою очередь лишает возможности установки выявителя в одном плане времени.
Устроенный киносекцией диспут имел, как мне кажется, в виду разрешение вопроса о советском киновыявителе. Но, как и все вообще диспуты, он, конечно, не мог дать того, чего хотелось бы. К вопросу нужно было бы подойти с другой стороны: со стороны лабораторного, научного рассмотрения, подготовив совершенно другую выставку, выставку результатов исследования. При этом только условии можно учесть ту или иную форму выявителя вообще, и в частности – киновыявителя, так как киноплакаты должны, конечно, иметь специфическое отличие от всех вообще картин станковизма, изображающих быт, историю и тому подобное.
В настоящее время работа над «выявителем» находится в области индивидуальных изощрений, вне научной системы. Между тем и этот род искусства также необходимо ввести в план научного исследования. На диспуте на эту тему по существу никто не высказался. Вопрос этот, очевидно, никогда и не ставился в киносекции. В противном случае выставка плакатов не была бы устроена по принципу станковых выставок. Дело Государственной Академии Художественных Наук и ее киносекции устраивать выставки произведений отнюдь не эстетического их восприятия, а для научного исследования экспонатов. И мне казалось, что именно с этого киносекция должна была бы начать организацию нового «киновыявителя». Создание «советского выявителя» вне этого подхода немыслимо, ибо только так будет обеспечен правильный путь киноплаката к его форме.
Плаката-выявителя до сих пор нет. В частности – нет «выявителя», специфического для кино. Но, может быть, этого специфического киновыявителя нет по той простой причине, что нет еще и самого кино? А есть только киноаппараты, заменившие собой карандаши, кисти и разноцветную палитру, как новый способ передачи тех картинок, над которыми столько сил затрачивали старые живописцы, и кино пока – только новое техническое средство в области наиболее совершенной передачи реального в искусстве, а режиссеры – это новые художники изо, произведения которых напоминают художников-статиков? Отсюда мы имеем не плакаты, а отрывки бегущего на экране содержания в том или другом крошеве статического художественного оформления, причем разновидность этого крошева является отличительной стороной конкурирующих между собой драм, трагедий и их героев.
Сюжетодатель-сценарист берет из жизни те или иные моменты, на которых художник в свою очередь выбирает картину для «выявителя», т. е. для поля, на котором нужно выявить данный момент. Это поле выявителя может быть красным, белым, зеленым, черным. Это та непроницаемая плоскость, на которой нужно выявить картину. И вот здесь часто происходит то, что я имел в виду. Картиной мы аннулируем непроницаемую плоскость – «отличительный элемент поля зрения».
Кому же принадлежит эта область составления выявителей: сценаристу, режиссеру, художнику? Ни тому, ни другом, ни третьему. Все трое всегда конструируют свои произведения по принципу местного значения, т. е. в поле зрения развертывания произведения. Из ряда помножения элементов на элементы получаются фрагменты. Помноженные друг на друга фрагменты дают произведения. По существу это произведения станковые – произведения, не помноженные на время. Декоратор отчасти отличается от станковиста тем, что его элементы всегда помножаются на расстояние, он прежде всего пространственник: ему нужно иметь только в виду так называемые «действующие выявители» на улице. Вне этого он может рассматривать свое «поле выявления» как пространство для форм художественного декорирования рекламируемого явления, которое он возводит всегда в элемент декоративный. Рассчитанные в таком порядке плакаты создают (смотри снимок 1)2 «зыбь афишно-плакатную», в которой лучи зрения не находят себе упора и распыляются по формочкам разного пространственного отношения. Такой «выявитель» гибнет. Другой метод – это приведение к одной целостной конструктивной связи и выявителя, и выявляемого, что создает нужную для художника и правильно организованную целостность в его мастерской, но является совершенно ненужным на улице, так как в последнем случае «выявитель» совпадает с целым рядом других плакатов, разрешенных в том же плане, и «гибнет». Из этих примеров видно, что нет еще мастера плакатного дела. Эта область, что называется, болтается среди разных течений и направлений в изобразительном искусстве и не может выйти на свой путь. Мастер «выявителей» должен обладать острой чувствительностью к плановой ориентации пространственных отношений, должен уметь учитывать размеры плана, расстояние линий направления выявителей на действующих полях улиц, должен учитывать расстояние выявителей между собою, должен уловить профиль кривой выявителей, так как только при этом учете мы можем установить ближайшую точку к зрителю и поразить безошибочно все поле действия выявителя новым выявителем.
Нужно установить выявитель в ближайшей точке профиля, в то время как выявляемое может быть в каком угодно плане: на выявителе в 100 кв. вершков выявляемое может быть в 1 кв. вершок.
Пространственные отношения в данном случае будут разные, но результат будет лучший, чем в том случае, когда выявляемое будет сделано, например, в размерах десятиэтажного дома. (Из опытов Института Художественной Культуры по Отделению фото.) Всякие выявители, как по форме, так и по цвету, должны учитывать характер действующих на улице других выявителей. Без этого учета наилучшие плакаты – в художественном смысле – могут все же погибнуть, утонуть в строе уличного плакатного поля. (Вот почему каждый мастер выявителей должен давать действующие выявители.) Недавно в действующие на улице плакатные поля были вклеены два выявителя кинофильмы «Стачка». Один – Госкино, другой – «Колизея». Пусть каждый сам судит, какой из них построен на более строгом учете требований плакатного поля. Я полагаю, что первый плакат наиболее удачен, в смысле фиксирования в памяти фильмы «Стачка», и должен вызвать подражания (смотри снимок 2)3.
Развеска выявителей также должна быть учтена. Человек, расклеивающий выявители, должен быть грамотен: должен окончить «техникум выявителя», он должен знать – где и по соседству с каким вклеивать новый выявитель.
Конторы продают места под выклейку плакатов, и эти места превращаются в плакатные свалки, где может быть похоронен любой плакат. Конторы, однако, тут мало виновны, так как они продают наиболее видные места, которые становятся «темными», как только вывесят туда десяток-другой выявителей. Дело это достаточно важное для торговых фирм, которым нужно организовать «техникум выявителей».
Многие фирмы, желая выявить свое предложение, воображают, что, если это их предложение будет помещено на первой странице, оно обязательно будет прочтено. На опытах, производимых в Институте Художественной Культуры, было доказано, что, благодаря форме выявителя, крепко запоминаются рекламируемые вещи и на последней странице, хотя реклама по своим размерам значительно уступает выявителю, занимающему целую страницу.
Никакие направления и течения в искусстве не имеют первенства, так как они не возникали на принципах выявителей и могут быть полезны только теми своими элементами, которые тождественны с элементами выявителя.
Брать целиком форму или сочетание элементов из существа самого течения системы будет очередной ошибкой. Выявители не могут быть построены ни по сезанновскому, ни по кубистическому, футуристическому или конструктивистическому принципам. Выявители не могут быть и передвижнического характера. От всех этих направлений могут быть взяты только элементы и принцип.
Можно фиксировать в памяти зрителя форму выявителя, не притемняя соседних выявителей. Наоборот – при организованной вклейке можно взаимно использовать форму всех выявителей, но при сегодняшнем их состоянии больший процент их притемняется, а следовательно, не достигает цели. На опыте установлено, что в целом ряде рекламируемых вещей, при строгом размещении их выявителей по открытому закону контрастов кубизма, не пропал ни один из этих выявителей.
Надо признать, что большая часть предприятий вообще и кинопредприятий в частности в рекламном деле ничего не учитывает. Более того – страдает рядом предрассудков, и в силу которых многие плакаты, сделанные художниками с верным учетом действующих уже выявителей, были забракованы. Предприятия рассматривают выявитель как картину, измеряя ее качества по аналогии с картинами станковыми, копаются в аналитических, астрономических и ботанических справках. Одна граммофонная фирма, желая рекламировать пластинку «Stella» («Звезда») проходящей на фоне звездного пространства, заказала художнику плакат, который и нарисовал «Стеллу» среди звезд. Дирекция фирмы задала художнику глубокомысленный вопрос: «правильно ли нарисованы звезды и действительно ли такое количество звезд окружает „Стеллу“…» В другом случае художник показал выявитель, на котором были изображены две пересекающиеся полосы, рассчитанные на контраст по отношению к существующим уже на улице выявителям. Плакат этот вызвал у заказчика ассоциацию креста, тот до смерти перепугался и – в результате удовлетворился выявителем, изображающим Пегаса с седоком, держащим факел; внизу плаката лежали пальмовые листы и разбитое сердце. Некогда был сделан плакат, на котором были нарисованы три горящих свечи. Плакат был сделан так, что его не мог проглядеть ни стар, ни млад.
Но фирма от него отказалась в силу предрассудка: «три свечи – это к покойнику!..» Фирма заказала более надежный плакат – из незабудок, на всякий случай отслужив молебен.
Заказчик думает, что его товару должен соответствовать и выявитель, в то время как цель выявителя может быть и другая: дело последнего выявить предложение через какие угодно формы, хотя бы через всех святых.
Не все люди запоминают названия, фамилии, имена, отчества и т. д., но хорошо помнят лица, форму, цвет, число. Для того, чтобы зритель запомнил внешний вид, очень важно, чтобы этот вид стал тем же выявителем. Часто хозяйки, поручая купить товар, предупреждают: «купи с негром» (клеймо) или обращают внимание на «треугольник», т. е. форму.
Я как-то демонстрировал две обложки: все читали – «синдетикон», «синдетикон», тогда как было написано «колдетикон». Когда же обложку перекрасили, оставив те же надписи, зрители обратили внимание, что на первой обложке было не «син», а «кол». Еще пример: на витринах двух магазинов стояли надписи: на одной – «Скороход», на другой – «Обувь». Несмотря на это, выяснилось, что многие заходили в магазин «Обувь», воображая, что заходят в «Скороход». Что было тому причиной? А то, что слово «Обувь» было дано в форме того выявителя, который имел форму знакомого росчерка. Букв зритель не замечал, знакомый росчерк «Скороход» заставлял его заходить в «Обувь». Таким образом, можно дать только один росчерк, и цель будет достигнута.
Киножурнал А.Р.К., 1925, № 6–7
И ликуют лики на экранах*
Если, по Арватову, Эйзенштейн и Вертов глубокомысленно полагают, что надо в конечном итоге уничтожить всякое искусство, в том числе и производственное, оставив «голое производство – технику»1, и если Вертов воображает, будто он сейчас делает не искусство, то, значит, и в кинетическом искусстве вкралась та же ошибка, что и в живописи. Под словами «долой искусство» нужно разуметь искусство, в котором вместо беспредметности, вместо искусства «как такового», выявляется морда жизни. Идет речь об искусстве, которое из рожи хочет сделать розу2.
Если все времена разных человеческих устроительств стремились сесть в экипаж искусства и выявить свое лицо в образе через искусство, то в подражание им наша современная критика направляет современных художников в ту же сторону. Она полагает, что раз буржуазный класс выписывал себя через искусство живописца со всей своей бытовой требухой на холстах или в скульптуре, театре, музыке, поэзии, то и современному победоносному рабочему классу почему-то тоже нужно выписать свою требуху, ибо если буржуазный класс утвердил себя в искусстве, то и мы себя должны тоже вымазать на холст и утвердиться в нем по образу и подобию буржуазии.
Очевидно, многим стрелочникам очень интересно направить искусство через художников по тому же предметному пути превращения рож в образы3.
Пусть направляющая критика забудет привычку видеть в верблюде специальное животное, созданное природою для того, чтобы возить киргизов, а в художнике видеть мастера, которому дана свыше сила «одухотворять» и перевоплощать безобразное в образное.
По словам Арватова – «сколько бы ни болтали отдельные интеллигенты о низвержении всего искусства, кроме производственного, рабочему классу практически надо учитывать, что его достижения не достигли стадии полной организованности и единомышленности общества – и ему приходится убеждать конкретно, т. е. средствами искусства»4 (агит-живопись и агит-кино).
Следовательно, искусство для него, во-первых, является средством агитационным, как бы специально созданным для этого орудием, как это было в раннем передвижничестве, и как только минует надобность в конкретном убеждении общества, то и искусство агитационное станет ненужным. Искусство перейдет, по его мнению, в производство. Эта точка зрения оставляет еще небольшую надежду на то, что и станковизм изобразительный исчезнет только при условии скорейшего всеобщего достижения единомышленности пролетарского общества. Другая существующая точка зрения говорит, что пролетариат должен себя утверждать в искусстве, как это делали его враги. С этой точки зрения гибель искусства изобразительного, станкового отпадает на неопределенное время, ибо живописная функция искусства исправляется по раз уже пройденному пути. Да и сам тов. Арватов не против искусства агитационного, изобразительного вообще, в том числе и ахровского изобразительного искусства. В то же время Арватов хочет направить искусство через художника на другой путь, ведущий его к производству – «искусство в производстве». Под этим лозунгом можно разуметь то, что искусство исходит из цели технической. Искусство, таким образом, идет в приклад к целесообразности вещи, дооформляет то, чего не может сделать голая техника, у которой формы вещей являются из чисто физической надобности организма, но не как таковые. Техника нашего организма создала пальцы на руке разной величины, создала не в силу художественно-формовых отношений, а в силу чистой утилитарности. Форма – ради формы не существует, и форма как таковая – тоже, но при этом условии для развития вещей искусство, как и художник, не нужны, а станковизм и подавно. Стоит только сделать перестановку в лозунге «искусство в производство» – «производство в искусстве», – и мы получим совершенно другую точку зрения, которая повлечет ко многим «долой» в голой технике и в целом строе отношений в обществе5.
Буржуазия, как и все господствовавшие до нее классы, вымазывали свои лики через художника довольно примитивным способом и, таким образом, тоже зарисовывали всю картину жизни. Пролетариат осуществляет свое господство и будет осуществлять в момент больших технических усовершенствований человеческих органов – ушей, глаз, ног, рук. Одним из таких усовершенствований в области искусств явилось кино. Оно создало новых кинохудожников, постановщиков картин. Всякая постановка так и называется – картиною, а этюд к картине стал называться кадром. Поэтому в большой мере все режиссеры-постановщики это – плоть от плоти древних стариков живописцев, у которых в руках лишь новое орудие производства, которым можно во времени развертывать картину, заснять светом явление и в кинокадрик, как раньше написать светом этюдик.
Каждый постановщик картин имеет свою особенность; это зависит от его родителей-живописцев, от их композиционного воспитания: одни с наклонностями древними, времен Рембрандта, другие барбизонского, третьи импрессионистического, передвижнического воспроизведения явлений, установка которых происходит по законам сказанных направлений искусства6.
В этом их отличие от старой техники, к которой застывшая картина изображения на холсте, воздействуя на зрителя, приводит отразившееся в мозгу изображение в движение. Человек думает о причинах, создавших эпизод, и его последствии. Таким образом, современность имеет новые технические усовершенствования в области изобразительного искусства старого времени, когда оно было эксплуатировано идеедателями и учетчиками общественных взаимоотношений.
Что же касается того, что Эйзенштейн собирается ликвидировать станковизм, подразумевая под станковизмом не агитку, тогда он должен стать на утверждение станковизма агитационного, на котором в данный момент он стоит и углубляет правду агитационного содержания, пользуя контраст для выражения последнего. Его кадры состоят на содержании содержания; в переводе на живописный язык это значит передвижничество, у которого живопись была на том же содержании. Живописцы тогда занимались характеристикой лица, психологическими его состояниями, «настроением», выражали счастье и несчастье, быт, историю, разное горе, надежду и веселье – вместо того, чтобы выявить живопись «как таковую» или в нашем случае «кино как таковое».
Но у Эйзенштейна есть одно преимущество перед другими режиссерами, – у него есть некоторое осознание и умение пользоваться законом контрастов, обостренность коих впоследствии должна довести его7 до полной победы, путем контрастного строения, над содержанием.
Итак, каждый режиссер в своей картине стремится передать не форму «как таковую», но свет «как таковой», не живопись «как таковую», но искусство «как таковое вообще». Он прежде всего свет пользует как техническое орудие для выражения поведения человека, окруженного разными обстоятельствами8.
Возьмем хотя бы № 8 «А. Р. Ка» и посмотрим в кадр «Черное сердце»9, недурное, кстати, название, говорящее, что до реализма очень далеко, совсем средневековое мистическое название; сам этюд-кадр построен по типу немецких живописцев 60-х годов10. Отношение голов, фигур друг к другу аннулирует действительность пространственно-объемных между ними отношений. Эта композиция никоим образом не может быть современной, в этой установке современных лиц в глубоком прошлом времени, вне пространства, как осознаем его мы сейчас, элемент света использован, как его пользовали передвижники старого времени; или «Крест и маузер»11, таинственный знак, обнаруженный в одно прекрасное утро в гор. Бостоне или Кливленде; трактовка этого кадра по времени репинского периода и по психологическому состоянию тождественна картине художника Касаткина «Кто»12 или Репина «Вернулся»13 (Третьяковская галерея).
Возьмем «1905 г.», – забастовка в похоронном бюро14, контраст обостренный, долженствующий противопоставиться по своей неожиданности развертываемой, как сдвиг, картине. По своей фактуре этот кадр целиком импрессионистичен, напоминает времена Ренуара, Эдуарда Мане, Тулуз-Лотрека. На стр. 10 «А. Р. Ка» № 8 помещен тип крестьянина15, целиком – задание передвижническое или ахровское – раньше «Журавли летят», теперь – «Слушают агитатора».
Таким образом, кино по живописным теориям находится еще в очень далеком прошлом, а сущность искусства по своей природе действительно вышла к новой своей форме, выразившейся в архитектуре, плакате, декорациях. Новое искусство не живописное и не изобразительное. Новое искусство прежде всего архитектурное, и в своем смысле <оно> не было понято и «левыми» художниками, которые вышли к индивидуальной эстетике, интуитивному настроению и создали из хлама фотомонтажного эклектика, чем поставили баррикаду продвижению развивающейся формы нового искусства «как такового». Однако и этот эклектический фотомонтаж – не замена живописного станковизма, как думает Арватов.
Эйзенштейн и Вертов действительно первоклассные художники с устремлением влево, ибо первый опирается на контраст, второй – на «показ вещи» как таковой, но им еще остается большой кусок пути к сезаннизму, кубизму, футуризму и беспредметному супрематизму, и дальнейший ход развития их художественной культуры можно предопределять только от уяснения принципа указанных школ.
Предложение тов. Арватова об экспериментальном кино16 приветствую, ибо это есть наиглавнейшая задача в киноискусстве; только через этот экспериментальный отдел мы сможем создать «кинологию» и специальную аптеку, без которой организм кино наживет катар.
О «чистом показе» Вертова я скажу, что действительно вещь можно показать «как таковую», изолированной от разных идейных и агитационных содержаний. Не знаю, так ли понимает «чистый показ» вещей Вертов, ибо если так, то это верная установка вопроса в искусстве влево.
Раньше живописцы думали и утверждали, что нет живописи вне идейного содержания или нет содержания, которое бы не содержало живопись. Следовательно, от какой-либо морды аристократа зависела и живопись; вне этого казалось художнику, что живопись была ни на чем не обоснована, размазана, являлась бессмысленной и нецелесообразной. Новые живописцы поняли, что дело не в роже, а дело в живописи, что живопись «как таковая» тоже равноценна другим всем явлениям.
Вертов в «показе вещи» уже наполовину освобождает зрителя от напомаженных идеями вещей, явлений предметов и, показывая вещь «как таковую», заставляет общество видеть вещи не напомаженными, а реальными, подлинными, независимыми от порядка идейного, которые представляют собою картину куда сильнее и интереснее всех ликов и их «содержаний».
Искусство в кубизме освободилось от идейного содержания и стало строить свою форму. Идейной барыне оно служило многие века, чистило ее, пудрило, размалевывало щеки, губы, подводило брови. Сегодня <оно> отказалось в пользу своей собственной культуры. То же и кино, пока другая горничная, которой нужно освободиться и понять, как живописцы-кубисты поняли, что живопись может существовать и без образа, и без быта, и без лика идеи. Тогда кино задумается над своей культурой «как таковой».
Эйзенштейн обратил внимание на закон контраста, который делает его кинопостановку интересной, но ему должно обратить внимание на то, что его контрасты могут создать обстановку, в которой идея может выиграть, но контрасты как таковые в таком случае утеряют свою собственную остроту и контраста как такового при данном условии не выявят. Если закон контрастов будет им осознан, а осознан он может быть только через кубизм как единственную школу о законах контраста, тогда он окажется на высоте, на которой стоит новое искусство будущей культуры.
До сих пор полагали, что новое искусство вообще, и в частности кубизм, есть фальсификат искусства, выдающийся анализ нашей западной критики, аналогичный анализу крыловской обезьяны, которая никак не могла додуматься надеть очки не на хвост, а на глаза, и рассудила разбить их как нецелесообразные.
Тоже и современная критика решила доказать негодность нового искусства вообще и предупредить пролетариев о появлении непонятного, нецелесообразного явления в искусстве, которое называется кубизм, футуризм, супрематизм.
Эта обезьянья сноровка каждую идею считать единственною целью и сообразностью всего к своему образу заставляла искусство издревле ориентироваться или на попа, или на фараона как на целесообразный лик, как на содержателя великих идей. Художник воспитался на этом методе и думает, что человеческая рожа это и есть та цель, в которой существует художественный образ в идее, что эта рожа и вся его бытовая требуха, базарная сутолока суть его жизни.
Мало того, ему стали доказывать, что он рождается этой сутолокой и все взаимоотношения этих рож составляют общество, членом которого он состоит, а следовательно, должен быть сам похожим на него, а все его искусство должно именно сочиняться из изображений этой сутолоки. Так он понял и стоит потому в передней у замглавов жизни, чтобы запечатлеть их лик, в котором содержится «идея», или разъезжает по земному шару и вымазывает на холсты распластанный священный быт.
Также и кинопостановщики не увернулись от этой хватки традиции, и ликуют лики на экранах.
Киножурнал А.Р.К., 1925, № 10
Художник и кино*
В № 10 «Киножурнала А.Р.К.» в своей статье «И ликуют лики на экранах» я указывал на тождество трактовки ликов и целых картин на экране, воспроизводимых еще в докинематографической эре, т. е. до того момента, когда техника нашла средство писать живые лики на полотне экрана. Я указывал и на то, что художник-живописец с величайшим трудом пытался щетиной и краской написать природу и лик так, чтобы он был как живой, естественный во всех своих движениях, достижение выразительности которых составляло одно из его наиглавнейших усилий. Но в результате этих усилий художнику в статическом холсте удавалось фиксировать лишь одно впечатление этого движения водном кадре. В таком безвыходном, обреченном положении художник был до тех пор, пока, с одной стороны, техника изобрела кино и достигла воспроизведения не впечатления, а действительного движения, а с другой – часть живописцев уяснила себе вопрос: «что есть живопись и что есть искусство». С этого момента искусство распалось на два основных разделения: одни стали предметниками (конкретными), станковистами и бытоотражателями, не уяснившими сути искусства; другие – беспредметниками (абстракционерами), уяснившими суть искусства и отказавшимся от портрета и отражения быта.
В той же статье я указывал, что художник-живописец оказал сильное влияние на композиционный характер построения кадров в кино, на работу режиссеров и операторов. Он подчинил кинохудожников своей школе, в силу чего фильма, в которой происходит развитие светописной картины, строится по композиционному закону школ живописных. Я указывал на то, что со временем (которого не так долго осталось ждать) кинотехника достигнет средств оцвечивания кадров, т. е. не только цветной иллюминации форм, но и возможности, при помощи художника-живописца, получения фактуры и особой подкладки на ликах цветного луча (света) такого качества, которое вызовет у зрителя волнение, подобное получаемому им от живописных картин, скажем, в музеях.
Художник, главным образом живописец, оказал и оказывает огромное влияние на режиссеров и операторов в чисто композиционной и световой трактовке кадров. В «Доротти Вернон»1 почти половина кадров (моментов) картины построена так, что в конце концов не знаешь: снимок ли это с картины Лувра времен Гейнсборо, или же это заснято в наше время с живых людей. В «Закройщике из Торжка»2 есть много мест (кадров), целиком поставленных по Перову или Поленову. Смотря на смену кадров этой картины, теряешься во времени, т. к. получается, что фильма по своему временному состоянию проваливается или сдвигается во времени на несколько пространственно-временных расстояний. Один кадр пейзажа принадлежит 1840 году, другой – 80-м годам, третий – 1925 году. Получается, что герой «Закройщика» пробегает во всех формах времени целого столетия; конечно, это не заметно для масс и, может быть, для самого режиссера. У американцев, которые разрабатывают свою постановку в плане одного времени, таких временных сдвигов кадров нет, не говоря уже о классическом подборе всех лиц и предметов, спаянных временем, что очень важно, когда надо добиться хорошего качества и единства всех предметов.
Исследуя все кинопостановки – на предмет выяснения роли художника, – можно собрать огромное количество документов, доказывающих, что художник-живописец оказал огромное воздействие на кинопостановщиков нашего времени, причем до сих пор еще не нашлось ни одного режиссера, который бы увидел киноматериал в другом свете, чем его видел художник-живописец. Киноглаз не видит в природе ничего нового, он рассматривает природу через художественный глаз живописца (красочного светописца), всюду видит природу либо по поленовскому глазу, по перовскому, по Моне, по Шишкину, Рубенсу и т. д. Кино видит пока только ту изобразительность явлений, которую видел художник-живописец. Оба – как киносветописатель, так и живописец – идут за правдой, в этом они сходятся.
«Мы, говорят, изображаем только правду, наше искусство только в тождестве этой правды». Последнее убеждение объединяет киносветописателя и живописца и делает все неизменным в кино как таковом.
Ну и будут сидеть на одном месте с правдой, которой не знают ни тот, ни другой, и будут ликовать лики на экранах по образу и подобию живописцев-художников, ибо киносветописатели – плоть от плоти живописцев-художников, лишь с новым техническим орудием.
Кино, казалось, должно перевернуть всю изобразительную культуру, и, конечно, она будет опрокинута, когда будут в кино абстракционеры, с новою плотью сознания; в противном случае мы будем видеть те же передвижнические картины, которые пишутся пока светописью, т. к. еще не развита чувствительность киноорганизма к цвету. У кино остается сущность живописца-цветописца, развившего свой аппарат до высокого совершенства восприятия и отражения светоцветной природы на экране. Но он не смог дать своим ликам ту движность, которую хотел передать; в действительности, его лики движутся только в воображении зрителя, в картине же ему удается установить только призрак намерения этого движения. Таким образом, мне кажется, что по природе своей кино продолжает неразрывную живописную линию, органически связанную с художником-живописцем.
Но какая получилась чепуха! Живописец-художник приглашается в кино, чтобы играть там роль какого-то захудалого дворника – фонописателя и установщика мебели, вместо того, чтобы руководить этим могучим орудием выражения! Он потерял в нем то право связывать всякую деталь с лицом или фигурой на холсте, которое имел раньше, когда холст его еще не был экраном. Правда, он и сам пока относится к кино очень подозрительно и уверен в том, что этому «мертвому объективу» никогда не передать того, что, собственно говоря, он передает «мертвой кистью». Но как только он увидит, что через этот мертвый объектив устремляются цветовые лучи, и когда он узнает, что ими можно написать именно живописную картину со всей фактурой, тогда, очевидно, он станет во главе, если кино к этому времени не выйдет на какой-нибудь свой особый путь.
В действительности, киноаппарат нашел себе новых художников-динамиков, новаторов по новым средствам и староваторов по трактовке и обращению со светом и сюжетом. Возможно, динамикам нет надобности в цвете, ибо динамизм больше всего выражается в белом и в холодно-сталевидной окраске, а не разрумянивании движения; движение динамическое не иллюминируется горячими токами. Кинодинамика в чистом виде должна иметь свою гамму, но эта гамма потребует и своей формы, а как ее принять, когда у Доротти Вернон розовый цвет лица, а у Закройщика рыжие волосы? А ведь Закройщик и Доротти – единственные «конкретные выражения» жизни, без которой кино погибло бы! Следовательно, до тех пор, пока через Доротти Вернон и Закройщика кино вполне связано с жизнью, с действительной кинодинамической постановкой, вытекающей и из сущности кино, придется подождать, ибо это может оказаться не «конкретно» («нужна-де морда жизни, но не безмордие»).
Вот заколдованный конкретный круг, в котором тысячу лет вертятся художники-живописцы, и вслед за ними завертелось и кино, до мозга костей убежденное, что только то конкретно, где существуют гуттаперчевые, пневматические кинопоцелуи. И того, кто осмелился бы дать беспоцелуйный экран, общество назвало бы сумасшедшим утопистом, абстракционно мыслящим выродком конкретно мыслящего общества. Из этого круга конкретных поцелуев путь лежит через новое искусство вообще. Кино только через новые искусства, через чистую абстракцию к новой форме выйдет к своему динамо-кинетическому построению фильма, как, между прочим, уже вышел живописец.
Итак, роль того, по чьему закону сейчас идет кино, является в нем незначительной и даже ставится вопрос о судьбе этой роли. Правда, вопрос о судьбе художника поставлен в кино не самим художником, и это произошло потому, что кинорежиссер, кинооператор, весь производственный коллектив просто стали находить его деятельность с щетинными щетками, палитрами, красками, холстами каким-то подсобным элементом в деле установки кинокартины; художник – лишь деталь во власти режиссера, равно как и полотер, которому нужно натереть зал. В кино выяснилось, что ни художнику, ни полотеру уже не написать картины. На эту арену выступил другой художник – художник-кинописатель, динамик с усвоением всего искусства художника-живописца, который с нетерпением, возможно, ждет палитры цветных лучей, чтобы из них соткать живописные планы фактур по подобию Ренуара, Дега, Милле и др. Отсюда видно, что и оно находится во власти его со всеми режиссерами, с другой – художник в самом кино во власти режиссера; здесь он прав не имеет, его побивает режиссер, расходясь в композиционном или конструктивном построении места действия. Спор между художником и режиссером в нынешнем кино может быть только по двум причинам: одна кроется в средствах техники и другая – в художественной композиции. Спор по второй причине происходит от запамятования кем-либо из них композиции живописного порядка того или иного крупного художника или течения в живописи (Перова, Поленова, Гейнсборо и др.). Правда, для режиссера, в особенности нашего, это все происходит незаметно, и я уверен, что Протазанов вовсе и не думал, что многие кадры «Торжка» написаны светом и тенью по композиции «Птицеловы» Перова. Но возможно, что в «Доротти Вернон» многие кадры сознательно подгонялись до полного тождества к композиции живописи Гейнсборо.
Итак, если кинорежиссеры сознательно или несознательно находятся на путях художников-живописцев, то тот лучший из них киносветописец и постановщик, кто осознает все живописные пути и их законы; у такого режиссера и оператора картина будет написана лучше, ибо он, изучив композиции крупного художника-живописца, сможет подобрать классически все элементы для картины, лиц и всей обстановки, до мелочей сумеет все выявить и показать каждую деталь в целом, если она нужна. Это очень важно для создания картины; в этом ее качество и цельность.
На Западе мало-помалу крупные художники-живописцы начинают работать в кино, начиная свою работу с чисто абстрактного элемента, начинают с того, с чего получаем в будущем новые формы. Этот выход современного художника-живописца в кино должен нас и его привести к новой сущности и значению экрана как нового средства показания массам новой жизни искусства.
От ГТК3, конечно, безуспешно ждать кинохудожников, потому что ГТК стоит на той же точке зрения, на которой бы художник-живописец мог придти в кино не как декоратор, уборщик, костюмер, а как кинохудожник, кинописец динамических картин, и именовать его режиссером не следует, потому что сегодняшний режиссер есть тот же художник, взявшийся написать на холсте (экране) светотенеписью движущуюся картину. Подобно тому как живописец, устанавливая натурщиков для своей статической картины, присвоил же себе звание режиссера по недоразумению, думая, что он исходит из театра. И само собою ясны все провалы в кино художников-декораторов из театра, которые оформляют в цвете уже созданную картину литературными средствами художника-писателя.
ГТК должно стать новой Академией художеств с новыми техническими средствами выражения и писания динамических картин, но, конечно, в нее должна войти особая система и методы для сцепления исторической спайки искусства живописного и кинетического как конечной технической вершины искусства.
Из всего изложенного роль художника как такового, как нечто целое – очевидна и непонятна как пособника декоратора, как деталь со специальными функциями. Мне кажется, что не менее очевидно положение, что кино должно включать в свою работу крупнейших мастеров-живописцев, деятельность которых могла бы впоследствии принести пользу культуре кино.
Киножурнал А.Р.К., 1926, № 2
Живописные законы в проблемах кино*
Для того чтобы оправдать заглавие статьи, мне, конечно, нужно было бы написать подробный анализ целого ряда кинопостановок с приложением множества иллюстративного материала, свидетельствующего о влиянии живописного изобразительства на строение кинокартины.
Такая работа вылилась бы в брошюру, которую не опубликуешь.
Поэтому я решил ограничиться небольшой статьей, слегка касаясь данного вопроса в связи с работой Дзиги Вертова.
Живописные законы в проблемах кино еще не обнаружены ни режиссерами, ни критикой, ни исследователями кино, хотя пользуются ими все.
Всем кажется, что кино есть самостоятельное искусство, а постановщики убеждены, что они ничего общего не имеют с живописными воздействиями и являются новыми светописателями особенных картин, которых ни одно искусство не могло выразить, – кроме киноискусства.
Кинолюди, правда, заметили, что в кинокартины проникает театральщина, с которой нужно вести борьбу. Борьба эта главным образом должна вестись против методов и принципа театра в выявлении той или другой темы в кино.
Конечно, метод театра есть метод художественно-декоративный, имеющий двухмерный разворот действия на плоскости. Это его законное поле. От этого выявления темы в театре она не иначе развивается, как в однофасадном плане. А от этого двухмерного пространства зависит и вся игра актера. Кроме этого, он не только актер, но и декоративное пятно. Его костюм каждой деталью должен быть тоже связан, как и все его движения, в едином направлении и ритме картины.
Кино разворачивает свою тему также во времени. Вернее, хочет развернуть тему в большем объеме времени, чем театр.
Но эти попытки использовать расширенное время во всех его видах почти недостижимы при данных сюжетных постановках, и картина останется фиксированной в трехмерном иллюзорном живописном плане. Последнее, т. е. живописный «показ», тоже должно встретить сопротивление, как и театральное искусство, поскольку живописный план вмешивается в кино и воздействует на композицию, на монтаж кадров в целое.
Кинетичность еще не спасает дела и не сводит кино с иллюзорного положения любой живописной картины.
Просмотрев множество кинокартин, я мог только обратить внимание на совершенствование технических возможностей, которыми обладает кино. Но из просмотренных картин я ни одной не увидел, в которой была бы поставлена проблема киноформы как таковой, присущей свойству или особенности кино.
Если же в кино были новшества, то эти новшества целиком лежали в плане живописных проблем. Таким образом, получилось, что проблемы, сделанные в живописи, являются и проблемами киноискусства.
Все кинопостановки развиваются, таким образом, по тем живописным материалам, которые уже лежат в архиве истории живописи. Новейшие бытовые фильмы идут под знаком передвижничества тоже архивно-исторического времени.
Например, Эйзенштейн своими новшествами является старым передвижником, который не только стремится внести новое в кино, но стремится все технические средства кинотехники использовать для выражения картины старого передвижного характера.
Надо признать, что его передвижные картины не являются вульгарными, но их можно поставить наравне с картинами художника Маковского1.
Изучение видов живописного изобразительства нужно потому, что все равно влияние живописи на композицию кадра и выражения всей темы продолжают действовать как живописные станковые влияния.
Изучив живописные виды изобразительства, мы натолкнемся на массу новейших приемов методов выражения, и тогда вскроются новые горизонты восприятия новейших явлений, скрытых до изучения.
Изучение живописных изобразительных направлений даст возможность правильно, системно организовывать материал и тем самым избегать той путаницы, которая существует сейчас в кинокартинах как по линии композиции кадра, так и по линии контрастов, в особенности в тех формах, которые претендуют на новые открытия.
Изучая живописный материал, в особенности новейший, мы вскроем очень важную линию, линию, на которой тема распадается и растворяется, после чего выступают новые, нам не знакомые раньше явления. Мы увидели бы не образ предмета, а новое содержание последнего.
Передвижничество было китайской стеной, которая преграждала путь всяким проблемам в живописи. Эта стена стоит и до сих пор, и в ней успешно заделываются те пробоины, которые нанесены штормом новейших течений живописи.
Современное кино также имеет свою китайскую стену, охраняющую «проблемы Монти Бенкса»2 от внедрения новых проблем.
Иначе чем объяснить, что режиссер Дзига Вертов оказался и перед кинокитайскою стеною непризнания в то время, когда всякие искания новой кинопроблемы в киноискусстве должны быть широко поощряемы?
Я не знаю, чего хочет и к чему стремится Дзига Вертов, на эту тему я не беседовал с ним, но я ознакомился с его двумя работами: «Одиннадцатый» и «Человек с киноаппаратом»3. «Одиннадцатый» меня поразил своей неподкупной искренностью, а также целым рядом моментов, ярко отличающих его от «передвижнического» благополучия.
Но «Одиннадцатый», все же еще являясь картиной, элементы которой (кадры) связаны одной темой, дает заметить в ней новые «прибавочные» элементы, которые свидетельствуют о том, что где-то в глубине творческого центра Дзиги Вертова появились новые восприятия, которые требуют нового оформления.
Эти новые ощущения выдвинули некоторые моменты, о которых раньше не приходилось и догадываться ни одному из режиссеров.
В «Одиннадцатом» мы уже имеем значительный процент «абстрактных» моментов, которые и являются результатом новых ощущений, еще не совсем осознанных режиссером. Но и этого уже достаточно.
Рассматривая «Одиннадцатый», мы присутствуем при появлении новых элементов, которые в конце концов будут организовываться в одно целое сцепление и выразят нам новую форму передачи нового ощущения, дадут нам новую небывалую фильму.
Найти эти признаки и оценить их можно только тогда, когда зритель знает их причину и знает, откуда и из какой области эти явления идут и к какой системе эти элементы принадлежат…
И могу сказать, что для того чтобы разобраться в «Одиннадцатом», нужно безусловно знать футуризм Боччони, Балла, нужно знать всю систему живописного футуризма. Всякие же изучения с «точки зрения кино» не будут достаточны. На основе их можно сделать огромные ошибки в оценке «Одиннадцатого» или других подобных картин.
Так, например, Поль Сезанн – первоклассный ткач не сюжетов, а живописи – недооценивался импрессионистами; а Моклер4 – идеолог импрессионизма-прямо отнес П. Сезанна в разряд третьей категории. Это случилось потому, что измерялся или оценивался Сезанн с точки зрения импрессионизма.
Рассматривая Сезанна с этой точки, конечно, в его произведениях мы не сможем найти стопроцентных импрессионистических данных.
Но такое измерение ошибочно, ибо Сезанна нужно было рассматривать с точки зрения еще и живописи, и тогда мы бы оценили его правильно.
То же самое, если бы мы рассматривали «Одиннадцатый» с точки зрения «Монти Бенкса» (и его проблем), то, конечно, оценка была бы другая, и Дзига Вертов был бы насмерть уничтожен. Но если бы мы рассматривали «Одиннадцатый» с точки зрения футуризма, то мы нашли бы много ценного материала для будущей фильмы.
Точка зрения футуризма, с которой я просмотрел «Одиннадцатый», помогла мне обнаружить целый ряд футуристических элементов. Я не имею всего материала, чтобы более точно установить факты, но те, которые есть, тоже могут дать некоторое представление о футурвоздействии. Я привожу здесь два кадра Дзиги Вертова и футуриста Балла для того, чтобы доказать то, что в данный момент руководили Дзигой Вертовым футуристические восприятия, что в нем были начала динамических напряжений, что от кадров Д. Вертова и Балла мы получаем одинаковое ощущение силы5.
Если бы теперь Дзига Вертов был хорошо ознакомлен с футуризмом, то он скоро бы сделал бы выборку из той или другой фильмы футур-элементов и создал бы новую динамическую фильму в чистом виде.
Но и то, чего достиг Дзига Вертов в «Одиннадцатом», делает его первым открывателем новых возможностей в кинетическом искусстве.
«Человек с киноаппаратом» является новым шагом вперед.
Этот шаг вперед нужно, конечно, понять. Или, вернее, чтобы его понять, нужно искать аналогичных явлений в области других искусств, например футуризма и кубизма. Будучи знакомым с этими обоими направлениями, можно обнаружить признаки подобных явлений.
Я обнаружил в «Человеке с киноаппаратом» огромное количество элементов (кадров) именно кубофутуристического порядка. Я не имею под рукой этих элементов, чтобы провести аналогию с элементами кубофутуристическими, но кто видел «Человека с киноаппаратом», тот запомнил целый ряд моментов сдвига движения улицы, трамваев со всевозможными сдвигами вещей в их разных направлениях движения, где строение движения уже не только идет в глубину к горизонту, но и развивается по вертикали.
Надо сказать, что тот человек, который монтировал кадры, великолепно понял идею или задачу нового монтажа, выражающего сдвиг, которого раньше не было.
«Человек с киноаппаратом», как и «Одиннадцатый», является весьма ценным материалом в кинопроблеме, но эту ценность обязательно нужно выявить и показать в целом уже новом динамическом произведении.
«Человек с киноаппаратом» в сравнении с «Одиннадцатым» является шагом вперед в том, что представляет собою уже не тему, сохраняющую весь свой образ на протяжении всей фильмы, но представляет собою распадение темы и даже растворение вещей во времени за счет динамического выражения. Правда, как в одной, так и в другой постановке нет еще ясно выраженной единой линии. Обе постановки являются еще смешанными. В них перемеживаются два начала, или два образа. Образ барахла и образ динамики, а потому она не может быть воспринята как нечто целое, законченное. Мало того, она будет вызывать возмущение, благодаря чему может произойти срыв работы Дзиги Вертова, а такой срыв означал бы провал той экспериментальной работы6, которая в будущем принесла бы много новостей. Эти новости будут зависеть от скорейшего очищения его фильмы от указанного дуализма. Это – очередная работа Дзиги Вертова.
Конечно, Монти Бенксы, если Дзига Вертов будет идти дальше, не простят ему этого. Но будем надеяться, что Дзига Вертов будет все-таки понят и встретит помощь.
Итак, движение Дзиги Вертова идет непреклонно к новой форме выражения современного содержания, ибо не надо забывать, что содержание нашей эпохи еще не в том, чтобы показать, как откармливают в совхозе свиней или как убирают на «золотой ниве», а есть еще одно содержание – чисто силовое, динамическое.
Это, пожалуй, сильнейшая зарядка в новой молодой организации, поднимающая энергию всего нашего века.
Поэтому мне думается, что молодым работникам кино для овладения динамикой нашей реконструктивной эпохи скорее следует изучать Балла, Боччони, Руссоло, Брака и др., нежели Монти Бенксов или Пат и Паташонов.
Мои предложения вызовут, конечно, возмущение, ибо мне скажут, что нужно изучать прежде всего достижения кинорежиссеров.
Я тоже соглашусь с этим, но только в том случае, если киномастера дадут вполне самостоятельное киноискусство. Но пока этого нет, то лучшим является все-таки изучение предлагаемых мною живописных мастеров, преимущественно кубофутуристов (все-таки в них больше возможностей, нежели в передвижниках). Больше современности в динамизме Руссоло, нежели в том, как «Монти Бенкс женится».
Достижения Монти Бенкса равны достижениям в живописи «Кошечка под зонтиком».
Оговорюсь еще раз, что мои предложения не сводятся к тому, чтобы кинорежиссеры стали живописцами. Нет, я предлагаю только материал для изучения, чтобы не идти под слепым воздействием. Второе – выбрать нужные для киноискусства моменты.
Наша архитектура – это была китайская стена, но новейшая живопись и там пробила брешь, много почерпнули архитекторы в новейшей конструктивной живописи для создания последней формы архитектуры, не став, однако, живописцами.
Итак, Дзига Вертов ставит первым эту новую динамическую проблему в кино. Все борцы за честь кино должны рискнуть хотя бы одной постановкой новой динамической фильмы для того, чтобы убедиться, что динамика есть подлинная пища кино. Это его сущность.
Я не спорю, что корову можо заставить возить воду, но чтобы это было присущее ей занятие, – то с этим я не соглашусь. Я не спорю, что кино можно заставить показывать достижения Монти Бенксов, но чтобы это было единственным существом и пищею кино, я не согласен.
Итак, давайте дорогу новейшим явлениям, чтобы кино не погибло от хронического катара желудка и достижений Пат и Паташонов и Бенксов.
Еще несколько слов о «Симфонии большого города»7 и «Человеке с киноаппаратом». Я мельком услышал шопот на просмотре о том, что в «Человеке с киноаппаратом» имеется наличие элементов «Симфонии большого города».
Да, отчасти есть, только строить на этом какие-либо выводы не следует. Не следует потому, что между этими картинами есть разница в достижениях.
Возможно, что в «Симфонии Берлина», по существу, лежала та же задача, что и у Дзиги Вертова в «Человеке с киноаппаратом», а именно – задача выражения динамической силы. У первого – динамичности города, у второго – динамичности вообще.
Таким образом, «кинодинамист» «Симфонии Берлина» хотел, по существу, показать развитие динамики с момента его статического покоя (город спит) и ее сильнейшим напряжением.
Но оказалось, что Рутманн «оказался шурум-бурум». Вместо динамики он показал, как засыпает и как просыпается житейское барахло. И он, «кино-шурум-бурум халатник», при помощи кинотехники показал все свое барахло, собранное им в «городе Берлине» на толкучке зрителей в «симфоническом плане».
«Человек с киноаппаратом» в своем существе не имеет этой тенденции. Он имеет тенденцию скорее обеспредметить городской центр, не связуя ни один элемент в одну протекающую мысль. Это – сплошные смещения и неожиданности. Здесь впервые элементы не могли связаться в одно целое, чтобы выразить сплетню жития.
Дзига Вертов не осмысливает или не оправдывает машину тем, что она вырабатывает папиросы или доит корову, но показывает само движение, самое динамику, силу которой заслонял всегда мундштук папиросы или спина Монти Бенкса. В «Симфонии» же вся ставка на осмысливание даже с очень определенным моральным перчиком.
Таким образом, между этими двумя постановками, по существу, лежит большая разница. Дзига Вертов – отрывает кинообъекты от барахла и переносит в мир динамики, а «Симфония» всегда имеет дело с барахлом, хотя бы и симфоническим.
Установив кинообъектив в сторону еще не изведанной динамики металлической жизни и индустриально-социалистической, мы сможем увидеть новый мир, доселе не разработанный.
Кино и культура, 1929, № 7–8
VII. «Дискуссионный отдел» журнала «Современная архитектура» (1928)
Письмо в редакцию*
Многоуважаемая редакция!
Ознакомившись с журналом «Современная архитектура», я обнаружил большие принципиальные расхождения с современной архитектурной мыслью. Идеология архитектуры и вообще искусства вами не то чтобы не уяснена, но даже и нет попытки к выяснению этой великой стороны жизни в вашем журнале.
Это положение заставляет меня воздержаться от сотрудничества в редактируемом вами журнале. Это значит: не печатайте моей фамилии в списках сотрудников, но этим я не исключаю возможность того, чтобы вы печатали мои работы. Я хочу быть случайным в вашем журнале, и пишите о моих работах сами, что хотите.
В силу принципиальных расхождений посылаю вам только небольшую историческую справку о супрематизме.
Супрематизм возник в 1913 г. (плоскостное явление), статического и динамического порядка, окрашенный в цвета преимущественно черный, красный, впоследствии белый, причем белый супрематизм появился в 1918 году на выставке (работы были сделаны в 1917 году)1.
С 1918 года начинается развитие объемного супрематизма, элементы которого возникли еще в 1915 году2. Форма их была, как показано на рисунке3. В 1923 году были осуществлены те объемы, которые помещены у вас, в СА3 – 1927 года4, причем супрематическое строение прямой объемной выявилось по двум моментам: динамического диагонального строения и статического, отнесенных – первый к металлической культуре, а второй вид к статической культуре искусства как такового, с определением в них архитектуры.
Таким образом весь путь нового искусства во всех своих видах культуры вышел к современному искусству, которое есть архитектура. Последняя резко расходится со второй линией, идущей из обстоятельств металлического прогресса, т. е. конструктивизма, тоже современного.
Вот из этих двух положений исходят разные идеологи, в силу чего наступает конфликт, который не разрешен ни в одном журнале, ни в одной книге. Ввиду того, что я над этим вопросом уже много лет работаю, то я успел кое-что выяснить, в силу чего и нахожу, что ваш журнал расходится с путями архитектуры и, являясь журналом конструктивизма, таким образом, с искусством ничего общего не имеет.
Отсюда вижу, что писать статьи для вашего журнала невозможно. Причины разные, не хочу обрушить гнев.
В скором времени появятся за границей мои записки, из коих будут видны причины расхождения5. Помещая мои вещи – супрематические объемостроения, прошу под ними сделать общее название «супрематическое искусство объемостроения» (супрематический ордер), год 1923.
Жму дружески ваши руки
Казимир Малевич
Современная архитектура, 1928, № 5
Рисунок К. Малевича, иллюстрировавший его «Письмо в редакцию» (Современная архитектура, 1928, № 5)
Форма, цвет и ощущение*
При исследовании художественной культуры вообще и в частности новых видов живописного искусства можно установить отличительные признаки нового искусства и искусства изобразительного. Эти признаки выражаются в разных отношениях и восприятиях художника к живописным явлениям.
В силу этих отношений в произведениях нового искусства начали исчезать образы, исчез признак изображения предметов, иллюстрация идеологий, отражение быта, – словом, изображения «как таковости» явлений жизни, и выдвинулась новая задача – выражения ощущения сил, развивающихся в психофизиологических областях человеческого существования.
Таким образом, новое искусство художника не является однометодным, изобразительным, выражающим только через образ человека или предмета свои ощущения, но еще выражающим ощущения через беспредметные элементы форм. Следовательно, проблема форм выражения нигде не могла выдвинуться с такой силой, как в новом искусстве. Тогда как изобразительные искусства выражали то или другое неизменное ощущение, всегда связанное с одной и той же формой иллюзорного порядка, новый художник выражает не иллюзию, а новую реальную действительность.
Так, например, футуристы не изображали движущиеся предметы, а выражали только ощущение движения последних.
Существует в новом искусстве, в каждой живописной системе, особо формирующий элемент, посредством которого художник выражает или формирует то или иное ощущение.
Такие формирующие элементы мы называем прибавочными или деформирующими в том случае, если они являются изменяющими саму систему в другую, – скажем, кубизма в супрематизм1.
Производя анализы исследования по линии формы, мы обращаем внимание на то, что все системы нового искусства, его мироощущения, имеют свою отличительную от других систем структуру, фактурные отношения, формовые и цветовые, разный принцип, метод и даже мировоззрение.
Отсюда у нас возникает мысль, что не имеет ли форма собственного цвета, ибо всякое изменение формы влечет за собою изменение оцвечивания. Это изменение направляет нашу мысль на то, что не является ли форма диктующей живописные отношения для живописца, вызывая у него разные ассоциации цветных сочетаний, соответствующих данной форме, или совокупность цветовых ассоциаций вызывает ту или другую форму.
Делая опыты над художниками, мы показывали каждому из них рисунок упрощенного геометрического вида на предмет вызова у них цветных ассоциаций.
У целого ряда художников опыты дали приблизительно одинаковую ассоциацию оцвечивания.
Таким образом, мы получили некоторую основу того, что форма имеет свойственную только ей окраску. Но эти опыты только приблизили нас к нашей догадке, ибо, рассматривая незначительное несовпадение ассоциаций при одном и том же рисунке формы, мы заметили, что они расходились лишь в перемещении тонов и их сочетании и интенсивности, но в основном были сходны.
После этого мы сделали целый ряд индивидуальных спектров с произведений одной живописной системы, которые дали нам ту же основную протекающую оцветку и небольшое различие в остальных цветах. Дальше мы сделали выборку из всех спектров и получили вывод, что форма имеет свою оцветку, все же приблизительную, ибо каждый спектр одной системы различался с другими системами резко. Индивидуальные спектры всегда состояли в одной гамме, с небольшими различиями.
Эти различия для нас должны играть важную роль, ибо неточность ассоциаций будет нам говорить о том, что форма не является законом для цвета и что зависимость формы от цвета, обратно, свободна.
Поэтому мы должны твердо установить то, что между творческой работой художника и физико-оптической работой глаза есть различие и большое противоречие. Эти два действия настолько различны, что их нельзя примирить художнику в его творческих ассоциациях, у которого палитра цветов имеет свой строй отношений, связанный с тем или другим образом.
Мы приходим к тому выводу, что изменение формы и цвета происходит в художественном творчестве не на основе оптических восприятий, но в силу изменения психической стороны, т. е. творческих представлений.
Мои выводы расходятся с точкой зрения, которая утверждает, что каждая форма имеет свой индивидуальный цвет, – следовательно, и цвет имеет присущую себе форму, – которая и устанавливает этот закон для произведений живописи.
Отсюда может вытекать следующее: то, что мы называем «вкусом», есть качество, вызванное индивидуальной стороной формы человека, или каждая цветоформа вызывает у субъекта тот или другой «вкус», но вкус есть качество эстетическое, а эстетическое качество вырабатывается тогда, когда в творческом представлении субъекта устанавливается известное отношение к миру.
Таким образом, все законы, установленные оптикой, основанной на физическом восприятии глазной системой явлений, могут, конечно, быть введены в знание художника, но пользоваться этими знаниями в своих творческих работах ему не придется, эти знания для него будут абстрактны. Но если художник захочет использовать их, то можно смело поручиться, что его картины будут похожи на ничего не стоящие в художественном отношении произведения великого ученого по цвету Освальда2.
Таким образом, пути науки одни, а пути искусства другие. То, что для науки есть счастье, становится несчастьем для искусства. Наука ищет разрешения вопросов в центре осведомительном. Искусство или художник ищет разрешения вне центра осведомления.
Процесс творчества возникает в осведомленности сознания. Это – первая стадия, вторая стадия – это момент, когда процесс переходит в стадию представления, когда психический статив напряжения начинает выделять образ, и этот момент является чрезвычайно ответственным, ибо в нем художнику предстоит разрешить вопрос, в каком из центров своего организма оформить вырисовывающийся образ. От этого решения и будет зависеть структура, фактура, живопись, форма образа, от этого вопроса будет зависеть приложение к образу тех или других наук.
Проведем наблюдение над изменением у человека впечатлений от целого ряда одного размера комнат, выкрашенных в разные тона: коричневый, красный, малиновый, охристый. Мы увидим, что впечатление от их размера будет разное. При перекраске их в белый цвет мы будем иметь одно ощущение. Мы будем их ощущать по размеру гораздо большими, а при других оцветках эти размеры уменьшатся. Следовательно, в этом случае цвет влияет на форму и изменения пространства. Отсюда возникает задача того, что при оцветке комнат или домов необходимо устанавливать такую оцветку, которая бы дала правильное ощущение пространства ее размеру.
Точно так же взятые в отдельности разные геометрические формы многоугольника, круга, треугольника дадут изменение их пространств при условии разных их оцветок и, обратно, будут вызывать известный цвет.
Возьмем и целый ряд форм или линий, которые дадут изменения своих величин при известном сопоставлении масштабов и направлений линий. Например, две одинаковые линии дадут разные впечатления в своей величине, если к концам их протянуть в правую и в левую стороны две наклонные линии (небольшие линии вроде вилок), в одном случае – вовнутрь, в другом – вперед.
Следовательно, в этом случае меняется их пространственная протяженность (размер) и форма не от цвета, а от других условий. Черный треугольник будет нам казаться по масштабу другим, если его на белом квадрате поместить не в центре, а в углу.
Но приведенные два последних примера мы не можем брать в подтверждение того, что у каждой формы есть свойственный ей цвет. Ибо все подобные примеры будут принадлежать чисто физическому строю восприятия нашего глаза, будут давать нам чистый оптический обман, но не восприятие действительности по той самой причине, что ни форма комнаты, ни форма палочек не изменились в своем пространстве. Но оба эти примера нельзя сравнивать с произведениями, ибо они вытекают из разных истоков.
Одни примеры являются результатом восприятия физического устройства глаз. Их мы относим к оптическим изменениям формы и цвета. Другие, т. е. художественные произведения и их изменения, отнесем к душевным или психическим изменениям, в силу чего восприятия явлений мира преломляются в эстетический или мистический вид.
Из сопоставления спектров систем импрессионизма, сезаннизма, кубизма, футуризма, супрематизма и др. мы видим их различные оцвечивания и различные формы. Могут ли эти доказательства служить фактом того, что каждой форме произведения именно соответствует та или другая гамма? Кто может утвердить или опровергнуть это соответствие?
Можем ли мы сказать, что импрессионистическому произведению не соответствует данная гамма, если она выражает основную задачу импрессионизма, т. е. дает ощущение света. Если мы этого не можем сказать, то каким образом удалось это соответствие найти художнику, какая научная лаборатория ему помогла сделать эту законную оцветку?
В таких случаях принято обычно говорить, что такие решения устанавливаются интуицией художника, подсознательным решением души.
Следовательно, организм каждого художника обладает внутри себя довольно тонкой по работе лабораторией, которая даст сто очков любой оптической лаборатории, ибо разрешить такую проблему как отношение цвета к форме является немаловажным делом.
Но в действительности эти две лаборатории расходятся или одна другую исключает, и достижения второй для художника могут иметь такое значение, как наука об анатомии для искусства, т. е. никакого значения.
Восприятия физической стороны мира через интуицию, преломляясь в представлениях, не будут совпадать с решением оптической лаборатории. Оптическое восприятие есть рассмотрение явлений, а интуитивное есть ощущение их. Поэтому, если для первого важна форма «как таковая» и цвет «как таковой», для второго ни форма, ни цвет не играют никакой роли, ибо на первый план ставится художником ощущение явлений, а не изображение как зрительное восприятие оптического порядка.
Следовательно, художник, чтобы выразить все мироощущение, не вырабатывает цвет и форму, а формирует ощущение, ибо ощущение определяет цвет и форму, так что приходится говорить о соответствии цвета ощущению. Цвет и форма в физике могут рассматриваться как отдельные элементы, но не могут рассматриваться как два разных элемента, посредством которых выражается ощущение, ибо цвет и форма являются результатом того или иного ощущения, которое при цветоформальном анализе мы можем разделить на форму и цвет.
Иногда импрессионистов упрекают в том, что форма у них слаба или отсутствует совсем, что в погоне за выражение цветового ощущения художник-импрессионист утеривает форму… Этот упрек уже является характернейшим подтверждением только что сказанного. Но если бы импрессионисты обратили больше внимания на форму, нежели на ощущение цвета, они потеряли бы последнее. Это и будет доказательством того, что в данном импрессионистическом ощущении мира специальной формы нет, как нет и цвета «как такового». Ибо если бы цвет и форма были выражены «как таковые», то ощущение мира как света исчезло бы. Люди, упрекающие импрессионистов в отсутствии у них формы, усматривали, конечно, форму явлений, лежащих в воздушном световом пространстве.
На световую сторону, т. е. на то главное, что являлось сущностью импрессионизма, не обратили никакого внимания. Между тем свет для импрессионистов был одним из элементов мироощущения, но позволим себе усомниться и в этом и примем это только условно. Все предметы, лежащие в пространстве, для импрессионистов являются случайным явлением; формой и содержанием их пользуется художник-импрессионист лишь постольку, поскольку это способствует выражению световибраций.
Таким образом, в этом случае мы убеждаемся, что все предметы в световом пространстве как форма ничего общего не имеют ни со светом, ни с цветом. Свет и тень бесконечно изменяются, но предмет как форма остается неизменным. Поэтому не форма предмета важна для импрессиониста, а только все изменения светового спектра лучей, его потемнения и осветления.
Сезанну, одному из самых сильных и тонко чувствующих элемент живописи художников, посылаются замечания в той же форме, как и импрессионистам. Говорят, что Сезанн не обладает формой рисунков. И в сезаннизме, и в импрессионизме мы встречаемся с одним и тем же вопросом, – вопросом несоответствия формы и цвета натуры и воспроизведением их в живописном ощущении.
Произведение живописное показывает нам только признаки предмета, которые сильно деформированы. Неопытной частью критики эта деформация рассматривается как недостаток, явившийся от неумения рисовать и писать. При этом всей критикой упускается главная точка зрения, а именно то ощущение, которое явилось причиной того или другого отношения к предмету.
В действительности все происходит наоборот, и в этом случае Сезанн является великолепным мастером, выражающим живописные элементы, формирующим их через свое ощущение. Сезаннизм является одним из больших достижений в истории живописи именно по своему чистому выражению живописного мироощущения.
В истории живописи в лице Сезанна мы имеем апогей ее развития.
Есть великолепный по выражению живописного ощущения автопортрет Сезанна3. В анатомическом смысле автопортрет не совпадает с действительностью ни по линии формы, т. е. анатомии, ни по оцветке лица. Следовательно, его автопортретом и нельзя назвать. Форма натуры и воспроизведение различны, остается только характер или признаки некоторых черт лица. Точно так же еще в большей степени будет расхождение с цветовой стороной. В данном случае лицо покрыто такой цветной маской, что вряд ли она могла соответствовать действительности и дать ощущение тела.
Таким образом, мы имеем перед собою такое произведение, которое не является похожим на форму и цвет натуры.
Рассматривая этот факт, можно говорить о чувствительности к работе сезанновского организма, фильтрующего живопись от всех других эле ментов натуры. Благодаря этому мы получили его высокую живописную культуру, наивысшую чистоту живописного ощущения в предметной линии искусства.
Итак, действительность служила Сезанну формой для выражения его живописных ощущений, в то же время не являясь формой ощущения.
Лицо Сезанна было случайной формой, которой он не придал важности академического значения «как таковости», он взял как случай для выражения живописного ощущения. Мало того, лицо его не служило ему даже как явление живописное в смысле академической стороны живописи, ибо если бы форма и цвет явились для него академически важными, то воспроизведение было бы тождественно действительности.
Все же изменения натуры, происшедшие в произведении, указывают, что они не соответствуют яркости выражения живописного ощущения ни по форме, ни по живописи по той самой причине, что ощущение живописи уже явилось как совокупность целого ряда живописных элементов, не только принадлежавших лицу Сезанна. В силу этого в автопортрете получились те изменения, которые не были присущи натуре.
Сезаннисты встречают те же условия, что импрессионисты при выражении света. Также и сезаннизм, рассматривая предметы как условия (но не формы) выражения живописного ощущения. Отсюда ни в первом, ни во втором случае нельзя рассматривать предметы как формы выражения. Отсюда же и получаем вывод, что все те формы, сюжет, предмет, натюрморты, которые мы считаем формами, не являются формами выражения, как в музыке форма музыкального инструмента не является формой музыки, как и форма букв не является формами самого поэтического произведения.
Дальше за сезаннизмом выступает по линии живописного выражения полная деформация предмета, т. е. формы, в которой все элементы живописи переформировываются согласно углублению живописного ощущения.
Следовательно, то, что мы принимали за форму, исчезло совсем.
Что же осталось для восприятия? Для Сезанна остался бы живописный элемент, для Матисса – цветовой, цветописный.
Когда появились течения кубизма и футуризма, так и говорили зрители и критика, что в картинах ничего нет, и это означало, что нет признаков предмета, т. е. нет формы, а живописные отношения, создавшие новые формы, ничего не говорили обществу, ибо вне форм натуры большинство не могло воспринять живопись.
И когда в первых стадиях кубизма улавливался какой-либо признак предмета, то, обрадовавшись, говорили: вот-вот, в этом месте картины есть часть предмета. Но в свою очередь возмущались тем, что эти формы были оцвечены в несоответственный цвет. Эти факты тоже говорят за то, что в живописном произведении всегда воспринимали форму предмета и его цвет как за истину, за единственное содержание искусства, по которому можно было определить качество, мастерство и т. д. Но никогда почти не воспринимали произведение как выражение живописного ощущения сущности предмета. Из целого ряда примеров нового искусства можно сделать вывод, что чем дальше живописное искусство отступает от изобразительности, чем дальше оно отступает от иллюзорности, тем ближе оно становится к выражению новой реальности или новой действительности как единственной своей самоцели, а это будет означать, что между произведением и натурой будут и формовые, и цветовые расхождения, следовательно, натура не является законом для нового художника, наоборот, законы натуры он растворяет в своей системе, создавая свою действительность.
Воспроизведение живописного ощущения мы не можем разделить на форму и цвет и рассуждать о соответствии цвета и формы, ибо речь идет об ощущениях живописных. При таком разделении произведение теряет силу живописного ощущения, т. е. просто оно исчезает. Религиозные люди прежде всего воспринимают лики, но не живопись, а художник воспринимает живопись.
Кубистическое течение искусства не является исключительно выражением живописных ощущений. Живописные ощущения в кубизме имеются только в его первых двух стадиях, но в третьей и пятой выступают ощущения не только живописного тона и цвета, но ощущение контрастов последних, когда сами ощущения начинают быть элементами контраста.
Это настолько сильно выражено, что о форме, цвете и фактуре как таковых речь отпадает. Они остаются отношениями контрастов и, следовательно, существуют как контрастные элементы. Не существует в этом случае ни желтого, ни белого, ни синего, – все цвета рассматриваются или воспринимаются как контрасты.
Здесь нет уже того, что мы можем назвать цветом, живописью, ибо такое определение было бы неверно, ибо на первом плане здесь было ощущение контраста.
Футуризм – это есть ощущение динамики, следовательно, футуризм не есть искусство изображения движения вещей, а также футуризм не есть живописное ощущение, хотя пишутся футуристические произведения цветными материалами. Формы предметов, моторов, аэропланов, бегущих лошадей и идущих людей не являются формами выражения, а, наоборот, они растворяются в ощущении движения или динамики футуристом на отдельные элементы, отношение которых выражает степень ощущаемого движения. Поэтому нет ничего удивительного, что от мчавшегося мотора остался только один его элемент – часть колеса, часть лица моториста, а все остальное исчезло совсем.
Цвет и форма для футуриста есть разные элементы.
Из этого видно, что ни цвет, ни форма для футуриста не играют роли академического изображения, а только являются передачей динамической своей сущности, ощущаемой футуристом. Причем форма выражения этой сущности ничего не имеет общего с действительностью, ибо действительность уже отстала по своей силе, футурист уже ощущает эту силу большей.
И в этом случае мы видим, что произведение футуристическое нельзя рассматривать, а можно ощущать только выраженное в нем движение. Ни цвет, ни форма тут не играют роли для восприятия. Такое отношение ко всему новому искусству будет по существу.
До сих пор казалось, что жизнь как совокупность разных явлений природы и человеческих вещей и самых отношений людей друг к другу является единственной формой для выражения или изображения их в художественном воспроизведении на холсте в виде произведений, и в этом заключается искусство. Таковая точка зрения насмерть может уничтожить искусство ощущений. Но из целого ряда приведенных мною примеров видно, что постоянной формы вообще не существует, как не существует постоянного соответствия формы и цвета.
Живописные ощущения Рембрандта, Греко, Сезанна остаются равными по ощущению, но по своей форме совершенно разные. Ибо то, что мы называем формой, у всех трех художников будет не формой, а теми или другими условиями, в которых выражали они неизменное живописное ощущение.
За футуризмом следует еще одно движение искусства – супрематизм, которое не является результатом одного какого-либо ощущения, а представляет собою целый ряд выраженных ощущений в своей системе.
Наибольшее место в супрематическом искусстве занимает динамическое ощущение, потом идет супрематический контраст, статический, пространственный, архитектонный и другие.
Рассматривая динамическое ощущение, мы видим, что в данном ощущении цвет как таковой не имеет никакого значения. Плоскость или линия может быть выражена черным или белым. И это только потому, что чем-то нужно показать ее динамическое напряжение. В другом случае – супрематическом контрасте – больше всего имеет значение форма как элемент контрастный, т. е. величины супрематических элементов во взаимных соотношениях. Цвет никак не соотносится к форме, как форма к цвету. Цветовые пятна являются как цветные контрасты. Так что в этом случае цвет и то, что мы называем формой, не являются обязательными. Поэтому супрематизм мы должны не рассматривать, а только ощущать выраженные в нем ощущения динамики, статики и т. д.
Выражение этих ощущений может быть действительным выражением сущности явлений беспредметных функций мира (например, движение воды, движение ветра, туч). Эта сущность явления ощущается нами, но никогда не будет понята сознанием художника.
Слитность мира с художником совершается не в форме, но в ощущении. Я ощущаю мир как неизменность во всех его изменениях цвета и формы. От ощущения мира у художника возникает образ; когда ощущение переходит в область представлений, в психическое действие, т. е. видимость, начинается первая ступень формулирования ощущения, желание из ощущения сделать реальное, видимое, осязаемое. Но формы этого образа меняются. Это же изменение не значит, что ощущение меняется, в нем остается та таинственность, которую человек хочет преодолеть. Паровоз, мотор, аэроплан, броненосец, снаряд, винтовка, пушка, образы динамических ощущений передают сознанию представление, которое приспособляется к тем или иным нуждам человека. Их формы разные, но ощущение одно.
Цвет и форма не оформляют ничего, а только стремятся выразить тайную силу ощущений.
Люди, будучи во власти этих ощущений, устанавливают или изменяют свое поведение.
Постижение мира недоступно художнику, – доступно только ощущение его.
Итак, мы бегло просмотрели целый ряд живописных ощущений и хотели установить зависимость формы от цвета, и обратно. Но точной зависимости во всех живописных течениях не установили, а, наоборот, увидели, что не в цвете и форме дело и не в их зависимости, а скорее всего сущность живописного искусства есть связь художника с миром через его ощущения. Мы видим, что во всех предметных выражениях живописи живопись формы не имеет, ибо воспроизведенная форма – не форма, а выражение живописного ощущения.
Современная архитектура, 1928, № 5
Комментарии
Принятые сокращения и аббревиатуры
Malevich, vol. I
Malevich, vol. II
Malevich, vol. III
Malevich, vol. IV: Andersen, Troels, ed. K.S. Malevich: Essays on Art. Copenhagen: Borgen, 1968–1978. 4 vol. Vol. I, 1915–1928, and vol.ll, 1928–1933 (1968); vol. III, The World as Non-Objectivity. Unpublished Writings, 1922-25 (1976); vol. IV, The Artist, Infinity, Suprematism. Unpublished Writings, 1913-33 (1978).
ГИИИ – Государственный институт истории искусства, Ленинград (С.-Петербург).
Гинхук – Государственный институт художественной культуры, Петроград-Ленинград (С.-Петербург).
ГМИИ – Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва.
Изо – <Отдел> изобразительных искусств.
НКП, Наркомпрос – Народный комиссариат по просвещению.
Сорабис – Союз работников искусств.
А. С. Шатских. Слово Казимира Малевича*
(1) В связи с этой выставкой был издан обстоятельный каталог: Казимир Малевич.
1878–1935. Государственный Русский музей, Ленинград; Стеделик музеум, Амстердам; Государственная Третьяковская галерея, Москва. 1988–1989. Во время работы выставки в Москве был выпущен буклет «Казимир Малевич. 1878–1935. К выставке в залах Всесоюзного музейного объединения „Государственная Третьяковская галерея“» (составитель Т. В. Горячева), содержавший фрагменты из деклараций и манифестов русских художников-авангардистов начала XX века.
(2) В преддверии столетнего юбилея Казимира Малевича и в последующие годы было издано немало книг и статей. Наиболее полная библиография по творчеству Малевича (до 1980 года) приведена в книге: Mijuskovič, Slobodan, ed. Malijevič.
Suprematizam – Bespredmetnost. Beograd: Studentski izdavacki centar UK SSO Beograda, 1980. Основная библиография помещена также в изд.: Казимир Малевич.
Художник и теоретик. Тексты Е. Н. Петровой и других. М.: Советский художник, 1990.
В последние годы вышли следующие крупные работы: Stachelhaus, Heiner. Einer tragischer Konflikt. Düsseldorf: Claasen, 1989; Marcadé Jean-Claude. Malévitch. Paris: Nouvelle Edition Français, 1990; Crone, Rainer, Moos, David. Kazimir Malevich: The Climax of Disclosure. London: Reaktion Books, 1991; Завалишин В. Малевич. New York: Effect, 1991; Сарабьянов Д., Шатских А. Казимир Малевич. Живопись. Теория. М.: Искусство, 1993.
(3) Начало посмертной публикации теоретического и философского наследия Казимира Малевича было положено изданием его основного труда «Супрематизм. Мир как беспредметность» (1922) в переводе на немецкий язык: Haftmann, Werner, ed., und Hans von Riesen, trans. Kasimir Malewitsch. Suprematismus – Die gegenstandlose Welt. Cologne: DuMont, 1962 (3 ed. – 1989); второе издание этой книги с предисловием Karl Ruhrberg-Stuttgart: Kunstwerk,1980. Наиболее полное издание трудов Малевича (4 тома) осуществлено историком искусства Тр. Андерсеном в переводе на английский язык: Andersen, Troels, ed. К.S.Malevich: Essays on Art. Copenhagen: Borgen, 1968–1978. 4 vol. Vol.l. 1915–1928, and vol.ll. 1928–1933 (1968); vol.lll. The World as Non-Objectivity. Unpublished Writings. 1922-25 (1976); vol.IV, The Artist, Infinity, Suprematism. Unpublished Writings, 1913-33 (1978).
В переводе на французский язык было издано три выпуска трудов Малевича: Marcadé, Jean-Claude, ed. K. Malévitch. Lausanne: L’Age d’Homme. 3 vol. Vol.1.
De Cézanne au suprématisme (1974); vol.2. Le miroir suprématiste (1977); vol. 3. La lumiére et la couleur (1981). Также на французском языке появились дублирующие переиздания сочинений Малевича: Nakov, Andrei, ed. Malévitch. Ecrits. Paris: Champ Libre, 1975; последнее изд.: Paris: Lebovici, 1986 (итальянское издание: Malevic. Scritti. Milan: Feltrinelli, 1977).
B 1980 году были выпущены микрофиши, воспроизводившие архивные материалы фонда Малевича в Стейделик Музеуме, Амстердам: Kasimir Malevich Archive, Stedelijk Museum, Amsterdam. Collection of forty-six microfishes of Malevich manuscripts published by Inter Documentation Company, Zug, 1980.
На русском языке тексты Малевича были опубликованы в кн.: Харджиев Н., Малевич К., Матюшин М.
К истории русского авангарда (Стокгольм: Гилея, 1976); в кн: Неизвестный русский авангард в музеях и частных собраниях (автор-составитель А. Д. Сарабьянов, М.: Советский художник, 1992); а также в указанных выше каталоге и книгах, выпущенных в России в 1988–1993 годах. В эти же годы репринтно были переизданы некоторые брошюры Малевича, часть работ была опубликована в периодической печати.
(4) Об истории приобретения работ и архива Малевича см.: Йоуп М. Йоустен. Малевич в Стейделик Музеуме // Казимир Малевич. 1878–1935. Каталог выставки. Ленинград, Москва, Амстердам, 1988–1989. С. 44–54.
(5) Первая персональная выставка художника – «Казимир Малевич: Его путь от импрессионизма к супрематизму» – была организована в рамках XVI Государственной выставки. Об экспозиции выставки см.: Шатских А. Казимир Малевич. Хроника жизни и творчества // Сарабьянов Д., Шатских А., указ, соч., с. 391.
(6) Супрематизм. 34 рисунка. Витебск: Уновис, 1920. См. наст. изд., с. 189.
(7) На сегодняшний день известны два экземпляра Альманаха Уновис № 1: один из них хранится в труднодоступном частном архиве, другой – в Отделе рукописей Государственной Третьяковской галереи, ф. 76/9. В Альманахе из галереи помещена плохочитаемая четвертая или пятая машинописная копия текстов – их публикация нуждается в большой подготовительной и сверочной работе, как и любое издание архивных неопубликованных материалов. По этой причине решено было отказаться от помещения этих прижизненно «опубликованных» работ Малевича в настоящем томе.
(8) В рукописях Малевича в Стейделик Музеуме хранится часть его поэтического наследия (Архив Малевича, инв. № 6 и инв. № 7). Тр. Андерсеном были опубликованы некоторые произведения; см.: Andersen, Troels, ed. K.S. Malevich: The Artist, Infinity, Suprematism. Unpublished Writings, 1913-33.Vol.IV. Copenhagen: Borgen, 1978. P. 9–35. Три небольших фрагмента стихотворения «Я начало всего…» были опубликованы в библиофильском издании: Казимир Малевич. По лестнице познания. Из неопубликованных стихотворений. М.: Гилея, 1991. Поэтическое наследие художника наиболее полно представлено на русском языке в разделе «Стихотворные произведения» в кн.: Сарабьянов Д., Шатских А., указ, соч., с. 368–380.
(9) При жизни Малевича его сочинения были опубликованы в переводах на польский, немецкий и украинский языки; особенно значимым в биографии художника-теоретика был цикл статей в харьковском журнале «Нова генерація» (1928–1930), в основе которого лежал его труд «Изология». Как правило, местонахождение оригиналов переведенных на другие языки работ неизвестно и нуждается в уточнениях и разысканиях. Обратный перевод текстов Малевича на русский язык возможен лишь при полной уверенности в отсутствии первоисточника. Публикация таких работ после всесторонней проверки будет осуществлена агентством «Гилея» в последующих томах Собрания сочинений Малевича. Список произведений см.: Шатских А. Статьи и книги Малевича, опубликованные при жизни художника // Сарабьянов Д., Шатских А., указ, соч., с. 400–401.
Первый всероссийский съезд баячей будущего (поэтов-футуристов)*
Декларация опубликована в журнале «За 7 дней», СПб., 1913, № 28 (122), 15 августа, с. 605–606.
Текст, опубликованный в журнале, изобилует опечатками и своевольной пунктуацией. Опечатки и пунктуационные ошибки исправлены без оговорок лишь в тех случаях, когда они искажают смысл. Во всем остальном декларация воспроизводится точно по оригиналу: «ошибки» и «косноязычие» – преднамеренное нарушение литературных норм и правил грамматики – играли важную роль в поэтике заумников. Будетлянские неологизмы не оговариваются (кроме случаев разночтения). Предполагаемые смысловые эквиваленты «ошибок» и «опечаток» приведены в квадратных скобках.
Заседания Первого всероссийского съезда баячей будущего (поэтов-футуристов) проходили под председательством М. В. Матюшина; двумя делегатами-участниками были А. Е. Крученых и К. С. Малевич (секретари съезда). Ожидался приезд Велимира Хлебникова, но он так и не добрался до Усикирко в связи с денежными затруднениями.
В течение 1913–1914 годов был осуществлен ряд проектов, работа над которыми была заявлена участниками съезда в декларации. Составитель благодарит А. Е. Парниса за ряд ценных замечаний.
(1) Тема предполагаемого доклада Велимира Хлебникова на съезде не обозначена; доклад «О новой музыке» принадлежал Матюшину. В эти годы он разрабатывал новые музыкальные идеи, воплощенные затем в теории четвертитоники в музыке; «будетлянские ноты» к футуристической опере «Победа над Солнцем» были написаны Матюшиным в четвертитоновой музыкальной системе.
(2) «Пора пощечин прошла» – своеобразная декларация об отказе участников съезда от разрушительного пафоса русского футуризма в пользу созидательных усилий. Эпатажные нигилистические устремления футуристов наиболее яркое выражение нашли в сборнике «Пощечина общественному вкусу» (М., 1912), к названию которого и аппелируют манифестанты в Усикирко.
(3) Данный неологизм использован Крученых несколько в ином написании в заглавии книжки «Взорваль» (СПб., 1913).
(4) Гуро Е., Хлебников В., Крученых А. Трое. Рис. К.Малевича. СПб., 1913. Вышедший в сентябре сборник был посвящен памяти поэтессы Елены Гуро, жены Матюшина, скончавшейся 23 апреля 1913 года в Усикирко.
(5) Гуро Е. Небесные верблюжата. СПб., 1914.
(6) Альманах «Дохлая луна». Футуристы Константин Большаков, Бур-люки: Давид, Владимир, Николай, Василий Каменский, А.Крученых, Бенедикт Лившиц, Владимир Маяковский, Виктор Хлебников. Стихи, проза, статьи, рисунки, офорты. 1-е изд. М., 1913; 2-е изд., доп. (при участии Вадима Шершеневича). М., 1914.
(7) Сближение «Союза молодежи», петербургского содружества художников-авангардистов, и кубофутуристической группы поэтов-будетлян «Гилея» (в нее входили В. В. Маяковский, В. В. Хлебников, А. Е. Крученых, братья Д. Д. и Н. Д. Бурлюки, Е.Гуро, В. В. Каменский, Б. К. Лившиц) началось в 1913 году, увенчавшись совместным изданием в марте 1913 года третьего сборника «Союз молодежи». К концу года союз распался.
(8) «Печать и Мы» – это название по смыслу перекликалось с одним из тезисов доклада В. В. Маяковского «Пришедший сам» (перефразированный заголовок книги Д. С. Мережковского «Грядущий Хам» (СПб., 1906) – см. примеч. 4 к статье «Ось цвета и объема»: наст, изд., с. 353). Доклад был прочитан Маяковским на втором диспуте «Союза молодежи» в Петербурге («О новейшей русской литературе», 24 марта 1913 года); в тезисах, опубликованных в афише общества «Союз молодежи», в III разделе «Мы» пунктом 5 было обозначено: «Мы и критика („Аполлон“ – ощипанный посланец античного мира)». О направленности и о поводе возникновения данного аспекта доклада см.: Харджиев Н. Маяковский и живопись // Маяковский. Материалы и исследования. М.: Художественная литература, 1940. С.369.
(9) Пример провокативного будетлянского пророчества: «перевод» названия северной столицы с иноземного на русский осуществился ровно через год.
(10) Из объявленных в 6-м пункте декларации трех проектов были осуществлены два; спектакль «Рождественская сказка» («Снежимочка») не был поставлен. В декабре 1913 года в зале театра «Луна-парк» в Петербурге состоялись премьеры «первого в мире театра футуристов»: 2-го и 4-го была представлена трагедия «Владимир Маяковский» (первоначальное название – «Железная дорога»; в заглавной роли – автор; оформление П. Н. Филонова и И. С. Школьника); 3-го и 5-го – футуристическая опера «Победа над Солнцем» (текст А. Крученых, пролог В. Хлебникова, музыка М. Матюшина, оформление К. Малевича). Д. Бурлюк не принимал участия в данных театральных акциях.
Отмежевавшиеся от Ларионова. Письмо в редакцию*
Письмо опубликовано в газете «Новь», М., 1914, № 12, 28 января, с. 5.
Письмо Малевича в редакцию газеты «Новь», помещенное под редакционной шапкой «Отмежевавшиеся от Ларионова», было вызвано острым конфликтом в среде русских футуристов. Его спровоцировал приезд в Россию «отца футуризма», итальянского поэта Ф. Т. Маринетти (26 января – 17 февраля 1914 года). М. Ф. Ларионов, один из лидеров русских авангардистов, «пытался говорить от имени всего русского футуризма, предлагая устроить обструкцию Маринетти» (Шершеневич Вадим. Письмо в редакцию // Новь, М., 1914, № 14, 30 января, с. 9). На страницах газеты «Новь» развернулась полемика: 26 января (№ 11) было напечатано «Футурист о Маринетти. Письмо в редакцию» поэта Вадима Шершеневича; 28 января (№ 12) – приведенное письмо Малевича; 29 января (№ 13) – «Письмо в редакцию» Ларионова, где он продолжал настаивать на своих эпатажных предложениях; 30 января (№ 14) снова появилось «Письмо в редакцию» Вадима Шершеневича; 5 февраля «Новь» (№ 19) поместила письмо, подписанное Д. Бурлюком, В. Каменским и другими; 15 февраля (№ 28) – «Письмо в редакцию» К. Большакова, В. Маяковского, В. Шершеневича, в котором отрицалась «всякая преемственность от итало-футуристов».
(1) В десятом номере газеты «Новь» не удалось обнаружить никакого «фельетона г. Петрова». Малевич мистифицирует читателя: из контекста его письма и из контекста всех материалов в газете «Новь», посвященных приезду Маринетти и футуризму в целом, можно предположить, что художник отсылкой к несуществующей публикации несуществующего автора хотел выразить свое пренебрежительное отношение к фельетону П. Кожевникова (Кожевников П. Фельетон. Итальянский футуризм (К приезду Маринетти) // Новь, М., 1914, № 8, 23 января, с. 11). В самом фельетоне о русских футуристах вообще не говорится, тем более нет ни слова об их размежевании на две группы: Малевич, очевидно, усматривал такое разделение в том, что статью Кожевникова сопровождали иллюстрации с подписями: «Наши футуристы: Н. Гончарова (фотография с расписанным лицом. – А. Ш.), М. Ларионов (рисунок)»; «Америка подражает Москве. Татуировка лица, изобретенная московскими футуристами, уже воспринята некоторыми американскими дамами»; «Рисунок для лица М. Ларионова».
(2) В московской газете «Вечерние известия», № 381, была помещена заметка, в которой излагалось негативное отношение М. Ф. Ларионова к Ф. Т. Маринетти как лидеру европейского футуризма. Эта заметка и послужила непосредственным поводом к развернувшейся на страницах газеты «Новь» скандальной дискуссии между Вадимом Шершеневичем и М. Ф. Ларионовым.
Ларионов в ответном письме оппонентам, Шершеневичу и присоединившемуся к нему Малевичу, отметил: «В ответ на отмежевывающегося от меня г. Малевича могу сказать, что я никогда не был с ним соединен общностью художественных взглядов и удивляюсь, что и он причисляет себя к футуристам. Для меня г. Малевич как футурист является необитаемым туземцем» (цит. по изданию: Шершеневич Вадим. Зеленая улица. М.: Плеяды, 1916. С. 107).
Пасха у футуристов. пасхальные пожелания*
Синий журнал, Пг., 1915, № 12, 21 марта, с. 7.
Публикация высказываний, помещенных под фотографией «Группа Петроградских футуристов в мастерской художника Н. И. Кульбина», была инспирирована скандалом вокруг «1-й футуристической выставки картин „Трамвай В“, открывшейся 3 марта 1915 года в Петрограде (устроитель И. А. Пуни). В этом же номере „Синего журнала“ была помещена рецензия на выставку.
(1) Критик и пародист А. А. Измайлов был большим недругом футуристов, язвительно высмеивавшим и пародировавшим их.
От кубизма к супрематизму*
Публикуется по тексту книги, изданной в Петрограде в 1915 году (на обложке – 1916).
Манифест, закрепляющий название нового направления в живописи, изобретенного Малевичем, был выпущен к „Последней футуристической выставке картин „0,10““ (ноль-десять)», открывшейся в Петрограде 15 декабря 1915 года (устроитель И. А. Пуни). Брошюра была отпечатана осенью 1915 года на средства Матюшина. На обложке 1-го издания проставлен 1916 год. В начале 1916 года вышло «второе» издание этой книжечки – по общепринятой практике тех лет нераспроданные экземпляры первого издания были переплетены в новую обложку. Тексты 1-го и 2-го изданий идентичны.
От кубизма и футуризма к супрематизму*
Публикуется по тексту книги, изданной в Москве в 1916 году.
Книжка «От кубизма и футуризма к супрематизму», обозначенная автором как третье издание, не может считаться таковым – намного увеличенный текст был заново написан художником, равно как было изменено заглавие книги. В новый текст брошюры частично вошли положения, развитые Малевичем во время публичного доклада «Кубизм – футуризм – супрематизм», прочитанного им совместно с И. Пуни 12 февраля 1916 года в Тенишевском училище в Петрограде на «Публичной научно-популярной лекции супрематистов».
В качестве иллюстраций в книге Малевича были помещены воспроизведения его супрематических композиций, выставленных в декабре 1915 года.
Вступительный раздел брошюры – до заголовка «Искусство дикаря и его принципы» – повторял текст манифеста-воззвания Малевича, распространяемого на «Последней футуристической выставке картин „0,10“ (ноль-десять)» в виде листовки (в той же листовке были помещены декларации И. В. Юнона и М. И. Менькова; на выставке имели хождение листовки с художественным кредо И. А. Пуни и К. Л. Богуславской; В. Е. Татлин во время работы выставки также выпустил специальный иллюстрированный буклет с изложением своих взглядов).
(1) Ср. с фразой: «…я преобразился в нуль формы…» из заключительного пассажа манифеста «От кубизма к супрематизму» (см. наст. изд., с. 34).
(2) Перечисленные художники выступили под знаменем супрематизма на «Последней футуристической выставке картин „0,10“». Большинство из них вошло затем в общество «Супремус», сгруппировавшееся вокруг Малевича в 1916 году (его членами стали Л. С. Попова, Н. А. Удальцова, А. А. Экстер, И. В. Юнон, Н. М. Давыдова, М. И. Меньков, О. В. Розанова, В. Е. Пестель, Алягров (псевдоним Р. О. Якобсона).
Из книги: «Тайные пороки академиков»*
Публикуется по тексту из книги: А. Крученых, И. Клюн, К. Малевич. Тайные пороки академиков. М., 1916.
Основной текст памфлета «Тайные пороки академиков» написал А. Крученых. В конце брошюры были помещены краткие тексты И. Юнона и Малевича (с.31–32).
(1) 19 февраля 1914 года Малевич выступил на диспуте «Бубнового валета» (четвертая выставка этого художественного объединения была открыта в феврале-марте 1914 года в Москве). Выступления ораторов, в том числе и Малевича, наиболее подробно изложены в статьях: «На диспуте „Бубнового валета“. Футуристы устроили скандал!» // Новь, М., 1914, 20 февраля, с. 5; Диспут «Бубнового валета» // Русские ведомости, М., 1914, 20 февраля, с. 5.
(2) Полемический выпад Малевича в сторону популярных среди русских футуристов идей «четвертого измерения», пропагандируемых философом-идеалистом П. Д. Успенским (1878–1947) (см. его книги «Четвертое измерение. Обзор главнейших теорий и попыток исследования области неизмеримого». СПб., 1909; 2-е изд., СПб., 1914, а также «Tertium Organum. Ключ к загадкам мира». СПб., 1911). Вместе со своим окружением Малевич разделял взгляды философа на возникновение «высшей интуиции», которая сделает возможным постижение «идей высшего пространства, имеющего большее число измерений, чем наше» (Четвертое измерение, 2-е изд., с. 93). Однако художник заподозрил происки ненавистного разума в рекомендациях Успенского (восходивших к положениям английского ученого Ч. Г. Хинтона) учиться представлять себе вещи «такими, какими они есть» при помощи специальной умственной гимнастики. Начинать следовало от простейшего – приобретения навыка видеть в воображении куб со всех сторон сразу; для такого обучения необходимо было использовать диаграммы и чертежи, число которых приближалось к сотне. В подобных рекомендациях и упражнениях Малевич увидел ловушку, устроенную умом для творческой заумной интуиции.
(3) Заключительный заумный пассаж был написан самим Малевичем; автором этих строк в книге Л. Ф. Дьяконицына «Идейные противоречия в эстетике русской живописи конца 19 – начала 20 века» (Пермь, 1966, с. 212) был неверно назван Крученых. Сам Крученых в беседе с Тр. Андерсеном в 1963 году засвидетельствовал, что данный заумный текст создал инициатор супрематизма. См.: Malevich, vol. I, р.239.
Листовка художественной секции культурно-просветительного отдела Совета солдатских депутатов*
Текст ранее не переиздавался; написан в августе-октябре 1917 года. Листовка воспроизведена в качестве иллюстрации в издании:
Лапшин В. П. Художественная жизнь Москвы и Петрограда в 1917 году. М.: Советский художник, 1983. С. 138.
Воззвание, опубликованное в листовке, анонимно, как и большинство коллективных обращений разнообразных Советов депутатов. Авторство Малевича установлено по стилистике, образному строю текста листовки, близкому к одновременным сочинениям художника; оно подтверждается условиями возникновения данного обращения. В августе 1917 года Малевич был избран председателем Художественной секции культурно-просветительского отдела Московского Совета солдатских депутатов, располагавшейся в Кремле, в Кавалерийском корпусе. Председатель секции разрабатывал проект организации Народной академии искусств; секция вела большую культурно-просветительную работу – в сентябре-октябре 1917 года было организовано 35 экскурсий для солдат, в которых приняло участие свыше полутора тысяч человек.
(1) М.С.С.Д. – Московский Совет солдатских депутатов.
Задачи искусства и роль душителей искусства*
Публикация, составление, подготовка текстов и комментарии А. Д. Сарабьянова.
Московская федерация анархистских групп начала издавать газету «Анархия» с сентября 1917 года (редактор В. В. Бармаш). В первое время редакция находилась в Мороновском переулке, дом 12 (Крымский вал). До № 7 включительно «Анархия» имела подзаголовок «Общественная литературная анархистская газета», а с № 8 была объявлена органом Московской федерации анархистских групп. После № 10 в издании газеты произошел небольшой перерыв, и вновь она стала выходить в свет в марте 1918 года, когда редакция уже обосновалась в так называемом Доме «Анархии» – штаб-квартире Московской федерации анархистских групп (Малая Дмитровка, 6). В конце марта редакция опять переезжает в новое помещение в Настасьинский переулок, дом 1 (в этом же доме располагалось «Кафе поэтов»).
Последний номер (№ 99) газеты вышел 2 июля 1918 года, накануне разгрома большевиками анархистских партий. Уже после закрытия газеты, в 1919 году появилось еще два номера «Анархии» (29 сентября и 23 октября), которые были напечатаны Всероссийской и Московской организациями анархистов подполья.
Раздел «Творчество», в котором печатались все статьи по искусству, литературе и театру, в том числе и статьи Малевича, появляется в газете с № 15, а его постоянным сотрудником становится Алексей Ган, еще в № 12 опубликовавший свою первую в «Анархии» статью под названием «Революция и народный театр». Ган сплачивает вокруг себя небольшой круг авторов, регулярно пишущих на страницах «Анархии». Среди них – К. Малевич, А. Родченко и другие. Газета занимает активную позицию не только в политической, но и в общественной жизни Москвы. Она дает регулярную информацию о занятых анархистами особняках и заботится об охране находящихся там ценностей. Также поддерживает левую (молодую) федерацию профсоюза художников-живописцев Москвы и регулярно предоставляет левым художникам свои страницы для публикации манифестов и заявлений (Удальцова Н. Мы хотим // Анархия, 1918, № 38, 7 апреля; Розанова О. Супрематизм и критика // Там же, 1918, № 86, 16 июня).
Раздел «Творчество» разрастается, но и его начинают теснить другие материалы (например, в № 63–69 он вообще отсутствует). В связи с этим в № 72 «Анархии» появляется объявление о намерении редакции издать сборник «Анархия – Творчество», участниками которого названы Ал. Ган, Бор. Комаров, К. Малевич, А. Родченко, а также авторы, выступавшие под псевдонимами А. Святогор и Баян Пламень. Сборник должен был состоять из трех разделов: агитация, динамит и форма, информация. Авторы заявляли: «Через головы „промежуточного сословия“, через головы перепродавцев, критиков и целой своры услужливых благотворителей, узкопартийных организаций, вегетарианских организаций, каковыми являются теперь культурные отделы кооперативов и пролеткультов, мы решили взвиться и упасть в самую гущу массы с динамитом разрушения и формами нашей творческой изобретательности».
Объявление об издании сборника в конце июня 1918 года повторяется еще несколько раз на страницах газеты, но в свет сборник так и не вышел. Малевич, вероятно, собирался публиковать в нем свои статьи, напечатанные к тому времени в «Анархии» и еще готовящиеся к печати.
Газета «Анархия» печаталась по старой орфографии.
Некоторые статьи Малевича, опубликованные в газете «Анархия», были переизданы Тр. Андерсеном (Malevich, vol. I). Приводим список этих статей с указанием страниц переиздания: «Задачи искусства и роль душителей искусства» (р. 49–50), «К новому лику» (р. 51), «Ответ» (р. 52–54), «К новой грани» (р. 55), «Мертвая палочка» (р. 56–57), «Архитектура как пощечина бетоно-железу» (р. 60–64), «К приезду вольтеро-террористов из Петербурга» (р. 58–59).
Статья опубликована в № 25, 23 марта 1918 года, с. 4.
Статья подписана тремя фамилиями – Гана, Моргунова и Малевича. Однако при ее сравнении с другими текстами Малевича, опубликованными в «Анархии», наблюдается очевидная стилистическая общность. Авторство Малевича косвенно подтверждается не только тем, что его фамилия стоит в подписи последней среди трех, но и общей содержательной направленностью: статья задает тон последующим выступлениям Малевича в «Анархии» – борьбе против «Бенуа и Кº».
Возможно, что статья была написана по просьбе Алексея Гана, который регулярно печатался в разделе «Творчество», в основном на тему революционного театра. Также через газету Ган ведет постоянную агитацию по созданию «Дома современного искусства» (на основе национализированных московских особняков) и встречается по этому поводу с Алексеем Моргуновым.
Вероятно, этим сотрудничеством можно объяснить и соседство подписи Моргунова рядом с подписями Гана и Малевича.
(1) Бенуа и Тугендхольд были постоянными оппонентами Малевича. Свою полемику с Бенуа Малевич начал в 1916 году (см. примеч. 3 к статье «Ось цвета и объема»; наст. изд., с. 353).
(2) Выбор имен довольно случаен, так как степень признания упомянутых художников при их жизни различна.
(3) Союз русских художников, объединивший петербургских и московских представителей передвижников и «Мира искусства», просуществовал с 1903 по 1923 год.
«Мир искусства» возник в конце 1890-х годов, объединив молодых художников Петербурга, противостоящих одновременно передвижничеству и академизму. В конце 1890-х – 1900-е годы был ведущим художественным объединением России.
Товарищество передвижных художественных выставок – объединение художников-реалистов, основанное в 1870 году. Просуществовало до 1923 года.
(4) Не ясно, о каком художественном совете идет речь. Организации с подобным названием в это время в Петрограде не существовало.
Ранее, сразу после отречения императора Николая II, М. Горьким было созвано совещание различных деятелей искусства, куда был приглашен и А. Бенуа. В дальнейшем это совещание получило название «Комиссия по делам искусств» или «Комиссия Горького». Она была преобразована вскоре в Особое совещание, предполагавшее создать в дальнейшем «Совет по художественным делам». Но Бенуа от деятельности в нем отказался. См. об этом: Лапшин В. П. Художественная жизнь Москвы и Петрограда в 1917 году. М.: Советский художник, 1989. С. 76 и сл.
Также в конце 1917 года был создан Петроградский совет художественных учебных организаций, но во главе его стоял театральный художник А. А. Андреев из «левого» блока Союза деятелей искусств.
Созданная 5 марта 1918 года Петербургская коллегия по делам искусства и художественной промышленности при ИЗО НКП к деятельности Бенуа никакого отношения иметь не могла. В ее первоначальный состав входили И. И. Альтман, П. К. Ваулин, А. Е. Карев, А. Т. Матвеев, Н. Н. Пунин, С. В. Чехонин, Д. П. Штеренберг, Г. С. Ятманов.
Может быть, пафос Малевича основан на воспоминаниях о событиях, происходивших годом раньше в Петрограде, в марте 1917 года. Именно тогда Бенуа проявлял наибольшую общественную активность, пытаясь создать министерство изящных искусств, в основном из коллег по «Миру искусства». Это вызвало бурный протест многих деятелей искусства, вылившийся в многолюдный митинг – полторы тысячи человек собралось 12 марта в Михайловском театре, чтобы протестовать против «диктатуры Бенуа». Именно тогда была принята резолюция о создании Союза деятелей искусств, уже в апреле 1917 года объединившего 182 связанных с искусством организации. См. об этом богатую фактами статью М. Ю. Евсевьева «Из истории художественной жизни Петрограда в 1917 – начале 1918 гг.» (Проблемы искусствознания и художественной критики. Вопросы отечественного и зарубежного искусства. Л.: Издательство Ленинградского университета, 1982. Вып. 2. С. 148–182).
К новому лику*
Статья опубликована № 28, 27 марта 1918 года, с. 4.
Ответ*
Статья опубликована в № 29, 28 марта 1918 года, с. 4.
Текст был написан Малевичем в ответ на «Письмо товарищам футуристам» Баяна Пламеня (см.: «Анархия», 1918, № 27, 26 марта). Помимо Малевича на письмо откликнулись также В. Е. Татлин и А. А. Моргунов (их ответы – Татлина «Отвечаю на „Письмо к футуристам“» и Моргунова «К черту!» – опубликованы в той же газете, № 30, 29 марта 1918 года), а также А. М. Родченко («Искателям-творцам», там же, № 32, 31 марта 1918 года).
Приводим текст Баяна Пламеня с небольшими сокращениями:
Международная революция, всесветный бунт человечества, несет в пламени своих факелов полное раскрепощение духа, мысли, культуры и светозарной жемчужины творчества – искусства. <…>
Как всякая революция, как всякий мятеж, первые попытки бунта в области искусства были беспощадно заклеймлены представителями духовной и культурной контрреволюции, сторонниками отживших теорий, программ и мелкомещанской стройности. <…> Футуризм зародился под взрыв гомерического хохота реакционеров. <…>
Бунт в искусстве, революция в области художественного творчества. Анархия в поэзии, в живописи, в скульптуре, в трагедии. Анархия в искусстве.
Все эти рамки, в которые втискивалось распинавшееся на кресте художественное творчество, сожжены ныне бесследно. Палочка <здесь и далее в тексте выделено мною. – АС. См. статью К. Малевича «Мертвая палочка» в № 33 «Анархии»> диктаторствующего капельмейстера-теоретика расщеплена в куски и выброшена. <…> Футуризм – песня анархии. Только в такой революционной форме представляется нам футуризм – бунт искусства. <…>
Футуризм, эта истинная революция в художественном творчестве народа, начинает терять свой бунтарский лик <…> и сдавать свои позиции. Футуризм <…> принимает уродливые формы угодливости, пресмыкания и служения богатой, пресыщенной буржуазии <…> в пропитанных дымом дорогих сигар залах.
А между тем футуристы, внешне творя бунт в искусстве, внутренним содержанием многих своих напевных произведений служили вольно или невольно реакции, которая подло и предательски душила всякое проявление священного мятежа и наряду с этим гладила по головке анархистов искусства, футуристов, проникших в залы и кафе буржуазии, вложивших в мятежные формы во многих случаях содержание резко контранархического характера, <…> не королей воспевает истинный футуризм и не шампанское, а кровавый бунт на всем земном шаре. <…>
И потому есть футуризм и футуризм. Есть футуризм, который напевно рокочет песнями своими в пахучей тени бархата и шелка и экзотических растений. <…>
И есть революционный анархо-футуризм, футуризм черных знамен и кровавых баррикад, футуризм бунтовщиков во внешней и внутренней жизни истомленного человечества, поэзия революции, песни бунта – путь революции, путь мятежа, на который я и призываю встать всех истинных поэтов анархо-футуристов, отряхнув с ног своих прах буржуазных гостиных и кафе-концертов. <…>
Анархо-футуристы! <…> Пресмыкаться в гостиных и передних буржуазии и делать из революционного, в корне анархического футуризма лиру, которая услаждает слух и щекочет нервы разжиревших ростовщиков, – это дело, милое сердцу черной всесветной реакции. <…>
Мы не признаем никаких королей-поэтов, никаких авторитетов, никаких попыток на первенство, в чем бы оно ни проявлялось. И смешны ваши нелепые и контрреволюционные выборы каких-то королей на ваших контрреволюционных вечерах. Жалки и ничтожны для нас, революционеров, ваши кафе и концерты, где свивает себе гнездо контранархия. <…>
Прошу товарищей откликнуться на это письмо, и до тех пор, пока мы не соорганизуем своего оружия революционных анархо-футуристов, присылать мне письма на адрес редакции «Анархии».
Малевич несомненно разделял гнев и возмущение Баяна Пламеня по отношению к футуристам, проникшим в залы и кафе буржуазии. Однако обвинения в контрреволюционности, с которых Малевич начинает свой «Ответ», – это скорее желание соответствовать революционному пафосу автора «Письма», нежели попытка политического доноса. Тем более что далее в «Ответе» речь идет только о сущности футуризма – искусства бунта и абсолютной свободы.
(1) Под «всякого рода кафе» Малевич имеет в виду московские «Кафе поэтов» на углу Тверской улицы (дом 43) и Настасьинского переулка (было открыто с ноября 1917 по апрель 1918 года) и кафе «Питтореск» на Кузнецком мосту, 5, открытое 19 марта 1918 года (оформлено под руководством Г. Б. Якулова группой художников, куда входили В. Е. Татлин, А. М. Родченко, Н. А. Удальцова).
(2) Мережковский, Эфрос и Глаголь, как и Бенуа, стали для Малевича воплощением академического ретроградства, своего рода именами нарицательными, главными его противниками в борьбе за новое искусство. Однако интересен тот факт, что за год до публикации этой статьи в Москве в помещении цирка Саламонского состоялся многолюдный митинг деятелей искусства, где, по всей вероятности, был и Малевич. Его участники признали нежелательными создание правительственного ведомства, ведающего искусством. Это решение должно было импонировать Малевичу, так как он постоянно возражал против «огосударствливания» искусства в своих статьях в «Анархии». В поддержку решения собрания на митинге выступил и Сергей Глаголь. Но этого выступления не было достаточно для дальнейшей реабилитации в глазах Малевича имени известного своей проакадемической ориентацией критика.
(3) Давид Бурлюк, Алексей Крученых, Владимир Маяковский и Велимир Хлебников призывали «бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода современности» (Пощечина общественному вкусу. М., 1912). Малевич перефразировал их призыв: Венера для него – воплощение академических идеалов.
К новой грани*
Статья опубликована в № 31, 30 марта 1918 года, с. 4.
Мертвая палочка*
Статья опубликована в № 33, 1 апреля 1918 года, с. 4.
(1) См. примеч. 4 к статье «Задачи искусства и роль душителей искусства» (наст. изд., с. 333).
(2) Под «последним событием» имеется в виду организованное ЧК нападение на анархистов, повлекшее за собой многие жертвы.
(3) Речь идет о предполагаемом создании музея в занятом анархистами особняке Александра Викуловича Морозова во Введенском (Подсосенском) переулке на Покровке. На страницах газеты постоянно появляется информация о состоянии этих особняков и находящихся в них ценностях. См. заметку А. Гана «Особняк Морозова» в № 21 «Анархии» от 19 марта 1918 года. На основе реквизированных ценностей предполагалось организовать «Дом современного искусства». Была создана «инициативная группа свободной ассоциации художников», куда один из ее участников, Алексей Ган, приглашал вступить И. Э. Грабаря (см. № 30, 29 марта 1918 года).
В марте 1918 года Ган был ответственным за хранящиеся в особняке ценности и должен был стать главным хранителем предполагаемого музея. Но музей создан не был, а особняк вскоре перешел в руки органов ЧК (под предлогом охраны ценностей), однако был ими сдан для размещения военной части. Позже здание принадлежало Народному комиссариату финансов, затем, в апреле – Главному архивному управлению Наркомпроса, а в декабре 1918 года декретом Ленина коллекция А. В. Морозова (в числе других коллекций) была национализирована. Лишь в 1921 году на ее основе в особняке был открыт Музей керамики. См. об этом: Самецкая Е.Б. А. В. Морозов и создание государственного музея керамики // Музей 6. Художественные собрания СССР. М.: Советский художник, 1986. С. 159–164.
(4) В № 34 от 5 апреля 1918 года помещено объявление о занятиях с художниками-самоучками и лубочниками, которые ведут с 1 апреля К. Малевич, В. Татлин и А. Моргунов.
Архитектура как пощечина бетоно-железу*
Статья опубликована в № 37, 6 апреля 1918 года, с. 4.
Название статьи заставляет вспомнить знаменитую «Пощечину общественному вкусу». Таким образом Малевич как бы подтверждает свою преемственность с футуризмом. См. примеч. 3 к статье «Ответ» (наст. изд., с. 336).
Измененный вариант статьи несколько позже был напечатан в газете «Искусство коммуны» (№ 1, 7 декабря 1918 года) с небольшими купюрами и новой концовкой (см. его публикацию и комментарии: Овсянникова Е. «Архитектура как пощечина бетоно-железу» и диалектика развития архитектурной мысли // Архитектура и строительство Москвы, 1988, № 12, с. 14–17).
(1) Казанский вокзал, соединивший черты итальянского палаццо с псевдорусским декором, был построен архитектором А. В. Щусевым в 1913–1926 годах в стиле эклектики. Столь живая реакция Малевича на архитектуру вокзала не должна вызывать удивления. Ведь статья написана всего через несколько месяцев после завершения очередной стадии строительства – в основных чертах постройка была завершена к концу 1917 года.
Дом казенной палаты по Афанасьевскому переулку – ошибка Малевича. Возможно, он имеет в виду здание Ссудной казны в Настасьинском переулке, построенное архитектором В. А. Покровским в 1914–1916 годах в стиле, схожем со стилем Казанского вокзала.
(2) В тексте статьи, напечатанном в «Искусстве коммуны», «алексеевские времена» справедливо исправлены, возможно автором, на «александровские».
(3) См. примеч. 2 к статье «Мир мяса и кости ушел» (наст. изд., с. 346).
К приезду вольтеро-террористов из Петербурга*
Статья опубликована в № 41, 11 апреля 1918 года, с. 4.
(1) Статья написана как полемический ответ на воззвание приехавших из Петрограда Н. Альтмана, А. Лурье и Н. Пунина. Об этом свидетельствует и редакционный подзаголовок, отсылающий читателя к № 32 (опечатка) «Анархии». Приводим полностью текст этого воззвания, напечатанный в № 39 и озаглавленный «Петербург – Москва»:
«Мы строгие в нашем строе. Петербург у вас в гостях эти дни, дорогие товарищи-москвичи, взрывающие станции на дорогах искусства!
Осведомляем вас, что академия художеств уже в ящике раз навсегда.
Не для того мы здесь, чтобы улыбаться, как Ван Гоген и Таити (в тексте опечатка; видимо следует читать: „как Гоген на Таити“. – А.С.), в ваших кафе на вас, – мы пригнали вам северную победу, мы – мастера и стальные стержни для ваших красных великих знамен. Иноплеменники, плененные сердцем, с вами мы, Вольтеры-террористы, бросившие бомбу только что в дворцы-музеи.
Делайте все против охраны буржуазного хлама в искусстве.
Вместе с нами ставьте сепараторы, отделяющие творчество от искусства!
Мы у руля! Лево-руля! Реют ревнивые наши радио, блестящие поршни стальным морям.
Не упирайтесь, упорные, закаленные: несокрушимы только мы, играя и рассекая все государства, в государстве времени подымая вихрь. Кто знает при этом, окажется ли время достаточной для нас средой?
Социалисты великие, ересь, семя, ваши рабочие руки сюда. Вот рычаг; он, сжигающий прошлое, ненавидимое и вами, товарищи-москвичи, крепче договор скрепим! Приветствуем вас в Москве, тов. Маяковский, Вл. Татлин. Приезжайте к нам в Петербург».
Малевич упрекает петербуржцев в том, что они бездействуют в отношении Академии художеств. Однако одним из первых дел «Петербургской коллегии по делам искусств и художественной промышленности», в которую входили Пунин и Альтман, было осуществление декрета Совнаркома об упразднении Академии художеств.
Резкость ответа Малевича может быть объяснена не только учительским тоном письма петербуржцев, но и их обращением лично к Татлину, главному сопернику Малевича.
(2) Вольные цитаты из воззвания петроградских деятелей искусства.
(3) Журнал «Аполлон» выходил с октября 1909 по 1917 год в С.-Петербурге под редакцией С. К. Маковского.
(4) Малевич имеет в виду небольшую заметку И. Юнона «Ату его! (О травле футуристов)», напечатанную в «Анархии» (1918, № 9, 9 апреля). Приводим текст заметки полностью:
«Я не собираюсь защищать футуристов, – думаю, они и сами сумеют это великолепно сделать, – но хочу обратить внимание художников-новаторов на ту отрицательную черту, которой они поражены, но которой, по-видимому, сами не замечают: они положительно не переносят никаких публичных выступлений своих ближайших товарищей по искусству и всячески стараются парализовать их успех.
Чем, например, можно объяснить ту травлю футуристов Маяковского, Каменского и Бурлюка, которую в последнее время подняли почти во всех газетах футуристы же или близко к ним стоящие художники?
Можно подвергнуть серьезной критике футуризм вообще или в частности их произведения, но этого-то в данном случае и нет, а упреки сыплются главным образом за то, почему футуристы – большевики, почему они выбирают королей, выступают в кафе, клеют на заборах свою литературу, воспевают власть имущих.
Но ведь футуризм есть реализм: он отражает в себе современную жизнь как она есть, и я не только не отрицаю, но уверен даже, что если изменится настроение народных масс, изменят свои песни и футуристы, иначе они не были бы художниками, певцами современности.
Кто в настоящее время у нас не захвачен политической жизнью? Разве только фанатики, стоящие на чистой отвлеченной форме искусства.
Если вы против таких выступлений, то это ваше личное дело, зачем же заявлять об этом публично в печати? Это мало интересно и совсем не убедительно. Футуристы на этот счет думают иначе, и жизнь сама покажет, кто был прав.
Или вы думаете, что „великий художник“ может быть только один, а два великих художника одновременно быть не могут?
Бросьте это недостойное дело. Право, на земле всем места хватит, и славу вы свою создадите не тем, что будете отгораживаться от других, а только путем своей творческой работы».
Вполне возможно, что одним из непосредственных адресатов этой заметки был Малевич. Этим объясняется тот оттенок презрения, с которым Малевич называет И. Юнона – одного из своих последователей и единомышленников – «частным поверенным». Но если даже это не так, можно найти и другие причины, заставившие Малевича «обидеть» Юнона. Во-первых, Клюн, несомненно против воли или в противовес Малевичу, защищал футуристов В. Маяковского, В. Каменского и Д. Бурлюка в связи с устроенной ими и взбудоражившей всю Москву акцией. Футуристы сделали 5 марта 1918 года на Кузнецком мосту (около кафе «Питтореск») уличную выставку-выступление – экспонировали картины, выкрикивали лозунги, зачитывали тексты. К этому дню был выпущен первый и единственный выпуск «Газеты футуристов» с «Манифестом Летучей Федерации Футуристов» (Летучей федерацией футуристов они себя назвали, возможно, по аналогии с Московской федерацией анархистских групп). Да и по содержанию их выступление вполне соответствовало призывам анархистски настроенных художников и деятелей искусства: «Революция содержания – социализм-анархизм – немыслима без революции формы – футуризма» (слова Маяковского из «Открытого письма рабочим», напечатанного в «Газете футуристов»). Об этом см.: Стригалев А. А. Искусство конструктивистов: от выставки к выставке (1914–1932) // Советское искусствознание. Вып. 27. М.: Советский художник, 1991. С. 132–133.
С другой стороны, взаимные газетные выпады – свидетельство принципиальных творческих расхождений между Малевичем и его верным последователем и адептом супрематизма И. Клюном. Окончательно они размежевались на 10-й Государственной выставке «Беспредметное творчество и супрематизм» (1919). В статье «Искусство цвета», напечатанной в каталоге выставки рядом с малевичевским объяснением супрематизма, Клюн утвердил свои собственные художественные принципы и объявил о своем разрыве с супрематизмом. Он писал: «Ныне труп Искусства Живописного, искусства размалеванной натуры, положен в гроб, припечатан Черным Квадратом супрематизма, и саркофаг его выставлен для обозрения публики на новом кладбище искусства – Музее Живописной Культуры. <…> А застывшие, неподвижные формы Супрематизма выявляют не новое искусство, но показывают лицо трупа с остановившимся мертвым взором» (Каталог десятой Государственной выставки «Беспредметное творчество и супрематизм». Москва, 1919. С. 14–15).
Государственникам от искусства*
Статья опубликована в № 53, 4 мая 1918 года, с. 4.
Переиздана в кн.: Неизвестный русский авангард в музеях и частных собраниях / Автор-состав. А. Д. Сарабьянов. Тексты и комм. А. Д. Сарабьянова и Н. А. Гурьяновой. М.: Советский художник, 1992. С. 338–342.
(1) См. примем. 4 к статье «Задачи искусства и роль душителей искусства» (наст. изд., с. 333).
(2) Имеется в виду книга Д. С. Мережковского «Грядущий Хам» (1906). Для Бенуа это название стало именем нарицательным; он часто использовал его в своих критических статьях 1912–1913 годов в «Речи» (см. статью Н. Харджиева «Поэзия и живопись» в книге «К истории русского авангарда». Стокгольм: Гилея, 1976. С. 43).
(3) Малевич вольно цитирует статью Александра Бенуа «Последняя футуристская выставка» (Речь, Пг., 1916, 9 января). См. также примеч. 4 к статье «Extra dry (денатурат)» (наст. изд., с. 365).
(4) «Изограф» – профессиональный союз художников живописи, скульптуры, гравюры, декоративного искусства – состоял из членов Товарищества передвижных художественных выставок, Союза русских художников и «Мира искусства». Существовал в Москве с 1917 по 1919 год.
(5) Малевич вольно цитирует статью Д. Мережковского «Еще шаг грядущего Хама» (Русское слово, М., 1914, 29 июня). См. также примеч. 4 к статье «Ось цвета и объема» (наст. изд., с. 353).
(6) Вероятно, имеются в виду «Весенние выставки», проводимые в залах Академии художеств с 1902 по 1918 год. На последних двух выставках преобладали члены «Общины художников».
(7) Малевич выбирает как пример далеко не самого известного футуриста, Соффичи (ошибочно называя его Сифичи), а также представителя дадаизма Пикабиа.
(8) Малевич говорит о выставках «Венок» и «Современные течения в искусстве» в С.-Петербурге и «Венок-Стефанос» и салон «Золотого руна» в Москве.
(9) «Бубновый валет» (первоначально «Общество художников „Бубновый валет“») – объединение московских живописцев, возникшее в 1910–1911 году по инициативе Д. Д. Бурлюка и М. Ф. Ларионова. В общество входили Н. С. Гончарова, П. П. Кончаловский, А. В. Куприн, А. В. Лентулов, И. И. Машков, В. В. Рождественский, Р. Р. Фальк, А. А. Экстер и другие; к обществу примыкали В. В. Кандинский, К. С. Малевич, М. З. Шагал и другие. Последняя выставка общества была устроена в 1917 году; в 1927-ом была проведена ретроспективная выставка в Москве.
(10) Организованная В. Е. Татлиным футуристическая выставка «Магазин» открылась в Москве 20 марта 1916 года в помещении пустующего магазина на Петровке.
(11) Малевич имеет в виду «Первую футуристическую выставку картин Трамвай В», открытую в марте 1915 года в Малом зале Общества поощрения художеств, и «Последнюю футуристическую выставку картин „0,10“ (ноль-десять)» в Художественном бюро Н. Е. Добычиной в Петрограде (декабрь 1915 – январь 1916 года).
(12) Малевич сознательно ставит ошибочную дату. Не в 1913, а в 1915 году на выставке «0,10» он показал 39 супрематических картин под общим названием «Новый живописный реализм».
(13) Н. М. Давыдова была членом общества «Супремус»; данных о художнике с фамилией «Юркевич» пока найти не удалось. Возможно, это Н. И. Юркевич, участник выставки «Театрально-декорационное искусство Москвы. 1918–1923» (1923).
В государстве искусств*
Статья опубликована в № 54, 9 мая 1918 года, с. 4.
Ранее не переиздавалась.
(1) Малевич цитирует Книгу Исхода (20, 2–4).
(2) Речь идет о даче И. Е. Репина в Пенатах.
(3) См. примеч. 3 к статье «Государственникам от искусства» (наст. изд., с. 342).
(4) Малевич говорит о выставках петербургского «Союза молодежи» (с 1910 года) и московского «Бубнового валета» (с зимы 1910/11 года).
(5) См. статью Малевича «К приезду вольтеро-террористов из Петербурга» (Анархия, 1918, № 41, 11 апреля), опубликованную в настоящем томе.
Футуризм*
Статья опубликована в № 57, 12 мая 1918 года, с. 4.
Ранее не переиздавалась.
(1) Малевич имеет, вероятно, в виду выставку «Бубнового валета» в Москве (ноябрь-декабрь 1917 года), на которой он выставил свои супрематические картины.
Путь искусства без творчества*
Статья опубликована в № 72, 30 мая; № 73, 31 мая; № 74, 1 июня; № 75, 2 июня; № 76, 4 июня 1918 года; везде – с. 4.
Ранее не переиздавалась.
В основе его лежит скорость наших дней (бег автомобиля, трамвая, поездов и проч<ее>), все есть движение вещей.
(1) Малевич допускает неточность, причисляя Рубенса к художникам Возрождения.
(2) Собранная С. И. Щукиным коллекция западноевропейской живописи XIX – начала XX века, в том числе произведений Сезанна, была открыта для публичного посещения уже в 1907 году – в его собственном доме в Большом Знаменском переулке (не на Воздвиженке, как утверждает Малевич, а на Пречистенке).
(3) Метцинер – опечатка в газете; имеется в виду Ж. Метценже, один из авторов популярной в России книги «О кубизме» (совместно с Альбертом Глезом, напечатана в России в переводе Е. Низен под редакцией издателя М. Матюшина в его издательстве «Журавль», СПб., 1913). В 1910-е годы фамилия эльзасца Ж. Метценже (J. Metzinger) иногда в русских изданиях транскрибировалась как Метцингер.
(4) См. статью Малевича «Кубизм» (Анархия, 1918, № 89, 20 июня), опубликованную в настоящем томе.
(5) Имеются в виду брошюры «От кубизма к супрематизму. Новый живописный реализм». Пг., 1916, и «От кубизма и футуризма к супрематизму. Новый живописный реализм». М., 1916.
(6) Сперанский – не удалось установить, о ком идет речь.
Перелом*
Статья опубликована в № 77, 5 июня 1918 года, с. 4.
Ранее не переиздавалась.
(1) Имеется в виду Комиссия по охране памятников искусства и старины, возглавляемая профессиональным революционером и архитектором П. П. Малиновским.
Я пришел*
Статья опубликована в № 79, 7 июня 1918 года, с. 4.
Ранее не переиздавалась.
Свои собственные статьи Малевич начал публиковать с № 28 (не считая совместной с А. Ганом и А. Моргуновым заметки в № 25).
Родоначало супрематиума*
Статья опубликована в № 81, 9 июня 1918 года, с. 4.
Ранее не переиздавалась.
Есть предположение, что в название статьи вкралась опечатка, и его следует читать как «Родоначало супрематизма» (см.: Сарабьянов Д., Шатских А. Казимир Малевич. Живопись. Теория. М.: Искусство, 1993. С. 401). Тем более, что ни в каких других текстах Малевича слово «супрематиум» не встречается. Однако в заголовке статьи использована буква «і» (супрематіум), в то время как в других статьях слово «супрематизм» везде написано через «и». Поэтому вопрос о правильности заголовка остается открытым.
Мир мяса и кости ушел*
Статья опубликована в № 83, 11 июня 1918 года, с. 4.
Ранее не переиздавалась.
(1) Начиная с этой фразы, последующая часть текста, до слов «что будут выбраны художники, как всегда, неподходящие», повторяет с небольшими изменениями концовку статьи «Архитектура как пощечина бетоно-железу» (Анархия, 1918, № 37, 6 апреля; см. наст. изд., с. 71–72).
(2) Пример одного из предвидений Малевича. Построенный архитектором А. В. Щусевым Казанский вокзал был действительно расписан Е. Е. Лансере в 1933–1934 и в 1945–1946 годах.
Обрученные кольцом горизонта*
Статья опубликована в № 84, 20 июня 1918 года, с. 4.
Ранее не переиздавалась.
Выставка профессионального союза художников-живописцев. Левая федерация (молодая фракция)*
Статья опубликована в № 89, 20 июня 1918 года, с. 4.
Ранее не переиздавалась.
1-я выставка картин Профессионального союза художников-живописцев Москвы состоялась в Художественном салоне К. И. Михайловой на Б. Дмитровке в мае-июне 1918 года. На ней было выставлено 741 произведение 180 художников, среди которых, из левых, были А. А. Веснин, А. Д. Древин, И. В. Клюн, М. И. Меньков, Я. С. Пайн, Н. А. Певзнер, В. Е. Пестель, Л. С. Попова, А. М. Родченко, О. В. Розанова, Н. А. Удальцова.
Профессиональный союз художников-живописцев Москвы был создан весной 1917 года. 24 мая на общем собрании художников был принят проект устройства союза, выработанный организационной группой (В. Е. Татлин, Г. Б. Якулов, С. И. Дымшиц-Толстая, Н. А. Удальцова, к которым позже примкнули А. В. Грищенко, А. В. Лентулов, О. В. Розанова, И. И. Машков, И. И. Нивинский). В проекте было предусмотрено деление на федерации – единственная возможная форма существования союза. Союз был разделен на три федерации: старшую, центральную и молодую (левую). Последнюю составили в основном футуристы, кубисты, супрематисты и беспредметники. Председателем ее стал Татлин, секретарем – Родченко. Малевич входил в состав Совета федерации.
26 июня 1918 года левая федерация вышла из состава профсоюза в связи с тем, что было уничтожено деление на фракции. Протест левых в виде резолюции был опубликован в № 95 газеты «Анархия» за подписью Татлина и Родченко. В последнем номере (№ 99) газеты «Анархия» были напечатаны по этому поводу особые заявления Розановой и Татлина, а также доклад Родченко. Малевич в этой полемике не участвовал.
(1) В одной из заметок цикла «Несвоевременные мысли», опубликованной в газете «Новая жизнь» (№ 107) от 4 июня (22 мая) 1918 года, М. Горький пишет: «В этих словах (рабочих. – А.С.) определенно звучит законное и естественное требование здорового человека, который ищет в искусстве контраста той действительности, которая утомляет и истязает душу. <…> если он не в состоянии вскрыть в обычном и привычном героическое и значительное, – если художник не может этого дать, – его искусство не нужно рабочему <…>. Ему не может нравиться и ничего нового ему не скажет кубизм и вся так называемая „линейная живопись“. Очень вероятно, что у новых течений живописи есть будущее, но пока они представляют собою кухню техники, которая может быть интересна только людям изощренного вкуса, художественным критикам и историкам искусства» (Цит. по кн.: Горький М. Несвоевременные мысли. Заметки о революции и культуре. М.: Советский писатель, 1990. С. 251).
(2) Возможно, Малевич имеет в виду поклонницу таланта М. Горького писательницу А. А. Вербицкую – популярного в 1910-е годы беллетриста. Что касается Шишкина, то здесь Малевичем, вероятно, допущена ошибка: судя по контексту, он имел в виду писателя Шишкова Вячеслава Яковлевича (1873–1945).
(3) Выставка «Бубнового валета» состоялась в Москве в Художественном салоне К. И. Михайловой в декабре 1917 года. На ней Малевич показал свои супрематические работы.
Декларация прав художника*
Статья опубликована в № 92, 23 июня 1918 года, с. 4.
Переиздана в газете «Супремус» (М., <1992>, № 2) с комментариями А. С. Шатских.
Как предполагает А. Шатских в своих комментариях к публикации в газете «Супремус», «Декларация прав художника» была написана Малевичем 21–22 июня 1918 года, после того, как он был избран членом Художественной коллегии отдела ИЗО Наркомпроса. Об этом пишет в своей заметке «В художественной коллегии изобразительных искусств», куда и включена полностью декларация, постоянный автор «Анархии» Рогдай (возможно, что за этим именем скрывался Алексей Ган). Текст Рогдая предваряет «Декларацию прав художника». Приводим этот текст:
«В заседании художественной коллегии 21 июня обсуждался вопрос главным образом о создании „современного музея“.
Относительно помещения говорилось о дворце Нескучного сада и музее изобразительных искусств, но вопрос пока остался нерешенным.
При обсуждении общей организации и реорганизации музеев вообще, после продолжительного обмена мнениями решено выделить особую музейную комиссию, в которую избраны члены коллегии при Нар<одном> Ком<иссариате> прос<вещения> от художественного изобразительного отдела, художники К. Малевич и Вл. Татлин и скульптор Б. Королев.
Художнику Малевичу было предложено написать декларацию прав художника.
Вот что К. Малевич написал».
Далее следует текст Малевича. Заметка подписана Рогдаем.
Обращение к актерам*
Публикуется по тексту из вечерней газеты «Вестник общественно-политической жизни, искусства, театра и литературы», Пг., 1918, № 21, 12 октября.
По мнению исследователей, текст «Обращения к актерам» был написан самим В. В. Маяковским; он включен в полное собрание его сочинений (Маяковский В. В. Полн. собр. соч. Т. 12. М., 1959. С. 445). Имя Малевича, художника спектакля, помещено под «Обращением к актерам» лишь в вечерней газете «Вестник общественно-политической жизни, искусства, театра и литературы», Пг., 1918, № 21, 12 октября (это обращение появилось и в ряде других петроградских газет).
В. В. Маяковский закончил «Мистерию-буфф» в сентябре 1918 года. Члены Центрального бюро по организации празднеств первой годовщины Октябрьской революции после заслушанного чтения пьесы признали необходимым поставить ее. Спектакль был организован силами сборных актеров в петроградском коммунальном Театре музыкальной драмы (здание Консерватории). Премьера «Мистерии-буфф», поставленной В. Э. Мейерхольдом в оформлении Малевича, состоялась 7 ноября 1918 года. Вслед за тем были сыграны еще два спектакля. От малевичевского оформления спектакля сохранились только устные рассказы и воспоминания. См.: Февральский А. В. Первая советская пьеса «Мистерия-буфф» В. В. Маяковского. М.: Советский писатель, 1971.
Извещение главного мастера свободных госуд<арственных> художественных мастерских*
Опубликовано в газете «Искусство», М., 1919, № 1,5 января, с. 4.
Преподавательская деятельность Малевича началась осенью 1918 года, когда в петроградских Свободных мастерских ему был поручен один из классов. Однако в Петрограде художник преподавал мало; подлинное начало его педагогической работы было положено в Москве, куда Малевич переехал в январе 1919 года. Художнику была предоставлена должность профессора в 1 и 2 Государственных Свободных художественных мастерских. Данное «Извещение…» примечательно тем, что в «мастерскую по изучению Нового Искусства» приглашались металлисты и текстильщики (последние – в мастерскую, которую Малевич вел совместно с Н. А. Удальцовой). В эти месяцы инициатор супрематизма приступил к выявлению и разработке стилеобразующих потенций изобретенной им новой системы в искусстве.
Нерукотворные памятники*
Опубликована в газете «Искусство коммуны», Пг., 1919, № 10, 9 февраля.
План, выдвинутый В. И. Лениным в апреле 1918 года, предполагал быстрейшую установку на всей территории Российской Федерации памятников выдающимся деятелям культуры, науки, политики, которых большевики почитали предтечами и идеологами пролетарской революции. В данной статье Малевич-беспредметник изложил свое критическое отношение к реальному воплощению ленинского плана монументальной пропаганды.
Название заметки Малевича в полемическом ключе обыгрывало пушкинские строки «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», помещенные на пьедестале знаменитого монумента великого поэта, созданного для Москвы скульптором А. М. Опекушиным.
(1) Памятник С. Н. Халтурину (1856–1882), революционеру-народовольцу, организатору и исполнителю террористических актов, был исполнен скульптором С. С. Алешиным и установлен на Миусской площади в Москве в 1918 году.
(2) Гипсовый бюст писателя-демократа А. Н. Радищева (1749–1802) был вылеплен скульптором Л. В. Шервудом и поставлен в проломе ограды Зимнего дворца в Петрограде (открыт 22 сентября 1918 года). Первый памятник плана монументальной пропаганды в Петрограде получил высокую оценку у деятелей Советской власти, скульптору была заказана вторая отливка бюста Радищева, установленная 6 октября 1918 года в Москве.
О музее*
Опубликована в газете «Искусство коммуны», Пг., 1919, № 13, 23 февраля.
Организация музеев нового типа стала одной из главнейших задач левых художников, получивших государственную поддержку в первые послереволюционные годы. 21 июня 1918 года Малевич был избран в Музейную комиссию Художественной коллегии Отдела Изо Наркомпроса, куда вместе с ним вошли В. Е. Татлин и скульптор Б. Д. Королев. В феврале 1919 года Малевич участвовал в Первой конференции Отдела Изо по делам музеев в Петрограде, где было принято решение о создании Музея художественной культуры. Публикация статьи «О музее», написанной с футуристически-нигилистических позиций, была связана с данной конференцией.
Наши задачи*
Опубликована в журнале «Изобразительное искусство», Пг., 1919, № 1, С. 27.
Часть из художественных директив Малевича, совмещавших глобальное и сугубо практическое декретирование, была осуществлена в течении ближайшего времени. В частности, идея «создания мирового коллектива по делам искусств» через несколько месяцев получила воплощение в организации группировки Уновис (Утвердители нового искусства), деятельность которой Малевич предполагал распространить повсеместно по планете; см. ниже комментарий к статье «Уновис».
Ось цвета и объема*
Опубликована в журнале «Изобразительное искусство», Пг., 1919, № 1, с. 27–30.
В отличие от критического пафоса статьи «О музее» в данной работе излагалась позитивная программа Малевича по устройству художественного собрания нового типа. Выработанные инициатором супрематизма основы построения в большой степени реализовались впоследствии в деятельности петроградского Музея художественной культуры, из лона которого вырос Государственный институт художественной культуры (Гинхук), руководимый Малевичем в 1924–1926 годах. В статье «Ось цвета и объема» обращает на себя внимание четко проводимое автором разграничение между целями и задачами «музеев художественной культуры» и «музеев живописной культуры».
(1) Третьяковская галерея была создана московским коллекционером, купцом П. М. Третьяковым и подарена им Москве в 1892 году.
(2) Выдающийся московский меценат-собиратель С. И. Щукин создал одну из лучших в мире коллекций европейской живописи начала XX века. Частная галерея Щукина была открыта для посетителей; после Октябрьской революции галерея была национализирована, ее собрание легло в основу Государственного музея нового западного искусства, разгромленного в 1948 году. Часть щукинской коллекции вошла в состав Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург, тогда Ленинград), часть – в собрание Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (Москва).
(3) Полемика с Бенуа, идейным противником крайне левых течений в искусстве, в особенности супрематизма, прошла через все публицистические работы Малевича. Здесь он продолжил традицию «отца российского футуризма» Д. Д. Бурлюка, ярого обличителя ретроградства маститого мирискусника (в апреле 1910 года Бурлюк издал анонимную полемическую листовку «По поводу художественных писем г-на А. Бенуа»; затем им была выпущена брошюра «Галдящие бенуа и новое русское национальное искусство» (СПб., 1913); полемика с Бенуа окрасила основные общественные выступления Бурлюка 1912–1913 годов).
Непосредственным поводом для вступления в полемику Малевича явилась резко критическая рецензия Бенуа на «Последнюю футуристическую выставку картин „0,10“ (ноль-десять)» (Бенуа Александр. «Последняя футуристская выставка» // Речь, Пг., 1916, 9 января). Малевич впоследствии часто прибегал к вольному цитированию и пересказу этой статьи в своих публицистических работах (см. статьи в газете «Анархия» (1918), в еженедельнике «Жизнь искусства» (1923). В мае 1916 года родоначальник супрематизма написал ответ – открытое письмо Александру Бенуа, которое, однако, нигде не было опубликовано (оригинал хранится в Рукописном отделе ГРМ, ф.137, д.1186, л. 1–3; целиком письмо впервые опубликовано Тр. Андерсеном в переводе на английский язык в изд.: Malevich, vol. 1, р. 42–48.).
(4) Положения статьи Мережковского «Грядущий Хам» (вошла в одноименную книгу, СПб., 1906), продиктованные ужасом перед гибелью культуры, в 1910-е годы получили дальнейшее развитие. «Грядущий Хам» для писателя воплотился в собирательном облике футуриста, а футуризм в целом был объявлен «новым шагом грядущего Хама» (Мережковский Д. Еще шаг грядущего Хама // Русское слово, М., 1914, 29 июня). Ниже в настоящем тексте Малевич аппелирует именно к этой статье Мережковского.
(5) Симультанизм (от французского simultané – одновременный) – название направления в искусстве, получившего название от «симультанных» композиций, впервые созданных французской художницей русского происхождения Соней Делоне-Терк (1885–1979). Соня Делоне использовала принципы беспредметного искусства, так называемого орфизма («симультайного кубизма»), разработанного ее супругом, французским живописцем Робером Делоне (1885–1941). Название «орфизм» для живописи Делоне придумал французский поэт и теоретик искусства Гийом Аполлинер (1880–1918), подчеркивая в своей характеристике орфизма первенствующую роль цвета в создании организма картины, где динамика движения и музыкальность ритмов выражались с помощью закономерностей взаимопроникновения основных цветов спектра и взаимопересечения криволинейных поверхностей.
О поэзии*
Опубликована в журнале «Изобразительное искусство», Пг., 1919, № 1, с. 31–35.
Собственная теория беспредметного искусства, создаваемая Малевичем с середины 1910-х годов, распространялась на все виды творчества – живопись, поэзию, музыку; исповедуемый художником синкретизм искусств глубинными корнями был связан с символизмом начала века.
Взгляды Малевича на поэтическое творчество развивались в тесном общении с русскими поэтами, кубофутуристами и будетлянами. Особенно близок он был с А. Крученых – совместная работа над постановкой футуристической оперы «Победа над Солнцем» имела решающее значение для Малевича. Освобождение слова от предметности, образа, логики и смысла – возникновение заумной, транс-рациональной, алогической поэзии футуристов – послужило одним из импульсов в становлении живописного супрематизма. Малевич сам создал несколько заумных стихотворений – четверостишие в конце статьи «О поэзии» принадлежало также ему (оно приведено по машинописному оригиналу статьи, любезно предоставленному В. И. Ракитиным).
Супрематизм. Из «Каталога Десятой Государственной выставки»*
Печатается по тексту из «Каталога десятой Государственной выставки. Беспредметное творчество и супрематизм» (ВЦВБ <Всероссийское центральное выставочное бюро>. Отдел изобразительных искусств Народного комиссариата по просвещению). М., 1919.
На X Государственной выставке «Беспредметное творчество и супрематизм» (апрель 1919, Москва; участники – В. Аграрых (В. Ф. Степанова), А. А. Веснин, Н. М. Давыдова, И. В. Клюн, К. С. Малевич, М. И. Меньков, Л. С. Попова, А. М. Родченко, О. В. Розанова (посмертно) произошло открытое размежевание супрематизма и нарождавшегося конструктивизма, не обладавшего пока терминологическим определением. В каталоге выставки были опубликованы декларации почти всех участников (кроме Веснина и Давыдовой; в случае Розановой были использованы отдельные высказывания из ее опубликованных статей). Оппонентами супрематизма, объединившимися под лозунгом «беспредметное творчество», выступили Родченко, Степанова (В. Аграрых), Попова, Веснин. В противовес полотнам Малевича «белое на белом», экспонировавшимся впервые, Родченко выставил холсты «черное на черном». Среди супрематистов также наблюдался раскол: лишь Меньков остался безоговорочно верным лидеру; в манифесте Клюна содержались выпады против супрематизма (см. примеч. 4 к статье «К приезду вольтеро-террористов из Петербурга» в газете «Анархия»: наст. изд., с. 340–341).
Выставка явилась последним совместным выступлением представителей двух основных линий в русском авангарде.
(1) Неточное название двух первых брошюр Малевича – «От кубизма к супрематизму» (Пг., 1916) и «От кубизма и футуризма к супрематизму» (М., 1916).
(2) Имеется в виду «Последняя футуристическая выставка картин „0,10“ (ноль-десять)» (декабрь 1915 – январь 1916, Петроград).
О новых системах в искусстве*
Публикуется по тексту книги, изданной в Витебске в 1919 году.
Первое большое теоретическое сочинение Малевича, написанное летом 1919 года в Немчиновке, было напечатано в декабре 1919 года в Витебске. Кроме основного текста, датированного 15 июля 1919 года, в состав книжки были включены «Установление А» и два высказывания, сопровождавших воспроизведение Черного квадрата.
Брошюра была напечатана литографским способом учащимися Витебского Народного художественного училища (подмастерьями артели художественного труда при Витебских свободных мастерских) под наблюдением и руководством Л. М. Лисицкого. Вступление-эпиграф к книжке, «Установление А» и два завершающих постулата под изображением Черного квадрата были скорописью исполнены на литографском камне самим Малевичем. Книга сопровождалась иллюстрациями – автолитографиями Малевича; обложка (гравюра на линолеуме) была создана Лисицким.
В 1920 году в Петрограде Отдел Изо Наркомпроса издал брошюру Малевича «От Сезанна до супрематизма. Критический очерк», в которую вошли несколько больших фрагментов витебской книжки «О новых системах в искусстве», соединенных в самостоятельный текст. В настоящем издании текст брошюры «От Сезанна до супрематизма» выделен курсивом.
(1) Имеются в виду следующие статьи: Осоргин М.А. О пляске вакханок // Русские ведомости, М., 1916, 13 ноября; Бенуа Александр. «Последняя футуристская выставка» // Речь, Пг., 1916, 9 января.
В газете «Известия Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» (М., 1919, № 84, 18 апреля, с. 2) была помещена статья Георгия Устинова «Коммунизм и искусство», в которой резко критиковалась политика Наркомпроса в области искусства и литературы. Автор, рецензируя четвертый номер газеты «Искусство» (М., 1919, 22 февраля), в частности заявил: «Но и этого блестящего номера достаточно для того, чтобы с безошибочной точностью определить, какой компанией руководится это возмутительно-шарлатанское издание». Газета «Искусство» (М., 1919) была органом Отдела Изо Наркомпроса.
(2) Автопортрет Сезанна (1880-е годы), находившийся в собрании С. И. Щукина, хранится ныне в ГМИИ.
(3) Неточное название первой брошюры Малевича «От кубизма к супрематизму», изданной осенью 1915 года.
(4) С. И. Щукину принадлежали две из двадцати картин Клода Моне, где был изображен Руанский собор в разное время суток («Руанский собор в полдень», 1894; «Руанский собор вечером», 1894; обе ныне в ГМИИ).
(5) В собрании С. И. Щукина было несколько кубистических работ Пикассо на тему обнаженного женского тела. Судя по описанию, Малевич имел в виду картину «Дриада» (1908), известную под названиями «Большая дриада», «Обнаженная в лесу» (в собрании Щукина она именовалась также «Нагая женщина с пейзажем»). Этот холст ныне хранится в Гос. Эрмитаже.
(6) П. Пикассо. Человек с кларнетом. 1911–1912. Х., м. Частное собрание, Париж. Репродукция этой картины была помещена на обложке книги: Грищенко А. «Кризис искусства» и современная живопись. Вопросы живописи. Выпуск 4-й. М., 1917.
(7) «Установление А в искусстве» – 15 ноября 1919 года Малевич написал своеобразный свод правил-законов для своих последователей, будущих членов Уновиса, где декретировал введение в искусство нового измерения – «пятой меры, экономии». «Новый экономический порядок», объявленный в первой витебской книге, означал, по Малевичу, «что всякое действо совершается через энергию тела, а всякое тело стремится к сохранности своей энергии, а потому всякое мое действо должно совершаться экономическим путем». Понятие «экономия» стало одним из стержневых понятий в малевичевской теории новейшего искусства; супрематизм расценивался своим родоначальником как самая «экономичная» художественная система, в основании которой лежал наиболее «экономический» пластический элемент – прямая, след движущейся точки в пространстве.
Супрематизм. 34 рисунка*
Публикуется по тексту книги, изданной Уновисом в конце 1920 года в Витебске литографским способом. Статья предваряла альбом из 34 литографий, воспроизводивших основные супрематические сюжеты Малевича.
(1) Статья Малевича под названием «К чистому действу» была помещена в Альманахе Уновис № 1; в том же Альманахе было анонсировано: «Готовится к печати <…> К. Малевич. О чистом действе» (Альманах Уновис № 1. Витебск, 1920. Отдел рукописей ГТГ, ф.76/9). Отдельного издания под заголовком «Чистое действо» или «О чистом действе» на сегодня обнаружить не удалось.
(2) Не установлено, о какой работе Малевича идет речь; ни брошюры, ни статьи с таким названием нет.
К вопросу изобразительного искусства*
Публикуется по тексту книги, изданной Государственным издательством в Смоленске в 1921 году.
В Смоленске работал филиал Уновиса, руководимый живописцем Владиславом Стржеминским (1893–1952) и скульптором Катаржиной Кобро (1898–1951), впоследствии виднейшими польскими художниками-авангардистами. Малевич, Лисицкий и другие члены творкома (творческого комитета) Уновиса активно сотрудничали со своими смоленскими коллегами.
Судя по тексту, в данной брошюре была опубликована лекция, прочитанная Малевичем во время одного из визитов в Смоленск (так, о состоявшейся 21 октября 1920 года лекции Малевича в Смоленске было сообщено в издании «Уновис. Листок Витебского Творкома № 1» от 20 ноября 1920 года).
Основные положения смоленской брошюры сосредоточены на вопросах становления новой художественно-педагогической системы, призванной воспитывать мастеров современного искусства – создание такой системы было одной из актуальнейших проблем новой художественной школы, возникающей в те годы как в России, так и в Европе.
О партии в искусстве*
Статья опубликована в литографском выпуске «Путь Уновиса. Издание Центрального Творкома Уновиса», Витебск, 1921, № 1, январь, с. 1–5.
Впервые переиздана в «Бюллетене Фонда К. С. Малевича» (публикация, подготовка текста и примечания Т. В. Горячевой), М., 1995 (в печати).
Работа К. С. Малевича, опубликованная в «Пути Уновиса», подразделялась на три части. В первой анализировались проблемы «партийности» в социальной и художественной жизни, актуализированные общественной ситуацией; трактовка Малевичем этих вопросов легла в основу идеологического обеспечения деятельности витебского объединения «Утвердители нового искусства», Уновис (об Уновисе см. комментарий к нижеследующей статье). Второй раздел, озаглавленный «О гармонии, создании вещи и власти ритма над художником», разрабатывал самостоятельную тему, не связанную с проблемой «партийности в искусстве». После него в выпуске была помещена подпись «К. Малевич»; за ней следовало двенадцать кратких высказываний лидера Уновиса, объединенных заголовком «Если» и носивших установочно-лозунговый характер. Все три текста, смонтированные в цельный блок, отделялись от последующих материалов выпуска графической линейкой. Компановка текстов Малевича в издании «Путь Уновиса» была аналогична построению его книги «О новых системах в искусстве», заключавшейся положениями-призывами «Установления А в искусстве».
(1) Малевич уподобил «главу просвещения» (наркома Народного комиссариата по просвещению А. В. Луначарского), ищущего «культуру с фонарем», древнегреческому философу-моралисту Диогену, пытавшемуся, по преданию, днем с зажженным светильником найти натурального, неиспорченного человека.
(2) Малевич имел в виду разгон Учредительного собрания, произведенный большевиками 6 (19 н. ст.) января 1918 года.
(3) «Манифест Коммунистической партии», написанный в 1848 году К. Марксом и Ф. Энгельсом, был первым программным документом научного коммунизма.
(4) В декабре 1919 года в Москве вышло в свет издание «Художественная жизнь. Бюллетень Художественной секции Народного комиссариата по просвещению». В первом номере журнала была помещена статья А. В. Луначарского «Художественная задача Советской власти», а также статьи других авторов, освещавшие работу отделов Художественной секции Наркомпроса. Малевич, по всей вероятности, предполагал выступить с программной статьей в первом номере печатного органа Наркомпроса; он, очевидно, получил отказ редакции, мотивированный отсутствием места (именно в первом номере «Художественной жизни» вслед за материалами общего характера была опубликована статья Игоря Грабаря «Раскрытие памятников живописи» (с.8-10), посвященная реставрации икон владимирско-суздальской школы).
(5) Педагогическая система Государственных свободных художественных мастерских (ГСХМ), открывшихся осенью 1918 года в Москве и Петрограде, была ориентирована на утопический идеал возрожденческих коммун и строилась по профессионально-цеховому принципу: художник-мастер руководил воспитанием учеников-подмастерьев, избравших его в качестве наставника; каждая мастерская работала по индивидуальной программе и на основе собственной методики ее руководителя. Эта система, функционировавшая в течение двух лет, сравнительно скоро обнаружила свою недостаточность. В 1920 году в результате проведенной реформы художественного образования на базе ГСХМ возникли Высшие художественно-технические мастерские (Вхутемас). В основу новой художественной педагогики были положены методы, воплотившие идеи объективных закономерностей пластического формообразования. Вхутемас состоял из восьми факультетов, занятиям на которых предшествовало обязательное для всех студентов обучение на Общем (Основном) отделении («испытательном» в тексте Малевича). После прохождения формально-аналитических дисциплин Основного отделения учащиеся поступали в специальные мастерские того или иного художника-руководителя. Определение «технические», добавленное к названию художественного вуза, свидетельствовало о том, что наряду со станковыми видами изобразительного творчества в его стенах появилась установка на развитие производственного искусства («фабричного», по терминологии Малевича).
(6) Малевич остро ощущал свою преемственность в развитии новейшего искусства, начиная отсчет от импрессионизма; в мае 1916 года он писал в письме к А. Н. Бенуа: «И я счастлив, что лицо моего квадрата не может слиться ни с одним мастером, ни временем. Не правда ли?
Я не слушал отцов, и я не похож на них. И я – ступень. <…>
В искусстве есть обязанность выполнения его необходимых норм. Помимо того, люблю я их или нет.
Нравится или не нравится – искусство об этом вас не спрашивает, как не спросило, когда создавало звезды на небе» (Письмо К. С. Малевича А. Н. Бенуа. Май 1916 г. Рукописный отдел ГРМ, ф.137, д.1186).
Уновис*
Статья опубликована в журнале «Искусство», Витебск, 1921, № 1, март, с. 9–10, с пометкой редакции: «Печатается в дискуссионном порядке». Переиздана при жизни Малевича в сб. «Советское искусство за 15 лет. Материалы и документация». М.-Л.: ОГИЗ-ИЗОГИЗ, 1933. С. 120–124.
Объединение, вошедшее в историю под именем Уновис (аббревиатура от названия «Утвердители нового искусства»), зародилось в конце 1919 года в стенах Витебского Народного художественного училища. Окончательное название оно получило 14 февраля 1920 года. Наиболее активными членами витебского Уновиса, пропагандировавшими и развивавшими художественные и теоретические взгляды Малевича, были преподаватели училища Л. М. Лисицкий (1890–1941), В. М. Ермолаева (1893–1938), Н. О. Коган (1889–1942), студенты Н. М. Суетин (1897–1954), И. Г. Чашник (1902–1929), Л. М. Хидекель (1904–1986), Л. А. Юдин (1903–1941) и другие.
В глазах Малевича Уновис был инструментом преображения реальности; по мысли лидера, деятельность этой «новой партии» должна была охватывать все сферы бытования искусства – от утилитарного оформления мира вещей до выработки новой художественной и общественной философии.
Идеи «коллективного творчества», исповедуемые членами объединения, были реализованы в создании «единых экспонатов Уновиса» (без указания авторства отдельных произведений, в том числе и принадлежавших Малевичу), представленных в 1920–1923 годах на витебских, московских, а также берлинской (Первая русская художественная выставка, 1922) и петроградской (1923) выставках. Под маркой Уновиса были выпущены как теоретические работы Малевича, так и ряд изданий, включавших разнообразные произведения членов Уновиса.
Витебский Уновис прекратил свое существование в связи с отъездом Малевича и группы его единомышленников из города в начале лета 1922 года. В Петрограде деятельность Уновиса совместилась с многосторонней работой, проводимой всеми отделами и подразделениями Государственного Института художественной культуры, которым руководил Малевич.
Бог не скинут. Искусство, церковь, фабрика*
Публикуется по тексту книги, изданной Уновисом в Витебске в 1922 году. В конце текста помещена авторская дата его создания, 1920 год.
Трактат «Бог не скинут» состоит из первых 33 параграфов второй части основного философского сочинения Малевича «Супрематизм. Мир как беспредметность», законченного 19 февраля 1922 года. В рукописи вся вторая часть этого труда, насчитывающая 45 параграфов, посвящена Михаилу Осиповичу Гершензону (1869–1925), сыгравшему значительную роль в философском развитии Малевича (рукопись хранится в архиве Малевича в Стейделик Музеуме, Амстердам, инв. № 4). Книга Гершензона «Тройственный образ совершенства» (М., 1918) оказала определенное влияние на разработку Малевичем собственной теории тройственного пути к Богу как абсолюту через Искусство, Церковь, Фабрику.
Трактат стал единственным философским сочинением Малевича, изданным прижизненно. Его публикация вызвала резко отрицательные рецензии; так, теоретик и идеолог конструктивизма Борис Арватов заявил: «…я неоднократно указывал, что супрематизм – это злейшая реакция под флагом революции, т. е. реакция вдвойне вредная. Левое искусство в лице его подлинно революционной группы (конструктивизм) должно беспощадно оборвать ту нить, которая связывает его еще с супрематизмом. После откровенного выпада Малевича даже сомневающиеся, даже близорукие сумеют под маской красного квадрата разглядеть черное лицо старого искусства. Малевичу нечего делать с левыми, – пусть он найдет себе место там, где его с удовольствием примут в рядах догнивающего индивидуалистического, доведенного до полного соллипсизма эстетства» (Арватов Б. К. Малевич. Бог не скинут (Искусство. Церковь. Фабрика). Изд. Уновис. Витебск. 1922 г. Стр.40 // Печать и революция, М., 1922, № 7, с. 343–344).
Текст витебской брошюры Малевича был впервые переиздан в составе всей книги «Супрематизм. Мир как беспредметность», выпущенной в переводе на немецкий язык в 1962 году в Кёльне.
Русский музей*
Опубликована в еженедельнике «Жизнь искусства», Пг., 1923, № 16 (891), 24 апреля, с. 13–14.
Статья была подписана искаженной фамилией «К. Иелевич» (в следующем номере еженедельника ошибка была признана и исправлена). Данное обстоятельство имело неожиданный резонанс: Н. Н. Пунин опубликовал полемический ответ на статью «т. Иелевича, никому не известного новоявленного защитника старого музееведения», увидев в тексте «молодого наемника старых музееведов» хитроумный план: «…чтобы в корне разрушить самую возможность обновления старых музеев, этим освещенным традицией Голиафам следует просто поглотить маленькие музеи художественной культуры, приняв к себе весь их матерьял» (Пунин Н. Кому они мешают? // Жизнь искусства, Пг., 1923, № 19 (894), 15 мая, с. 15–16).
(1) Московский Музей живописной культуры (1919–1929) не имел своего постоянного помещения, его собрание переводили из одного места в другое. Условия хранения работ зачастую были ужасающими; так, Малевич в один из своих приездов в Москву из Витебска счел необходимым подать гневное заявление: «В АК ИЗО. Заведующему АК ИЗО тов. Альтману.
От центрального Творкома Уновис.
Протест.
Известно ли Вам о варварском обращении Государства с произведениями Новых Искусств. Если известно, то какие меры приняты для охраны произведений; уже неоднократно наблюдается, что Государство с Новыми Произведениями совершенно не считается и выбрасывает их из комнаты в комнату; до сих пор не может представить помещение под Музей. Сегодня опять выброшены произведения из Музея Жив<описной> Культуры, свалено все в одну кучу, от чего разрушаются работы. Очевидно, что Государству они не нужны, иначе оно бы стремилось их сохранить так, как сохраняет Екатерининские Тюфяки. Новые произведения являются творческим трудом, и мы выносим протест и требуем принять меры к охране такового.
Член Центрального Творкома УНОВИС
К. Малевич.
9/V-21 г. Москва».
(Российский государственный архив, ф.2306, оп.23, д.58, л.35).
АК ИЗО – Академический центр, отдел изобразительных искусств. Музейный отдел Наркомпроса в результате реформ 1921 года был подчинен Главнауке. Заведующим АК ИЗО стал Н. И. Альтман.
(2) Фонд – имеется в виду Музейный фонд современного искусства московского Отдела Изо Наркомпроса (Государственный художественный фонд), который с лета 1918 года закупал произведения современных художников; Музейное бюро Отдела Изо распределяло затем эти произведения по столичным и провинциальным музеям. Музейное бюро было ликвидировано в марте 1921 года, поступления в фонд прекратились еще раньше из-за недостатка средств.
«Extra dry» (денатурат)*
Статья опубликована в еженедельнике «Жизни искусства», Пг., 1923, № 18(893), 8 мая, с. 17–18.
Полемический ответ Малевича на статью Н. Радлова «К истокам искусства» (Жизнь искусства, Пг., 1923, № 1,3 января, с. 16–17).
(1) Малевич цитирует по памяти; в статье Радлова: «Они – великие художники, потому что они полнее и глубже миллионов других людей воспринимали жизнь, умели чувствовать и умели передавать это чувство другим» (указ. соч., с. 17).
(2) В статье Радлова: «Под шутовским колпаком, которым с угрожающей значительностью, воображая его от времени до времени шлемом Минервы, размахивал Маринетти, оказался пустой череп великосветского ловеласа» (указ. соч., с. 16).
(3) Малевич вольно цитирует 11-й пункт «Манифеста футуризма» Маринетти (1909) в переводе Г. Тастевена. См.: Тастевен Г. Футуризм (На пути к новому символизму). С приложением перевода главных футуристских манифестов Маринетти. М.: Ирис, 1914. С. 7–8 «Приложения».
(4) Малевич вольно пересказывает отдельные положения статьи А. Бенуа; правильный текст: «Читатель скажет мне, что не стоит обращать внимание на эти шалости и провокации (речь идет о листовке с манифестами, распространяемой на выставке „0,10“. – A. Ш.), что все это есть лай моськи в известной басне Крылова. Но мне кажется, что в наше время этот лай уже не просто одно забиячество, а нечто более знаменательное. Да и сам слон стал таким старым-старым, дряхлым-дряхлым, что, глядишь, он свалится и уже больше не встанет. И в такие минуты агонии лай моськи становится чем-то жутким и грозным; да и не моська уже это, а какая-то страшная недотыкомка, которая вот-вот и вскочит слону на затылок и вопьется в него глубоко, до самого мозга. <…>
И, разумеется, скучно на выставке у футуристов потому, что все их творчество, вся их деятельность есть одно сплошное отрицание любви, одно сплошное утверждение культа пустоты, мрака, „ничего“, черного квадрата в белой раме. Только что одни заняты пока ломом и окрошкой, а другие уже и с этим покончили („последняя выставка“), покончили вообще с миром, пришли к какой-то „самоцели“, иначе говоря к полной нирване, к полному морозу, к полному нулю. Как тут не почувствовать скуку, особенно если утрачен секрет тех заклятий, после которых это наваждение и беснование может рассеяться, переселиться в стадо свиней и исчезнуть в пучине морской?
Откуда бы, откуда бы достать эти слова заклятия? Как бы произнести тот заговор, который вызовет на фоне черного квадрата снова милые, любовные образы жизни?» (Бенуа Александр. «Последняя футуристская выставка» // Речь, Пг., 1916, 9 января).
(5) В статье Радлова: «Полвека назад яд вошел в самое сердце искусства. Полвека назад, когда впервые вместо виноградного сока вдохновения, фантазии, экстаза Дионис хлебнул extra-dry денатурата точных наук, искусство, ослепшее и обезумевшее, ринулось в пропасть материализма» (указ. соч., с. 16).
(6) Зорвед (зрение+ведание, зоркое ведание) – новое направление в русском искусстве 1920-х годов, разработанное Матюшиным и его учениками (Б.В., Г.В., М.В. и К. В. Эндерами, Н. И. Гринбергом). В основании теории «расширенного смотрения», на которой базировалось новое направление, лежала концепция «высшего измерения», генетически восходившая к проблемам «четвертого измерения» («четвертое измерение» – популярная в 1910-е годы идея, развитая в сочинениях П. Д. Успенского; см. примеч. 2 к тексту Малевича из «Тайных пороков академиков»: наст. изд., с. 329).
Прорыв к «новому мироопределению», усиленный специальными тренировками воображения и глаза, должен был, по мысли зорведов, привести к новой пластической реальности, получившей название «нового пространственного реализма» (см.: Матюшин М. Опыт художника новой меры // Харджиев Н., Малевич К., Матюшин М. К истории русского авангарда. Стокгольм,1976. С. 159–187; а также: Povelikhina A. Matjushin’s Spatial System // The Structurist. 1975/76, no. 15/16).
Примечательно, что художественный лозунг «Зорвед» был обнародован Матюшиным на заседании в Музее художественной культуры 13 апреля 1923 года – Малевич в настоящей статье, опубликованной менее чем через месяц, помещает зорведов в один ряд с признанными авторитетами в авангарде – кубистами, футуристами, супрематистами.
Супрематическое зеркало*
Манифест напечатан в еженедельнике «Жизнь искусства», Пг., 1923, № 20 (895), 22 мая, с. 15–16. Фрагмент манифеста опубликован в журнале «ЛЕФ», М., 1923, № 3, июнь-июль, с. 183. Помимо манифеста Малевича в том же номере «Жизни искусства» были помещены «Декларация „Мирового расцвета“» П. Филонова, «Декларация» П. Мансурова, декларация «Не искусство, а жизнь» М. Матюшина, представлявшая собой манифест Зорведа (см. комментарий к предыдущей статье).
Последний опубликованный манифест Малевича; написан к открытию «Выставки картин петроградских художников всех направлений. 1918–1923», с 17 мая развернутой в залах Академии художеств в Петрограде. На выставке был представлен коллективный экспонат Уновиса – живопись и графика «от кубизма до супрематизма»; экспозиция Уновиса увенчивалась двумя чистыми холстами. В каталоге выставки данный уновисский экспонат назывался «Супрематическое зеркало» и служил иконическим аналогом главному выводу Малевича, закрепленному в манифесте.
Ванька-встанька*
Статья опубликована в еженедельнике «Жизнь искусства», Пг., 1923, № 21 (896), 29 мая, с. 15–16. Ранее не переиздавалась.
Полемический ответ Малевича на статью С. Исакова «Церковь и художник» (Жизнь искусства, 1923, № 14 (889), 10 апреля, с. 19–20). В свою очередь С. К. Исаков поместил отклик на статью Малевича: С.И. <Исаков С.К.> Хорошо ли придуман «Ванька-встанька» // Жизнь искусства, Пг., 1923, № 23(898), 12 июня, с. 7–8.
(1) Шесть пунктов, выделенных Малевичем в качестве тезисов для ответа, в статье Исакова излагались следующим образом: «Гораздо поразительнее то, что наблюдаем мы у себя. Тут разлад между чутьем, толкнувшим наших „левых“ художников в первые же дни Октябрьской Революции пойти нога в ногу с пролетариатом, всемерно помогая ему в деле крушения старых идолов, и между тою идеологической отрыжкой, что как икота перед сонной болезнью охватила их, едва события позволили спокойно перевести дух; разлад этот наводит на раздумье. Художник Маневич (опечатка в журнале. – А. Ш.), все годы революции не за страх, а за совесть работающий с Советской властью, казалось бы, исключительно трезвенный, здоровый, жизненный, разрабатывающий подлинные основы, на которых будет строиться пролетарское искусство, обнаруживает такую же идейную неустойчивость, как и немецкие попутчики революции. И для него не „бытие определяет сознание“, а художник-творец, облекающий в форму хаос эмоций. Недоговоренная философия Абсолюта. Недаром выпустил он весьма сумбурную книжечку „Бог не скинут“.
Тут перед нами яркое проявление философии распутья. <…> Надо помочь этим колеблющимся, шатающимся выкинуть вон всю идеалистическую пыль. Надо крепче бить по абсолюту, по призраку чистой Идеи, надо до конца разрушить твердыню Олимпа, свергнуть на землю всех богов.
Надо так бить по церкви, по религии, чтоб из художника столбом пыль летела.
Чтоб скорее настал час, когда облегченно сможет сказать он: Скинут бог!
Ныне отпущаещи».
(Исаков С., указ. соч., с. 20)
Пункт 4 приведен Малевичем без искажений, по тексту Исакова (указ, соч., с. 19).
(2) В 1917–1919 годы в центре Марсова поля в Петрограде, где в первые послереволюционные годы производились массовые и индивидуальные захоронения «жертв революции» (по терминологии тех лет), был установлен гранитный памятник «Борцам революции» (автор – архитектор Л. В. Руднев). В дальнейшем в результате объявленного конкурса на архитектурно-градостроительное оформление ансамбля лучшим был признан проект архитектора-неоклассика И. А. Фомина, по которому на всей территории Марсова поля был разбит партерный сад (1923).
Художники об АХРР*
Высказывание Малевича опубликовано в еженедельнике «Жизнь искусства», Пг., 1924, № 6, 5 февраля, с. 24.
АХРР – Ассоциация художников революционной России (1922–1932, с 1928 – Ассоциация художников революции, АХР). Члены АХРР, борясь с модернистическими направлениями (в том числе и внеположными искусству методами), стремились к созданию «понятного народу искусства, правдиво отражающего советскую действительность». Ахрровская эстетика легла в основу искусства социалистического реализма.
Материалы рубрики «Художники об АХРР» были приурочены к VI Выставке Ассоциации художников революционной России «Революция, быт и труд», открывшейся 29 января 1924 года в Москве, в Историческом музее. Свое мнение о характере, целях и задачах АХРРа высказали деятели, принадлежавшие к разным художественным лагерям: К. С. Малевич, художник и критик Н. Э. Радлов, живописец П. С. Наумов, скульптор В. Л. Симонов.
Открытое письмо голландским художникам Ван-Гофу и Бекману*
Опубликовано в еженедельнике «Жизнь искусства», Л., 1924, № 50 (1023), 9 декабря, с. 13–14.
Появление этого открытого письма имело свою предысторию. В 1919 году голландские художники – среди них живописцы Хрис Бекман и архитектор Роберт Ван-Гоф (по современному написанию Роберт ван’т Хофф) – послали запрос в парламент своей страны, требуя содействия в установлении связей с Советской Россией. На формирование творчества этих художников большое влияние оказал Пит Мондриан; вместе с Тео ван Дусбюргом он, как известно, выпустил в октябре 1917 года программное издание «Де Стиль», давшее имя интернациональной группировке художников и архитекторов, разделявших новые эстетические взгляды. Весь комплекс философских, художественных, прогностически-социальных идей деятелей, объединившихся вокруг «Де Стиля», получил название «неопластицизм». В сфере изобразительных искусств неопластицизм характеризовался использованием абстрактных геометрических форм, подчиненных строгим композиционным вертикалям и горизонталям при ограничении красочной гаммы тремя основными цветами – красным, желтым, синим.
Члены общества «Де Стиль» Хрис Бекман и Роберт Ван-Гоф не позднее начала 1922 года послали письмо на адрес Отдела Изо Наркомпроса, в котором содержалась просьба об установлении контакта с родоначальником геометрически-абстрактного направления в русском авангарде. Ответ Малевича, написанный 12 февраля 1922 года в Витебске, хранился в частном архиве в Амстердаме (в переводе на английский язык он был опубликован Тр. Андерсеном в изд.: Malevich, vol. I, р. 183–187).
В 1924 году те же корреспонденты, Бекман и Ван-Гоф, переслали Малевичу в Петроград снимки собственных произведений. Свой ответ инициатор супрематизма на этот раз поместил в отечественном журнале. Как и в послании 1922 года, в «Открытом письме…» полемика занимала немалое место, однако доминировали в нем вопросы современного формообразования; Малевич подчеркнул главное различие супрематизма и неопластицизма, справедливо усматривая его в диаметрально противоположном отношении к динамике как таковой. Примечательно, что Малевич и в «Де Стиле» увидел зарубежный Уновис, который он по-прежнему считал оптимальной формой для организационной поддержки нового искусства.
(1) Имелся в виду Государственный институт художественной культуры (Гинхук), выросший на основе исследовательских отделов при петроградском Музее художественной культуры (1924–1926).
(2) Р. Ван-Гоф. Ter Heide House в Утрехте (1916). Присланный в Петроград снимок этой самой известной постройки голландского архитектора был использован в качестве иллюстрации к тексту Малевича с подписью: «Архит. Ван-Гоф (Голландия). Реализованный проект. (Принцип плоскостной)».
(3) Афелий – точка орбиты планеты, кометы или какого-либо другого тела, обращающегося вокруг Солнца, наиболее удаленная от Солнца. Малевич нередко использовал этот астрономический термин, связывая его со своей теорией прохождения тем или иным художественным явлением, той или иной художественной личностью замкнутого цикла развития – с наибольшим и наименьшим удалением (афелием и перигелием) от предметности, изобразительности.
(4) Первая иллюстрация, помещенная в статье, сопровождалась подписью: «Супрематизм. Динамоплановое сооружение Уновиса, не обращенное в утилитарную архитектуру». Рисунок представлял собой один из «планитов» Малевича – своеобразных аксонометрических чертежей-проектов космических архитектурных сооружений (см. наст. изд., с. 278).
Вторая иллюстрация статьи – вышеупомянутая фотография Ter Heide House в Утрехте.
О выявителях*
Интерес Малевича к проблемам художественного языка кинематографа был инспирирован его знакомством и сближением с С. М. Эйзенштейном, произошедшими весной 1925 года в дачном поселке Немчиновка под Москвой. О причинах и результатах обращения Малевича к искусству кинематографа, а также об истории взаимоотношений Малевича с Эйзенштейном см.: Shatskikh Alexandra. Malevich and film // The Burlington Magazine, 1993, July, no 1084, p. 470–478.
Опубликована в журнале «Киножурнал А.Р.К.», М., 1925, № 6–7, с. 6–8.
Ранее не переиздавалась.
А.Р.К. (АРК) – Ассоциация революционной кинематографии (1924–1935, с 1929 – Ассоциация работников революционной кинематографии) – объединение деятелей советской кинематографии, куда вошли М. Е. Коль-цов, Л. В. Кулешов, В. И. Пудовкин, С. М. Эйзенштейн и другие видные кинематографисты и литераторы. «Киножурнал А.Р.К.» (М., 1925–1926) был создан как орган Ассоциации.
Первая из цикла статей Малевича, посвященных проблемам нового вида искусства, кинематографа. Этот цикл составляют четыре журнальные статьи (две из них – первая и последняя – выявлены в недавнее время) и одна архивная, «Кино, граммофон, радио и художественная культура» (частное собрание, Россия), опубликованная в переводе на английский язык Тр. Андерсеном в изд.: Malevich, vol. IV, р. 163–176).
Среди архивных материалов, хранящихся в частном собрании (Россия), имеется черновик работы, послуживший основой для статьи «О выявителях. Плакаты». Он опубликован Тр. Андерсеном в изд.: Malevich, vol. IV, р. 136–143 (название «About Posters» – «О плакатах» – не оговорено составителем и, очевидно, принадлежит Малевичу). В журнальном варианте в качестве заголовка использован неологизм Малевича, подчеркивающий функцию киноплаката – выявлять содержание фильма.
(1) Речь идет о «Первой выставке киноплаката». Была открыта с 21 апреля по 2 мая 1925 года в Москве, в помещении Государственной Академии художественных наук (ГАХН). Организована кинокабинетом ГАХНа. На выставке были представлены киноплакаты дореволюционные, советские, а также плакаты Германии, Франции, Англии, Швеции, Италии и Америки. Участвовало 16 советских художников, экспонировано 64 произведения. Каталог машинописный (РГАЛИ, ф. 2057, оп. 1, ед. хр. 99, л. 1-17).
(2) В качестве иллюстрации в статье была помещена фотография одного из уличных стендов с афишами.
(3) В качестве иллюстрации была помещена фотография стенда со шрифтовыми афишами, две из которых рекламировали кинофильм «Стачка» (1925).
И ликуют лики на экранах*
Статья опубликована в «Киножурнале А.Р.К.», М., 1925, № 10, с. 7–9, с редакционным подзаголовком «В порядке дискуссии» и авторской сноской к заглавию, поясняющей: «„Ликуют“ – нужно понимать: делают, пишут».
Работа была напечатана в рамках дискуссии о проблемах киноязыка и представляла собой полемический ответ Малевича на статью Бориса Арватова «Агит-Кино» и «Кино-Глаз» (Киножурнал А.Р.К., М., 1925, № 8, с. 3–4).
В архиве Малевича в Стейделик Музеуме, Амстердам, хранится оригинал-черновик статьи с авторским заглавием «И ликуют лики на экранах» (Тетрадь III, 1920-е годы, инв. № 32).
При сличении оригинала и опубликованного текста выявлен ряд расхождений и сокращений; тексты важнейших купюр включены публикатором настоящего издания в нижеследующие примечания.
(1) Малевич цитирует по памяти; у Арватова: «…голое производство, технику» (указ. соч., с. З).
(2) В оригинале за этим следует: «<розу>, но не вообще искусство.
Новое искусство и отличается тем от старого, что выявляет свою собственную природу, новые живописцы беспредметники». Далее по тексту.
(3) Текст купюры: «Таковая точка, уже даже с моей точки зрения, является чисто буржуазной.
Искусство для пролетариата должно иметь другое назначение, во-первых, образов с себя не делать, символов тоже, ибо он весь в сути своего существа есть безобразен, беспредметный.
Искусство его должно быть как таковое, а художник в его обществе и строе не образомаз, не ликописец его и всей бытовой требухи». Далее по тексту.
(4) В статье Арватова: «Сколько бы ни болтали отдельные интеллигенты о низвержении сегодня же искусства, кроме производственного, рабочему классу надо практически учитывать, что его достижения не достигли стадии полной организованности и единомышленности общества – ему приходится убеждать, и убеждать конкретно, т. е. средствами искусства» (указ. соч., с. З).
(5) Текст купюры: «Симметрия (композиция) диктуется последними направлениями <слв. нрзбр.>. Это новые станковисты в динамическом разворачивании жизни во времени, которые развертывают картину в тысячах кадриках-холстиках, картина получилась в полном объеме представляемой правды или выдумки во времени». Далее по тексту.
(6) Текст купюры: «В первом случае довлеет идеология производства, во втором искусства, и тогда станковизм живописный становится как таковым, в полной силе». Далее по тексту.
(7) После слов «довести его» в оригинале следует иное завершение фразы: «<довести его> до беспредметности, это означает очищение экрана от натурно-агитационной агитформы, и тогда по-настоящему повалится на его голову все, что только будет под руками у критиков и стрелочников Изо».
(8) Смысл фразы Малевича искажен в журнале. Привожу весь абзац по оригиналу: «Итак, каждый режиссер в своей картине стремится передать не форму как таковую, не свет как таковой, не живопись как таковую, не искусство как таковое вообще. 'Он прежде всего свет пользует как техническое орудие для выявления психологического поведения человека, окруженного разными обстоятельствами взвинченного состояния и расстроенного последними.
Геройство, милосердие, справедливость, страдания и т. д. Литература не из букв, а с людей. Как это все похоже на старых живописцев».
(9) В «Киножурнале А.Р.К.», М., 1925, № 8, с. 3, помещен кадр из фильма «Черное сердце» (здесь под названием «За черное сердце») режиссера Ч. Сабинского. Кадр из того же фильма воспроизведен и в № 10, с. 9.
(10) Статья Малевича сопровождалась иллюстрацией под названием «Немецкая живопись 60-х годов».
(11) В «Киножурнале А.Р.К.», М., 1926, № 8, с. 4, был воспроизведен кадр из фильма «Крест и маузер» (режиссер В. Р. Гардин).
(12) Имеется в виду картина Н. А. Касаткина «Соперницы» (1890, Гос. Третьяковская галерея).
(13) Имеется в виду картина И. Е. Репина «Не ждали» (1884, Гос. Третьяковская галерея).
(14) «1905 год» – название предполагаемого фильма С. М. Эйзенштейна, из работы над которым вырос знаменитый «Броненосец „Потемкин“». Сцена забастовки в похоронном бюро не вошла в фильм «Броненосец „Потемкин“». Кадр «Забастовка в похоронном бюро» был воспроизведен в «Киножурнале А.Р.К.», М., 1925, № 8, с. 7.
(15) В «Киножурнале А.Р.К.», М., 1925, № 8, с. 10 был помещен типажный фотоснимок под названием «Тип крестьянина».
(16) В статье Арватова: «…кроме Агит-Кино и Кино-Глаза необходимо еще одно киноискусство – экспериментальное кино. К воздействию и показу надо присоединить быто-пересоздающее демонстрирование, своего рода пропущенную через кино-монтаж лабораторию новых, сейчас изобретаемых форм (костюм, архитектура, мебель, жест и т. д.)» (указ. соч., с. 4)
Художник и кино*
Статья опубликована в «Киножурнале А.Р.К.», М., 1926, № 2, с. 15–17. Под заголовком было помещено примечание редакции журнала: «С рядом положений автора – в частности, в вопросе об „абстрактном искусстве“ – редакция не согласна».
(1) Имеется в виду фильм «Доротти Вернон» («Рифы жизни»), 1924, режиссер Маршалл Нейман, в главной роли Мэри Пикфорд.
(2) Кинофильм «Закройщик из Торжка», 1925, режиссер Я. А. Протазанов.
(3) ГТК – Государственный техникум кинематографии, преобразованный в 1925 году из 1-й Госкиношколы.
Живописные законы в проблемах кино*
Статья с редакционной пометкой «Дискуссионная» опубликована в журнале «Кино и культура», М., 1929, № 7–8, с. 22–26. В журнале ошибочно указан первый инициал Малевича («В. Малевич»). В конце статьи было помещено примечание: «Редакция, не разделяя взглядов т. Малевича по отдельным вопросам, находит, что поднимаемая автором проблема использования законов живописи и кино заслуживает пристального внимания, и ей следует посвятить время и силы, чтобы знать, в какой мере живопись применима в кино».
Статья ранее не переиздавалась.
(1) Маковский – имеется в виду скорее всего В. Е. Маковский (1846–1920), живописец, один из организаторов Товарищества передвижных художественных выставок, с 1894 года вошедший в Академию художеств. Творчество В. Е. Маковского, равно как и его родного брата, живописца К. Е. Маковского (1839–1915), в глазах русских авангардистов обладало хрестоматийными чертами конъюнктурного натуралистически-академического искусства.
(2) Монти Бенкс – известный комедийный актер американского кино, исполнитель головоломных трюков. В 1920-е годы в СССР большой популярностью пользовались фильмы, где Монти Бенкс исполнял главные роли («Автомобиль 1913», «Гонщик против воли», «Подкова счастья», «Настоящий джентльмен» и др.).
(3) Фильмы Дзиги Вертова «Одиннадцатый» (1928) и «Человек с киноаппаратом» (1929).
(4) В журнале ошибка – «Мелер» вместо «Моклер». Моклер Камилл (1872–1945), французский писатель и критик, автор многочисленных статей и книг по истории французского искусства второй половины Х1Х – первых десятилетий XX века. Творчеству постимпрессионистов Моклер давал негативные оценки. Его статьи публиковались в российских журналах, а в 1908 году в Москве вышел русский перевод книги Моклера «Импрессионизм. Его история, его эстетика, его мастера».
(5) Данная статья Малевича сопровождалась двумя иллюстрациями с подписями: «Из фильма „Одиннадцатый“ Дзиги Вертова» (с. 23) и «Абстрактное движение» (с. 24).
(6) В этих пророческих словах Малевича была предсказана дальнейшая судьба Дзиги Вертова, обвиненного в формализме и вытесненного из советского документального кинематографа (признание к выдающемуся мастеру кинодокументалистики пришло после его смерти).
(7) Речь идет о фильме немецкого режиссера Э. Руттмана «Берлин. Симфония большого города» (1927).
Письмо в редакцию*
Опубликовано в журнале «Современная архитектура», М., 1928, № 5, с. 157–159.
«Письмо в редакцию» и следующая за ним статья Малевича «Форма, цвет и ощущение» были помещены в «Дискуссионном отделе» журнала и, по мысли редакции, развивали (хоть и совсем в другом – формальном – аспекте) дискуссию о современной архитектуре, начало которой было положено статьей архитектора-теоретика Р. Я. Хигера «К вопросу об идеологии конструктивизма в современной архитектуре» (Современная архитектура, 1928, № 3, с. 92–102).
В рамках той же дискуссии в журнале была помещена статья И. В. Клюна «Кубизм как живописный метод» (Современная архитектура, 1928, № 6, с. 194–199).
Идеи новой архитектуры, провозглашенные Малевичем в ряде статей 1918 года, затем были развиты в трудах витебского периода. Концепция новой архитектуры, источником своим имевшая супрематическую живопись и построенная на динамике элементарных геометрических объемов, зародилась в Витебске и была, по сути дела, плодом коллективного творчества Уновиса во главе с Малевичем. В середине 1920-х годов инициатор супрематизма приступил к разработке оригинальных скульптурно-архитектурных моделей, получивших наименование «архитектонов». Сообразно своей архитектурно-пластической природе, архитектоны имели полифункциональное назначение: они могли служить моделями-проектами архитектурных сооружений, могли найти применение в архитектурном дизайне интерьеров, а также могли быть использованы в монументально-декоративном синтезе. С осени 1925 года в Гинхуке открылась лаборатория супрематической архитектуры, возглавляемая одним из наиболее последовательных и талантливых учеников Малевича, Н. М. Суетиным. Малевичевский объемно-пространственный супрематизм, ведущий к новой супрематической архитектуре – «супрематическому ордеру», – продолжил развитие общих утопических концепций русского авангарда в новых социально-политических условиях.
Архитектурные идеи Малевича оказали большое влияние на формирование новых пространственных идей в отечественной архитектуре и дизайне. Этим и было вызвано приглашение художника в члены редакционной коллегии «Современной архитектуры». Журнал СА – так сокращенно называли это издание – выходил в 1926–1930 годах и являлся органом Объединения современных архитекторов (ОСА), т. е. группировки архитекторов-конструктивистов. Он редактировался М. Я. Гинзбургом и А. А. Весниным, в редакционную коллегию входили также М. О. Барщ, А. К. Буров, Г. Г. Вегман, В. А. Веснин, Вяч. Владимиров, А. М. Ган, И. И. Леонидов, А. С. Никольский, П. И. Новицкий, Г. М. Орлов, А. Л. Пастернак, И. Н. Соболев. В ответ на приглашение Малевич отправил письмо: его публикацию редакция СА снабдила своим комментарием, в котором был подчеркнут принципиальный характер расхождений супрематиста и конструктивистов: «Что Малевич теолог, мистик и эклектически мыслящий художник, здесь можно не говорить. Сам автор статьи достаточно ясно это доказывает. Слово „ощущение“ склоняется им на протяжении всей статьи во многих падежах, с целым рядом прилагательных. Можно подумать, что Казимир Малевич придерживается философии Шопенгауэра. Но когда вычитаешь, что „мир как ощущение составляет неизменные явления, в силу чего возникает гармония беспредметного мира“, – убеждаешься, что ветер дует не оттуда.
Если исходить из того, из чего исходят все ученые естествоиспытатели и марксисты, – что ощущения составляют основу жизни сознания и являются одним из свойств движущейся материи, что ощущения есть отображение вещей, а не вещи есть символы наших ощущений, – то на „философских“ и „научных“ обоснованиях Малевича никаких серьезных основ живописной теории не построишь.
Как основоположник супрематизма понимает конструктивизм и относится к нему, видно из его письма, направленного в редакцию СА.
Редакция печатает это письмо полностью, несмотря на то, что некоторые места его совершенно непонятны» (Современная архитектура, М., 1928, № 5, с. 156).
Круг проблем, связанных с методами внедрения супрематизма в архитектуру, рассмотрен в изд.: Shadowa Larissa A. Suche und Experiment. Russische und Sowjetische Kunst 1910 bis 1930. Dresden: VEB Verlag der Kunst, 1978.
(1) Полотна третьей стадии супрематизма, «белое на белом», были созданы не ранее середины 1918 года и впервые появились на X Государственной выставке «Беспредметное творчество и супрематизм» (Москва, апрель 1919 года).
(2) На «Последней футуристической выставке картин „0,10“ (ноль-десять)» в 1915 году было показано полотно, сопрягавшее плоскостную (четырехугольник) и объемную (параллелепипед-брусок) супрематические формы; это полотно не сохранилось, но оно отчетливо видно на фотографии малевичевской экспозиции (см. наст. изд., с. 28). Выход супрематических элементов в объем, произведенный сначала в лаборатории станковых картин и рисунков-проектов, а затем получивший развитие в реальном объеме архитектонов, справедливо расценивался Малевичем как зарождение концепций супрематической архитектуры.
(3) Публикация сопровождалась рисунком Малевича (см. наст. изд., с. 309).
(4) В журнале «Современная архитектура», М., 1927, № 3, с. 104–106, была помещена «Справка о Казимире Малевиче», написанная А. Ганом. Ее сопровождали иллюстрации с подписями: «Казимир Малевич. Ленинград. Супрематические архитектоны α и β. Модель α приобретена для Русского музея в Ленинграде».
Нужно отметить, что архитектон «Альфа» чуть ли не единственный сохранившийся оригинальный архитектон Малевича; остальные были утрачены и ныне восстанавливаются по уцелевшим фрагментам, по документальным данным и фотографическим воспроизведениям.
(5) Принципы супрематизма в архитектуре были изложены в статье Малевича, появившейся в Германии в 1927 году; см.: Malewitsch K. Suprematische Architectur // Wasmuths Monatshefte fur Baukunst, 1927, no 10. S. 412–414. В третьем номере того же немецкого журнала за 1928 год было помещено письмо художника, см.: Zuschrift von K. Malewitsch // Wasmuths Monatshefte für Baukunst, 1928, no 3. S. 169–170.
Из строк настоящего письма явствует, что и в дальнейшем в этом же году предполагалась зарубежная публикация текста, в котором Малевич анализировал проблемы современной архитектуры, – однако она не была осуществлена.
Форма, цвет и ощущение*
Статья опубликована в журнале «Современная архитектура», М., 1928, № 5, с. 157–159. Помещена вслед за «Письмом в редакцию» в «Дискуссионном отделе» журнала.
Положения и выводы статьи базировались на научно-исследовательской работе, проводимой Малевичем и его единомышленниками в Гинхуке, затем в комитете экспериментального изучения художественной культуры Государственного института истории искусства (1927–1929).
(1) Над теорией прибавочного элемента в живописи Малевич начал работу в Витебске; экспериментальному обоснованию этой теории была посвящена деятельность и самого Малевича, и сотрудников отдела живописной культуры (или формально-теоретического отдела) в Гинхуке, которым он руководил. В результате проведенных исследований Малевичем был написан теоретический трактат «Введение в теорию прибавочного элемента в живопись», который должен был появиться в 1925/26 году в сборнике научных трудов Гинхука. Гранки статьи из уничтоженного сборника хранятся в архиве Малевича в Стейделик Музеуме, Амстердам (инв. № 24). Трактат опубликован в переводах на английский и французский языки. По-русски переиздан факсимильно в изданиях: Kasimir Malewitsch. Die gegenstandslose Welt. Mainz: Florian Kupferberg Verlag, 1980; Kazimir Malevics. A tárgynélkuli világ. Budapeszt: Corvina Kiady, 1986. P. 103–160.
(2) Освальд – Оствальд Вильгельм (1853–1932) – немецкий ученый-физхимик, разрабатывавший научную теорию цвета и цветовых сочетаний в разнообразных сферах человеческой деятельности. В СССР была издана его книга: Оствальд В. Цветоведение. М. – Л.: Промиздат, 1926. Фамилия Оствальда в те годы нередко транскрибировалась по-русски как «Освальд».
(3) Судя по воспроизведению «Автопортрета» Сезанна в таблицах, составленных под руководством Малевича в Гинхуке и озаглавленных «Исследование живописной культуры как формы поведения художника», Малевич имел в виду сезанновский «Автопортрет» (1880-е годы) из собрания С. И. Щукина, находящийся ныне в ГМИИ. О данных таблицах см.: Линда С. Бурсма. Об искусстве, художественном анализе и преподавании искусства: теоретические таблицы Казимира Малевича // Казимир Малевич. 1878–1935 Каталог выставки. Ленинград. Амстердам, Москва. 1988–1989. С. 206–224, илл. 50–54.
Примечания
(1) футуризм – будущее. Слово Италии – течение искусства возникло в Италии в поэзии и живописи; самой главной задачей есть передача скорости нашего современного века, динамика движения; представители: поэт Маринетти, художники Пикабиа и Сифичи7 и друг<ие>. Оба эти течения перекинулись в Россию. В 1908 году был целый ряд выставок и лекций, вызывавших большую травлю всех критиков газет8. Самыми яркими представителями нашего движения в творчестве сначало общ<ество> худож<-ников> Бубновый Валет9, худ<ожники> Машков, Кончаловский, Куприн, Фальк. Дальше группа худож<ни-ков> Москвы Ларионов, Гончарова, Зданев<ич>, Магазин10, выставка кубизма и футуризма11, группа ху-дож<ников> Татлин, Удалец [Удальцова], Родченко, Попова, Экстер и др<угие>.
(2) Кубизм – художественное направление, возникшее во Франции. Самыми яркими представителями кубизма являются худ<ожники> Пикассо, Брак, Леже. Кубизм обозначает, что предмет, вписанный в объеме в кубе, т. е. представлен полнее, чем видит глаз.
(3) Супрематизм, т. е. первенство или господство одних живописных начал над вещью, вещь не трактуется, беспредметное творчество, создан в России. В 1913 году супрематизм был представлен на выставке «0,10» в Петрограде и Москве12. Представителями супрематизма являются: Малевич, Клюн, Давыдова, Розанова, Меньков, Юркевич, Удальцова, Попова и др<угие>13.
(4) Походный ящик художника для работ на открытом воздухе.
(5) Спектр – цветное изображение от луча света, проходящего через прозрачную призму. Солнечный свет представляет собою как бы сложное соединение нескольких различно окрашенных лучей: белые солнечные лучи состоят из семи простых лучей: красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, фиолетового. Призма преломляет эти лучи, отклоняя их от первоначального направления. При этом равные лучи отклоняются на равные углы – красные всего меньше, а фиолетовые – всего больше. В природе естественный пример – радуга, получаемая вследствие разложения через дождевые капли.
(6) Кубизм – выражение предмета в более полном состоянии – в кубе. Кубисты пишут предмет не только как видят глаза, но как еще знает художник. Например, рисуя самовар, мы знаем, что внутри самовара есть решетка и труба. Этот первый шаг кубизма далее заменяется просто композицией.
(7) Кубизм – см. № 75 «Анархии», отд<ел> «Творчество».
(8) Футуризм – будущее. Так названо было новое направление искусства в Италии поэтом Маринетти.
(9) Супрематизм – первенство цвета над вещью. Супрематизм создан в России. Родоначальник его художник Малевич, см. его брошюру «Кубизм, футуризм и супрематизм»6.
(10) Импрессионизм – французское течение в живописи: передача впечатления в картине.
(11) Академия – высшее казенное художественное училище, где преследуется всякое новое течение и где требуют от учащихся работы, которая соответствовала бы только старому.
(12) Тугендхольд, Мережковский, Бенуа – реакционеры и хулители новых течений. Сперанский и Коган – невежды как в вопросах искусства, так и в новых дерзаниях творчества.
(13) Лекция Н. Пунина «Тупик супрематизма», прочитанная 29 апр<еля> в Музее Художественной Культуры.
(14) «Ликуют» – нужно понимать: делают, пишут.
