
Цель настоящего третьего по счету полного собрания сочинений – дать научно выверенный текст произведений Маяковского. В основу издания положено десятитомное прижизненное собрание (восемь томов были подготовлены к печати самим поэтом). В отношении остальных произведений принимается за основу последняя прижизненная публикация.
В пятый том входят стихотворения 1923 года.
В данной электронной редакции опущен раздел «Варианты и разночтения».
Владимир Владимирович Маяковский
Полное собрание сочинений в тринадцати томах
Том 5. Стихотворения 1923

В. Маяковский. Фото. 1923.
Стихотворения, март – декабрь 1923
Газетный день*
Рабочий
утром
глазеет в газету.
Думает:
«Нам бы работёшку эту!
Дело тихое, и нету чище.
Не то что по кузницам отмахивать ручища.
Сиди себе в редакции в беленькой сорочке –
и гони строчки.
Нагнал,
расставил запятые да точки,
подписался,
под подпись закорючку,
и готово:
строчки растут как цветочки.
Ручки в брючки,
в стол ручку,
получил построчные –
и, ленивой ивой
склоняясь над кружкой,
дуй пиво».
В искоренение вредного убежденья
вынужден описать газетный день я.
Как будто*
весь народ,
который
не поместился под башню Сухареву, –
пришел торговаться в редакционные коридоры.
Тыщи!
Во весь дух ревут.
«Где объявления?
Потеряла собачку я!»
Голосит дамочка, слезками пачкаясь.
«Караул!»
Отчаянные вопли прореяли.
«Миллиард?
С покойничка?
За строку нонпарели?»
Завжилотдел.
Не глаза – жжение.
Каждому сует какие-то опровержения.
Кто-то крестится.
Клянется крещеным лбом:
«Это я – настоящий Бим-Бом!»*
Все стены уставлены какими-то дядьями.
Стоят кариатидами по стенкам голым.
Это «начинающие».
Помахивая статьями,
по дороге к редактору стоят частоколом.
Два.
Редактор вплывает барином.
В два с четвертью
из барина,
как из пристяжной,
умученной выездом парным, –
паром вздымается испарина.
Через минуту
из кабинета редакторского рёв:
то ручкой по папке,
то по столу бац ею.
Это редактор,
собрав бухгалтеров,
потеет над самоокупацией*.
У редактора к передовице лежит сердце.
Забудь!
Про сальдо язычишкой треплет.
У редактора –
аж волос вылазит от коммерции,
лепечет редактор про «кредит и дебет».
Пока редактор завхоза ест –
раз сто телефон вгрызается лаем.
Это ставку учетверяет Мострест.
И еще грозится:
«Удесятерю в мае».
Наконец, освободился.
Минуточек лишка…
Врывается начинающий.
Попробуй – выставь!
«Прочтите немедля!
Замечательная статьишка»,
а в статьишке –
листов триста!
Начинающего унимают диалектикой нечеловечьей.
Хроникер врывается:
«Там,
в Замоскворечьи, –
выловлен из Москвы-реки –
живой гиппопотам!»
Из РОСТА
на редактора
начинает литься
сенсация за сенсацией,
за небылицей небылица.
Нет у РОСТА лучшей радости,
чем всучить редактору невероятнейшей гадости.
Извергая старательность, как Везувий и Этна,
курьер врывается.
«К редактору!
Лично!»
В пакете
с надписью:
– Совершенно секретно –
повестка
на прошлогоднее заседание публичное.
Затем курьер,
красный, как малина,
от НКИД.
Кроет рьяно.
Передовик
президента Чжан Цзо-лина*
спутал с гаоляном*.
Наконец, библиограф!
Что бешеный вол.
Машет книжкой.
Выражается резко.
Получил на рецензию
юрист –
хохол –
учебник гинекологии
на древнееврейском!
Вокруг
за столами
или перьев скрежет,
или ножницы скрипят:
писателей режут.
Секретарь
у фельетониста,
пропотевшего до сорочки,
делает из пятисот –
полторы строчки.
Под утро стихает редакционный раж.
Редактор в восторге.
Уехал.
Улажено.
Но тут…
Самогоном упился метранпаж*,
лишь свистят под ротационкой ноздри метранпажины.
Спит редактор.
Снится: Мострест
так высоко взвинтил ставки –
что на колокольню Ивана Великого влез
и хохочет с колокольной главки.
Просыпается.
До утра проспал без про́сыпа.
Ручонки дрожат.
Газету откроют.
Ужас!
Не газета, а оспа.
Шрифт по статьям расплылся икрою.
Из всей газеты,
как из моря риф,
выглядывает лишь –
парочка чьих-то рифм.
Вид у редактора…
такой вид его,
что видно сразу –
нечему завидовать.
Если встретите человека белее мела,
худющего,
худей, чем газетный лист, –
умозаключайте смело:
или редактор
или журналист.
[1923]
Когда голод грыз прошлое лето, что делала власть Советов?*
Все знают:*
в страшный год,
когда
народ (и скот оголодавший) дох,
и ВЦИК
и Совнарком
скликали города,
помочь старались из последних крох.
Когда жевали дети глины ком,
когда навоз и куст пошли на пищу люду,
крестьяне знают –
каждый исполком
давал крестьянам хлеб,
полям давал семссуду.
Когда ж совсем невмоготу пришлось Поволжью –*
советским ВЦИКом был декрет по храмам дан:
– Чтоб возвратили золото чинуши божьи,
на храм помещиками собранное с крестьян. –
И ныне:
Волга ест,
в полях пасется скот.
Так власть,
в гербе которой «серп и молот»,
боролась за крестьянство в самый тяжкий год
и победила голод.
Когда мы побеждали голодное лихо, что делал патриарх Тихон?*
«Мы не можем дозволить изъятие из храмов».
Тихон патриарх,
прикрывши пузо рясой,
звонил в колокола по сытым городам,
ростовщиком над золотыми трясся:
«Пускай, мол, мрут,
а злата –
не отдам!»
Чесала языком их патриаршья милость,
и под его христолюбивый звон
на Волге дох народ,
и кровь рекою ли́лась –
из помутившихся
на паперть и амвон.
Осиротевшие в голодных битвах ярых!
Родных погибших вспоминая лица,
знайте:
Тихон
патриарх
благословлял убийцу.
За это
власть Советов,
вами избранные люди, –
господина Тихона судят.
[1923]
О патриархе Тихоне. Почему суд над милостью ихней?*
Известно:
царь, урядник да поп
друзьями были от рожденья по гроб.
Урядник, как известно,
наблюдал за чистотой телесной.
Смотрел, чтоб мужик комолый
с голодухи не занялся крамолой,
чтобы водку дул,
чтобы шапку гнул.
Чуть что:
– Попрошу-с лечь… –
и пошел сечь!
Крестьянскую спину разукрасили влоск.
Аж в российских лесах не осталось розг.
А поп, как известно (урядник духовный),
наблюдал за крестьянской душой греховной.
Каркали с амвонов попы-во́роны:
– Расти, мол, народ царелюбивый и покорный! –
Этому же и в школе обучались дети:
«Законом божьим» назывались глупости эти.
Учил поп, чтоб исповедывались часто.
Крестьянин поисповедуется,
а поп –
в участок.
Закрывшись ряской, уряднику шепчет:
– Иванов накрамолил –
дуй его крепче! –
И шел по деревне гул
от сворачиваемых крестьянских скул.
Приведут деревню в надлежащий вид,
кончат драть ее –
поп опять с амвона голосит:
– Мир вам, братие! –
Даже в царство небесное провожая с воем,
покойничка вели под поповским конвоем.
Радовался царь.
Благодарен очень им –
то орденом пожалует,
то крестом раззолоченным.
Под свист розги,
под поповское пение,
рабом жила российская паства.
Это называлось: единение.
церкви и государства.
Царь российский, финляндский, польский,*
и прочая, и прочая, и прочая –
лежит где-то в Екатеринбурге или Тобольске:
попал под пули рабочие.
Революция и по урядникам
прошла, как лиса по курятникам.
Только поп
все еще смотрит, чтоб крестили лоб.
На невежестве держалось Николаево царство,
а за нас нечего поклоны класть.
Церковь от государства
отделила рабоче-крестьянская власть.
Что ж,
если есть еще дураки несчастные,
молитесь себе на здоровье!
Ваше дело –
частное.
Говоря короче,
денег не дадим, чтоб люд морочить.
Что ж попы?
Смирились тихо?
Власть, мол, от бога?
Наоборот.
Зовет патриарх Тихон*
на власть Советов восстать народ.
За границу Тихон протягивает ручку
зовет назад белогвардейскую кучку.
Его святейшеству надо,
чтоб шли от царя рубли да награда.
Чтоб около помещика-вора
кормилась и поповская свора.
Шалишь, отец патриарше, –
никому не отдадим свободы нашей!
За это
власть Советов,
вами избранные люди,
за это –
патриарха Тихона судят.
[1923]
Мы не верим!*
Тенью истемня весенний день,
выклеен правительственный бюллетень*.
Нет!
Не надо!
Разве молнии велишь
не литься?
Нет!
не оковать язык грозы!
Вечно будет
тысячестраницый
грохотать
набатный
ленинский язык.
Разве гром бывает немотою болен?!
Разве сдержишь смерч,
чтоб вихрем не кипел?!
Нет!
не ослабеет ленинская воля
в миллионосильной воле РКП.
Разве жар
такой
термометрами меряется?!
Разве пульс
такой
секундами гудит?!
Вечно будет ленинское сердце
клокотать
у революции в груди.
Нет!
Нет!
Не-е-т…
Не хотим,
не верим в белый бюллетень.
С глаз весенних
сгинь, навязчивая тень!
[1923]
Тресты*
В Москве
редкое место –
без вывески того или иного треста.
Сто очков любому вперед дадут –
у кого семейное счастье худо.
Тресты живут в любви,
в ладу
и супружески строятся друг против друга.
Говорят:
меж трестами неурядицы. –
Ложь!
Треста
с трестом
водой не разольешь.
На одной улице в Москве
есть
(а может нет)
такое место:
стоит себе тихо «хвостотрест»,
а напротив –
вывеска «копытотреста».
Меж трестами
через улицу,
в служении лют,
весь день суетится чиновный люд.
Я теперь хозяйством обзавожусь немножко.
(Купил уже вилки и ложки.)
Только вот что:
беспокоит всякая крошка.
После обеда
на клеенке –
сплошные крошки.
Решил купить,
так или ина́че,
для смахивания крошек
хвост телячий.
Я не спекулянт –
из поэтического теста.
С достоинством влазю в дверь «хвостотреста».
Народищу – уйма.
Просто неописуемо.
Стоят и сидят
толпами и гущами.
Хлопают и хлопают дверные створки.
Коридор –
до того забит торгующими,
что его
не прочистишь цистерной касторки.
Отчаявшись пробиться без указующих фраз,
спрашиваю:
– Где здесь на хвосты ордера? –
У вопрошаемого
удивление на морде.
– Хотите, – говорит, – на копыто ордер? –
Я к другому –
невозмутимо, как день вешний:
– Где здесь хвостики?
– Извините, – говорит, – я не здешний. –
Подхожу к третьему
(интеллигентный быдто) –
а он и не слушает:
– Угодно-с копыто?
– Да ну вас с вашими копытами к маме,
подать мне сюда заведующего хвостами! –
Врываюсь в канцелярию:
пусто, как в пустыне,
только чей-то чай на столике стынет.
Под вывеской –
«без доклада не лезьте»
читаю:
«Заведующий принимает в «копытотресте». –
Взбесился.
Выбежал.
Во весь рот
гаркнул:
– Где из «хвостотреста» народ? –
Сразу завопило человек двести:
– Не знает.
Бедненький!
Они посредничают в «копытотресте»,
а мы в «хвостотресте»,
по копыту посредники.
Если вам по хвостам –
идите туда:
они там.
Перейдите напротив
– тут мелко –
спросите заведующего
и готово – сделка.
Хвост через улицу перепрут рысью
только 100 процентов с хвоста –
за комиссию. –
Я
способ прекрасный для борьбы им выискал:
как-нибудь
в единый мах –
с треста на трест перевесить вывески,
и готово:
все на своих местах.
А чтоб те или иные мошенники
с треста на трест не перелетали птичкой,
посредников на цепочки,
к цепочке ошейники,
а на ошейнике –
фамилия
и трестова кличка.
[1923]
Строки охальные про вакханалии пасхальные*
Известно:
буржуй вовсю жрет.
Ежедневно по поросенку заправляет в рот.
А надоест свиней в животе пасти –
решает:
– Хорошо б попостить! –
Подают ему к обеду да к ужину
то осетринищу,
то севрюжину.
Попостит –
и снова аппетит является:
буржуй разговляется.
Ублажается куличами башенными
вперекладку с яйцами крашеными.
А в заключение –
шампанский тост:
– Да здравствует, мол, господин Христос! –
А у пролетария стоял столетний пост.
Ел всю жизнь селедкин хвост.
А если и теперь пролетарий говеет –
от говений от этих старьем веет.
Чем ждать Христов в посте и вере –
религиозную рухлядь отбрось гневно
да так заработай –
чтоб по крайней мере
разговляться ежедневно.
Мораль для пролетариев выведу любезно:
Не дело говеть бедным.
Если уж и буржую говеть бесполезно,
то пролетарию –
просто вредно.
[1923]
Крестьянин, – помни о 17-м апреля!*
Об этом весть
до старости древней
храните, села,
храните, деревни.
Далёко,
на Лене,
забитый в рудник,
рабочий –
над жилами золота ник.
На всех бы хватило –
червонцев немало.
Но всё
фабриканта рука отнимала.
И вот,
для борьбы с их уловкою ловкой
рабочий
на вора пошел забастовкой.
Но стачку
царь
не спускает даром,
над снегом
встал
за жандармом жандарм.
И кровь
по снегам потекла,
по белым, –
жандармы
рабочих
смирили расстрелом.
Легли
и не встали рабочие тыщи.
Легли,
и могилы легших не сыщешь.
Пальбу разнесло,
по тундрам разухало.
Но искра восстанья
в сердцах
не потухла.
От искорки той,
от мерцанья старого
заря сегодня –
Октябрьское зарево.
Крестьяне забыли помещичьи плены.
Кто первый восстал?
Рабочие Лены!
Мы сами хозяева земли деревенской.
Кто первый восстал?
Рабочий ленский!
Царя прогнали.
Порфиру в клочья.
Кто первый?
Ленские встали рабочие!
Рабочий за нас,
а мы –
за рабочего.
Лишь этот союз –
республик почва.
Деревня!
В такие великие дни
теснее ряды с городами сомкни!
Мы шли
и идем
с богатеями в бой –
одною дорогой,
одною судьбой.
Бей и разруху,
как бил по барам, –
двойным,
воедино слитым ударом!
[1923]
17 апреля*
Мы
о царском плене
забыли за 5 лет.
Но тех,
за нас убитых на Лене,
никогда не забудем.
Нет!
Россия вздрогнула от гнева злобного,
когда
через тайгу
до нас
от ленского места лобного –
донесся расстрела гул.
Легли,
легли Октября буревестники,
глядели Сибири снега:
их,
безоружных,
под пуль песенки
топтала жандарма нога.
И когда
фабрикантище ловкий
золотые
горстьми загребал,
липла
с каждой
с пятирублевки
кровь
упрятанных тундрам в гроба.
Но напрасно старался Терещенко*
смыть
восставших
с лица рудника.
Эти
первые в троне трещинки
не залижет никто.
Никак.
Разгуделась весть о расстреле,
и до нынче
гудит заряд,
по российскому небу растре́лясь,
Октябрем разгорелась заря.
Нынче
с золота смыты пятна.
Наши
тыщи сияющих жил.
Наше золото.
Взяли обратно.
Приказали:
– Рабочим служи! –
Мы
сомкнулись красными ротами.
Быстра шагов краснофлагих гряда.
Никакой не посмеет ротмистр
сыпать пули по нашим рядам.
Нынче
течем мы.
Красная лава.
Песня над лавой
свободная пенится.
Первая
наша
благодарная слава
вам, Ленцы!
[1923]
Наше воскресенье*
Еще старухи молятся,
в богомольном изгорбясь иге,
но уже
шаги комсомольцев
гремят о новой религии.
О религии,
в которой
нам
не бог начертал бег,
а, взгудев электромоторы,
миром правит сам
человек.
Не будут
вперекор умам
дебоширить ведьмы и Вии* –
будут
даже грома́
на учете тяжелой индустрии.
Не господу-богу
сквозь воздух
разгонять
солнечный скат.
Мы сдадим
и луны,
и звезды
в Главсиликат.
И не будут,
уму в срам,
люди
от неба зависеть –
мы ввинтим
лампы «Осрам»
небу
в звездные выси.
Не нам
писанья священные
изучать
из-под попьей палки.
Мы земле
дадим освящение
лучом космографий
и алгебр.
Вырывай у бога вожжи!
Что морочить мир чудесами!
Человечьи законы
– не божьи! –
на земле
установим сами.
Мы
не в церковке,
тесной и грязненькой,
будем кукситься в праздники наши.
Мы
свои установим праздники
и распразднуем в грозном марше.
Не святить нам столы усеянные.
Не творить жратвы обряд.
Коммунистов воскресенье –
25-е октября.
В этот день
в рост весь
меж
буржуазной паники
раб рабочий воскрес,
воскрес
и встал на́ ноги.
Постоял,
посмотрел
и пошел,
всех религий развея ига.
Только вьется красный шелк,
да в руке
сияет книга.
Пусть их,
свернувшись в кольца,
бьют церквами поклон старухи.
Шагайте,
да так,
комсомольцы,
чтоб у неба звенело в ухе!
[1923]
Весенний вопрос*
Страшное у меня горе.
Вероятно –
лишусь сна.
Вы понимаете,
вскоре
в РСФСР
придет весна.
Сегодня
и завтра
и веков испокон
шатается комната –
солнца пропойца.
Невозможно работать.
Определенно обеспокоен.
А ведь откровенно говоря –
совершенно не из-за чего беспокоиться.
Если подойти серьезно –
так-то оно так.
Солнце посветит –
и пройдет мимо.
А вот попробуй –
от окна оттяни кота.
А если и животное интересуется улицей,
то мне
это –
просто необходимо.
На улицу вышел
и встал в лени я,
не в силах…
не сдвинуть с места тело.
Нет совершенно
ни малейшего представления,
что ж теперь, собственно говоря, делать?!
И за шиворот
и по носу
каплет безбожно.
Слушаешь.
Не смахиваешь.
Будто стих.
Юридически –
куда хочешь идти можно,
но фактически –
сдвинуться
никакой возможности.
Я, например,
считаюсь хорошим поэтом.
Ну, скажем,
могу
доказать:
«самогон – большое зло».*
А что про это?
Чем про это?
Ну нет совершенно никаких слов.
Например:
город советские служащие искра́пили,
приветствуй весну,
ответь салютно!
Разучились –
нечем ответить на капли.
Ну, не могут сказать –
ни слова.
Абсолютно!
Стали вот так вот –
смотрят рассеянно.
Наблюдают –
скалывают дворники лед.
Под башмаками вода.
Бассейны.
Сбоку брызжет.
Сверху льет.
Надо принять какие-то меры.
Ну, не знаю что, –
например:
выбрать день
самый синий,
и чтоб на улицах
улыбающиеся милиционеры
всем
в этот день
раздавали апельсины.
Если это дорого –
можно выбрать дешевле,
проще.
Например:
чтоб старики,
безработные,
неучащаяся детвора
в 12 часов
ежедневно
собирались на Советской
площади,
троекратно кричали б:
ура!
ура!
ура!
Ведь все другие вопросы
более или менее ясны́.
И относительно хлеба ясно,
и относительно мира ведь.
Но этот
кардинальный вопрос
относительно весны
нужно
во что бы то ни стало
теперь же урегулировать.
[1923]
Не для нас поповские праздники*
Пусть богу старухи молятся.
Молодым –
не след по церквам.
Эй,
молодежь!
Комсомольцы
призывом летят к вам.
Что толку справлять рождество?
Елка –
дурням только.
Поставят елкин ствол
и топочут вокруг польки.
Коммунистово рождество –
день Парижской Коммуны.
В нем родилась,
и со дня с того
Коммунизм растет юный.
Кровь,
что тогда лилась
Парижем
и грязью предместий,
Октябрем разгорелась,
разбурлясь рабочей местью.
Мы вызнали правду книг.
Книга –
невежд лекарь.
Ни земных,
ни небесных иг
не допустим к спине человека.
Чем кадилами вить кольца,
богов небывших чествуя,
мы
в рождестве комсомольца
повели безбожные шествия*.
Теперь
воскресенье Христово,
попом сочиненная пасха.
Для буржуев
новый повод
осушить с полдюжины насухо.
Куличи
– в человечий рост –
уставят столы Титов.
Это Титы придумали пост:
подогревание аппетитов.
Пусть балуется Тит постом.
Наш ответ – прост.
Мы постили лет сто.
Нам нужен хлеб,
а не пост.
Хлеб не лезет в рот.
Должны добыть сами.
Поп врет
о насыщении чудесами.
Не нам поп – няня.
Христу отставку вручи́те.
Наш наставник – знание,
книга –
наш учитель.
Отбрось суеверий сеянье.
Отбрось религий обряд.
Коммуны воскресенье –
25 октября.
Наше место не в церкви грязненькой.
На улицы!
Плакат в руку!
Над верой
в наши праздники
огнем рассияй науку.
[1923]
Марш комсомольца*
Комсомолец –
к ноге нога!
Плечо к плечу!
Марш!
Товарищ,
тверже шагай!
Марш греми наш!
Пусть их скулит дядьё! –
Наши ряды ю́ны.
Мы
наверно войдем
в самый полдень коммуны.
Кто?
Перед чем сник?
Мысли удар дай!
Врежься в толщь книг.
Нам
нет тайн.
Со старым не кончен спор.
Горят
глаз репьи́.
Мускул
шлифуй, спорт!
Тело к борьбе крепи.
Морем букв,
числ
плавай рыбой в воде.
День – труд.
Учись!
Тыща ремесл.
Дел.
После дел всех
шаг прогулкой грохайте.
Так заливай, смех,
чтоб камень
лопался в хохоте.
Может,
конец отцу
готовит
лапа годов.
Готов взамен бойцу?
Готов.
Всегда готов!
Что глядишь вниз –
пузо
свернул в кольца?
Товарищ –
становись
рядом
в ряды комсомольцев!
Комсомолец –
к ноге нога!
Плечо к плечу!
Марш!
Товарищ,
тверже шагай!
Марш греми наш!
[1923]
Схема смеха*
Выл ветер и не знал о ком,
вселяя в сердце дрожь нам.
Путем шла баба с молоком,
шла железнодорожным.
А ровно в семь, по форме,
несясь во весь карьер с Оки,
сверкнув за семафорами, –
взлетает курьерский.
Была бы баба ранена,
зря выло сто свистков ревмя, –
но шел мужик с бараниной
и дал понять ей во́время.
Ушла направо баба,
ушел налево поезд.
Каб не мужик, тогда бы
разрезало по пояс.
Уже исчез за звезды дым,
мужик и баба скрылись.
Мы дань герою воздадим,
над буднями воскрылясь.
Хоть из народной гущи,
а спас средь бела дня.
Да здравствует торгующий
бараниной средняк!
Да светит солнце в темноте!
Горите, звезды, ночью!
Да здравствуют и те, и те –
и все иные прочие!
[1923]
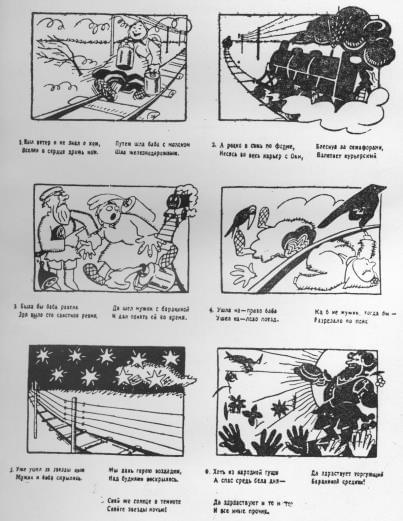
1-е мая («Свети!..»)*
Свети!
Вовсю, небес солнцеглазье!
Долой –
толпу облаков белоручек!
Радуйтесь, звезды, на митинг вылазя!
Рассейтесь буржуями, тучные тучи!
Особенно люди.
Рабочий особенно.
Вылазь!
Сюда из теми подваловой!
Что стал?
Чего глядишь исподлобленно?!
Иди!
Подходи!
Вливайся!
Подваливай!
Манометры мозга!
Сегодня
меряйте,
сегодня
считайте, сердечные счетчики, –
разветривается ль восточный ветер?!
Вбирает ли смерч рабочих точки?!
Иди, прокопчённый!
Иди, просмолённый!
Иди!
Чего стоишь одинок?!
Сегодня
150 000 000
шагнули –
300 000 000 ног.
Пой!
Шагай!
Границы провалятся!
Лавой распетой
на старое ляг!
1 500 000 000 пальцев,
крепче,
выше маковый флаг!
Пение вспень!
Расцепи цепенение!
Смотри –
отсюда,
видишь –
тут –
12 000 000 000 сердцебиений –
с вами,
за вас –
в любой из минут.
С нами!
Сюда!
Кругосветная масса,
э-С-э-С-э-С-э-Р ручища –
вот вам!
Вечным
единым маем размайся –
1-го Мая,
2-го
и 100-го.
[1923]
1-е мая («Поэты – народ дошлый…»)*
Поэты –
народ дошлый.
Стих?
Изволь.
Только рифмы дай им.
Не говорилось пошлостей
больше,
чем о мае.
Существительные: Мечты.
Грёзы.
Народы.
Пламя.
Цветы.
Розы.
Свободы.
Знамя.
Образы: Майскою –
сказкою.
Прилагательные: Красное.
Ясное.
Вешний.
Нездешний.
Безбрежный.
Мятежный.
Вижу –
в сандалишки рифм обуты,
под древнегреческой
образной тогой
и сегодня,
таща свои атрибуты, –
шагает бумагою
стих жидконогий.
Довольно
в люлечных рифмах нянчить –
нас,
пятилетних сынов зари.
Хоть сегодняшний
хочется
привет
переиначить.
Хотя б без размеров.
Хотя б без рифм.
1 Мая
да здравствует декабрь!
Маем
нам
еще не мягчиться.
Да здравствует мороз и Сибирь!
Мороз, ожелезнивший волю.
Каторга
камнем камер
лучше всяких вёсен
растила
леса
рук.
Ими
возносим майское знамя –
да здравствует декабрь!
1 Мая.
Долой нежность!
Да здравствует ненависть!
Ненависть миллионов к сотням,
ненависть, спаявшая солидарность.
Пролетарии!
Пулями высвисти:
– да здравствует ненависть! –
1 Мая.
Долой безрассудную пышность земли.
Долой случайность вёсен.
Да здравствует калькуляция силёнок мира
Да здравствует ум!
Ум,
из зим и осеней
умеющий
во всегда
высинить май.
Да здравствует деланье мая –
искусственный май футуристов.
Скажешь просто,
скажешь коряво –
и снова
в паре поэтических шор.
Трудно с будущим.
За край его
выдернешь –
и то хорошо.
[1923]
1-е мая («Мы! Коллектив! Человечество! Масса!..»)*
Мы!
Коллектив!
Человечество!
Масса!
Довольно маяться.
Маем размайся!
В улицы!
К ноге нога!
Всякий лед
под нами
ломайся!
Тайте
все снега!
1 мая
пусть
каждый шаг,
в булыжник ударенный,
каждое радио,
Парижам отданное,
каждая песня,
каждый стих –
трубит
международный
марш солидарности.
1 мая.
Еще
не стерто с земли
имя
последнего хозяина,
последнего господина.
Еще не в музее последний трон.
Против черных,
против белых,
против желтых
воедино –
Красный фронт!
1 мая.
Уже на трети мира
сломан лед.
Чтоб все
раскидали
зим груз,
крепите
мировой революции оплот, –
серпа,
молота союз.
Сегодня,
1-го мая,
наше знамя
над миром растя,
дружней,
плотней,
сильней смыкаем
плечи рабочих
и крестьян.
1 мая.
Мы!
Коллектив!
Человечество!
Масса!
Довольно маяться –
в мае размайся!
В улицы!
К ноге нога!
Весь лед
под нами
ломайся!
Тайте
все снега!
[1923]
Рабочий корреспондент*
Пять лет рабочие глотки поют,
века воспоет рабочих любовь –
о том,
как мерили силы
в бою –
с Антантой,
вооруженной до зубов.
Буржуазия зверела.
Вселенной мощь –
служила одной ей.
Ей –
танков непробиваемая толщь,
ей –
миллиарды франков и рублей.
И,
наконец,
карандашей,
перьев леса́
ощетиня в честь ей,
лили
тысячи буржуазных писак –
деготь на рабочих,
на буржуев елей.
Мы в гриву хлестали,
мы били в лоб,
мы плыли кровью-рекой.
Мы взяли
твердыню твердынь –
Перекоп
чуть не голой рукой.
Мы силой смирили силы свирепость.
Избита,
изгнана стая зве́рья.
Но мыслей ихних цела крепость,
стоит,
щетинит штыки-перья.
Пора последнее оружие отковать.
В руки перо берем.
Пора –
самим пером атаковать!
Пора –
самим защищаться пером.
Исписывая каракулью листов клочья,
с трудом вытягивая мыслей ленты, –
ночами скрипят корреспонденты-рабочие,
крестьяне-корреспонденты.
Мы пишем,
горесть рабочих вобрав,
нас затмит пустомелей лак ли?
Мы знаем:
миллионом грядущих правд
разрастутся наши каракули.
Враг рабочим отомстить рад.
У бюрократов –
волнение.
Сыпет
на рабочих
совбюрократ
доносы
и увольнения.
Видно, верно бьем,
видно, бить пора!
Под пером
кулак дрожит.
На мушку берет героя пера.
На героя
точит ножи.
Что ж! –
и этот нож отведем от горл.
Вновь
согнем над письмом плечища.
Пролетарский суд
кулака припер.
И директор
«Правдой» прочищен.
В дрожь вгоняя врагов рой,
трудящемуся защита дружья,
да здравствует
красное
рабочее перо –
нынешнее наше оружие!
[1923]
Универсальный ответ*
Мне
надоели ноты –
много больно пишут что-то.
Предлагаю
без лишних фраз
универсальный ответ –
всем зараз.
Если
нас
вояка тот или иной
захочет
спровоцировать войной, –
наш ответ:
нет!
А если
даже в мордобойном вопросе
руку протянут –
на конференцию, мол, просим, –
всегда
ответ:
да!
Если
держава
та или другая
ультиматумами пугает, –
наш ответ:
нет!
А если,
не пугая ультимативным видом,
просят:
– Заплатим друг другу по обидам, –
всегда
ответ:
да!
Если
концессией
или чем прочим
хотят
на шею насесть рабочим, –
наш ответ:
нет!
А если
взаимно,
вскрыв мошну тугую,
предлагают:
– Давайте
честно поторгуем! –
всегда
ответ:
да!
Если
хочется
сунуть рыло им
в то,
кого судим,
кого милуем, –
наш ответ:
нет!
Если
просто
попросят
одолжения ради –
простите такого-то –
дурак-дядя, –
всегда
ответ:
да!
Керзон*,
Пуанкаре*,
и еще кто́ там?!
Каждый из вас
пусть не поленится
и, прежде
чем испускать зряшние ноты,
прочтет
мое стихотвореньице.
[1923]
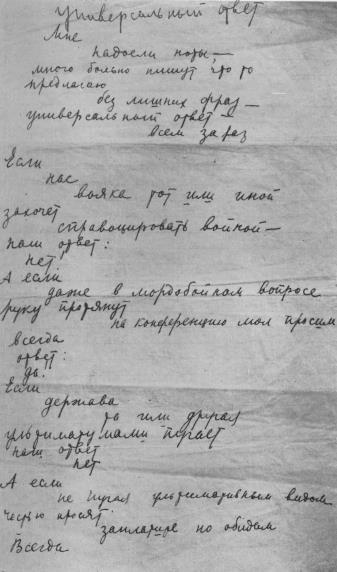
Воровский*
Сегодня,
пролетариат,
гром голосов раскуй,
забудь
о всепрощеньи-воске.
Приконченный
фашистской шайкой воровско́й,
в последний раз
Москвой
пройдет Воровский*.
Сколько не станет…
Сколько не стало…
Скольких – в клочья…
Скольких – в дым…
Где б ни сдали.
Чья б ни сдала
Мы не сдали,
мы не сдадим.
Сегодня
гнев
скругли
в огромный
бомбы мяч.
Сегодня
голоса́
размолний штычьим блеском.
В глазах
в капиталистовых маячь.
Чертись
по королевским занавескам.
Ответ
в мильон шагов
пошли
на наглость нот*.
Мильонную толпу
у стен кремлевских вызмей.
Пусть
смерть товарища
сегодня
подчеркнет
бессмертье
дела коммунизма.
[1923]
Это значит вот что!*
Что значит,
что г-н Ке́рзон
разразился грозою нот?
Это значит –
чтоб тише лез он,
крепи
воздушный
флот!
Что значит,
что господин Фош*
по Польше парады корчит?
Это значит –
точится нож.
С неба смотри зорче!
Что значит,
что фашистское тупорылье*
осмелилось
нашего тронуть?
Это значит –
готовь крылья!
Крепи
СССР оборону!
Что значит,
что пни да кочки
всё еще
по дороге к миру?
Это значит –
красный летчик,
нашу
силу
в небе рекламируй!
Что значит,
что стал
груб
нынче
голос
пана?
Это значит –
последний руб
гони
на аэропланы!
Что значит,
что фашист Амадори*
разгалделся
о нашей гибели?
Это значит –
воздушное море
в пену
пропеллерами
выбели!
Небо в грозовых пятнах.
Это значит:
во-первых
и во-вторых,
в-третьих,
в-четвертых
и в-пятых, –
небо пропеллерами рыхль!
[1923]
Баку*
Баку.
Город ветра.
Песок плюет в глаза.
Баку.
Город пожаров.
Полыхание Балахан*.
Баку.
Листья – копоть.
Ветки – провода.
Баку.
Ручьи –
чернила нефти.
Баку.
Плосковерхие дома.
Горбоносые люди.
Баку.
Никто не селится для веселья.
Баку.
Жирное пятно в пиджаке мира.
Баку.
Резервуар грязи,
но к тебе
я тянусь
любовью
более –
чем притягивает дервиша Тибет,
Мекка – правоверного,
Иерусалим –
христиан
на богомолье.
По тебе
машинами вздыхают
миллиарды
поршней и колес.
Поцелуют
и опять
целуют, не стихая,
маслом,
нефтью,
тихо
и взасос.
Воле города
противостать не смея,
цепью сцепеневших тел
льнут
к Баку
покорно
даже змеи
извивающихся цистерн.
Если в будущее
крепко верится –
это оттого,
что до краев
изливается
столицам в сердце
черная
бакинская
густая кровь.
[1923]
Разве у вас не чешутся обе лопатки?*
Если
с неба
радуга
свешивается
или
синее
без единой заплатки –
неужели
у вас
не чешутся
обе
лопатки?!
Неужели не хочется,
чтоб из-под блуз,
где прежде
горб был,
сбросив
груз
рубашек-обуз,
раскры́лилась
пара крыл?!
Или
ночь когда
в звездищах разно́чится
и Медведицы
всякие
лезут –
неужели не завидно?!
Неужели не хочется?!
Хочется!
до зарезу!
Тесно,
а в небе
простор –
дыра!
Взлететь бы
к богам в селения!
Предъявить бы
Саваофу*
от ЦЖО*
ордера́
на выселение!
Калуга!
Чего окопалась лугом?
Спишь
в земной яме?
Тамбов!
Калуга!
Ввысь!
Воробьями!
Хорошо,
если жениться собрался:
махнуть крылом –
и
губерний за двести!
Выдернул
перо
у страуса –
и обратно
с подарком
к невесте!
Саратов!
Чего уставил глаз?!
Зачарован?
Птичьей точкой?
Ввысь –
ласточкой!
Хорошо
вот такое
обделать чисто:
Вечер.
Ринуться вечеру в дверь.
Рим.
Высечь
в Риме фашиста –
и
через час
обратно
к самовару
в Тверь.
Или просто:
глядишь,
рассвет вскрыло –
и начинаешь
вперегонку
гнаться и гнаться.
Но…
люди – бескрылая
нация.
Людей
создали
по дрянному плану:
спина –
и никакого толка.
Купить
по аэроплану –
одно остается
только.
И вырастут
хвост,
перья,
крылья.
Грудь
заостри
для любого лёта.
Срывайся с земли!
Лети, эскадрилья!
Россия,
взлетай развоздушенным флотом.
Скорей!
Чего,
натянувшись жердью,
с земли
любоваться
небесною твердью?
Буравь ее,
авио.
[1923]
«…товарищ Чичерин и тралеры отдает и прочее…»*
товарищ Чичерин*
и тралеры отдает*
и прочее.
Но поэту
незачем дипломатический такт.
Я б
Керзону
ответил так:
– Вы спрашиваете:
«Тралеры брали ли?»
Брали тралеры.
Почему?
Мурман бедный.
Нужны ему
дюже.
Тралер
до того вещь нужная,
что пришлите
хоть сто дюжин,
все отберем
дюжину за дюжиною.
Тралером
удобно
рыбу удить.
А у вас,
Керзон,
тралерами хоть пруд пруди.
Спрашиваете:
«Правда ли
подготовителей восстаний
поддерживали
в Афганистане?»
Керзон!
До чего вы наивны,
о боже!
И в Персии
тоже.
Известно,
каждой стране
в помощи революционерам
отказа нет.
Спрашиваете:
«Правда ли,
что белых
принимают в Чека,
а красных
в посольстве?»
Принимаем –
и еще как!
Русские
неподражаемы в хлебосольстве.
Дверь открыта
и для врага
и для друга.
Каждому
помещение по заслугам.
Спрашиваете:
«Неужели
революционерам
суммы идут из III Интернационала?»
Идут.
Но [. . . . . . . . . .]
[. . . . . . . . . .]ало.
Спрашиваете:
«А воевать хотите?»
Господин Ке́рзон,
бросьте
этот звон
железом.
Ступайте в отставку!
Чего керзоните?!
Наденьте галоши,
возьмите зонтик.
И,
по стопам Ллойд-Джорджиным*,
гуляйте на даче,
занимайтесь мороженым.
А то
жара
действует на мозговые способности.
На слабые
в особенности.
Г-н Керзон,
стихотворение это
не считайте
неудовлетворительным ответом.
С поэта
взятки
гладки.
[1923]
О том, как у Керзона с обедом разрасталась аппетитов зона*
Керзон разразился ультиматумом.
Не очень ярким,
так…
матовым.
«Чтоб в искренности СССР
убедиться воочию,
возвратите тралер,
который скрали*,
и прочее, и прочее, и прочее…»
Чичерин ответил:
«Что ж,
берите,
ежели вы
в просьбах своих
так умеренны
и вежливы»
А Керзон
взбесился что было сил.
«Ну, – думает, –
мало запросил.
Ужотко
загну я им нотку!»
И снова пастью ощеренной
Керзон
лезет на Чичерина.
«Каждому шпиону,*
который
кого-нибудь
когда-нибудь пре́дал,
уплатить по 30
и по 100 тысяч.
Затем
пересмотреть всех полпредов.
И вообще…
самим себя высечь».
Пока
официального ответа нет*.
Но я б
Керзону
дал совет:
– Больно мало просите что-то.
Я б
загнул
такую ноту.
Опуская
излишние дипломатические длинноты,
вот
текст
этой ноты:
«Москва, Наркоминдел*,
мистеру Чичерину.
1. Требую немедленной реорганизации в Наркоми́не.
Требую,
чтоб это самое «Ино»
товарища Вайнштейна* изжарило в камине,
а в «Ино»
назначило
нашего Болдуина*.
2. Мисс Гаррисон*
до того преследованиями вызлена,
до того скомпрометирована
в глазах высших сфер,
что требую
предоставить
ей
пожизненно
всю секретную переписку СССР.
3. Немедленно
с мальчиком
пришлите Баку,
чтоб завтра же
утром
было тут.
А чтоб буржуа
жирели, лежа на боку,
в сутки
восстановить
собственнический институт.
4. Требую,
чтоб мне всё золото,
Уркварту – всё железо*,
а не то
развею в пепел и дым».
Словом,
требуйте, сколько влезет, –
всё равно
не дадим.
[1923]
Смыкай ряды!*
Чтоб крепла трудовая Русь,
одна должна быть почва:
неразрываемый союз
крестьянства
и рабочего.
Не раз мы вместе были, чать:
лихая
шла година.
Рабочих
и крестьянства рать
шагала воедино.
Когда пришли
расправы дни,
мы
вместе
шли
на тронище,
и вместе,
кулаком одним,
покрыли по коронище.
Восстав
на богатейский мир,
союзом тоже,
вместе,
пузатых
с фабрик
гнали мы,
пузатых –
из поместий.
Войной
вражи́ще
лез не раз.
Единокровной дружбой
война
навек
спаяла нас
красноармейской службой.
Деньки
становятся ясней.
Мы
занялися стройкой.
Крестьянин! Эй!
Еще тесней
в ряду
с рабочим
стой-ка!
Бельмо
для многих
красный герб.
Такой ввинтите болт им –
чтобы вовек
крестьянский серп
не разлучился
с молотом.
И это
нынче
не слова –
прошла
к словам привычка!
Чай, всем
в глаза
бросалось вам
в газетах
слово
«смычка»?
– Сомкнись с селом! – сказал Ильич,
и город
первый
шествует.
Десятки городов
на клич
над деревнями
шефствуют.
А ты
в ответ
хлеба рожай,
делись им
с городами!
Учись –
и хлеба урожай
учетверишь
с годами.
[1923]
Горб*
Арбат* толкучкою давил
и сбоку
и с хвоста.
Невмоготу –
кряхтел да выл
и крикнул извозца.
И вдруг
такая стала тишь.
Куда девалась скорбь?
Всё было как всегда,
и лишь
ушел извозчик в горб.
В чуть видный съежился комок,
умерен в вёрстах езд.
Он не мешал,
я видеть мог
цветущее окрест.
И свет
и радость от него же
и в золоте Арбат.
Чуть плелся конь.
Дрожали вожжи.
Извозчик был горбат.
[1923]
Коминтерн*
«Зловредная организация, именующая себя III Интернационалом».
Глядя
в грядущую грозу,
в грядущие грома́,
валы времен,
валы пространств громя,
рули
мятежных дней
могуче сжав
и верно, –
плывет
Москвой
дредноут* Коминтерна.
Буржуи мира,
притаясь
по скрывшим окна шторам,
дрожат,
предчувствуя
грядущих штурмов шторм.
Слюною нот
в бессильи
иссякая,
орут:
– Зловредная,
такая, рассякая! –
А рядом
поднят ввысь
миллион рабочих рук,
гудит
сердец рабочих
миллионный стук, –
сбивая
цепь границ
с всего земного лона,
гудит,
гремит
и крепнет
голос миллионный:
– Ты наша!
Стой
на страже красных дней.
Раскатом голосов
покрой Керзоньи бредни!
Вреди,
чтоб был
твой вред
всех вредов повредней,
чтоб не было
организации зловредней.
[1923]
Молодая гвардия*
Дело земли –
вертеться.
Литься –
дело вод.
Дело
молодых гвардейцев –
бег,
галоп
вперед.
Жизнь шажком
стара́ нам.
Бего́м
под знаменем алым.
Комсомольским
миллионным тараном
вперед!
Но этого мало.
Полка́ми
по по́лкам книжным,
чтоб буквы
и то смяло.
Мысль
засеем
и выжнем.
Вперед!
Но этого мало.
Через самую
высочайшую высь
махни атакующим валом.
Новым
чувством
мысль
будоражь!
Но и этого мало.
Ковром
вселенную взвей.
Моль
из вселенной
выбей!
Вели
лететь
левей
всей
вселенской
глыбе!
[1923]
Издевательство летчика*
Тесно у вас,
грязно у вас.
У вас
душно.
Чего ж
в этом грязном,
в тесном увяз?
В новый мир!
Завоюй воздушный.
По норме
аршинной
ютитесь но́рами.
У мертвых –
и то
помещение блёстче.
А воздуху
кто установит нормы?
Бери
хоть стоаршинную площадь.
Мажешься,
са́лишься
в земле пропылённой,
с глоткой
будто пылью пропилен.
А здесь,
хоть все облетаешь лона,
чист.
Лишь в солнце
лучи
окропили.
Вы рубите горы
и скат многолесый,
мостом
нависаете
в мелочь-ручьи.
А воздух,
воздух – сплошные рельсы.
Луны́
и солнца –
рельсы-лучи.
Горд человек,
человечество пыжится:
– Я, дескать,
самая
главная ижица.
Вокруг
меня
вселенная движется. –
А в небе
одних
этих самых Марсов
такая
сплошная
огромная масса,
что все
миллиарды
людья человечьего
в сравнении с ней
и насчитывать нечего.
Чего
в ползках,
в шажочках увяз,
чуть движешь
пятипудовики ту́шины?
Будь аэрокрылым –
и станет
у вас
мир,
которому
короток глаз,
все стены
которого
в ветрах развоздушены.
[1923]
Итог*
Только что
в окошечный
в кусочек прокопчённый
вглядывались,
ждя рассветный час.
Жили
черные,
к земле прижавшись черной,
по фабричным
по задворкам
волочась.
Только что
корявой сошкой
землю рыли,
только что
проселками
плелись возком,
только что…
куда на крыльях! –
еле двигались
шажочком
да ползком.
Только что
Керзоновы угрозы пролетали.
Только что
приказ
крылатый
дан:
– Пролетарий,
на аэроплан! –
А уже
гроши за грошами
слились
в мощь боевых машин.
Завинти винты
и, кроша́ ими
тучи,
в небе
крылом маши.
И уже
в ответ
на афиши
лётный
день
громоздится ко дню.
Задирается
выше и выше
голова
небесам в стрекотню.
Чаще
глаз
на солнце ще́рите,
приложив
козырек руки́. –
Это
пролетарий
в небе
чертит
первые
корявые круги.
Первый
неуклюжий шаг
пускай коряв –
не удержите
поднявших якоря.
Черные!
Смотрите,
своры,
сворищи и сворки.
Ежедневно –
руки тверже,
мозг светлей.
Вот уже
летим
восьмеркою к восьмерке
и нанизываем
петлю к петле.
Мы
привыкли
слово
утверждать на деле,
пусть
десяток птиц кружился нынче.
На недели
взгромоздя
труда недели,
миллионокрылые
в грядущих битвах
вымчим.
Если
вздумают
паны и бары
наступлением
сменить
мазурки и кадрили,
им любым
на ихний вызов ярый
мы
ответим
тыщей эскадрилий.
И когда
придет
итогов год,
в памяти
недели этой
отрывая клад,
скажут:
итого –
пролетарий
стал крылат.
[1923]
Авиачастушки*
И ласточка и курица
на полеты хмурятся.
Как людьё поразлетится,
не догнать его и птице.
Был
летун
один Илья –
да и то
в ненастье ж.
Всякий день летаю я.
Небо –
двери настежь!
Крылья сделаны гусю.
Гусь –
взлетит до крыши.
Я не гусь,
а мчусь вовсю
всякой крыши выше.
Паровоз,
что та́чьца:
еле
в рельсах
тащится.
Мне ж
любые дали – чушь:
в две минуты долечу ж!
Летчик!
Эй!
Вовсю гляди ты!
За тобой
следят бандиты.
– Ну их
к черту лешему,
не догнать нас пешему!
Саранча
посевы жрет,
полсела набила в рот.
Серой
эту
саранчу
с самолета
окачу.
Над лесами жар и зной,
жрет пожар их желтизной
А пилот над этим адом
льет водищу водопадом.
Нынче видели комету,
а хвоста у ней и нету.
Самолет задела малость,
вся хвостина оборвалась.
Плачут горько клоп да вошь, –
человека не найдешь.
На воздушном на пути
их
и тифу не найти.
[1923]
Авиадни*
Эти дни
пропеллеры пели.
Раструбите и в прозу
и в песенный лад!
В эти дни
не на словах,
на деле –
пролетарий стал крылат.
Только что
прогудело приказом
по рядам
рабочих рот:
– Пролетарий,
довольно
пялиться наземь!
Пролетарий –
на самолет! –
А уже
у глаз
чуть не рвутся швы.
Глазеют,
забыв про сны и дрёмы, –
это
«Московский большевик»
взлетает
над аэродромом.
Больше,
шире лётонедели.
Воспевай их,
песенный лад.
В эти дни
не на словах –
на деле
пролетарий стал крылат.
[1923]
Нордерней*
Дыра дырой,
ни хорошая, ни дрянная –
немецкий курорт,
живу в Нордернее.
Небо
то луч,
то чайку роняет.
Море
блестящей, чем ручка дверная.
Полон рот
красот природ:
то волны
приливом
полберега выроют,
то краб,
то дельфинье выплеснет тельце,
то примусом волны фосфоресцируют,
то в море
закат
киселем раскиселится.
Тоска!..
Хоть бы,
что ли,
громовий раскат.
Я жду не дождусь
и не в силах дождаться,
но верую в ярую,
верую в скорую.
И чудится:
из-за островочка
кронштадтцы
уже выплывают
и целят «Авророю».
Но море в терпеньи,
и буре не вывести.
Волну
и не гладят ветровы пальчики.
По пляжу
впластались в песок
и в ленивости
купальщицы млеют,
млеют купальщики.
И видится:
буря вздымается с дюны.
«Купальщики,
жиром набитые бочки,
спасайтесь!
Покроет,
измелет
и сдунет.
Песчинки – пули,
песок – пулеметчики».
Но пляж
буржуйкам
ласкает подошвы.
Но ветер,
песок
в ладу с грудастыми.
С улыбкой:
– как всё в Германии дешево! –
валютчики
греют катары и астмы.
Но это ж,
наверно,
красные роты.
Шаганья знакомая разноголосица.
Сейчас на табльдотчиков*,
сейчас на табльдоты
накинутся,
врежутся,
ринутся,
бросятся.
Но обер*
на барыню
косится рабьи:
фашистский
на барыньке
знак муссолинится*.
Сося
и вгрызаясь в щупальцы крабьи,
глядят,
как в море
закатище вклинится.
Чье сердце
октябрьскими бурями вымыто,
тому ни закат,
ни моря рёволицые,
тому ничего,
ни красот,
ни климатов,
не надо –
кроме тебя,
Революция! Нордерней*, 4 августа
[1923]
Москва – Кенигсберг*
Проезжие – прохожих реже.
Еще храпит Москва деляг.
Тверскую* жрет,
Тверскую режет
сорокасильный «Каделяк»*.
Обмахнуло
радиатор
горизонта веером.
– Eins!
zwei!
drei![1] –
Мотора гром.
В небо дверью –
аэродром.
Брик*.
Механик.
Ньюбо́льд*.
Пилот.
Вещи.
Всем по пять кило.
Влезли пятеро.
Земля попятилась.
Разбежались дорожки –
ящеры.
Ходынка*
накрылась скатертцей.
Красноармейцы,
Ходынкой стоящие,
стоя ж –
назад катятся.
Небо –
не ты ль?..
Звезды –
не вы ль это?!
Мимо звезды́
(нельзя без виз)!
Навылет небу,
всему навылет,
пали́ –
земной
отлетающий низ!
Развернулось солнечное это.
И пошли
часы
необычайниться.
Города́,
светящиеся
в облачных просветах.
Птица
догоняет,
не догнала –
тянется…
Ямы воздуха.
С размаха ухаем.
Рядом молния.
Сощурился Ньюбо́льд
Гром мотора.
В ухе
и над ухом.
Но не раздраженье.
Не боль.
Сердце,
чаще!
Мотору вторь.
Слились сладчайше
я
и мотор:
«Крылья Икар
в скалы низверг*,
чтоб воздух-река
тек в Кенигсберг*.
От чертежных дел
седел Леонардо*,
чтоб я
летел,
куда мне надо.
Калечился Уточкин*,
чтоб близко-близко,
от солнца на чуточку,
парить над Двинском*.
Рекорд в рекорд
вбивал Горро́*,
чтобы я
вот –
этой тучей-горой.
Коптел
над «Гномом*»
чтоб спорил
с громом
моторов стук».
Что же –
для того
конец крылам Ика́риным,
человечество
затем
трудом заводов никло, –
чтобы этакий
Владимир Маяковский,
барином,
Кенигсбергами
распархивался
на каникулы?!
Чтобы этакой
бесхвостой
и бескрылой курице
меж подушками
усесться куце?!
Чтоб кидать,
и не выглядывая из гондолы,
кожуру
колбасную –
на города и долы?!.
Нет!
Вылазьте из гондолы, плечи!
100 зрачков
глазейте в каждый глаз!
Завтрашнее,
послезавтрашнее человечество,
мой
неодолимый
стальнорукий класс, –
я
благодарю тебя
за то,
что ты
в полетах
и меня,
слабейшего,
вковал своим звеном.
Возлагаю
на тебя –
земля труда и пота –
горизонта
огненный венок.
Мы взлетели,
но еще – не слишком.
Если надо
к Марсам
дуги выгнуть –
сделай милость,
дай
отдать
мою жизнишку.
Хочешь,
вниз
с трех тысяч метров
прыгну?!
Berlin, 6/IX-23
Солидарность*
Наша пушнина пришла на Лейпцигскую ярмарку в забастовку транспортников. Тт. Каминский* и Кушнер* обратились в стачечный комитет, и сам комитет пошел с ними разгружать вагоны советских товаров. Товарищи из ВЦСПС, отметьте этот акт международной рабочей солидарности!
Ярмарка.
Вовсю!
Нелепица на нелепице.
Лейпциг гудит.
Суетится Лейпциг.
Но площадь вокзальную грохот не за́лил.
Вокзалы стоят.
Бастуют вокзалы.
Сегодня
сказали хозяевам грузчики:
«Ну что ж,
посидимте, сложивши ручки!»
Лишь изредка
тишь
будоражило эхо:
это
грузчики
бьют штрейкбрехеров.
Скрипят буржуи.
Ходят около:
– Товарищи эти разденут до́гола! –
Но случай
буржуям
веселие кинул:
Советы
в Лейпциг
прислали пушнину.
Смеясь,
тараканьими водят усами:
– Устроили стачечку –
лопайте сами!
Забудете к бунтам клонить и клониться,
когда заваляются ваши куницы! –
Вовсю балаганит,
гуляет Лейпциг.
И вдруг
буржуям
такие нелепицы
(от дива
шея
трубой водосточной):
выходит –
живьем! –
комитет стачечный.
Рукав завернули.
Ринулись в дело.
И…
чрево пакгауза
вмиг опустело.
Гуляет ярмарка.
Сыпет нелепицы.
Гуляет советским соболем Лейпциг.
Страшны ли
рабочим
при этакой спайке
буржуевы
белые
своры и стайки?!
[1923]
Уже!*
Уже голодище
берет в костяные путы.
Уже
и на сытых
наступают посты.
Уже
под вывесками
«Milch und Butter»[2]
выхващиваются хвосты.
Уже
на Kurfürstendamm’е*
ночью
перешептываются выжиги:
«Слыхали?!
Засада у Рабиновича…
Отобрали
Уже
воскресли
бывшие бурши*.
Показывают
буржуйный норов.
Уже
разговаривают
языком пушек
Уже
заборы
стали ломаться.
Рвет
бумажки
ветра дых.
Сжимая кулак,
у коммунистических прокламаций
толпы
голодных и худых.
Уже
валюта
стала Луна-парком* –
не догонишь
и четырежды скор –
так
летит,
летит
германская марка
с долларных
американских гор.
Уже
чехардят*
Штреземаны и Куны.
И сытый,
и тот, кто голодом глодан,
знают –
это
пришли кануны
нашего
семнадцатого года.
[1923]
Киноповетрие*
Европа.
Город.
Глаза домищами шарили.
В глаза –
разноцветные капли.
На столбах,
на версту,
на мильоны ладов:
!!!!!ЧАРЛИ ЧАПЛИН!!!!!
Мятый человечишко
из Лос-Анжело́са*
через океаны
раскатывает ролик.
И каждый,
у кого губы́ нашлося,
ржет до изнеможения,
ржет до колик.
Денди туфлястый (огурцами огу́рятся) –
к черту!
Дамища (груди – стог).
Ужин.
Курица.
В морду курицей.
Мотоцикл.
Толпа.
Сыщик.
Свисток.
В хвост.
В гриву.
В глаз.
В бровь.
Желе-подбородки трясутся игриво.
Кино
гогочет в мильон шиберо́в*.
Молчи, Европа,
дура сквозная!
Мусьи,
заткните ваше орло́.
Не вы,
я уверен, –
не вы,
я знаю, –
над вами
смеется товарищ Шарло́*.
Жирноживотые.
Лобоузкие.
Европейцы,
на чем у вас пудры пыльца?
Разве
эти
чаплинские усики –
не всё,
что у Европы
осталось от лица?
Шарло.
Спадают
штаны-гармошки.
Кок.
Котелочек около кло́ка.
В издевке
твои
комарьи ножки,
Европа фраков
и файфоклоков.
Кино
заливается щиплемой девкой.
Чарли
заехал
какой-то мисс.
Публика, тише!
Над вами издевка.
Европа –
оплюйся,
сядь,
уймись.
Чаплин – валяй,
марай соуса́ми.
Будет:
не соусом,
будет:
не в фильме.
Забитые встанут,
забитые сами
метлою
пройдут
мировыми милями.
А пока –
Мишка,
верти ручку.
Бой! Алло!
Всемирная сенсация.
Последняя штучка.
Шарло на крыльях.
Воздушный Шарло.
[1923]
Маяковская галерея
Пуанкаре*
Мусье!
Нам
ваш
необходим портрет.
На фотографиях
ни капли сходства нет.
Мусье!
Вас
разница в деталях
да не вгоняет
в грусть.
Позируйте!
Дела?
Рисую наизусть.
По политике глядя,
Пуанкаре*
такой дядя. –
Фигура
редкостнейшая в мире –
поперек
себя шире.
Пузо –
ест до́сыта.
Лысый.
Небольшого роста –
чуть
больше
хорошей крысы.
Кожа
со щек
свисает,
как у бульдога.
Бороды нет,
бородавок много.
Зубы редкие –
всего два,
но такие,
что под губой
умещаются едва.
Физиономия красная,
пальцы – тоже:
никак
после войны
отмыть не может.
Кровью*
двадцати миллионов
и пальцы краснеют,
и на
волосенках,
и на фрачной коре.
Если совесть есть –
из одного пятна
крови
совесть Пуанкаре.
С утра
дела подают ему;
пересматривает бумажки,
кровавит папки.
Потом
отдыхает:
ловит мух
и отрывает
у мух
лапки.
Пообрывав
лапки и ножки,
едет заседать
в Лигу наций*.

Вернется –
паклю
к хвосту кошки
привяжет,
зажжет
и пустит гоняться.
Глядит
и начинает млеть.
В голове
мечты растут:
о, если бы
всей земле
паклю
привязать
к хвосту?!
Затем –
обедает,
как все люди,
лишь жаркое
живьем подают на блюде.
Нравится:
пища пищит!
Ворочает вилкой
с медленной ленью:
крови вид
разжигает аппетит
и способствует пищеваренью.
За обедом
любит
полакать
молока.
Лакает бидонами, –
бидоны те
сами
в рот текут.
Молоко
берется
от рурских детей;
молочница –
генерал Дегут*.
Пищеварению в лад
переваривая пищу,
любит
гулять
по дороге к кладбищу.
Если похороны –
идет сзади,
тихо похихикивает,
на гроб глядя.
Разулыбавшись так,
Пуанкаре
любит
попасть
под кодак*.
Утром
слушает,
от восторга горя, –
газетчик
Парижем
заливается
в мили:
– «Юманите»*!
Пуанкаря
последний портрет* –
хохочет
на могиле! –
От Парижа
по самый Рур –
смех
да чавк.
Балагур!
Весельчак!
Пуанкаре
и искусством заниматься тщится.
Пуанкаре
любит
антикварные вещицы.
Вечером
дает эстетике волю:
орамив золотом,
глазками ворьими
любуется*
траченными молью
Версальским
и прочими догово́рами.
К ночи
ищет развлечений потише.
За день
уморен
делами тяжкими,
ловит
по очереди
своих детишек
и, хохоча
от удовольствия,
сечет подтяжками.
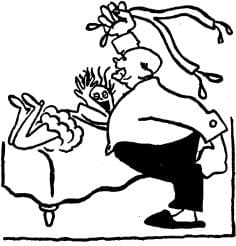
Похлестывая дочку,
приговаривает
меж ржаний:
– Эх,
быть бы тебе
Германией,
а не Жанной! –
Ночь.
Не подчиняясь
обычной рутине –
не ему
за подушки,
за одеяла браться, –
Пуанкаре
соткет*
и спит
в паутине
репараций.
Веселенький персонаж
держит
в ручках
мир
наш.
Примечание.
Мусье,
не правда ли,
похож до нити?!
Нет?
Извините!
Сами виноваты:
вы же
не представились
мне
в мою бытность*
в Париже.
[1923]
Муссолини*
Куда глаз ни кинем –
газеты
полны
именем Муссолиньим.
Для не видевших
рисую Муссолини* я.
Точка в точку,
в линию линия.
Родители Муссолини,
не пыжьтесь в критике!
Не похож?
Точнейшая
копия политики.
У Муссолини
вид
ахов. –
Голые конечности,
черная рубаха*;
на руках
и на ногах
тыщи
кустов
шерстищи;
руки
до пяток,
метут низы.
В общем,
у Муссолини
вид шимпанзы.

Лица нет,
вместо –
огромный
знак погромный.
Столько ноздрей
у человека –
зря!
У Муссолини
всего
одна ноздря,
да и та
разодрана
пополам ровно
при дележе
ворованного.
Муссолини
весь
в блеске регалий.
Таким
оружием
не сразить врага ли?!
Без шпалера*,
без шпаги,
но
вооружен здо́рово:*
на боку
целый
литр касторовый;
когда
плеснут
касторку в рот те,
не повозражаешь
фашистской
роте.
Чтобы всюду
Муссолини
чувствовалось как дома –
в лапище
связка
отмычек и фомок.
В министерстве
первое
выступление премьера
было
скандалом,
не имеющим примера.
Чешет Муссолини,
а не поймешь
ни бельмеса.
Хорошо –
нашелся
переводчик бесплатный.
– Т-ш-ш-ш! –
пронеслось,
как зефир средь леса. –
Это
язык
блатный! –
Пришлось,
чтоб точить
дипломатические лясы,
для министров
открыть
вечерние классы.
Министры подучились,
даже без труда
без особенного, –
меж министрами
много
народу способного.
У фашистов
вообще
к знанию тяга:
хоть раз
гляньте,
с какой жаждой
Муссолиниева ватага
накидывается
на «Аванти»*.
После
этой
работы упорной
от газеты
не остается
даже кассы наборной.
Вначале
Муссолини,
как и всякий Азеф*,
социалистничал,
на митингах разевая зев.
Во время
пребывания
в рабочей рати
изучил,
какие такие Серрати*,
и нынче
может
голыми руками
брать
и рассаживать
за решетки камер.
Идеал
Муссолиний –
наш Петр.
Чтоб догнать его,
лезет из пота в пот.
Портрет Петра.
Вглядываясь в лик его,
говорит:
– Я выше,
как ни кинуть.
Что там
дубинка
у Петра
у Великого!
А я
ношу
целую дубину. –
Политикой не исчерпывается –
не на век же весь ее!
Муссолини
не забывает
и основную профессию.
Возвращаясь с погрома
или с развлечений иных,
Муссолини
не признает
ключей дверных.
Демонстрирует
министрам,
как можно
негромко
любую дверь
взломать фомкой*.
Карьере
не лет же до ста расти.
Надавят коммунисты –
пустишь сок.
А это
всё же
в старости
небольшой,
но верный кусок.
А пока
на свободе
резвится этакий,
жиреет,
блестит
от жирного глянца.
А почему он
не в зверинце,
не за решеткой,
не в клетке?
Это
частное дело
итальянцев.
Примечание.
По-моему,
портрет
удачный выдался.
Может,
не похожа
какая точьца.
Говоря откровенно,
я
с ним
не виделся.
Да, собственно говоря,
и не очень хочется.
Хоть шкура
у меня
и не очень пушистая,
боюсь,
не пригляделся б
какому фашисту я.
[1923]
Керзон*
Многие
слышали звон,
да не знают,
что такое –
Керзон*.
В редком селе,
у редкого города
имеется
карточка
знаменитого лорда.
Гордого лорда
запечатлеть рад.
Но я,
разумеется,
не фотографический аппарат.
Что толку
в лордовой морде нам?!
Лорда
рисую
по делам
по лординым.
У Керзона
замечательный вид.
Сразу видно –
Керзон родовит.
Лысина
двумя волосенками припомажена.
Лица не имеется:
деталь,
не важно.
Лицо
принимает,
какое модно,
какое
английским купцам угодно.
Керзон красив –
хоть на выставку выставь.
Во-первых,
у Керзона,
как и необходимо
для империалистов,
вместо мелочей
на лице
один рот:
то ест,
то орет.
Самое удивительное
в Керзоне –
аппетит.
Во что
умудряется
столько идти?!
Заправляет
одних только
мурманских осетров*
по тралеру
ежедневно
желудок-ров.
Бойся
Керзону
в зубы даться –
аппетит его
за обедом
склонен разрастаться.
И глотка хороша.
Из этой
глотки
голос –
это не голос,
а медь.
Но иногда*
испускает
фальшивые нотки,
если на ухо
наш
наступает медведь.
Хоть голос бочкин,
за вёрсты дно там,
но толк
от нот от этих
мал.
Рабочие
в ответ*
по этим нотам
распевают
«Интернационал».
Керзон
одеждой
надает очок!
Разглаженнейшие брючки
и изящнейший фрачок;
духами душится, –
не помню имя, –
предпочел бы
бакинскими душиться,
нефтяными.
На ручках
перчатки
вечно таскает, –
общеизвестная манера
шулерска́я.
Во всяких разговорах
Керзонья тактика –
передернуть
парочку фактиков.
Напишут бумажку,
подпишутся:
«Раскольников*»,
и Керзон
на НКИД врет, как на покойников.
У Керзона
влечение
и к развлечениям.
Одно из любимых
керзоновских
занятий –
ходить
к задравшейся
английской знати.
Хлебом Керзона не корми,
дай ему
задравшихся супругов.
Моментально
водворит мир,
рассказав им
друг про друга.
Мужу скажет:
– Не слушайте
сплетни,
не старик к ней ходит,
а несовершеннолетний. –
А жене:
– Не верьте,
сплетни о шансонетке.
Не от нее,
от другой
у мужа
детки. –
Вцепится
жена
мужу в бороду
и тянет
книзу –
лафа Керзону,
лорду –
маркизу.
Говорит,
похихикивая
подобающе сану:
– Ну, и устроил я им*
Лозанну! –
Многим
выяснится
в этой миниатюрке,
из-за кого
задрались
греки
и турки.
В нотах
Керзон
удал,
в гневе –
яр,
но можно
умилостивить,
показав долла́р.
Нет обиды,
кою
было бы невозможно
смыть деньгою.
Давайте доллары,
гоните шиллинги,
и снова
Керзон –
добрый
и миленький.
Был бы
полной чашей
Керзоний дом,
да зловредная организация*
у Керзона
бельмом.
Снится
за ночь
Керзону
раз сто,
как Шумяцкий*
с Раскольниковым
подымают Восток
и от гордой
Британской
империи
летят
по ветру
пух и перья.
Вскочит
от злости
бегемотово-сер –
да кулаками на карту
СССР.
Пока
кулак
не расшибет о камень,
бьет
по карте
стенной
кулаками.
Примечание.
Можно
еще поописать
лик-то,
да не люблю я
этих
международных
конфликтов.
[Москва, 21 мая 1923]
Пилсудский*
Чьи уши –
не ваши ли? –
не слышали
о грозном
фельдмаршале?!
Склонитесь,
забудьте
суеты
и су́етцы!
Поджилки
не трясутся у кого!
Мною
рисуется
портрет Пилсудского.
У Пилсудского
нет
никакого роста.
Вернее,
росты у него разные:
маленький –
если бьют,
большой –
если победу празднует.

Крохотный лоб.
Только для кокарды:
уместилась чтоб.
А под лобиком
сейчас же
идут челюстищи
зубов на тыщу
или
на две тыщи.
Смотри,
чтоб челюстьце
не попалась работца,
а то
разрастется.
Приоткроется челюсть,
жря
или зыкая, –
а там
вместо языка –
верста треязыкая.
Почему
уважаемый воин
так
обильно
языками благоустроен?
А потому
такое
языков количество,
что три сапога,
по сапогу на величество, –
а иногда
необходимо,
чтоб пан мог
вылизывать
единовременно
трое сапог:
во-первых –
Фошевы*
подошвы,
Френчу*
звездочку шпорову
да туфлю
собственному
буржуазному
борову.
Стоит
на коленках
и лижет,
и лижет,
только сзади
блестят
пуговицы яркие.
Никто
никогда
не становился ниже:
Пилсудский*
даже ниже
польской марки.
А чтоб в глаза
не бросился
лизательный снаряд –
над челюстью
усищев жесткий ряд.
Никто
не видал
Пилсудского телеса.
Думаю,
под рубашкой
Пилсудский – лиса.
Одежда:
мундир,
в золото выткан,
а сзади к мундиру –
длиннющая нитка,
конец к мундиру,
а конец второй –
держится
Пуанкарой*.
Дернет –
Пилсудский дрыгнет ляжкой.
Дернет –
Пилсудский звякнет шашкой.
Характер пилсудчий –
сучий.
Подходит хозяин –
хвостика выкрут.
Скажет:
«Куси!» –
вопьется в икру.
Зато
и сахар
попадает
на носик
этой
злейшей
из антантовских мосек.
То новеньким
заменят
жупан драненький,
то танк подарят,
то просто франки.
Устрой
перерыв
в хозяйских харчах –
и пес
моментально б
сник
и зачах.
Должен
и вере
дать дань я
и убеждения
оттенить
до последних толик:
Пилсудский
был
социалистического вероисповедания,
но
по убеждению
всегда
иезуит-католик.
Демократизм прихрамывает,
староват одёр,
у рабочих
в одра
исчезает вера.
Придется
и Пилсудскому
задать дёру
из своего
Бельведера*.
Примечание.
Не очень ли
портрет
выглядит подленько?
Пожалуй,
но все же
не подлей подлинника.
[1923]
Стиннес*
В Германии,
куда ни кинешься,
выжужживается
имя
Стиннеса*.
Разумеется,
не резцу
его обреза́ть,
недостаточно
ни букв,
ни линий ему.
Со Стиннеса
надо
писать образа.
Минимум.
Все –
и ряды городов
и сёл –
перед Стиннесом
падают
ниц.
Стиннес –
вроде
солнец.
Даже солнце тусклей
пялит
наземь
оба глаза
и золотозубый рот.
Солнце
шляется
по земным грязям,
Стиннес –
наоборот.
К нему
с земли подымаются лучики –
прибыли,
ренты*
и прочие получки.
Ни солнцу,
ни Стиннесу
страны насест,
наций узы:
«интернационалист» –
и немца съест
и француза.
Под ногами его
враг
разит врага.
Мертвые
падают –
рота на роте.
А у Стиннеса –
в Германии
одна
нога,
а другая –
напротив.
На Стиннесе
всё держится:
сила!
Это
даже
не громовержец –
громоверзила.
У Стиннеса
столько
частей тела,
что запомнить –
немыслимое дело.

Так,
вместо рта
у Стиннеса
рейхстаг*.
Ноги –
германские желдороги.
Без денег
карман –
болтается задарма,
да и много ли
снесешь
в кармане их?!
А Стиннеса
карман –
госбанк Германии.
У человеков
слабенькие голоса,
а у многих
и слабенького нет.
Голос
Стиннеса –
каждая полоса
тысячи
германских газет.
Даже думать –
и то
незачем ему:
все Шпенглеры* –
только
Стиннесов ум.
Глаза его –
божьего
глаза
ярче,
и в каждом
вместо зрачка –
долла́рчик.
У нас
для пищеварения
кишечки узкие,
невелика доблесть.
А у Стиннеса –
целая
Рурская
область.
У нас пальцы –
чтоб работой пылиться.
А у Стиннеса
пальцы –
вся полиция.
Оперение?
Из ничего умеет оперяться,
даже
из репараций.
А чтоб рабочие
не пробовали
вздеть уздечки,
у Стиннеса
даже
собственные эсдечики*.
Немецкие
эсдечики эти
кинутся
на всё в свете –
и на врага
и на друга,
на всё,
кроме собственности
Стиннеса
Гуго.
Растет он,
как солнце
вырастает в горах.
Над немцами
нависает
мало-помалу.
Золотом
в мешке
рубахи-крахмала.
Стоит он,
в самое небо всинясь.
Галстуком
мешок
завязан туго.
Таков
Стиннес
Гуго.
Примечание.
Не исчерпают
сиятельного
строки написанные –
целые
нужны бы
школы иконописные.
Надеюсь,*
скоро
это солнце
разрисуют саксонцы.
[1923]
Вандервельде*
Воскуря фимиам,
восторг воскрыля́,
не закрывая
отверзтого
в хвальбе рта, –
славьте
социалиста
его величества, короля*
Альберта!
Смотрите ж!
Какого черта лешего!
Какой
роскошнейший
открывается вид нам!
Видите,
видите его,
светлейшего?
Видите?
Не видно!
Не видно?
Это оттого,
что Вандервельде*
для глаза тяжел.
Окраска
глаза́
выжигает зноем.
Вандервельде
до того,
до того желт,
что просто
глаза слепит желтизною.
Вместо волоса
желтенький пушок стелется.
Желтые ботиночки,
желтые одежонки.
Под желтенькой кожицей
желтенькое тельце.
В карманчиках
желтые
антантины деньжонки.
Желтенькое сердечко,
желтенький ум.
Душонку
желтенькие чувства рассияли.
Только ушки
розоватые
после путешествия в Москву*
да пальчик
в чернилах –
подписывался в Версале*.
При взгляде
на дела его
и на него самого –
я, разумеется,
совсем не острю –
так и хочется
из Вандервельде
сделать самовар
или дюжинку
новеньких
медножелтых кастрюль.
Сделать бы –
и на полки
антантовских кухонь,
чтоб вечно
челядь
глазели глаза его,
чтоб, даже
когда
испустит дух он,
от Вандервельде
пользу видели хозяева.
Но пока еще
не положил он
за Антанту
живот,
пока
на самовар
не переделан Эмилий, –
Вандервельде жив,
Вандервельде живет
в собственнейшем парке,
в собственнейшей вилле.
Если жизнь
Вандервельдичью
посмотришь близ,
то думаешь:
на чёрта
ему
социализм?
Развлекается ананасом
да рябчиком-дичью.
От прочего
буржуя
отличить не очень,
Чего ему не хватает –
молока птичья?!
Да разве – что
зад
камергерски не раззолочен!
Углубить
в психологию
нужно
стих.
Нутро
вполне соответствует наружности.
У Вандервельде
качеств множество.
Но,
не занимаясь психоложеством,
выделю одно:
до боли
Эмиль
сердоболен.
Услышит,
что где-то
кого-то судят, –
сквозь снег,
за мили,
огнем
юридическим
выжегши груди,
несется
защитник,
рыцарь Эмилий.
Особенно,
когда
желто-розовые мальчики
густо,
как сельди,
набьются
в своем
«Втором интернациональчике».
Тогда
особенно прекрасен Вандервельде.
Очевидцы утверждают,
божатся:
– Верно! –
У Вандервельде
язычище
этакий,
что его
развертывают,
как в работе землемерной
землемеры
развертывают
версты рулетки.
Высунет –
и на 24 часа
начинает чесать.
Раза два
обернет
языком
здания
заседания.
По мере того
как мысли растут,
язык
раскручивает
за верстой версту.
За сто верст развернется,
дотянется до Парижа,
того лизнет,
другого полижет.
Доберется до русской жизни –
отравит слюну,
ядовитою брызнет.
Весь мир обойдут
слова-бродяги,
каждый пень обшарят,
каждый куст.
И снова
начинает
язык втягивать
соглашательский Златоуст*.

Оркестры,
играйте туш!
Публика,
неистовствуй,
«ура» горля́!
Таков Вандервельде –
социалист-душка,
социалист
его величества короля.
Примечание.
Скажут:
к чему
эти сатирические трели?!
Обличения Вандервельде
поседели,
устарели.
Что Вандервельде!
Безобидная овечка.
Да.
Но из-за Вандервельде
глядят
тысячи
отечественных
вандервельдчиков
и
вандервельдят.
[1923]
Гомперс*
Из вас
никто
ни с компасом,
ни без компаса –
никак
и никогда
не сыщет Гомперса*.
Многие
даже не знают,
что это:
фрукт,
фамилия
или принадлежность туалета.
А в Америке
это имя
гремит, как гром.
Знает каждый человек,
и лошадь,
и пес:
– А!
как же
знаем,
знаем –
знаменитейший,
уважаемый Гомперс! –
Чтоб вам
мозги
не сворачивало от боли,
чтоб вас
не разрывало недоумение, –
сообщаю:
Гомперс –
человек,
более
или менее.
Самое неожиданное,
как в солнце дождь,
что Гомперс
величается –
«рабочий вождь»!
Но Гомперсу
гимны слагать
рановато.
Советую
осмотреться, ждя, –
больно уж
вид странноватый
у этого
величественного
американского вождя.
Дактилоскопией
снимать бы
подобных выжиг,
чтоб каждый
троевидно видеть мог.
Но…
По причинам, приводимым ниже,
приходится
фотографировать
только профилёк.
Окидывая
Гомперса
умственным оком,
удивляешься,
чего он
ходит боком?
Думаешь –
первое впечатление
ложное,
разбираешься в вопросе –
и снова убеждаешься:
стороны
противоположной
нет
вовсе.
Как ни думай,
как ни ковыряй,
никому,
не исключая и господа-громовержца,
непонятно,
на чем,
собственно говоря,
этот человек
держится.
Нога одна,
хотя и длинная.
Грудь одна,
хотя и бравая.
Лысина –
половинная,
всего половина,
и то –
правая.
Но где же левая,
левая где же?!
Открою –
проще
нет ларчика:
куплена
миллиардерами
Рокфеллерами*,
Карнеджи*.
Дыра –
и слегка
прикрыта
долла́рчиком.
Ходить
на двух ногах
старо́.
Но себя
на одной
трудно нести.
Гомперс
прихрамывает
от односторонности.
Плетется он
у рабочего движения в хвосте.
Меж министрами
треплется
полубородка полуседая.
Раскланиваясь
разлюбезно
то с этим,
то с тем,
к ихнему полу
реверансами
полуприседает.
Чуть
рабочий
за ум берется, –
чтоб рабочего
обратно
впречь,
миллиардеры
выпускают
своего уродца,
и уродец
держит
такую речь:
– Мистеры рабочие!
Я стар,
я сед
и советую:
бросьте вы революции эти!
Ссориться
с папашей
никогда не след.
А мы
все –
Рокфеллеровы дети.
Скажите,
ну зачем
справлять маевки?!
Папаша
Рокфеллер
не любит бездельников.
Работать будете –
погладит по головке.
Для гуляний
разве
мало понедельников?!
Я сам –
рабочий бывший,
лишь теперь
у меня
буржуазная родня.
Я,
по понедельникам много пивший,
утверждаю:
нет
превосходнее
дня.
А главное –
помните:
большевики –
буки,
собственность отменили!
Аж курам смех!
Словом,
если к горлу
к большевичьему
протянем руки, –
помогите
Рокфеллерам
с ног
со всех. –
Позволяют ему,
если речь
чересчур гаденька,
даже
к ручке приложиться
президента Гардинга*.
ВЫВОД –
вслепую
не беги за вождем.
Сначала посмотрим,
сначала подождем.
Чтоб после
не пришлось солоно,
говорунов
сильнее школь.
Иного
вождя –
за ушко
да на солнышко.
[1923]
Рабочим Курска, добывшим первую руду, временный памятник работы Владимира Маяковского*
Было:
социализм –
восторженное слово!
С флагом,
с песней
становились слева,
и сама
на головы
спускалась слава.
Сквозь огонь прошли,
сквозь пушечные дула.
Вместо гор восторга –
горе дола.
Стало:
коммунизм –
обычнейшее дело.
Нынче
словом
не пофанфароните –
шею крючь
да спину гни.
На вершочном
незаметном фронте
завоевываются дни.
Я о тех,
кто не слыхал
про греков
в драках,
кто
не читал
про Муциев Сцево́л*,
кто не знает,
чем замечательны Гракхи*, –
кто просто работает –
грядущего вол.
Мы митинговали.
Словопадов струи,
пузыри идеи –
мир сразить во сколько.
А на деле –
обломались
ручки у кастрюли,
бреемся
стеклом-осколком.
А на деле –
у подметок дырки, –
без гвоздя
слюной
клеи́ть – впустую!
Дырку
не поса́дите в Бутырки*,
а однако
дырки
протестуют.
«Кто был ничем, тот станет всем!»
Станет.
А на деле –
как феллахи –
неизвестно чем
распахиваем земь.
Шторы
пиджаками
на́ плечи надели.
Жабой
сжало грудь
блокады иго.
Изнутри
разрух стоградусовый жар.
Машиньё
сдыхало,
рычажком подрыгав.
В склепах-фабриках
железо
жрала ржа.
Непроезженные
выли степи,
и Урал
орал
непроходимолесый.
Без железа
коммунизм
не стерпим.
Где железо?
Рельсы где?
Давайте рельсы!
Дым
не выдоит
трубищ фабричных вымя.
Отповедь
гудковая
крута:
«Зря
чего
ворочать маховыми?
Где железо,
отвечайте!
Где руда?»
Электризовало
массы волю.
Массы мозг
изобретательством мотало.
Тело масс
слоняло
по горе,
по полю
голодом
и жаждою металла.
Крик,
вгоняющий
в дрожание
и в ёжь,
уши
земляные
резал:
«Даешь
железо!»
Возникал
и глох призыв повторный –
только шепот
шел
профессоров-служак:
де под Курском
стрелки
лезут в стороны,
как Чужак*.
Мне
фабрика слов
в управленье дана.
Я
не геолог,
но я утверждаю,
что до нас
было
под Курском
го́ло.
Обыкновеннейшие
почва и подпочва.
Шар земной,
а в нем –
вода
и всяческий пустяк.
Только лавы
изредка
сверлили ночь его.
Времена спустя
на восстанье наше,
на желанье,
на призыв
двинулись
земли низы.
От времен,
когда
лавины
рыже разжиже́ли –
затухавших газов перегар, –
от времен,
когда вода
входила еле
в первые
базальтовые берега, –
от времен,
когда
прабабки носорожьи,
ящерьи прапрадеды
и крокодильи,
ни на что воображаемое не похожие,
льдами-броненосцами катили, –
от времен,
которые
слоили папоротник,
углем
каменным
застыв,
о которых
рапорта
не дал
и первый таборник, –
залегли
железные пласты.
Будущих времен
машинный гул
в каменном
мешке
лежит –
и ни гу-гу.
Даешь!
До мешков,
до запрятанных в сонные,
до сердца
земного
лозунг долез.
Даешь!
Грозою воль потрясенные,
трещат
казематы
над жилой желез.
Свернув
горы́ навалившийся груз,
ступни пустынь,
наступивших на жилы,
железо
бежало
в извилины русл,
железо
текло
в океанские илы.
Бороло
каких-то течений сливания,
какие-то горы брало в разбеге,
под Крымом
ползло,
разогнав с Пенсильвании*,
на Мурман
взбиралось,
сорвавшись с Норвегии.
Бежало от немцев,
боялось французов,
глаза
косивших
на лакомый кус,
пока доплелось,
задыхаясь от груза,
запряталось
в сердце России
под Курск.
Голоса
подземные
выкачивала ветра помпа.
Слушай, человек,
рулетка,
компас:
не для мопсов-гаубиц* –
для мира
разыщи,
узнай,
найди и вырой!
Отойди
еще
на пяди малые, –
отойди
и голову нагни.
Глаз искателей
тянуло аномалией*,
стрелки компасов
крутил магнит.
Вы,
оравшие:
«В лоск залускали,
рассори́л
Россию
подсолнух!» –
посмотрите
в работе мускулы
полуголых,
голодных,
сонных.
В пустырях
ветров и снега бред,
под ногою
грязь и лужи вместе,
непроходимые,
как Альфред*
из «Известий».
Прославлял
романтик
Дон-Кихота, –
с ветром воевал
и с ду́хами иными.
Просто
мельников хвалить
кому охота –
с настоящей борются,
не с ветряными.
Слушайте,
пролетарские дочки:
пришедший
в землю врыться,
в чертежах
размечавший точки,
он –
сегодняшний рыцарь!
Он так же мечтает,
он так же любит.
Руда
залегла, томясь.
Красавцем
в кудрявом
дымном клубе –
за ней
сквозь камень масс!
Стальной бурав
о землю ломался.
Сиди,
оттачивай,
правь –
и снова
земли атакуется масса,
и снова
иззубрен бурав.
И снова –
ухнем!
И снова –
ура! –
в расселинах каменных масс.
Стальной
сменял
алмазный бурав,
и снова
ломался алмаз.
И когда
казалось –
правь надеждам тризну,
из-под Курска
прямо в нас
настоящею
земной любовью брызнул
будущего
приоткрытый глаз.
Пусть
разводят
скептики
унынье сычье:
нынче, мол, не взять
и далеко лежит.
Если б
коммунизму
жить
осталось
только нынче,
мы
вообще бы
перестали жить.
Лучше всяких «Лефов»
насмерть ранив
русского
ленивый вкус,
музыкой
в мильон подъемных кранов
цокает,
защелкивает Курск.
И не тщась
взлететь
на буровые вышки,
в иллюстрацию
зоо́логовых слов,
приготовишкам
соловьишки
демонстрируют
свое
унылейшее ремесло.
Где бульвар
вздыхал
весною томной,
не таких
любовей
лития, –
огнегубые
вздыхают топкой домны,
рассыпаясь
звездами литья.
Речка,
где и уткам
было узко,
где и по колено
не было ногам бы,
шла
плотвою флотов
речка Ту́скарь:
курс на Курск –
эСэСэСэРский Гамбург.
Всякого Нью-Йорка ньюйоркистей,
раздинамливая
электрический раскат,
маяки
просверливающей зоркости
в девяти морях
слепят
глаза эскадр.
И при каждой топке,
каждом кране,
наступивши
молниям на хвост,
выверенные куряне
направляли
весь
с цепей сорвавшийся хао́с.
Четкие, как выстрел,
у машин
эльвисты*.
В небесах,
где месяц,
раб писателин,
искры труб
черпал совком,
с башенных волчков
– куда тут Татлин*! –
отдавал
сиренами
приказ
завком.
«Слушай!
д 2!
3 и!
Пятый ряд тяжелой индустри́и!
7 ф!
Доки лодок
и шестая верфь!»
Заревет сирена
и замрет тонка,
и опять
засвистывает
электричество и пар.
«Слушай!
19-й ангар!»
Раззевают
слуховые окна
крыши-норы.
Сразу
в сто
товарно-пассажирских линий
отправляются
с иголочки
планёры,
рассияв
по солнцу
алюминий.
Раззевают
главный вход
заводы.
Лентами
авто и паровозы –
в главный.
С верфей
с верстовых
соскальзывают в воды
корабли
надводных
и подводных плаваний.
И уже
по тундрам,
обгоняя ветер резкий,
параллельными путями
на пари
два локомотива –
скорый
и курьерский –
в свитрах,
в кепках
запускают лопари.
В деревнях,
с аэропланов
озирая тыщеполье,
стадом
в 1000 –
не много и не мало –
пастушонок
лет семи,
не более,
управляет
световым сигналом.
Что перо? –
гусиные обноски! –
только зря
бумагу рвут, –
сто статей
напишет
обо мне
Сосновский*,
каждый день
меняя
«Ундервуд».
Я считаю,
обходя
бульварные аллеи,
скольких
наследили
юбилеи?
Пушкин,
Достоевский,
Гоголь,
Алексей Толстой
в бороде у Льва.
Не завидую –
у нас
бульваров много,
каждому
найдется
бульвар.
Может,
будет
Лазарев*
у липы в лепете.
Обозначат
в бронзе
чином чин.
Ну, а остальные?
Как их сле́пите?
Тысяч тридцать
курских
женщин и мужчин.
Вам
не скрестишь ручки,
не напялишь тогу,
не поставишь
нянькам на затор…
Ну и слава богу!
Но зато –
на бо́роды дымов,
на тело гулов
не покусится
никакой Меркулов*.
Трем Андреевым*,
всему академическому скопу,
копошащемуся
у писателей в усах,
никогда
не вылепить
ваш красный корпус,
заводские корпуса.
Вас
не будут звать:
«Железо бросьте,
выверните
на спину
глаза,
возвращайтесь
вспять
к слоновой кости,
к мамонту,
к Островскому*
назад».
В ваш
столетний юбилей
не прольют
Сакулины*
речей елей.
Ты работал,
ты уснул
и спи –
только город ты,
а не Шекспир.
Собинов*,
перезвените званьем Южина*.
Лезьте
корпусом
из монографий и садов.
Курскам
ваших мраморов
не нужно.
Но зато –
на бегущий памятник
курьерский
рукотворный
не присядут
гадить
во́роны.
Вас
у опер
и у оперетт в антракте,
в юбилее
не расхвалит
языкастый лектор.
Речь
об вас
разгромыхает трактор –
самый убедительный электролектор.
Гиз*
не тиснет
монографии о вас.
Но зато –
растает дыма клуб,
и опять
фамилий ваших вязь
вписывают
миллионы труб.
Двери в славу –
двери узкие,
но как бы ни были они узки́,
навсегда войдете
вы,
кто в Курске
добывал
железные куски.
[1923]
Агитлубки,1923
Вон самогон!*
Эй, иди,
подходи, крестьянский мир!
Навостри все уши –
и слушай!
Заливайся, песня!
Пой и греми!
Залетай в крестьянские уши!
Кто не хочет из вас
в грязи,
под плетнем
жизнь окончить смертью сучьей –
прочитай про это,
послушай о нем,
вникни в этот серьезный случай.
Недалёко от нас,
то ль на некой горе,
то ли просто
на маленькой вышке,
помещается
на реке на Туре
деревушка –
Малые Тишки.
Деревушкой ее называют зря.
Хоть домов полсотни менее,
но на каждом из них
крыша –
точно заря,
каждый двор –
не двор, а имение.
Лет пяток назад
жил во всех домах
генерал,
помещик Дядин.
А мужик глядел
да шапчонку ломал,
да слюну облизывал, глядя.
В Октябре
с генерала спустили жир:
подавай, мол, обратно наше!
Дернул Дядин в Париж,
а мужик зажил.
Жил и жил себе полной чашей.
Новый школьный дом
украшает луг.
(Не к лицу коммуне дурак-то!)

Электрический ходит в поле плуг,
громыхает электротрактор.
Каждый весел и сыт,
обут и здоров.
У детишек
не щеки, а пышки.
Так,
распеснив песни из всех дворов,
проживали Малые Тишки.
Лишь одна с по-над краю стоит изба,
курьей ножкой держится еле,
на карнизах на всех
ободра́лась резьба,
ветер дует
и хлещет в щели.

Здесь, паучьей нитью обо́ткана,
проживала
меж ветра вывшего
Степанида Саврасовна Водкина,
станового супруга
бывшего.
Степанидин муж
был известен всем.
Кто
в селе
станового выше?
Все четырнадцать шкур,
а не то что семь
норовил содрать он с Тишек.

Обдирал становой
целых 20 лет.
20 – жили воя и ноя.
Становой жирел,
и жена –
ранет,
щекопузье блестит наливное.
Да коммуна пришла,
кумачом хохоча,
постреляла для верности вящей.
В ту же ночь
становой
задал стрекоча,
не простясь аж
с супругою спящей.

Поодряб Степанидиных щек ранет,
стали щеки
из розовых
белые.
Телеса
постепенно сошли на нет,
из упругих стали дебелые.
Подвело от голодных харчей живот.
Дрожью ежась от каждого чиха,
прощена добротой мужиков
и живет,
только в ночь выходя,
как сычиха.
Днем в окно глядит,
как собака на кость,
рада всем перегрызть бы глотки она.
Так жила,
притаив до времени злость,
Степанида Саврасовна Водкина.
Спят мужик и баба,
корова и бык.
Ночь.
Луна в небесах
рассияла лик,
небо вызвездя в лучшем виде.
Лишь один
оборванец
крадется…
и шмыг
в подворотнюю щель –
к Степаниде.

Степанида задвижку открыла на стук,
получила записку в руки из рук;
слов не слыша меж крысьего писку,
поднесла записку
под лунный круг,
под луною
читает записку.
Прочитала раз,
перечла еще.
Под ногами
от слез
лужа.
Слезы радости мчат со всех щек.
Оказалось –
записка от мужа.
«Степанида моя,
Степанида-свет,
чтоб покончить с властью Советов,
выполняй досконально мой совет,
делай так-то…
это и это…
Твой супруг
Ферапонт Водкин».
А под Водкиным
росчерк короткий.
А еще через ночь,
в тот же час
точь-в-точь,
не будить стараясь народа,
подкатила к калитке
и целую ночь
разгружалась бесшумно подвода.

Протащили в окно
пару длинных труб,
100 бутылей, скрытых корзиною,
протащили какой-то тяжелый куб
да еще
кишки резинные.
Семь ночей
из-за ставен горел огонек.
Уловило б чуткое ухо
за стеной возню
да шарканье ног,
да печурку –
пыхтела глухо.
Через семь ночей,
через дней через семь,
вышла
днем
Степанида –
другая совсем.
По губам,
как игривая рыбка,
то и дело ныряла улыбка.
Через день
столпился народ у ворот,
занят важным одним вопросом:
чем-то воздух несет?
Разгалделся народ,
в удивлении тянет носом.
А по воздуху,
сквозь весеннюю ясь,
заползая и в ноздри
и в глотки,
над избой Степанидьей, дымком раскурясь,
вьется дух
самогонки-водки.
Бывший пьяница Пров говорит:
«Эге!
Не слыхал я давно запашочка».
Будто бес какой появился в ноге –
Прова
запах
тянет пешочком.
Прова запах
за ногу ведет и ведет,
в ухо шепчет:
«Иди!
Разузнай-ка».
К хате Водкиной вывел,
поставил,
и вот –
на крыльце
появилась хозяйка.
А народ валит, –
верь мне или не верь, –
то ль для вида,
а то ль для принятия мер,
но к дверям Степанидина дома
даже Петр пришел
милиционер,
даже –
члены волисполкома.
Ярый трезвенник Петр
растопырил рот,
выгнул грудь для важности вида
да как гаркнет:
«Ты что ж!
Разорять народ?
Али хочешь в острог, Степанида?»
А хозяйка в ответ:
«Что пристал, как репей?!
Мужикам служу –
не барам.
Мне не надо рублей –
подходи и пей!
Угощаю всех
даром».
Пров затылок чешет:
«Не каждый, мол, день
преподносят такие подарки».

Пров шагнул,
остальные за ним –
на ступень.
«Не умрем, чай,
с одной-то чарки».
Выпил рюмку –
прошла волшебством по душе.
По четвертой –
пришло веселье.
И не рюмками –
четвертями уже
лижут все даровое зелье.
Утро.
Вышли все,
не чуют земли.
Встали свиньями
на четвереньки.
С закоулков проселочных пыль мели:
бородища –
мокрые веники.
Не дошли до дому ни Петр,
ни Пров:
Петр в канаву слег,
Пров свалился в ров.
Прова
утром
нашли в трясине –
щеки синему
выгрызли свиньи.
Полдень.
Встал народ.
Негодящий вид.
Перекошены наискось лица.
В животе огонь,
голова трещит, –
надо, значит,
опохмелиться.
Потащились
все, кто ходить еще мог,
к Степаниде идут
на крылечко.
Так же
вьется соблазном над хатой
дымок.

Ткнули дверь.
Да не тут-то было!
Замок
изнутри просунут в колечко.
«Степанида, – орут, –
вылезай помочь!»
Пузо сжали,
присели на корточки.
«К черту лешему!
Убирайтесь прочь! –
Степанидин голос
из форточки. –
Попоила раз –
и довольно, чать! –
заорала Водкина гневно. –
Угостила раз –
не всегда ж угощать?!
Затаскались сюда
ежедневно!
Вы у честной вдовы –
не в питейном, чай!
Да и где это видано в мире,
чтоб не только водку,
хотя бы чай
подавали бесплатно в трактире?!»
Но в ответ на речь
пуще прежнего гул:
«Помоги, Степанида Саврасовна».
«Помогу, –
говорит, –
да гони деньгу».

Почесались.
«Ладно.
Согласны».
Осушили сегодня пару посуд,
а назавтра –
снова похмелье.
Снова деньги несут.
Самогон пососут –
протрезвели
и снова за зелье.
Тек рекой самогон.
Дни за днями шли.
Жгло у пьяниц живот крапиво́ю,
Растряслись вконец мужичьи кошли,
всё
до ниточки пьют-пропивают.
Всё, что есть в селе,
змей зеленый жрет, –
вздулся, полселения выев.
Всё бросают зеленому зме́ищу в рот,
в пасть зубастую,
в зевище змиев.
Самогонный потоп
заливает-льет,
льет потоп
и не хочет кончиться.
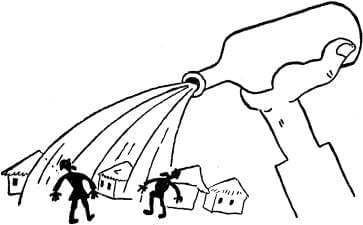
Вымирает народ,
нищает и мрет,
лишь жиреет вовсю самогонщица.
Над деревней
царит самогонище-гад,
весь достаток Водкиной отдан.
Урожай –
и тот заложили в заклад
вплоть до 28-го года.
У любого
на морде
от драк полоса.
Не услышишь поющего голоса.
Только в плаче
меж драк
визжат голоса:
муж
жене
выдирает волосы.
Переехала Водкина в школьный дом:
«Неча зря, мол, учиться в школах».
А учителя – в хлев:
«Проживет и в нем».
Рос в селе за олухом олух.
Половину домов
пережрал пожар,
на другой –
поразлезлись крыши.
В поле
тракторы
пережрала ржа.
Мост –
и то на ладан дышит.
Что крепила
на пользу
советская власть –
постарались развеять прахом.
Все, что коплено год,
можно в час раскрасть, –
и раскрали
единым махом.
Только чаще
болезнь забирается в дом,
только смерть обжирается досыта,
да растут ежедневно
холм за холмом
на запущенной глади погоста.
Да в улыбку расплылись наши враги:
поп,
урядник
и старый помещик.
Пей еще –
и погиб,
и не сдвинешь ноги,
и помещик вопьется, как клещи.

Вот и вся история
кончена,
зря не стоит болтать лишка.
Так пришла
из-за самогонщины
богатейшей деревне крышка.
Эй, иди,
подходи, крестьянский мир!
Навостри все уши –
и слушай!
Заливайся, песня!
Пой и греми!
Залетай в крестьянские уши!

Кто не хочет из вас
в грязи,
под плетнем
дни закончить смертью сучьей, –
прочитай про это,
подумай о нем,
вникни в этот правдивый случай.
Чтоб и вас
самогонка
в гроб не свела –
всех,
кто гонит яд-самогон,
выгоняй из деревни,
гони из села,
из станиц
вышвыривай вон!
Чтоб республика наша
не кончила дни,
самогонную выпив отраву, –
самогонщиков банду
из сел
гони!
Выгоняй самогонщиц ораву!
Выгоняй, кто поит,
выгоняй, кто пьет!
Это – гниль.
Нужна кому она?!
Только тот, кто здоров, –
крестьянству оплот,
лишь от них расцветает коммуна.
[1923]

Обложка Маяковского к книжке «Вон самогон!»
Крестьянам! Рассказ о Змее-Горыныче и о том, в кого Горыныч обратился нынче*
У кого нуждою глотку свело –
растопырь на вот это уши.
Эй, деревня каждая!
Эй, село!
Навостри все уши –
и слушай.
Нынче
будет
из старой истории сказ
о чудовище –
Змее-Горыныче.
Нынче
этот змей
объявился у нас,
только нынче
выглядит иначе.
Раз завидя,
вовеки узнаешь ты:
чешуя его
цвета зеленого,
миллион зубов –
каждый
будто бутыль –
под губой
у зме́ища оного.
Этот змеище зол,
этот змеище лют,
пасть –
верста,
а не то что са́жень!
Жрет в округе всё,
а не то что люд!
Скот сжирает
и хаты даже!
Лишь заявится он –
подавай урожай.
Миг –
и поле Горынычу отдано.
Всё ему неси,
служи, ублажай,
сам же лапу соси
голодный.
Деревушка.
Прильнет Горынычев рот –
в деревушке –
ни клуба,
ни школы.
Подползет к селу,
хвостом вильнет –
и мужик
голодный и голый.
Зажигается пузо в тысячу искр,
лишь глазищами взглянет своими.
Дух сивушный
дымит сквозь ноздревый писк.
Самогон – змеи́щево имя.
Он
болезнью вползает в мужицкий дом.
Он
раздорами кормится до́сыта.
От него
вырастает холм за холмом
в горб изго́рбится гладь погоста.
От него
расцветают наши враги –
поп,
кулак
да забытый помещик.
Знает враг,
что ни рук не поднять,
ни ноги́,
коль вопьются сивушные клещи.
Всё богатство крестьянское зме́ище
жрет,
вздулся,
пол-России выев.
Всё бросают зеленому змеищу в рот,
в пасть зубастую,
в зевище змиев.
Если будет
и дальше
хозяйничать гад,
не пройти по России и году –
передо́хнет бедняк,
обнищает богач.
Землю вдрызг пропьешь
и свободу.
Если ты
погрязнешь
в ленивую тишь –
это горе
вовек не кончится.
Самогонщики
разжиреют лишь,
разжиреют лишь
самогонщицы.
Чтоб хозяйство твое
не скрутил самогон,
чтоб отрава
в гроб не свела, –
самогонщиков
из деревни
вон!
Вон из хутора!
Вон из села!
Комсомолец!
Крестьянин!
Крестьянка!
Эй!
Жить чтоб
жизнью сытой
и вольной,
бей зеленого книгой!
Учением бей!
Хвост зажми ему
дверью школьной!
Изгоняй, кто поит,
выгоняй, кто пьет!
Это – гниль!
Нужна кому она?!
Только тот,
кто здоров, –
крестьянству оплот.
Трезвым мозгом сильна коммуна.
[1923]
Ни знахарь, ни бог, ни ангелы бога – крестьянству не подмога
Долой*

Мы
сбросили с себя
помещичье ярмо,
мы
белых выбили,
наш враг
полег, исколот;
мы
побеждаем
волжский мор
и голод.
Мы
отвели от горл блокады нож,
мы
не даем
разрухе
нас топтать ногами,
мы победили,
но не для того ж,
чтоб очутиться
под богами?!
Чтоб взвилась
вновь,
старья вздымая пыль,
воронья стая
и сорочья,
чтоб снова
загнусавили попы,
религиями люд мороча.
Чтоб поп какой-нибудь
или раввин,
вчера
благословлявший за буржуев драться,
сегодня
ручкой, перемазанной в крови,
за требы требовал:
«Попам подайте, братцы!»
Чтоб, проповедуя
смиренья и посты,
ногами
в тишине монашьих келий,
за пояс
закрутивши
рясовы хвосты,
откалывали
спьяну
трепака
да поросенка с хреном ели.
Чтоб, в небо закатив свиные глазки,
стараясь вышибить Россию из ума,
про Еву,
про Адама сказывали сказки,
на место знаний
разводя туман.

Товарищ,
подымись!
Чего пред богом сник?!
В свободном
нынешнем
ученом веке
не от попов и знахарей –
из школ,
из книг
узнай о мире
и о человеке!
[1923]
Прошения на имя бога – в засуху не подмога*
Эй, крестьяне!
Эта песня для вас!
Навостри на песню ухо!
В одном селе,
на Волге как раз,
была
засу́ха.

Сушь одолела –
не справиться с ней,
а солнце
сушит
сильней и сильней.
Посохли немного
и решили:
«Попросим бога!»
Деревня
крестным ходом заходила,
попы
отмахали все кадила.

А солнце шпарит.
Под ногами
уже не земля –
а прямо камень.
Сидели-сидели, дождика ждя,
и решили
помолиться
о ниспослании дождя.
А солнце
так распалилось в высях,
что каждый росток
на корню высох.
А другое село
по-другому
с засухами
борьбу вело,
другими мерами:
агрономами обзавелось
да землемерами.
Землемер
объяснил народу,
откуда
и как
отвести воду.
Вел
землемер
с крестьянами речь,
как
загородкой
снега беречь.
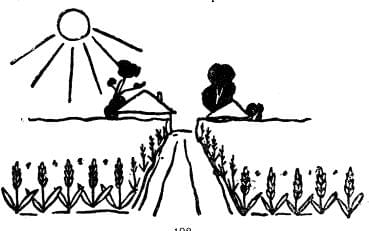
Агроном учил:
«Засеивайтесь злаком,
который
на дождь
не особенно лаком.
Засушливым годом
засеивайтесь корнеплодом –
и вырастут
такие брюквы,
что не подымете и парой рук вы».
Эй, солнце –
ну-ка! –
попробуй,
совладай с наукой!
Такое солнце,
что дышишь еле,
а поля – зазеленели.
Отсюда ясно:
молебен
в засуху
мало целебен.
Чем в засуху
ждать дождя
по году,
сам
учись
устраивать погоду.
[1923]
Про Феклу, Акулину, корову и бога*
Нежная вещь – корова.
Корову
не оставишь без пищи и крова.
Что человек –
жить норовит меж ласк
и нег.
Заботилась о корове Фекла,
ходит вокруг да около.
Но корова –
чахнет раз от разу.
То ли
дрянь какая поедена и попита,
то ли
от других переняла заразу,
то ли промочила в снегу копыта, –
только тает корова,
свеча словно.
От хворобы
никакая тварь не застрахована.
Не касается корова
ни жратвы,
ни пойла –
чихает на всё стойло.
Известно бабе –
в таком горе
коровий заступник –
святой Егорий.
Лезет баба на печку,
трет образа, увешанные паутинами,
поставила Егорию в аршин свечку –
и пошла…
только задом трясет по-утиному!
Отбивает поклоны.
Хлоп да хлоп!
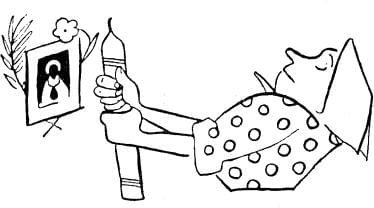
Шишек десять набила на лоб.
Умудрилась даже расквасить нос.
Всю руку открестила –
будто в сенокос.
За сутками сутки
молилась баба,
не отдохнув ни минутки.
На четвертый день
(не помогли корове боги!)
отощала баба –
совсем тень.
А корова
околела, задрав ноги.
А за Фекловой хатой
– пройдя малость –
жила Акулина
и жизнью наслаждалась.
Акулина дело понимала лихо.
Аж ее прозвали
– «Тетя-большевиха».
Молиться –
не дело Акулинье:
у Акулины
другая линия.
Чуть у Акулины времени лишки,
садится Акулина за красные книжки.
А в книгах
речь
про то,
как корову надо беречь.
Заболеет –
времени не трать даром –
беги скорей за ветеринаром.
Глядишь –
на третий
аль на пятый день
корова,
улыбаясь,
выходит за плетень,
да еще такая молочная –
хоть ставь под вымя трубы водосточные.
Крестьяне,
поймите мой стих простенький
да от него
к сердцу
проведите мостики.
Поймите! –
во всякой болезни
доктора́
любого Егория полезней.
Болезням коровьим –
не помощь бог.
Лучше
в зубы возьми ног пару
да бросайся
со всех ног –
к ветеринару.
[1923]
Ни знахарство, ни благодать бога в болезни не подмога*
Нашла на деревню
оспа-зараза.
Вопит деревня.
Потеряла разум.
Смерть деревню косит и косит.
Сёла
хотят разобраться в вопросе.
Ванька
дурак
сказал сразу:
«Дело ясное –
оно не без сглазу.
Ты
вокруг коровы пегой
возьми
и на ножке одной
побегай
да громко кричи больного имя.
Заразу –
как рукой снимет».
Прыгают –
орут,
аж волдыри в горле.
А люди
мёрли,
мёрли
и мёрли.
Тогда
говорит Данила Балда:
«Средство есть –
наговорная вода.
Положи́те, –
говорит, –
в воду уголёчек
и сплевывайте
сквозь губы́ уголочек».
Пока заговаривали воду,
перемёрло
еще
с десяток народу.
Собрались
снова
всей деревней.
Выжил из ума Никифор древний,
говорит:
«Хорошее средство есть –
ходите по улице
и колотите в жесть.
Пусть бабы разденутся да голосили чтобы –
в момент
не будет и следа от хворобы».
Забегали.
Резвей, чем в прошлые разы́,
бьют в кастрюли,
гремят в тазы –
выгоняют, значит, оспяного духа.
Да оспа оказалась
бабой без слуха.
Пока гремели –
человек до́ ста
провезли из села в направлении погоста.
Тогда
бабы
вспомнили о боженьке,
повалились господу-богу в ноженьки.
Молятся,
крестятся
да кадилом кадят.
А оспа
душит людей,
как котят.

Только поп
за свои молебны
чуть не весь пережрал урожай хлебный.
Был бы всей деревне капут,
да случай счастливый представился тут:
Балды Данилы умный отпрыск –
красноармеец Иванов
вернулся в отпуск.
Служил Иванов в полку,
в лазарете,
все переглядел болезни эти.
Знахарей разогнал саженей за́ сто,
получил по шеям и поп кудластый.
Как гаркнет
по-военному
во весь рот:
«Смирно!
Протяните
руки вперед!»
В руке Иванова ножичек блеснул,
поцарапал руку
да из пузыречка плеснул.
«Готово, – говорит. –
Оспа приви́лась.
Верьте в медицину, а не в божью милость».
Загудело веселье над каждым из дворов.
Каждый весел.
Каждый здоров.

Вывод тот,
что во время болезней
доктора́
и попов,
и суеверий,
и вер полезней.
Да еще,
чем хлестать самогон без про́сыпу,
наймите фельдшера
и привейте оспу.
[1923]
Товарищи крестьяне, вдумайтесь раз хоть – Зачем крестьянину справлять Пасху?*

Если вправду
был
Христос чадолюбивый,
если в небе
был всевидящий бог, –
почему
вам
помещики чесали гривы?
Почему давил помещичий сапог?
Или только помещикам
и пашни
и лес?
Или блюдет Христос
лишь помещичий интерес?
Сколько лет
крестьянин
крестился истов,
а землю получил
не от бога,
а от коммунистов!
Если у Христа
не только волос долгий,
но и ум
у Христа
всемогущий, –
почему
допущен голод на Волге?
Чтобы вас
переселять в райские кущи?
Или только затем ему ладан курится,
чтобы у богатого
в супе
плавала курица?
Не Христос помог –
советская власть.
Чего ж Христу поклоны класть?
Почему
этот самый бог тройной
на войну
не послал
вселюбящего Христа?
Почему истреблял крестьян войной,
кровью крестьянскою поля исхлестал?
Или Христу –
не до крестьянского рева?
Христу дороже спокойствие царево?
Крестьяне
Христу молились веками,
а война
не им остановлена,
а большевиками.
Понятно –
пасха блюдется попами.
Не зря обивают попы пороги.
Но вы
из сердца вырвите память,
память об ихнем –
злом боге.
Русь,
разогнись,
наконец,
богомолица!
Чем праздновать
чепуху разную,
рождество
и воскресенье
Коммуны-вольницы
всем крестьянским сердцем отпразднуем!
[1923]
Про Тита и Ваньку*
Жил Тит.
Таких много!
Вся надежда у него
на господа-бога.
Был Тит,
как колода, глуп.
Пока не станет плечам горячо,
машет Тит
со лба на пуп
да с правого
на левое плечо.
Иной раз досадно даже.
Говоришь:
«Чем тыкать фигой в пуп –
дрова коли!
Наколол бы сажень,
а то
и целый куб».
Но сколько на Тита ни ори,
Тит
не слушает слов:
чешет Тит языком тропари
да «Часослов».
Раз
у Тита
в поле
гроза закуролесила чересчур люто.
А Тит говорит:
«В господней воле…
Помолюсь,
попрошу своего Илью-то».
Послушал молитву Тита Илья
да как вдарит
по всем
по Титовым жильям!
И осталось у Тита –
крещеная башка
да от избы
углей
полтора мешка.
Обнищал Тит:
проселки месит пятой.
Не помогли
ни бог-отец,
ни сын,
ни дух святой.
А Иванов Ваня –
другого сорта:
не верит
ни в бога,
ни в чёрта.
Товарищи у Ваньки –
сплошь одни агрономы
да механики.
Чем Илье молиться круглый год,
Ванька взял
и провел громоотвод.
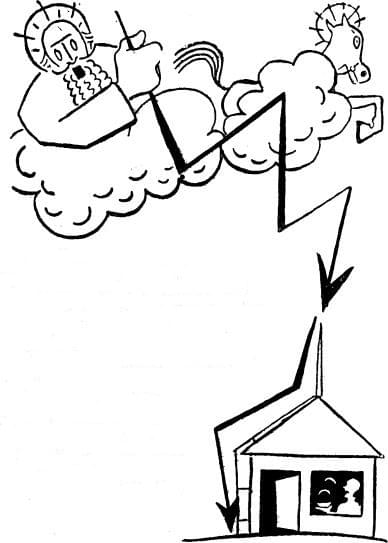
Гремит Илья,
молнии лья,
а не может перейти Иванов порог.
При громоотводе –
бессилен сам Илья
пророк.
Ударит молния
Ваньке в шпиль –
и
хвост в землю
прячет куце.
А у Иванова –
даже
не тронулась пыль!
Сидит
и хлещет
чай с блюдца.
Вывод сам лезет в дверь
(не надо голову ломать в му́ке!):
крестьянин,
ни в какого бога не верь,
а верь науке.

[1923]
Обряды
Кому и на кой ляд целовальный обряд*
Верующий крестьянин
или неверующий,
надо или не надо,
но всегда
норовит
выполнять обряды.
В церковь упираются
или в красный угол,
крестятся,
пялят глаза, –
а потом
норовят облизать друг друга,
или лапу поповскую,
или образа.
Шел
через деревню
прыщастый калека.
Калеке б этому –
нужен лекарь.
А калека фыркает:
«Поможет бог».
Остановился у образа –
и в образ чмок.
Присосался к иконе
долго и сильно.
И пока
выпячивал губищи грязные,
с губищ
на образ
вползла бациллина –
заразная,
посидела малость
и заразмножалась.
А через минуту,
гуляя
ради
первопрестольного праздника,
Вавила Грязнушкин,
стоеросовый дядя,
остановился
и закрестился у иконы грязненькой.
Покончив с аллилуями,
будто вошь,
в икону
Вавила
вцепился поцелуями,
да так сильно,
что за фалды не оторвешь.
Минут пять
бациллы
переползали
с иконы
на губу Вавилы.
Помолился
и понес бациллы Грязнушкин.
Радостный идет,
аж сияют веснушки!
Идет.
Из-за хаты
перед Вавилою
встала Маша –
Вавилина милая.
Ради праздника,
не на шутку
впился Вавила
губами
в Машутку.
Должно быть, с дюжину,
бацилла за бациллой,
переползали в уста милой.
Вавила
сияет,
аж глазу больно,
вскорости свадьбу рисует разум.
Навстречу – кум.
«Облобызаемся
по случаю престольного!»
Облобызались,
и куму
передал
заразу.
Пришел домой,
семью скликал
и всех перелобызал –
от мала до велика;
до того разлобызался в этом году,
что даже
пса
Полкана
лобызнул на ходу.
В общей сложности,
ни много ни мало –
слушайте,
на́ слово веря, –
человек полтораста налобызал он
и
одного зверя.
А те
заразу
в свою очередь
передали –
кто – мамаше,
кто – сыну,
кто – дочери.
Через день
ночью
проснулся Вавила,
будто
губу ему
колесом придавило.
Глянул в зеркало.
Крестная сила!
От уха до уха
губу перекосило.
А уже
и мамаша
зеркало ищет.
«Что это, – говорит, –
как гора,
губища?»
Один за другим выползает родич.
У родичей
губы
галоши вроде.
Вид у родичей –
не родичи,
а уродичи.
Полкан –
и тот
рыча
перекатывается
и рвет губу сплеча.
Лизнул кота.
Болезнь ту
передал коту.
Мяукает кот,
пищит и носится.
Из-за губы
не видно переносицы.
К утру взвыло всё село –
полсела
в могилы свело.
Лишь пес
да кот
выжили еле.
И то –
окривели.
Осталось
от деревни
только человек двадцать –
не верили,
не прикладывались
и не желали лобызаться.
Через год
объяснил
доктор один им,
что село
переболело
нарывом лошадиным.
Крестьяне,
коль вывод не сделаете сами –
вот он:
у образо́в не стойте разинями,
губой
не елозьте грязными образа́ми,
не христосуйтесь –
и не будете
кобылогубыми образинами.
[1923]
Крестить – это только попам рубли скрести*
Крестьяне,
бросьте всякие обряды!
Обрядам
только попы рады.
Посудите вот:
родился человек
или помер –
попу доход,
а крестьянину ничего –
неприятности кроме.
Жил да был мужик Василий,
богатый,
но мозгами не в силе.
Родилась у него дочка –
маленькая,
как точка.
Не дочь,
а хворо́ба,
смотри в оба.
Надо бы
ее
немедленно к врачу,
да Василий говорит:
«Доктора́ –
чушь!
Впрягу Пегова
и к попу лечу.
Поздоровеет моментально –
только окрещу».
Пудами стол
уставили в снедь,
к самогону
огурцов присовокупили во́з еще.
Пришел дьякон,
кудластый, как медведь,
да поп, толстый,
как паровозище.
А гостей собралось ради крестин!!!
Откуда их
столько
удалось наскрести?!
Гости
с попами
попили,
попели
и, наконец,
собралися вокруг купели.
Дьякон напился,
аж не дополз до колодца,
воду набрал –
из первого болотца.
Вода холодная да грязная –
так и плавают микробы разные.
Крестный упился
и не то что троекратно –
раз десять окунал
туда и обратно.
От холода
у бедной дочки
ручки и ножки –
как осиновые листочки.
Чуть было
дочке
не пришел капут:
опустили ее
в воду
вместе с головою,
да дочка
сама
вмешалась тут,
чуть не надорвалась в плаче
и в вое.
Тут ее
вынула крестная мать
да мимоходом
головкой о двери – хвать!
Известно одному богу,
как ее не прикончили
или не оторвали ногу.
Беда
не любит одна шляться –
так вот
еще,
на беду ей
(как раз
такая святая подвернулась в святцах),
назвали –
«Перепетуей».
После крестин
ударились в обжорку
да в пьянку,
скулы
друг другу
выворачивали наизнанку.
Василий
от сивухи не в своем уме:
начисто
ухо
отгрыз куме.
После крестин
дочка
прохворала
полтора годочка.
Доктора отходили еле.
От крестной
ножки все-таки
окривели.
Подросла
и нравится жениховским глазам уж.
Да никак Перепетуи
не выдать замуж.
Женихи говорят:
«При таком имени –
в жены никак не подходите вы́ мне».
Зачахла девица
из-за глупых крестин,
так
можно
дочку
в гроб свести…
А по-моему,
не торопись при рождении младенца –
младенец никуда не денется.
Пойдешь за покупками,
кстати
зайди и запиши дитё в комиссариате.
А подрос,
и если Сосипатр не мил
или имя Перепетуя тебе не мило –
зашел в комиссариат
и переменил,
зашла в комиссариат
и переменила.
[1923]
Крестьяне, собственной выгоды ради поймите – дело не в обряде*
Известно,
у глупого человека
в мозгах вывих:
чуть что –
зовет долгогривых.
Думает,
если попу
как следует дать,
сейчас же
на крестьянина
спускается благодать.
Эй, мужики!
Эй, бабы!
В удивлении разиньте рот!
Убедится
даже тот,
кто мозгами слабый,
что дело –
наоборот.
Жила-была
Анюта-красавица.
Красавице
красавец Петя нравится.
Но папаша Анютки
говорит:
«Дудки!»
Да и мать Анютина
глядит крокодилицей.
Словом,
кадилу в церквах не кадилиться,
свадьбе не бывать.
Хоть Анюта и хороша,
и Петя неплох,
да за душой –
ни гроша.
Ждут родители,
на примете у них –
Сапрон жених.
Хоть Сапрону
шестьдесят с хвостом,
да в кубышке
миллиардов сто.
Словом,
не слушая Анютиного воя,
окрутили Анюту у аналоя,
и пошел у них
«законный брак» –
избу
разрывает от визга и драк.
Хоть и крест целовали, на попа глядя,
хоть кружились
по церкви
в православном обряде,
да Сапрону,
злея со дня на день,
рвет
жена
волосенок пряди.
Да и Анюту
Сапрон
измочалил в лоскут –
вырывает косу
ежеминутно по волоску.
То муж – хлоп,
то жена – хлоп.
Через месяц –
каждый,
как свечка, тонкий.
А через год
легли супруги в гроб:
жена без косы,
муж без бороденки.
А Петр
впал в скуку,
пыткой кипятился в собственном соку
и, наконец,
наложил на себя руку:
повесился
на первом суку.
В конце ж моей стихотворной повести
и родители
утопились
от угрызения совести.
Лафа́ от этого
одному попику.
Слоновье пузо,
от даяний окреп,
знай выколачивает
из бутылей
пробки,
самогоном требует за выполнение треб.
А рядом
жили Иван да Марья –
грамотеи ярые.
Полюбились
и, не слушая родственной рати,
пошли
и записались
в комиссариате.
Хоть венчанье
обошлось без ангельских рож –
а брак
такой,
что водой не разольешь.
Куда церковный!
Любовью,
что цепью друг с другом скованы.
А родители
только издали любуются ими.
Наконец, пришли:
«Простите,
дураки мы!
И на носу зарубим
и в памяти:
за счастьем
незачем к попам идти».
[1923]
От поминок и панихид у одних попов довольный вид*
Известно,
в конце существования человечьего –
радоваться
нечего.
По дому покойника
идет ревоголосье.
Слезами каплют.
Рвут волосья.
А попу
и от смерти
радость велия –
и доходы,
и веселия.
Чтоб люди
доход давали, умирая,
сочинили сказку
об аде
и о рае.
Чуть помрешь –
наводняется дом чернорясниками.
За синенькими приходят
да за красненькими.
Разглаживая бородищу свою,
допытываются –
много ли дадут.
«За сотнягу
прямехонько определим в раю,
а за рупь
папаше
жариться в аду».
Расчет верный:
из таких-то денег
не отдадут
папашу
на съедение геенне!
Затем,
чтоб поместить
в райском вертограде,
начинают высчитывать
(по покойнику глядя). –
Во-первых,
куме заработать надо –
за рупь
поплачет
для христианского обряда.
Затем
за отпевание
ставь на́ кон –
должен
подработать
отец диакон.
Затем,
если сироты богатого виду,
начинают наяривать
за панихидой панихиду.
Пока
не перестанут
гроши носить,
и поп
не перестает
панихиды гнусить.
Затем,
чтоб в рай
прошли с миром,
за красненькую
за гробом идет конвоиром,
как будто
у покойничка
понятия нет,
как
самому
пройти на тот свет.
Кабы бог был –
к богу
покойник бы
и без попа нашел дорогу.
Ан нет –
у попа
выправляй билет.
И, наконец,
оставшиеся грошей лишки
идут
на приготовление
поминальной кутьишки.
А чтоб
не обрывалась
доходов лента,
попы
установили
настоящую ренту.
И на третий день,
и на десятый,
и на сороковой –
опять
устраивать
панихидный вой.
А вспомнят через год
(смерть – не пустяк),
опять поживится
и год спустя.
Сойдет отец в гроб –
и без отца,
и без доходов,
и без еды дети,
только поп –
и с тем,
и с другим,
и с третьим.
Крестьянин,
чтоб покончить с обдираловкой с этой,
советую
тратить
достаток
до последнего гроша
на то,
чтоб жизнь была хороша.
А попам,
объедающим
и новорожденного
и труп,
посоветуй,
чтоб работой зарабатывали руб.
[1923]
На горе бедненьким, богатейшим на счастье – и исповедники и причастье*
Люди
умирают
раз в жизнь.
А здоровые –
и того менее.
Что ж попу –
помирай-ложись?
Для доходов
попы
придумали говения.
Едва
до года дорос –
человек
поступает
к попу на допрос.
Поймите вы,
бедная паства, –
от говений
польза
лишь для богатея мошнастого.
Кулак
с утра до́ ночи
обирает
бедняка
до последней онучи.
Думает мироед:
«Совести нет –
выгод
много.
Семь краж – один ответ
перед богом.
Поп
освободит
от тяжести греховной,
и буду
снова
безгрешней овна.
А чтоб церковь не обиделась –
и попу
и ей
уделю
процент
от моих прибыле́й».
Под пасху
кулак
кончает грабежи,
вымоет лапы
и к попу бежит.
Накроет
поп
концом епитрахили:
«Грехи, мол,
отцу духовному вылей!»
Сделает разбойник
умильный вид:
«Грабил, мол,
и крал больно я».
А поп покрестит
и заголосит:
«Отпускаются рабу божьему прегрешения
вольные и невольные».
Поп
целковый
получит после голосений
да еще
корзину со снедью
в сени.
Доволен поп –
поделился с вором;
на баб заглядываясь,
идет притвором.
А вор причастился,
окрестил башку,
очистился,
улыбаясь и на солнце
и на пташку,
идет торжественно,
шажок к шажку,
и
снова
дерет с бедняка рубашку.
А бедный
с грехами
не пойдет к попу:
попы
у богатеев на откупу.
Бедный
одним помыслом грешен:
как бы
в пузе богатейском
пробить бреши.
Бывало,
с этим
к попу сунься –
он тебе пропишет
всепрощающего Иисуса.
Отпустит
бедному грех,
да к богатому –
с ног со всех.
А вольнолюбивой пташке –
сидеть в каталажке.
Теперь
бедный
в положении таком:
не на исповедь беги,
а в исполком.
В исполкоме
грабительскому нраву
найдут управу.
Найдется управа
на Титычей лихих.
Радуется пу́сть Тит –
отпустит
Титычу грехи,
а Титыча…
за решетку впустят.

От примет кроме вреда ничего нет*
Каждый крестьянин
верит в примету.
Который – в ту,
который – в эту.
Приметами
не охранишь
свое благополучьице.
Смотрите,
что от примет получится.
Ферапонт косил в поле,
вдруг – рев:
«Ферапонт!
Эй!
Сын подавился –
корчит от боли.
За фельдшером
беги скорей!»
Ферапонт
работу кинул –
бежит.
Не умирать же единственному сыну.
Бежит,
аж проселок ломает топ!
А навстречу –
поп.
Остановился Ферапонт,
отвернул глаза
да сплюнул
через плечо
три раза́.
Постоял минуту –
и снова с ног.
А для удавившегося
и минута – большой срок.
Подбежал к фельдшеру,
только улицу перемахнуть, –
и вдруг
похороны преграждают путь.
Думает Ферапонт:
«К несчастью!
Нужно
процессию
оббежать дорогой окру́жной».
На окружную дорогу,
по задним дворам,
у Ферапонта
ушло
часа полтора.
Выбрать бы Ферапонту
путь покороче –
сына
уже от кости
корчит.
Наконец,
пропотевши в десятый пот,
к фельдшерской калитке
прибежал Ферапонт.
Вдруг
из-под калитки
выбежал котище –
черный,
прыткий,
как будто
прыть
лишь для этого берег.
Всю дорогу
Ферапонту
перебежал поперек.
Думает Ферапонт:
«Черный кот
хуже похорон
и целого
поповского
собора.
Задам-ка я
боковой ход –
и перелезу забором».
Забор
за штаны схватил Ферапонта.
С полчаса повисел о́н там,
пока отцепился.
Чуть не сутки
ушли у Ферапонта
на эти предрассудки.
Ферапонт прихватил фельдшера,
фельдшер – щипчик,
бегут
к подавившемуся
ветра шибче.
Прибежали,
а в избе
вой и слеза –
сын
скончался
полчаса назад.
А фельдшер
говорит,
Ферапонта виня:
«Что ж
теперь
поднимать вой?!
Кабы раньше
да на час
позвали меня,
сын бы
был
обязательно живой».
Задумался Ферапонт.
Мысль эта
суеверного Ферапонта
сжила со света.
У моей
у басенки
мыслишка та,
что в несчастиях
не суеверия помогут,
а быстрота.
[1923]
Реклама, 1923-1925
«Леф»
Против старья озверев –
ищите «Леф»*.
Витрину оглазев –
покупайте «Леф».
Вечером сев –
читайте «Леф».
От критики старых дев –
защищайте «Леф».
Хорошая книга!
А то
с какой стати –
стали б
плохую
издавать в Госиздате!
У «Лефа» пара глаз –
и то спереди,
а не сзади.
«Назад, осади!» –
на нас
орут
раз десять на́ день.
У «Лефа»
неповоротливая нога,
громок у «Лефа» рот, –
наше дело –
вперед шагать,
и глазеть,
и звать вперед.
[1923]
Журнал «Крысодав»*
Днем –
благоденствуют дома и домишки:
ни таракана,
ни мышки.
Товарищ,
на этом не успокаивайся очень –
подожди ночи.
При лампе – ничего.
А потушишь ее –
из-за печек,
из-под водопровода
вылазит тараканьё
всевозможного рода:
черные,
желтые,
русые –
усатые,
безусые.
Пустяк, что много,
полезут они –
и врассыпную –
только кипятком шпарни.
Но вот,
задремлете лишь,
лезет
из щелок
разная мышь.
Нам
мышь не страшна.
Пусть себе,
в ожидании красной кошки,
ест
понемногу
нэпские крошки.
Наконец,
когда всё еще храпом свищет,
из нор
выползают
ручные крысищи.
Сахар попался –
сахар в рот.
Хлеб по дороге –
хлебище жрет.
С этими
не будь чересчур кроткий.
Щеки выгрызут,
вопьются в глотки.
Чтоб на нас
не лезли, как на окорок висячий,
волю зубам крысячьим дав,
для борьбы
с армией крысячьей
учреждаем
«Крысодав»*.
[1923]
Журнал «Огонек»*
Беги со всех ног
покупать
«Огонек».
[1923]
Издательство «Красная новь»*
Что читать трудящимся
городов и сел?
Книги «Красной нови»,
в них – всё!
[1923]
Журнал «Московский пролетарий»*
Кодекс труда нэпачу
нипочем?
Нужен журнал – воевать с нэпачом!
Есть средь московских журналов
таковский?
Как же! Читай «Пролетарий Московский».
Всех описали?
Никто не забыт?
Всё на виду:
производство и быт!
Рабочий!
Малый ты иль старый –
читай
«Московский пролетарий»*!
Член профсоюза!
С подпиской спеши!
Пользы на рубль, а расходу – гроши.
[1924]
Контрагентство печати
Каждый знает
(не будем кричать) –
в «Контрагентстве
печати»
вся печать.
Каждую книгу
достать можно
в киоске городском
или железнодорожном.
Далек и пуст
магазин книжный:
нет журналов,
газет нет.
Иди немедленно
в киоск ближний!
Киоск
полон
книг и газет
Здесь отсутствие книги
не смущает вас.
Заполните
и пошлите
контрагентству
заказ.
Каждую книгу,
какую надо,
вам
немедленно
высылаем со склада.
Вскоре
заказ
лежит готовый.
Аккуратно,
быстро
и по цене оптовой.
[1924]
Журнал «Смена»*
[1924]
Журнал «Красный перец»*
[1925]
Госиздат
Крестьянское хозяйство улучшит грамотей,
по учебникам Госиздата учи детей.
Чтоб дети скорей приобретали знание,
в Госиздате учебники купи заранее.
Запомните ГИЗ!
Марка эта –
источник знания и света.
Каждому надо
знать адреса магазинов и складов.
Путь к коммунизму – книга и знание.
Учебник в Госиздате купи заранее!
Без грамоты – втрое над работой потеем.
Учебник Госиздата сделает грамотеем.
В магазинах Госиздата вам дадут
все учебники, нужные в этом году.
Не хотим читать ни молитвенники, ни требники –
в Госиздате купим настоящие учебники!
Дети растут. Чтоб грамотными стать им,
купите им учебники в Госиздате!
Гражданин, запомни это:
в Госиздате учебники по всем предметам.
Купи в Госиздате, не откладывая на завтра,
лучшие учебники новых авторов!
Ученый крестьянин хозяйство подымет.
Учебники в Госиздате. Обзаведись ими!
Вооружись в Госиздате учебной книгой.
Свет и знание в деревню двигай!
Безграмотному – мучение.
Купи в Госиздате книги для учения.
Дети требуют: учебники дайте!
Сообщаем: учебники все в Госиздате.
Каждый должен предусмотрительным быть!
Торопись в Госиздате учебник купить!
Долой невежества узы!
Учебник в Госиздате покупайте, вузы!
Чтоб сын твой был сознательный гражданин,
купи учебники! В Госиздате они!
Как добиться урожая
и зажить богато –
ты узнаешь
в книге Госиздата.
Для вуза,
рабфака
и самообразования
в магазине Госиздата
книги всех названий.
Всем, кому до́роги
знания пути,
мимо Госиздата
не пройти.
Учащиеся!
В Госиздате
в этом году
все учебники
в срок дадут.
Смотрите, как увеличился наш
тираж.
Как бороться с грызунами
и вредителем?
Книга Госиздата –
лучший учитель.
Путь к коммунизму –
книга и знание.
В магазине Госиздата
все новые издания.
Отпускник,
вооружись книгой,
полезные знания
в деревню двигай.
Дешевые книжки
по всем вопросам
в деревню бросим.
Невежество – тьма, знание – свет.
В Госиздате учебники на каждый предмет.
В Госиздате учащемуся народу
все книги к учебному году.
Все
учебники
уже
в Госиздате.
Граждане,
заранее
заказы
дайте!
Подумайте
о скидке
и кредите,
с заказами немедленно
в Торгсектор идите!
Грамоте
и ребенок,
и старик древний
выучится
по азбуке Горобца
«Из деревни».
Сообщаем кстати:
букварь «Из деревни»
продается в Госиздате!
Учащиеся,
обзаводитесь книгой новой!
Торопитесь,
чтоб никто
ни минуты
не потерял.
«Смена»
под редакцией Свердловой.
Первая книга.
Новый материал.
Сообщаем кстати:
«Смена» эта
продается в Госиздате!
Безграмотному скучно,
тяжко и горько,
но есть Блонского
«Красная зорька».
Это для чтения
первая книга.
Купи и грамоту
выучишь мигом.
Сообщаем кстати:
«Красная зорька» продается в Госиздате!
Чтоб жизнью зажить
сытой и новой,
грамоте
обучись
по букварю
Соловьевой.
Сообщаем кстати:
букварь Соловьевой
продается в Госиздате!
Плохо безграмотному.
Грамотным будь!
«Новый путь» Калашникова –
к знанию путь.
Это
для чтения
первая
книга.
За ней
и другие
прочтешь
мигом.
Сообщаем кстати:
книга Калашникова
продается в Госиздате!
[1924–1925]
Мосполиграф
Глаза разбегаются!
С чего начать?
Во-первых, в Мосполиграфе
вся печать.
Во-вторых,
чего ради
у нэпов покупать гроссбухи и тетради?
Всю писчебумажность, графленую и без граф,
продает Мосполиграф.
Чем искать граверов, мостовые пыля,
в Мосполиграфе заказывай печати и штемпеля.
И конечно,
разумеется само собою,
в Мосполиграфе
покупай обои.
Разинь глаза и во все смотри,
запомни эти адреса три.
Даешь карандаши,
которые хороши?
Каждый хозяйственник,
умный который,
здесь покупает
всё для конторы.
Где взять
перо и тетрадь?
Помни, родитель, –
В Мосполиграфе
всё, что хотите!
У бумаги без печати никаких прав.
Печати делает Мосполиграф.
Я первый по успехам
и прилежности.
Я здесь покупаю
письменные принадлежности.
Вспомните –
у вас оборвались
обои в комнате.
Нечего
стоять разиней.
Новые купите
у нас в магазине.
Печать –
наше оружие.
Оружейный завод –
Мосполиграф.
Наше оружие –
книга и газета.
Здесь куют
оружие это.
Стой, не дыша!
В Мосполиграфе
всё –
от гроссбуха до карандаша.
[1923]
ГУМ
Человек –
только с часами.
Часы
только Мозера.
Мозер
только у ГУМа.
Самый деловой,
аккуратный самый,
в ГУМе
обзаведись
мозеровскими часами.
Все, что требует
желудок,
тело
или ум, –
все
человеку
предоставляет ГУМ.
Где и как
достать английский
трубочный табак?
Сообщаем,
чтоб вас не мучила дума, –
только в ГУМе
и отделениях ГУМа.
Не уговариваем, но предупреждаем вас:
голландское масло –
лучшее из масл.
Для салатов, соусов и прочих ед
лучшего масла
не было и нет.
Нет места
сомненью
и думе –
все для женщины
только
в ГУМе.
Комфорт –
и не тратя больших сумм.
Запомни следующую строчку:
лучшие ковры продает ГУМ –
доступно любому, дешево
и в рассрочку.
Хватайтесь
за этот
спасательный
круг!
Доброкачественно,
дешево,
из первых рук.
Дайте солнце
ночью!
Где
найдешь
его?
Купи в ГУМе!
Ослепительно
и дешево.
Тому не страшен
мороз зловещий,
кто в ГУМе
купит
теплые вещи.
Нечего
на цены плакаться –
в ГУМ, комсомольцы,
в ГУМ, рабфаковцы!
Приезжий с дач, из городов и сёл,
нечего
в поисках
трепать подошвы –
сразу
в ГУМе
найдешь всё
аккуратно,
быстро
и дешево!
[1923]

Резинотрест
Резинотрест –
защитник в дождь и слякоть.
Без галош
Европе –
сидеть и плакать.
Дождик, дождь, впустую льешь –
я не выйду без галош.
С помощью Резинотреста
мне везде сухое место.
Безгалошные люди,
покупайте галоши,
скидок не будет.
В дождь и сороконожка не двинется с места
без галош Резинотреста.
Раскупай, восточный люд, –
лучшие галоши привез верблюд.
Наши галоши носи век, –
не протрет ни Эльбрус, ни Казбек.
«Без галош элегантнее» –
это ложь!
Вся элегантность от наших галош.
Галоши Резинотреста –
просто восторг.
Носит
север,
запад,
юг
и восток.
Победительница всех шин
на всероссийском пробеге легковых машин.
Товарищи девочки, товарищи мальчики!
Требуйте у мамы
эти мячики.
Лучших сосок
не было и нет –
готов сосать до старости лет.
От игр от этих
стихают дети.
Без этих игр
ребенок – тигр.
[1923]
Моссукно*
Стой! Прочти! Посмотри!
Выполни точка в точку.
И в Моссукне, магазин № 3,
оденешься в рассрочку.
Всем коллективом обдумай думу –
кто хочет купить и на какую сумму.
Выбери представителя (расторопного, не из разинь)
и со списком желающих пришли в магазин.
Четверть платишь наличными, а на остальные векселя.
И иди к прилавку, сердце веселя.
И конец: или сам забирай, или
на весь коллектив вези на автомобиле!
[1923]
Чаеуправление*
Эскимос,
медведь
и стада оленьи
пьют
чаи
Чаеуправления.
До самого полюса
грейся
и пользуйся.
Ребенок слаб
и ревет,
пока́ он
не пьет
по утрам
наше какао.
От чашки какао
бросает плач,
цветет,
растет
и станет силач.
Царь
и буржуй
с облаков глядят,
что
рабочие
пьют и едят.
С грустью
таращат
глаза свои:
рабочие
лучшие
пьют чаи.
Милый,
брось слова свои, –
что мне
эти пения?
Мчи
в подарок мне чаи
Чаеуправления.
Где взять
чаю хорошего?
В Чаеуправлении –
доброкачественно и дешево.
Спешите покупать,
не томитесь жаждой –
чай на любую цену,
чай на вкус каждый.

Радуйся,
весь восточный люд:
зеленый чай
привез верблюд.
Этот чай –
лучший для чайханэ.
Такого –
кроме нас –
ни у кого нет.
Мы
зовем
пролетария
и пролетарку:
запомни
точно
эту марку.
Покупая,
примечай:
чей – чай?
Остерегайтесь
подделок.
Что за радость,
если вам
подсунут
дешевую гадость?
От чая случайного
откажемся начисто.
Лишь чай Чаеуправления
высшего качества.

Важное известие
сообщаем вам:
этот –
пьет
вся Москва.
Граждане,
берегите интересы свои:
только
в Чаеуправлении
покупайте чаи.
Граждане,
не спорьте!
Советские граждане
окрепнут в спорте.
В нашей силе –
наше право.
В чем сила? –
В этом какао.
Смычка с деревней.
Выходи и встречай –
Москва
деревне
высылает чай.
Крестьяне,
соблюдайте интересы свои:
только в Чаеуправлении
покупайте чаи.

Присягну
перед целым миром:
гадок чай
у частных фирм.
Чудное явление –
Чаеуправление.
Сразу видно –
чай что надо,
пахнет
дом
цветущим садом.

От спекулянтов
у трудящихся
карман трещит.
Государственная торговля –
наш щит.
Эй, рабочий!
Крестьянин, эй!
Чай
у треста
покупай и пей!
Каждого просвещай,
лозунг кидая:
в Чаеуправлении
лучший чай
из Китая.
Все сорта,
от черного
до зеленого –
и с цветком,
и без оного.
У Чаеуправления
внимательное око:
мы знаем –
вам
необходимо Мокко.
В ручном труде год маши –
устанут руки, еле тычутся.
При помощи динамомашин
покой и отдых
даст электричество.
[1924]
Моссельпром*
Нигде кроме
как в Моссельпроме.
Нами
оставляются
от старого мира
только –
папиросы «Ира».
Сказками не расскажешь,
не опишешь пером
папиросы
«Моссельпром».
Все курильщики
всегда и везде
отдают предпочтение
«Красной звезде».
Папиросы «Шутка»
не в шутку,
а всерьез –
вкусней апельсинов,
душистей роз.
Папиросы «Червонец»
хороши на вкус.
Крепки,
как крепок червонный курс.
Стой! Ни шагу мимо!
Бери
папиросы
«Прима».
Выкуришь 25 штук –
совершенно безвредно:
фильтрующий мундштук.
«Леда» –
табак вкусный и легкий,
даже бабочке не испортит легких.
Лучше не курить!
Но если курить,
так «Араби».
Даже дети, расставшись с соскою,
курят
«Посольскую».
Новый выпуск. Лучшего качества.
Расхватывайте
начисто!
Разрешаются все
мировые вопросы, –
лучшее в жизни –
«Посольские»
папиросы.
Папиросы «Кино» –
каждый рад:
максимум удовольствия,
минимум затрат.
Аромат, дешевизна,
высший вес
только в папиросах «Трест».
Гражданин,
не таись –
ты любишь
и куришь
«Таис».
Папиросы
«Басма́»
хороши весьма.
По вкусу
и мне
и вам
только папиросы «Селям».
Знатока рука
берет безошибочно
папиросы «Дукат».
Папиросы «Люкс» –
новинка последняя,
качество высшее,
цена средняя.
Папиросы «Рекорд»
не по названью, а в жизни
рекорд вкуса,
рекорд дешевизны.
Любым папиросам
даст фор
«Герцеговина Флор».
Кури «Максул»,
не выпуская из рук.
20 копеек
25 штук.
Фабрика «Ява»,
папиросы «Янтарь»
дешевле, чем раньше,
лучше, чем встарь.
Папиросы «Трио»
хороши втройне:
1) по весу,
2) по вкусу,
3) по цене.
Курящие трубку!
Наш девиз:
– Даешь
табак «Джевиз»!
Не могу не признаться:
лучший шоколад
абрикосовский № 12.
Нет нигде кроме –
как в Моссельпроме.
Я пью чай
с монпансьем –
на стакан
и одно
не съем.
Фунт сахару –
копеек двадцать семь.
Фунт за вечер съем.
Фунт конфет
копеек около 40, –
неделя проходит,
съешь пока.
Конец конфетной голодовке.
Дороговизны нет!
В Моссельпроме
скидка со всех конфет.
Где конфеты дешевле и лучше?
Убедись сам!
Беги по этим адресам.
Нет
буржуев,
помещиков
нет –
нами
правит
наш
совет.
Кого
в совет
выбирать от нас?
Кто защитник трудящихся масс?
– Ясно:
во все советы выставь
партию трудящися –
большевиков-коммунистов.
Слушай, земля,
голос Кремля.
Нет буржуев,
помещиков нет.
Нами правит собственный совет.
Сняли Скобелева.
Генералов вон.
На этом памятнике
советский закон.
Глядит глазасто
верст за́ сто:
всё тут,
и земля и труд.
Летит перекличка:
да здравствует смычка!
Расставлять фонари на лице
учились своры царевых рот.
Мы учим, чтоб красный офицер
защищал трудовой народ.
На бедняке не наживется нэп.
Моссельпром продает и сласти и хлеб.
Старый банк – нажива банкиру.
Наш – помощь рабочему миру.
Здесь раньше купцы веселились ловко.
Теперь университет трудящихся – Свердловка.
Купцы обдирали год от году,
потом картинки вешали в зале.
Клич коммунистов:
– Искусство народу! –
Свои богатства обратно взяли.
Раньше царевы конюшни были.
Теперь отдыхают рабочие автомобили.
Здесь был участок и тюрьма для солдат.
А мы ребятам разбили сад.
От «Фабричной карамели»
мы убытков не имели.
И налево и направо
всюду ей хвала и слава!
Ты возьми конфету эту
непременно на примету:
с каждым часом все известней
на ее обертках песни.
Эта новая затея
учит лучше грамотея.
Вытесняет сорт обычный
карамели вкус «Фабричной».
И деревня и завод
лучшей – эту назовет!
Довести до дележа б
нас – буржуи кучатся.
Да советский дирижабль
на границе пучится.
По весне земля черна,
взбита, словно вата.
Покрупней давай зерна
пашне, элеватор.
Пусть пашет луг
тракторный плуг.
И пшеницу и овес –
всё подымет грузовоз:
на крутой изволок
сразу – дернул и взволок.
Ты не стой у реки
до седого веку –
лучше мост перекинь
через эту реку.
Нам бы враг зашел во фланг,
да вверху аэроплан.
Чтобы красный флаг сиял,
покупайся, акция.
Взялся пан за виски:
безобразие, –
защемилась в тиски
буржуа́зия.
Старина, не хромай.
Подтянись, что молодо.
Проведемте трамвай
от села до города.
Присмотрись к шатунам,
на котел прицелься.
Хорошо – всюду нам
проложить бы рельсы.
Пароход хорош,
идет к берегу;
покорит наша рожь
всю Америку.
Крестьянскому характеру
пора привыкнуть к трактору,
не провернуть земли сухой
доисторической сохой.
Этою вот самою
машиною динамою
можно гору сдвинуть прочь,
горю нашему помочь.
Зря не надо быть упрямым,
надо вещи вешать граммом.
В грамме этом – сам вникай –
четверть лишь золотника.
Так во всем ведется мире –
отливают в граммах гири.
Перевод и прост и прям:
четверть фунта – сотня грамм.
Тут расчет опять простой:
если четверть фунта – сто,
приравняй в одну секунду
двести граммов к полуфунту.
Упирай на этот пункт,
новый разум вырасти:
тянет граммов старый фунт
около четыреста.
Если ты неграмотен,
вешай все на граммы.
Фунт и четверть – старый хлам,
гиря есть – пять сотен грамм.
Не понимать то – было б срам:
тысяча граммов – килограмм.
Глянь, килограмм нарисован там,
двум с половиною равен фунтам.
Два килограмма – фунтов пять.
Это очень легко понять.
Сам примечай, когда будешь весить:
делятся все эти три на десять.
Пять килограммов – гиря велика,
больше нашего десятифунтовика.
Но и ее расчет не ми́нует:
двенадцать фунтов в ней с половиною.
Что помешает запомнить нам:
– тысяча килограммов – тонна.
Вес ее точный, помнить буду,
равен шестидесяти одному пуду.
Крестьянин, тонну запомнишь недаром:
на тонны счет заграничным товарам.
Тоже быть не нужно хитрым,
чтоб измерить жидкость литром.
Для простоты запомнить нужно:
в одном ведре литров – дюжина.
Гектолитр тебе не кружка:
восемь ведер в нем с осьмушкой.
На сто литров разделить
можно этот гектолитр.
Помните, сыны и дочки,
в килолитр войдет две бочки.
Даже – если помнить дробь –
лишку с четвертью ведро.
Новые гири – старых
тяжелее.
Мы их примем,
прежних не жалея.
Чтобы точно прикинуть
фунты к килограмму,
нужно запомнить
такую программу:
фунтами вес
для ровности класть,
а после отнять
сорок третью часть.
Принято в торговом народе
аршин отмерять в этом роде:
расстояние от пальца до плеча
привыкли аршином величать.
Так и метр отмерить вам можно:
приблизительно
от пальцев до плеча противоположного.
Не хитрая машина –
ладонью отмерить четверть аршина.
Растопырь большой и указательный пальцы:
приблизительно четверть аршина отвалятся.
Сантиметры тож.
Легко измерить с помощью ладош.
Чтоб 10 сантиметров отмерить мог,
отложи ладонь не вдоль, а поперек.
Запомни также (трудности нет):
10 сантиметров – один дециметр.
Сколько в метре в этом аршин?
На метр полтора аршина отмаши.
А если хотите точно класть:
метр меньше на шестнадцатую часть.
Запомни расчет, очень важен:
два метра – приблизительно сажень.
Рисуем, чтоб каждый запомнить мог.
Четыре сантиметра – один вершок.
Запомните, эта работа не тяжка́:
один сантиметр – четверть вершка.
Заруби на носу, торговый люд:
три дециметра – один фут.
Узнаем, не тратя догадок уйму:
2½ сантиметра равняются дюйму.
Как ни мал, а запомним все-таки:
1 сантиметр – половина сотки.
Нет ничего проще,
как измерить по-новому площадь.
Смерь длину,
смерь ширину,
помножь одну на одну,
получится квадратная мера.
Возьмем для примера:
вдоль 30 метров, вширь 20,
всех 600 квадратных –
легко догадаться.
Важно для каждого гражданина:
в 1 кв. метре приблизительно 2 кв. аршина.
У нас обычай старинный –
мерить землю десятиной.
Теперь без крика и свары
научимся мерить на гектары.
В гектаре 10 000 метров квадратных,
и пустяк сосчитать туда и обратно.
По простой причине
гектар примерно равен десятине.
А точно сосчитать –
гектар меньше десятины на 12-ю часть.
Например: сколько десятин
в гектарах шестидесяти?
Надо от 60 отнять
12-ю долю – пять.
Значит в 60 гектарах
55 десятин старых.
Обратно – десятина гектара боле
на 11-ю долю.
Возьмем для примера опять
десятин этак 165
и приведем их указанным манером
к гектарным мерам.
За решением недолго гнаться,
от 165-ти 11-я доля – 15.
Прибавим – и решена задача:
180 гектаров, значит.
Для участков мелких велик гектар,
есть мера поменьше – ар;
сто ар в гектаре,
сто кв. метров в аре.
В одном аре не более и не менее,
а ровно 22 квадратных сажени.
Запомни сразу, разиней не стой:
километр приблизительно равен с верстой.
Те, которые точности ищут,
знайте:
в километре – метров тыщу.
По этому километру
вези товар, засвистывая по ветру.
Нынче
знает каждый –
как не знать?! –
Заграница
стала нас
усердно признавать.
Завтра или нынче,
поздно или рано
всюду
наш товар
пойдет по чужедальним странам.
Чтобы нас
никто
в торговле
не обмерил,
приучаться надо
к заграничной мере.
Эй, товарищи,
пора вам
мерить метром,
вешать граммом.
Чтобы вы
о новых мерах
представление имели,
предлагаем
закупить немедля
эти карамели.
Клич
несись по Эс Эс Эр:
– Новой мерой
землю мерь!
Распростись со старыми,
землю мерь гектарами.
Примиритесь вы и с тем,
что конец пришел версте.
Сам узнаешь
очень просто
километром мерить вёрсты.
Чтоб о новых мерах
все понятие имели, –
раскупайте эти карамели.
Если на фронте опасность имеется,
наша защита – красноармейцы.
Сунулся было Колчак в правители –
только того адмирала и видели.

Вздумалось лезть генералу Деникину –
красноармеец Деникина выкинул.

Врангеля шлют помещики вскоре –
скинули Врангеля в Черное море.
Шел Юденич на Красный Питер,
да о штыки бока повытер.

Теперь передышка. Военный люд
домой возвратился и взялся за труд.

Не верьте, крестьяне, в тишь да гладь,
в землю штык – рано втыкать.
Шире открой на Запад глаза,
с Запада может прийти гроза.
С Антантой вострей держите ухо –
тоже тянется к нашим краюхам.
Чтоб враг не лез на республику в ражи,
красноармейцы, стойте на страже!
Наша власть –
власть Советов.
Твердо
трудящийся
знает это.
Совет
рабочему –
сила и право.
Совет
для буржуя –
пресс и управа.
Где наилучшее
производство монпансье?
Запомните все:
нигде
кроме
как в Моссельпроме.
Если вы
давно
удовольствий не имели,
купите
здесь
Моссельпромовской карамели.
Я
ем
печенье
фабрики «Красный Октябрь»,
бывшей Эйнем.
Не покупаю нигде, кроме
как в Моссельпроме!
Было зебре горячо
бегать только в Африке,
а теперь ее печет
Моссельпром на фабрике.
Поглядев на зебру ту,
меньшевик досадует:
не с него ли красоту
сняли полосатую?
Рассыпайся по кустам,
вражеская конница.
За тобою здесь и там
авиатор гонится.
Уползай под стол, рыча,
генералов нация.
Подымайся на плечах,
наша авиация.
Мы везде проводим мысль,
даже в деле лакомств:
если нашей станет высь,
враг полезет раком.
Мы победим,
блокады нет,
Европа разговаривает с нами,
над каждой страною слово
полпред,
над каждой –
красное знамя.
Рабочий Европы,
довольно слов!
Октябрьского грома отведав,
тоже
в Москву
шли не послов,
шли
красных полпредов.
Иностранцам пора
заключать договора.
Да с чужою грамотой
нам не вышло б сраму-то.
Договор держа в руке,
например, с Италией,
мы на русском языке
зря б его читали ей.
Чтоб поставить на своем,
не сомкнем мы глаз – пока
всю тебя не прожуем,
иностранцев азбука.
Прославляя Моссельпром
знаньями богатыми,
торговать потом попрем
вслед за дипломатами.
Раньше
крестьянка была рабой,
в семью,
как в полон, о́тдана.
Всех освободил
Октябрьский бой,
и женщина
стала свободной.
Не кончены наши труды,
много в республике дыр.
В общие стань, крестьянка, ряды,
крепи Советский мир!
Зовете вы или не зовете,
про́сите или не про́сите,
но к вам обязательно
приходят гости.
Бросишься угощать,
а в доме ни крошки.
Хлеб высох,
масло поели кошки.
Что делать?..
Положение отчаянное…
Беги
покупай печенье Чайное.
Печенье Красный Октябрь Моссельпрома
и вкусней и выгодней булки.
Киоски в двух шагах от любого дома,
отделения в любом переулке.
Говорят, что в самой Вене
фабриканты ходят в пене,
будто с них посбила спесь
моссельпромовская «Смесь».
Говорят, что в самой Вене
фабриканты – словно тени:
сами мы сумели здесь
«Венскую» сработать «смесь».
Печенье не черствеет!
Питательнее,
выгоднее булки!
Продает Моссельпром.
Отделения в любом переулке.
Остановись,
уличное течение!
Помните:
в Моссельпроме
лучшее печение.
Лучший бисквит!
замечательный на вкус,
прекрасный на вид.
Столовое
масло!
Внимание
рабочих масс!
Втрое
дешевле
коровьего,
питательнее
прочих масл.
Нет нигде
кроме –
как в Моссельпроме.
Трудящиеся!
Не страшны дороговизна и нэп –
покупайте
дешевый хлеб
во всех
магазинах и киосках Моссельпрома
в двух шагах от любого дома!
Раз поешь этих макарон, –
и ты
навсегда покорён.
Этого чуда
нет нигде, кроме
как в Моссельпроме.
Где покупали-ели
самые вкусные
макароны
и вермишели?
Нигде
кроме
как в Моссельпроме.
Долой кухарок!
Кухарок нет.
Я в Моссельпроме заказываю обед.
Убедись сам –
иди
по этим
адресам.
Стой!
Ты проголодался
в театре –
заверни
минуты на́ три!
Пришлем
к ужину
блюд дюжину.
Я человек тихий и мирный –
не выношу жизни трактирной.
Как без прислуги поесть дома?
Закажи обед в магазинах Моссельпрома.
Только один телефонный звонок –
и ужин
прибежит со всех ног.
Никому не нужно
готовить ужина.
Всё, что надо,
приносим на́ дом.
Долой запивающих до невязания лык,
но пей Трехгорное пиво –
пей «Двойной золотой ярлык».
Трехгорное
пиво
выгонит вон
и ханжу
и самогон.
Попробуйте –
и сделайте вывод:
лучшее на вкус
Хамовническое пиво.
Все специи,
какие надо, –
от горчицы
до маринада!
Извещаем вас –
лучший выбор ветчин и колбас
нигде кроме
как в Моссельпроме.
Внимание!
Важно для рабочих масс.
В Моссельпроме
лучшее
производство колбас.
Каждому нужно
обедать и ужинать.
Где?
Нигде кроме
как в Моссельпроме.
Далеко не ходите!
Во мгновенье ока
здесь
купите
кофе Мокко.
Пейте
моссельпромовские
фруктовые воды.
Хороши для жаркой
и для холодной погоды.
В сухом виде
хлебный квас
очень необходим
и полезен для вас.
Сокращает домашние расходы,
приятен и полезен
при всякой погоде.
Должен иметься
в каждом доме.
Изготовляется
только в Моссельпроме.
[1923–1925]
Приложение
Коллективное
Рассказ про Клима из черноземных мест, про Всероссийскую выставку и Резинотрест*
Вся советская земля
загудела гудом.
Под Нескучным
у Кремля
выстроено чудо.
Кумача казистого
пламя улиц за́ сто:
Первая из Выставок
Сельского хозяйства.
В небесах –
моторов стая.
Снизу –
люди, тискаясь.
Сразу видно –
не простая,
Всероссийская.
И сейчас
во все концы
ВЦИКом посланы гонцы
к сентябрю
на Крымский брод
деревенский звать народ.
Жил в деревне
дядя Клим,
пахарь,
работяга.
Клич гонцов услышан им,
Клима тянет тяга.
Чуть в окно забрезжил свет,
Клим встает с полатей,
прибегает в сельсовет:
– Экспонаты нате! –
Экспонаты обсудив,
почесав за кепкой,
молвят:
– Дивушко из див –
на два пуда репка. –
А за репкой этой им
кажет куру дядя Клим.
Хоть езжай на ней верхом, –
лошадь,
а не кура.
Видно, Клим умом не хром,
голова не дура.
– Поезжай за всё за это
делегатом сельсовета. –
По рукам!
Пришла пора
Климу собираться.
Выезжает со двора:
– До свиданья, братцы! –
Примечай.
Москва зовет
всех на перекличку,
чтобы пашня и завод
укрепили смычку.
Паровоз рванул гужи,
только копоть курится.
Едет к выставке* мужик
с репою
и курицей.
Вот Москва.
Гремит вокзал.
Клим приплюнул на́ руку.
Репу с курицей связал.
Ходу.
За Москва-реку!
Ходуном гремит базар,
яркой краской жалясь.
В сто сторон его глаза
мигом разбежались.
Клима всё к себе зовет,
хоть на части тресни.
Тут и хата
и завод,
музыка
и песни.
Переполнило добро
чудо-павильоны.
Клима жмут во всё ребро
люда миллионы.
Тут и тканей облака,
тут и фрукты в глянце.
Что коты у молока,
ходят иностранцы.
Зубы их поэтому
на продукты точатся:
торговать с Советами
иностранцам хочется.
Клим в ухмылку:
– Не таков!
Выучен недаром:
раньше щупали штыком,
а теперь –
товаром.
Я чем хуже?
Вот те на! –
Клим ругнулся крепко
и расставил экспонат –
курицу и репку.
По рядам аж шум пошел,
все сбежались живо.
– Это, братец, хорошо!
Репища на диво. –
А на курицу народ
на аршин разинул рот –
в ней усердья без конца:
в сутки по три яица.
Длится выставки осмотр.
Истекает время ей.
На неделе на восьмой
награждают премией.
– Так как Клим у нас герой
не в словах, а в деле,
наградить его
горой
всяческих изделий. –
Клим в ответ на слово их:
– Сделайте, столичные,
чтоб изделия – свои,
а не заграничные. –
Мчится Клим
во весь опор
в складочное место.
Получай
вещей набор
от Резинотреста.
Глянул Клим
тюку во щель
и застыл довольный.
Видит:
выводок вещей
с маркой треугольной.
Клим подвесил хорошо
вещи за спиною.
В это время
дождь пошел
в руку толщиною.
Дождь дорогу замесил.
Люди
по дороге
выбиваются из сил,
извлекают ноги.
Клим смекает:
– Путь далек.
Я – шагать не лошадь. –
И немедленно
извлек
из тюка
галоши.
– Без галош тяжело ж! –
И пошел довольный
в паре новеньких галош
с маркой треугольной.
Каплет с носа,
каплет с уха,
а в галошах
всюду сухо.
Каплет с уха,
каплет с носа,
а галошам
нет износа.
Снизу сухо.
Но зато
сверху
мочит начисто.
Клим в тючок.
А там
пальто,
лучшее по качеству.
В это время
грузовик:
– Землячок!
Садись-ка!
Городок-то наш велик,
и вокзал не близко –
Только вымолвил, –
как вдруг
крякнула машина.
И взвинтила грязь вокруг
лопнувшая шина.
Клим к шоферу
(тюк в руке):
– Не бранись, дружище.
Покопаемся в тюке –
что-нибудь подыщем. –
Глядь шофер –
и ну – сиять,
как обжора в полдник:
– Это шинища на ять.
Марка – треугольник. –
Шину живо подвязал.
Сел.
И в тучах дыма
в две минуты
на вокзал
он доставил Клима.
Обнялись.
Один комок.
Чмок шофера в личико
– Ты помог, да я помог,
вот и вышла
смычка. –
Поезд вьется, что налим,
по дороге ровной.
На деревню едет Клим,
дядя премированный.
По деревне
гам и гуд.
Изо всех дворов бегут.
Клим
от гордости разбух,
тюк на плечи –
да в избу.
На полати,
на кровать
влезло Климье племя.
Просят тятьку
открывать
поскорее премию.
Усмехнулся Клим в усы.
Как открыл корзину –
так и брызнуло в носы
запахом резины.
Хоть ты смейся.
Хоть ты плачь.
Глазу стало больно:
красный мяч, да пестрый мяч,
и большой футбольный.
– Эй, сынки!
Лови мячи.
В небеса мячи мечи,
подшибай ангелят,
что крылами шевелят. –
Вдруг
глядит:
в уголок
малец трубку поволок.
И привычной хваткою
стал крепить рогаткою.
Клим от хохота растаял:
– Ах ты, вобла стиранна!
Эта трубка
не простая,
а отнюдь клистирная.
Дорогие вещи вот
тащишь
без разбора.
Эту трубку
пустим в ход
в случае запора. –
– Эй, девчонки!
Ваш черед. –
Подошли вострушки.
Из корзины
Клим
берет…
Что берет?
Игрушки.
В восемь пар открытых ртов
взвизгнули девицы.
Куклы,
звери всех сортов –
и не надивиться.
Каждой – кукла из резины
(а подавишь –
пискает).
Дали кукле имя Зины,
кукле
пузо тискают.
– Получай еще новинку,
кто у вас тут школьник.
Для стирания
резинку
марки «Треугольник». –
Школярам кричит и мать:
– Эй вы,
голодранцы!
Чтобы книжек не трепать,
получайте ранцы.
Чтоб не видеть
мне
у вас
грязной образины,
получите-ка сейчас
губки
из резины.
Эта губка,
что метла.
Сор с лица метет дотла. –
– На! Хозяйка!
Получи
младшему ребенку,
чтоб постель не промочил,
на подстил
клеенку.
Эх! Куда поденутся
скверные привычки –
в рот совать младенцам
тряпочки-затычки!
Чем беднягушке совать
в рот свои обноски,
есть на свете –
помни, мать, –
«Треугольник»-соски.
Агрономы же велят
соски взять и для телят. –
Соской
Клим
в один присест
оделил ребенка.
– Ну, старша́я из невест,
вот тебе
гребенка. –
Не гребенка,
а краса,
вся из каучука.
Я гребенкой волоса
виться научу-ка.
Лягут волосы верней,
хороши собою.
И не будет
от парней
никогда отбою.
– А тебе,
мой старший сын,
гребешок кармановый.
Расчеши себе усы,
красоту подманывай. –
Дети кукол теребят.
Весело и дешево.
Только плачет у ребят
драная подошва.
– Ничего! –
ответил Клим. –
Мой подарок – стойкий.
Из резины слажу им
каблуки-набойки.
Не пробьет их пистолет,
не разносишь в триста лет. –
И с улыбкой на губах
старшенькому
Мишеньке,
чтобы пот не ел рубах,
подстегнул подмышники.
Клим уселся у стола
и промолвил:
– Жёнка!
Стол к обеду устилай
скатертью-клеенкой.
Коль прольешь, к примеру, щи,
не волнуйся,
не пищи.
С нею жить
сплошной расчет –
сквозь нее не протечет. –
Клим поел.
Откинул ложки.
Под кровать метнул галошки.
Начал Клим зело сопеть.
Сын же взял велосипед.
Хвастаясь машиною,
гонит новой шиною.
В стойле сыплется овес.
Меринок пирует.
Клим и мерину привез
из резины сбрую.
Вдруг кричат:
«Горим!
Горим!»
Брызнули ребята.
У соседа,
видит Клим,
загорелась хата.
Не стесняясь никого,
Клим
на это место
мчит с пожарным рукавом
от Резинотреста.
Был с пожаром бой там.
Двинул Клим брандсбойтом
и зарезал без ножа
начинавшийся пожар.
Обнимают Клима все.
Славят за услугу.
Трепыхается сосед,
стонет с перепугу.
Шел деревней бабий вой –
хуже нету песни ж!
Аж, казалось,
головой
на две части треснешь.
Головы не арбузы́.
Фельдшер баит:
– Надо ведь
гуттаперчевый пузырь,
льдом набив, прикладывать.
Только, видно, ищем зря.
Где достанешь пузыря? –
Клим,
увидевши испуг:
– На! –
кричит, –
отверчивай!
Вот пузырь тебе, мой друг,
самый гуттаперчевый. –
Детвора,
бородачи,
парни
и девицы,
псы,
телята
и грачи –
все
пошли дивиться.
Удивился даже боров.
Клим заметил:
– Эка!
У меня
таких приборов
целая аптека.
Даже если в теле зуд,
вскипятишь водицы
в гуттаперчевом тазу
в горнице помыться.
Если с грыжей трудно жить,
надевайте бандажи́.
Кость сломал –
бинтуй излом
гуттаперчевым узлом. –
Климу счастье подошло.
Клим – мужик любимый.
Все родимое село
уважает Клима.
На задворках гул и гам
от игры футбольной.
Парни,
волю дав ногам,
прыгают довольные.
Что́ ругаться по дворам,
сыпля колотушки?
Заиграла детвора
в разные игрушки.
Попик высох.
Еле жив.
Храм –
пустое место.
Все село заворожил
тюк Резинотреста.
– Это что! –
смеется Клим. –
Дай
на ноги станем, –
непременно полетим
на аэроплане.
Снарядим его у нас,
выстроим машину.
Подкуём летуна
собственною шиной.
Загранице ни на руб
не давай нажиться.
Живо
деньги
удерут
в эту заграницу.
Если ж станем брать свое,
будет нам лафа житье. –
И добавил Клим, ярясь:
– Мы других не плоше.
Через всяческую грязь
проведут галоши.
Если ж враг захочет съесть
нас и нашу ношу,
как бы тем врагам не сесть
в эту же галошу! –
[1923]
Рассказ про то, как узнал Фадей закон, защищающий рабочих людей*
Пришел и грянул октябрьский гром.
Рвал,
воротил,
раскалывал в щепки.
И встал
над бывшим
буржуйским добром
новый хозяин –
рабочий в кепке.
Явился новый хозяин земли.
Взялся за руль рукой охочей.
– Полным ходом!
Вперед шевели! –
Имя ему –
советский рабочий.
За всю маету стародавних лет,
что месили рабочих
в кровавое тесто, –
пропорол рабочий
хозяйский жилет,
пригвоздил
штыком
на нужное место.
Где хозяйская спесь?
Присмирел, как зайчик,
под рукой рабочих волк-хозяйчик,
Ни шагнуть ему,
ни орнуть,
ни икнуть.
Настал для хозяйчиков
страшный годик, –
свистнул хозяев,
и над ними,
как кнут,
навис трудовых законов кодекс.
В этом кодексе
крепкий наказ:
растить
и беречь рабочий класс.
О рабочем труде
должен радеть
кодекс законов о труде.
Этот закон
не объедешь с тылу,
пока рабочая власть жива.
Будем хранить рабочую силу,
будем
беречь
рабочьи права.
(статья 1)
Бился Фадей на всех фронтах.
Фадея на фронт коммуна зовет.
Выпустил
крови
чуть не фонтан.
И вот
вернулся назад –
на завод.
Оглядел Москву,
поглядел на людей.
И в затылке крепко чеснул Фадей.
Мне, говорит, зарабатывать хлеб,
а как заработаешь,
ежели нэп?!
Значит, опять
шапку ломать.
А хозяин возьмет
да другого наймет.
Ах ты, твоя растакая мать!
Око-то видит,
да зуб неймет. –
Оборвал его Пров:
– Плакаться брось!
Чего пересуживать вкривь да вкось?
Нынче
порядок у нас другой,
наймешь не всякого,
кто под рукой.
Никому не взять,
не взять никогда
с вольного ветра рабочих людей.
Брать их должен с биржи труда! –
– Ишь чудеса, –
буркнул Фадей.
А Пров опять:
– Почесывай темя!
Это тебе не старое время.
Тут те
не барский наем да расправа.
Биржа –
(ст. 5–7)
крутая буржуям управа.
Вторая управа –
профсоюз,
за союзом своим
ничего не боюсь.
Не возьмут в кабалу,
ни в хозяйский плен,
если ты
профсоюза
полноправный член.
(ст. 1-56)
Профсоюз тебе
и подмога и щит.
От него
у хозяина
пузо трещит.
Профсоюз
от тебя
не потребует многого.
Гроши – профсоюзный членский взнос,
но зато
подписал коллективный договор,
а там ходи,
подымая нос.
Союз
с хозяином
подпишет условия
про плату,
про срок,
про твое здоровье.
Знай трудись,
(ст. 15–24)
да мотай на ус –
де твой интерес
блюдет союз.
А если б союз
оплошал в догово́ре,
тоже не дюже большое горе.
В рабочей стране
никому не приходится
снижать условия ниже кодекса.
Заяви наркомтрудскому органу,
(ст. 19)
и скверный договор
мигом расторгнут.
А чтобы в союз не ходить далёко,
на заводе есть союзное око.
Каждый рабочий с ним знаком,
называется око это –
завком.
Во всякой беде,
во всякой невязке
в завком направляйте шаг пролетарский.
(ст. 156)
Всё запомни, –
учит Пров, –
вали работать
и будь здоров! –
Запылал Фадей,
как червонный туз,
записался на биржу
и в профсоюз.
Входит Фадей на заводский двор,
идет
заключать
трудовой договор.
Фадей плечами подпер косяк.
Хозяин жмется и так и сяк.
Хозяйские глазки в стороны лезут, –
чтоб такое с Фадея урезать?
Смеется Фадей:
– Не те времена!
Брось, хозяин, мозги уминать,
верти не верти,
(ст. 27)
крутись, как хочешь,
а через кодекс не перескочишь.
Как ни въедлив хозяйский нрав,
не ужмет
хозяин
рабочих прав. –
Говорит хозяин:
– Прямо противно:
договор трудовой,
да договор коллективный… –
(ст. 28)
Фадей смеется, сощуря глаз:
– Буржуям противно,
а нам как раз!
Нынче
с рабочих
не вымотать лишки –
записано всё в расчетной книжке,
не отменишь условий,
хоть плачь да вой,
расчетная книжка –
(ст. 29)
свидетель живой. –
– Ну, Фадей,
теперь на завод! –
Пров лукаво Фадея зовет.
Вошел Фадей,
растопырил глазища –
куда девалась былая грязища?
Вонь, да пыль, да копоть где?
Всё подмел
закон о труде.
(ст. 138)
Клохчут машины, будто наседки,
для безопасности
скованы в сетки.
Тут и нарочно
рукой
в привод
даже разиня не попадет.
Раньше завод –
не завод, а геенна.
Теперь
по геенне
прошла гигиена.
Прежде машины кропились кровью,
теперь –
берегут трудовое здоровье.
Крепки устои рабочих прав,
хозяйская жадность
раздавлена в пласт.
Прежде,
знай, налетал на штраф,
теперь не штрафнут,
закон не даст.
Раньше выгнать,
что снять картуз.
Лицом не потрафил –
готов расчет.
А теперь
пообструган хозяйский вкус.
Попробуй погнать,
попадешь на сучок.
(ст. 43)
Теперь увольнять
много круче
и только
в следующих случаях:
во-первых,
если закроют завод,
или на месяц работа замрет,
или
если к труду не годны́, –
в этих случаях –
(ст. 47)
требуй выходных.
А если
работник
не нужен в деле,
предупредят его
за две недели.
И пусть хозяин
орет и бесится,
а должен заплатить
за полмесяца.
(ст. 88–89)
Конечно, гонят тех,
кто зря
вместо работы
копает в ноздрях.
Да и то не уволят их,
пока
не обсудит дело
РКК.
Но если
за дело под суд попал,
или, скажем,
дня на три без спросу пропал,
иль в месяц ден шесть прогулял гуртом,
тогда
посидишь с голодным ртом.
– А ежели, скажем, я был нездоров? –
И на это
Фадею ответил Пров:
– Болен – болей!
Коль рабочий болен,
2 месяца не будет уволен.
А у бабы
болезнь и роды
могут тянуться до полгода.
Если ж хозяин,
разгильдяй и мошенник,
в срок тебе не выплатил денег,
если хозяин
с тобою груб,
в ругани кажет свой волчий зуб,
перестал о твоем здоровье радеть
и нарушил
кодекс законов о труде, –
то тебе по закону
даны права
до срока
свои обязательства рвать.
Выполняй лишь
четко и хватко
правила
(ст. 48)
внутреннего распорядка.
А в остальном –
твое слово такое:
– Оставьте, хозяин, меня в покое!
Из правил
лишь те обязательны мне,
что на видном месте
висят на стене.
А если они
лишь в хозяйском мозгу,
(ст. 50)
я этих правил
знать не могу!
Раньше
душил вопрос проклятый –
это
размер заработной платы.
За грош
всю силу рабочую вынь ему,
за грош
на хозяина шею гни.
Теперь
по закону
означен минимум,
ниже которого –
ни, ни, ни!
Мало того:
тогда за получкой
ходи, отработав день труда,
нынче
с этой хозяйской штучкой
(ст. 59)
покончено навсегда.
Теперь
производи расчет,
пока рабочий день течет.
А чтобы рабочим
меньше заботы –
деньги плати на месте работы.
Раньше с отпуском
одна тоска.
Без копья в кармане иди в отпуска.
(ст. 67)
Теперь
пришел другой черед,
за отпуск деньги – давай вперед.
Встарь
у рабочего власти нет.
Власть – хозяйский кулак да разбой.
А теперь
изберут тебя в совет –
место и заработок
за тобой.
(ст. 69)
Спокоен и ты,
и жена,
и дети.
Можешь вовсю работать в совете.
А вышел срок,
истек мандат –
на прежнее место вертай назад.
Кодекс на этом стоит непреклонно!
Дивится Фадей,
застыл, как пень.
– Раньше
не до рабочих закону –
трудись
на хозяев
и ночь
и день.
Теперь
пять радостных слов:
для рабочих норма
8 часов.
В целом мире этого нет, –
да из них еще
полчаса на обед.
А если
работница
младенца кормит,
еще додадут по законной норме.
Всем рабочим мира пример
показывает кодекс СССР.
8 часов!
(ст. 98)
(ст. 134)
Выполняйте точно!
К ним не подвесишь работ сверхурочных.
Разве что очень нужда велика,
да и то с разрешенья РКК.
Где ты
раньше
на наших заводах
знавал для рабочего долгий отдых?
С завода
в постель,
(ст. 103)
(ст. 104)
с недосыпа –
к труду.
Так
сплошняком
и тянул нуду.
Раньше
насквозь неделю потели,
некогда
даже
волос причесать.
А теперь
рабочему
раз в неделю
отдых сплошной 42 часа!
Хочешь – на лекцию,
хочешь – в кино,
хочешь –
дома сиди с женой.
Раньше
праздники всем святым,
(ст. 109)
чтоб легче
попам
тянуть оброк,
на клиросный вой,
на кадильный дым
рабочих сбирать за церковный порог.
Теперь
святым не место у нас.
Наша вера –
рабочий класс.
То-то косятся лабазники
на красные праздники.
Наш праздник –
новый год.
Солнце,
на лето ведет поворот.
Наш праздник –
9-е января,
рабочие впервые разглядели царя.
12-е марта –
(ст. 111)
престольник веселый,
мы царя
поперли с престола.
18-е марта –
старый, но юный
день рождения Парижской коммуны.
Первое мая –
рабочий май,
рабочих на всей земле подымай!
7-е ноября –
трубы не коптят,
пролетарии празднуют Красный Октябрь.
Раньше
об отпуске –
год говори!
Особенно,
если хозяин скуп.
Хоть год работай,
хоть два,
хоть три,
а не бывать тебе в отпуску.
Бросили воду в ступе толочь.
В кодексе сказано, –
молвил Пров, –
пять с половиной месяцев прочь –
и двухнедельный отпуск готов.
А если
работа на вредном деле,
еще добавляются две недели.
Раньше –
(ст. 114)
(ст. 115)
пройти цеховую науку –
парень терпел многолетнюю муку.
Где раньше
мальчонку маял мастер
проклятой учебою, злюч и колюч,
теперь
рабочей стране на счастье
вырос советский фабзаву́ч.
Собирает он
в уютные стены
(ст. 121)
молодых гвардейцев для будущей смены.
А у хозяина
морда моржа –
по закону ему фабзавуч содержать.
Тяжелой работой сводили в могилу,
особенно
женщин или ребят.
Теперь
берегут рабочую силу,
законы хозяев весьма теребят.
Старый порядок прошел бесследно.
В работе ночной,
подземной
и вредной
законом
наложен строжайший запрет
на баб и ребят до восемнадцати лет.
Баба на сносях –
хозяину что?
А под машиной рожать
(ст. 129)
не годится.
Кодекс сказал хозяину:
– Стоп!
Бабе
спокойно дай разродиться.
Четырехмесячный отпуск готовь,
по восемь недель
до и после родов.
– Лишь чистотой рабочий здоров, –
гордо
(ст. 132)
Фадею
заметил Пров. –
Кодекс
и здесь стоит на посту
и по заводу блюдет чистоту.
Раньше
работа ли,
нет ли работ, –
полным ходом бежит привод.
(ст. 138–139)
Теперь
в перерыве
не случится беда,
нынче,
в обед, молчат привода.
Раньше
на грязной работе,
как зверь,
треплешь свою одежонку.
Теперь –
свою
(ст. 140)
на заводе
не стану трепать я –
подавай завод –
спецодежду-платье.
Кодекс влезает и в щелочки быта.
Им
ни больница,
ни клуб не забыты.
Лампы ли в темных проходах погасли,
грязно ли в бане,
(ст. 141)
в квартире
и в яслях –
всё заприметит,
везде и всегда
око закона –
инспектор труда.
Если с хозяином начаты споры,
суд под рукой
правый и скорый,
это
(ст. 148)
рабочей власти рука –
защита рабочего –
РКК.
Недоволен решеньем –
решенье не камень,
есть пересуд примирительных камер.
(ст. 168–172)
Там не прошло,
не копай в носу,
неси протест в третейский суд.
А если хозяин начнет уголовщину,
например,
фабзавкому работать не даст,
для таких молодцов порядок упро́щенный
завела рабоче-крестьянская власть.
Народного суда трудовая сессия
рассмотрит хозяйские мракобесия.
Суд укротит хозяйский нрав:
хозяину за провинность такую –
год отсидки,
либо
тысячный штраф.
А то и всё добро конфискует.
А последнее завоевание –
социальное страхование.
Раньше
смерть или безработица –
о рабочем
никто не позаботится.
Либо станешь
громилой и вором.
(ст. 175)
Либо
собакой умрешь под забором.
А теперь
по кодексу
дан наказ:
– кипи работа страховых касс!
Взносы с хозяев
берутся строго.
Эти взносы –
рабочим подмога.
Если
тебя
постигла болезнь,
вмиг
за пособием
в кассу лезь.
Касса
тебе
даст и врача,
и денег,
чтобы лечёбу начать.
Руку отшибло,
стал инвалид
закон
пособие дать велит.
Сел без работы,
не гляди исподлобья –
в кассу иди,
получай пособие.
Кормильца ль схоронят
(ст. 176)
в семействе рабочем,
касса
и тут сумеет помочь им. –
– Ишь ты, –
на это ответил Фадей, –
кодекс твой,
ей-ей, чудодей.
Спасибо тебе,
и будь здоров.
Всё объяснил, товарищ Пров.
Самому бы мне
нигде,
никогда
не узнать про эти законы труда. –
Молвит Пров:
– Погоди, парнишка! –
Порылся за пазухой, вынул книжку.
– Вот он!
Весь!
Совсем не длинен.
От корки до корки –
час прочесть.
А при нем закон
и надпись:
Калинин. –
Фадей, улыбаясь, ответил:
– Есть! –
С тех пор
у всех Фадеев водятся
эти книжки рабочего кодекса.
Силком не вырвешь,
разве пальцы отвалятся.
Такого кодекса
нет нигде.
Живут Фадеи
и не нахвалятся
на советский кодекс
законов о труде.
[1923]
Ткачи и пряхи!.. Пора нам перестать верить заграничным баранам!*
«Три девицы под окном пряли поздно вечерком».
Так – недаром прозвучало
сказки старое начало,
про забытый
древний быт
эта сказка говорит…
Те девицы – перестарки,
хоть и были пролетарки,
несознательностью их
полон сказки легкий стих.
Ну о чем они мечтали?
Ну про что они болтали,
сидя
ночью
до поздна
у раскрытого окна?
Речи их подслушал Пушкин:
щебетали те подружки –
как бы,
сбыв работу с плеч,
спать с царем скорей залечь!
Первой –
радость только в кухне,
а у третьей
брюхо пухни
бесперечь хоть каждый год.
(Сказка старая не врет.)
Пред подобным разговорцем
волокно вставало ворсом,
от лучины едкий дым
тмил глаза и разум им.
И – единственно вторая,
даль в окошко озирая,
молвит:
– Я б на всех одна
наткала бы полотна. –
Эта девушка мудрее –
знать, над ней тогда уж реял,
не касаясь старших двух,
пролетарской воли дух!
За кустарной сидя прялкой,
настоящей пролетаркой
становилася она,
хоть семья была темна.
И Салтану
и Гвидону
набок сбили мы корону…
До конца ж их покачнем –
сказку новую начнем.
Эта сказка всем знакома:
не сидят ткачихи дома,
а идут,
закрыв окно,
на работу
в Моссукно.
Им
спорей
работать вместе
за станком в суконном тресте,
заключив
с недавних пор
коллективный договор.
Старины рассыпься иней
хрупким снегом-серебром!
Не царицу героиней,
а ткачиху мы берем!
От ткачихи
этой самой
род ткачей идет упрямый;
вишь у ней какая прыть:
тканью
весь бы мир покрыть.
И она его покроет,
лишь сырья запас утроит…
Думает –
ночей не спит:
как бы
нам
повысить сбыт!
Под ее заботным взглядом
двадцать дочек стали рядом,
не для игр,
а для работ
завивая хоровод.
Не бывало это в сказках:
двадцать фабрик слилось ткацких,
собралось
Москвы окрест,
сорганизовавши трест.
Этот трест
не знает страха,
так как
та
седая пряха
в нем осталась навсегда
Героинею Труда.
Спросишь: «Это кто ж такая?»
В ткацких много их мелькает,
в пряхах –
целые рои
этих самых героинь.
Посмотри –
стоит у кросен
пряха. Пряхин голос грозен.
Клеймит Керзона хитрого
простая пряха Викторова.
(Керзоны! Не противно ль вам
от гнева беспартийного?)
И Калинина жена –
в ту ж работу впряжена,
тоже бьет разруху в прах
посреди таких же прях.
Не вглядевшись в дело ткачеств,
не опишешь пряхи качеств –
в тысячах рабочих лиц
отразился сказки смысл.
А теперь,
без переносу,
обратимся
к мериносу…
Мериносовая шерсть
туго
лезет
к нам
лет шесть!
Тот баран
пред нашим братом
стал давно аристократом,
и его –
из-за блокад
не осталось ни клока!
Без него ж в суконном деле
не прожить
одной недели.
Приуныл суконный трест.
Просто –
ставь на дело крест.
Снится раз ткачихе старой,
что бесчисленной отарой
тонкорунные стада
направляются сюда.
Впереди
баран вприпрыжку
сам бежит
ложиться в стрижку.
И немедля
у станка –
шерсть, как облако, тонка.
Повернулась пряха на́ бок
сжать барана в пальцах слабых,
только он
оскалил пасть
да и ну
ногами прясть.
Отбежав, проблеял веско:
«Без меня – какая ж смеска*?!
Все высокие сорта
уплывают изо рта!
Мы решили так:
пора нам,
заграничным всем баранам,
переждать годок, другой –
к вам
в Россию
ни ногой!
Ах, почтенная подружка,
злит меня фабком Петрушкин;
чтоб мою умерить месть,
дайте мне фабкома съесть!»
Пряха сон с лица согнала,
головою покачала
и подумала:
– Ведь впрямь
дело он испортит нам;
на одном,
на грубом сорте,
нам машины только портить:
сберегать пора всерьез
пуще золота сырье! –
Всех смутила сном ткачиха:
«Без расчету нам, мол, лихо!
Принимайся ж, млад и стар,
сам учитывать угар*!»
Глядь –
с тех пор
и вправду в тресте
стал расчет на первом месте.
И великая беда
пронеслася без следа.
Клонит пряхе сон ресницы
и – опять баран ей снится:
хитро кручены рога,
морда глупая строга.
Только стал теперь он франтом –
нэпачом и спекулянтом:
ловко сшит по моде фрак,
на ботинках блещет лак.
Он идет к ней шагом скорым,
хочет в бок боднуть пробором,
блеет:
«Будешь ты, карга,
мериноса в гнев ввергать?!
Всё равно вас доконаю,
слабость вашу твердо знаю:
ведь на каждом
на шагу
вас преследует прогул!
Тот запьет,
а тот закурит,
тот в окно глаза прищурит.
Смотришь –
каждый полчаса
языки –
не шерсть – чесал!
Если б так ходили, тычась,
все двенадцать ваши тысяч –
в день ушло бы,
мне видней, –
тысяча рабочих дней.
Со статистикой не спорьте,
дело здесь совсем не в черте!
Я ж
нисколько не боюсь
ваших жалоб в профсоюз!»
Пряха встала ранним-рано
и расчет того барана,
что глумился по ночам,
рассказала всем ткачам.
Стонут фабрики от гула:
ни отлучек,
ни прогула,
все мгновенья на счету, –
производство же в цвету.
Шаг там звонкий слышен чей-то?
Это наша комячейка;
аккуратности мерило
секретарь ее Кириллов!
Без заморских компаньонов
сберегут они тканьё нам:
коли что не так течет –
кличь
правленье на отчет.
Глядь –
товар, как из Парижа,
а расценка – даже ниже!
Только этот сон забылся –
пряхе
в третий раз приснился,
ставши толстым, как гора,
мериносовый баран.
Так пристав к ней, хуже клея,
он
теперь
иначе блеял.
Кинув кроткий взгляд окрест,
он жалел суконный трест:
«Ах-ах-ах, какая жалость,
хвост и сердце задрожало!
То ли дело было встарь!
Весь погибнул инвентарь!
Все машины в беспорядке,
на стальных частях заплатки,
ворсовальных шишек нет,
паутина на стене!
А жилища для рабочих!
Где ж уютный уголочек?
Где рояль?
И где диван?
Даже – нет отдельных ванн!!
То ли дело заграница…
ткач –
в футляре там хранится.
(Если ж полон весь футляр –
на поддержку есть петля!)
Ах-ах-ах, какая жалость,
хвост и сердце задрожало!
Без меня хотели… Пусть.
Ай-ай-ай, какая грусть!»
Тут ткачиха
не стерпела,
гневом праведным вскипела,
и,
безудержно строга, –
хвать барана за рога:
«Утоплю в поганой миске,
перевертень меньшевистский!
Предо мною ты не лей
ядовитый свой елей!
Встречу я тебя по чину!..»
Вдруг –
бараний голос смолк –
зарычало из овчины
и на пряху прыгнул волк!
Закричала в страхе пряха:
«Провались, исчезни прахом!»
Да рукой –
к веретену,
вдоль его перетянув.
И проснулась в мелкой дрожи
от проклятой этой рожи.
– Без гримасы – кто ж привык
видеть лик твой, меньшевик?!
Даже самый небрезгливый,
слыша голос твой слезливый,
от твоих слюнявых брызг
вздрогнет вдруг и крикнет: «Брысь»!
Но, оправившись от страха,
наша правильная пряха
не трепала языком –
побежала в фабзавком.
Рассказав свой сон зловещий,
что ей блеял глас овечий,
предложила рассмотреть –
как ей быть со снами впредь?
– Ты, должно быть, обалдела.
Я со снами не знаком!
Это дело женотдела! –
отвечает ей завком.
В женотделе –
смех до колик:
«Вот привиделся соколик!»
Но, когда замолкнул смех,
забрало раздумье всех.
– Ведь кой-где, и вправду, речи
схожи на́ голос овечий;
ведь кой-кто
и впрямь шипит
про ухудшившийся быт! –
Секретарь, товарищ Гаша,
говорит:
«Задача наша –
чем правленье обвинять –
осмотреть наш комбинат!
Со своей администрацьей
нам не дело задираться;
если есть в делах нелад,
скажет нам про то – доклад.
Это раньше:
взятки-гладки,
на запрос кричали: «Цыть!»
А теперь не те порядки,
есть кого порасспросить!
Без уверток,
без обманов
разъяснит нам всё Туманов.
У нас директор, кажется, –
свой брат рабочий – Кашинцев.
Заглянув сперва к соседям,
все мы фабрики объедем,
разузнавши без вреда
все условия труда.
Вспомним также, между прочим,
как допрежь жилось рабочим,
чем купецкий капитал
укрывал нас и питал?
Каждый,
на хозяев крысясь,
облегченья тщетно ждал:
всех давил квартирный кризис
и культурная нужда!
Что ж теперь?
Всё так же ль тесно?
Так же ль жмется повсеместно
ткач в расхлябанный барак,
где в дыру глядит дыра?»
Так решив,
пошли обходом
пряха с Гашей по заводам
поглядеть и там, и тут,
как рабочие живут.
На Введенской,
на Покровской,
на Московско-Озерковской –
не затешется зима
в коммунальные дома.
На Шараповской –
знакомым
можно хвастать новым домом.
На Сапроновской –
опять
стены кроет конопать.
На Зеленовской –
постой-ка –
снова новая постройка?
На Свердловской –
посмотри,
этажа взлетела в три!
Горя тяжкого отведав
в девятнадцатом году,
«Пролетарская победа» –
возродилась вновь к труду.
Мощь сильна рабочих армий:
на Даниловской –
в казарме –
без особенных затрат
сделан комнат чистых ряд.
Погляди-ка, Гаша, выше:
прочно выкрашены крыши!
Присмотрись, товарка, здесь:
вишь –
фундамент новый весь.
Там, где встарь
от вечной течи
плесень сизая плыла, –
переложенные печи
дышат ласкою тепла…
Там,
где тусклое болотце
разводило комаров, –
встали
чистые колодцы,
малярию поборов.
Ох, горька ты, пыль от ткани,
от оческов въедлив прах,
но – повсюду пышут бани,
грязь сводя на всех парах!
Тиф не съест ткачёва сына,
коль на страже медицина.
Чтоб грудные зря не гасли,
матерям на помощь ясли.
Все, кто молод и неглуп,
ходит
в свой
рабочий клуб.
Всюду сводим мы заплаты,
их немало наросло.
Получения зарплаты
знаем точное число!
– А теперь, –
сказала Гаша, –
поглядим на дело наше.
Впрямь ли лучше было встарь?
Расшатался ль инвентарь?
Ты руками не маши нам,
заграничный обормот.
Сами помним,
что машины
не новеют от работ.
Да не скаль злорадно пасти,
брось ногами семенить.
Мы
изношенные части
догадались заменить.
Правда,
многих тяжких хлопот
стоил нам суровый опыт,
но усвоен нами он.
Ты же
лезешь на рожон.
Например:
какая ко́рысть
у машин уменьшить скорость?
Раньше
кто бы то сказал –
просмеяли бы в глаза.
А теперь –
мы учим глупых,
что для тканей полугрубых –
коли быстро пущен вал,
выход пряжи
будет мал!
Для успеха ж грубых смесок,
коль делители узки́,
мы без спецов
и при спецах
спариваем ремешки.
Над такими ремешками
сжали волю мы тисками;
чтобы шерсть не сбилась в клуб,
шьем на бёрдочный их зуб*.
А чтоб сорные очески
не носить в своей прическе,
мы –
про то баран молчок! –
пропускаем сквозь волчок.
Эти мелкие приемы
дружке друг передаем мы,
вывози нас из разрух,
старый Клеин-технорук!
Промыванье,
краска,
стрижка, –
без сноровки – всюду крышка,
но тебе мы, меринос,
натянуть сумеем нос.
Не чесать тебе под брюхом,
велика барану честь:
мы твою ордынским пухом
заменить сумеем шерсть!
Чтоб в работе нам окрепнуть,
не потворствуя тебе,
мы свернем свою потребность –
станем ткать товар грубей.
Всё же –
поздно
или рано –
спесь собьем
с того барана.
Много будет перемен там,
и не зря баран сердит;
кто знаком с ассортиментом
с нашим – это подтвердит.
К нам,
чтоб сорт наш не был ниже,
шлют рисунки из Парижа!
Нынче – и у Муссолини
нет
в штанах
изящней линий.
Наши ткани
не богатым –
обошьешься из зарплаты!
Кто не верит –
посмотри
в магазине № 3.
Забрели в мага́зин вы бы, –
цены – грош,
огромный выбор!
Подобрали точка в точку,
и бери товар в рассрочку.
Так уверенно глядели
Гаша с пряхой в женотделе,
возвратясь
к плечу плечо,
свой закончивши отчет.
«Боевые вы подружки!» –
им сказал завком Петрушкин.
«Молодцы и ловкачи!» –
подтвердили все ткачи!
Кто читает сказку чутко,
для того
не только шутка,
а и дел величина
между строк заключена.
Старины развейтесь тени,
не гнусите под окном…
Ведь действительно оденет
пряха всех своим сукном.
Встанут стройно фабрик трубы,
ткани будут все тонки́,
и не станут сукон грубых
вырабатывать станки.
А пока, –
чтоб то случилось,
что сияет впереди,
ты, читатель,
сделай милость,
сказку –
в жизни проводи!
[1923]
О завхозе, который чуть не погиб со всей конторой*
1.
Пред зовет завхоза басом:
«Вдрызг конец пришел запасам.
2.
Повторяю в страшной яри я:
в беспорядке канцелярия!»
3.
Прибежал завхоз несчастный
в магазин ближайший, частный,
4.
карандаш, бумагу, штемпель
закупил в ударном темпе.
5.
И в отдел, исполнен важности,
тащит пуд писчебумажности.
6.
Развернул товар – и вмиг
переплеты слезли с книг.
7.
С перьев по три фунта кляксы,
а печать – грязнее ваксы!
8.
Положенье – хоть повеситься,
а замзав кричит и бесится:
9.
«Дура ты, хотя и брав, –
ты б пошел в «Мосполиграф»!
10.
Там конторе купишь вещи –
не порвут гроссбух и клещи.
11.
Карандаш, перо, чернила,
штемпель – дешево и мило.
12.
А обои – загляденье! –
Рад бы клеить каждый день я.
13.
Шрифта – угол непочатый,
всё, что хочешь, напечатай!»
14.
Взвыл завхоз: «Товарищ прав!
Я бегу в «Мосполиграф».
[1923]
Комментарии
Маяковский улыбается, Маяковский смеется, Маяковский издевается. Изд. «Круг», М. – П. 1923, 184 стр.
Вон самогон! Рассказ в стихах. Изд. «Красная новь», М. 1923, 27 стр. Рисунки Маяковского.
Ни знахарь, ни бог, ни слуги бога нам не подмога. Рассказ в стихах. Изд. «Красная новь», М. 1923, 36 стр. Рисунки Маяковского.
Обряды. Изд. «Красная новь», М. 1923, 40 стр. Рисунки Маяковского.
Стихи о революции. Изд. «Красная новь», 2 изд., М. 1923, 96 стр.
Вон самогон! Изд. «Уралкнига», Екатеринбург, 1923, 16 стр.
Маяковская галерея (Те, кого я никогда не видел).
Пуанкаре, Муссолини, Керзон, Пилсудский, Стиннес, Гомперс, Вандервельде. Изд. «Красная новь», М. 1923, 63 стр. Рисунки Маяковского.
Вещи этого года (до 1 августа 1923 г.). Изд. «Накануне», Берлин, 1924, 110 стр.
Ткачи и пряхи, пора нам перестать верить заграничным баранам. Изд. треста «Моссукно», М. 1924, 29 стр. (совместно с Н. Асеевым). Рисунки С. Адливанкина.
Рассказ о том, как узнал Фадей закон, защищающий рабочих людей. Изд. МГСПС «Труд и книга», М. 1924, 48 стр. (совместно с С. Третьяковым). Рисунки С. Адливанкина.
О Курске, о комсомоле, о мае, о полете, о Чаплине, о Германии, о нефти, о 5 Интернационале и о проч. Изд. «Красная новь», М. 1924, 92 стр.
Песни крестьянам. Изд. «Долой неграмотность», М. 1925, 162 стр.
Песни рабочим. Изд. «Долой неграмотность», М. 1925, 98 стр.
Избранное из избранного. Изд. «Огонек», М. 1926, 54 стр.
Мы и прадеды. Стихи. Изд. «Молодая гвардия», М. 1927, 35 стр.
Сочинения, тт. 2 и 4, ГИЗ, М. 1928, 360 стр. и 382 стр.
БММ – Библиотека-Музей В. В. Маяковского.
ЦГАЛИ – Центральный Государственный архив литературы и искусства СССР.
ЦГАОР – Центральный Государственный архив Октябрьской революции.
ИМЛИ – Институт мировой литературы им. А. М. Горького Академии наук СССР.
Газетный день (стр. 7). Журн. «Журналист», М. 1923, № 5, март-апрель.
Перепечатано: газ. «Бакинский рабочий», Баку, 1923, № 97, 5 мая; журн. «Товарищ Терентий», Екатеринбург, 1923, № 23, 11 октября; журн. «Юный пролетарий Урала», Свердловск, 1924, № 5, май.
Печатается по тексту «Журналиста» с исправлением опечатки в строке 15: вместо «извозки растут как цветочки» – «строчки растут как цветочки».
Стихотворение написано не позже марта 1923 года. 25 марта 1923 года Маяковский прочел «Газетный день» в Доме печати в Москве.
Строки 24–28. Как будто весь народ, который не поместился под башню Сухареву, – пришел торговаться в редакционные коридоры. – Вокруг Сухаревой башни, находившейся в Москве, на территории нынешней Колхозной площади, располагался большой рынок, оживившийся с введением новой экономической политики.
Строка 44. «Это я – настоящий Бим-Бом!» – В газете «Известия ВЦИК», М. 1923, № 31, 11 февраля было помещено объявление за подписью импрессарио цирковых артистов Бим-Бом Б. Афанасьева, в котором сообщалось о том, что настоящие Бим-Бом гастролируют на Кавказе и в Крыму, выступающие же в госцирке в Москве под этим именем клоуны – самозванцы.
Строка 63. Самоокупация – самоокупаемость, бездефицитность. В это время газеты переходили на хозяйственный расчет и руководителям их приходилось заниматься непривычными коммерческими вопросами.
Строка 110. Чжан Цзо-лин (1876–1928) – китайский генерал, с 1915 года – фактический диктатор Маньчжурии, глава так называемой мукденской (прояпонской) милитаристической клики. Был ярым врагом китайской революции и СССР.
Строка 111. Гаолян – разновидность проса, распространенная в Маньчжурии и прилегающих областях.
Строка 136. Метранпаж – рабочий типографии, верстающий набранный материал.
Когда голод грыз прошлое лето, что делала власть Советов? (стр. 12). Когда мы побеждали голодное лихо, что делал патриарх Тихон? (стр. 13). «Бюллетень Прессбюро Агитпропа ЦК РКП», «Б», М. 1923, № 16, 20 марта[3].
Повидимому, это две части единого стихотворения, которое не получило объединяющего заголовка.
Перепечатано в газетах: «Карельская коммуна», Петрозаводск, 1923, № 51, 24 марта (только вторая часть стихотворения); «Воронежская коммуна», Воронеж, 1923, № 67, 28 марта; «Степная правда», Семипалатинск, 1923, № 68, 30 марта.
Печатается по тексту «Бюллетеня Прессбюро».
Строки 1-14. Советскую республику летом 1921 года постигли неурожай и страшный голод. Особенно пострадало разоренное белогвардейцами Поволжье. Советское правительство мобилизовало все возможные средства для помощи голодающим. Все население страны было призвано на борьбу с голодом.
Строки 15–18. Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов 16 февраля 1922 года вынес постановление об изъятии из церковных имуществ в фонд помощи голодающим всех драгоценных предметов, отсутствие которых не могло существенно затронуть интересы культа. Эти драгоценности были употреблены Комиссией помощи голодающим на покупку хлеба для губерний, особенно пострадавших от неурожая.
Строка 26. Тихон – патриарх всея Руси, возглавлял русскую православную церковь в 1917–1923 годах. Активно проводил политику, враждебную советской власти. Всячески сопротивлялся декрету Советского правительства об изъятии церковных ценностей в фонд помощи голодающим Поволжья, чем вызвал недовольство самих верующих. Всероссийский поместный церковный собор, собравшийся в 1923 году, в заседании 3 мая объявил, что Тихон «лишен сана» (см. «Известия ВЦИК», 1923, № 93, 5 мая). За совершенные преступления Тихон был предан суду. Суд над Тихоном был назначен на конец марта 1923 года, но потом был отложен. В своем заявлении в Верховный Суд Республики Тихон открыто признал свою вину перед советским народом, в результате чего суд над Тихоном был отменен.
О патриархе Тихоне. Почему суд над милостью ихней? (стр. 14). «Бюллетень Прессбюро Агитпропа ЦК РКП», «Б», М. 1923, № 18, 23 марта.
Перепечатано: газ. «Новая деревня», Гомель, 1923, № 587, 27 марта; газ. «Красное знамя», Краснодар, 1923, № 69, 29 марта; газ. «Коммуна», Калуга, 1923, № 78, 8 апреля; журн. «Товарищ», Пенза, 1923, № 10, 17 мая; «Рабочая библиотечка», сб. № 8, приложение к газете «Волна», Архангельск, 1923.
Печатается по тексту «Бюллетеня Прессбюро».
Патриарх Тихон – см. примечание* к стихотворению «Когда голод грыз прошлое лето…»
Строки 45–47. Николай II Романов (1868–1918), последний русский император (1894–1917), после революции был выслан в Тобольск, а затем в Екатеринбург (теперь Свердловск), где и расстрелян летом 1918 года. «Император и Самодержец Всероссийский, Царь Польский, Великий князь Финляндский и прочая, и прочая» – императорский титул (краткий).
Мы не верим! (стр. 17). Черновой автограф отдельных строк стихотворения (1, начало 2, 3–6, 14, 20–21, начало 22) в записной книжке 1921–1923 годов, № 19 (БММ); беловой автограф (БММ); «Бюллетень Прессбюро Агитпропа ЦК РКП», «А», М. 1923, № 22, 24 марта (под заглавием «Ленин»); журн. «Огонек», М. 1923, № 1, 1 апреля; журн. «Молодая гвардия», М. 1923, № 3, май; «Стихи о революции», 2-е изд.; «Вещи этого года»; «Избранное из избранного»; Сочинения, т. 2.
Перепечатано в газетах под заглавием «Ленин»: «Призыв», Владимир, 1923, № 62, 28 марта; «Рабочий клич», Рязань, 1923, № 69, 29 марта; «Соха и молот», Могилев, 1923, № 69, 29 марта (рядом с бюллетенем о состоянии здоровья В. И. Ленина); «Трудовая правда», Пенза, 1923, № 69, 29 марта; «Красное знамя», Краснодар, 1923, № 71, 31 марта; «Коммуна», Калуга, 1923, № 12, 1 апреля; «Пролетарий», Харьков, 1923, № 73, 1 апреля; «Волна» Архангельск, 1923, № 73, 4 апреля (рядом с бюллетенем о состоянии здоровья В. И. Ленина); «Юный Восток», Ташкент, 1923, № 4–5, 6 апреля (с примечанием от редакции: «Наш Ильич заболел… Для того, чтобы он снова встал в строй, он должен на время совсем отойти от работы. Ильич снова будет с нами!»); «Красноярский рабочий», Красноярск, 1923, № 75, 7 апреля; «Пролетарий», Самарканд, 1923, № 56, 21 апреля; «Крестьянская правда», Самара, 1923, № 17, 22–28 апреля.
Под заглавием «Бюллетень»: «Грядущая смена», Екатеринослав, 1924, № 7, 24 января; «Молодой шахтер», Бахмут, 1924, № 2, 25 января; «Псковский набат», Псков, 1924, № 22, 27 января; «Рабочий путь», Смоленск, 1924, № 27, 1 февраля; «Красный Дагестан», Махач-Кала, 1929, № 17, 21 января; «Путь молодежи», Брянск, 1929, № 18, 22 января; сб. «Ленин в европейской поэзии», М. 1925, изд. «Прометей».
В настоящем издании в текст 2 тома Сочинений внесено исправление: в строке 19 вместо: «в миллионосильной воле ВКП» – «в миллионосильной воле РКП» (по беловому автографу и всем изданиям 1923 и 1924 годов).
Строка 2. Правительственный бюллетень. – В дни болезни В. И. Ленина с 12 марта 1923 года ежедневно печатались в газетах и вывешивались на улицах и в учреждениях правительственные бюллетени о состоянии здоровья Владимира Ильича.
Тресты (стр. 19). Журн. «Красная нива», М. 1923, № 12, 25 марта.
В настоящем издании в текст журнала внесено исправление: в строке 21 вместо «вывеска «копытотрест» – «вывеска «копытотреста» (исправление опечатки, подсказанное рифмовкой).
Строки охальные про вакханалии пасхальные (стр. 22). «Бюллетень Прессбюро Агитпропа ЦК РКП», «А»/«Б», М. 1923, № 20/23, 28 марта.
Перепечатано в газетах: «Юный пахарь», Минск, 1923, № 23, 31 марта; «Коммуна», Калуга, 1923, № 72, 1 апреля; «Саратовские известия», Саратов, 1923, № 76, 4 апреля; «За мир и труд», Ростов, 1923, № 510, 5 апреля; «Рабочий клич», Рязань, 1923, № 75, 5 апреля; «Уральский рабочий», Екатеринбург, 1923, № 77, 5 апреля; «Власть труда», Уфа, 1923, № 79, 7 апреля; «Красный Урал», Уральск, 1923, № 79, 7 апреля; «Пролетарская правда», Киев, 1923, № 78, 7 апреля; «Рабочий путь», Омск, 1923, № 78, 7 апреля; «Советская Сибирь», Новониколаевск, 1923, № 76, 7 апреля; «Звезда», Минск, 1923, № 81, 8 апреля; «Красное знамя», Краснодар, 1923, № 76, 8 апреля; «Рабочий путь», Смоленск, 1923, № 77, 8 апреля; «Красноярский рабочий», 1923, № 76, 12 апреля; «Пролетарий», Самарканд, 1923, № 52, 12 апреля; «Степная правда», Семипалатинск, 1923, № 76, 12 апреля. Журн. «Красный утес», Архангельск, 1923, № 5, 6 апреля.
Печатается по тексту «Бюллетеня Прессбюро» с исправлением опечатки: в строках 30–31 вместо «то и пролетарию – просто вредно» – «то пролетарию – просто вредно».
Крестьянин, – помни о 17-м апреля! (стр. 24). «Бюллетень Прессбюро Агитпропа ЦК РКП», «Б», М. 1923, № 22, 3 апреля.
Перепечатано в газетах: «Наша газета», Воронеж, 1923, № 39, 14 апреля; «Вятская правда», Вятка, 1923, № 87, 17 апреля; «За мир и труд», Ростов, 1923, № 815, 17 апреля; «Коммунист», Череповец, 1923, № 84, 17 апреля; «Красное знамя», Краснодар, 1923, № 82, 17 апреля; «Красный Балтийский флот», П. 1923, № 88, 17 апреля; «Призыв», Владимир, 1923, № 74, 17 апреля; «Соха и молот», Могилев, 923, № 84, 17 апреля.
17 апреля – 17(4) апреля 1912 года царские войска учинили кровавую расправу над бастовавшими рабочими Ленского золотопромышленного товарищества в поселке Бодайбо в Восточной Сибири. Зверская расправа на Лене всколыхнула рабочих всей России. Прокатилась волна экономических и политических забастовок, сыгравших огромную роль в развитии революционного движения.
17 апреля (стр. 26). «Бюллетень Прессбюро Агитпропа ЦК РКП», «А», М. 1923, № 25, 4 апреля.
17 апреля 1923 года перепечатано в газетах: «Волна», Архангельск, № 81; «Звезда», Минск, № 88; «Красное знамя», Чернигов, № 381; «Красный Крым», Симферополь, № 83; «Пролетарий», Самарканд, № 54; «Саратовские известия», Саратов, № 84; «Советская Сибирь», Новониколаевск, № 82; «Тамбовская правда», Тамбов, № 80; «Уральский рабочий», Екатеринбург, № 82.
В полных собраниях сочинений 1934–1938 и 1939–1949 годов ошибочно было отнесено к 1922 году.
В 1927 году Маяковский написал еще одно стихотворение о событиях 17 апреля 1912 года – «Лена» (см. т. 8 наст. изд.).
Строка 30. Но напрасно старался Терещенко… – В стихотворении неточно названа фамилия жандармского ротмистра Трещенкова, который с провокационной целью арестовал членов стачечного комитета Ленских приисков и дал приказ войскам не останавливаться перед «применением силы» к рабочим, если они захотят выручать товарищей.
Наше воскресенье (стр. 28). Газ. «Известия ВЦИК», М. 1923, № 77, 7 апреля; машинописная копия для сборника «256 страниц Маяковского», кн. 2 (сдан в Государственное Издательство в мае 1923 года, в свет не вышел. – ИМЛИ); «Стихи о революции», 2 изд.; «Мы и прадеды»; Сочинения, т. 2.
Перепечатано в газетах: «Красный Балтийский флот», П. 1923, № 80, 14 апреля; «Бакинский рабочий», вечерний выпуск, Баку, 1923, № 2, 15 апреля; «Молодая гвардия», Благовещенск, 1924, № 5, 9 февраля (отрывок под заглавием «У комсомольцев свои праздники»); «Голос молодежи», Кострома, 1924, № 11–12, 27 апреля (под заглавием «Праздник комсомольца»); «Клич юного коммунара», Казань, 1924, № 11–12, 27 апреля (под заглавием «Праздник комсомольца»); «Молодой шахтер», Артемовск, 1925, № 27, 13 апреля. Журн. «Безбожник», М. 1923, № 53, 25 декабря (отрывок).
Строка 15. Вий – фантастическое существо из одноименной повести Н. В. Гоголя.
Весенний вопрос (стр. 31). Журн. «Красная нива», М. 1923, № 14, 8 апреля; «Стихи о революции», 2-е изд., «Вещи этого года»; Сочинения, т. 2.
В настоящем издании в текст 2 тома Сочинений внесены исправления: в строке 14 вместо «Определенно беспокоен» – «Определенно обеспокоен» (по текстам всех предшествующих изданий); в строке 60 вместо «Ну, не могу сказать» – «Ну, не могут сказать» (по текстам «Красной нивы» и сб. «Вещи этого года»).
Строки 48–50. …могу доказать: «самогон – большое зло». – Примерно в то же время Маяковский писал агитпоэму «Вон самогон!» (см. стр. 169).
Не для нас поповские праздники (стр. 34). Газ. «Красная смена», Минск, 1923, № 13, 12 апреля (над заголовком: «Для «Красной смены»).
Строки 32–34: …мы в рождестве комсомольца повели безбожные шествия. – В начале двадцатых годов в дни празднования рождества комсомольские организации в целях антирелигиозной пропаганды устраивали специальные вечера молодежи в клубах, карнавальные шествия.
Марш комсомольца (стр. 36). Газ. «Юношеская правда», М. 1923, № 14, 16 апреля (под заглавием «Комсомолец»); журн. «Красная нива», М. 1923, № 23, 10 июня (под заглавием «Комсомолец»); беловой автограф (БММ); «Мы и прадеды»; Сочинения, т. 2.
Перепечатано (под заглавием «Комсомолец») в газетах: «Клич молодежи», Рязань, 1923, № 16, 17 мая; «Молодой рабочий», Баку, 1923, № 17–18, 23 июня; «Прибайкальская правда», Верхнеудинск, 1923, № 197, 2 сентября; «Правда молодежи», Орел, 1923, № 17, 19 ноября; «Красная смена», Минск, 1923, № 46–47, 31 декабря. Сб. «2 сентября», М. 1923 (под заглавием «Комсомолец»),
Первоначальная редакция стихотворения, относящаяся к 1923 году, подверглась затем значительной переработке автора, в результате которой возникла новая редакция, опубликованная в 1927 году в сб. «Мы и прадеды». Эта редакция, с незначительной правкой, вошла и в Сочинения, т. 2. Редакцию 1923 года – см. в разделе «Варианты и разночтения».
Схема смеха (стр. 38). Журн. «Огонек», М. 1923, № 5, 29 апреля (проиллюстрировано шестью рисунками Маяковского); сб. «Маяковский улыбается, Маяковский смеется, Маяковский издевается» (в «Предиполсловии»).
Печатается по тексту сборника.
На примере этого стихотворения поэт в «Предиполсловии» формулировал свои принципы работы в области юмора. Маяковский писал, что в «Схеме смеха» «…есть правильная сатирическая обработка слова. Это не стих, годный к употреблению. Это образчик…»
В примечании к стихотворению «Мелкая философия на глубоких местах» Маяковский говорит о «стихе-скелете», «который может и должен обрастать… мясом злободневных строк». К таким «стихам-скелетам» он причисляет и «Схему смеха».
1 мая («Свети!..») (стр. 40). Журн. «Красная нива», М. 1923, № 17, 29 апреля; газ. «Новая мысль», Харьков, 1923, № 1, 30 апреля.
Печатается по тексту журнала «Красная нива».
1 мая («Поэты…») (стр. 42). Журн. «Леф», М. 1923, № 2, апрель-май; «Вещи этого года»; Сочинения, т. 2.
В настоящем издании в текст 2 тома Сочинений внесено исправление: в строке 76 вместо «выяснить май» – «высинить май» (по текстам журн. «Леф» и сб. «Вещи этого года»).
Вмеете со стихотворением Маяковского «1 мая» в журнале «Леф» были напечатаны под одноименным названием стихотворения Н. Асеева, В. Каменского, П. Незнамова, Б. Пастернака, С. Третьякова и других поэтов.
1 мая («Мы!..») (стр. 45). Газ. «Известия ВЦИК», М. 1923, № 95, 1 мая.
Рабочий корреспондент (стр. 47). Газ. «Известия Одесского губисполкома, губкома КПБУ и губпрофсовета», Одесса, 1923, № 1025, 5 мая.
Универсальный ответ (стр. 50). Беловой автограф (БММ); «Бюллетень Прессбюро Агитпропа ЦК РКП», «А», М. 1923, № 38, 20 мая (в качестве заглавия выделена первая строфа).
Перепечатано в газетах: «Саратовские известия», Саратов, 1923, № 115, 25 мая; «Звезда», Минск, 1923, № 120, 25 мая; «Красное знамя», Чернигов, 1923, № 412, 25 мая; «Красный Крым», Симферополь, 1923, № 114, 25 мая; «Волна», Архангельск, 1923, № 112, 26 мая; «Воронежская коммуна», Воронеж, 1923, № 113, 27 мая; «Уральский рабочий», Екатеринбург, 1923, № 118, 30 мая; «Красное знамя», Краснодар, 1923, № 116, 31 мая; «Карельская коммуна», Петрозаводск, 1923, № 105, 1 июня; «Соха и молот», Могилев, 1923, № 12, 1 июня; «Пролетарий», Самарканд, 1923, № 72, 5 июня; «Мир труда», Петропавловск, 1923, № 114, 6 июня.
Печатается по тексту «Бюллетеня Прессбюро». Заглавие изменено в соответствии с позднейшей правкой автора, внесенной в текст автографа.
Стихотворение явилось откликом на ноту английского консервативного правительства от 8 мая 1923 года, вызвавшую в советской стране массовые демонстрации трудящихся с протестом против империалистической политики угроз по адресу СССР.
Строка 68. Керзон Джордж Натаниел, лорд (1859–1925) – деятель английской консервативной партии. В 1919–1923 годах – министр иностранных дел Великобритании. Один из организаторов военной интервенции против СССР в период гражданской войны. 8 мая 1923 года направил советскому правительству провокационный ультиматум.
Строка 69. Пуанкаре Раймон (1860–1934) – французский реакционный политический деятель, ярый милитарист и враг Советского государства. В 1912–1913, 1922–1924, 1926–1929 годах – премьер-министр Франции. В 1913–1920 годах – президент Французской республики.
Воровский (стр. 53). Черновой автограф первых пяти строк в записной книжке 1923 года, № 20 (БММ); машинописная копия архива газ. «Известия ВЦИК» (с выделенным в качестве заглавия первым словом стихотворения: «Сегодня» – ЦГАОР); газ. «Известия ВЦИК», М. 1923, № 110, 20 мая (под тем же заглавием); «Вещи этого года», Сочинения, т. 2.
В настоящем издании в текст 2 тома Сочинений внесено исправление: в строке 10 вместо «пойдет Воровский» – «пройдет Воровский» (по текстам газ. «Известия ВЦИК» и сб. «Вещи этого года»).
Первопечатный текст стихотворения заметно отличается от последующей редакции в сб. «Вещи этого года» (см. раздел «Варианты и разночтения»). Возможно, что это объясняется причиной, о которой поэт пишет в предисловии к сборнику: «Аэроплан, летевший за нами с нашими вещами, был снижен мелкой неисправностью под каким-то городом. Чемоданы были вскрыты и мои рукописи взяты какими-то крупными жандармами какого-то мелкого народа. Поэтому вещи, восстанавливаемые памятью, будут слегка разниться от первоначальных вариантов».
В газ. «Известия ВЦИК» стихотворение помещено на первой полосе в день прибытия в Москву тела полпреда РСФСР в Италии, представителя Советской России на Лозаннской конференции В. В. Воровского, убитого в Лозанне (Швейцария) 10 мая 1923 года белогвардейцем Конради.
Воровский В. В. (1871–1923) – видный деятель Коммунистической партии и Советского государства, советский дипломат, полномочный представитель РСФСР в Швеции, Норвегии, Дании, затем в Италии, литературный критик.
Строка 34. Имеется в виду нота английского правительства от 8 мая 1923 года (см. примечание к стихотворению «Универсальный ответ», стр. 432*).
Это значит вот что! (стр. 55). Черновой автограф в записной книжке 1923 года, № 20 (БММ); беловой автограф (ИМЛИ); авторизованная машинописная копия архива газ. «Известия ВЦИК» (ЦГАОР); газ. «Известия ВЦИК», М. 1923, № 112, 23 мая; сб. «Лёт», изд. «Красная новь», М. 1923.
Перепечатано: газ. «Бакинский рабочий», Баку, 1923, № 117, 30 мая; сб. избранных авиастихов «Штурм неба», изд. Укрвоздухпуть, Харьков, 1924.
Печатается по тексту газ. «Известия ВЦИК».
Строки 10–11. …господин Фош по Польше парады корчит… – Фош, Фердинанд (1851–1929) – французский маршал, верховный начальник военных сил Антанты (1918). Один из злейших врагов Советского государства. В дни, когда Керзон предъявил советскому правительству ультиматум, Фош объезжал границы Польши с СССР.
Строки 16–18. …фашистское тупорылье осмелилось нашего тронуть… – Повидимому, речь идет об убийстве в Лозанне В. В. Воровского.
Строки 43–45. …фашист Амадори разгалделся о нашей гибели… – Амадори – в 1923 году торговый представитель Италии в Москве. Давал в итальянскую реакционную печать клеветническую информацию. По требованию советского правительства был отозван своим правительством.
Баку (стр. 57). Первоначальная заготовка в виде записи рифм к строкам 22, 25, 26, 30, 51, 53, 55, 58 в записной книжке 1923 года, № 20 (БММ); беловой автограф для сборника «256 страниц Маяковского», кн. 2-я (ИМЛИ); газ. «Бакинский рабочий», 1923, № 114, 25 мая; «О Курске, о комсомоле, о мае…», Сочинения, т. 2.
Написано в связи с трехлетием работы советских нефтяных промыслов.
Строка 6. Балаханы – пригород Баку, где находится часть нефтяных промыслов.
Разве у вас не чешутся обе лопатки? (стр. 59). Беловой автограф для сб. «256 страниц Маяковского», кн. 2 (ИМЛИ); газ. «Известия Одесского губисполкома, губкома КПБУ и губпрофсовета», Одесса, 1923, № 1048, 3 июня, литературно-научное приложение (под заглавием «Летим»); газ. «Известия ВЦИК», М. 1923, № 128, 12 июня; сб. «Лёт», под ред. Н. Асеева, изд. «Красная новь», М. 1923; «Вещи этого года»; «О Курске, о комсомоле, о мае…»; Сочинения, т. 2.
Перепечатано: газ. «Амурская правда», Благовещенск, 1923, № 985, 13 июля; сб. «Вечера воздушного флота», изд. «Путь просвещения», Харьков, 1923; сб. избранных авиастихов «Штурм неба», изд. «Укрвоздухпуть», Харьков, 1924; сб. «Авиакультуру в рабочий клуб», изд. ОДВФ РСФСР, М. 1925.
В настоящем издании в текст 2 тома Сочинений внесено исправление: в строке 37 вместо «к богам во вселенную!» – «к богам в селения!» (по текстам автографа, газ. «Известия ВЦИК» и газ. «Известия Одесского губисполкома»).
Написано, повидимому, в мае.
Стихотворение – одно из ряда произведений Маяковского, написанных в связи с развернувшейся в стране широкой кампанией за строительство советского воздушного флота (см. далее «Издевательство летчика*», «Итог*», «Авиачастушки*», «Авиадни*», «Москва – Кенигсберг*»).
Строка 39. Саваоф – одно из наименований бога в христианской религии.
Строка 40. ЦЖО – Центральный жилищный отдел Московского Совета рабочих и красноармейских депутатов.
…товарищ Чичерин и тралеры отдает и прочее. (стр. 63). Первоначальная заготовка строк 70–73 в записной книжке 1923 года, № 20 (БММ); беловой автограф (БММ).
Автограф написан карандашом на трех листах. Первоначально строки стихотворения по 8-ю включительно были подчеркнуты автором, повидимому, для выделения их в качестве заглавия. Затем подчеркивание строк 4–8 было устранено. На обороте последнего листа чьи-то пометки: «Тов. Василенко», «На машинку».
Автограф сохранился не полностью. Оторвана верхняя часть первого листа рукописи и нижняя часть второго листа (см. строки 62–63).
Повидимому, стихотворение предназначалось для публикации в «Известиях ВЦИК» (В. М. Василенко был секретарем редакции «Известий»), но напечатано в этой газете не было.
Впервые опубликовано в Полном собрании сочинений, т. 4, ч. 2, М. 1936, в разделе примечаний.
Печатается по автографу. Не сохранившиеся части текста обозначены многоточием.
Как и «Универсальный ответ», стихотворение явилось откликом на провокационный ультиматум Керзона. Написано не ранее 15 мая 1923 года, когда был опубликован в газетах ответный меморандум советского правительства от 11 мая 1923 года.
Строки 1–3. …товарищ Чичерин и тралеры отдает и прочее. – В ноте Керзона от 8 мая 1923 года содержалось требование возвратить тралеры (рыболовные судна) «Св. Губерт» и «Джеймс Джонсон», задержанные пограничной охраной СССР за нарушение установленной декретом советского правительства 12-мильной зоны береговых вод вдоль Мурманского побережья. В ответных меморандумах от 11 и 23 мая советское правительство, полностью отстаивая свою точку зрения в принципиальных вопросах, выразило готовность ради сохранения мира пойти на ряд уступок, в частности возвратить тралеры.
Чичерин Г. В. (1872–1936) – видный советский дипломат, в 1918–1930 годах – народный комиссар иностранных дел.
Строка 75. Ллойд Джордж Давид (1863–1945) – английский реакционный политический деятель, лидер либералов. Премьер-министр Великобритании в 1916–1922 годах. Один из организаторов интервенции против СССР.
О том, как у Керзона с обедом разрасталась аппетитов зона (стр. 66). Беловой автограф (БММ); газ. «Известия ВЦИК», М. 1923, № 121, 3 июня; «Вещи этого года»; Сочинения, т. 2.
На беловом автографе пометка редактора газ. «Известия ВЦИК» Ю. Стеклова: «Срочно. На сегодня!» В тексте автографа вместо строфы 68–78 записана иная (см. раздел «Варианты и разночтения»).
В настоящем издании в текст 2 тома Сочинений внесены исправления: в строках 38–40 вместо «Но я б Керзону дал ответ» – «Но я б Керзону дал совет» (по всем предшествующим текстам); в строке 63 вместо «что требуем» – «что требую» (по тексту автографа).
В предисловии к сборнику «Вещи этого года» поэт говорит об этом стихотворении как об образце поэзии, обращенной к широким целям помощи «строительству коммуны», перед которыми отступают «маленькие задачки чистого стиходелания».
Стихотворение было написано 1–2 июня 1923 года в ответ на ноту Керзона от 29 мая 1923 года (опубликована в газетах 1 июня). В строках 5–9 Маяковский пародирует требования ноты Керзона от 8 мая 1923 года, в строках 26–35 – ноты от 29 мая 1923 года.
Строки 7–8. …возвратите тралер, который скрали… – см. примечание к стихотворению «…товарищ Чичерин и тралеры отдает и прочее…» (стр. 435*).
Строки 26–31. В ноте Керзона от 29 мая содержалось требование уплатить английской шпионке Стэн Гардинг, находившейся под арестом за шпионаж, три тысячи фунтов стерлингов (около 30 000 рублей золотом), а также выдать компенсацию родственникам английского шпиона Девисона, расстрелянного советскими органами правосудия, в размере десяти тысяч фунтов стерлингов (около 100 000 рублей золотом).
Строки 36–37. Пока официального ответа нет. – Ответ советского правительства на ноту Керзона от 29 мая 1923 года был вручен английскому правительству 9 июня.
Строка 50. Наркоминдел (в последующих строках «Наркомин», «Ино») – Народный комиссариат иностранных дел СССР.
Строка 55. Вайнштейн Г. И. – в то время заведующий отделом англо-романских стран Народного комиссариата иностранных дел СССР. За его подписью были направлены письма английскому правительству от 3 марта и 4 апреля 1923 года, в которых отклонялись попытки вмешательства во внутренние дела Советской России, проводившиеся под предлогом борьбы с так называемыми «религиозными преследованиями» в связи с осуждением советским судом польского шпиона – ксендза Буткевича. Керзон в своей ноте требовал, чтобы советское правительство взяло обратно эти два письма.
Строка 58. Болдуин Стэнли (1867–1947) – английский реакционный политический деятель, лидер консерваторов. В 1923–1924 годах, а также позже – премьер-министр Великобритании.
Строка 59. Гаррисон Маргарита – американская шпионка, находившаяся в Советской России в 1920–1921 годах под видом американской журналистки. В «Известиях ВЦИК», М. 1923, № 104, 12 мая сообщалось о ее публичном признании в том, что во время своего пребывания в Советской России она занималась шпионажем в качестве агента американской военной разведки.
Строка 81. …Уркварту все железо… – Уркарт Лесли – крупный английский промышленник, владевший при царизме в России многими горнорудными, угольными и другими предприятиями. Предпринимал шаги к получению прежних своих владений в концессию. В. И. Ленин назвал Уркарта «главой и опорой всей интервенции» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 33, стр. 403).
Смыкай ряды! (стр. 69). Черновой автограф в записной книжке 1923 года, № 20 (БММ); «Бюллетень Прессбюро Агитпропа ЦК РКП», «А»/«Б», М. 1923, № 43/41, 5 июня.
В записной книжке стихотворение представляет собой заключительную часть новой редакции «Всем Титам и Власам РСФСР»[4]. Затем поэт выделил и опубликовал «Смыкай ряды» в «Бюллетене Прессбюро» в качестве самостоятельного стихотворения.
Перепечатано в газетах: «Саратовские известия», Саратов, 1923, № 127, 9 июня; «Красное знамя», Краснодар, 1923, № 128, 14 июня; «Мир труда», Петропавловск, 1923, № 121, 14 июня; «Уральский рабочий», Екатеринбург, 1923, № 132, 15 июня (под заглавием «О смычке»); «Ижевская правда», Ижевск, 1923, № 132, 16 июня; «Известия Одесского губисполкома, губкома КПБУ и губпрофсовета», Одесса, 1923, № 52, 16 июня; «Красный Урал», Уральск, 1923, № 134, 19 июня; «Соха и молот», Могилев, 1923, № 135, 19 июня; «Брянский рабочий», Брянск, 1923, № 137, 26 июня; «Красный Крым», Симферополь, 1923, № 141, 27 июня; «Амурская правда», Благовещенск, 1923, № 963, 11 июля.
Печатается по тексту «Бюллетеня Прессбюро» с исправлением в строке 45: вместо «в рабочем» – «с рабочим» (по тексту автографа).
Горб (стр. 72). Журн. «Огонек», М. 1923, № 12, 17 июня.
Строка 1. Арбат – улица в Москве.
Коминтерн (стр. 73). Газ. «Известия ВЦИК», М. 1923, № 136, 21 июня.
Печатается по тексту газеты с исправлением опечатки в строке 43: вместо «вредит» – «вреди».
Стихотворение написано в связи с расширенным пленумом Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала (заседания пленума проходили в то время в Москве).
Строка 12. Дредноут – название одного из типов морских броненосцев.
Молодая гвардия (стр. 75). Журн. «Молодая гвардия», М. 1923, № 4–5, июнь-июль; «О Курске, о комсомоле, о мае…»; «Мы и прадеды»; Сочинения, т. 2.
Перепечатано в газетах: «На смену», Екатеринбург, 1923, № 33, 17 сентября; «Грядущая смена», Екатеринослав, 1923, № 56, 3 октября; «Молодая гвардия», Благовещенск, 1923, № 32, 29 октября; «Юный товарищ», Смоленск, 1924, № 101/31, 8 января. Журн. «Семь дней», Ташкент, 1928, № 43, 26 октября.
В настоящем издании в текст 2 тома Сочинений внесено исправление: в строке 34 вместо: «Но этого мало» – «Но и этого мало» (по текстам журн. «Молодая гвардия» и сб. «Мы и прадеды»).
Издевательство летчика (стр. 77). Машинописная копия (БММ); журн. «Красная нива», М. 1923, № 25, 24 июня. Над текстом стихотворения – фоторепродукция плаката ОДВФ с лозунгом: «Крепче крепите воздушную снасть! Крепче крепите Советскую власть!»
Перепечатано: сб. избранных авиастихов «Штурм неба», изд. «Укрвоздухпуть», Харьков, 1924; сб. «Авиакультуру в рабочий клуб», изд. ОДВФ РСФСР, М. 1925.
Печатается по тексту журнала «Красная нива».
Итог (стр. 80). Черновой и беловой автографы (БММ).
Черновой автограф записан на листе, на обороте которого – текст стихотворения «Протестую». На беловом автографе – пометка редактора газеты «Известия ВЦИК» Ю. Стеклова: «В Изв<естия>. Оплатить. 2/VII».
Печатается по беловому автографу.
Стихотворение в «Известиях» не публиковалось. Впервые опубликовано в газ. «Вечерняя Москва», М. 1935, № 255, 4 ноября.
Написано, повидимому, в последних числах июня, в связи с проходившей с 24 июня по 1 июля 1923 года «Неделей Воздушного флота».
Авиачастушки (стр. 83). Беловой автограф (БММ); авторизованная машинописная копия архива газ. «Известия ВЦИК» (ЦГАОР); газ. «Известия ВЦИК», М. 1923, № 146, 3 июля.
В машинописной копии стихотворение напечатано «лесенкой». В ряде строк соответствующим корректорским знаком уничтожено ступенчатое расположение. В верхнем правом углу первой страницы – пометка Маяковского: «Выровнять строки».
Перепечатано: газ. «Брянский рабочий», Брянск, 1923, № 145, 5 июля; газ. «Красный мир», Кострома, 1923, № 148, 8 июля; газ. «Уральский рабочий», Екатеринбург, 1923, № 153, 10 июля; сб. «Вечера воздушного флота», изд. «Путь просвещения», Харьков, 1923; газ. «Псковский набат», Псков, 1924, № 181, 10 августа; сб. «Авиакультуру в рабочий клуб», изд. ОДВФ РСФСР, М. 1925.
Печатается по тексту газ. «Известия ВЦИК» с исправлением в строке 46: вместо «льет водицу водопадом» – «льет водищу водопадом» (по тексту автографа).
Строка 56. Фоккер – марка самолета.
Авиадни (стр. 85). «Бюллетень Прессбюро Агитпропа ЦК РКП», «А», М. 1923, № 59, 21 июля.
Перепечатано в газетах: «Саратовские известия», Саратов, 1923, № 167, 26 июля; «За мир и труд», Ростов, 1923, № 600, 28 июля; «Красное знамя», Краснодар, 1923, № 167, 29 июля; «Красный мир», Кострома, 1923, № 166, 29 июля; «Наш понедельник», Гомель, 1923, № 47, 30 июля; «Прибайкальская правда», Верхнеудинск, 1923, № 175, 5 августа; «Пролетарий», Самарканд, 1923, № 111, 5 августа; «Пролетарий», Харьков, 1923, № 176, 5 августа. Сб. «Авиакультуру в рабочий клуб», изд. ОДВФ РСФСР, М. 1925.
Печатается по тексту «Бюллетеня Прессбюро».
Нордерней (стр. 87). Черновой автограф строк 21–93 в записной книжке 1923 года, № 21 (БММ); машинописная копия архива газ. «Известия ЦИК» (ЦГАОР); газ. «Известия ЦИК», М. 1923, № 180, 12 августа; «О Курске, о комсомоле, о мае…»; Сочинения, т. 2.
В настоящем издании в текст 2 тома Сочинений внесены исправления: в строке 24 вместо «громовой раскат» – «громовий раскат» (по автографу); в строках 27–28 вместо «но я верую в ярую, верю в скорую» – «но верую в ярую, верую в скорую» (по всем предшествующим текстам).
О работе над стихотворением поэт сообщает в предисловии к сб. «Вещи этого года», датированном 25 июля. Место и дата завершения работы – «Нордерней, 4 августа» – указаны под текстом стихотворения в машинописной копии и в газ. «Известия ЦИК».
Нордерней – остров в Северном море у северо-западного побережья Германии, курорт.
Строка 67. Табльдот (франц.) – общий обед в гостиницах и пансионах.
Строка 73. Обер – обер-кельнер (нем.) – старший официант.
Строка 78. …муссолинится… – Муссолини Бенито (1883–1945) – главарь итальянского фашизма, диктатор Италии в 1922–1943 годах.
Москва – Кенигсберг (стр. 90). Журн. «Огонек», М. 1923, № 29, 14 октября; «О Курске, о комсомоле, о мае…»; Сочинения, т. 2.
Место и дата написания указаны под текстом стихотворения в «Огоньке»: «Berlin <Берлин>, 6/IX – 23».
В настоящем издании в текст 2 тома Сочинений внесены исправления: в строке 20 вместо «Всем по пяти кило» – «Всем по пять кило» (по текстам журн. «Огонек» и сб. «О Курске, о комсомоле, о мае…»); в строке 97 вместо «трудов заводов никло» – «трудом заводов никло» (по тексту журн. «Огонек»); в строках 101–102 вместо «Кенигсбергами распахивался» – «Кенигсбергами распархивался» (по текстам журн. «Огонек» и сб. «О Курске, о комсомоле, о мае…»).
Кенигсберг – теперь Калининград.
Строка 4. Тверская – улица в Москве, в настоящее время улица Горького.
Строка 5. «Кадиллак» – марка автомобиля американской фирмы.
Строка 15. Брик – Лиля Юрьевна Брик.
Строка 17. Ньюбольд Д. И. – английский коммунист, делегат расширенного пленума Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала (заседания пленума проходили в июне 1923 года в Москве).
Строка 25. Ходынка – Ходынское поле, старое название территории в Москве близ Петровского парка; место красноармейских лагерей.
Строка 68–69. Крылья Икар в скалы низверг…– Икар – герой древнегреческой легенды. По преданию, пытаясь перелететь море на крыльях, сделанных из перьев и воска, слишком приблизился к солнцу, воск растопился, и Икар упал в море.
Строка 73. Леонардо да Винчи (1452–1519) – итальянский художник и ученый эпохи Возрождения, автор трактата «О полете птиц». Пытался сконструировать летательный аппарат, приводимый в движение мускульной силой человека.
Строка 77. Уточкин С. И. (ум. 1916) – русский спортсмен и летчик. В 1911 году при перелете из Петербурга в Москву потерпел аварию, в результате которой получил увечье.
Строка 80. Двинск – Даугавпилс, город в Латвии.
Строка 82. Горро – французский летчик-спортсмен, установивший несколько рекордов дальности полета.
Строка 87. «Гном» – марка мотора.
Строка 88. Юнкерс и Дукс – немецкие авиационные фирмы.
Солидарность (стр. 94). Беловой автограф (БММ); газ. «Трудовая копейка», М. 1923, № 36, 1 октября.
Печатается по тексту газеты «Трудовая копейка» с исправлением в строке 55: вместо «при этой спайке» – «при этакой спайке» (по тексту автографа); по автографу также дается разбивка строк.
Эпиграф. – Каминский Г. Н. и Кушнер Б. А. – представители советских организаций на Лейпцигской ярмарке, знакомые Маяковского.
Уже! (стр. 96). Журн. «Красная нива», М. 1924, № 3, 20 января; О Курске, о комсомоле, о мае…»; Сочинения, т. 2.
Текст стихотворения в журнале «Красная нива» напечатан с ошибками. В № 6 «Красной нивы» сообщалось от редакции, что в стихотворении «Уже!» вкрались опечатки и приводились исправления.
Перепечатано в антологии «Поэты наших дней», М. 1924 – тоже крайне неисправно, с ошибками, с пропуском немецких слов, без графической разбивки строк.
Написано в результате второй поездки в Германию (лето 1923 года), повидимому – осенью 1923 года, в период подъема революционного движения в Германии.
Строка 11. Kurfürstendamm – улица банкирских контор и богатых особняков в Берлине.
Строка 17. Шведки – шведские кроны. Рыжики – золотые монеты.
Строка 20. Бурши (нем.) – студенты, члены немецких студенческих корпораций, известных кутежами и дуэлями.
Строка 26. Носке Густав (1868–1946) – немецкий правый социал-демократ. Приобрел известность как один из предателей немецкого рабочего класса. В 1919–1920 годах был военным министром Германской республики. Зверски подавлял революционное движение. Один из организаторов убийства Карла Либкнехта и Розы Люксембург 15 января 1919 года.
Людендорф Эрих (1865–1937) – немецкий генерал, один из военных идеологов германского империализма. В 1919–1923 годах возглавлял контрреволюционные силы для удушения революции в Германии; впоследствии – организатор гитлеровских путчей.
Строка 39. Луна-Парк – увеселительный сад с такими развлечениями, как американские горы и проч.
Строка 49–50. …чехардят Штреземаны и Куны. – Куно Вильгельм (1876–1933) – глава буржуазного правительства Германии с ноября 1922 по август 1923 года, Штреземан Густав (1878–1929) – с августа по ноябрь 1923 года.
Киноповетрие (стр. 98). Черновой автограф в записной книжке 1923 года, № 22 (БММ); журн. «Огонек», М. 1924, № 8, 17 февраля (под заглавием «О развлечениях Европы»); «О Курске, о комсомоле, о мае…»; Сочинения, т. 2.
Первопечатный текст заметно отличается от последующей редакции в сб. «О Курске, о комсомоле, о мае…» (см. раздел «Варианты и разночтения»).
Написано в результате второй поездки поэта в Германию (лето 1923 года), повидимому, в конце 1923 года. В заявлении в издательство Мосполиграфа от 29 декабря 1923 года, предлагая к изданию сборник «Слова сегодняшнего образца», Маяковский называет среди включенных в него произведений стихотворение «Чарли Чаплин» (повидимому – первоначальное название стихотворения «Киноповетрие»).
Строка 12. Лос-Анжелос – город в США, в штате Калифорния. Пригород Лос-Анжелоса Голливуд – центр кинематографии США.
Строка 35. Шибер (нем.) – спекулянт.
Строка 45. Шарло́ – французское уменьшительное имя, соответствующее английскому «Чарли».
Большинство памфлетов цикла печаталось вначале отдельно (см. ниже). Цикл «Маяковская галерея»: журн. «Красная новь», М. 1923, № 4, июнь-июль (Стиннес, Пилсудский, Пуанкаре, Керзон, Муссолини); корректурные листы отдельного издания, правленные автором, со штампом типографии «13 сентября 1923 г.» (стр. 15–48 – ЦГАЛИ, стр. 49–64 – БММ); отдельное издание с рисунками Маяковского (см. в тексте); Сочинения, т. 4.
Цикл (не полностью и с большими купюрами) из журн. «Красная новь» перепечатан в газ. «Коммунист», Харьков, 1923, № 186, 19 августа.
Пуанкаре (стр. 101). Первая публикация – журн. «Пламя», Тбилиси, 1923, № 1, 1 мая, под заглавием «Мусье Пуанкаре (Моя галерея № 1)». Текст напечатан «столбиком».
Перепечатано с большими купюрами в газ. «Коммунист», Харьков, 1923, № 186, 19 августа.
В настоящем издании в текст 4 тома Сочинений внесено исправление: в строке 58 вместо «кровавые папки» – «кровавит папки» (по текстам журн. «Красная новь» и отдельного издания «Маяковской галереи»).
Первая редакция памфлета (журн. «Пламя») относится, возможно, к декабрю 1922 года или январю 1923 года: в ней отсутствуют строфы 96-108 и 135–140, касающиеся оккупации Рура французскими империалистами (11 января 1923 года). Первая из этих строф появилась во второй редакции памфлета, опубликованной в журн. «Красная новь», вторая – в окончательной редакции, опубликованной в отдельном издании «Маяковской галереи».
Пуанкаре – см. примечание к стихотворению «Универсальный ответ» (стр. 432*).
Строки 45–46. Потери в первой мировой войне составили около 10 миллионов человек убитыми и около 20 миллионов ранеными.
Строка 68. Лига наций – международная организация, созданная после первой мировой войны. Ставила своей целью закрепить передел мира, произведенный в результате первой мировой войны. В 1920–1934 годах деятельность Лиги наций носила открыто враждебный Советскому государству характер.
Строка 108. Генерал Дегут – командующий оккупационными французскими войсками, занявшими в январе 1923 года Рурский бассейн (Германия).
Строка 122. Кодак – фотографический аппарат.
Строки 130–134. Имеется в виду фотография Пуанкаре, снятого на могиле жертв войны улыбающимся.
«Юманите» – газета, орган ЦК Коммунистической партии Франции.
Строки 150–153. …любуется траченными молью Версальским и прочими договорами. – Версальский мирный договор, завершивший первую мировую войну 1914–1918 годов, был подписан в Версале в июле 1919 года странами-победительницами, с одной стороны, и капитулировавшей Германией – с другой. Имел целью закрепить послевоенный передел мира и создать систему отношений, направленную на уничтожение советской власти, расчленение России и на разгром революционного движения во всем мире.
Строки 178–182. …Пуанкаре соткет и спит в паутине репараций. – По Версальскому договору 1919 года Германия обязалась возместить убытки, понесенные правительствами и отдельными гражданами стран-победительниц.
Строки 195–199. Маяковский находился впервые в Париже в ноябре 1922 года, побывал в это время на заседании Палаты депутатов французского парламента (см. очерки 1922–1923 годов о Париже в т. 4 наст. изд.).
Муссолини (стр. 108). Первая публикация – журн. «Красная новь», М. 1923, № 4, июнь – июль.
В дальнейшей работе над текстом Маяковский пополнял его новыми злободневными материалами. Строки 100–114 о разгроме социалистической газеты «Аванти» появились впервые только в окончательной редакции (отдельное издание «Маяковской галереи»).
В настоящем издании в текст 4 тома Сочинений внесено исправление: в строках 12–13 вместо «Точнейшая копия политика» – «Точнейшая копия политики» (по текстам отдельного издания «Маяковской галереи» и корректурных листов).
Муссолини – см. примечание к стихотворению «Нордерней» (стр. 440*).
Строка 18. Итальянские фашисты носили черные рубахи.
Строка 51. Шпалер (воровской жаргон) – револьвер.
Строки 55–63. Намек на приемы расправы, практиковавшиеся итальянскими фашистами.
Строка 69. Фомка (воровской жаргон) – ломик, употребляющийся для взлома.
Строка 108. «Аванти» – газета, орган ЦК Социалистической партии Италии.
Строка 117. Азеф – провокатор, действовавший в эсеровском подполье. Имя его стало синонимом предательства.
Строка 124. Серрати Джачинто Менотти (1872–1926) – один из лидеров Социалистической партии Италии. В 1924 году вступил в Итальянскую коммунистическую партию.
Керзон (стр. 115). Первая публикация – газ. «Бакинский рабочий», Баку, 1923, № 115, 27 мая.
Под текстом в газете: «Москва, 21 мая».
Из журн. «Красная новь» перепечатано (с большими купюрами) в газ. «Коммунист», Харьков, 1923, № 186, 19 августа.
В настоящем издании в текст 4 тома Сочинений внесено исправление: в строке 103 вместо «Керзонов тактика» – «Керзонья тактика» (по тексту отдельного издания «Маяковской галереи» и корректурных листов).
Стихотворение вызвало раздраженный отклик английской реакционной газеты «Морнинг пост». Об этом газета «Трудовая копейка» (М. 1923, № 14, 5 сентября) сообщала:
«Керзон и Маяковский
Еще одна английская обида.
Реакционная английская газета «Морнинг пост» выражает протест против Маяковского за его стихотворение о Керзоне, напечатанное в журнале «Красная новь». Газета считает, что в своих стихах Маяковский клевещет на Керзона, и требует, чтобы английское правительство привлекло Маяковского и «Красную новь» к ответственности».
Впоследствии, когда Маяковский (весной 1924 года) хотел посетить Англию, английское реакционное правительство не разрешило ему въезд в страну.
Керзон – см. примечание к стихотворению «Универсальный ответ» (стр. 432*).
Строки 53–58. Имеется в виду факт незаконной ловли рыбы в советских пограничных водах, послуживший причиной для задержания 31 марта 1923 года английских тралеров «Св. Губерт» и «Джеймс Джонсон» близ Мурманска советской береговой охраной.
Строки 71–76. Речь идет о ноте-ультиматуме Керзона от 8 мая 1923 года (см. примечание к стихотворению «Универсальный ответ», стр. 432*).
Строки 82–86. В ответ на угрозы ноты Керзона по всей советской стране и во многих капиталистических странах проходили массовые демонстрации и митинги трудящихся. Трудящиеся зарубежных стран демонстрировали свое единство с советским народом под лозунгом «Руки прочь от Советской России».
Строка 108. Раскольников Ф. Ф. – в то время полномочный представитель РСФСР в Афганистане.
Строки 150–151. – Ну, и устроил я им Лозанну! – Лозанна – город в Швейцарии. В 1922–1923 годах здесь происходила европейская конференция, созванная для урегулирования ближневосточных вопросов. Лозаннская конференция началась после окончания англо-греко-турецкой войны (1919–1922).
Строка 180. «Зловредной организацией» Керзон именовал в своей ноте Коммунистический Интернационал.
Строки 187–189. …как Шумяцкий с Раскольниковым подымают Восток… – Шумяцкий Б. З. – в то время полномочный представитель РСФСР в Иране. Отзыва Шумяцкого и Раскольникова требовал в своей ноте от 29 мая 1923 года Керзон в связи с ростом национально-освободительного движения на Востоке.
Пилсудский (стр. 122). Первая публикация – газ. «Известия Одесского губисполкома, губкома КПБУ и губпрофсовета», Одесса, 1923, № 1084, 15 июля, литературно-художественное приложение, под заглавием: «Пилсудскому отставка вручена. Вспомни, кто Пилсудский и что пилсудчина (Некролог)».
Перепечатано (с большими купюрами) в газ. «Коммунист», Харьков, 1923, № 186, 19 августа.
В настоящем издании в текст 4 тома Сочинений внесено исправление: в строках 133–135 вместо: «То новеньким заменяет жупан драненький» – «То новеньким заменят жупан драненький» (исправление опечатки).
Пилсудский Юзеф (1867–1935) – польский реакционный политический деятель. С 1892 года – член социалистической партии, ярый националист. В 1918–1922 годах провозглашен «начальником государства». В 1920 году начал войну с Советской Россией. В 1923 году ушел в отставку с поста начальника генерального штаба. С 1926 года, после фашистского переворота, снова фактический диктатор Польши.
Строка 34. Краснозвездники – воины Красной Армии.
Строка 35. Краснокрестники – работники общества Красного Креста.
Строка 74. Фош Фердинанд – см. примечание к стихотворению «Это значит вот что!» (стр. 433*).
Строка 76. Френч Джон (1852–1925) – английский фельдмаршал.
Строка 114. Пуанкаре – см. примечание к стихотворению «Универсальный ответ» (стр. 432*).
Строка 167. Бельведер – название дворца в Варшаве, в котором жил президент республики.
Стиннес (стр. 129). Первая публикация – журн. «Красная новь», М. 1923, № 4, июнь – июль.
Перепечатано (с большими купюрами) в газ. «Коммунист», Харьков, 1923, № 186, 19 августа.
В журн. «Красная новь» и корректурных листах отдельного издания «Маяковской галереи», помеченных штампом типографии «13 сентября 1923 года», отсутствуют строки 165–168. Они появились позднее, в связи с революционными событиями в Германии в октябре 1923 года.
Стиннес Гуго (1870–1924) – крупнейший представитель германской финансовой плутократии. После первой мировой войны, пользуясь инфляцией и валютной спекуляцией, создал гигантский концерн тяжелой промышленности. Был связан с финансовыми магнатами США и Франции.
Строка 38. Рента – нетрудовой доход, получаемый владельцем денежного капитала или земли.
Строка 74. Рейхстаг – германский парламент.
Строка 98. Шпенглер Освальд (1880–1936) – реакционный немецкий философ-идеалист, отрицавший исторический прогресс. Идеолог германского империализма и один из идеологических предшественников фашизма.
Строка 130. …собственные эсдечики – немецкие социал-демократы.
Строки 165–168. Надеюсь, скоро это солнце разрисуют саксонцы. – Саксония – одна из областей Германии. В период обострения в Германии революционного кризиса в Саксонии в октябре 1923 года образовалось рабочее правительство, в которое вошли левые социал-демократы и коммунисты. Оно просуществовало недолго.
Вандервельде (стр. 135). Первая публикация – газ. «Известия Одесского губисполкома, губкома КПБУ и губпрофсовета», 1923, № 1096, 29 июля (под заглавием «Соглашательский идеал»).
В настоящем издании в текст 4 тома Сочининий внесено исправление: в строках 65–67 вместо: «чтоб вечно челядь глазела глаза его» – «чтоб вечно челядь глазели глаза его» (по текстам отдельного издания «Маяковской галереи» и корректурных листов).
Вандервельде Эмиль (1866–1938) – бельгийский политический деятель, социал-шовинист, один из лидеров II Интернационала. Активно содействовал интервенции против Советской России.
Строки 8–9. Король Альберт – Альберт I, король Бельгии в 1909–1934 годах.
Строка 47. В 1922 году Вандервельде в числе других представителей II Интернационала приезжал в Москву в качестве защитника группы правых эсеров-террористов, представших перед советским судом. Трудящиеся Москвы ответили на его приезд массовой демонстрацией под лозунгами, клеймившими позором представителей II Интернационала. Этому событию Маяковский посвятил стихотворение «Баллада о доблестном Эмиле» (см. т. 4 наст. изд.).
Строка 50. Речь идет о Версальском договоре (см. примечание к стихотворению «Пуанкаре», стр. 443*).
Строка 175. Златоуст Иоанн (ок. 347–407) – видный деятель восточно-христианской церкви, архиепископ Константинопольский. Был красноречивым проповедником.
Гомперс (стр. 142). Первая публикация – газ. «Известия Одесского губисполкома, губкома КПБУ и губпрофсовета», Одесса, 1923, № 1072, 1 июля, литературно-художественное приложение (под заглавием «Тоже вождь»).
Гомперс Самюэл (1850–1924) – бессменный председатель Американской федерации труда с 1882 года. Направлял ее деятельность по линии «классового сотрудничества» и отказа от революционной борьбы. Поддерживал антисоветскую интервенцию.
Строки 101–102. Рокфеллер и Карнеджи – миллиардеры в Соединенных Штатах Америки.
Строка 192. Гардинг Уоррен (1865–1923) – реакционный американский государственный деятель, враг Советской страны. В 1921–1923 годах – президент США.
Рабочим Курска, добывшим первую руду, временный памятник работы Владимира Маяковского[5] (стр. 149). Черновой автограф в записной книжке 1923 года, № 20; журн. «Леф», М. – П. 1923, № 4, август – декабрь[6]; «О Курске, о комсомоле, о мае…»; «Песни рабочим»; Сочинения, т. 2.
В журн. «Леф» посвящение – Л. Ю. Б. (Л. Ю. Брик).
В настоящем издании в текст 2 тома Сочинений внесено исправление: в строках 282–283 вместо: «Он также мечтает, он также любит» – «Он так же мечтает, он так же любит» (по текстам всех предшествующих изданий).
Строка 31. Муций Сцевола – по древнеримскому преданию, юноша, попавший в плен и сжегший свою правую руку на огне, чтобы показать презрение к физическим страданиям.
Строка 33. Гракхи – Тиберий и Кай, братья, политические деятели древнего Рима, погибшие в борьбе против крупных землевладельцев.
Строка 51. Бутырки – Бутырская тюрьма в Москве.
Строка 125. Чужак – псевдоним журналиста Н. Ф. Насимовича, одного из участников журнала «Леф». У Маяковского были с ним разногласия по вопросам искусства.
Строка 212. Пенсильвания – штат на северо-востоке США.
Строка 232. Гаубица – тип артиллерийского орудия.
Строка 243. Аномалия магнитная – отклонение магнитных явлений от нормы. Курская магнитная аномалия – самая сильная на земном шаре. Она обусловлена наличием здесь в земной коре огромных запасов железных руд. Систематическое изучение Курской аномалии было организовано по указанию В. И. Ленина с 1919 года.
Строка 262. Альфред – псевдоним литератора Капелюш, автора статьи в «Известиях ВЦИК» от 10 июня 1923 года, направленной против «Лефа».
Строка 389. Эльвисты – так назывались члены «Лиги „Время“» (сокращенно «ЛВ»), созданной в целях пропаганды научной организации труда в СССР.
Строка 396. Татлин В. Е. – художник-конструктивист, автор проекта «Памятника III Интернационала» (1920).
Строка 468. Сосновский Л. С. – журналист, выступал со статьями против Маяковского.
Строка 491. Лазарев П. П. (1878–1942) – советский физик, академик, руководивший в 1919–1926 годах работами по исследованию Курской магнитной аномалии.
Строка 511. Меркулов – Меркуров С. Д. (1881–1952) – советский скульптор (у Маяковского фамилия дана неточно).
Строка 512. Андреев Н. А. (1873–1932) – советский скульптор.
Строки 530–531. …к Островскому назад… – А. В. Луначарский выдвинул лозунг «Назад к Островскому» («Известия ВЦИК» от 11 и 12 апреля 1923 года, статья «Об А. Н. Островском и по поводу его»), призывая учиться у А. Н. Островского «некоторым сторонам мастерства». Маяковский выступает против этой формулировки, как бы зовущей «назад».
Строка 535. Сакулин П. Н. (1868–1930) – историк литературы, представитель так называемого социологического метода.
Строки 542–543. Собинов, перезвените званьем Южина. – Собинов Л. В. (1872–1934) – оперный артист, получил звание Народного артиста республики 27 марта 1923 года.
Южин – Южин-Сумбатов А. И. (1857–1927), драматический артист, драматург, руководитель Малого театра, получил звание Народного артиста республики 17 сентября 1922 года.
Строка 567. ГИЗ – Государственное издательство.
Вон самогон! (стр. 169). Черновой автограф в записной книжке 1923 года, № 20 (БММ); отдельное издание «Красной нови»; отдельное издание «Уралкниги»; «Песни крестьянам»; Сочинения, т. 4.
В настоящем издании в текст 4 тома Сочинений внесены исправления по черновому автографу и отдельному изданию «Уралкниги»: в строке 97 вместо «Подвело от голодных корчей живот» – «Подвело от голодных харчей живот»; в строке 119 вместо «в подворотную щель» – «в подворотнюю щель»; в строке 138 вместо «чтобы покончить с властью Советов» – «чтоб покончить с властью Советов»; в строке 160 вместо «из-за ставней горел огонек» – «из-за ставен горел огонек»; в строке 185 вместо «над избой Степанидьей дымкой раскурясь» – «над избой Степанидьей дымком раскурясь»; в строках 235–236 вместо «Не умрем, чай, с одной чарки» – «Не умрем, чай, с одной-то чарки»; в строках 315–316 вместо «потрезвели и снова за зелье» – «протрезвели и снова за зелье»; в строке 345 вместо «Не услышишь поющий голос» – «Не услышишь поющего голоса»; в строке 380 вместо «Да в улыбку раскрылись наши враги» – «Да в улыбку расплылись наши враги». Исправлена разбивка строк 28–50.
Написано в марте – апреле 1923 года. Вышло в изд-ве «Красная новь» в августе 1923 года.
Обложка и рисунки первопечатного издания сделаны Маяковским (см. в тексте).
Крестьянам! Рассказ о Змее-Горыныче и о том, в кого Горыныч обратился нынче (стр. 189). Газ. «Известия ВЦИК», М. 1923, № 101, 9 мая.
Это произведение связано с агитпоэмой «Вон самогон!» (написанной, повидимому, несколько раньше), не только темой, но и некоторыми образами и совпадениями отдельных строф. Так, строки 1–6, 57–79, 88-105, 117–124 являются вариантами строк 1–7, 374–387, 323–328, 329–335, 408–416, 424–430 «Вон самогон»!»
Все стихотворения цикла печатались сначала в «Бюллетенях Прессбюро» (февраль – май 1923 года); отдельное издание «Красной нови» (под заглавием «Ни знахарь, ни бог, ни слуги бога нам не подмога); «Песни крестьянам»; Сочинения, т. 4.
Отдельное издание и «Песни крестьянам» вышли с рисунками Маяковского (см. в тексте).
В настоящем томе стихотворения публикуются не в хронологической последовательности их появления в «Бюллетенях Прессбюро», а в том порядке, в котором они появились при публикации циклом (отдельное издание и Сочинения, т. 4).
Долой (стр. 193). «Бюллетень Прессбюро Агитпропа ЦК РКП», «А», М. 1923, № 14, 24 февраля (под заглавием «Еще одно – «Долой!»). Текст напечатан «столбикам».
Перепечатано в газетах: «Соха и молота, Могилев, 1923, № 46, 1 марта; «Саратовские известия», 1923, № 49, 2 марта; «Красное знамя», Чернигов, 1923, № 348, 4 марта; «Брянский рабочий», 1923, № 51, 7 марта; «Красная смена», Минск, 1923, № 8, 7 марта; «Степная правда», Семипалатинск, 1923, № 50, 7 марта; «Красный мир», Кострома, 1923, № 54, 11 марта; «Рабочий клич», Рязань, 1923, № 56, 14 марта; «Ижевская правда», 1923, № 60, 18 марта; «Коммунист», Череповец, 1923, № 61, 18 марта; «Красный Крым», Симферополь, 1923, № 77, 7 апреля; «Красный молодняк», Владивосток, 1923, № 15, 7 апреля; «Труд», Баку, 1923, № 51, 6 марта; «Рабочая библиотечка», сб. № 9, приложение к газ. «Волна», Архангельск, 1923, 15 апреля. Журн. «Юный пролетарий Урала», Екатеринбург, 1923, № 4, апрель.
В настоящем издании в текст 4 тома Сочинений внесены исправления: восстановлено заглавие по текстам отдельного издания и сб. «Песни крестьянам» (где оно входит в рисунок); вставлена пропущенная строка 12–13 «Мы отвели от горл блокады нож» (по тексту «Бюллетеня Прессбюро»).
Прошения на имя бога – в засуху не подмога (стр. 196). «Бюллетень Прессбюро Агитпропа ЦК РКП», «А»/«Б», М. 1923, № 41/39, 30 мая.
Перепечатано в газетах: «Звезда», Минск, 1923, № 128, 3 июня; «Наша газета», Воронеж, 1923, № 57, 5 июня; «Соха и молот», Могилев, 1923, № 124, 5 июня; «Красный Крым», Симферополь, 1923, № 123, 6 июня; «Орловская правда», 1923, № 123, 6 июня; «Саратовские известия», Саратов, 1923, № 128, 6 июня;«Рабочий клич», Рязань, 1923, № 123, 7 июня; «Красный Урал», Уральск, 1923, № 125, 8 июня; «Волна», Архангельск, 1923, № 124, 9 июня; «Мир труда», Петропавловск, 1923, № 118, 10 июня; «Брянский рабочий», Брянск, 1923, № 131, 17 июня; «Степная правда», Семипалатинск, 1923, № 130, 20 июня; «Красный Алтай», Барнаул, 1923, № 140, 24 июня; «Рабочий путь», Омск, 1923, № 152, 8 июля; «Трудовая правда», Покровск, 1923, № 128, 10 июля. Журн. «Товарищ», Пенза, 1923, № 13, 30 июня.
В настоящем издании в текст 4 тома Сочинений внесено исправление: в строках 1–2 вместо «Эй, крестьянин! Эта песня для вас!» – «Эй, крестьяне! Эта песня для вас!» (по тексту «Бюллетеня Пресс бюро»).
Про Феклу, Акулину, корову и бога (стр. 201). «Бюллетень Прессбюро Агитпропа ЦК РКП», «Б», М. 1923, № 9, 27 февраля (под заглавием «Про Феклу, Анисью, корову и бога»). Текст напечатан «столбиком».
Перепечатано под тем же заглавием в газетах: «Призыв», Владимир, 1923, № 43, 2 марта; «Степная правда», Семипалатинск, 1923, № 63, 24 марта; «Крестьянская правда», Самара, 1923, № 20, 13–19 мая.
В настоящем издании в текст заглавия внесено исправление: вместо «Анисью» печатается «Акулину» в соответствии с текстом произведения.
Ни знахарство, ни благодать бога в болезни не подмога (стр. 206). «Бюллетень Прессбюро Агитпропа ЦК РКП», «Б», М. 1923, № 11, 6 марта. Текст напечатан «столбиком».
Перепечатано в газетах: «Призыв», Владимир, 1923, № 51, 15 марта; «Соха и молот», Могилев, 1923, № 60, 18 марта; «Степная правда», Семипалатинск, 1923, № 62, 22 марта; «Советская деревня», Саратов, 1923, № 196, 4 апреля.
В настоящем издании в текст 4 тома Сочинений внесено исправление: в строках 35–36 вместо: «и сплевывайте сквозь губы́ в уголочек» – «и сплевывайте сквозь губы уголочек» (по тексту «Бюллетеня Прессбюро»).
Товарищи крестьяне, вдумайтесь раз хоть – зачем крестьянину справлять пасху (стр. 212). «Бюллетень Прессбюро Агитпропа ЦК РКП», «А»/«Б», М. 1923, № 23/20 (должно быть: 20/23), 28 марта. Текст напечатан «столбиком», частично «лесенкой».
Перепечатано в газетах: «Юный пахарь», Минск, 1923, № 23, 31 марта; «Северный рабочий», Ярославль, 1923, № 72, 1 апреля (под заглавием «Крестьянин, вдумайся, зачем тебе справлять пасху»); «Рабочий клич», Рязань, 1923, № 63, 3 апреля; «Карельская коммуна», Петрозаводск, 1923, № 61, 4 апреля; «Брянский рабочий», Брянск, 1923, № 183/75, 5 апреля; «Призыв», Владимир, 1923, № 68, 5 апреля; «Саратовские известия», Саратов, 1923, № 77, 5 апреля; «Власть труда», Уфа, 1923, № 78, 6 апреля (под заглавием «Кому нужна пасха»); «Уральский рабочий», Екатеринбург, 1923, № 78, 6 апреля; «Луч правды», Вольск, 1923, № 77, 6–8 апреля; «Красный Крым», Симферополь, 1923, № 77, 7 апреля; «Красный Урал», Уральск, 1923, № 79, 7 апреля; «Новая деревня», Гомель, 1923, № 537, 7 апреля; «Пролетарская правда», Киев, 1923, № 78, 7 апреля; «Рабочий путь», Омск, 1923, № 78, 7 апреля; «Товарищ», Вязьма, 1923, № 76, 7 апреля; «Красное знамя», Краснодар, 1923, № 76, 8 апреля; «Коммуна», Калуга, 1923, № 78, 8 апреля; «Крестьянская правда», Самара, 1923, № 17, 28 апреля; «Комсомолец», Томск, 1924, № 14–15, 26 апреля; «Уральский рабочий», Екатеринбург, 1924, № 95, 27 апреля; «Правда молодежи», Орел, 1925, № 15, 19 апреля. Журн. «Товарищ», Пенза, 1923, № 8, 5 апреля; журн. «Красный утес», Архангельск, 1923, № 5, 6 апреля; сб. «Антирелигиозный чтец-декламатор», изд. «Безбожник», Л. 1929 (отрывок под названием «Кто дал землю крестьянам»).
В настоящем издании в текст 4 тома Сочинений внесено исправление: в строках 65–67 «Рождество и воскресенье, – коммуны-вольницы» – сняты запятая и тире, искажающие смысл.
Про Тита и Ваньку. Случай, показывающий, что безбожнику много лучше (стр. 215). «Бюллетень Прессбюро Агитпропа ЦК РКП», «Б», М. 1923, № 8, 23 февраля. Текст напечатан «столбиком».
Перепечатано в газетах: «Соха и молот», Могилев, 1923, № 48, 3 марта; «Наша газета», Воронеж, 1923, № 29, 18 марта; «Степная правда», Семипалатинск, 1923, № 67, 29 марта; «Труд», Баку, 1923, № 50, 4 марта; «Юная рать», Чита, 1924, № 108, 15 мая; «Молодая гвардия», Благовещенск, 1924, № 21–22, 1 июня. Сб. «Антирелигиозный чтец-декламатор», изд. «Безбожник», Л. 1929.
Все стихотворения цикла печатались сначала в «Бюллетенях Прессбюро» (июнь – июль 1923 года); отдельное издание «Красной нови»; «Песни крестьянам»; Сочинения, т. 4.
Отдельное издание и «Песни крестьянам» вышли с рисунками Маяковского (см. в тексте).
В настоящем томе стихотворения публикуются не в хронологической последовательности их появления в «Бюллетенях Прессбюро», а в том порядке, в котором они появились при публикации циклом (отдельное издание и Сочинения, т. 4).
Кому и на кой ляд целовальный обряд (стр. 220). «Бюллетень Прессбюро Агитпропа ЦК РКП», «Б», М. 1923, № 50, 5 июля.
Перепечатано: газ. «Амурская правда», Благовещенск, 1923, № 1010, 14 августа; газ. «Безбожник», М. 1923, № 50, 2 декабря.
В настоящем издании в текст 4 тома Сочинений внесено исправление: в строках 167–168 вместо «и не будьте кобылогубыми образинами» – «и не будете кобылогубыми образинами» (по тексту «Бюллетеня Прессбюро»).
Крестить – это только попам рубли скрести (стр. 226). «Бюллетень Прессбюро Агитпропа ЦК РКП», «Б», М. 1923, № 44, 15 июня.
Перепечатано в газетах: «Наша газета», Воронеж, 1923, № 64, 21 июня; «Карельская коммуна», Петрозаводск, 1923, № 166, 12 августа; «Амурская правда», Благовещенск, 1923, № 1017, 23 августа.
В настоящем издании в текст 4 тома Сочинений внесено исправление: в строке 126 вместо «зайди и запиши дитя в комиссариате» – «зайди и запиши дитё в комиссариате» (по тексту «Бюллетеня Прессбюро»).
Крестьяне, собственной выгоды ради поймите – дело не в обряде (стр. 231). «Бюллетень Прессбюро Агитпропа ЦК РКП», «Б», М. 1923, № 42, 3 июня.
Перепечатало в газетах: «Коммуна», Калуга, 1923, № 127, 10 июня; «Наша газета», Воронеж, 1923, № 60, 12 июня; «Мир труда», Петропавловск, 1923, № 133, 27 июня; «Рабочий путь», Омск, 1923, № 150, 6 июля.
В настоящем издании в текст 4 тома Сочинений внесены исправления: в строке 33 вместо «и Ваня неплох» – «и Петя неплох» (согласно тексту произведения); в строке 45 вместо «окружили Анюту у аналоя» – «окрутили Анюту у аналоя» (по тексту «Бюллетеня Прессбюро»); в строке 68 вместо «как свеча тонкий» – «как свечка, тонкий» (по всем предшествующим изданиям).
От поминок и панихид у одних попов довольный вид (стр. 236). «Бюллетень Прессбюро Агитпропа ЦК РКП», «Б», М. 1923, № 51, 6 июля.
Перепечатано: «Известия Всетатарского ЦИК Советов», Казань, 1923, № 153, 14 июля.
На горе бедненьким, богатейшим на счастье – и исповедники и причастье (стр. 241). «Бюллетень Прессбюро Агитпропа ЦК РКП», «Б», М. 1923, № 53, 13 июля (под заглавием «Говение»).
От примет кроме вреда ничего нет (стр. 246). «Бюллетень Прессбюро Агитпропа ЦК РКП», «Б», М. 1923, № 45, 19 июня.
Работа Маяковского в области рекламы началась в 1922 году (стихотворение «Нате! Басня о «Крокодиле» и подписной плате») и продолжалась до 1930 года; наибольшее количество созданных им рекламных текстов приходится на 1923–1925 годы.
Маяковский писал тексты для листовок, газетных объявлений, рекламных плакатов, конфетных, оберток, коробок печенья и т. п. Всю работу по рекламе Маяковский осуществлял совместно с художниками А. М. Родченко, В. Ф. Степановой, А. С. Левиным и другими.
Свои взгляды на советскую рекламу, которой он придавал большое агитационно-политическое значение, Маяковский изложил в статье 1923 года «Агитация и реклама»: «Мы знаем прекрасно силу агитации. В каждой военной победе, в каждой хозяйственной удаче на 9/10 сказывается уменье и сила нашей агитации… Реклама – промышленная, торговая агитация… Мы не должны оставить это оружие, эту агитацию торговли в руках нэпача, в руках буржуа-иностранца» (см. т. 12 наст. изд.).
Маяковский настаивал на том, что поэт должен работать над рекламой в полную силу своего дарования. «Реклама должна быть разнообразием, выдумкой» («Агитация и реклама»). «Несмотря на поэтическое улюлюканье, считаю «Нигде кроме как в Моссельпроме» поэзией самой высокой квалификации» (т. 1 наст. изд., стр. 27).
Повидимому, к осени 1923 года относится незаконченный черновик «Записки об «Универсальной рекламе», которую Маяковский собирался направить в Московский трест полиграфической промышленности (Мосполиграф). В этой записке он предлагал меры к улучшению постановки рекламного дела (см. т. 13 наст. изд.).
В 1924 году Маяковский, задумав собрать свои рекламные тексты в одной книге, предложил издать ее Мосполиграфу, но Мосполиграф затянул заключение договора, и издание не было осуществлено.
Рекламные плакаты с текстами Маяковского «Даешь карандаши», «Печать – наше оружие» (Мосполиграф), «Дайте солнце ночью», «Человек только с часами» (ГУМ), «Галоши» – текст I, «Мячики», «Соски» (Резинотрест), «Папиросы «Ира», «Трехгорное пиво», «Печенье «Красный Октябрь», «Папиросы «Червонец» и конфетные обертки «Наша индустрия», «Красная Москва» и «Новый вес» (Моссельпром) экспонировались на Международной художественно-промышленной выставке в Париже в 1925 году. Маяковский и художник А. Родченко получили за эти работы дипломы (серебряные медали).
Работа по собиранию рекламных текстов Маяковского представляет большие трудности. Литературная библиография их не велась, почти все они выходили в свет анонимно. Не найдены некоторые тексты, о существовании которых имеются сведения. В БММ сохранились счета Маяковского Моссельпрому (1923–1925 годов), в которых названы тексты, до сих пор не найденные: коробка печенья «Всем, всем»; текст о папиросах «Клад» – 140 строк; 11 упаковок для шоколада «Живые картинки» – 44 строки текста; вкладки для папирос – 200 строк текста; дополнительный текст листовки о папиросах – 20 строк; текст листовки «Перед курящим» – 131 строка и др.
Были ли использованы эти работы поэта – неизвестно. В БММ хранится копия одного из заказов Моссельпрома Маяковскому (без даты) на эскизы вывесок (рисунок и текст) для киосков с рекламой ряда товаров. Большинство из заказанных рекламных текстов Маяковский сдал по счету от 2 марта 1925 года. Неизвестно, однако, были ли выполнены упомянутые в заказе тексты с рекламой папирос «Хаджи», «Орион», «Виза» и пряников.
Бо́льшая часть материалов с рекламными текстами Маяковского сосредоточена в БММ. Некоторая часть (главным образом эскизы плакатов) находится в личном архиве художника А. Родченко.
В настоящем томе печатаются рекламные тексты 1923–1925 годов. Рекламу, написанную в соавторстве с другими поэтами, см. в разделе «Коллективное*».
Названия текстов, не принадлежащие автору, заключены в квадратные скобки. Нумерация текстов, там где она не оговорена в примечаниях, принадлежит редакции.
В разделах, содержащих рекламы одних и тех же предметов или различных сортов и видов одних и тех же предметов, тексты сгруппированы тематически.
«Леф» (стр. 253). «Лучшие советы» – журн. «Крысодав», М. 1923, № 1, июнь; журн. «Леф», М. 1923, № 3, июнь – июль; Сочинения, т. 4. «Дальше!» – журн. «Леф», М. 1923, № 4, август-декабрь; Сочинения, т. 4.
«Леф» – «Левый фронт искусств», журнал литературной группы, возглавлявшейся Маяковским. Всего вышло 7 номеров (1923–1925). Редактором «Лефа» был Маяковский. Среди сотрудников «Лефа» были известные советские поэты (Н. Асеев, В. Каменский, Б. Пастернак, С. Третьяков и др.). В заявлении, поданном в Агитотдел ЦК РКП(б) с просьбой разрешить издание журнала, Маяковский указывал, что одной из задач издания является «борьба с декадентством, с эстетическим мистицизмом, с самодовлеющим формализмом, с безразличным натурализмом за утверждение тенденциозного реализма, основанного на использовании технических приемов всех революционных художественных школ» (журн. «Литературный критик», М. 1936, № 4, стр. 129). Однако при всей определенности исходных позиций Маяковского на страницах журнала находили свое место и ошибочные теории вульгарно-социологического и формалистического характера.
[Журнал «Крысодав»] (стр. 255). «Мы» – журн. «Крысодав», М. 1923, № 1, июнь, на первой странице обложки.
«Крысодав» – журнал сатиры, выходивший в июне – октябре 1923 года.
[Журнал «Огонек»] (стр. 257). Копия плаката (архив художника А. Родченко).
Написано не позднее начала октября 1923 года: в сохранившейся расписке художника А. Родченко от 6 октября 1923 года говорится об исполнении рисунка к плакату с данным текстом. Использовалось для светорекламы.
Впервые напечатано в Полном собрании сочинений, т. 4, ч. 2, М. 1936.
[Издательство «Красная новь»] (стр. 258). Эскиз плаката (архив художника А. Родченко).
Написано для плаката, повидимому, в ноябре 1923 года: в сохранившейся расписке А. Родченко, датированной 23 ноября 1923 года, говорится об исполнении для «Красной нови» рисунка к плакату «Что нужно читать». Плакат не был выпущен.
Впервые напечатано в Полном собрании сочинений, т. 4, ч. 2, М. 1936.
[Журнал «Московский пролетарий»] (стр. 259). Рекламный плакат, М. 1924.
Впервые перепечатано в Полном собрании сочинений, т. 4, ч. 2, М. 1936.
«Московский пролетарий» – журнал Московского губернского совета профессиональных союзов, выходил в 1923–1930 годах.
[Контрагентство печати] (стр. 260). Подписи к пяти рисункам плаката, приложенного к рекламной брошюре «Что читать?», изд. «Контрагентство печати», М. 1924, Бюллетень № 1, 1 июня. Плакат подписан: Маяковский, Лавинский.
[Журнал «Смена»] (стр. 262). Рекламный плакат, изд. «Молодая гвардия» и «Мосполиграф», М. 1925.
Написано в начале января 1925 года.
Впервые перепечатано в Полном собрании сочинений, т. 4, ч. 2, М. 1936.
«Смена» – журнал молодежи, орган ЦК ВЛКСМ, выходит с 1924 года.
[Журнал «Красный перец»] (стр. 263). Двустишие сохранилось в тексте расписки художника А. Родченко, получившего плату «за исполнение плаката «Красного перца». Расписка датирована 12 января 1925 года.
Было ли использовано – неизвестно.
Впервые напечатано в Полном собрании сочинений в 12-ти томах, т. 5, М. 1940.
«Красный перец» – журнал сатиры и юмора; выходил в 1922–1926 годах в Москве.
[Госиздат. Тексты для плакатов, летучек и наклеек] (стр. 264). Текст 1 – беловой автограф (БММ); авторизованная машинописная копия с пометками Маяковского (БММ); плакат, М. Госиздат, художник В. Степанова. Текст 2 – авторизованная машинописная копия (БММ). Текст 3 – беловой автограф (БММ); авторизованная машинописная копия; плакат, М. Госиздат, художник В. Степанова. Тексты 4-17 – авторизованная машинописная копия (БММ). Тексты 18–20 – эскизы плакатов (архив художника А. Родченко). Текст 21 – беловой автограф (БММ); плакат, М. Госиздат, художник В. Степанова. Тексты 22–25 – эскизы плакатов (архив художника А. Родченко). Текст 26 – плакат, М. 1925, художник В. Степанова. Текст 27 – плакат, М. 1925, художник А. Левин. Тексты 28–33 – газ. «Известия ЦИК», М. 1924, № 149, 3 июля, № 175, 2 августа, № 176, 3 августа, № 177, 5 августа, № 178, 6 августа, № 180, 8 августа.
В авторизованной машинописной копии, содержащей тексты 1-17, имеется первоначальный вариант текста 1, зачеркнутый автором (см. в разделе «Варианты и разночтения»). На полях машинописной копии – пометки Маяковского, указывающие на предназначение текстов: слева от текста 1 – «деревенский плакат», 2 – «городской плакат», 3 – «жел. – дор. плакат», 13 – «школа». К текстам 4-17 – общая надпись: «летучки и наклейки».
Рекламные тексты для Госиздата написаны в 1924–1925 годах (судя по имеющимся в БММ распискам и счетам, основная масса – в июле – августе 1924 года и мае 1925 года).
Сохранилась рукопись Маяковского с записью тем для реклам Госиздата (БММ): 1) «Все учебники в Госиздате». 2) «Учебники готовы. Требуй в Госиздате». 3) «В Госиздате новейшие учебники по всем предметам». 4) «Выгодно! Учебники в Госиздате купим заранее».
Имеются автографы, которые, повидимому, отражают уже следующий этап в работе над рекламами. Они представляют собой черновые эскизы с рисунком и соответствующим образом распределенным, но еще поэтически не оформленным текстом. Таков эскиз рекламы, которая, судя по пометке Маяковского, предназначалась «для трамвайных столбов». Слева от центрального рисунка текст: «Вузовец! Рабфаковец! Библиотекарь! Кооператор! Торговец!» Справа – книги с надписями на корешках: «Букварь», «Алгебра», «Геометрия», «Словесность», «История», «Социология». Внизу: «и все другие книги к учебному году немедленно купи в Госиздате».
Такого же типа эскиз рекламы с текстом: «Торопись купить учебники в Госиздате!», а также эскизы реклам о книгоношах: «Хочешь заработать? Будь книгоношей! Двигай книгу!» и «Хочешь заработать? Будь книгоношей! Госиздат даст тебе книги в кредит! Двигай книгу!»
Ряд рекламных текстов, сделанных Маяковским для Госиздата, пока не разыскан. О том, что они существовали, говорят хранящиеся в БММ расписки поэта Н. Асеева и художников А. Родченко, В. Степановой, А. Левина, А. Лавинского, С. Адливанкина на сделанные совместно с Маяковским работы, а также расписки заведующего рекламным бюро Госиздата в получении от Маяковского ряда реклам. В некоторых расписках говорится только о выполненной для Госиздата работе, но она не названа, в других – указаны первые слова текста. Благодаря последним можно установить, что были сделаны следующие рекламы: «Вузовец и рабфаковец» (плакат для столбов), «Есть между вами грамотные» (витрина для сада «Эрмитаж»), «Торопитесь» (плакат для печати), «Буржуазия грозит газами», «Приезжий каждый» (выполнен А. Левиным по эскизу Маяковского), «Книги силу и знанье дадут». Эти тексты были написаны, по всей вероятности, в июне – июле 1924 года.
Совместно с Н. Асеевым в июле – августе 1924 года были написаны «4 песенки для ГИЗа» и сказка для ГИЗа – «Всем детям на свете».
Строки 94–95, 105–106, 114–115, 126–127, 133. Имеются в виду буквари, изданные ГИЗом в 1924 году: А. Горобец, «Из деревни»; «Смена», первая книга для чтения под ред. К. Свердловой; П. Блонский, «Красная зорька», первая книга для чтения в сельской школе; Е. Соловьева и Е. и Л. Тихеевы, «Русская грамота»; «Новый путь», первая книга для чтения в городской школе 1-й ступени, составлена С. Липеровской и Е. Поповой под общим руководством и редакцией А. Г. Калашникова. О выходе этих книг сообщает газ. «Известия ЦИК», 1924, № 198, 31 августа и № 188, 20 августа.
Мосполиграф (стр. 271). Текст 1 – журн. «Красная нива», М. 1923, № 26, 1 июля. Текст 2 – копия плаката, художник А. Родченко (БММ). Тексты 3, 5–7 – запись, сделанная В. Степановой (архив художника А. Родченко). Тексты 4, 9, 10 – беловые автографы (БММ). Текст 8 – автограф; эскиз плаката (БММ).
Написаны для плакатов и светорекламы – текст 1 в июне, остальные – в первой половине октября 1923 года.
Строки 8–9 текста 1 были использованы и в качестве самостоятельного плаката.
Печатные плакаты выпущены не были; размножались ручным способом и выставлялись в окнах магазинов, а также рисовались для рекламы проекционным фонарем на улицах.
Тексты 2–8 впервые напечатаны в Полном собрании сочинений, т. 4, ч. 2, М. 1936; тексты 9-10 в Полном собрании сочинений в 12-ти томах, т. 5, М. 1940.
ГУМ (стр. 274). Текст 1 – плакат-листовка, художник А. Родченко. Текст 2 – беловой автограф; оригинал плаката (БММ). Текст 3 – газ. «Известия ВЦИК», М. 1923, № 145, 1 июля; эскиз неизвестного художника с визой В. С. Глязера, заведовавшего рекламно-художественным отделом ГУМа в 1923 году, и датой: «1/IX – 23 г.» (БММ). Текст 4 – журн. «Красная нива», М. 1923, № 28, 15 июля; Сочинения, т. 4. Текст 5 – журн. «Красная нива», М. 1923, № 28, 15 июля; «Вещи этого года», Сочинения, т. 4. Текст 6 – журн. «Огонек», 1923, № 20, 12 августа; Сочинения, т. 4. Тексты 7, 8 – беловые автографы (БММ); журн. «Огонек», 1923, № 30, 21 октября, Сочинения, т. 4. Текст 9 – беловой автограф; копия плаката, художник А. Родченко (БММ); журн. «Огонек», 1923, № 29, 14 октября; Сочинения, т. 4. Текст 10 – газ. «Известия ЦИК», М. 1923, № 238, 18 октября. Текст 11 – сообщен В. Глязером. Текст 12 – оригинал плаката (БММ).
Тексты 1, 3–6 написаны, повидимому, в июне 1923 года. Тексты 7-10 – в сентябре 1923 года. Тексты 11 и 12 – несколько позже.
Как сообщил В. Глязер, ГУМ широко использовал рекламные тексты поэта для плакатов, объявлений в газетах и журналах, транспарантов в отделениях магазина, передачи через рупоры на улице светорекламы, для щитов на трамвайных столбах и специальном велосипеде. Особенно популярен был текст 8, который печатался с торговой маркой ГУМа – спасательный круг с надписью «ГУМ».
Резинотрест (стр. 277). Текст «Галоши» 1 – беловой автограф (БММ); плакат, художник А. Родченко; Сочинения, т. 4. Текст 2 – беловой автограф (БММ); плакат, рис. Маяковского; Сочинения, т. 4. Текст 3 – запись, сделанная В. Степановой (архив художника А. Родченко). Тексты 4–7 – беловые автографы (БММ). Текст 8 – беловой автограф (БММ); плакат, М. изд. «Мосполиграф», художник А. Родченко. «Шины» – беловой автограф (БММ). «Мячики» – беловой автограф (БММ); Сочинения, т. 4. «Соски» – беловой автограф (БММ); плакат, художник А. Родченко; Сочинения, т. 4. «Игрушки» – Сочинения, т. 4.
В автографах не только записан текст, но и сделаны Маяковским черновые наброски рисунков.
Написаны в середине октября 1923 года.
В 1930 году по поводу одного из этих рекламных текстов Маяковский сказал: «У меня есть стихотворение про соски – замечательные соски, «готов сосать до старости лет». Против этого были возражения, а я говорю, что если до сих пор в деревне кормят грязной тряпкой ребятишек, то агитация за соски есть агитация за здоровую смену, за культуру» (Выступление в Доме комсомола Красной Пресни 25 марта 1930 г., см. т. 12 наст. изд.).
Тексты «Галоши» 3, 4, 7 и «Шины» впервые напечатаны в Полном собрании сочинений, т. 4, ч. 2, М. 1936; текст «Галоши» 8 впертые перепечатан в Полном собрании сочинений в 12-ти томах, т. 5, М. 1940.
[Моссукно] (стр. 279). Газ. «Трудовая копейка», М. 1923, № 90, 4 декабря; газ. «Красная звезда», М. 1923, № пробный, 29 декабря.
Обе публикации – с рисунками Маяковского. Первая строфа выделена в качестве заглавия. Остальные, двустрочные строфы служат подписями к рисункам.
Текст использовался также в качестве кино-рекламы.
[Чаеуправление.] Тексты для вкладок-плакатов (стр. 280). Тексты 1-15 – машинописная копия, озаглавленная «Текст для вкладок-плакатов» (БММ). Тексты 1, 2, 4, 5, 8, 10–14 и последний – печатные плакаты-листовки для вкладок в ящики с чаем, какао, кофе (БММ).
Нумерация текстов 1-15 обозначена в машинописной копии.
На плакате-листовке с текстом «В ручном труде…» изображена крестьянская семья за чаепитием; в избе – электрическое освещение. Внизу, слева от текста – фабричная марка: «Чаеуправление. ВСНХ».
Написаны в мае – июне 1924 года.
Тексты 1-15 напечатаны в Сочинениях, т. 10. Текст «В ручном труде…» перепечатывается впервые.
Моссельпром (стр. 285).
НИГДЕ КРОМЕ КАК В МОССЕЛЬПРОМЕ.
Сочинения, т. 4.
Этот рекламный лозунг был составной частью ряда плакатов, рекламирующих товары Моссельпрома. Впоследствии выделился в качестве самостоятельного рекламного текста и широко использовался в объявлениях, плакатах и на вывесках. Был вывешен на здании Моссельпрома в Москве.
ПАПИРОСЫ «ИРА», «МОССЕЛЬПРОМ», «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА».
Беловые автографы (БММ); плакаты художника А. Родченко – журн. «Огонек», 1923, № 30, 21 октября; Сочинения, т. 4.
Сдано Моссельпрому 2 октября 1923 года.
ПАПИРОСЫ «ШУТКА», «ЧЕРВОНЕЦ».
Беловые автографы (БММ); плакаты художника А. Родченко – журн. «Огонек», 1923, № 31, 28 октября; Сочинения, т. 4.
Сдано Моссельпрому 4 октября 1923 года.
ПАПИРОСЫ «ПРИМА», «ЛЕДА», «АРАБИ».
«Прима», «Леда» – беловые автографы (БММ); Сочинения, т. 4. «Араби» – запись текста, сделанная В. Степановой (архив художника А. Родченко).
Сдано Моссельпрому 6 октября 1923 года.
Текст «Араби» напечатан впервые в Полном собрании сочинений, т. 4, ч. 2, М. 1936.
ПАПИРОСЫ «ПОСОЛЬСКИЕ».
Текст 1 – беловой автограф (БММ). Был сдан Моссельпрому, повидимому, 7 октября 1923 года. Из-за «непедагогичности» был Моссельпромом забракован. После этого был написан текст 2. Текст 2 – плакат, художник А. Родченко – журн. «Огонек», 1923, № 31, 28 октября; Сочинения, т. 4.
Текст 1 напечатан впервые в Полном собрании сочинений, т. 4, ч. 2, М. 1936.
ПАПИРОСЫ «КИНО».
Эскиз плаката (архив художника А. Родченко).
Сдано Моссельпрому 8 января 1924 года.
Впервые напечатано в Полном собрании сочинений, т. 4, ч. 2, М. 1936.
ПАПИРОСЫ «ТРЕСТ».
Эскиз плаката (архив художника А. Родченко).
Сдано Моссельпрому 9 февраля 1924 года.
Впервые напечатано в Полном собрании сочинений, т. 4, ч. 2, М. 1936.
ПАПИРОСЫ «ТАИС», «БАСМА», «СЕЛЯМ».
Эскизы плакатов (архив художника А. Родченко).
Сдано Моссельпрому 16 августа 1924 года.
Впервые напечатано в Полном собрании сочинений, т. 4, ч. 2, М. 1936.
ПАПИРОСЫ «ДУКАТ», «ЛЮКС», «РЕКОРД», «ГЕРЦЕГОВИНА ФЛОР», «МАКСУЛ», «ЯНТАРЬ», «ТРИО», ТАБАК «ДЖЕВИЗ».
«Рекорд», «Герцеговина Флор» – беловые автографы (БММ) Табак «Джевиз» – беловой автограф (БММ); эскиз вывески для киоска (архив художника А. Родченко). «Дукат», «Люкс», «Максул», «Янтарь», «Трио» – эскизы вывесок для киосков (архив художника А. Родченко).
Сдано Моссельпрому 2 марта 1925 года.
Впервые напечатано в Полном собрании сочинений, т. 4, ч. 2, М. 1936 («Дукат», «Люкс», «Рекорд», «Герцеговина Флор», табак «Джевиз») и в Полном собрании сочинений в 12-ти томах, т. 5, М. 1940 («Максул», «Янтарь», «Трио»).
ШОКОЛАД.
Беловой автограф (БММ).
Сдано Моссельпрому 7 октября 1923 года.
Впервые напечатано в Полном собрании сочинений, т. 4, ч. 2, М. 1936.
КОНФЕТЫ.
Текст 1 – запись, сделанная В. Степановой (архив художника А. Родченко). Остальные – черновой автограф (БММ).
Написано для специальных рекламных фигур, вырезанных из дерева (рабочий, красноармеец, крестьянин и др.) и расставленных на заборе по Садово-Самотечной ул. в Москве (художник А. Родченко).
В БММ хранится счет Маяковского Моссельпрому от 30 октября 1923 года, в котором он просит уплатить «за 4 плаката – фигуры для конфетных реклам». Сохранилась также расписка А. Родченко от того же числа, в которой говорится об исполнении рисунков: «Красноармеец», «Рабочий», «Две головы», «Голова с котелком». Очевидно, речь идет именно об этой серии.
В журнале «Огонек», 1924, № 15, 6 апреля было напечатано фото этой рекламы с подписью: «Не так давно московское объединение «Моссельпром» расставило на московских заборах вырезанные изображения человеческих голов, которые дружным хором указывают прохожему – куда идти за конфетами. Плакаты были сделаны Маяковским и Родченко. Некий купец, увидя рядом со своей торговлей такую рекламу, рассудил по-своему: если можно Моссельпрому, почему же нельзя мне?.. и намалевал под рекламой Моссельпрома свою собственную рекламу».
Впервые напечатано в Полном собрании сочинений в 12-ти томах, т. 5, М. 1940.
КАРАМЕЛЬ «КРАСНАЯ МОСКВА». ТЕКСТЫ ДЛЯ КОРОБКИ И КОНФЕТНЫХ ОБЕРТОК.
Экземпляры коробки и конфетных оберток. На каждой обертке изображено здание или сооружение, о котором говорится в тексте.
В расписке художника А. Родченко от 4 декабря 1923 года (БММ) указывается выполнение «12 шт. рисунков «Красной Москвы» и рисунка к коробке «Красная Москва».
Впервые перепечатано в Полном собрании сочинений, т. 4, ч. 2, М. 1936 (тексты для оберток) и в Полном собрании сочинений в 12-ти томах, т. 5, М. 1940 (текст для коробки).
КАРАМЕЛЬ «НАША ИНДУСТРИЯ». ТЕКСТЫ ДЛЯ КОРОБКИ И КОНФЕТНЫХ ОБЕРТОК.
Экземпляры коробки и конфетных оберток.
В расписках художника А. Родченко от 4, 10 и 15 декабря 1923 года (БММ) говорится об исполнении рисунков к этой серии.
Впервые перепечатано в Полном собрании сочинений, т. 4, ч. 2, М. 1936 (тексты для оберток) и в Полном собрании сочинений в 12-ти томах, т. 5, М. 1940 (текст для коробки).
КАРАМЕЛЬ «НОВЫЙ ВЕС». ТЕКСТЫ ДЛЯ КОНФЕТНЫХ ОБЕРТОК.
Экземпляры конфетных оберток. Обертки перенумерованы.
Написано в декабре 1923 года.
Впервые перепечатано в Полном собрании сочинений, т. 4, ч. 2, М. 1936.
Создавая тексты серии «Новый вес» и «Новые меры», Маяковский помогал пропаганде вводимых в то время в СССР метрических мер.
КАРАМЕЛЬ «НОВЫЙ ВЕС». ТЕКСТ ДЛЯ КОРОБКИ.
Экземпляр коробки.
Повидимому, написано в начале апреля 1924 года: в счете Маяковского Моссельпрому от 9 апреля 1924 года говорится о стихотворном тексте к коробке «Меры веса».
Впервые перепечатано в Полном собрании сочинений, т. 4, ч. 2, М. 1936.
КАРАМЕЛЬ «НОВЫЕ МЕРЫ». ТЕКСТЫ ДЛЯ КОНФЕТНЫХ ОБЕРТОК.
Экземпляры конфетных оберток. Обертки перенумерованы и подразделены на серию «А» и серию «Б».
Написано в декабре 1923 года.
Впервые перепечатано в Полном собрании сочинений, т. 4, ч. 2, М. 1936.
КАРАМЕЛЬ «НОВЫЕ МЕРЫ».
Черновой автограф (ЦГАЛИ).
Повидимому, это текст, предназначавшийся для конфетной коробки. Был ли использован – неизвестно. Записан на одном листе с текстом «Совет» (см. стр. 302) и текстами плакатов для Наркомфина (т. 6 наст. изд.) и относится, повидимому, к начальным месяцам 1924 года.
Впервые напечатан в газ. «Московский комсомолец», М. 1957, № 55, 17 марта.
КАРАМЕЛЬ «КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ЗВЕЗДА». ТЕКСТЫ ДЛЯ КОНФЕТНЫХ ОБЕРТОК.
Экземпляры оберток с рисунками Маяковского.
Обертки перенумерованы. Не найден № 9.
В счете Маяковского Моссельпрому от 9 апреля 1924 года указан стихотворный текст к коробке «Красная звезда». Возможно, что имелась в виду именно эта серия рекламы. Коробка не обнаружена.
Впервые перепечатано в журн. «Смена», М. 1935, № 5, май.
СОВЕТ.
Черновой автограф (ЦГАЛИ). В счете Маяковского Моссельпрому от 9 апреля 1924 года упоминается стихотворный текст к коробке «Моссовет» – 10 строк. Возможно, что имеется в виду именно данный текст.
Впервые напечатан в газ. «Московский комсомолец», М. 1957, № 55, 17 марта.
МОНПАНСЬЕ.
Беловой автограф (БММ).
Сдано Моссельпрому 2 марта 1925 года.
Впервые напечатано в Полном собрании сочинений, т. 4, ч. 2, М. 1936.
КАРАМЕЛЬ.
Беловой автограф (БММ).
Сдано Моссельпрому 2 марта 1925 года.
Впервые напечатано в Полном собрании сочинений, т. 4, ч. 2, М. 1936.
ПЕЧЕНЬЕ «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ».
Беловой автограф (БММ); Сочинения, т. 4.
Последние две строки в Сочинениях, т. 4 опущены. Печатаются по автографу.
Сдано Моссельпрому 6 октября 1923 года.
ПЕЧЕНЬЕ «ЗЕБРА». ТЕКСТ ДЛЯ УПАКОВКИ.
Экземпляр упаковки.
Написано в декабре 1923 года. Рисунок к упаковке печенья «Зебра» упоминается в расписке А. Родченко от 10 декабря 1923 года.
Впервые перепечатано в Полном собрании сочинений, т. 4, ч. 2, М. 1936.
ПЕЧЕНЬЕ «КРАСНЫЙ АВИАТОР». ТЕКСТ ДЛЯ УПАКОВКИ.
Экземпляр упаковки.
Рисунок к упаковке печенья «Красный авиатор» упоминается в расписке А. Родченко от 15 декабря 1923 года.
Впервые перепечатано в Полном собрании сочинений, т. 4, ч. 2, М. 1936.
ПЕЧЕНЬЕ «ПОЛПРЕДОВСКОЕ». ТЕКСТ ДЛЯ УПАКОВКИ.
Экземпляр упаковки.
Сдано Моссельпрому 22 декабря 1923 года.
Впервые перепечатано в Полном собрании сочинений, т. 4, ч. 2, М. 1936.
ПЕЧЕНЬЕ «РИМСКАЯ АЗБУКА», «КРЕСТЬЯНСКОЕ», «ЧАЙНОЕ», «ВЕНСКАЯ СМЕСЬ». ТЕКСТЫ ДЛЯ УПАКОВКИ.
Экземпляры упаковок.
Дата написания точно не установлена. Возможно, написаны в декабре 1923 года.
Впервые перепечатаны в Полном собрании сочинений т. 4, ч. 2, М. 1936.
ПЕЧЕНЬЕ.
Беловые автографы (БММ).
Текст 2 написан в конце февраля 1925 года.
Текст 1 – значительно ранее: он записан на одном листе с текстами реклам «Конфеты» (см. стр. 463*-464).
Впервые напечатаны в Полном собрании сочинений, т. 4, ч. 2, М. 1936 (текст 2) и в Полном собрании сочинений в 12-ти томах, т. 5, М. 1940 (текст 1).
БИСКВИТ.
Беловой автограф (БММ).
Написано в конце февраля 1925 года.
Впервые напечатано в Полном собрании сочинений, т. 4, ч. 2, М. 1936.
СТОЛОВОЕ МАСЛО.
Черновой и беловой автографы (БММ); плакат, художник А. Родченко; Сочинения, т. 4.
Сдано Моссельпрому 2 октября 1923 года.
ДЕШЕВЫЙ ХЛЕБ.
Черновой автограф (БММ); плакат, художник А. Родченко.
В черновом автографе между строками 4–5 – слова, заключенные в рамку: «черный, стародубский, сеяный, булки», которые определяют место и содержание рисунка.
Сдано Моссельпрому 4 октября 1923 года.
Впервые перепечатано в Полном собрании сочинений, т. 4, ч. 2, М. 1936.
МАКАРОНЫ.
Беловой автограф (БММ).
Сдано Моссельпрому 7 октября 1923 года.
Впервые напечатано в Полном собрании сочинений, т. 4, ч. 2, М. 1936.
МАКАРОНЫ И ВЕРМИШЕЛИ.
Фото вывески на киоске Моссельпрома (архив художника А. Родченко).
В счете Маяковского Моссельпрому и расписке художника А. Родченко от 9 февраля 1924 года (БММ) упоминается выполненный для Моссельпрома плакат «Макароны». Возможно, что имелась в виду реклама «Макароны и вермишели».
Впервые напечатано в Полном собрании сочинений, т. 4, ч. 2, М. 1936.
ОБЕДЫ НА ДОМ.
Текст 1 – запись, сделанная В. Степановой (архив художника А. Родченко). Тексты 2–5 – беловой автограф (БММ).
Сдано Моссельпрому 12 октября 1923 года.
Плакаты с этими текстами выпущены не были.
Впервые напечатано в Полном собрании сочинений, т. 4, ч. 2, М. 1936.
ТРЕХГОРНОЕ ПИВО.
Текст 1 – Сочинения, т. 4. Текст 2 – беловой автограф (БММ); Сочинения, т. 4.
Сдано Моссельпрому 9 февраля 1924 года.
ХАМОВНИЧЕСКОЕ ПИВО.
Беловой автограф (БММ).
Сдано Моссельпрому 2 марта 1925 года.
Впервые напечатано в Полном собрании сочинений, т. 4, ч. 2, М. 1936.
СПЕЦИИ.
Беловой автограф (БММ).
Сдано Моссельпрому 19 июля 1924 года.
Впервые напечатано в Полном собрании сочинений в 12-ти томах, т. 5, М. 1940.
ВЕТЧИНЫ И КОЛБАСЫ.
Фото вывески для киоска (архив художника А. Родченко).
Сдано Моссельпрому 19 июля 1924 года.
Впервые напечатано в Полном собрании сочинений в 12-ти томах, т. 5, М. 1940.
КОЛБАСЫ.
Беловой автограф (БММ); фото вывески для киоска (архив художника А. Родченко).
Сдано Моссельпрому 2 марта 1925 года.
Впервые напечатано в Полном собрании сочинений, т. 4, ч. 2, М. 1936.
СТОЛОВАЯ МОССЕЛЬПРОМА.
Фото объявления-листовки (БММ).
Написано в 1924 году для открывшейся в Москве образцовой столовой Моссельпрома (теперь ресторан «Прага»).
Совместно с Н. Асеевым Маяковским были написаны еще две листовки (см. т. 6 наст. изд.).
КОФЕ МОККО.
Автограф (БММ).
Сдано Моссельпрому 2 марта 1925 года.
Впервые напечатано в Полном собрании сочинений, т. 4, ч. 2, М. 1936.
ФРУКТОВЫЕ ВОДЫ.
Автограф (БММ).
Сдано Моссельпрому 2 марта 1925 года.
Впервые напечатано в Полном собрании сочинений, т. 4, ч. 2, М. 1936.
СУХОЙ КВАС.
Плакат. Дата неизвестна.
Впервые перепечатано в Полном собрании сочинений, т. 4, ч. 2, М. 1936.
Рассказ про Клима из черноземных мест, про Всероссийскую выставку и Резинотрест (стр. 315). Беловой автограф (БММ); газ. «Беднота», 1923, № 1657, 1 ноября, с 35 рисунками Маяковского (см. в тексте). Подпись: В. Маяковский и С. Третьяков.
Беловой автограф написан С. Третьяковым, пометки разбивки строк и размещения рисунков сделаны Маяковским. Строки 388–393 записаны Маяковским отдельно, на обороте последнего листа рукописи.
Печатается по тексту газ. «Беднота» со следующими исправлениями: в строке 215–216 вместо «на полати, под кровать» – «на полати, на кровать»; в строке 264 вместо «и не надивишься» – «и не надивиться» (по тексту автографа); в строке 423 вместо «вскипятить водицы» – «вскипятишь водицы» (по тексту автографа).
Поэма, представляющая собой своеобразную «агитрекламу», написана Маяковским и Третьяковым по заказу Резинотреста в октябре 1923 года.
Это произведение положило начало совместной работе Маяковского с другими поэтами по созданию агитпоэм на темы, связанные со специальными и конкретными заданиями профсоюзных, хозяйственных и кооперативных организаций. Инициатива создания такого рода произведений всегда принадлежала Маяковскому. Степень его участия в работе над ними бывала различной.
Всероссийская выставка – Первая Всероссийская сельскохозяйственная выставка, организованная в 1923 году в Москве у так называемого ранее «Крымского брода» на территории нынешнего Парка культуры и отдыха им. Горького.
Рассказ про то, как узнал Фадей закон, защищающий рабочих людей (стр. 338). Отдельное издание с 26 рисунками художника Адливанкина. На титульном листе сверху: Маяковский, Третьяков, Адливанкин; «Песни рабочим» (без строк 1-49, 607–617 и без подзаголовка «Кодекс законов о труде»).
Печатается по отдельному изданию, включающему полный текст произведения, со следующими исправлениями:
в строке 306 вместо «за получкой тогда» – «тогда за получкой» (исправление опечатки, подсказанное рифмой); в строке 433 вместо «молвит Пров» – «молвил Пров» (поправка Маяковского, сделанная в сб. «Песни рабочим»).
Поэма написана Маяковским и Третьяковым в первой половине декабря 1923 года. 29 ноября 1923 года Маяковский заключил договор с Московским губернским отделом Союза рабочих полиграфического производства на агитпоэму, популяризирующую Кодекс законов о труде. 17 декабря рукопись была одобрена специальной комиссией. Вышла в свет во второй половине мая 1924 года.
В предисловии от издательства сообщалось: «Мысль об издании настоящей книжки возникла в Московском губотделе профессионального Союза рабочих полиграфического производства. Желая придать более широкое распространение изданию среди рабочих всех производств, издательство МГСПС «Труд и книга», по согласованию с Союзом, взяло на себя выпуск его в свет».
В тексте на полях поставлены в скобках параграфы Кодекса законов о труде, о которых рассказывается в стихах.
Отрывок из поэмы (строки 51–92) был переведен на английский язык и вошел в «Антологию русской поэзии», составленную Б. Дейч и А. Ярмолинским (Нью-Йорк, 1927).
Ткачи и пряхи! Пора нам перестать верить заграничным баранам! (стр. 355). Неполный автограф, сделанный рукой Н. Асеева (БММ); журн. «Красный ткач», Иваново-Вознесенск, 1924, № 4–5 (под заглавием «Ткачи и пряхи, пора нам не верить заграничным баранам». Подпись: Н. Асеев). Отдельное издание с рисунками художника С. Адливанкина. На обложке сверху: Н. Асеев, В. Маяковский; «Песни рабочим» (без строк 101–111, 242–244, 498–519).
От автографа сохранились 1-й и 3-й листы, содержащие части глав 1-й и 2-й. На обороте листов – написанные рукой Асеева рекламные стихи о папиросах «Клад» с поправками Маяковского.
Печатается по отдельному изданию, включающему полный текст произведения, с исправлениями, внесенными Маяковским позднее в текст сб. «Песни рабочим»: в строке 194 вместо «с черной биржи спекулянтом» – «нэпачом и спекулянтом»; в строке 345 вместо «Везде директор, кажется» – «У нас директор, кажется»; в строке 469 вместо «шьем их на бердочный зуб» – «шьем на бёрдочный их зуб»; в строке 496–497 вместо «опыта взрастим зерно» – «спесь собьем с того барана»: в строке 538 вместо «Встанут стройно Треста трубы» – «Встанут стройно фабрик трубы»; переставлены местами строки 25 и 26.
Поэма написана Н. Асеевым при участии В. Маяковского в декабре 1923 года по специальному заданию треста «Моссукно». Вышла в свет в феврале 1924 года.
Работа Маяковского по созданию поэтических произведений, посвященных конкретным хозяйственным вопросам, вызывала нарекания всевозможных «эстетов» – отечественных и зарубежных. На одном из публичных выступлений Маяковского в Америке ему задали вопрос: «А правда, что вы по приказу правительства пишете о баранах?» – «Правда, – ответил Маяковский. – Лучше по приказу умного правительства писать о баранах, чем по приказу баранов о глупом правительстве» (В. Катанян, «Рассказы о Маяковском», ГИХЛ, М. 1940, стр. 314–315).
Строка 155. Смеска (техн.) – смешение разных сортов хлопка, шерсти или другого сырья для получения различных сортов пряжи; продукт такого смешения.
Строка 182. Угар (техн.) – отход при обработке волокна пряжи, поступающей в дальнейшую переработку.
Строка 469. Бёрдочный зуб – часть ткацкого станка.
О завхозе, который чуть не погиб со всей конторой (стр. 370). Сочинения, т. 4.
Написано во второй половине ноября 1923 года совместно с Н. Асеевым. Маяковским сделано 15 рисунков для рекламы (14 – к тексту и 1 – к заглавию). Оригинал рекламы воспроизведен в альбоме рисунков Маяковского (Государственное издательство изобразительных искусств [М. 1933], стр. 135).
Иллюстрации

В. Маяковский. Фото 1923 г.
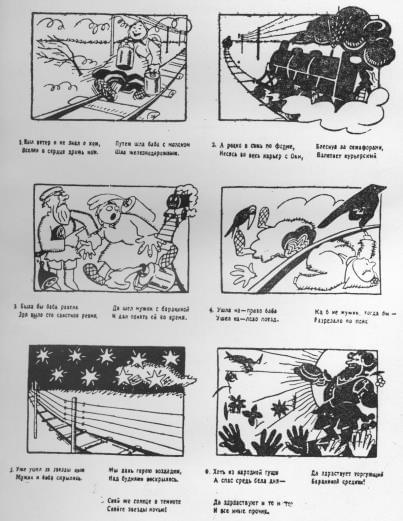
Рисунки Маяковского к стихотворению «Схема смеха» в журн. «Огонек».
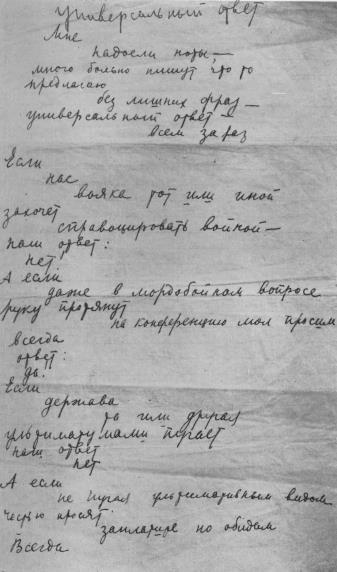
Автограф стихотворения «Универсальный ответ».

Обложка Маяковского к книжке «Маяковская галерея».

Обложка Маяковского к книжке «Вон самогон!»

Обложка Маяковского к книжке «Ни знахарь, ни бог…»

Обложка Маяковского к книжке «Обряды».

Рекламный плакат ГУМа.




Рекламные вкладки Чаеуправления




Конфетные обертки карамели «Красноармейская звезда» с рисунками Маяковского
Выходные данные
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ
Полное собрание сочинений. Том 5.
Редактор тома А. Февральский
Редактор К. Малышева
Оформление художника Б. Воронецкого
Худож. редактор И. Жихарев
Техн. редактор Г. Архангельская
Корректоры А. Сабадаш и Г. Фальк
Сдано в набор 9/X 1956 г.
Подписано к печати 2/IV 1957 г.
Бумага 84×108 1/32 15 печ. л. 24,6 усл. печ. л. 21,7 уч. – изд. л. + + 10 вклеек = 22,25 л.
Тираж 200000 экз.
Заказ № 2313.
Цена 11 р.
Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19
Министерство культуры СССР
Главное управление полиграфической промышленности
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Примечания
(1) Раз! два! три! (нем.).
(2) «Молоко и масло» (нем.).
(3) Прессбюро, организованное в конце 1922 года при отделе агитации и пропаганды ЦК РКП(б), выпускало бюллетени, отпечатанные на ротаторе и включавшие различные литературные материалы, которые предназначались для перепечатки в газетах и журналах. Бюллетени рассылались «для губернских газет, имеющих по преимуществу городского читателя» (бюллетень «А») и «для уездных и губернских газет земледельческих районов с крестьянским кадром читателей» (бюллетень «Б»). Наряду с этим выпускались и бюллетени «А/Б».
(4) Редакцию 1920 года стихотворения «Всем Титам и Власам РСФСР» см. в настоящем издании, т. 2, стр. 46. Была ли опубликована редакция 1923 года – не установлено.
(5) Текст, варианты и примечания подготовлены В. А. Арутчевой и З. С. Паперным.
(6) Журнал вышел в начале января 1924 года, и на титульном листе обозначен 1924 год, хотя датировка «август – декабрь» относится к 1923 году.
(7) Тексты, варианты и примечания подготовлены В. А. Арутчевой и З. С. Паперным.
