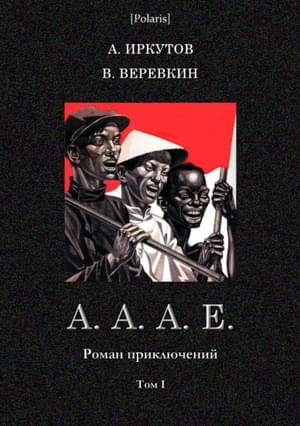
Молодые герои и героини написанного в коминтерновско-агитационном духе романа советских писателей А. Иркутова и В. Веревкина «А. А. А. Е.» мечутся по странам и континентам, переживают невероятные приключения, попадают то в азиатские гаремы, то в африканские джунгли – и повсюду устраивают революции. «Роман приключений» «А. А. А. Е.» был впервые издан в 1924 г. и переиздается впервые.
Андрей Иркутов, Владимир Веревкин
А. А. А. Е.
А. А. А. Е.
Глава первая,
в которой завязывается первый узел
– Ура!
– Еще раз.
– Ура!
– Еще раз.
– Ура!
– Качать Виктора!
– Тише, черти! Ребра сломаете.
– Ура! Ура! Ура!
Ух! Чуть не до самого потолка. Руки молодые, сильные. Подбросят, так держись. Знал комсомол, кого дать во флот. Таких молодцов отобрал, что любо. Один к одному. Здоровые! Крепкие! Стройные!
Взлетает Виктор кверху. Смеется.
– А ну, повыше!
И повыше неплохо. Фу ты! Даже сердце замирает. Привыкай, Виктор. А если на мачте, да в бурю?
Крепко комсомольское сердце. Руки качавших устали. А сердце не устало.
– Ну, будет с тебя!
Опустили на землю. Тесным кольцом обступили. Радостно смеются, улыбаются молодые задорные лица.
– Так через неделю, говоришь?
– Через неделю.
И опять:
– Ура!
Читатели народ нетерпеливый. Им нужно знать: а что, а почему, а зачем? Вот и сейчас. Наверно, уже не терпится.
– А почему ура кричат?
– А зачем качают?
– А кого?
Надо объяснить, ничего не поделаешь.
Ура кричат потому, что судно «Товарищ» через неделю уходит в кругосветное плавание.
Качают, конечно, не затем, чтобы печенки вытрясти, а затем, чтобы выразить свое удовольствие тому, кто эту новость сообщил.
Качают товарища Виктора, молодого штурмана.
Удовлетворены? Ну, так отправимся дальше…
…самое лучшее, по Неве, пароходом.
Когда крикнут:
– Морской канал.
Тогда вылезать надо.
Сразу удивитесь. На Неве судов много, а здесь еще больше. На Неве суда большие, а здесь огромные. Все, что не может влезть в Неву, влезает в морской канал.
Грязные закопченные купцы глотают ненасытными глотками тысячи тонн груза. Чистые, еще мокрые от недавнего мытья пассажирские пароходы любезно подставляют ладони своих сходней под ноги людей иностранного вида. Угрюмо смотрят куда-то вдаль, покрытые чехлами, орудия военных судов.
На берегу суетня и крики. Скрип гигантских подъемных Кранов. Говор сотен людей на сотнях наречий.
Достаточно грязно. С непривычки и грязь, и груды тюков и ящиков мешают найти дорогу. Да и различить нужное вам судно среди массы похожих друг на друга кораблей не так-то легко.
Но сегодня ведь вы ищете совсем особое судно. Вы ищете судно «Товарищ», на котором юные моряки отправляются в свое первое кругосветное плавание.
Его вы найдете сразу. Вон там, где собралась толпа. Где реют красные флаги. Где гремит музыка.
Вам покажется, что здесь собрался весь Ленинград. И вы не ошибетесь.
Кроме Ленинграда, есть тут и представители других городов. В проводах судна «Товарищ» принимают участие многие районы республики.
Виктор волнуется.
Виктор должен произнести ответную речь. Он внимательно вслушивается в слова ораторов. Сколько теплоты, сколько любви! Вот этот старый рабочий. У него есть сын на этом судне. Но он думает не только о своем сыне. Он думает о всех. Он всех называет:
– Сынки наши! Молодцы наши!
Молодцы волнуются не меньше Виктора. Сердца, как птицы, бьются под матросскими фуфайками.
Шутка сказать. На судне, идущем под красным флагом, объехать вокруг света. Промелькнуть красной птицей мимо твердынь злейших врагов России. Заронить надежду в сердца миллионов колониальных рабов. Почувствовать братское пожатие пролетариев всего мира.
И, кроме того, увидеть невиданные страны. Подставить молодое тело палящим лучам тропического солнца. Перекинуться шуткой с зубастой акулой. Сорвать спелые бананы в садах Индии. Подразнить обезьян в лесах Борнео. Улыбнуться священному крокодилу в бассейнах храма Вишну.
Мало этого?
Как тут не волноваться?
Отзвучали последние слова. Виктор, готовивший часовую речь, едва выдавил:
– Прощайте, товарищи… обещаем… мы… одним словом… мы, комсомольцы.
И не надо больше: все поняли то, что осталось недоговоренным; каких еще слов надо, когда все вот в этих двух, простых и ярких:
– Мы, комсомольцы!
Давай, капитан, команду! Отчаливай, судно! Уплывай, родной берег! Мы, комсомольцы, всегда найдем дорогу назад.
– Ура!
– Ребята! Никак Фоксик!
– Да что ты?
– Ей-ей. Смотри, смотри!
– Так и есть, Фоксик!
Под ногами столпившихся на берегу провожатых заметался песик. Маленький, черно-белый, с обрубленным хвостиком и настороженными ушами. Присел на минуту. Покрутил мордочкой. Потянул носом. И… решительно прыгнул в воду.
Его забыли! Маленькое собачье сердце не могло снести этой обиды. Его забыли.
Разве он не был любимцем всех? Разве он не научился танцевать на задних лапах? Разве не умел он прямо с земли прыгать на плечо Виктора? Разве не делал он свое собачье дело со всем пылом своей собачьей юности?
И вот, его забыли!
Лучше утопиться, чем снести такую обиду. А какая холодная вода!
– Товарищ капитан!
– Ну?
– Прикажите спустить шлюпку.
– В чем дело?
– Там, за бортом.
– Человек?
– Фоксик, товарищ капитан!
Шлюпка через секунду была на воде. Гребли на славу, хвастая своим искусством перед наблюдавшими с берега провожатыми.
Раз-два! Раз-два!
Четко опускались весла на тихую поверхность канала и белыми чайками взмывали кверху.
– Де-ержись, Фоо-оксик.
Фоксик держался. Он яростно работал лапами, фыркал, крутил головой, но плыл, плыл вперед. Расстояние между ним и шлюпкой все уменьшалось.
– Ребята! Доплывет или нет?
– Доплывет.
– Он словно уставать стал?
– И то, устает.
– Навались-ка дружней!
И в ту самую минуту, когда бедный пес, выбившись из сил, приготовился раз навсегда нырнуть под воду, чья-то рука схватила его за шиворот, подняла на воздух и опустила на теплые сухие колени. На берегу прогремело «ура» в честь этого первого подвига моряков.
К вечеру миновали Кронштадт. Проделали весь полагающийся отходящему судну ритуал и, рассекая волны Финского залива, двинулись вперед, твердо зная, что там, впереди – море.
Правда, море – Балтийское, серое, тяжело-свинцовое, мало сулящее радости и удовольствий тому, кто доверятся его хмурым волнам.
Но, все-таки, море!
Свободный от работы Виктор стоял, держась руками за перила борта. Слегка покачивало и набегавший ветер обещал свежую ночь. На горизонте медленно садился на волны огромный огненный шар. Залюбовавшись картиной заката, Виктор не заметил, как бегавший по незнакомой ему палубе Фокс вспрыгнул на плечо своего друга.
– Это ты, Фоксик? – улыбнулся Виктор.
Фокс, как бы отвечая, махнул куцым хвостом и лизнул Виктора теплым шершавым языком.
Если читатель хочет узнать, как выглядит Виктор, то сейчас самый подходящий для этого момент.
Первый и последний раз Виктор стоит спокойно, ничего но делая. В дальнейшем, волею авторов, он на всем протяжении романа будет двигаться, суетиться, лазать, бегать, плавать, прыгать и т. д. В этом непрерывном движении вы не сумеете определить, какого он роста, не сможете уловить цвета его глаз. Делайте это сейчас, пока не поздно.
Рост – 6 футов, 2 с половиной дюйма.
Вес – 3 пуда 15 фунтов.
Волосы – каштановые.
Глаза – карие.
Черты лица правильные.
Чуть заметная родинка на левой щеке.
Имя – Виктор. Фамилия… а, впрочем, так мы до вечера не кончим. Какое вам дело до его фамилии? Просто:
Товарищ Виктор.
Несколько минут Виктор стоял, глядя назад, туда, где едва заметной полоской маячили очертания Кронштадта. Потом поправил матросскую бескозырку, глубоко вдохнул соленый влажный воздух и, повернувшись на носках, впился глазами в беспредельный горизонт.
Здравствуй, море!
– Пора, Женя!
– Ах, Верка, да отстань ты!
– Говорю, пора! Все давно ушли. Скоро последний пароход.
– Ах, да не лезь!
Девушка в красном платочке, из-под которого выбивались пряди золотистых волос, отмахнулась от назойливой подруги.
– Хоть куртку-то застегни, – не отставала та. – Холодно!
С моря тянуло пронизывающей сыростью.
– Ладно, застегнула уже.
И Женя сердито запахнула кожаную куртку. На левой стороне груди сверкнул в лучах заходящего солнца портрет Ильича. Лучи солнца окрасили его красным.
– И что сидеть? – не унималась другая. – И знакомых-то никого у тебя нет на «Товарище». А ты…
– Не понимаешь ты ничего, Верка.
Девушка с портретом Ильича на груди встала.
– Не понимаешь! Уехали они! У-е-ха-ли. Что это значит?
– Значит, что уехали.
– Это значит, что они увидят новые земли, новые моря, новые страны, солнце новое. Весь мир увидят! Эх, счастливые: завидую я им. Вот как завидую!
– А все-таки холодно. Дождь будет.
– Ну идем, идем! Ладно.
И две подруги, пробираясь меж грудами ящиков и тюков, пошли по направлению к городу.
Жене двадцать два года.
Ее прошлое? В обязанности романиста двадцатого века не входит подробное описание прошлого героев. Но на прошлом Жени нам придется немного остановиться.
Детство в знойных туркестанских степях на афганской границе. Отец – американский рабочий, социалист. Из Америки вынужден был бежать. Последней станцией его бегства оказались оросительные работы в Туркестане. На этой последней станции встретилась ему женщина со смуглым лицом и черными глазами. От него и этой женщины родилась Женя.
Мать передала ей знание местного наречия и местного быта. Отец подарил ей безукоризненный английский язык и реальные представления об Америке.
Плюс к этому: глубокая любовь к угнетенным народам востока от матери, и ненависть к жирным буржуа – от отца.
Девушка с такими данными не могла остаться в стороне от великого ноябрьского шквала, не могла не принять участи я в борьбе, не могла не пойти под знаменем КИМ’а, не могла не поступить в ВУЗ, когда гром боев сменился тишиной передышки.
Что эта передышка временная, Женя, конечно, знала. Но что конец этой передышки для нее пройдет так внезапно, она не думала.
Заполняя свою анкету и вписывая в графу:
«На каких языках, кроме русского, вы говорите?»
Ответ:
«На английском и на фарсидских наречиях».
Женя не предполагала, что этот ответ решает ее судьбу.
Товарищ Арахан получил новое назначение. Сегодня, с поездом 10.40, он должен выехать по месту своей службы.
Быть полпредом в Афганистане – это далеко не синекура. Отдыхать там вряд ли придется. Афганистан – больная мозоль на пальцах многих лордов. Каждый шаг Советской России в Афганистане берется этими господами на учет.
Промахиваться здесь не рекомендуется.
Вот почему в штате полпреда работники должны быть отборные. И самым отборным среди всех должен быть секретарь.
Товарищ Арахан мечется по комнате. Он путается между двумя чемоданами и никак не может вспомнить, положил ли он проклятые крахмальные воротнички, столь необходимые каждому полпреду, или не положил?
Товарищ Арахан волнуется.
Дело в том, что старый, опытный секретарь афганского полпредства захворал. Захворал совершенно неожиданно и очень тяжело.
Врачи но сказали ничего определенного. Может быть, он поправится и через несколько дней сможет последовать за Араханом.
Может быть…
Во всяком случае, сегодня вечером ожидают кризиса.
Арахан то и дело поглядывает на часы. Еще не поздно. Поезд отходит через два часа. За два. часа человек может и умереть, и поправиться. Надо позвонить в больницу.
Товарищ Арахан подходит к телефону. Нервным движением снимает трубку, нетерпеливо стучит рычажком.
– Алло! Алло! Центральная?
– 17–28, – тянет голос с другой стороны проволоки.
– Дайте 42–75!
– Позвонила.
Товарищ Павлов открыл глаза. У его постели стояли двое мужчин и одна женщина – все в белом.
Товарищ Павлов силился что-то вспомнить. Сдвинул тонкие брови. Пожевал губами. Попробовал пошевельнуть рукой.
Нет! Вспомнить он ничего не может. Позади какая-то пустота… Какой-то черный провал, без конца, без начала. Впрочем… постойте!
– Какое сегодня число?
– Пятое! Вам нельзя говорить.
Пятое. Пятое. Брови сжимаются сильней. От страшного напряжения на лбу выступает пот. Крупными каплями скатывается по щекам.
Пятое – сегодня.
– Я должен ехать… я…
– Вы никуда не поедете, дорогой. Вам еще нельзя вставать. Вы никуда не поедете.
Товарищ Павлов удивлен. Ему нужно ехать. Он коммунист и ему дали наряд. В таких случаях не существует слово «нельзя». Какое право имеет этот человек в белом вмешиваться в его партийные дела?
Товарищ Павлов сейчас встанет, оденется и выйдет из комнаты.
Еще крупнее капли проступившего пота. Еще напряженнее излом бровей. Нет! Товарищ Павлов не может встать. Он даже пошевелиться не может. Он…
Опять темнота! Бездонная. Бесконечная.
Человек в белом наклоняется и щупает пульс товарища Павлова.
– Ну? – спрашивает другой.
– Плохо! Без камфары не обойтись.
В коридоре тревожно заболтал что-то звонок телефона.
– Сестра, подойдите, – сказал один из врачей.
Телефонная проволока протянулась через весь город.
С одной стороны взволнованное лицо Арахана, с другой – спокойное лицо ко всему привыкшей сестры.
– Алло! Больница слушает.
– Говорит Арахан. Как больной?
– Боюсь, что безнадежно.
– Он не сможет поехать?
– Он вряд ли вообще встанет, товарищ.
– Послушайте, может быть?
– Надо рассчитывать на худшее.
– Может быть, через неделю?
– Даже в случае выздоровления нужен длительный отдых. И…
Арахан уже не слушает дальше. Арахан дал отбой. Арахан снова снимает трубку. Снова нервно стучит в рычажок.
– Алло! Алло! Центральная?
– 17–45.
– Дайте ЦК РКП.
– ЦК Партии?
– Да, да!
Слышно, как пробуют один за другим провода. Неужели сейчас стереотипное:
– Заняты все провода.
– Нет!
– Позвонила.
– Спасибо! Это коммутатор ЦК?
– Да.
– Дайте Учраспред, Учраспред!
Товарищу Арахану обещали ждать его звонка до десяти часов.
– Учраспред слушает.
– Говорит Арахан. Товарищ Павлов…
Учраспред с полслова понимает, в чем дело.
– Хорошо, все будет сделано!
Человек говоривший с товарищем Араханом из Учраспреда, повесил трубку и быстро подошел к большому шкафу. Там в картонных ящиках лежали учетные карточки членов партии.
Привычным жестом он выдвинул нужный ящик, быстро вынул одну из карточек и почти мгновенно, но внимательно пробежал ее.
Да, да!
«– С какими местностями вы лучше всего знакомы?
– С Туркестаном и Афганистаном.
– На каких языках, кроме русского, вы говорите?
– На английском и фарсидских наречиях».
На звонок из соседней комнаты вышел человек.
– Вот этому товарищу выпишете командировку, вместо Павлова.
– Хорошо!
– И срочно сами отправитесь к товарищу на дом.
– Да!
– Если застанете дома, то сейчас же отвезете на квартиру к Арахану.
Человек из соседней комнаты поворачивается, чтобы уйти.
– Одну минутку! На всякий случай, вместе с товарищем, захватите и его чемоданы. Если успеет, пусть едет с Араханом сегодня же.
И, взглянув на часы:
– До поезда час тридцать минут. Постарайтесь успеть!
Завтра зачет.
Женя сидит у стола, поджав ноги и подперев голову руками.
Завтра зачет.
Утомительная штука эти зачеты. Врачи сказали – бросить всякий умственный труд. Врачи всегда это говорят. Несколько месяцев тому назад Женя, правда, поддалась их уговорам и взяла отпуск. Но уехала не в Крым, как ее уговаривали, а в Ленинград.
Ей, южанке, хотелось увидеть этот северный город, эту столицу красных восстаний.
И сейчас, сквозь строки книги, нет-нет да всплывут эти ровные, как по линейке вычерченные, улицы, эти площади с огромными домами и памятниками, эта река, стальной лентой перерезавшая город. И над всем одно незабываемое, яркое воспоминание – проводы «Товарища».
Женя отрывается от книги. Где-то они сейчас? Где-то эти веселые ребята с их смешным Фоксом?
А впрочем…
«…экономическое строение общества определяется его…»
У подъезда Ц.К. стучит автомобиль. Из комнаты Учраспреда выскакивает человек с портфелем под мышкой. Стрелой мчится по пустой лестнице. Бомбой вылетает из подъезда. Отрывисто кидает шоферу:
– На Малую Бронную!
Вскакивает в уже дрогнувший автомобиль.
При первом повороте колеса вспыхивают огни фонарей. На повороте резво лает рожок. Какая-то старуха выскакивает из-под самых колес и, бледная от страха, ворчит себе под нос:
– Носятся, черти. Проклятые!
Накрапывает дождь. Сперва редкий, потом хлесткий, проливной. Резкими порывами рвет на поворотах ветер.
Человек в автомобиле поднимает воротник кожаной куртки, ежится и думает:
– А каково сейчас на море?
Через несколько минут автомобиль останавливается у ворот одного из домов на Малой Бронной.
Женя не отрывается от книги. Стакан остывшего чая и ломоть хлеба с маслом нетронутые на краешке стола.
Придется просидеть всю ночь.
Сколько раз давала себе слово работать по НОТ’у и ни в коем случае не засиживаться позже двенадцати.
И как назло, всегда так. В последнюю минуту оказывается, что половина не сделана. Усталость дает себя знать. Некоторые строки приходится перечитывать по два раза. Буквы в словах сливаются в пятна.
«…экономическая конъюнктура данного периода…»
Стоп! Кажется, стучат. Да!
– Войдите!
Человек с портфелем под мышкой вихрем врывается в комнату. Женя не успевает вскочить со стула, как он уже протягивает ей конверт.
На конверте бланк ЦК. Лицо Жени выражает недоумение.
– Это мне?
– Ну конечно, вам!
Женя торопливо разрывает конверт. Знакомая формула: члену РКП такому-то…
Женя несколько мгновений вертит бумажку в руке. В мыслях хаос.
…Арахан… экономическая конъюнктура секретаря… Афганистан данного периода… полпред определяется… Человек с портфелем действует решительно.
– Постарайтесь немедленно. Поезд отходит через час десять минут.
Два раза повторять не надо.
Чемодан Жени до смешного пуст. Укладывая его, она смущенно вертит в руках заплатанную юбку.
Человек с портфелем замечает это.
– Не беспокойтесь. Все будет сделано на месте. О туалетах позаботятся.
О туалетах? Ах, да! Она ведь секретарь полпреда. Приемы, представительство.
Женя улыбается и решительно захлопывает чемодан, в котором, уныло стуча, перекатываются: кусок мыла, закрученный в полотенце, зубная щетка и расческа. Да, вот еще, парочку книг и…
– Вот я и готова!
Она подходит к вешалке и натягивает худенькое осеннее пальто. Человек в кожаной куртке советует ей прихватить дождевик. На дворе…
Неплотно прикрытое окно распахнул порыв ветра. Косой дождь побежал с подоконника на пол.
Ливень.
– Форменный шквал, – сказал человек с портфелем. – Плохо сейчас на море.
На море. Женя вспомнила Ленинград и грязные волны морского канала. Вспомнила смешного Фокса, барахтавшегося в холодной воде. Вспомнила славных парней, уезжавших в кругосветное плавание.
Каково им в такую погоду?
Человек с портфелем и Женя вышли из ворот и сели в поджидавший их автомобиль. Автомобиль рванул, зажег глаза фонарей и ринулся сквозь потоки дождя и порывы ветра.
За пять минут бешеной езды Женя успела привести в порядок свои мысли.
Когда подъехали к дому, где жил Арахан, то чуть не налетели на тормозившую у подъезда машину.
– Это чей? – спросил человек с портфелем.
– Товарищу Арахану, к поезду.
– Вот и отлично! Садитесь туда, товарищ Женя. Успели!
И когда товарищ Арахан выходил из подъезда, человек с портфелем встретил его веселым возгласом:
– Ваш секретарь ждет вас в автомобиле.
«Товарищ» прошел Зунд, Каттегат и благополучно выбрался в Северное море.
В Дувре – митинг в Интернациональном клубе моряков и овации.
В Лондоне – неприятность с синими бобби в Ист-Энде и прогулки по Пикадилли. И наконец, через Ламанш, «Товарищ» вышел в Атлантический.
По этому случаю закатили маленький пир и устроили дружескую потасовку.
Затем, обогнув Пиренейский полуостров, взяли курс на остров Мадеру, с Мадеры на Канарские, с Канарских на Сен-Луи, к Зеленому Мысу, чтобы оттуда дунуть на парусах, через Гвинейский залив, к мысу Доброй Надежды.
Но что поделаешь? В самом интересном месте поймал штормяга.
Как вам понравится гоголь-моголь из экваториального шторма и соли? Не знаю. Едва ли очень. Виктор, державший вахту, насвистывал песенку Джонса и смеялся в лицо ревущему урагану. На лоб с зюйдвестки заплывали капли влаги. Испуганная собачонка дрожала и прижимала свое тельце к мокрым резиновым сапогам Виктора. «Товарищ» трещал.
Спокойнее стоять у стены капитанской рубки и, не обращая внимания ни на что, дремать. Интереснее склонить тело с поручней капитанского мостика вниз и рвать зубами осязаемые мокрые клочья ветра.
Фоксик ежился и тихо лаял. Даже Виктор не слышал его голоса, а только чувствовал, как теплый, мягкий комочек трется у его ног.
Окончательно «Товарищу» не везло. Огромные волны точно с игрушкой обращались с трехтысячетонным парусником. Никогда еще судно, даже в бытность свою «Лористаном», не бывало в подобной передряге.
Но молодые штурманята только довольны. Три года сборов в полуторагодичное плавание подготовили ко всевозможным передрягам.
С упругостью теннисных мячей шныряли загорелые румяные комсомольцы между снастями и мачтами.
Виктора еще не сменили и он держал вахту у капитанского мостика. Он здорово продрог и с нетерпением ждал смены. Но отдохнуть ему не пришлось. Его сменили у рубки и послали к штурвалу. В кубриках пусто. Вся команда на палубе. Крепят снасти. Меняют галсы. Повинуются команде капитана. Паруса сматываются, четко работает машинное отделение. Соленые седые жабры волн ластятся к судну.
А внизу, в каюте радиотелеграфиста, тепло, уютно и не чувствуется напряжения и борьбы. Правда, качает совершенно особенным образом. Лихо и бессердечно. Но это вовсе не мотив для разжижения мозгов и сентиментальностей.
Полированная мебель. Чистый пол. Лакированные стены кабинки, задранные люки. Радио-приемник и отправитель блестят медными частями и судорожно выбивают точки и черточки.
На голове радиотехника, – слухачи. Они тоже, как и все в кабинке, хорошо отполированы и аккуратно прилажены к голове.
Единственный контраст в кабинке – сам радиотехник. Взлохмаченная голова и широко раскрытые, полные волнения и жаждой смерти и жизни, страстью к приключениям и молодостью, глаза.
Однако, все остальное, то есть костюм, ботинки, в полном порядке.
Он жадно вслушивается в слухачи. Наконец, улавливает волну звуков.
– О-ля-ля!..
Радиотехник схватывает рупор и бросает в него:
– А-л-л-о! капитан, а-л-л-о!
После ряда обращений, капитан на мостике ответил.
– Капитан, – продолжает радиотехник, – пять румбов на норд-ост. Шхуна пятьсот тонн. Алло! Британский флаг… Алло!..
Капитан бросает в рубку:
– Пять румбов на норд-ост!..
– Есть, капитан!..
Виктор крепит штурвал и глухо бросает в трубку рупора ответ.
У радиотехника колебания волн достигают максимального предела. Волосы лохматятся с каждым новым звуком. Одной рукой он придерживает радиодневник, другой – вписывает сообщения, а сам отрывисто забрасывает рупор и капитана новыми подробностями.
Валька Третьяков – друг Виктора. Виктор у штурвала. Валька на марсе. Он плюется вниз и смеется над бурей. Что ему шторм? Валька орет, сам он уверен, что только мурлыкает, вычитанную им из романа Лондона пиратскую песенку:
Не один десяток трусов
Отражали мы вдвоем…
Но песня песней и пираты пиратами. Внимательный взор Вальки что-то ловит в гангренирующей стихии.
Ракеты. Зеленые и красные. Белые и красные. Зеленые и красные.
– Судно с правого борта!.. – слышит через мгновенье в своей рубке капитан.
Пираты позабыты. Что-то загрохотало и в черной пропасти, озаренная молнией, мелькнула гибнущая, молящая о помощи шхуна.
Капитан сурово сжал поручни своего мостика. Капитан спокойно отдал в рубку приказание:
– Десять румбов на норд-ост!..
У штурвала Виктор опять налегает на колесо:
– Есть, капитан!
Щеки Виктора пылают и он совсем позабыл про забившегося в угол рубки Фоксика. На гребне волны, под блеск молнии, «Товарищ» накренился, выпрямился и нырнул в провал.
Бритое лицо капитана сделалось еще глаже и обтянулось на скулах. Глаза искрились упорством и неисчерпаемой энергией. Он делал резкие шаги по мостику и изредка прикусывал нижнюю губу. Но, в общем, фигура капитана была самой спокойной в эту ночь на экваторе.
И чем крепче затягивался шторм, тем спокойнее становился капитан. В конце он замер, застыл у своей рубки. Руками он держался за поручни. Морской цейс свешивался на его груди ненужной побрякушкой и при резких движениях стукался о поручни.
Непроглядная тьма со всех сторон. Ветер рвал в клочья все и самого себя. Когда громадный шквал подымал на седой гребень «Товарища» и открывал черный провал, а яркий снопок молнии освещал острые и частые, как зубы акулы, камни, то легкий, щекочущий озноб пронизывал нервы и тело.
Капитан слушал, приказывал и гипнотизировал шторм.
«Товарищ» искал. Да, в такую страшную свалку он пробирался по взбесившейся стихии и искал погибавшее судно. Шхуна «Гуд-бай» была где-то рядом. Под боком. Дежурный на марсе то и дело отмечал появление ракет.
Но не шутка пробраться и найти в такую погодку. Очень трудно прийти на помощь. А не прийти – моряк не может. Погибнуть, но предпринять все, что в силах, для спасения погибающего собрата.
Вот совсем близко мелькнули красные и зеленые ракеты. С первой молнией зачернели черные точки шлюпок и людей. Капитан отдал приказание, «Товарищ» повернулся на указанное направление и пошел.
Пожалуй, этот приказ капитана был последним. Море еще раз обнажилось и похвасталось остриями рифов. Пасть щелкнула и закусила щегольским остовом «Товарища».
Впереди мелькнула и безнадежно рявкнула ломающимися снастями шхуна «Гуд-бай». Капитан вынул изо рта трубку и повернулся.
Многих смыло волнами и унесло в океан. Те, которые уцелели, ждали своей очереди. О, они не волновались! Они ждали с замиранием сердца. Вот оно, настоящее приключение!
Виктор запутался в рубке. После толчка о рифы на нее что-то упало и он с трудом пробивал себе дорогу вниз, на палубу.
Капитан говорил, но его никто не слышал. Из машинного отделения наверх карабкалась братва. Вода захлестывала «Товарища» и сверху и снизу.
Когда Виктор, прижимая к себе собачонку, вылез на палубу, то, надо отдать ему справедливость, он сделал это вовремя.
Осталась одна шлюпка и он не замедлил воспользоваться ею. «Товарища» смыло с рифа. Его остов частью распался по волнам, а основным скелетом погружался на дно.
К шлюпкам шхуны «Гуд-бай» прибавились шлюпки «Товарища».
12-я платформа отправления нового вокзала Рязанско-Казанской жел. дор. Экспресс Москва-Ташкент готов к отправлению.
Туман плотно окутал вечернее небо и сквозь мглистый свет вокзальных платформ, наполненных суетой, свистками, криками, разговорами и руганью, тусклится циферблат часов марки П. Буре. Стрелки показывают 10.35.
К подъезду вокзала стрелой впивается вороненый «Мерседес»-лодочка. Нервными толчками вылетают из кузова желтые в серых чехлах чемоданы, одетые в дорожные костюмы Арахан и Женя и двое серьезных, бритых, в кожаных куртках, с маузерами в деревянных кобурах. Берут вещи и все стремительно бросаются к платформе отправления.
10.40. Часы с маркой П. Буре на циферблате точны, как изделия государственного треста точной механики или, что то же, не уступают хронометру обсерватории Гринвича.
Паровоз конструкции С-2, возглавляющий скорый Москва-Ташкент, нетерпеливо пыхтит. Наконец, непосредственно за третьим звонком, надрывно вылетает резкий сиреноподобный вой, ударяется о нагофренную крышу платформы, о зубы, об уши и пропадает во мгле вечернего неба.
Волна громыхания и лязга пробегает по вагонам и замирает на буфере последнего, особого назначения вагона.
На ступеньках длинного пульмановского вагона секундное пререкание между проводником и людьми в кожанках.
Арахан и Женя отстранили проводника и прошли в вагон. Чемоданы с последними фразами лучших пожеланий влетели за ними, и кожанки, вместе с разношерстной толпой перрона, провожают взглядом красный, расползающийся в мглистом тумане свет буферного фонаря.
Что делают люди на пограничных станциях железной дороги? Лущат семечки. Пишут стихи и зевают. Смертельно скучно, однообразно зевают. На задворках станции дико взъерошенный одинокий подсолнух и целая серия громадных, неудобоваримых репейников, постепенно переходящих границы невинности и наивности и превращающихся в кактусы.
Телеграфист на такой станции – брюзжащий, одутловатый, или вечно пьяный спросонья, или сонный спьяну.
Начальник станции придерживается нормального образа жизни, то есть следует примеру своих подчиненных.
Два раза в неделю он меняет головной убор. Обычно ходит в тюбетейке, к поезду выходит в форменке.
С тюркскими племенами в большой дружбе. Сторонник полного самоопределения.
Дождик – явление чрезвычайно редкое. Небо – странное. Очень глупое и прозрачное. Облака абсолютно не оправдывают надежд. Не облака, а так, перышки.
Когда с северо-запада громыхал паровоз с парой вагонов, то с юго-востока плавно приближались тени. Караван. Паровоз и вагоны привозили товары и редко-редко шальных людей.
Люди шарахались по сараям станции и исчезали в ближайшем караван-сарае или в чай-ханэ.
Паровоз взлохмаченный, закоптелый, выжженный солнцем, и два вагона: один товарный с почтой и товарами, охраняемый диким тюрком с ножом и наганом в складках широкого халата, а другой – пассажирский, белый, всегда пустой, с одной бригадой. Второй поезд – водяной и развозит воду.
Чай-ханэ и караван-сарай. Караван-сарай, – грязный двор, грязные комнаты, грязные закоптелые люди, грязные ишаки и грязные верблюды, при нем чай-ханэ.
Чай-ханэ – вкусный, нашпигованный сладостями востока, уголок.
Но с обаятельной усладой для туземцев и смертельно одуряющим средством для европейцев, с тюркским оркестром.
Тюркский оркестр – это нечто невероятное. Совершенно своеобразное, не имеющее равного себе во всех частях света. Испанские гранды, колчаковские офицеры и деникинские доброармейцы не могли выдумать более звероподобной пытки.
Нервы человека берут и завивают накаленными докрасна щипцами.
По барабанной перепонке дуют из армии пулеметов «Максим», по мозжечку прогуливаются цимбалы и турецкий барабан.
Это еще не все. Самый страшный, самый зловредный змий – трубочка в английскую милю длиной. Тонкая музыкальная душа черноокого тюркмена задувает в эту английскую милю экзотические мотивы и тогда человек понимает: он попал на страшный судный день. Не нужно затыкать ватой и пальцами уши, не нужно заливать ушную раковину стеарином или воском. Не поможет бегство в степь. Английская миля застигнет свою жертву с поличным, то есть способностью слышать и чувствовать. Выход один: вырыть ямку в песке и засунуть в нее голову. Очевидно, страусы пришли к своей манере прятаться только после опыта с тюркменским оркестром.
Недельного гостя ждали не раньше, как через два дня. Но вне всякого плана телеграфист принял срочную депешу, передал начальнику станции и перетирал ее содержание вместе с сухим виноградом и двумя милиционерами в чай-ханэ.
Начальник поезда направил гонца в караван-сарай и там приготовили караван. В четыре часа пришел поезд. Женя с любопытством осматривала паленую местность и распухшего по экстраординарному случаю телеграфиста. Между прочим, телеграфист, проклиная себя за невоздержанность, сразу влюбился в Женю и написал предлинное стихотворение тягучим александрийским ямбом.
Женя выпила до дна чашу удовольствий железнодорожного оазиса. Она послушала оркестр и перепробовала все сорта восточных сладостей.
Арахан вел себя серьезно. Он говорил с местной властью, расспрашивал о дороге и что-то записывал в записную книжку.
Когда солнце спало, то путники были готовы к долгому пути в столицу Афганистана.
Два комфортабельных верблюда, под полпреда и его секретаря, два – под груз и четыре – под проводников.
Маленький караван тронулся в путь и в ритмичных покачиваниях верблюжьего бега потонули станция, чай-ханэ, оркестр, караван-сарай и поселок. Только кактусообразные репейники перебивали голую песчаную растительность.
Телеграфист переписал три раза стихотворение, назвал его «Роза севера», запечатал в три конверта и отправил с паровозом в РСФСР.
Через десять километров остановились. Отряд особого назначения. Советская граница. В низких глиняных домиках расквартированы красноармейцы-пограничники. Больше половины отряда вечно в полубреду от жары и малярии. С севера – Аму-Дарья, с юга – степь и впереди на восток солончаки, пустыня и граница Афганистана.
Начальник отряда Осназа дал конвой на верховых лошадях. Десять всадников. Конвой сопровождал до границы к пограничникам-афганцам. По дороге ехать было небезопасно. Работали шайки басмачей.
Солдаты рассказывали о многочисленных приключениях, о непрестанной перестрелке с басмачами, делавшими набеги на оседлое население. Жаловались на изнуряющую, выматывающую силу малярию. Рассказывали об афганцах.
Очень удобно и хорошо сидеть между двумя горбами на верблюде. Когда привыкнешь к своеобразному бегу этого сильного и выносливого животного, то, пожалуй, предпочтешь его хлопотной езде в седле на верховой лошади.
Часа через два приехали к границе Афганистана.
На худеньких лошадках-иноходцах, в английском френче и громадной чалме с кривой шашкой, тремя револьверами и парой кинжалов за поясом, предстали перед ними пограничники-афганцы.
– Селям алейкум! – приветствовал Арахан.
– Алейкум а селям! – отвечал афганец.
Красноармейцы сдали караван на руки, афганской страже и, попрощавшись, уехали обратно.
Начальник афганского пограничного отряда был очень любезен. Он оказался уже извещенным о приезде полпреда и поджидал его.
В таких же глиняных домиках, тоже желтые и высохшие, но пестрые, разукрашенные допотопными ятаганами наряду с современными карабинами, афганцы поразили Женю.
Несмотря на крайне свирепый вид, они очень радушно встретили приезжих. Начальник не стал задерживать Ара-хана, отрядил к его каравану пять человек стражи и пожелал скорейшего прибытия в Кабул.
Поднимались горными тропами. Проходили солончаки и выжженные солнцем пустыни.
Дорога очень однообразная и пустынная; изредка проплывал мимо небольшой караван и обменивался приветствиями. Еще реже стукали копыта горных лошадок.
Острые камни, спуски, подъемы, крутые тропы, опять камни, опять подъемы, опять спуски.
На второй день пути прибыли в Мазар.
В Мазаре опять церемонии у местного наместника кабульского правителя. Осмотр города. Отдых.
Пестрый базар. Многочисленные арыки, переплетающие сады, гордые и дикие афганцы. Белые глиняные домики, узкие горные улочки, чай-ханэ, караван-сараи. Пестрота, белизна, зелень.
Мазар – небольшой цветущий оазис.
В Мазаре сменили верблюдов, проводников и охрану. В Мазаре пробыли один день. Из Мазара отправились дальше. Теперь предстоял главный переход через большую безводную пустыню. Шестидневный переход.
Особенно тщательно упаковывали воду.
Но Мазар не только оазис. Мазар – город в Афганистане. Афганистан пользуется своеобразной любовью англичан. Англия очень любит афганцев.
А в каждом городе в Афганистане есть и ее люди. Она протягивает свои щупальца через эту полудикую страну к границам СССР. Она охраняет Индию.
В Мазаре есть личности. Личности, снующие около купцов Запада. Личности, получающие шифрованные депеши, меняющие свою наружность, отбывающие в Кабул и снова возвращающиеся в Мазар. Это шпионы. По прибытии в Мазар, караван Арахана был встречен наместником правительства из Кабула и шпионом. Наместник распахнул перед полпредом двери своего дома, наместник был любезен и горячо жал руки.
Шпион не распахивал дверей дома и не жал рук. Шпион раскрыл кошелек и заплатил за откровенность одному из охраны, сопровождавшей Арахана.
Шпион пролез к верблюдам и багажу полпреда. Шпион обследовал, фотографировал и записывал.
После отбытия караванов в Кабул, шпион работал в темной комнате своего домика. Над домиком развевался флаг…
Шпион говорил по радиотелеграфу и посылал шифрованные депеши.
На другой день в Мазар прилетел белый аэроплан-амфибия Виккерса. В аэроплане сидели двое.
Шпион занял кабинку. Шпион улыбался и потирал руки. Аэроплан исчез в лазури безоблачного неба.
Ржавые, склизкие лужицы и колючий саксаул – вот все, что встречал караван на своем пути.
Арахан смеялся и рассказывал Жене сказку, в которой говорится, почему нельзя пить из таких лужиц. Смеяться можно. В бурдюках и английских фляжках – вода.
Солнце здорово грело. Женя никогда в жизни не испытывала такой жажды и не чувствовала такой жары. Что Крым? Каких-нибудь тридцать, сорок градусов. Пятьдесят и шестьдесят – вот что показывал термометр.
Часто прикладывались к флягам и часто их наполняли. Воды не жалели и пили вдоволь. Но чем больше пили, тем больше хотелось пить.
Не переставая прошибал сочными каплями пот и выбрасывал влагу из тела наружу.
С десяти утра до шести вечера печет солнце сверху и песок снизу. До десяти и после шести жара спадает. Верблюды бегут и ритм бега напоминает слабую морскую качку.
На второй день Арахан поздравил Женю с выносливостью.
– Собственно, мы могли бы воспользоваться самолетом, – сказал он, – но вы, наверное, не раскаиваетесь, что жаритесь в этой сковородке из песка?
– Конечно, товарищ Арахан! Я чувствую себя прекрасно. Я благодарю вас и думаю, что при другом, более современном виде транспорта, не благодарила бы.
Женю очень забавляли встречи в дороге, когда какой-нибудь маячащий на своем верблюде путник равнялся с ними и исчезал вместе со своей заунывной песней за горизонтом.
Арахан и Женя прекрасно говорили по-тюркски и арабски. Лучших отношений с проводниками нельзя желать.
Ко всему, к Советской России у восточных народов неистощимая симпатия и дружба.
Проводники говорили об англичанах. Они их ненавидели и боялись. Британцем пугали детей. Англичан проклинали и тихо уничтожали. С английскими флагами на Востоке неразрывно связаны деспотия, ужас, голод и болезни.
На предпоследний привал устраивались с особым рвением. Разбили шатры и закусили. Потом легли спать.
Обычно, охране полагалось нести дежурство посменно. Обычно они так и делали. Дежурили по два часа.
В это время остальные отдыхали и безмятежно спали.
Продовольствие и воду клали в отдельный шатер и у этого склада дежурил проводник.
В три часа дня, то есть в самое знойное время, верблюды тревожно закричали, а дежурный внимательно разыскивал причину их тревоги.
Но на горизонте не показывалось ничего. Однако, верблюды не успокаивались, а проводник имел к верблюдам неограниченное доверие, но, к сожалению, не обладал тонким слухом.
И только тогда, когда верблюды особенно занервничали, он обнаружил в воздухе жужжащие звуки. Он посмотрел на небо и увидел черную точку, быстро-быстро снижавшуюся и увеличивающуюся в своих размерах. Проводник не испугался и не удивился. Он успокоил верблюдов. Абкер знал летающих птиц. Он знал, что такое аэроплан.
Аэроплан оказался амфибией Виккерса и спустился метрах в ста от стоянки Арахана.
Проводник не предпринял ничего и спокойно, скрестив ноги, продолжал курить кальян.
Из амфибии выскочили три человека в белом с плотно закрытыми белыми масками лицами. Они направились к становищу. Один из них, более высокий, более тонкий, заговорил с проводником.
– Кто эти люди?
– Пойди и спроси у них, – отвечал проводник.
– Куда вы идете? – настаивал белый человек.
– Пойдем с нами и дойдешь до места, которое тебя интересует.
Белый человек не злился, он хладнокровно продолжал:
– Много ли воды у вас?
– Ровно столько, сколько нужно шести правоверным на один день пути.
– Прекрасно!.. – резко оборвал белый человек. И в руках троих засверкали большие кольты. – Правоверные могут обойтись и без воды. Магомет вывезет правоверных!..
Они быстро скрутили проводника и заткнули ему рот.
Из палатки взяли все запасы воды и исчезли на самолете.
Шум поднимающихся моторов был услышан Женей. Она выскочила из палатки и увидела стальную птицу в нескольких метрах над землей. Женя почувствовала что-то недоброе, а в следующее мгновение она увидела связанного Абкера. Быстро распутав ему веревки и еще быстрее сообразив, в каком положении они очутились, Женя бросилась будить Арахана.
Поднятая тревога не принесла никаких результатов. Ара-хан несколько раз спрашивал Абкера, как были одеты люди, о чем они спрашивали и не было ли каких-нибудь отличительных знаков на аэроплане. Абкер отвечал:
– Они спрашивали, кто ты, куда едешь и сколько воды у нас. Они и их птица были белы, как снег на вершинах Памира. Они хотели стрелять из черных револьверов.
Решили как можно скорее продолжать путь. Среди продовольственных запасов оставались лимоны и апельсины. Это давало путешественникам кой-какую надежду, впредь до встречи с караваном, утолять приступы жажды.
Осторожно расходуя каждую толику лимона и апельсина, двигались вперед. Как нарочно, солнце жгло неутомимо и не встречалось ни одного путника.
Час за часом, миля за милей. Во время захода солнца сделали привал. Правоверный не может не молиться.
К утру осталось восемь часов пути и ни одного апельсина и лимона. Лучи солнца вытягивали влагу. Во рту образовались сгустки слюны, которая липла к нёбу и действовала на воображение. Глаза у всех воспалились и верблюды беспокойно вытягивали шеи и покрикивали.
Все мысли вращались вокруг воды. Даже не встречалось ржавых, склизких лужиц. Проводники пробовали удивляться. Никогда они не проходили по такому безлюдному пути. Второй день ни одного правоверного.
В первые дни песок не казался однообразным, забавляли кудреватые валуны. В причудливых выветренных бороздах мерещились очертания определенных предметов. Думалось о миражах и казалось невероятным, что люди способны на все из-за капли влаги, освежающей рот.
Теперь песок стал серым и скучным. Никаких очертаний, только противные, ничего не говорящие выемки.
Пыль, о которой раньше вообще не думали, стала въедаться в лицо, шею, глаза, в рот. Дыхание участилось и в жилах, на висках, неприятно, учащенно стучала кровь.
В три часа, ровно через двадцать четыре часа после ограбления, путники приблизились к городу.
Казалось, что совсем рядом. Ну, не больше, как в миле. Высились стройные минареты, двигались люди, пестрели чистенькие домики, залитые зеленью садов.
Женя позабыла о своей жажде, а проводники многозначительно переглянулись, но ничего не сказали.
По мере приближения к городу он расплывался и, наконец, растаял. Это был мираж.
В шесть часов опять привал. Женя настолько ослабла, что не могла слезть со своего верблюда. Проводники молились.
После шести жара спала, но жажда только усилилась. Ехали молча. Часов в восемь верблюды выпрямились, ускорили бег и радостно закричали.
– Близка вода, – коротко оказал Абкер и добавил исчерпывающе, – Кабул!
На горизонте, охваченном сумерками, показались очертания развалин.
Что же делал Виктор? Шторм рассеялся и волны мирно покачивали шлюпку с клеймом «Товарищ».
В шлюпке жалобно лаяла собачонка, а под собачонкой, на самом дне, лежал Виктор.
Что сделалось с остальной командой – неизвестно. Неизвестно, что стало с шхуной «Гуд-бай».
Когда Виктор прыгал в шлюпку, то падавшая снасть задела его голову. Измученный ночью бессонницей и штормом, он упал на дно лодки.
Фоксик лизал ему руки, лицо и лаял. Лаял нежно, словно жаловался. А когда на горизонте засинела расплывчатая, окутанная туманом полоска, он залаял громче. Но Виктор ничего не слышал.
Полоска приближалась, туман рассеивался…
Глава вторая,
где смерть смотрит в глаза героям
Неисчерпаемый источник для юмориста – география Иванова. Этот достопочтенный географ сообщает:
«Главный народ в Африке – негры; они живут в области саванн и тропических лесов и по языку разделяются на негров суданских и негров банту».
И несколькими строчками ниже:
«Из народов белой расы с незапамятных времен живут на севере и востоке Африки хамиты…».
Еще ниже:
«Европейцы стали селиться в Африке недавно».
Только и всего! Ни слова о том, что «главный народ», до сих пор знавший только белых хамитов, с пришествием европейцев познакомился с белыми хамами, и что эти белые хамы совсем по-хамски поступили с «главным народом».
Вряд ли найдется на всем земном шаре другая страна, в которой так неприкрыто, так беззастенчиво проявлялись бы рабовладельческие инстинкты английских, германских и французских цивилизаторов.
Главные центры беззастенчивой эксплуататорской политики раскинулись по западному берегу страны, в районе так называемого Слонового и Невольничьего берегов. Последнее название достаточно ярко характеризует то, что творилось здесь белыми, окрестившими местность столь звучным и милым именем. Именно отсюда потянулись нити первоначального накопления огромных богатств современных промышленных китов Англии, Германии и Франции; именно здесь закладывались основы их финансового могущества. Первые колонизаторы, проникнувшие в эти местности, наталкивались там на негров, имеющих свои земли и своим трудом обогащавших самих себя. И вот, говоря словами Маркса, они, эти колонизаторы, показывают, «что развитие общественной производительности, силы и труда, кооперация, разделение труда, применение в крупном масштабе машин и т. д. невозможны без эксплуатации рабочих и соответствующего превращения средств производства в капитал. В интересах так называемого национального богатства последний ищет искусственных средств для создания народной бедности».
В другом месте Маркс говорит, что «негр есть негр. Только при определенных обстоятельствах он становится рабом. Хлопчатобумажная машина есть машина для прядения хлопка. И только при определенных отношениях она становится капиталом».
И колонизаторы прилагали все усилия, чтобы создать эти определенные обстоятельства и определенные отношения. И надо сказать, блестяще успели в этом. Они экспроприировали, то есть, попросту говоря, ограбили несчастных негров так, что те и пикнуть не успели. Они позаботились о превращении их в рабов, иногда наемных, а чаще – просто рабов.
И сегодня, как и несколько сот лет тому назад, остаются действительными слова, сказанные Диодором Сицилийским и цитируемые Марксом в первой книге «Капитала», в главе о заработной плате: «Нельзя без сострадания к их ужасной судьбе видеть этих несчастных, не имеющих возможности позаботиться хотя бы о чистоте своего тела или о прикрытии своей наготы. Ибо здесь нет места снисхождению и пощаде по отношению к больным, хворым, старикам, к женской слабости. Все должны работать, принуждаемые к этому ударами бича, и только смерть кладет конец их мучениям и нужде».
Не только смерть!
Диодор Сицилийский не знал, что его слова будет цитировать в своей книге человек, указавший другой выход этим несчастным!
– Так вы говорите, на десять процентов, Биль?
– На десять, Боб! Даже не торговались.
– И все наличными?
– Ни единого чека.
– С ума они сошли, что ли?
– Какие-то тресты, Боб! Новая затея. Ни черта я не понимаю в биржевых историях.
– Понимаешь, не понимаешь, а дело ты сделал хорошее! – хлопнул его по плечу Боб.
Биль довольно усмехнулся.
– Из моей доли процентов пятьдесят ухнули, Боб.
– Как так?
– Так! Не удержался. Завернул по дороге в Париж…
– Ну, не совсем это по дороге.
– Когда есть деньги, тогда все по дороге. Вот завернул в Париж, ну и ухнул.
– Девочки, старина?
– И девочки, и карточки, и водочка.
– Молодец!
Владелец сахарных плантаций Боб Роджерс был очень доволен. Его компаньон Биль, ездивший с грузом тростника в Европу, привез приятную новость! Тростник подорожал на десять процентов. Десять процентов – это не шутка. Десять процентов, это… это…
– Это очень много денег, – решил наконец Боб.
Деньги он любил и хотя не тратил ни одной лишней копейки, но старательно подсчитывал размер своего текущего счета в британском банке и каждому увеличению его радовался. Зачем ему нужны были деньги, он не знал. Не было у него любимой женщины, которую можно было порадовать дорогим подарком, не было у него детей, не было даже дальних родственников. Кроме своего компаньона, Биля, ни одного человека не мог Боб назвать своим другом, ни к одному человеку он не питал симпатии. Люди платили Бобу тем же. Начиная от негров, гнувших свои мокрые от пота и крови спины на его плантациях, и кончая местными представителями власти, никто иначе не отзывался о нем, как о «кривом черте».
И в самом деле, Боб Роджерс был кривым. На его толстом, лоснящемся от жира, вечно нечисто выбритом лице ворочался один единственный глаз. Второй – давно пропал в стычке с пьяным штурманом купеческого корабля; стычке, – происшедшей из-за трех шиллингов, проигранных штурманом Бобу. Штурман решил, что такому богатому плантатору карточного долга можно и не платить. Боб думал иначе. Ценой глаза, но свои три шиллинга он все-таки получил. Таков был Боб Роджерс, «кривой черт». За исключением одного глаза и непомерно длинных рук, у Боба Роджерса не было никаких внешних дефектов. Высокого роста, в меру толстый, но не жирный, то, что называется – упитанный, – он мог ударом кулака свалить быка с ног, и работавшие на его плантациях негры на своих спинах не раз испытывали железные руки хозяина. Вровень кулакам был и характер Боба. Железный, негнущийся.
– Что Боб захотел, то и будет, – говорили его соседи и купцы, имевшие с ним дела. Можете представить себе, какое приятное сочетание давал этот характер, эта сила и невероятная алчность, неудержимая любовь к деньгам и их накоплению!
– Знаете, что они мне сказали, Боб, там, в Лондоне?
– Ну?
– Они сказали мне: «Ваши негры могут отдохнуть, мистер Биль. Раз тростник поднялся в цене на десять процентов, настолько же вы можете сократить его добычу».
– Что? – Боб покрутил своим единственным глазом. – Что?! Они так сказали? Смеялись они, что ли?
– Они говорили серьезно, Боб. Они очень советовали нам сделать это. Дело в том, – Биль понизил голос до шепота, – дело в том, что поговаривают о восстании.
– О восс… – Боб побагровел и вскочил с плетеного кресла. – Эй, ты, старая развалина! – крикнул он, перегнувшись через перила веранды.
На зов появился старый негр.
– Лошадь! – проревел ему Боб. – Лошадь, и живо! Потом, повернувшись, он сорвал со стены длинный бич и тяжелыми шагами спустился во двор.
– Куда, Боб? – бросил ему вдогонку Биль.
– На плантацию; и не буду я Боб Роджерс, если добыча тростника не возрастет вдвое.
Совершенно невероятная жара. Только привычные люди могут двигаться под этими отвесно падающими лучами тропического солнца. Только негры, родившиеся и выросшие в этой местности, могут с утра до вечера резать толстые стебли сахарного тростника, не падая в беспамятстве на землю. С непостижимой ловкостью работают они около своих корзин, ударами ножа срезая по нескольку стеблей сразу. Впрочем, это только пока надсмотрщик не отошел слишком далеко, или не свернул в протоптанную меж рядами высоких тростников межу. Стоит ему хоть на минуту оставить этих людей без своего надзора, как спины разгибаются, ножи откладываются в сторону, и работа, до сих пор кипевшая, замирает. Но это случается не часто. Надсмотрщики – народ опытный и устраиваются так, что ни на одну минуту не спускают глаз с вверенных их надзору людей. Они считают себя в праве требовать от негра непрерывной работы. Негр считает себя вправе как можно меньше работать и как можно больше отдыхать. Надсмотрщики, недовольные этим, называют негров не иначе, как «ленивые скотины». Негры думают о себе иначе. Они могли бы порассказать о том, как трудолюбиво и старательно обрабатывают они свои поля, как храбро и настойчиво преследуют зверей в чаще леса там, где не висит над ними палка, там, где их труд свободен.
Надсмотрщики не станут, конечно, слушать негритянские рассказы. Они усмехнутся, выругаются и заявят:
– Кто ж тебя за уши тянул, черная морда? Ты пошел сюда добровольно. Ты контракт подписал.
Добровольно? Контракт подписал? Бедный негр даже писать не умеет. Что мог он поделать, когда белые пришли в его поселок, оскорбили его и его жену, а когда он попробовал возмутиться, объявили бунтовщиком и сунули ему в руку какую-то бумагу. На этой бумаге он отпечатал свои пальцы, и эта бумага тяжелым грузом легла на всю его жизнь?! А, может быть, просто его напоили водкой и привезли сюда полумертвого от алкоголя. Или ласками, угрозами и подарками выманили его у его родителей и еще ребенком заставили выпить до дна чашу рабского труда. Белый – умный и хитрый человек. Белый человек всегда найдет для себя рабочую силу.
Мы только что упомянули о ребенке. Да, на плантациях Боба Роджерса, а, впрочем, также и на других, вы могли встретить детей, исполнявших работу взрослых. Девочки и мальчики равно гнули свои спины у высоких плетеных корзин, равно взваливали эти корзины себе на плечи и, переламываясь надвое под непосильной тяжестью, клали на телеги собранный тростник. Объехать ряды и забрать добычу у каждого на месте телега не могла. Разве можно мучить буйволов, которые здесь так дорого стоят? И буйволы отдыхали при каждом удобном случае, а за них мучились негры, старые, молодые и совсем, совсем юные.
Невероятная жара! Боб Роджерс совсем распарился. Он полудремал, покачиваясь в седле, опустив поводья, но крепко сжав хлыст толстыми, грубыми пальцами.
Вдруг он почувствовал, как его лошадь шарахнулась в сторону и едва успел ухватиться за луку, чтобы не вылететь из седла… Что за чертовщина? Чего испугалась Бьюти?
И, стряхнув дремоту, Боб увидел, что прямо перед ним, преграждая дорогу, стоит маленький, жалкий негритенок, перепуганный и остолбеневший.
– Откуда ты взялся, негодяй?
«Негодяй» молчал, устремив на Боба полные испуга глаза.
– Почему ты не работаешь, мерзавец?
«Мерзавец» открыл рот и издал какой-то плачущий звук.
– Поди сюда, противная обезьяна! Поди сюда!
И так как «противная обезьяна» не двигалась с места, то Боб сам подъехал к мальчишке, нагнулся в седле, схватил его за шею, как хватают щенка и, подняв в уровень со своим единственным глазом, принялся методически, хладнокровно бить его рукояткой хлыста. Негритенок забился в сильных пальцах и закричал от боли. Крик еще больше разозлил Боба, удары стали чаще и сильней.
Бедный, глупый негритенок! Ты не знаешь, что нельзя кричать, когда сахарный тростник подорожал на десять процентов.
Негр Бинги всего два месяца работает на плантациях одноглазого черта. Никто не знает, откуда явился Бинги, но в один прекрасный день вербовщики привели его вместе с другими пьяными неграми. Так же, как другие, он оказался неграмотным, так же, как другие, поставил он вместо подписи отпечаток своего пальца, окунутого в чернила, и так же, как другие, покорно встал на работу. Но когда надсмотрщик попробовал так же, как других, ударить его хлыстом, Бинги посмотрел так, что хлыст в руке надсмотрщика остановился на полдороге.
В остальном, все было вполне нормально. Никто не знал, что Бинги добрых двенадцать лет провел в Капштадте, работая в качестве швейцара в одном из роскошных кино; никто не знал, что там Бинги услышал и узнал кое-что из того, что белые обычно скрывают от негритянских ушей.
Не знал этого и Боб Роджерс, когда он бил негритенка в двух шагах от того места, где, согнувшись в три погибели, резал хрустящий тростник Бинги.
Когда Бинги услышал крики избиваемого, он вздрогнул и поднял голову. Крики на плантациях не редкость. К ним привыкли и они являются совершенно необходимым аккомпанементом работы. Бинги, как и все, не раз слышал крики и оставался наружно спокойным, смиряя поднимавшуюся волну гнева.
Но на этот раз крик был таким жалким, таким детски-молящим, таким животно-беспомощным, что Бинги не выдержал.
Он рванулся сквозь тростниковые заросли, ломая драгоценное растение, и через секунду очутился лицом к лицу с Бобом.
Увидев подбегающего к нему негра, негра с перекошенным ненавистью лицом, одноглазый черт невольно выпустил свою жертву. Бинги подхватил падавшего мальчика. Негритенок, жалобно повизгивая, прижался к нему, а Боб несколько секунд внимательно разглядывал дерзкого и, коротким ударом отметив на щеке Бинги красную полосу, повернул лошадь.
«Поговаривают о восстании», – вспомнил он слова своего компаньона.
Бинги не бросился вслед уезжавшему оскорбителю. Бинги почти не почувствовал прикосновения хлыста. Его внимание было поглощено ребенком, всхлипывающим на его потном плече.
Что это был за ребенок? Кожа да кости! Несчастное существо, обреченное на преждевременную старость и раннюю смерть. С колыбели, почти, приученный к побоям и подчинению, он будет расти в страхе рабского повиновения и никогда не осмелится поднять руку на белых угнетателей. Белые знают, что они делают, белые не зря любят набирать на работу негритянских детей. У всякого народа, у всякого племени будущее – в детях. Поработить ребенка, это значит – поработить будущее.
Пока Бинги думал обо всем этом, негритенок успокоился и поднял голову с плеча своего спасителя. Через чащу тростников ему видна была пустая корзинка, брошенная Бинги у места прерванной работы, а вдалеке был виден белый человек с хлыстом, приближавшийся кошачьими шагами к оставленному Бинги месту.
Негритенок знал, что надсмотрщик Рибб ненавидел Бинги и слышал, как старый холоп плантатора поклялся однажды свести в могилу этого проклятого недотрогу. И, увидев теперь высокую фигуру надсмотрщика недалеко от того ряда, в котором работал Бинги, мальчик понял, что его спасителю грозят большие неприятности.
– Бинги, Бинги! масса Рибб, – прошептал он, и Бинги, мгновенно опустив мальчика на землю, бросился сквозь тростники к своей корзине.
Рибб еще издали заметил, что Бинги нет на обычном месте. Предвкушая расправу, он тихо, стараясь остаться незамеченным, крался вдоль тростников, сжимая хлыст, в который была вделана тяжелая стальная пружина. Сейчас он задаст этому черному негодяю!
Бинги вернулся на место за несколько секунд до того, как надсмотрщик Рибб очутился около его корзины. Они почти столкнулись друг с другом и глаза белого, как острые гвозди, вонзились в глаза черного раба. Этот зрительный поединок продолжался около минуты и, в результате, белый, пробормотав какое-то проклятие, повернулся и пошел, сыпя направо и налево удары своего бича.
Издали может показаться, что в лесу кто-то разбросал пчелиные улья. Негритянские хижины – эти круглые мазанки с листвяной кровлей и дырой на том месте, где должна быть дверь, – мало чем отличаются от ульев. Даже размер их не всегда достаточно велик, чтобы рослый человек мог разогнуть в хижине свою спину. Последнее, впрочем, лишняя роскошь. Согбенные долгой работой на плантации, негры и после работы ходят обезьяньей походкой и, почти ползком, добравшись до своих хижин, мгновенно сваливаются на сомнительной чистоты циновки и засыпают тяжелым, беспокойным сном.
Сон – это единственная радость, единственная улыбка отдыха. В дождливую погоду приходится еще возиться с огнем и урывать драгоценное время. Но в теплую погоду огонь не нужен. Придя домой и закусив черствой маисовой лепешкой, можно сейчас же растянуться и спать; спать-спать до нового утра.
Вот почему у возвращающихся с работы такие торопливые шаги. Они почти бегут к своим хижинам, они, как животные, легким движением ныряют в отверстия, из которых, смешиваясь с лихорадочным воздухом леса, тянет запах человеческого пота.
Поселок Джубба, расположенный около плантации Боба Роджерса, отличался от других негритянских поселков только своим размером. Он раскинулся на огромное пространство. На Боба работали полторы тысячи негров и все они расселились в Джуббе. По этому поводу Боб имел свои соображения. Практиковавшееся другими плантаторами казарменное содержание работников он решительно отвергал. Во-первых, лишние расходы, а во-вторых, казарма – место слишком тесного общения и всяческих заговоров. В казарме – все на одинаковом положении и эта общность положения сближает даже людей разных племен. В поселке – дело другое. Здесь царила до тонкости разработанная Бобом система, согласно которой некоторые имели свои маленькие поля и пользовались правом их обработки, для чего освобождались, несколько дней подряд, ранее срока. Совершенно понятно, что это право можно было заслужить только путем предательства и раболепства. И в поселке Джубба насчитывалось несколько человек, которых соблазняла перспектива иметь собственное поле, и которые взяли на себя труд надзора за другими. Они составили нечто вроде милиции и были вооружены. Что касается остальной массы, то и там игра на собственнических интересах делала свое дело и в короткое время Бобу удалось превратить поселок в сущий ад противоречий, соглядатайства и взаимной ненависти. Этого только и надо было одноглазому черту.
Каждый раз, когда Бинги подходил к окраине поселка, его охватывали невеселые мысли. Сама структура поселка говорила о разъединенности, обособленности отдельных семей и групп. Хижины стояли врассыпную, отброшенные друг от друга, отделенные деревьями леса. Бинги знал, что, в огромном большинстве случаев, сосед ни в чем не поможет соседу; и даже воды ему не принесет, если тот будет умирать от жажды. И это не оттого, что негры таковы. О, нет! У себя, в глубине страны, они знают, что такое товарищество и взаимная поддержка. Но здесь, где стены имеют уши, где в каждом кусте может спрятаться соглядатай, где воля белого выше всех законов, здесь всякая дружба, всякая связь, опасны. Лучше жить своим умом, лучше самому о себе думать. Белые не любят, когда негры дружат между собой…
Бинги миновал ряд хижин и приблизился к своей, – такой же маленькой, грязной и неуютной, как все остальные.
– Бинги! – услышал он, не доходя нескольких шагов до порога. – Бинги!
Бинги нагнулся и у самых дверей хижины разглядел маленького негритенка, спасенного им сегодня днем. Он вспомнил, что мальчонка зовут Бату.
– Что ты делаешь здесь, Бату? – нагнулся он и погладил смешную курчавую голову.
– Бинги не прогонит меня? – захныкал мальчик. – Бинги пустит меня к себе? Бату так боится. Белые люди убьют Бату, о Бинги!
– Войди! – сказал Бинги, открывая дверь. – Войди! Бинги оставит тебя с собой.
Пройдут долгие, долгие годы. Маленький Бату станет большим негром. Маленький Бату пройдет через многие страдания и пытки. Может быть, маленький Бату доживет до лучших времен и увидит то, о чем и во сне не снилось его предкам. Может быть, маленький Бату, как все, превратится в жалкого, сморщенного, бессильного старика, измученного побоями и работой. Может быть, маленький Бату умрет под хлыстом одноглазого черта. Все может быть!
Но, что бы ни было, как бы ни было, маленький Бату никогда не забудет этой теплой, душной тропической ночи, в которую слышал он от доброго храброго Бинги такую чудную сказку о белом человеке, отдавшем свою жизнь за счастье всех маленьких Бату.
Годы пройдут длинной и томительной вереницей, а в памяти его всегда сохранится ласковая рука Бинги и голос, часто повторявший имя, которое Бату до конца своих дней будет носить в сердце. Если у Бату будут дети, он по ночам тихо, тихо, чтобы не услышали белые, будет повторять им это имя и заставит их заучить наизусть сказку о человеке, которого зовут – Ленин.
Бату знает, что это только сказка. В жизни никогда не бывает добрых белых. В жизни все белые злые и у всех у них есть палки, которые так больно бьют. В жизни нет белых, называющих негров братьями, в жизни нет белых, считающих негров равными себе.
Но все равно, сейчас, под ласковой рукой Бинги, Бату поверит сказке, поверит тому, что где-то, далеко, живет такой белый, к которому можно прийти с негритянской болью и негритянской обидой, и который знает такие олова, от которых и боль, и обиды уйдут, уступив место радости. Бату во сне увидит этого человека, во сне поговорит с ним, и когда в следующий раз белый надсмотрщик поднимет на Бату свой хлыст, маленький негритенок спокойно посмотрит ему в глаза и скажет одно только слово, скажет – Ленин.
Бедный, маленький Бату. Он не знает, что это случится завтра, он не знает, что от этого слова белый надсмотрщик побагровеет и нальется злостью; он не знает, что палка белого надсмотрщика с такой силой опустится на его голову, что маленький негритенок никогда больше не увидит ни сахарных плантаций, ни леса, обступившего их…
Бинги наклонился над своим гостем. Мальчик спал и во сне улыбался. Бинги осторожно прикрыл его худенькое тельце какими-то тряпками, встал и вышел наружу.
Теплый тропический вечер ударил в лицо пряными ароматами леса. Было душно и кружилась голова. Несколько минут Бинги стоял, не двигаясь, и смотрел на небо. Потом потянулся, расправляя усталые за день мускулы так, что кости хрустнули, и пошел по спящему поселку туда, где у колодца ждала его Таао.
В тридцать лет, при неудачно сложившихся обстоятельствах, начинаешь ненавидеть. Боб Роджерс мог похвастаться. Неудачи преследовали его всю жизнь. И нечего удивляться тому, что, во-первых, он сделался плантатором, выжимателем соков в этой берлоге на невольничьем берегу, а, во-вторых, что он ненавидел.
Ненавидел он всех с одинаковой яростью. Клещей, судорожно впивавшихся в кожу, термитов, шуршавших в своих гнездах, москитов, облипавших всегда, когда не было во рту спасительной трубки. Но больше всего Роджерс ненавидел негров. Он знал, что они давали ему возможность жить, надеяться на лучшее, и – еще кое-кому, там, у себя, – показать старого Боба Роджерса.
По существу своей натуры, Боб не был плохим человеком и вовсе он не виноват в том, что судьба ему навязала карьеру висельника.
Семь лет назад, то есть как раз после войны, Роджерс, носивший другую фамилию, занимался консульством, миссионерством, торговлей и вообще правительственными делами.
Правительственные дела – это не так много и не так трудно. В Куку особенно. Абсент, виски, бенедиктин заполняли свободное время. В Куку приезжали купцы: французы, англичане, немцы, американцы. Неприятная история случилась как раз с немцем. Немец обвинил его в нечистой игре. Фи! Шокинг! Конечно, Боб не стал долго тянуть и в тот же день немец получил в лоб то, чего ему не хватало. Металла для винтиков.
Немец! Скажите, пожалуйста, разве немец человек? Тот же негр! Но, как-никак, немец оказался крупным воротилой. Пришлось отдать концы и показать всем свою двухсотфунтовую фигуру с тыла.
Пара лет шатания по Нигеру, пережитое удовольствие быть завтраком у племени Ньям-Ньям, драка с карликами и, в конце концов, – новое имя – Боб Роджерс; новые деньги, новые возможности и фактория на одном из притоков дельты Нигера, с сотней негров и с кучей скота.
Фактория находилась на берегу реки Бомаясси. Река хорошая, светлая, смирная. Племя Н’гапу, – как и река.
Боб Роджерс пришел к Н’гапам смирным и тихим, таким, каким он умел быть. Боб Роджерс с носильщиками с пристани Гобо принес упакованные тюки. Он созвал совет великих мокунджи Н’гапу.
На совете Боб Роджерс делал много чудес. Он снимал кожу со своих рук, держал в руках огонь, давал слушать из маленькой трубки разговоры белых мокунджей на большой Каге (реке) и на пристани Гобо.
Боб Роджерс доказал, что он личный друг Нга’Кура[1]. За несколько десятков бус и за ящик виски и абсента мокунджи Н’гапу с радостью взялись за постройку, по его указаниям, на берегу Бомаясси большой хижины.
Тут он еще раз поразил негров.
Опять ходили носильщики к Гобо и вернулись нагруженные ящиками, досками и какими-то еще приспособлениями. Боб Роджерс отослал негров и один день разбирался в планах.
Потом он созвал опять совет мокунджей и на этом совете сказал, что совещался с великим Нга’Кура, и что Нга’Кура разрешил ему построить дом, который будет его домом.
Мокунджи пали ниц.
И в этот же день к Бобу Роджерсу пришло все племя. Боб Роджерс сказал, что не всякий черный может тронуть дом Нга’Кура. Он сказал, что только колдуны племени и мокунджи, с их женами, могут остаться.
Колдун, мокунджи, жены и сам Боб Роджерс работали один день и полдня. Дворец Нга’Кура был готов.
Хорошенький передвижной домик из трех комнат, с большой верандой, с большими окнами.
Не подверженный действию огня, проложенный асбестом; крыша, – покрытая плотным слоем каучука. Хорошо застекленная веранда. Уютные комнаты.
Вскоре после постройки была привезена ванна и все приспособления для водопровода и электрического освещения. Над домом Роджерс установил антенну радиоприемника и в своей комнате радиоприемник и телефон.
В деревне негры говорили о Бобе Роджерсе, как о великом мокунджи белых. Боб Роджерс к чему-то готовился.
Однажды к нему приехали двое белых, которые поселились в его доме.
Потом Роджерс уехал и возвратился на пироге, которая ехала и сама кричала, как крокодил. Да, негры были правы! Пирога ехала сама. Боб Роджерс получил моторную лодку.
В моторной лодке Боб привез то, что черные называли ингорогомбе, а белые – винчестерами. Кроме винчестеров, был небольшой пулемет и десять ящиков патронов.
Были организованы: полицейский пост, тюрьма и скотный двор. Роджерс создал отряд из местных негров, одел их и снабдил оружием. Построил для них отдельные хижины при своем дворце и откармливал их. Они ничего не делали, не протестовали, были довольны и повиновались.
Прекрасные плантации приносили громадный доход; солдаты, которых негры племени называли туругу, исправно собирали оброк. Приходившие моторки, с пристани Гобо, забирали большой груз и оставляли много денег.
Одним словом, Боб Роджерс организовал прекрасную факторию. Он сам в достаточной мере изленился, постарел и похудел. О том, что Боб Роджере имеет какое-то прошлое, все позабыли. Время шло.
Негры выбивались из сил, подгоняемые сержантами и туругу. Они стали хиреть, и жизнерадостность медленно спадала с их когда-то беспечных и веселых лиц.
Даже самое любимое занятие – охоту, Боб Роджерс превратил в каторгу. Все время был хороший спрос на слоновую кость, страусовые перья и шкуры. Мокунджи не протестовали. Боб Роджерс действовал от имени великого Нга’Куры и щедро угощал абсентом.
Но это было давно!
Теперь Боб Роджерс признанный, но ненавидимый и могущественный вождь Н’гапу. Великие мокунджи племени склонились перед ним. Прошло много дождей с того момента, как Боб Роджерс споил абсентом и виски старых колдунов и вождей и получил из Лагоса подкрепление в виде двух сержантов…
Боб Роджерс только что разобрался в полученной недельной почте. Он проверил ящик с напитками, табак, сигары, серию пилюль и несколько кило хины.
Просмотрел корреспонденцию, заказы, ответы торговых фирм, предложения. Все старо, скучно и однообразно. Журналы и газеты; но это его наводило на мысли о Европе, о цивилизации, театре, – о всем том, о чем он предпочитал не задумываться. Пытка!
Думая разогнать тоскливое настроение, Роджерс приказал слуге подать на веранду ликер. Солнце плыло вниз по горизонту и стекла веранды горели пурпуром заката.
Боб начал разбираться в толпе разнородных бутылочек, наполненных всевозможными сортами, ароматами и вкусами.
Приготовив дьявольскую смесь из семи марок и опрокинув хорошую рюмку, более напоминающую посудину для черпания воды, Роджерс зевнул. Как говорят негры, он старался прогнать сон через рот. Сегодня и любимая смесь не удовлетворила его. Он закурил сигару из вновь полученного ящика и окутал себя клубами тяжелого сизого дыма. Но зевота не прекращалась. Тогда Боб Роджерс встал и, отшвырнув в сторону сигару, взял со специальной подставки одну из трубок и набил ее душистым кэпстеном.
От трубки лучше не стало. Боб Роджерс сам перестал понимать, что ему нужно. Душистый табак раздражал, ликеры не успокаивали, сигары противны, журналы возбуждают ненависть. Трубка полетела к сигаре. Боб Роджерс понял.
Бобу Роджерсу скучно. Очевидно, наступил один из тех ужасных периодов, которых он поджидал с содроганием и тайной надеждой. А вдруг прошло?
Скуки Роджерс боялся больше, чем малярии. С лихорадкой он сжился, закармливая ее хиной.
Предостерегающие явления, пытки, именуемые скукой или тамбо, в долгой протяжной зевоте, ломающей рот. Клонит ко сну, но не спится. Одолевает сонная бессонница. Тамбо – род сонной болезни, сильно распространившейся среди белых в экваториальной Африке.
Сонная болезнь, в своем характерном виде, на белых не действует. Негры не болеют тамбо, но от сонной – гибнут.
Только одно средство может предотвратить тамбо. Это средство – женщины.
Боб Роджере подумал об этом и бросил взгляд на реку, протекавшую в нескольких шагах от его дома.
По черной глади реки скользила пирога. В пироге сидела черная девушка.
Таао, дочь старого мокунджи Н’гапу – Таманады. Таао – самая красивая девушка племени. Таао любит Бинги. Бинги любит самую красивую девушку потому, что он, Бинги, самый умный, самый красивый и самый сильный мужчина на плантациях.
Все окрестные Банды удивлялись, почему Н’гапу не выберут Бинги свои мокунджи, но виноваты были не Н’гапу, а отцы Н’гапу и Н’гакуру.
Второй дождь Таао – единственная и любимейшая ясси Бинги. Второй дождь Бинги гладил нежные, с лиловатым отливом, стройные, чуть-чуть полные руки своей ясен и целовал ее пухлые губы. Таао носила очаровательную косточку в мочках своих ушей и блестящие браслеты у запястьев рук и ног. Ради своего Бинги она пудрила белой золой свое тело.
Зрачки Таао – с синими отблесками, а белки сверкали, как белая эмаль. Таао не высока, Таао не толста, Таао изящна.
Боб Роджерс увидел, как она ловко управляла своей пирогой и скоро пристала к берегу. Из деревни доносились звуки тамтама. Роджерс решился. Он надел свой пробковый шлем, взял хлыст и соскользнул с веранды к берегу.
Солнце быстро скатывалось в пасть каймана пустоты. Река казалась густой, застекленной, покрытой лаком. Кругом квакали лягушки, жабы-буйволы, жабы-кинвалы, голосили стервятники.
Под навесом, у пристани Роджерса, бесшумно зыблилось несколько узкогрудых пирог. Боб Роджерс пересек речку. Пройдя метров тридцать по берегу, он вышел к небольшой поляне между грудой банановых и масленичных пальм. Боб Роджерс остановился и посмотрел.
В чем дело? Прекрасный случай! Он возьмет ее! Сладострастная улыбка появилась на его лице и обнажила ряд червивых зубов.
Черная Таао тоже улыбнулась, но ее улыбка показала ровные жемчуга, оттененные лепестками губ.
Черный Бинги не мог не улыбнуться и его зубы не были хуже зубов Таао.
Боб Роджерс не видел ни Бинги, ни его зубов; он не думал ни о них, ни о чем другом, кроме своего желания. Оно рвало его на части.
Боб Роджерс не мог видеть Бинги. Его не видела и Таао.
Бинги по дороге подумал о Таао и о том, что она его ждет, а Таао в своем томительном ожидании почувствовала близость Бинги.
– Чего ты ломаешь свои глаза, красотка? – Боб Роджерс подошел вплотную к Таао. – Или тебе мало работы днем? Смотри, белый господин делает тебя достойной его.
Роджерс схватил Таао за руку выше локтя и попытался привлечь к себе.
– Ай, масса Роджерс не трогает черной девушки! Черная девушка любит черного. Черная девушка боится массы Роджерса. – И Таао ловким, скользким, еле заметным движением увернулась от Роджерса. При повороте она своим упругим телом тронула ногу Боба. Он бросился за ней.
– Слушай, – кричал он, – белый господин не даст тебе работать! Белый, господин приведет тебя к себе и сделает своей ясси. У белого господина есть все. У него есть сладкий кенэ, яркие бусы, яркие платья; у него есть то, чего нет у самых великих мокунджей Банда.
Но Таао не слушала. Она испугалась озверевшего Боба Роджерса. Его лицо и в спокойном состоянии не производило приятного впечатления. Он имел хороший рост, хорошие плечи и прекрасную мускулатуру. Его несчастье начиналось с головы. Волосы были жесткие и почему-то не росли. На затылке местами сверкала плешь. Лоб был низкий. Густые, сросшиеся брови и один глаз, но и тот желтый. Белки глаза испещрены тоненькими жилками.
Лицо бледное, с желтым оттенком. Пористая кожа и широкие, в минуты злобы свисающие губы.
Самым неприятным были его ненормально-длинные руки, которые заканчивались узловатыми пальцами с почерневшими ногтями.
В припадке злобы все это делалось хуже. Лицо багровело, в углах рта показывалась пена. А единственный глаз наполнялся кровью…
Боб Роджерс прыжками бросился за Таао. Но ей не повезло. О, она бы оставила далеко позади себя белого плантатора, но Таао помешал камень. Она споткнулась и упала.
Боб Роджерс, торжествуя, бросился на нее. Таао удалось опять вывернуться, но все же Роджерс крепко схватил ее за руку и притянул к себе.
– Масса Роджерс не тронет Таао!
Боб Роджерс растерялся. Но не выпускал своей жертвы. Через ее плечо он посмотрел на черного раба, осмелившегося кричать.
Таао трепетала. Теперь она должна бояться не только за себя, но и за Бинги. Белый сделает с ним все, что хочет. Он его убьет. Ох, Н’гакуру! Лучше бы она не ходила навстречу своему солнцу.
Бинги бежал к Таао. Он не думал о последствиях. Он хотел спасти свою ясси.
Боб Роджерс немного успокоился. Сейчас он отлупит стеком черного болвана, а после уведет девушку к себе и все устроится как нельзя лучше. Если девушка убежит, он пошлет за вождем и колдуном и за несколько бутылок виски заставит поселок выдать Таао.
– Иди сюда, презренная черная собака, и ты узнаешь, как поднимать голос на англичанина.
Роджерс выпустил Таао и стал в боевую позицию, с поднятым в правой руке хлыстом. Бинги, сверкая глазами, сжимая кулаки, стоял в отдалении.
Сначала он немного подумал, потом сделал резкий выпад по направлению к Роджерсу. Тот приготовился и почти опустил на спину Бинги свой хлыст. Но Бинги нагнулся, движением вперед принял на голову туловище Роджерса и перебросил его через спину на землю.
Удачный выпад окрылил Бинги. Он обернулся к Роджерсу, который еще не опомнился от ловкого удара, и выхватил у него хлыст.
Боб Роджерс вскочил, вытащил из кобуры кольт, но здоровый кулак Бинги, величиной с хороший кокос, выбил из его рук карманную пушку, скромно названную револьвером.
Бинги отбросил в сторону хлыст и кулаками стремительно атаковал Роджерса. Прекрасно! Боб Роджерс не сомневался в своих боксерских талантах. Как любитель бокса, он заранее торжествовал победу.
Бинги не торжествовал, он действовал. Хороший короткий удар под подбородок и легкий скрип челюсти. Не важно, что Роджерс что-то сплюнул в сторону, может быть, и пару своих гнилых зубов.
Бинги действовал серьезно. Недаром он с таким удовольствием смотрел когда-то на матчи бокса.
Но и Боб Роджерс в метрополии подвизался на ринге. Он знал пару хороших, запрещенных в честном бою ударов. Но разве бой с негром – бой? Это просто драка. Ему только кажется, что черная собака ударила его по лицу. Он сам ударил черную собаку. Гнев, боль, ненависть и азарт залили кровью лицо и глаз Роджерса. А Бинги нахлестывал его со всех сторон.
Боб Роджерс держался на ногах достаточно крепко и иногда удары его длинных рук попадали в цель. Таао прижалась к стволу пальмы и со смешанным чувством удовольствия и ужаса смотрела на дерущихся. Ей было приятно, что белому попадает больше и что Бинги так ловко управляет своим телом.
Бинги внимательно следил за своим противником и не терял из виду ни одного его движения. Вот его правая рука делает выпад к груди Боба Роджерса. Роджерс заметил направленный удар и пытается его парировать. В это мгновенье левый кулак Бинги наносит Роджерсу сокрушающий нокаут.
Боб Роджерс, отброшенный силой толчка, не выдерживает и летит.
Напоенный запахом крови, Бинги бросается за ним. Он настигает свалившегося Роджерса. Он потерял власть над собой; напрасно побледневшая и испуганная Таао дрожит и прижимает свое тело к его телу, напрасно Бинги срывает с себя ее нежные теплые руки. Таао молчит, она от испуга не может говорить и Бинги ее не слышит.
Бинги бросился, схватил валявшийся на земле хлыст и, подбежав к Роджерсу, начал избивать его жестоко и бессознательно.
Цепь угнетенных поколений восстала в его крови. Он ни о чем не думал, он упивался расовой местью. Бинги мстил! Бинги могил не только за себя, за свою обиду; он мстил за свой народ, доведенный до уровня обезьяноподобных людей.
Трудно предсказать, чем могло кончиться побоище. Но хриплый крик, вырвавшийся из груди Роджерса, предопределил исход дела.
Хрип привел в сознание застывшую от страха Таао и она вскрикнула. Вскрикнула и бросилась к Бинги. Таао повисла на шее своего возлюбленного и покрыла его потное от возбуждения лицо градом поцелуев. Таао заплакала и теплые слезы Таао, оросившие мускулистое тело Бинги, вернули его к действительности.
– Бежим, милый, бежим! Бежим, – шептала Таао голосом, полным гордости к силе и храбрости своего Бинги и ужаса за его судьбу. Она знала, что жизнь Бинги кончена, а может быть, – и ее собственная. Белые все могут. Белые все знают.
Бинги тоже понял. Он крепко прижал к себе Таао и пошел с ней вниз по дороге, туда, куда заходит солнце.
Боб Роджерс увидел, что на него перестали обращать внимание. Увидел он и свой револьвер.
Перемогая боль, он протянул руку и медленным движением потянул к себе игрушку. Левая рука была парализована каким-то дьявольским ударом, а на правой руке из пяти пальцев действовали лишь три.
И этими тремя пальцами Боб Роджерс нажал собачку…
Сухой звук выстрела и Таао повисла на руке Бинги.
Пуля вошла в спину и вышла из груди. Бинги сначала хотел вернуться к Роджерсу и добить его, но Таао, обливаясь кровью, беспомощно повисла на его руке.
Боб Роджерс потерял сознание.
Место, где произошла потасовка, предназначалось для лунных идиллий. Роджерсу не повезло; но зато его храброму сержанту Риббу повезло, и очень. Он хорошо провел время с двумя сочными чертовками и навеселе возвращался в факторию.
Надо сказать, что он удивился, когда нашел своего патрона в таком печальном виде. Рибб перетащил Роджерса к пироге, а дома заботливо перемазал, перебинтовал, перемыл, раздел и уложил в постель. Боб Роджерс заснул, не приходя в сознание…
– Что ты скажешь, Рибб? – прохрипел Роджерс, делая попытку встать. – Не находишь ли мою оснастку немного неудачной?
Он не мог больше сдерживать себя и, ругаясь бесчеловечно и зверски, рассказал Риббу о драке. Решили сейчас же устроить расправу над негодяем.
Рибб помог Роджерсу выйти на веранду. Роджерс за ночь отоспался и значительно окреп. Призванные к веранде полицейские туругу стояли молча, опустив голову.
– Эй, вы, щенята! Н’гакуру требует Бинги.
Туругу молчали и еще ниже опустили голову.
– Что же вы носы повесили?! Или хотите, чтобы я отремонтировал ваши плевательницы?!..
Молчание. Боб Роджерс взял лежавший около него револьвер и выстрелил в ближнего негра. Тот упал, а остальные попытались разбежаться.
– Стойте, собаки! – заорал Боб Роджерс, – если хоть один из вас тронется с места, то живым не уйдет никто! А ну-ка, Рибб, доставь сюда вон ту черную воблу. Приведи Бинги, черт!
– Масса Роджерс, – запинаясь, начал негр, – Бинги очень сильный. Менеде боится Бинги, масса сама должен взять Бинги. Мы не пойдем за Бинги. Все равно, что там – смерть, что здесь.
Роджерс понял, что с ним не сваришь каши.
– Ладно, – махнул он рукой Риббу, – уведи этот скот.
У Боба Роджерса сложился определенный план действий. Он вызвал по телефону Лагос.
– Алло, кэптен Грефе? У меня неприятности с моей шайкой. Необходимы вы и еще четверо, чтобы поймать одного черного мерзавца.
– Алло, Роджерс, добрый день! Можно устроить! Мы доканчиваем наш джокер. Вам, наверно, интересно знать, кто выиграл.
– Честное слово, кэптен Грефе, у меня дело худо и, во всяком случае, не до джокера. Обеспечьте вашим партнерам выигрыш – жареных шишов на кокосовом молоке.
– Старина Боб, у вас хмурое настроение. Очевидно, дело действительно серьезно.
– Кэптен, простите, но у вас сегодня на языке засели фуру. Плюньте на джокер, пошлите все к чертям и жарьте сюда. Я вам устрою хороший десерт из черных красоток.
– Олл-райт!
Через час, в сотне метров выше фактории Роджерса, звонко застучали о каменистое дно брода несколько пар копыт.
Шесть джентльменов в сверкающих белизной пробковых шлемах, серых бриджах, серых рубашках, в желтых крагах, с кольтами на поясах.
Все шесть прекрасно сидели в седле и все шесть курили трубки.
Перебинтованный и замотанный Роджерс, вместе с Риббом, встретил прибывших и с грехом пополам умостился в седле своей лошади.
– В чем дело? – спросил его загорелый парень лет 28-ми.
– Плохо, кэптен! Не правда ли, я здорово разукрашен?
– Есть малость, старина; как фигура на картах.
– Это меня отделал черный, сильный, как дьявол. Дело вышло из-за девчонки.
– Есть! Отправляемся. Мы сделаем хороший соус из его мозгов к жареным гусеницам, а весь его женский штат пойдет на десерт.
Бинги не спал всю ночь. Он не мог бежать. Рана Таао приковала его к месту. Выстрел попал в легкое. Из горла шла кровь. Бинги целовал Таао, но она ничего не чувствовала; она металась в агонии и бредила ужасами прошедшей ночи.
Где-то на деревне уже стучали тамтамы, кудахтали куры. Разносились веселые голоса ребятишек.
Кое-где уже собирались идти на плантации. Вдруг по деревне пронесся какой-то человеческий вихрь. Три негра неслись к хижине, перегоняя друг друга.
Влетели в хижину и заговорили все трое. Бинги остановил двух и дал слово одному:
– Говори ты, Ябада!
– Бинги, спасайся немедленно! Шесть белых дьяволов и белый мокунджи из дворца Н’гакуру как бешеные несутся к нам. Приходили туругу и сказали, что они идут убивать тебя и хотят сделать из твоих мозгов соус к жареным гусеницам.
Таао захрипела, Бинги, сдерживая волнение, сказал:
– Хорошо, друзья, оставьте меня и скажите, что вы не видели Бинги, что вы с ним не говорили. Нет, лучше ничего не говорите. Вы видите, что сделал белый с дочерью Таманады, что сделал белый с лучшей девушкой вашего племени. Вы возьмете ее и отнесете к Лэттере к Сабанги.
Но негры не унесли Таао живой. Она, не приходя в сознание, изошла кровью и умерла. Негры молчали.
Шум на деревне рос. Деревня знала, что этот странный Бинги избил белого господина.
– Я скроюсь на берегу за слоновой зарослью. Там белые ничего не могут сделать, а у меня есть место, – сказал Бинги неграм. – Идите и не говорите ничего, а Таао отнесите к Таманаде и скажите ему, кто был виновником ее смерти.
На другом конце деревни послышались гиканье и крики.
– Они, – догадался Бинги.
Выскользнули из хижины. Негры с Таао пошли на север к реке, к племени Сабанги.
Бинги побежал вниз на запад, к морю.
С другой стороны хижины Бинги, почти в тот же момент, отскочило и бросилось в сторону криков и гиканья старое, пестрое, длинное существо. На его голове был нахлобучен меховой колпак с воткнутым вверху страусовым пером. Ноздри были пронизаны длинной костью. На шее – бесчисленное множество амулетов. В мочках ушей тоже какие-то костяшки и, наконец, расписанные красным и синим, серые от грязи брюки висели на его худых длинных ногах.
Это был Таратога, – главный колдун племени Н’гапу.
Совершенно случайно он подслушал эту важную весть. Его хижина была недалеко отсюда. Когда он проходил к себе от мокунджи, то увидел, как три пыхтевших от скорого бега негра вбежали к Бинги. В привычках Таратоги – все знать, и он подслушал.
Он понял, что за это дело он, с одной стороны – сможет получить много абсента и виски, а с другой – представлялся прекрасный момент, чтобы избавить себя и мокунджи от неисправимого смутьяна. Он знал, что белые заедут к нему и поэтому остановился на пороге своей хижины.
Таратога не ошибся. Белые подъехали к нему. Рибб слез с лошади и подвел негра к Роджерсу.
– Что ты знаешь сейчас о Бинги? Правда ли, что его тут нет? – спросил он.
– Таратога всегда знает очень много. Н’гакуру любит Таратога, но Таратога не хочет говорить здесь.
Пришлось Роджерсу слезть. В хижине Таратога сказал ему, что Бинги несколько минут назад удрал к слоновой заросли, в свое логовище. И что если они поедут по дороге, через рощу масленичных пальм, то смогут его догнать.
– Хорошо! Если ты сказал правду, то получишь достойное тебя, если нет, то тоже – по достоинству.
Восемь джентльменов прогалопировали через деревню и выехали на дорогу к слоновой заросли, о которой говорил им Таратога.
Бинги, не спеша, бежал по дороге.
Но Таратога показал белым путь, идущий наперерез. Путь масленичных пальм пересекал слоновую тропу и вот, в месте этого пересечения, преследователи заметили перебегающего Бинги.
Когда Бинги их заметил, то было уже поздно. Они нагоняли его; на их стороне – скорость лошадиных сил.
Забавное зрелище, – стадо диких слонов! Забавно оно тогда, когда вы зритель, а стадо на экране кино.
Недаром черные назвали это место слоновой зарослью.
В тот момент, когда несчастный Бинги уже выбился из сил, после проделанных десяти миль, в слоновой заросли шла свалка.
Два ярко выраженных слоновых самца претендовали на власть племени. Стукались клыки, раздавалось свирепое урчанье, в воздухе мелькали колоссальные серые массы и сверкали фонтаны брызг.
Один, самый большой слон, защищался от семи тоже не маленьких животных. Он забрел сюда дорогой, пристал и позволил себе вольности со слонихами. Племя не снесло такого оскорбления и яростно наступало на обидчика…
Преследователи только что хотели перейти с галопа на рысь и взять на мушку собаку Бинги, – но не убивать, а только ранить, – как вдруг увидели, что он страшным прыжком нырнул в заросли.
Роджерс выстрелил, но пуля попала не в Бинги. Бинги был уже по ту сторону дороги. Пуля попала в самца, удиравшего от разоренного стада.
Самец, от недоумения и боли, на мгновенье остановился, затрубил, затем резко повернулся и бросился на преследователей.
Восемь джентльменов решили, что им ничего не остается, как покончить с этим животным. Они дали по нему залп. Слон опять затрубил и за ним показалось бешено несущееся, ломавшее все на своем пути, стадо. Слон ринулся на белых, стадо – за ним.
Белые предпочли скрыться на узкой тропинке. О преследовании Бинги в таком аду нечего было и думать. Долго еще они слышали ужасный рев слонов и трескотню ломающегося леса…
Губы Бинги побелели. Но Бинги почти радовался; он был спасен. Теперь он мог добраться в племя Сабанги или в какое-нибудь другое и продолжать свое дело мести. Слоны спасли его.
Крупный лес кончился. Начался бамбук. Бинги решил пройти к берегу и искупаться. После 12-ти миль непрерывного бега под страхом смерти так хорошо выкупаться, а потом полежать на солнце и поваляться в песке.
Солнце стояло в зените и с моря тянул легкий бриз. Недалеко залаяла собака. Откуда собака? Бинги не вытерпел и, пересилив слабость, побежал.
Собачий лай приближался. Наконец, бамбук перешел в тростник, а затем кончился и тростник. Бинги выбежал к тихому песчаному берегу. В песке он увидел выброшенную приливом шлюпку. На шлюпке какую-то надпись. Бинги умел читать по-английски, но этих букв он не понимал. Он подошел ближе.
Из шлюпки ему навстречу выскочила худая, измученная собачонка. Она прижималась к земле, виляла обрубленным кончиком своего хвоста и жалобно смотрела на Бинги.
В шлюпке он увидел белого человека.
Бинги инстинктивно отпрянул назад. Нет! Он не будет связываться с белыми. С него хватит. Бинги повернулся и хотел уйти. Собачонка судорожно бросилась к нему под ноги. Она прыгала на него и но пускала. Бинги колебался. Белый человек в лодке вздохнул.
Бинги решился и подошел к нему. Бинги нагнулся и снял с пояса флягу.
Когда он подносил флягу ко рту белого человека, на его рубашке он увидел два значка и фляжка выпала из рук Бинги.
Бинги увидел красную звезду и портрет. Он знал эти раскосые глаза, эту улыбку, этот высокий лоб.
Глава третья,
или сто семнадцатая жена
– Убери своего верблюда, ленивая скотина! Или ты не видишь, что лошадь моего господина боится?
– А ты бы посоветовал своему господину не выписывать лошадей Аллах знает откуда. Местная не стала бы фордыбачиться.
Верблюд, на единственном горбе которого покачивалось что-то вроде площадки, употребляемой наездниками в цирке, стоял у подъезда белого как снег дома и, равнодушно поворачивая голову, с гордым презрением косился в сторону молодой лошади, выделывающей фортеля в оглоблях легкого кабриолета.
Человек, сидевший в кабриолете рядом с кучером, наблюдал верблюда с большим интересом. Собственно говоря – не верблюда, так как верблюды в Афганистане так же многочисленны, как собаки на улицах Москвы; а его сбрую, чрезмерно, даже, можно сказать, необузданно-роскошную сбрую. Охватывавший морду животного ремень, заменяющий обычные лошадиные удила, и тянувшиеся от этого ремня поводья, были разукрашены золотыми пластинками, и на местах скрепления, тяжелые золотые кисти свисали на морду и шею одногорбого урода. Площадочка на его спине была укрыта роскошным восточным ковром, а ремни, прикреплявшие ее к горбу животного, сверкали серебряными пластинками с вырезанными на них изречениями Пророка. Костюм погонщика, начиная с чалмы и кончая широким белым бурнусом, был сшит из тончайшего шелка. Все говорило о том, что владелец выезда безмерно богат и своим богатством любит хвастаться перед другими.
– Чей это верблюд? – спросил сидевший в кабриолете европеец своего кучера.
– Кому принадлежит этот одногорбый урод? – окликнул кучер погонщика.
Погонщик внимательно оглядел не блещущий новизной экипаж, презрительно скользнул глазами по волновавшейся лошади и, низко склоняя голову, в знак уважения к тому, чье имя он произносил, ответил за себя и за верблюда:
– Нашего господина зовут Чандер Рао Налинакша.
Сидевший в кабриолете европеец поморщился. С Налинакшей, крупнейшим купцом всего Афганистана, у него были дела, устраивавшиеся далеко не к выгоде владельца кабриолета… Пожалуй, лучше избегнуть ссоры с верблюдом такого крупного и безжалостного кредитора.
– Брось! – сказал европеец своему кучеру, видя, что тот намеревался продолжать спор. – Брось, я пойду пешком.
Но раньше, чем он успел поставить ногу на подножку экипажа, из-за поворота улицы вынырнул автомобиль, сразу положивший конец недоразумению. И лошадь, и верблюд, оба в одинаковой степени, испугались чудовища с огненными глазами и метнулись в сторону. Кабриолет покачнулся, вылезавший из него европеец нырнул под брюхо верблюда и сочно выругался…
Съезд на раут полпреда СССР был в полном разгаре.
У полпреда много неприятных и скучных обязанностей. Но из них – самая неприятная, это – обязанность принимать важных и нужных людей. Во время такого приема приходится все время быть начеку, следить за каждым своим словом и детально взвешивать и оценивать все качества собеседника. При этом, ни на одну минуту не надо забывать об обязанностях хозяина и старательно угощать гостей, нарочно с пустыми желудками приезжающих на такого рода вечера. Особенно трудна последняя обязанность на Востоке, где люди до крайности щепетильны в вопросах гостеприимства.
Арахан проделывал все полагающиеся церемонии. Он встречал гостей в дверях парадного зала – зала, выходящего в сад широкой тенистой верандой; отвешивал глубокие поклоны восточным гостям, крепко жал руки европейцев и с тоской подсчитывал, сколько еще приглашенных должны пройти мимо него.
Наконец, входная дверь в последний раз захлопнулась за каким-то жирным стариком в чалме, и Арахан направился на веранду. Здесь предстояла еще более трудная задача. На веранде стояло около дюжины маленьких столиков, сервированных к легкой закуске. Надо было обойти все столы, посидеть около каждого, точно учитывая, какому столику можно уделить десять минут, а какому за глаза довольно и пяти. В разговоре то и дело приходилось переходить с английского на немецкий язык, с немецкого перескакивать на французский, а между тем и другим вести короткие беседы на местном наречии. Слова путались в голове и минутами казалось, что на плечах не голова, а огромный арбуз, а вместо косточек – в арбузе разные слова почти всех языков мира.
Разговаривая, Арахан то и дело бросал взгляды на дверь внутренних комнат, откуда должна была появиться Женя и освободить его от половины работы.
У Жени в этот вечер было не меньше забот, чем у ее начальства. Это был первый раут, на котором она показывалась посетителям полпредства не как деловой секретарь полпреда, а как женщина и, волей-неволей, как хозяйка. Счастливые мужчины! У них для таких случаев форма одежды предписана законами хорошего тона. Идет или не идет к ним фрак – они его одевают, потому что так установлено. В отношении к женщине буржуазные обычаи поступили крайне жестоко. Они коротко обмолвились, – в таких-то случаях надевается вечерний туалет.
Вечерний туалет. Хорошее дело! В обычное время, вечерний туалет Жени состоял в том, что она, сбросив жавшие ноги ботинки, одевала старые стоптанные туфли. Теперь – дело иное. Так просто не выкрутишься.
На диване перед ней были разбросаны легкие полувоздушные тряпки и Женя, стоя посреди этого газового, шелкового и батистового хаоса, вела себя совсем странно…
Она не перебирала ткани руками, не ласкала ими свое лицо, словом, не проделывала всего того, что проделывают девушки из французских романов и героини Вербицкой, а просто сосредоточенно и довольно крепко ругалась, путаясь ногами в шлейфе какого-то дикого сооружения из кружев и атласа. Нет, эту дрянь она ни за что не наденет. Вот, эта, может быть, нырнула она в другую шелковую ловушку. О, черт! Оказалось, что это не платье, а одно декольте. На кой дьявол прислали ей эту дрянь? Что она будет делать со всем этим? К черту! к черту! к черту! Платье за платьем летели в угол комнаты, пока, наконец, одно, наиболее скромное не снискало благоволения. Женя быстро оделась, взглянула на себя в зеркало и осталась довольна. Затем достала из вазы несколько роз и быстрыми движениями приколола их к платью. Хорошо!
Теперь поправить прическу и… Удивительное дело! Обычно, Женя справлялась с прической в два счета. Но сегодня! Зеркало говорило ей слишком приятные вещи, чтобы она смогла так скоро расстаться с ним. Еще один локон. Еще один!..
Арахан в нетерпении не сводит глаз с двери, ведущей в Женину комнату. Ему обязательно нужно, чтобы кто-нибудь занял вон того толстого болвана в чалме. Женя могла бы сделать это. Почему она так долго? Что за чертовщина!
Арахан знал своего секретаря, товарища Женю, энергичную, умную и толковую девушку; довольно миловидную, всегда просто и со вкусом одетую. Но Арахан совсем не знал, что есть Женя-женщина, способная на одну лишнюю минуту задержаться перед зеркалом и продлить эту минуту за пределы часа.
И когда, наконец, она появилась в дверях и остановилась на пороге, разглядывая гостей, приподнявшихся ей навстречу, Арахан несколько мгновений не мог произнести ни слова; и когда, наконец, справившись с собой, сказал, обращаясь к присутствующим: – Господа, рекомендую. Мой секретарь! – то слова его звучали скорей вопросом, чем утверждением.
Чандер Рао Налинакша еще не стар. Ему недавно минуло сорок два года и он вступил в ту пору жизни, когда мужчина становится настоящим мужчиной.
У Чандера – большая, спадающая вниз черная борода, огромные, как ночь, глубокие глаза с темно-синим оттенком. Чандер Рао красив, но красота у него какая-то страшная, отталкивающая, и долго смотреть на него не то что невозможно, а неприятно. Неприятно также чувствовать на себе его пристальный и какой-то всегда оценивающий, всегда взвешивающий взгляд.
Это последнее испытала в сегодняшний вечер Женя.
Она уже полчаса беседовала со стариком, оказавшимся каким-то крупным хлопководом, вразумительно разъясняющим ей различные сорта хлопка. В эти полчаса глаза Налинакши не отрывались от нее.
Первое время она думала, что это простое любопытство восточного человека, – качество, которым на Востоке обладают поголовно все, – но мало-помалу убедилась, что следящие за нею глаза как-то слишком внимательно скользят по ее лицу и по складкам ее платья. Она пробовала поворачиваться спиной, боком, пробовала, наконец, сделать рассерженное лицо. Ничего не помогало. Чандер Рао Налинакша следил за каждым ее жестом, следил упорно и настойчиво…
Когда Арахан проходил мимо столика, за которым сидели старик и Женя, она остановила его и спросила, нарушая все правила хорошего тона, по-русски:
– Слушайте, что это за черномазая фигура, вон там, в углу?
Арахан удовлетворил ее любопытство, а Чандер Рао, заметивший, что разговор шел про него, отвел свои глаза в сторону. Через несколько минут Чандер Рао был в другом конце веранды и разговаривал там с каким-то низеньким толстым афганцем, одетым в уродливо сидевший на нем европейский костюм.
– Ты понял меня, Мустафа? – говорил толстенькому человеку Чандер.
– Понял, Рао!
– Все должно быть сделано быстро, ловко и тихо. Ни криков, ни сохрани Аллах, крови быть не должно!
– Я не маленький, Рао, можешь не беспокоиться.
– Иди!
Маленький толстый человек вышел из дома полпредства. Едва он показался у выхода, как к подъезду подкатил щегольский автомобиль. Человек сел в автомобиль, шепотом отдал какое-то распоряжение шоферу, и машина тронулась.
Проехав несколько улиц, автомобиль остановился. Толстый человек выскочил и свернул в один из переулков, а шофер продолжал свой путь.
В переулке было темно, так что в двух шагах можно было принять стену за человека, а человека за дерево. К темноте примешивалось несметное количество ям, камней и каких-то канавок. Среди всего этого хаоса свернуть шею было очень простым делом. Однако человек, выскочивший из автомобиля, шел совершенно уверенно, словно глаза его были глазами кошки, способной видеть в темноте: он ни разу не споткнулся, не налетел на камень и совершенно уверенно подошел к маленькому домику, ничем не отличавшемуся от любого соседнего. У дверей этого домика он постучал три раза, потом, через некоторый промежуток времени, еще три и, наконец, при третьем троекратном ударе, дверь отворилась и какая-то фигура осветила лицо стучавшего фонарем, поднятым дрожащей старческой рукой.
– Войди, Мустафа! Аллах да благословит твой приход!
Мустафа не замедлил последовать любезному приглашению и, сделав несколько шагов по коридору, очутился в комнате, наполненной такими ужасающими запахами, что даже привычный к ним человек должен был в первую минуту зажать нос.
Представьте себе небольшое помещение без окон, с одной-единственной дверью, занавешенной старым, рваным ковром. Представьте себе, что в этом помещении несколько десятков людей, лежа на полу, подложив под головы деревянные тумбочки, тянут из нескольких десятков трубок отвратительное снадобье, наполняющее комнату приторно сладким запахом. Представьте себе, что все эти люди невероятно грязны, что их лохмотья кишмя кишат насекомыми, что они по двое и более суток на шаг не выходят из комнаты, что от жары по их телам струятся потоки грязного и вонючего пота, что перекурившиеся извергают на пол потоки желтой жидкости, что плевки, наполненные страшным ядом, испаряются на черном полу, что сквозь дым, чад и полумрак лица людей кажутся совершенно желтыми, что одна-единственная лампа-коптилка освещает только фигуру худого, как скелет, грязного, как комната и страшного, как семь смертных грехов, человека, сидящего у двери и следящего за курильщиками. Представьте себе все это и вы представите курильню опиума.
Что тянет людей в этот ад, в этот притон? Что заставляет их отдавать все заработанные за день крохи за несколько трубок одурманивающего зелья? Что?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо взглянуть на тех, кто лежит на полу и отдается действию яда. Надо всмотреться в их истомленные голодом и работой лица, надо прощупать на их телах шрамы, нанесенные ударами войск и полиции, надо взглянуть на мозоли их загрубелых пальцев.
В курильни опиума людей гонит вековечное рабство, беспросветное угнетение и полная безнадежность. В сладком сне они забываются от горькой жизни, а очнувшись от этого сна, превращаются в обезволенных маньяков, бессильных бороться, неспособных восстать. Вот почему европейцы так усердно поддерживают распространение этой отравы в покоренных ими частях Азии.
Мустафа недаром пришел в эту страшную дыру. Мустафа отлично знал, что здесь он найдет нужных ему людей. Достаточно обратиться к караулящему у дверей хозяину и тот вам доставит покорных и честных исполнителей для любого дела. В курильнях опиума всегда есть люди, готовые пойти на все, чтобы иметь возможность заплатить за лишнюю трубку курева. Ради опиума, ради счастья погрузиться в сладкие грезы уставший от жизни человек отдаст все, продаст себя в вечное рабство.
Таких людей искал здесь Мустафа и таких людей привел ему сгорбленный и полуслепой от старости хозяин курильни.
Санди, Рагор и Миндра.
Так звали этих людей.
Ну и молодцы это были! На лице каждого, словно на пластинке фотографического аппарата, запечатлелись все человеческие пороки. У Санди не было одного глаза и половины левой щеки, причем уцелевшие части лица покрыты были какими-то темно-лиловыми нарывами, местами переходившими в желто-синие язвы. Волосы, редкие и какие-то бесцветные, росли пучками, как кустарник в степи, а нос раздулся огромной картошкой, испещренной синеватыми жилками. Рагор отличался полным отсутствием лба и провалившимся в пропасть греха и разврата носом, а Миндра имел на своем лице столько шрамов, что совершенно нельзя было определить, чем он видит, говорит и ест.
Мустафа слегка поморщился, разглядывая эти три грации, вынырнувших из мира наркотических видений и преступления.
– Дело есть! – коротко сказал он.
Санди промычал в ответ что-то похожее и на утверждение и на вопрос. Рагор шмыгнул провалом носа, а Миндра издал свистящий звук.
– Сейчас получите вот это, – подбросил Мустафа на ладони несколько золотых монет, – а когда все будет сделано, то еще столько же. Поняли?
Трое опять ответили какими-то неопределенными, нечленораздельными звуками.
– А дело ваше будет заключаться вот в чем. Пойди прочь, ты, – цыкнул он на не в меру любопытного хозяина. – Поди прочь!
Толстое лицо Мустафы и отталкивающие рожи трех преступников приблизились друг к другу и долго прерывистый шепот дразнил любопытство хозяина курильни.
Верховую езду Женя любила с детства. В этом отношении она прошла ту простую, но хорошую школу, в которой, вместо разговора о развернутых коленях и ввернутых носках преподается правило: держись так, чтобы ни один черт тебя не сбросил.
В восемь лет она уже умела мчаться на неоседланной лошади по степям Туркестана, а в двенадцать – проделывала на спине скакуна все те фокусы, которые раскрашенные старухи демонстрируют, к удивлению ничего не смыслящей толпы зрителей, на смирных, как щенки, манежных лошадях. И, притом, в большинстве случаев, без седла.
Женя отлично знала, что седло – вещь далеко не такая приятная, как кажется. Она знала, что неоседланный конь более удобный, приятный и спокойный способ передвижения. Главное – привыкнуть к езде без седла на рыси. А что касается галопа, карьера и тому подобных «страшных», с точки зрения обывателя, вещей, то они совершенно невинны, когда вы своими ногами обвиваете свободную от седельного сооружения лошадь.
Опять-таки, стремена. Только полный невежда может думать, что со стременами дело легче и безопаснее. Кто знает верховую езду, тот знает, какими неприятностями грозит стремя человеку, не овладевшему трудным искусством езды в седле.
Поэтому Женя была крайне огорчена, когда Арахан сказал ей, что в настоящем своем положении она без седла выезжать на прогулки не может и единственное, что утешило ее, – это прекрасный костюм, делавший ее похожей на героиню Джека Лондона, писателя, которому Женя уделяла большую часть своего свободного от занятий времени.
И сегодня, готовясь к своей обычной прогулке, она с удовольствием натягивала прекрасные бриджи, надевала американскую рубашку, завязывала галстук и прятала непокрытые волосы под поля стетсона. Сегодняшняя прогулка обещала быть очень интересной. Она подробно разузнала о том, что неподалеку от города находятся развалины древнего храма Солнца и собиралась их навестить.
Когда она вышла на крыльцо, ей подвели прекрасную полукровку. Она легко вскочила в седло и чуть тронула каблуками бока лошади. Лошадь сразу пошла хорошей легкой рысью, но песок улицы утомлял животное и Женя легким движением поводов перевела его на шаг.
Подъезжая к окраине города, Женя подумала о том, что не худо было бы еще раз проверить дальнейшее направление пути и искала глазами кого-нибудь, у кого можно спросить об этом. Улица, однако, была пуста и только мальчишка в тюбетейке и одной рубашонке копался в песке около маленького грязного домика. Отлично зная, что мальчишки – народ наиболее осведомленный во всем, что касается всякого рода развалин и других мест для лазания и пряток, она поманила его к себе и, сунув ему в руки мелкую монету, попросила показать дорогу.
Мальчишка, обрадованный монетой и тем, что эта странная женщина в мужском костюме говорит на родном ему языке, охотно дал требуемые сведения и, через секунду, лошадь Жени галопом шла по пыльной дороге.
Мальчишка долго смотрел ей вслед а когда повернулся, то увидел перед собой лицо, такое страшное, какое бывает только у шайтанов. Обладатель этого лица схватил пытавшегося удрать мальчишку за руку и голосом, свистевшим, хрипевшим и шипевшим, как сотня простуженных граммофонов, спросил:
– Куда поехала женщина?
– К храму Солнца, – послышалось в ответ сквозь слезы испуга.
– К храму Солнца!
Человек отпустил мальчишку. Мальчишка мгновенно исчез в воротах одного из домиков, а человек свернул в переулок.
Через несколько минут из переулка выехали трое людей на верблюдах и погнали животных в том направлении, в котором уехала Женя.
Лица у этих людей были такие, что, увидев их один раз, уже нельзя было забыть всю жизнь. А так как ты, читатель, уже видел однажды обладателей этих лиц, то сразу узнаешь в них Санди, Рагора и Миндру.
Развалины храма Солнца лежали верстах в пяти за городом. Много, много столетий тому назад, как говорили местные предания, тогда, когда люди не молились еще великому Аллаху, когда Магомет, принесший правоверным их учение, еще не жил на земле, могущественный царь, чьи владения простирались далеко на восток и запад и в чьих владениях никогда не заходило солнце, построил этот храм. Бесконечное количество богатств пошло на постройку этого храма. Согни тысяч рабов таскали тяжелые камни, из которых складывались его стены, караваны за караванами привозили из отдаленнейших окраин царства, мрамор и малахит, самоцветы и яшму. И вот, когда храм был почти готов, рабы, работавшие над его постройкой, взбунтовались.
Бунт был усмирен быстро и жестоко и сотни тысяч непокорных были принесены в жертву богу Солнца при освящении нового храма.
С тех пор ходила сохранившаяся и по сие время легенда о том, что тени этих рабов бродят в развалинах храма и по ночам громко взывают о мести.
В дни народных волнений, в годы национальных войн, никогда не утихавших в Афганистане, развалины этого храма служили местом тайных сборищ, заговоров и складов оружия. В горячих боях и схватках между восставшими и усмирителями развалины не раз переходили из рук в руки, и то, что не успело сделать время, сделали пули, ядра и динамитные патроны. От некогда величественного и роскошного храма остались одни развалины.
Но все-таки, храм поражал непривычный к нему глаз. Редкие уцелевшие колонны пугали своей вышиной и массивностью; кое-где сохранившиеся стены были покрыты странными кабаллистическими узорами, тут и там попадались уцелевшие своды подземных ходов; в намеченных фундаментом залах высились еще жертвенники, высеченные из сплошного камня, вероятно, те самые, на которых пролили свою кровь рабы, восставшие при постройке.
Каменные изображения крылатых быков и полульвов-полутигров виднелись на карнизе кусками, висевшими между некоторыми колоннами. Огромные бассейны, выложенные мрамором, теперь поросли травой и кишмя кишели всеми гадами, водящимися в пустынях Азии…
Женя несколько раз объехала вокруг развалин, потом выбрала часть, менее поддавшуюся разрушительному влиянию времени, и, соскочив с лошади, привязала ее к кустарнику, выбивавшемуся между гигантских плит. Сделав это, она вынула из кармана блокнот и карандаш и стала зарисовывать внешний вид храма. Затем она вошла во внутрь развалин, останавливаясь у каждой колонны, каждого барельефа, каждой надписи на стене. Она впитывала в себя ароматы прошлого, жила запахами легенды и с увлечением заносила на бумагу все мелочи, поражавшие глаз.
Мало-помалу она забралась в самую глубь обширных развалин и нырнула в отверстие какого-то подземного хода.
И в ту минуту, когда она хотела войти в открывшееся перед ней подземелье, до ее слуха донеслось ржанье лошади. Испуганное, нервное ржанье.
Женя поспешно вышла обратно и, перепрыгивая через камни, почти побежала к тому месту, где оставила лошадь. Не успела она сделать нескольких шагов, как из-за одной колонны, преграждая ей дорогу, выступили три человеческих фигуры с лицами, закрытыми белыми капюшонами накинутых на плечи плащей.
Несколько минут все четверо стояли, не двигаясь и разглядывая друг друга. Женя силилась понять, что это могут быть за люди. Санди, Рагор и Миндра раздумывали, на кой черт понадобилась Налинакше эта женщина в мужском костюме. Наконец, Женя сделала движение, словно приказывая им расступиться, и тогда один из них, преграждая ей дорогу, сказал:
– Ты должна ехать с нами! Так сказал Чандер Рао.
Чандер Рао! Женя вздрогнула. Перед ней встали темные, как ночь, глаза длиннобородого человека, неотступно преследовавшие ее вчера вечером. Она поняла их взгляд, она поняла, зачем здесь перед ней эти люди и…
В руке Жени блеснул маленький браунинг. Человек, стоявший прямо перед ней, мгновенно нагнулся, а другой быстрым движением сильной руки обезоружил девушку. Потом кто-то сзади накинул ей на голову мешок.
Она билась, кричала, кусалась, но ее зубы хватали только грязную и грубую ткань мешка, ее крики терялись в этом мешке, как в темнице, а ее барахтанья были бессильны против железных рук, поднявших ее на воздух и понесших куда-то.
Куда? – она не знала.
Лошадь Жени прибежала домой к обеду. Испуганный и удивленный Арахан поднял на ноги весь город, а далеко за городом, в песчаном море мчались три верблюда, на горбе одного из которых всадник придерживал странную продолговатую ношу, завернутую в мешок.
Вдалеке от значительных центров, около маленькой деревушки, раскинулись хлопковые плантации Чандера Рао Налинакши. Куда ни кинешь взглядом, везде его земли, его поля.
В центре этого обширного хозяйства расположена резиденция господина и властителя многих сотен рабочих. По своему внешнему виду главный дом этой резиденции, в котором живет сам Рао, впрочем, не живет, а только изредка наезжает, мало чем напоминает обычные дома восточных купцов. В его архитектуре сказывается рука европейского художника, и дом не столько выдержан в восточном стиле, сколько нарочито стилизован. Его резные входы, купола и башенки представляют собой пеструю смесь всех знаменитых дворцов и мечетей; а его внутренние комнаты мало чем отличаются от комнат любой европейской виллы. Правда, большой парадный зал покрыт восточными коврами и уставлен мягкими, нагоняющими лень и сон тахтами, но дальше, за этим залом, в деловых комнатах, все – по-европейски, даже по-американски. В кабинете самого Налинакши американское бюро, вращающиеся этажерки и телеграфный аппарат. От Востока здесь остались только мягкие ковры да приспособления для курения кальяна. В столовой – мебель, сделанная по рисункам лучших германских конструкторов, рядом со столовой прекрасно оборудованная биллиардная окончательно убеждает вас в европейских вкусах хозяина.
Если в вашей деловой работе вы сумели стать необходимым Чандеру Рао, и если ваше знакомство ему полезно и нужно, то приглашение провести пару-другую дней в его дворце не замедлит последовать. И все время, пока вы будете гостем Чандера, он изо всех сил будет стараться убедить вас в своей полной европеизации. Вы увидите прекрасную коллекцию марок, которую собирает этот азиатский купец; вы будете наслаждаться картинной галереей, состоящей из крайне редких экземпляров, в большинстве эротического содержания; вы залюбуетесь тщательно и со вкусом подобранными трубками и напрасно будете хвалить одну из них, особенно вам понравившуюся, в надежде на то, что хозяин, согласно восточным обычаям, насильно всунет ее в карман вашего смокинга. Ничего не поможет! Перед вами Чандер Рао будет выдержанным европейцем и к обеду, – разочарование! – выйдет в безукоризненном фраке.
Прогостив у него достаточное, по законам приличия, время, вы уедете в удобном шестиместном автомобиле и разочарованно будете рассказывать знакомым, как вы напрасно пытались разглядеть восточного деспота под костюмом и манерами европейца.
А между тем, восточный деспот был все время около вас и, так только вы уехали, скинул проклятое одеяние, сшитое у лучшего лондонского портного, и облачился в роскошный халат и чалму. Потом смазал благовониями свою роскошную бороду, позвал молчаливого слугу и, заставляя его раскрывать перед собой двери, проследовал через анфилады комнат туда, где за тяжелыми, спущенными с потолка тканями скрывалась массивная чугунная дверь.
Здесь он оставил слугу и, вынув из складок своих шаровар огромный ключ, повернул его в плохо смазанном замке. Замок скрипнул, дверь отворилась и Чандер остановился на пороге, любуясь открывшейся перед его глазами картиной.
Теперь он был в маленькой ложе, устроенной так, что, невидимый для других, он мог видеть все и смотрел, как, не подозревая о его присутствии, сто шестнадцать женщин плескались в огромном мраморном бассейне.
Кого-кого только не было в этой голой, визжащей, барахтавшейся, возившейся с бесстыдством, которое дает уверенность что никто их не видит, толпе женщин. Француженки и немки, англичанки и дочери Ирландии, блестевшие, как хорошо начищенные сапоги, негритянки, итальянки с черными глазами, индианки, китаянки и японки, женщины Персии и Кавказа, светловолосые и сильные норвежки. Это была коллекция, собираемая с любовью и знанием дела, постоянно обновляемая, коллекция живая, хохочущая, возившаяся в серебряных брызгах полной благовония воды. Эту коллекцию Чандер Рао никому не показывал.
Вы могли быть не только нужным ему человеком, вы могли быть его другом, его близким родственником, человеком, спасшим ему жизнь, братом и больше чем братом, и все-таки вы не получили бы доступа в гарем, где сто шестнадцать женщин были собраны для удовлетворения его необузданного восточного темперамента.
Только слухи ходили о гареме Чандера, только завистливые разговоры об этой, единственной в мире, наиболее полной и удачной коллекции, одним из главнейших достоинств которой было то, что самой старшей из всех жен Рао было всего семнадцать лет.
Только сам Чандер да немногие посвященные в дело люди знали, как набиралась эта коллекция. У Чандера был принцип – не покупать. Товар должен был быть украден для него, и за это он платил ворам крупные суммы. И товар, по прибытии во владения Чандера, не должен был быть старше двух лет. Жертвы его сластолюбия выращивались в гареме, под его неусыпным надзором, а по достижении восемнадцати лет снабжались крупной суммой денег и отправлялись на все четыре стороны. Впрочем, последнее в том случае, если они вели себя хорошо и гарантировали своим поведением отсутствие каких бы то ни было претензий к похитителю. В противном случае, каждая почему либо возбудившая подозрение пленница гарема, достигнув восемнадцати лет, просто-напросто, в один прекрасный день бесследно исчезала.
Таким путем Чандер поддерживал свою коллекцию в постоянно свежем состоянии и только одно обстоятельство мучило его сознание. Среди собранных им экземпляров не было ни одной русской.
Последний экземпляр этой национальности «выбыл из строя» накануне семнадцатого года и с тех пор Налинакша не решался брать в свой гарем женщин страны, в которой жены вместе с мужьями работали в учреждениях, управляющих жизнью государства. Кто ее знает, какие беды могла натворить большевичка в его тихом гареме.
Как случилось, что, увидев Женю, он забыл о своем принципе не брать в гарем взрослых, Налинакша не знал. Красота этой золотоволосой девушки пробудила в его восточном сердце страсть, заставившую разум отступить на второй план. В первый же момент он сказал себе:
– Эта женщина будет в моем гареме!
А раз Налинакша сказал…
Короче говоря, когда Женю освободили от окутавшего ее мешка, она увидела себя в огромной восточной комнате, в кольце ста шестнадцати пар глаз, с любопытством разглядывавших новенькую.
Одна женщина с особым волнением изучала Женю. Женя сразу поймала на себе пристальный взгляд двух черных глаз и выделила из толпы других маленькую женщину восточного типа с двумя тяжелыми косами, падавшими до самых икр смуглых ног.
Эта женщина была Фатьма, любимейшая жена Чандера Рао. Фатьма находилась в том возрасте, когда восточная женщина является наиболее полным воплощением женственности, в том возрасте, который стоит на самой грани неумолимой и печальной старости, в возрасте полной зрелости, полного расцвета. Фатьме было четырнадцать лет.
Я не смеюсь и не иронизирую, о читатель! На Востоке женщина не знает того переходного периода, который у нас называется девичеством. На Востоке как-то сразу из девочки-ребенка вырастает женщина, полная жизненных сил, раскрывающаяся для любви и страсти. Перед ней сразу открывается вся жизнь. Будущее кажется ей бесконечно прекрасным, полным молодости, сил и здоровья. Рано вступая в пору зрелости, она кажется счастливее своих европейских подруг, у которых жизнь крадет еще несколько лет. Да, она кажется счастливее и, увы, только кажется. Едва почувствует она первое набухание груди, едва ее одежды первый раз окрасятся каплями крови, алыми вестниками зрелости, как гарем, безжалостный восточный гарем, схватит ее в свои объятия и примется за свою разрушительную работу.
Гаремная жизнь! Вот учреждение, ярче всего рисующее вред безделья, вред отсутствия умственной и физической работы. День за днем протекают в бесконечном однообразии, в пожирании несметного количества вязких и пряных восточных сладостей, в ссорах или нежничаниях с подругами, в долгом сне, переходящем в хроническую сонливость. Мышцы начинают обрастать слоем жира, кожа дряблеет и сморщивается, съеденные сластями зубы крошатся и чернеют, мозг тупеет от полного отсутствия умственного напряжения, и два-три года такой жизни превращают женщину в старуху. И повелитель ее гарема, заметив первые морщины, лениво отдает приказание:
– Убрать!
Фатьма еще не познала всего этого, она только год провела в гареме Чандера и, окруженная ласками и заботами влюбленного в нее самодура, черпала полными пригоршнями удовольствие роскошных нарядов и диковинных сластей. Драгоценности, переданные в ее полное распоряжение, еще не наскучили ее маленьким ручкам, и ее пальцы еще любили перебирать самоцветные камни, спрятанные в ларьке из красного дерева. Чувство жизни, уменье любить жизнь еще не покинули ее.
И сегодня из всех женщин одна Фатьма искренне интересовалась вновь прибывшей. Остальные быстро удовлетворили свое любопытство, ощупав Женины бриджи, попробовав мягкость выбившихся из-под стетсона волос и отошли со скучающим видом, кто – валяться на мягких коврах и подушках, кто – плескаться в бассейне. Фатьма осталась наедине с таинственной незнакомкой в мужском костюме.
Она внимательно исследовала ее мягкие высокие сапоги, сняла и повертела в руках шляпу, тронула стек, погладила затянутые в перчатки руки. Женя позволяла ей все это, в свою очередь, с любопытством и восхищением разглядывая этот образчик гаремного зверька.
Наконец, Фатьма почувствовала, что для полного удовлетворения мучившего ее любопытства необходимо кое о чем порасспросить золотоволосую незнакомку, и уже открыла было рот, как вдруг сообразила, что чужестранка не поймет ее языка. На лице Фатьмы выразилось глубокое огорчение, и она знаками пыталась объяснить Жене, что хотела бы знать – сколько ей лет.
Женя улыбнулась и спокойно сказала:
– Спрашивай меня! Я все понимаю!
На минуту Фатьма так и застыла с полуоткрытым от удивления ртом, потом пришла в себя, схватила Женю за руку и потащила ее на край бассейна, к возвышению, устроенному из сваленных в кучу подушек и ковров.
Здесь она уложила Женю и начала сыпать вопросами. Ответы поражали, казались совершенно невероятными; многие понятия требовали объяснений и разговор затянулся Некоторые из женщин подошли к ним, остановились, удивленные тем, что эта девушка свободно говорит на понятном им наречии, и приняли участие в беседе.
Это был своеобразный вечер вопросов и ответов в гареме. Едва только Женя рассказала им о своей работе, как градом посыпались вопросы о России, о русских женщинах и в ответах на эти вопросы Жене пришлось прочесть целую лекцию по истории женского движения и рассказать о происхождении советской власти. Слушательницы были поражены. Они никогда бы не поверили всему этому, но Женя, с ее мужским костюмом и независимым видом, была живой иллюстрацией рассказа.
Все-таки были и недоверчивые. Были такие, которые решили, что девчонка просто хвастает и что при первом столкновении с гаремным режимом вся ее хваленая независимость полетит к черту, и она окажется такой же бабой, как все они; да вдобавок еще бабой хвастливой. Поэтому, когда в дверях комнаты показался евнух, лица многих искривились двусмысленными улыбками и сто шестнадцать жен Чандера, не исключая и Фатьмы, отошли в сторону и наблюдали, как новая добыча их повелителя будет усмирена роскошью наряда и парой-другой драгоценных камней.
Впрочем, то, что они увидели в руках у евнуха, превзошло все их ожидания. Даже привыкшая к роскоши Фатьма вздрогнула от восторга. Таких тканей, таких красок она еще никогда не видела среди подарков Чандера. Это была шелковая поэма, пенящаяся, горящая всеми оттенками радуги. И вдобавок, сверху пышной шелковой груды, падая до земли, змеились золотые и жемчужные цепи, меж которыми сверкали красные, как кровь, рубины и горели алмазы величиной с грецкий орех. Какая женщина устоит перед этой роскошью!
Раз уж мы попали в гарем, то нельзя нам с вами, читатель, пройти мимо обязательного гаремного обитателя – евнуха. Евнух – это не просто страж нескольких десятков женщин, заключенных в роскошную темницу, не просто слуга, обязанный присматривать за гаремными порядками. О нет, – евнух гораздо больше; он фактический властитель всех вверенных ему женщин; шпион, соглядатай, от которого не укроется ни одна тайна, ни один секрет, ни одно шепотом сказанное слово. Он знает тайные помыслы всех жен своего господина, он держит в руках нити всех гаремных заговоров и интриг. Одного его слова достаточно, чтобы погубить любую, даже самую любимую и красивую затворницу. Подозрительный, ревнивый и деспотичный хозяин, не имея возможности лично наблюдать за всем, что творится в женской половине его дома, волей-неволей должен верить евнуху, как своим собственным глазам и ушам. И нередки случаи, когда совершенно неповинная женщина, и притом женщина, пользовавшаяся особым расположением господина и повелителя, шла на мучения, а иногда и на смерть, по ложному доносу толстого скопца, обиженного недостаточным с ее стороны вниманием.
Пользуясь этим, евнух требует от женщины гарема неограниченного подчинения малейшим его капризам и его грязным похотливым желаниям человека, утратившего способность удовлетворения, но не потерявшего и даже еще более развившего свое сладострастие. Евнух человек, отдавший в жертву господину и гарему свой пол, превративший себя в обезличенное, серое существо, потерявший право на местоимение «он», донельзя нелепый и жалкий со своим ожиревшим, как у женщины, телом и лишенным растительности, лицом. Он существо низшего порядка, бесполое полуживотное, не лишенное, однако, разума, разума, ожесточенного на тех, ради кого он обезличился. Гарем и хозяин – вот то, что он ненавидит всеми фибрами своей мрачной души, души скопца-сластолюбца. Служа им обоим, он им обоим мстит; мстит на каждом шагу, при каждой возможности. Он никогда не забудет пинка, полученного им от повелителя. Он никогда не забудет циничной и злой шутки одуревшей от скуки женщины, он все это сложит в дальний ящик своей памяти и, при первом удобном случае, заварит такую кашу, что и повелитель и гарем несколько дней подряд будут жить в кошмаре ревности, грызни и побоев.
Он ничего не может сделать силой или открытой злобой. Слабый, как женщина, забитый и обиженный, он только исподволь, потихоньку, из-за угла, может наносить свои удары. Поэтому он должен быть вкрадчиво-мягким, приторно-вежливым, внешне незлобивым и неопасным. Из поколения в поколение, от евнуха к евнуху передаются веками выработанные нормы поведения, неписанные, но непреложные законы касты. Веками вырабатывается тип евнуха.
Неслышные кошачьи шаги, вкрадчивый и мягкий голос, полная покорность перед всякими ударами судьбы, готовность услужить всем и всегда, отодвигание себя на второй план и разговор о себе не иначе, как в третьем лице, а за всем этим, – постоянная настороженность, вечное обдумывание очередных пакостей, очередных историй.
Все это накладывает на евнуха чисто внешний отпечаток. Он ходит чуть-чуть согнувшись, на ходу присматриваясь и прислушиваясь, всегда потирает руки, как человек, разговаривающий сам с собой. На его лице одновременно выражаются несколько мыслей, и оно является воплощением неискренности и лживости. Он вздрагивает и настораживается при малейшем шорохе и громко сказанном слове, он съеживается и как бы подставляет спину для удара, когда в разговоре с ним повышают голос. А в общем и целом, он отталкивающе противен и напоминает скользкую извивающуюся змею.
Женя разглядела евнуха только тогда, когда он, подойдя к ней и не опуская из рук нарядов и драгоценностей, приветствовал ее низким поклоном и словами:
– Мой повелитель, любимый сын Пророка, Чандер Рао Налинакша шлет тебе эти подарки, о женщина, и приказывает надеть их.
– Что? – вскинула глазами Женя и увидела сморщенное лицо, лишенное всякой растительности, с отвратительным подобием улыбки на нем.
– Что? – повторила она. – Какой такой повелитель!
И не удостоив евнуха дальнейшим разговором, повернулась к нему спиной.
Евнух вздохнул и, обойдя тахту, на которой сидела Женя, появился с другой стороны:
– Мой господин и повелитель, возлюбленный сын Пророка, Чандер…
Женя перебила его на полуслове.
– Не трепись, – крикнула она евнуху по-русски и тотчас лее перевела свои слова на понятный ему язык. – Пойди к шайтану с твоим повелителем и твоим Пророком. Да, кстати, прихвати с собой эти вонючие тряпки.
Евнух почтительно выслушал всю эту тираду и продолжал:
– Мой господин и повелитель, о женщина, не допустит такого поведения в своем гареме. Мой господин и повелитель, о женщина, осчастливил тебя своим вниманием и ждет от тебя…
– Что? – Женя вскочила на тахте во весь рост и стояла, сжимая в руках стек. – Что? ты учить меня собираешься, бесполая обезьяна?!
Это было слишком. Евнух побледнел от нанесенного ему оскорбления. Сто шестнадцать жен Чандера Рао Налинакши сдвинулись ближе, стоя в прозрачной воде бассейна, на самом краю которого евнух держал перед белой женщиной роскошные подарки.
– Мой господин и повелитель отныне и твой господин и повелитель, – вразумлял евнух непокорную. – Он возвеличит тебя, если ты окажешь ему должное внимание, и он покарает тебя…
– А? – Женя сделала шаг вперед. Евнух невольно отодвинулся и с трудом удерживал равновесие на самом краю бассейна.
– А? Кто покарает меня? Что ты сказал? Слушай, ты, безусая баба. Я считаю до трех. И если ты не уберешься вовремя, то… Раз…
Евнух съежился, предчувствуя неприятную развязку, но, боясь потерять свой престиж перед следившими за происходившим женщинами, не трогался с места.
– Два!
Евнух жалко покрутил головой и заморгал глазами.
– Три!
Обтянутая тонкой кожей высокого сапога нога Жени вытянулась вперед, выбила из рук евнуха ворох тканей, которые, как яркие птицы, порхнули в воздухе и упали в воду, задела подбородок евнуха, и страж гаремной невинности последовал за шелком, камнями и золотом…
Того, что последовало за этим, Женя, по правде сказать, не ожидала. Она не рассчитывала на тот эффект, который произведет вся эта история.
Не прошло и получаса, как в двери гарема вошел евнух, сопровождаемый несколькими слугами. В руках у слуг были длинные бичи. Они шли заказывать дерзких.
Такие наказания не редкость в гареме. Обычно женщины покорно принимают их, как должное, и спокойно отдают свое тело в руки палачей. Но сегодня дело было иное. Едва евнух и слуги переступили порог гарема, как женщины повернулись им навстречу, сбились в кучу и приготовились к защите. Женя быстро оценила момент и, спрыгнув с подушек, позвала Фатьму и с ее помощью надела на себя костюм. Второпях она не заметила, как приколотый к рубашке портрет упал на землю и как Фатьма, подняв его, заколола свою чадру.
Увлекая за собой Фатьму, Женя вырвалась вперед и бросилась навстречу палачам. Сто пятнадцать женщин как одна последовали за ними. Слуги и евнух были смяты в одно мгновение и даже не пытались защищаться. Гнев придавал женщинам нечеловеческую силу. Две из них подхватили кричавшего в отчаянии евнуха, сдернули с него одежды и понесли его к одному из столбов комнаты. Там они его подняли на высоту человеческого роста и кусками шелка прикрутили так, что он едва мог дышать. Слуг разложили на мягких коврах и вернули им все полученные когда-либо удары. В довершение, одна из более догадливых нырнула на дно бассейна и там закрыла выходное отверстие, обрекая дом Налинакши на потоп.
Сделав все это, женщины бросились к выходу и разбежались по саду и комнатам дома, а частью выбежали и за пределы фактории.
Несколько минут спустя у ворот фактории послышался троекратный рев автомобиля.
Чандер Рао Налинакша вернулся в своя владения.
Повелитель ста шестнадцати жен стоял в дверях гарема и смотрел, как слуги возвращали беглянок. Были пойманы все. Некоторые из них шли, виновато опустив глаза в землю и не смея взглянуть на своего господина, который методически отсчитывал удары на телах пойманных. Некоторые сопротивлялись и их несли, перекинув на плечо, как мешки с хлопком.
Часть причитала, проклиная глупую чужестранку, устроившую всю эту кашу, часть бросала ругательства в лицо Чандера и его слуг. Сам Чандер, внешне спокойный, внутренне бесновался и ждал того момента, когда слуги доставят ему эту проклятую большевичку, чтобы расправиться с ней.
Однако, ни Жени ни Фатьмы не было. Сто пятнадцать жен были водворены на свои места, сто пятнадцать ударов нанесла рука Чандера, а о двух главных зачинщицах не было ни слуху, ни духу. Чандер бесновался, рассылая все новых и новых слуг, и только к вечеру один из них вернулся усталый и запыленный, чтобы сообщить, что беглянки скрылись в великих джунглях.
Налинакша молча выслушал его и решительным голосом отдал приказание.
Через пять минут четыре самых лучших коня были выведены из конюшни, и четыре всадника отправились на них по направлению к границе Индии.
Глава четвертая,
в которой репортер сходит с рельс
Главный колдун Нью-Йорка не имел причин быть недовольным.
Главный колдун Нью-Йорка, мистер Чарльз В. Лоув сделал хороший бизнесе для себя и для своего коллеги – главного колдуна Канзас-Сити. Но, очевидно, это не помешало ему получить таинственное письмо из Тексаса.
Август, 21, 1928.
Тревожный месяц.
Неделя неудач.
Безнадежный день.
М-ру Чарльзу Лоуву.
Главному колдуну.
Дорогой Чарли, выезжай немедленно, есть горячие дела и хорошая охота.
С наилучшими пожеланиями остаюсь в святом и ненарушимом союзе
Гарри Б. Террель, главный колдун клана 86.
М-р Лоув потерял письмо и уехал на запад. Письмо нашел в коробке сигарет «Янки Дудль», в Атлетик-Клубе, Дикки Ред.
Прямо из Атлетик-Клуба Дикки отправился домой.
В три часа в контору Армаур-Стар-Компани, Уолл стрит 199, явился человек с сединой, говорившей о положительных сторонах характера, и с сухостью в фигуре, указывающей на его деловые способности и военное прошлое.
Человек представился, как богатый фермер, полковник Уильям Ричвуд из Тексаса, и сказал, что он имеет важное поручение от Чарльза Лоува.
Полковника Уильяма Ричвуда принял вице-президент треста, с брюшком, подтверждавшим содержание рекламы в «Нью-Йорк Геральд» об окороках Армаур-Стар.
– Что скажете, м-р Ричвуд, какая погода в Тексасе и сколько тысяч голов вы нам предлагаете?
– В Тексасе прохладно, пустячки! Не больше тридцати градусов в тени. Скот превосходен и мои быки, смею вас уверить, стоят быков Блока с Рио-Гранде.
Но, уважаемый м-р Уотч, я хотел бы говорить о вами не только о погоде и быках. Я получил от Чарли наказ зайти к вам и осведомиться, не дадите ли вы какого поручения в Тексас?
– Хорошо, м-р Ричвуд, но я, правда, не знаю, у меня ничего нет для ваших друзей. Если вы будете иметь честь поговорить со мной о скоте или о жаре на западе, то я весь к вашим услугам.
Уильям Ричвуд поблагодарил Уотча и вышел из конторы треста. Он пошел по Бродвею, а потом взял машину и поехал в редакцию «Дейли Воркер».
В этот же день Уотч пришел в скверном настроении духа в приемную своего секретаря.
– Что за расхлябанность, м-р Брокмен, куда завалился секретный протокол нашего последнего совещания?
Брокмен посоветовал Уотчу после обеда выпить стакан виски с содой.
– Хорошо действует, даю слово! – и дал Уотчу копию с протокола, которым тот интересовался.
Но у м-ра Уотча было полное тело, дом на Пятой авеню и жена. Поэтому думать долго ему доктор запрещал. Человеку, который не хочет преждевременно приобрести место постоянного жительства в мавзолее, вредно много думать, много работать и много… Но ел м-р Уотч много. Что поделаешь! Каждый человек потеет по-своему.
Дикки Ред говорил с редактором.
– Что делается в Канзасе, кроме кампании за подписку на нашу газету? Я знаю, что заводы треста Армаур-Стар хотят объявить снижение на 20 %. Дивиденды Либби Мак-Нейля не дают им покоя. Они подкупили санитарную инспекцию и пустили в работу гнилой скот. Потом я знаю, что в Канзасе в городское управление намечены перевыборы. Там раскрыто злоупотребление, не так ли? Штат в руках Ку-Клукс-Клана, но в Канзасе соотношение голосов совершенно другое и если с ребятами что-нибудь не случится, то белые колпаки не сосчитают своих голосов в городе.
Я еду в Канзас! А вот вам бумаги, которые обличают Армаурский трест и государственную санитарную инспекцию. Ждите меня, я скоро буду!
В Канзас Дикки приехал в семь часов. В городе стояла духота и свирепствовала пыль. Машина, на которой Дикки поехал в Холливуд, сломалась на полпути и он предпочел пройти остальную половину расстояния пешком.
Прежде всего, Дикки встретил знакомого парня с заячьим ухом, по имени Том Пакля, в прозвище которого, без сомнения, были виновны его волосы. Том Пакля радостно приветствовал Дикки, с которым он познакомился в редакции.
– Старина Дикк! – фамильярно бросился он к нему. – А знаешь ли, – продолжал он таким тоном, как будто бы вчера распивал с ним пиво, – пока черт где-то трепал твою шкуру, у нас дурацкая история!
– Что такое?
– Ты знал этих миляг Мак-Кэна, О’Нейля и Крена? Ну, так вот, они предпочли скрыться в неизвестности и мы не знаем, что делать. Некому баллотироваться на выборах и опять пройдут белые колпаки.
Дикки отправился к месту жительства О’Нейля. Том Пакля пошел с ним. По дороге их нагнал шофер.
– Алло, мистер! Не хотите ли продолжать путь?
– Да! – если через метр не повторится история с машиной.
Дикки и Том Пакля сели в автомобиль и благополучно доехали до дома, где проживал О’Нейль.
В его комнате Том Пакля повторил свой рассказ, а Дикки Ред нашел окурок сигареты марки «Янки Дудль».
– Прекрасно, – сказал он, – Том Пакля, можешь повесить меня, если я не найду ваших ребят на ранчо Гарри Терреля.
– Больно, старик, ты высоко прыгаешь.
– А разве у вас гористая местность?
– Что?
– Разве у вас, говорю, гористая местность и до ранчо Терреля трудно добраться? – повторил Дикки Ред.
Как и следовало ожидать, у Тома Пакли нашлись знакомые: рыжий Джек и черный Билль. Резкий контраст их внешности не мешал им быть душевно единым существом.
Ранчо Терреля находилось в 20 милях на запад от Канзаса, а рыжий Джек и черный Билль состояли ковбоями при ранчо.
– Слушай, старина Том, – сказал Дикки, – я здорово хочу спать, приходи ко мне в отель ровно в 10 утра и мы отправимся в путь.
Наутро утро Дикки был готов к путешествию и, когда Том Пакля вошел к нему в номер, то встреча была не очень трогательной.
– Эй, мистер, что вы потрошите чужие карманы? – сказал он.
Человек, стоявший к нему спиной, не обратил никакого внимания на этот скромный окрик. Это был здоровый малый с далекого запада и хлесткий конец его косынки задорно подпирал вихры волос на затылке.
Том Пакля, недолго думая, подошел ближе и нежно ударил джентльмена, шарившего по чужим карманам, по шее.
Тогда малый обернулся.
– Брось, Том Пакля, валять дурака, – сказал он, – поезд уходит в 10.30 и я совершенно готов.
Вышли на станции Коровий Брод. А у ранчо встретили рыжего Джека и черного Билля. Они курили свои трубки и вспоминали фруктовые консервы у старика Бодроуса в городе.
– Слушай, – сказал рыжий Джек черному Билли, – ты не думаешь, что это Том Пакля?
– Да, – ответил черный Билль, – я думаю, что это он!
Они поздоровались и Том Пакля представил друзьям Дикки.
– Вот, рыжий Джек, мой приятель Дикки, прекрасный парень; он хотел бы, как и я, получить работу в ранчо, но, к сожалению, у него нет прозвища.
– Что ж, – ответил Джек, – вид у него классный и раз он твой приятель, то он будет работать на ранчо и мы назовем его Дикк Паклин.
Дикк Паклин, Том Пакля и два приятеля пошли к управляющему ранчо.
– Два хороших ковбоя никогда не лишни в таком большом хозяйстве, – подумал управляющий, и они подписали контракт на один год.
В этот же вечер Дикки загонял скот, как заправский пастух, а в салуне старого Сэма показывал ребятам, как не моргая дуть виски с перцем.
После хорошего прогона по залу в шимми под веселого тапера, он и Том Пакля тихо покинули трактир и, сев на своих лошадок, поскакали на ранчо.
В пятистах метрах от дома в скалах и холмах терялось ущелье и объемистые пещеры, часто служившие загоном для низкорослого скота.
У входа в ущелье стояло двое белых истуканов. Дикк Па-клин с одной стороны, а Том Пакля – с другой оглушили, раздели, связали и спрятали в кустах белых младенцев. После короткого знакомства с документами, в пару секунд, Дикк Паклин стал Джебсом Мак-Дугласом, клигрупсом и ранчером с запада, а папаша Том обрел счастье в имени Джонатана Стивенсона.
Через полчаса пришли трое джентльменов и последний из них, такой же белый осел, как и все, сказал, что братья могут уйти с поста.
Дикк Паклин бросил взгляд на лошадей. Над деревом, к которому они были привязаны, по-прежнему безмятежно колыхался белый платочек. Оба исчезли в глубине ущелья.
Под яркий свет высокого, крестообразного факела несколько десятков околпаченных молодцов, под председательством двух главных колдунов с какими-то птицами на груди, валяли дурака, или иначе – вели заседание ложи клана 86.
Дикк понял, что двое с птицами и буквами Г. С. – это Чарльз Лоув из Нью-Йорка и Гарри Террель – владелец ранчо. Он понял, что связанные, в красных повязках на глазах, у стены – это Мак-Кэн, Ричард О’Нейль и Чарли Крен.
Правда, немного темновато, свет слишком тускл, но такой объектив, как у Дикки, мог взять какую угодно темноту. Незаметно спрятав аппарат в складках халата, Дикки навертел целую катушку снимков и успел зарядить другую.
На собрании клана, собрании богатых ранчеров, салунщиков, отставных майоров, полковников, капитанов и других людей такого же сорта, вынесли решение. Ввиду предстоящих выборов, стачек и всевозможных передряг, в целях обеспечения общественного спокойствия в городе линчевать трех большевистских агентов.
– Слышишь, Пакля? – сказал Дикки. – Надо начинать!
Связанных отвели от стены и вся процессия, возглавляемая горящим крестом, двинулась к выходу.
– Том Пакля, – шепнул Дикки, – мчись скорее к ранчо, приведи пару лошадок, а остальных отпусти и полей им под хвост скипидара.
От ущелья повернули в проход к большому дереву с сучьями, похожими на маленькие баобабы. Два высокого роста кузнеца и один старший леший заняли места палачей и приготовили веревки.
Том Пакля примчался и нашел Дикки на условленном месте.
Луна освещала долину и поблескивала на белых балахонах кланцев. Часто летучие мыши падали на белые халаты, а у горящего креста крутился рой ночных насекомых.
– Лошади за углом! – сказал Том.
– Хорошо, заставь их потоптаться на месте с пару секунд, а я буду работать с запада, – и Дикки прошел к дереву с другой стороны.
– Итак, братья, – болтал колпак нью-йоркского колдуна, – остаемся в святом и ненарушимом союзе и воздадим богу хвалу за его милосердие и справедливость…
– Леди и джентльмены, я должен сознаться, что вы окружены, – непочтительно прервал Дикки.
Белые колпаки заколебались. Два «пушечных» отверстия показывали свои дырки. Но так как все были безоружны, то никто не сказал ни слова.
– Верховные члены клана, потрудитесь развязать у трех джентльменов вечерние туалеты на их шеях. В случае отказа…
Кузнецы и леший быстро исполнили приказание.
– Леди и джентльмены, надеюсь на вашу скромность. Отвернитесь! Мак-Кэн, О’Нейль, Крен, идите прямо. Алло, Том, принимай!
– Леди и джентльмены, перемените позиции! Пользуйтесь моими указаниями.
Белые балахоны сгрудились и по мере того, как Дикки отступал к югу, где его ждали четверо всадников, – путаясь в фалдах священного одеяния, беспорядочно отходили назад.
Вскочив в седло, Дикки дал в воздух пару выстрелов и кавалькада бешено помчалась к железной дороге. Через несколько минут они услышали погоню. Дикки и Том не могли сократить расстояния, они не знали местности, а тот, кто догонял, перерезал горы по малоизвестной тропинке.
Впереди вынырнула станция железной дороги. С запада приближался поезд. Через секунду на шоссе показались всадники, на путях поезд, и еще через пару секунд Том Пакля и Дикки Ред, О’Нейль, Мак-Кэн и Крен были на последней площадке последнего вагона, а по смежной линии бешеным галопом неслись оскорбленные в своих лучших чувствах члены клана.
– Если они попробуют уцепиться, – сказал Том Пакля, – будем стрелять.
Большая часть балахонов промчалась вперед к голове поезда. Меньшая, с угрожающим видом, мчалась, не отставая ни на один метр. Дикки спровадил спасенных ребят в вагон, а сам с Томом Пакля остался на площадке.
– Эге, опасность сверху! – крикнул Дикки Тому Пакле, замечая кусок белого халата.
Затем все пошло очень весело. Так, по крайней мере, казалось Дикки. Сверху лезли белые балахоны, а он и Том Пакля скидывали их вниз.
Гикавшие всадники отстали и на пути белели не очухавшиеся от ударов и падения тела.
– Да, мы порядком поработали! – сказал Том Пакля. – Я так шикарно вспотел.
– Еще раз в проявитель, еще раз в фиксаж! Прекрасно! В фотолаборатории, под красными тонами света, руки опускали в ванночку для проявления маленькую катушку пленок.
Дикки Ред! Если хотите, – Ричард Ред! Но Дикки лучше! Так любит больше он сам и все его так именно и зовут. Дикки!
Дикки – репортер «Дейли Воркер». Первый репортер. Понятно, что когда газета наладилась, в ней появились и другие, но Дикки был первым.
А вы думаете, что в Соединенных Штатах так приятно считаться репортером «Дейли Воркер»? Напрасно! Вы ошибаетесь. Репортер «Дейли Воркер» – пария среди других репортеров. Репортера из «Дейли Воркер» избегают, игнорируют, не пускают, выставляют; вообще – не церемонятся.
Для желтого репортажа президент Белого Дома устраивает периодически приемы. Но приемы у президента – это еще чепуха. На них ничего не решается.
Но вот, пускай попробуют попасть на какое-нибудь важное совещание биржевых королей, готовящих изменения в политических картах мира. Пускай попробуют! И тогда, когда желтых пускают потому, что у желтых вырезаны зубы, от красных отгораживаются колючей проволокой. Или легко, по-вашему, пробраться репортеру на стачку? Посмотрим! Во время стачки линия заводов охраняется правительственными войсками. На заводах работают стачколомы и их охраняют от излишнего ремонта.
В такое место от ассоциации прессы, от местной газеты, от центральных газет посылается рой репортеров, фотографов и кинооператоров. Весь материал, доставляемый ими, проходит через хороший фильтр и на другой день на двух газетных простынях вы будете читать о том, какие алчные звери – рабочие, как они избивают честных тружеников и как хорош владелец завода и какой рай дает он рабочим взамен их ничтожного труда.
Для обычного желтого репортера существуют определенные форматы, в которые он должен укладывать свой репортаж. Желтый репортер умеет пригонять точку в точку, к нужной мерке свой материал. Он знает то, о чем нельзя говорить, он знает то, о чем нужно сказать. Он получает хороший гонорар.
У желтых репортеров даже есть постоянные инструкции о желательных и нежелательных новостях. Он знает, что: несчастье с рабочими на производстве нужно замалчивать, несчастье с капиталистом афишировать; нельзя портить нравственность сообщениями о публичных домах и об обольщенных. Нужно расписывать и копаться в туалетах нефтяной королевы, выходящей замуж за железного короля.
И в особую графу желательных новостей занесены: сообщения о забастовках, когда число бастующих выше двухсот и затрагивает интересы крупной промышленности и задерживает транспорт и когда совершаются насилия над стачколомами.
У репортеров «Дейли Воркер» не было списка желтых ассоциаций, они работали по другим принципам.
Для репортера «Дейли Воркер» не существует рамок и границ. Он пишет обо всем, о чем нужно писать, и он, прежде всего, человек, а потом уже репортер.
Поэтому-то, когда происходят беспорядки на заводах, ведущие к забастовкам, наряды полиции и правительственных войск имеют на руках сотни оттисков с лиц репортеров «Дейли Воркер», а в особенности с лица первого и самого лучшего репортера рабочей газеты – с лица Дикки Реда.
А лицо у Дикки Реда было ярким и здорово врезывалось в память. Хороший лоб. Каштановые волосы, откинутые назад; плотный румянец на загорелых щеках. Темные брови и глаза – серые, прекрасные глаза. Добавьте к этому шесть футов античной фигуры, с нулевым процентом жира и каменными мускулами, и вы увидите перед собой репортера «Дейли Воркер».
Да! Ку-Клукс-Клан ненавидел Воркер-Парти и все, что с ней связано, но «Дейли Воркер» он ненавидел конкретно, а лучшего репортера «Дейли Воркер» – Дикки Реда, – каждый, кто оставался верным и преданным святому и ненарушимому союзу, готов был растерзать.
О рабочей газете Америки на английском языке мечтали годы и собирали от взносов цент к центу, доллар к доллару до того момента, пока не накопилось несколько миллионов. Тогда купили дом и оборудовали по последнему слову техники мощное орудие печати.
Редакция занимала большое семиэтажное здание. В нижних этажах помещались гаражи, экспедиции, склады, наборная, цинкография, печатное и переплетное отделения. В верхних – библиотека, отдел новостей, комната художников, костюмерная, комнаты редакторов отделов, репортеров, машинисток, лаборатория, станция беспроволочного телеграфа.
На самом верху была установлена антенна радиоприемника и два небольших ангара со стальными самолетами. Тут же на крыше находилась платформа, с которой отбывали с репортерами самолеты системы «Райт».
Одним словом, «Дейли Воркер» была по своему техническому оборудованию одной из лучших газет Нью-Йорка.
Со всеми штатами ее связывала густая сеть рабочих корреспондентов.
Двери редакции были окутаны плотной сетью электропроводов и, при желании, можно было в любом месте произвести частичный взрыв. Провода служили верной охраной на случай погрома со стороны Ку-Клукс-Клана и полиции.
Под землю из редакции вели ходы, выходившие в нескольких десятках метров от здания. Приходилось прибегать и к таким мерам. Враги рабочих организаций не дремали и пакостили где только можно.
Все кадры на катушке вышли великолепно. Два главных колдуна, крест, пленники, все собрание. Еще несколько минут Дикки печатал при искусственном солнце на бумаге большой чувствительности, а потом спустился к редактору.
Хирам Джонсон был очень доволен Редом.
Эти снимки дадут хороший тираж вечернему выпуску. Джонсон вызвал заведующего цинкографией и передал ему снимки.
– Материал товарища Реда должен занять всю середину разворота и первую полосу.
«Дейли Воркер» бралась нарасхват. Громадные красные буквы разглашали тайну треста Армаур-Старт Компани и воспроизводили снимки с заседания ложи клана и с трех связанных замаскированных висельников.
По всем улицам надрывались от крика, шныряя между многочисленными авто, мальчишки «Дейли Воркер». Их крики были нечленораздельными, но внушительными и зазывающими:
«Очередной скандал в тресте Армаур-Старт-Компани».
«Администрация подкупает санитарный надзор».
«Дивиденды треста воняют гнилой падалью».
«Приключение репортера на западе».
«Белые разбойники Тексаса делают линч честным рабочим».
«Победа Воркер-Парти на выборах в Канзас-Сити».
Полисмены хладнокровно скрывали свое удивление. Все до единого брали «Дейли Воркер». Пять миллионов тиража расползлось по стране и из-за нехватки пришлось выпустить второе издание.
В газете приводились снимки с бумаги, подписанной обличаемыми сторонами и заверенной нотариатом города.
На небе от Бруклин-стрит расходились громадные прожектора и рекламные аэропланы писали светящимися облаками заголовки «Дейли Воркер».
Стояла невыносимая жара.
В деловом кабинете президента Армаур-Старт толстый человек курил толстую сигару и читал газету. По мере того, как он залезал глазами и мозгами в черный, мелкий шрифт, дым плотнее окружал его лысину. Газета судорожно ежилась и толстое лицо толстого человека, курившего толстую сигару, перекосилось гневом.
Президент не любил вмешательства в его дела. Он поклялся самому себе в смерти репортера-разоблачителя. Он решил предъявить иск и обвинение в клевете к газете «Дейли Воркер».
К тому же, ему окончательно испортили настроение, прогулку на яхте и ужин с очаровательной Мэри Магден из центрального мюзик-холла.
В этот вечер все говорили о вечернем выпуске и о репортере Реде.
Редакция «Дейли Воркер» подверглась форменной осаде. Армия кодаков, кинооператоров теснилась у всех подъездов. Но не только у подъездов. Даже у домов и квартир сотрудников.
Все газеты хотели поместить портрет Дикки Реда. Дикки Ред не знал об этом и не мало смутился, когда увидел, что получилось из его «выхода из дверей редакции» по дороге к автомобилю.
Все они были очень корректны и Дикки не услышал ни одного слова.
– Что ж, он сделал, по их мнению, хороший бизнес!
Несколько десятков объективов зафиксировали со всех сторон Дикки Реда, засняли на кинопленку, а карандаши художников закрепили в альбомах его движения.
Редакторы других газет в тайниках своих душ жалели, что они не могут так хлестко сделать сенсацию, а в своих передовицах прохватывали «московских агентов».
Впрочем, не все!
Газеты, не купленные Армаур-Старт, кое-что отхватили от сенсации и предприняли ряд мер, чтобы достать еще сведения о делах треста. Особенно на этом деле поработали триста газет Рандольфа Херста.
Чарльз Лоув вернулся в Нью-Йорк в тот же день. А так как он был в то же время и директором нью-йоркского агентства Пинкертона, то до вечера пробыл там.
Вечером агенты облачились в белые халаты и спустились в подвальное помещение конторы. Там помещалась ложа клана Нью-Йорк 197.
Между прочим, жена Чарльза Лоува приходилась внучкой знаменитому Нату Пинкертону – основателю агентства и старейшему члену ордена Ку-Клукс-Клан.
Но это неважно!
Разница в заседании городской ложи и тексасской заключалась в кресте. В Тексасе он был своеобразным факелом, горел, дымил и трещал; здесь он доверху блестел электрическими продолговатыми лампочками.
И потом, тут в подвале, были устроены приличные ложи и место для президиума.
При торжественном молчании Чарльз В. Лоув нажал кнопку и на экране одной из стен появился четкий портрет Дикки.
Главный колдун нажал еще кнопку и две огненно-красные черты перекрестили его.
Чарльз Лоув нажал третью кнопку и в месте скрещения красных полос появились белые буквы:
СМЕРТЬ.
А из углов лож на экран полетели острые кинжалы.
Так же молчаливо и бесшумно, как и при появлении, все исчезли из подвала дома нью-йоркского агентства Пинкертона.
На улицах стояла такая же духота. Зажглись мириады реклам и небоскребы светились тысячами звезд.
В воздухе стоял неприятный гулкий зуд города-колосса.
Замечательная хорошая машинка – Ундервуд-Портэбл. Так четко работают клавиши и такой хороший шрифт. Лента тоже прелесть. Перевод регистра вверх, она красная – перевод вниз, она черная, а при нормальном положении у букв очаровательные красные кончики.
Каждый репортер любит Ундервуд-Портэбл. Каждый репортер пишет на ней и ни один репортер с ней не расстается. Это не реклама, это – истина.
В просторной, светлой комнате отдела новостей работает 30 человек. Это значит, что там такое же количество Ундервудов, Пресс-Бюро, Дубль-Леттергралл, Глоб-Верник Компани, серии электрических ламп и рядом в комнате – справочная библиотека с парой тысяч томов.
Окна комнаты выходят на три стороны и она помещается в углу шестого этажа. Сюда приходят и приезжают рабочие репортеры со всех штатов. Каждый из них может воспользоваться машинкой, составить ряд корреспонденций и сдать их редактору отдела.
Редактор отдела сообщит репортеру, что он должен освещать в жизни своего штата, проинструктирует его на ближайшее время и даст ему чек на получение гонорара.
Тут же рядом находится станция беспроволочного телеграфа. Ежедневная почта приносит тысячную корреспонденцию и редакторы отделов имеют очень мало времени на личную жизнь. Они большую часть суток заняты правкой материала.
Не шутка наполнить интересным для рабочих всех Штатов материалом 48 полос 3-х ежедневных изданий.
Тут же находился особо важный отдел Советских республик и Коминтерна. Там работали все сотрудники, говорившие по-русски.
В отделе новостей работал Дикки Ред и симпатичная Ренни Морине, сестра Дикки. Она, кроме того, работала и в отделе Советских республик, так как говорила по-русски.
У Ренни светлые волосы, темные глаза и Ренни прекрасно владеет стилем. Ренни очень любит Дикки.
Они оба заняты срочной работой. У Дикки Реда всегда важные и срочные работы. Но часы бьют семь, а в этот час нужно обедать.
Ренни встала, прошла к столу Дикки и запустила свои руки в его густую шевелюру.
– Алло, Дикки, идем обедать!
Дикки знает, что можно работать, но он знает и то, что нужно есть, заниматься спортом, читать много книг и ходить в театр.
Они отправились обедать.
Только в Америке можно услышать настоящий, неподражаемый джаз-банд. Джаз-банд – это конгломерат звуков – монолит, тонна радио-силы, музыка сатаны. Джаз-банд освежает и наполняет нервы солнечной энергией.
Человек, который много работает, много переживает, много чувствует, любит джаз-банд. А джаз-банд в ресторане черного Билли не имел равных.
И Дикки Ред любил ресторан черного Билли по этим и многим другим причинам. Дикки был завсегдатаем ресторана черного Билли. В центре большой залы с зеркальными окнами находилась эстрада и на ней черный оркестр проявлял чудеса талантливости, экспансивности, энергии и быстроты.
С шести – между столиками начинались танцы. Все танцевали шимми, все танцевали фокстрот и уанстеп.
Дикки и Ренни заняли свободный столик.
Но не сразу к ним подошел лакей. Дежурным по столику Дикки был толстый Чарли. И он, по профессиональной привычке, перекинув через руку салфетку, направился к ним. Но он не сделал и трех шагов. Сухой, выбритый лакей дернул его за рукав.
– Стойте, мистер, этому джентльмену буду подавать я!
И он, хлестко тряхнув салфеткой, перекинул ее на другую руку, подошел к Дикки и подал карту.
Пока Дикки и Ренни рассматривали меню, он вытащил из бокового кармана карточку и стал ее внимательно рассматривать, бросая взгляды на Дикки. Когда, как показалось ему, он достаточно точно сравнил черты его лица и убедился в сходстве, он спрятал фотографию. Фотографию небольшую, перечеркнутую красным крестом с белыми буквами – смерть.
– На первое вы дадите нам консоме, на второе – свиную корейку и крем из дичи.
– Слушаю, сэр!
Лакей вернулся, накрыл стол, громыхая, поставил перед посетителями приборы и принес большие чашки крепкого бульона.
После двух вторых, Дикки попросил яблочный сидр.
Лакей как будто бы ждал этого.
Почему именно сверкнула еле заметная улыбка у лакея, почему эту улыбку не заметил никто из присутствующих, почему лакей не улыбнулся своими злыми глазами и ехидной, нехорошей улыбкой раньше? Почему? Он знал! Это хитрое, сухое, совсем не лакейского покроя животное знало; оно знало, что Дикки Ред попросит пить.
Иногда бывает такая безошибочная уверенность. В такие минуты человек может стать кем угодно. В такие минуты выигрывают сражения, переходят по тонкому канату Ниагару и убивают людей. Эту уверенность можно оправдать большим напряжением, повышенным темпом чувствительности и еще многим.
Уверенным движением лакей поставил на маленький столик поднос и на него два бокала. Потом он откупорил бутылку…
Занятная девочка Ренни. У нее всегда масса интересных тем и чересчур богатая фантазия. С ней можно говорить до бесконечности и никогда этот разговор не покажется скучным. И особенно занятные у нее волосы. Дикки, как бы впервые, посмотрел на свою сестру взглядом совершенно постороннего человека.
Тут же, в нескольких шагах, танцевало много женщин. Конечно, Дикки не сравнивал ее с этими бедными созданиями, выброшенными жизнью за борт. Нет, он просто смотрел. Они, например, красят щеки, губы, подводят глаза и пудрятся.
У Ренни прекрасный румянец, алые губы, под глазами естественная темнота кожи, брови почти черные, а щеки такие свежие и упругие.
Они пускают в глаза белладонну, чтобы сделать их больше, глубже; у Ренни глаза большие, глубокие, серые, такие же, как у него, но куда лучше.
Они делают что-то со своими ресницами и становятся похожими на больную кошку, у которой слезятся глаза. У Ренни густые, длинные ресницы.
Они пудрят… постой, интересно, есть ли пудреница у Ренни, что-то не помнит, видел ли он ее.
Дикки взял с края столика сумочку Ренни. Сумочку деловой, но хорошенькой женщины, сумочку, полученную Ренни в подарок от своего мужа – секретаря профсоюза Транспортных Рабочих.
Он повертел ее в руках и открыл. Там лежал носовой платок, стило, необходимое всякой журналистке, блокнот, несколько долларов, чековая книжка. Но где же пудреница?
Дикки позабыл про пудреницу в ту же минуту, как он наткнулся на зеркало, вделанное в крышку сумочки.
Длинные, волосатые, узкие пальцы всыпали в бокалы какие-то белые крупинки. Больше Дикки ничего не видит. Нет, он видит, что белые крупинки выскочили из двух больших камней, вправленных в оправу колец.
Дикки спокоен. Он уверенно чувствует себя, хотя знает, что пара синеватых глаз смотрят на его затылок со злобой и ненавистью.
Он закрывает сумочку Ренни и кладет ее на место. Его рука незаметно пробует твердость заднего кармана брюк.
Ренни просматривала взятые с собой из редакции русские газеты, так что вообще ничего не заметила.
По телу Дикки пробежала приятная судорога решительности. Он знал, что нужно сделать. Он знал, что он сделает то, что нужно.
В «Правде» Ренни читала о Москве, о России. Такие интересные вещи о такой интересной стране! Она с головой ушла в серые, скучные по внешности, полосы газеты. Своих газет американцы так не читают.
Она вздрогнула и оторвалась от чтения только после резкого звона бьющихся бокалов и глухого трепыхания по полу круглого подноса.
Сидевшие за остальными столиками ничего не заметили. Шум джаз-банда и танцующих пар покрывал все остальное. Однако лакей достаточно проклинал плечо Дикки.
– Ах, Дикки, – сказала Ренни, – какой ты неловкий!
Однако лакей, ползавший около столика и под столиком, был немного другого мнения о ловкости Дикки. Задний брючный карман Реда опустел и предмет, делавший его твердым, блестел в руках своего хозяина.
Лакей очень долго не вылезал из-под стола. С надувшимися на лице и на лбу жилами, он ползал и собирал осколки стекол. К его лбу прикасалось холодное дуло бесшумно стреляющего кольта. А другая рука, опиравшаяся о колено в серых брюках, протянулась к левой руке лакея и сняла с длинных волосатых пальцев оба кольца.
Наконец, лакей вылез. Он имел смущенный вид и спутанную прическу. Колени его брюк испачкались в пыли, на круглом подносе валялись осколки стекла от бокалов. Он сказал, обращаясь к удивленной Ренни:
– О, джентльмен очень ловок, мисс!..
– Еще сидра, – сказал Дикки, – но только я попрошу не давать бокалов, которые могут разбиться!
Опять Чарльзу Лоуву испортили настроение и весь вечер. Сегодня он провел день в поисках способа мести «Дейли Воркер». А уж если преемник Пинкертона ищет, то можно быть уверенным – он его найдет.
Утром он послал на дом к Дикки запечатанный пакет, но дурак-посыльный упал и адская машинка, спрятанная в пакете, разорвала его ослиную башку, сделав на улице хорошую суматоху и собрав кучу зевак.
Днем он готовился перетравить всю редакцию «Дейли Воркер». Послал своего человека с ядом, чтобы тот пустил отраву в редакционный ленч. Но эта месть не удалась.
Верного человека арестовали в трамвае в тот момент, когда он вытягивал бумажник у какого-то типа в котелке.
И вот Чарльз Лоув ждал вечера. Ждал с нетерпением, надеясь, что уж тут не будет никаких недоразумений. Он ждал условленного звонка.
В восьмом часу Лоув узнал, что состоялся еще один позорный провал.
– Идите к черту, олухи! – напутствовал он своих неловких и неумелых исполнителей.
Чарльзу Лоуву не повезло.
Вы думаете, что на ночь работа в редакции замедляет свой темп? Если вы так думаете, то вы ошибаетесь. Ночная работа в редакции всех газет вообще, а в «Дейли Воркер» в частности, ни на чуточку не уменьшается.
Бегают по этажам молодые люди без пиджаков; рукава их рубашек или аккуратно подняты вверх и закреплены посередине резинкой, или засучены. Они готовят к сдаче самые важные полосы – полосы радиограмм.
В эти часы там, на самом верху, получают новые сообщения, их обрабатывают, перепечатывают, снабжают иллюстрациями и отправляют материал по пневматическим трубам в нижние этажи для набора, клишировки, верстки и печатания. Еще в это время поступают срочные вызовы на места важных происшествий и в несколько секунд дежурный репортер готов, ему уже подан «Форд», с ним хороший кодак, пленки, магний и все, что нужно для работы ночью.
А если нужно гнать куда-нибудь за несколько десятков миль, то репортер выходит на площадку этажа, поднимается на лифте вверх и к его услугам стальная птица.
Главный редактор Хирам Джонсон вызвал Дикки.
– Ред, – сказал он, – сейчас прибыл в город торговый представитель из России. Мы первые получили сообщение. Он остановился в отеле «Люкс», Бродвей, 138.
– Хорошо!
Дикки вернулся к себе, надел пиджак, кепи и спустился на первый этаж.
В распоряжении каждого репортера машина. И репортер должен сам управлять ею. Шоферов не полагалось. На легковых прекрасно обходились без них. Шоферы были только в экспедиции, на грузовиках.
Проехав две улицы, Дикки заметил, что какая-то машина не отстает от него. Какая именно, он не мог рассмотреть, сильные фонари топили все в потоках света. Это было тем более неприятно, что он сам выделялся совершенно отчетливо.
Дикки ехал на самом простом открытом Форде, за ним шла сильная машина, – если принять во внимание расположение фонарей, – марки Паккард.
Дикки подумал, что за ним следят из какой-нибудь газеты, хотят перебить сенсацию и решил запутать их. Он пересек Бродвей, проехал 14 авеню, миновал уже совсем пустые кварталы. Машина не отставала, а как бы умышленно шла за ним, сохраняя взятый интервал.
На одно мгновение Дикки разглядел ее. Им навстречу летел серый Кадиллак и лучи обеих машин скрестились. Он не ошибся. За ним шел Паккард и в кузове сидели три человека в пальто, с высоко поднятыми воротниками и в больших кепи. Четвертым был шофер.
Наконец, промелькнули последние городские улицы, потянулись фабричные здания, широкое шоссе, показался железнодорожный мост.
Паккард резко изменил тактику. В несколько секунд он наполовину сократил интервал и Дикки начал сомневаться в газетном происхождении людей из Паккарда.
Он сделал попытку прибавить ход, но Паккард не отставал. Теперь уже Дикки купался в волнах света, а чуть позже свет перекинулся вправо и вперед. Паккард пошел вровень с Фордом. Затем он потеснил машину Дикки к левой стороне дороги. Трое людей перескочили в Форд, оглушили Дикки хорошим ударом по голове и обе машины стали.
Дикки избит и связан. Шофер пересел с Паккарда в Форд и исчез. Трое свалили Дикки в кузов своей машины и свернули налево, к железнодорожному пути.
На небе ни одной звездочки. Кругом – непроглядная тьма. Такая ночь предназначена для разбойных нападений и всевозможных несчастий. В такую ночь нет ничего легче, как столкнуться поезду с кем-нибудь.
На лбу Дикки вскочила большая шишка. Удивительно неудобно лежать поперек рельс, запеленатым в режущие веревки и в абсолютной тьме.
Телом Дикки нащупывал под собой гравий и шпалы. Лицо покрылось сальной пылью. Головой он обстукал рельсу и выяснил, что рельса не одна, а голова его стукает об уголки многих рельс. Значит, тут недалеко стрелка, а это пересечение.
– Ничего не видно!
Но Дикки приводило в смущение не это. Он думал о том, что по всем порядочным путям ходят порядочные поезда, имеющие обыкновение перерезывать лежащих на их пути людей. Надо сказать, уверенность в таком исходе немного неприятна.
К довершению всего, слух Дикки поймал в рельсе зуд. Зуд приближался, он еще не заявлял о себе откровенно, а только инстинктивным, отдаленным намеком. Сомнений быть не могло. Приближался поезд.
Ни кричать, ни двигаться! Удивительно приятно. Во рту тампон. Он разрезает рот и, несмотря ни на какие усилия, языка не выскакивает.
Плечи привязаны к чему-то и ноги также. Дикки Ред буквально пригвожден к своему странному ложу.
Паккард данным давно исчез по направлению к городу.
Чарльз Лоув потирал от удовольствия руки. Главного виновника его канзасского провала можно считать конченым человеком.
Недавно приезжали его молодцы. Их он оставил на последний момент. Бравые ребята. Они рассказали ему все, до мельчайших подробностей.
– Теперь ничто не может спасти проклятого мальчишку!
Через три часа они привезут ему подтверждение. Он решил не ложиться спать и ходил по кабинету со своей неразлучной сигаретой «Янки Дудль». Все такое хорошее и вкусное! И замечательный этот писатель Локк, так успокаивает нервы. Он наслаждался.
Через равные, приблизительно, промежутки он поглядывал на свои часы. Иногда он подходил к окну и опять-таки радостная улыбка появлялась на его лице.
– В такую тьму нет спасения!
Печальная штука столкновение поездов. Сколько жертв! Сколько шума, криков! Иногда поезда останавливают бандиты, иногда спускают их под откос, иногда они сами наталкиваются и крушатся.
Последнее случилось с поездом «Молния» на станции Джерсей, недалеко от Нью-Йорка. Поезд «Молния» летел и никого и ни о чем не спрашивал. Он знал, что стрелочник переведет в нужную секунду путь, знал, что для него, поезда «Молнии», всегда чиста дорога и что он не может опоздать ни на секунду.
Но из-за темноты что-то у кого-то перепуталось и поезд «Молния» врезался в транспорт нефти. Все смешалось в кашу и начался пожар.
Пожар был вскоре ликвидирован. На линии работали экстренно вызванные санитарные отряды. Разбирали балки, спасали оставшихся в живых, подсчитывали убытки, составляли депеши и телеграммы.
Десятки апатичных телеграфистов бесстрастно механически выстукивали депешу. Железнодорожное начальство в смятении соображало, что делать. Какую сумятицу внесло это происшествие в движение! И во всем этом виновата непроглядная ночная тьма.
У смятых изуродованных вагонов смятые изуродованные люди. Оторванные ноги и руки, размозженные черепа, санитары, врачи и сестры, освещающие ручными фонарями окровавленные массы тел, засыпанные обломками.
Паровоз, врезавшийся в первую цистерну, сгорел вместе с машинистами, оглушенными ударами. У вагонов с почтой и деньгами стояла охрана. Несколько прожекторов осветили место крушения и предотвратили возможность грабежа.
Из города прибыли репортеры и кинооператоры забегали с юпитерами.
Какой-то чудак, мальчишка лет 18-ти, находившийся в числе очень немногих, достаточно счастливо отделавшихся от катастрофы, составил акт в том, что у него находился последний номер журнала «Америкэн», а этот журнал давал довольно большую премию тому, у кого во время крушения поезда окажется очередной номер.
Все домыслы у людей, бодрствовавших этой ночью, сходились в одной точке – во тьме. Кто проклинал, а кто радовался. Чарльз Лоув радовался. Начальник ночного движения поездов «Молнии», Нью-Йорк – Сан-Франциско – проклинал.
Ему пришлось здорово попотеть, прежде чем он добился освобождения пути для очередного маршрута и, несмотря ни на что, у него уже было пять минут опоздания.
Начальник движения отдал по служебному проводу приказ начальнику путей:
– Переведите Тихоокеанский на второй путь!
Начальник пути повторил начальнику участка движения:
– Переведите Тихоокеанский на второй путь!
Начальник участка движения – начальнику участка пути:
– Переведите Тихоокеанский на второй!
И, наконец, начальник участка пути начальнику стрелки:
– Переведите Тихоокеанский на второй!
Начальник стрелки, тоже переворошенный до глубины своих нервов, сам делал все. Переводил рычаги, исполнял приходившие депеши и распоряжения. Он подошел к рычажным установкам и нажал рычаг.
Никакой надежды на спасение! Дикий случай! Дикая смерть! Этот черный зуд усиливался и с каждым мгновением становился сильней. От него сотрясало тело и зубы крепче впивались в тампон. Наконец, где-то еще далеко, загудел гудок экспресса. Только у него были такие резкие и мощные гудки. Дикки увидел растущий, расползающийся красный свет фонарей. Видел искры, вылетавшие из топки. Шум рос, экспресс приближался.
Дикки напряг всю силу воли. Его взор застлал огромный огненный дьявол. Он метал свои нервы, свои мускулы, но ничего. Все оставалось по-прежнему, только поезд чудовищно быстро рос.
Наконец, вихрь бешеной скорости обдал Дикки пламенем и он уже чувствовал острия стальных колес, врезывающихся в его тело. Он уже видел себя разорванным на куски стальным гигантом. Какой-то огненный ад проглатывал его.
Топка паровоза пронеслась над головой Дикки.
Тихоокеанский перевели на второй путь.
Дикки с изумлением осматривал себя. Он не только жив; искры, выпавшие из топки, попали на веревки и они истлели в нескольких местах. Небольшое напряжение и он свободен. Тампон вытянут изо рта и грудь проглатывает ночной воздух.
Вдали с шоссе показались огни.
– Это они, – подумал Дикки. – Прекрасно, но крайней мере, не идти пешком в город!
Дикки сбежал с насыпи, перебежал шоссе и спрятался по другую сторону за кучей булыжников.
Машина действительно оказалась Паккардом и трое наглухо закрытых людей, выскочив из нее, бросились к железнодорожному пути.
Дикки спокойно вышел из своего убежища, сел в машину и пожелал трем джентльменам приятного возвращения в город.
Под утро Дикки изорванный, израненный, измазанный, но довольный, ввалился в кабинет редактора.
– Вы с ума сошли, Дикки? – встретил его Хирам Джонсон.
– Нет, с рельс! – отвечал Дикки. – Но об этом после. Сначала пошлите репортера к торгпреду СССР, потом проявите снимки, которые я сделал этой ночью, дайте мне стенографистку и виски с содой!
– Это не человек, а дьявол, – пробормотал Чарльз Лоув, – или я осел; одно из двух!
Он остановился посередине тротуара, уткнувшись своей толстой потухшей сигаретой в утренний экстренный выпуск «Дейли Воркер». На первой полосе огромными красными буквами значилось:
«Дикки Ред о Дикки Реде! Дикки Ред о Ку-Клукс-Клане! Дикки Ред о своем спасении!»
Мальчишки тонули в своих выкриках, десятки тысяч рабочих и клерков, отправлявшихся на завод и на службу, расхватывали газету.
Его, наконец, надо убрать!
Опять в кабинете главного колдуна Штата Нью-Йорк Йорк появились перечеркнутые накрест красные линии, белые буквы, означающие смерть и люди, говорящие о каком-то очень серьезном деле, одетые просто, без балахонов, в штатском, похожие на толпу молодых заговорщиков, из которых каждый получил пощечину от врага.
Ненависть людей потонула в гигантском городе, в подпирающих небо небоскребах, в улицах, переполненных до краев автомобилями, в метрополитене, в трамваях, в воздушной железной дороге и в бешеном темпе биржи на Уолл-Стрите.
Люди, сжигаемые ненавистью, были во власти города-гиганта и каждый сам по себе представлял ничтожную пешку.
Мясной король – один из вождей Ку-Клукс-Клана и на его деньги содержится многочисленный штат многочисленных лож.
Мясной король получил пощечину от какого-то молокососа с красным билетом, мясной король жаждет крови. Мясной король не требует, он приказывает убить.
Вечер Нью-Йорка – это сказка. Сказка, отблесками которой просвечивает каждый метр города. Сказка – силы человека. Мощные электрические прожектора делают вечер и ночь похожими на день. Электричеством залито все сплошь. И с высоты птичьего полета Нью-Йорк похож на сокровищницу, набитую радужными, играющими самоцветами.
И есть единственный писатель, вскрывший электро-нарыв города-гиганта, сорвавший маску с отполированного лоска цивилизации. Этот писатель – Уптон Синклер. У него читатель найдет правду об истиной гуманности королей мясников и об их бойне, об Уолл-Стрит…
Высокий, с синеватыми глазами лакей из ресторана черного Билли, у которого Дикки так вежливо взял кольца с цианистым калием и заставил, как настоящего лакея, ползать на коленках и подбирать осколки стекол, сказал:
– Это сделаю я!
В том же городе, недалеко от агентства Пинкертона на 114 Авеню, шло заседание.
В доме редакции «Дейли Воркер» был ряд комнат для дел совершенно специального назначения. Таким делом являлись дела партии.
Сидевшие в кабинете составляли бюро ЦК Америки. ЦК стал перед необходимостью послать человека в СССР.
Наряду с этим газета хотела дать ряд очерков о стране, которой ее подписчики интересовались больше всего. Когда дошла очередь до вопроса, стоявшего на повестке дня, секретарь сказал:
– Есть ответственное поручение в Россию. Кто из товарищей выполнит его?..
Член бюро и главный редактор Хирам Джонсон ответил:
– Дикки Ред!
Ни одного голоса против. Дикки Реда знают слишком хорошо. Именно, он, а не кто другой!
Бюро перешло к другим вопросам. Организация имела столько дел, что для решения каждого, по регламенту, полагалось не больше пяти минут.
Из рамок выходили только принципиальные вопросы, требующие осторожного, тщательного подхода.
Судьба Дикки Реда по крайней мере на три месяца была решена. Волей партии он был брошен в далекую чудесную страну.
– Итак, Дикки, вы едете из Фриско послезавтра, в три часа?
– Из Фриско, послезавтра, в три часа, на «Президенте Рузвельте»!
– Хороший пароходик, если не ошибаюсь, тысяч на 30 тонн!
Когда имеешь дело с улицей, то не знаешь, кто на ней враждебен по отношению к тебе и кто нет.
Еще хуже, когда в момент наводнения сердца и ума радостью, предвкушением интересного путешествия, – встречаешь старого приятеля.
И случилось именно худшее. Дикки Ред встретил старого приятеля, застопорил свою машину и дал хороший ход языку.
В пару минут он выложил ему свою радость и сказал, что едет корреспондентом своей газеты в Японию. Приятель оценил дружеские чувства Дикки, дал пару советов, где и как провести хорошо время в Токио, пошутил насчет Фузи-Ямы, в общем, выразил свое удовольствие, пожал руку и пожелал счастливого пути.
В шуме улицы не слышно, что говорят, но шум улицы совершенно не мешает видеть говорящих. У витрины одного из колоссальных универсальных магазинов, против которого стоял Дикки, джентльмен с синеватыми глазами тщательно наблюдал за лицом или вернее, за губами говоривших.
По движениям губ он определил, что Дикки едет послезавтра, через Сан-Франциско в Японию, на пароходе «Президент Рузвельт». Сам он знал, что «Президент Рузвельт» – один из лучших транс-пасификов концерна Гарримана.
И когда Дикки пошел дальше, то джентльмен с синеватыми глазами последовал за ним.
Чарльз Лоув, – главный колдун, – имел свою собственную частную жизнь. Он утром получил телеграмму от жены, спешно вызывавшей его в Японию. Там жена проводила осень.
Она не хотела ехать одна обратно, она хотела видеть рядом с собой своего мужа. Чарльзу Лоуву надоели городские дела и он с удовольствием думал о своей женке и называл ее самыми хорошими именами…
Дикки Ред делал последние приготовления к отъезду. Он искал самый большой в мире чемодан. Каждый нью-йоркец скажет вам, где купить такой чемодан. Только в магазине кожаных изделий у Мак-Дугласа и Компани продаются Супер-Глоб-Трогтери Эч 4.
Дикки это знал и он направился к Мак-Дугласу.
– Отделение дорожных вещей налево, – показал дорогу швейцар.
Дикки потонул в запахах кожи. Пахло замшей и шевро, чемоданами, несессерами, удивительными седлами, кожаными пальто, пахло приятно, по-кожаному.
Комната ремней, отделение седел, комната перчаток, этаж кожаных пальто, два этажа ботинок; Дуглас, Шимми, Мэри, Чарли, Променад, для тенниса, для гольфа, для футбола, для вечернего туалета, для танцев, для оперы, для… ну, для чего угодно!
Отделение спортивной кожи, отделение кожаных шляп, этаж производственной кожи, два отделения чемоданов и чемоданчиков.
– Дайте мне большой дорожный чемодан!.. – просит Дикки.
Приказчик подводит его к пирамиде чемоданов.
– Пожалуйста, сэр, выбирайте; вам для дороги, книг, путешествий, белья?..
– Мне вот этот, с вашего позволения. – Дикки дотронулся до маленького небоскреба. – Вот этот.
Он заплатил. Чемодан взвалили на Форд. Дикки уехал.
За ним, уже никого не спрашивая, уверенным шагом прошел в отделение чемоданов человек с синеватыми глазами и тоже попросил чемодан и тоже взял самый большой.
Приказчик даже на мгновенье позабыл о своей Кэтти. Он с ней должен был вечером встретиться в мюзик-холле, но Джек был дисциплинированным служащим и не подал виду.
Человек с синеватыми глазами уехал на «Кадиллаке».
Этим не кончился день приказчика чемоданного отделения. За самое малое время до закрытия, когда служащие уже начали готовиться к уходу из магазина, к Мак-Дугласу ввалился полный джентльмен, в котором мы узнаем главного колдуна Нью-Йорка.
Чарльз Лоув тоже прошел в чемоданное отделение и опять ему попался приказчик, мечтающий о Кэтти и мюзик-холле.
– Самый большой чемодан!.. – с легкой одышкой потребовал Лоув.
– Слушаю-с, сэр, – ответил приказчик, – вот, наверное, этот вам подойдет!
– Олл-райт, благодарю! – ответил Лоув.
– Будет о чем поговорить с Кэтти, – подумал приказчик.
Торговля чемоданами Супер-Глоб-Троттер Эч 4 в этот день шла особенно хорошо.
Сан-Франциско – город солнца. Бурный темп жизни снабжен темпераментом юга и прекрасным климатом. В Сан-Франциско небоскребы не ниже нью-йоркских. Сан-Франциско – Нью-Йорк запада Северо-Американских Соединенных Штагов.
Прекрасная гавань делает его первоклассным океанским портом. Сотни тысяч тонн груза ежедневно погружаются и сгружаются в его пакгаузах.
На улицах Франциско пахнет Азией. Раскосые китайцы, кули, маленькие японцы. Курильни опиума, – китайские притоны и прачечные. Желтые занимают несколько кварталов. Много черных. В ресторане исключительно черная прислуга, черные музыканты. Черные боксеры. Черные швейцары.
Но дальше эстрады ресторана черные в Америке не идут. А в Фриско особенно развит расовый антагонизм.
Консервы, выпускаемые мясными трестами, часто имеют в своем этикете следующее маленькое замечание:
«Упаковано при помощи белого труда».
Никто не станет сомневаться в серьезности этой надписи, гарантирующей белые руки, но все же этикетка очень характерна.
В Сан-Франциско замечательные кино. Совсем рядом Лос-Анжелос – маленькое царство экрана.
Тут круглый год беспрерывное толчение тысяч молодых девушек, мечтающих о карьере кинозвезд, но в подавляющем большинстве делающих карьеру публичных женщин.
На экранах Сан-Франциско отражается близость Лос-Анжелоса. Лучшие боевики проходят первым экраном именно в кино Фриско.
К двум часам по улицам города резко обозначилась усиленная циркуляция легковых и грузовых машин к пристани концерна Гарримана.
Когда-то древние занимались тем, что подводили примитивную статистику чудесам мира. Этим занимались не только древние. Наши журналы, когда им нечем было заверстывать свои полосы, тоже искали чудес.
Так, во всяком случае, ни древний статистик, ни современный журналист не должен забывать об одном из чудес, об океанском пароходе.
«Президент Рузвельт» походил как две капли воды на других «президентов» Гарримана. Тридцать тысяч тонн. Недурненькая способность поглощать пятьдесят миль в час.
«Президент Рузвельт» по своей длине немногим уступал тысяче метров, а высотой соперничал с средним небоскребом.
На нем установлены мощные радиоприемники и есть все, начиная с площадки для игры в теннис и кончая русскими банями.
Каждая каюта – маленький отель с кабинетом, гостиной, ванной и спальней.
Залы ресторана могут вмещать не только несколько сот персон, но и серию бесконечных блюд, изготовляемых в прекрасной кухне.
В читальнях можно найти удобные кожаные кресла, последние журналы почти на всех языках, и любые справочные издания. К вашим услугам радиотелеграф, воздушная почта и, если у вас натура романтика, то даже почтовые голуби.
В кино на «Рузвельте» вы увидите последние боевики сезона, а если вам больше нравится театр, то подъемник вас доставит в мюзик-холл.
Морской болезнью на таком плавучем острове может заболеть только человек с чересчур нежной душой или с нервным воображением. Для обыкновенного смертного она недоступна.
Когда вы садитесь на такой пароходик, то вас помещают по вашим денежным способностям. Если вы заплатили по первому классу, то можете, не задумываясь, пользоваться всеми благами культуры. Есть все, что вздумается, посылать депеши, играть, плавать, смотреть, слушать.
Вам будут только предлагать и вас будут спрашивать, нравится ли вам или, может быть, вы хотите более мажорного или более минорного тона от пианиста на эстраде.
Вам приготовят постель, позаботятся о том, чтобы вечером к табльдоту вы были в вечернем туалете, поставят к кровати ночные туфли, не забудут о зубной пасте и зубочистке, о приборе для чистки ногтей. А утром вежливый до чертиков парикмахер выбреет вашу физиономию.
Все это вы получите, если, скажем, за рейс от Фриско до Токио внесете пятьдесят долларов. Ну, а если их нет, или есть меньше? Посмотрим! Во втором классе вы не получаете разных пустяков, без которых можно обойтись, но вас уже не пускают на верхнюю палубу.
Если вы заплатили по минимальной расценке, вас засаживают в самый низ и до места назначения вы будете торчать в пыльных, темных и душных помещениях.
Вы никогда не увидите волшебного верха, не услышите прекрасной игры и не посмотрите на последние боевики сезона.
Вы будете получать кипяток и вас будут третировать. При первом поползновении пробраться на палубу второго класса, вам покажут на ваше место и, надо сказать, покажут весьма неучтиво.
За час до отправления «Рузвельта» у здания пристани в комнате заведующего багажом неумолимо трещал телефон.
– Алло, я вас слушаю!
Какой-то голос, говоривший с другой стороны, попросил:
– Будьте любезны записать: – Багаж каюты № 98 первого класса не спускайте в трюм.
– Хорошо, будет исполнено, – ответил заведующий багажом и повесил трубку.
Но непосредственно после окончания разговора опять задребезжал звонок.
– В чем дело? – крикнул торопившийся на пароход заведующий.
– Запишите! – повелительно проговорил голос, – багаж каюты 96 первого класса в трюм не спускайте.
– Хорошо!
Но не успел он повесить трубку, как телефон опять зазвенел:
– Алло!
– Заведующий багажом?
– Да!
– Багаж каюты 97 первого класса…
– Знаю, оставить на верхней палубе, будет сделано!
Он бросил трубку и помчался на пароход, боясь того, что посыпятся еще звонки от других двухсот пассажиров с такими же запросами.
На палубу «Президента» доставили последний багаж. С трех автомобилей внесли три громадных, до странности одинаковых чемодана, известных под маркой Супер-Глоб-Троттер Эч 4. Каждый из сопровождавших чемоданы вручил дежурному офицеру парохода документы пассажиров первого класса кают: №№ 97, 96, 98. Чемоданы поставили рядом.
Пароход готовился к отплытию. Внизу в машинном отделении работала кочегарка. Разводили пары.
Через сорок минут «Президент Рузвельт» отдаст концы.
На пристани под железобетонными сводами, у входа к трапу на «Президент», двое мужчин нетерпеливо ходили взад и вперед, всматриваясь в проходившую публику.
– До сих пор нет!.. – говорил один.
– Да, это не похоже на Дикки… – говорил другой.
Оба вместе продолжали ходить и всматриваться.
Очевидно, видеть Дикки им нужно до зарезу, и его отсутствие становилось странным.
– Но ты звонил ему в отель?.. – остановился один.
– Звонил, – отвечал другой, останавливаясь.
– Ну?
– Говорят, уехал.
– Черт!..
Время шло. Оставалось 20 минут и первый удар гонга на пристани оповещал пассажиров и провожающих.
После третьего предупредительного удара, расталкивая толпу зевак, протискивался на платформу Чарльз Лоув. В самый последний момент он получил телеграмму о том, что его взбалмошная жена выехала и желает видеть его в Сан-Франциско.
Чарльз Лоув решил сделать жене крупный выговор, но все же остаться здесь и дожидаться ее прибытия. Он спешил за своими вещами.
– Я не еду, сэр! – обратился он к офицеру. – Где мои вещи, где мой желтый чемодан?
– Вот, сэр, – надеюсь, вы говорили об одном из них, – вежливо сказал тот, подводя Лоува к желтым чемоданам.
Лоув поблагодарил любезного офицера и его носильщик отправился за ним к автомобилю.
Дикки Ред не появлялся. Двое мужчин не ходили по платформе, они стояли рядом и смотрели на отходную горячку публики. Таможенные чиновники, вместе с дежурными офицерами парохода, обходили пассажиров с последней проверкой.
В двух каютах, занятых какими-то джентльменами, ехавшими до Токио, не оказалось ни одного человека, а у двух желтых чемоданов, по-видимому, не оказалось владельцев.
Однако, таможенный чиновник и дежурные офицеры заинтересовались происхождением желтых чемоданов и в короткое время около них собралась небольшая толпа.
Таможенный чиновник нетерпеливо обходил пассажиров с вопросом:
– Это ваш? Это ваш?..
И по мере того, как он по кругу женщин и мужчин приближался к чемоданам, он слышал только один ответ:
– Нет!
И, наконец, у самых чемоданов он тот же вопрос задал седой миссис в шелковом дорожном манто.
– Это ваш?
На этот раз таможенный чиновник услышал утвердительный ответ и крик седой миссис, упавшей от удивления и волнения в обморок.
– Мой!..
Ответ, вместе с молодым элегантно одетым джентльменом, Дикки Редом, вышел из большого желтого чемодана Супер-Глоб-Троггер Эч 4, Мак Дуглас и К0.
Наконец, прозвучал сигнал к отправлению, гуднула сирена, капитан приказал отдать концы и, прорезая пыльную и сальную воду гавани, качаясь своим гигантским телом, «Президент Рузвельт» пошел в океан.
Двое мужчин крепко выругались, плюнули и ушли.
Читатель извинит автора, желающего показать ему еще один, может быть, в последний раз, м-ра Чарльза В. Лоува – главного колдуна Нью-Йорка. Чарльз Лоув вошел в свою комнату в «Гранд-Отеле» вместе с черным лакеем, потевшим под тяжестью желтого чемодана.
Когда он остался один, то захотел вынуть свою любимую сигарету. Неизвестно, где он оставил свой портсигар и теперь ему пришлось лезть за ним в свой чемодан.
Но ему показалось, или телеграмма жены повлияла на его умственные способности вредным образом, – так или иначе, а желтый чемодан зашевелился. Он шевелился несколько секунд и в тот момент, когда Лоув хотел с криком выбежать в коридор, чемодан раскрылся и из него, потный и смешной, как негр в сметане, вылез высокий, сухой человек с синеватыми глазами, знакомый нам прежде всего по ресторану черного Билли.
Он кипел от гнева и его почтительность, с которой он всегда обращался к Лоуву, исчезла:
– Какого дьявола вам нужен был мой чемодан? Вот и убей после этого мерзавца Реда!..
Глава пятая,
или восстание негров
Я надеюсь, читатель, что ты принадлежишь к числу тех людей, из которых пыльный и душный город не вытравил способности чувствовать и любить природу. Позволь мне думать, что в теплые лунные ночи ты, повинуясь какой-то неопределенной силе, способен часами бродить по бульварам, уходить за город и на вершине Воробьевых гор подставлять свою уставшую за день грудь сладкому дыханию южного ветра.
Южный ветер! Ветер, который через много морей летит к нам от берегов таинственной Африки, ветер, в котором слышатся запахи девственных лесов, рыканье льва и злобный лай гиены. Ветер, который полон таинственных звуков тамтамов, негритянских барабанов, через мили переговаривающихся друг с другом на резком барабанном языке. Ветер, вплетающий в свои шорохи заунывную мелодию негритянской песни и исступленные причитания колдунов.
Когда ты был молод, читатель, ты зачитывался романами Буссенара и Луи Жаколио, – а впрочем, может быть, ты еще и сейчас молод и эти два писателя числятся в списке твоих любимых. Так или иначе, но по их романам ты знаешь, – думаешь, что знаешь Африку.
Ты представляешь себе отважных путешественников и исследователей, проникающих в таинственные дебри страны и там, сквозь тысячи опасностей, путешествующих с единственным желанием насадить великие начала европейской культуры в среде несчастных дикарей. Ты видишь их, – упорных и сильных, терпеливо расчищающих себе дорогу сквозь заросли диковинных растений, под угрозой нападения со стороны диких зверей. Ты волнуешься за них, когда они, измученные и усталые, приближаются, наконец, к цели своего путешествия, к какому-нибудь негритянскому поселку, затерянному в глухой чаще, и ты готов плакать от обиды и негодования, узнав, что жители поселка, вместо того, чтобы радостно приветствовать носителей культуры, встречают их сагаями и ликонгами. Невежественные дикари!
И вдруг ты узнаешь, что один из этих невежественных дикарей присутствовал на последнем конгрессе Коминтерна и говорил от имени миллионов негров.
Это не Буссенар и не Жаколио. Это не южный ветер, шепчущий тебе фантастические истории во время твоих ночных путешествий на Воробьевы горы. Это живой негр, с трудом и опасностями пробравшийся в далекую Россию. Он не пробирался через заросли тропических лесов, он не томился лихорадкой на берегах африканских рек. Нет, – там он чувствовал себя прекрасно и свободно! На своем великом пути в Советскую Россию он прошел через более дикую и страшную страну, чем его родная Африка. Он прошел через Европу! В этой Европе он видел, как культурные люди, впившись зубами в горло таких же людей, высасывали из них кровь и не считали это людоедством. В этой Европе он видел, как среди улиц городов, днем, не прячась и не стыдясь, белые звери терзали остриями шашек и огнем пулеметов людей, просивших куска ими же заработанного хлеба.
И от имени миллионов негров он говорил: спасибо вам за такую культуру! Дайте нам свободу и мы сами создадим свою культуру, культуру нового мира, культуру разума и труда!
Прислушивайтесь в голосу этого негра. Он расскажет вам правду об африканских экспедициях, он сорвет покрывала фантастики с героев Буссенара и Жаколио, он покажет вам их, этих передовых разведчиков капитала, – вольных или невольных, не все ли равно? В его рассказах встанет перед вами настоящая Африка, – Африка черных рабов, иссеченных воловьими бичами, Африка окровавленная, втоптанная в грязь сапогом французского и английского империализма, Африка зверских насилий над плохо вооруженными и почти беззащитными неграми. Тогда вы поймете, почему герои Буссенара и Жаколио встречали сопротивление на своем пути, тогда вы найдете слова оправдания для негров, в панике бежавших в глубь страны от культуры, которая несла с собой ярмо непосильной работы и удары бича.
Это не ветер, дующий с юга в лунную ночь. Это слова живого человека, говорящего от имени миллионов негров. Это не рыканье льва, не вой гиены, не причитание колдуна. Это стоны боли и обиды!
Негры совершенно не виноваты, что от берега моря до центра французской колонии добрых три сотни верст. Негры совершенно не виноваты, что владельцы сахарных плантаций и крупные охотники за слоновой костью хотят увеличить процент прибыли за счет расходов на провоз. Неграм нет никакого дела до того, что кто-то усиленно спекулирует на землях, расположенных по линии намеченной колониальными властями железной дороги. И негры не понимают, почему они должны поливать шпалы и рельсы этой дороги своим потом и своей кровью. Разве от этого поезд лучше пойдет?
Но белые хорошо знают, что они делают. Конечно, тысяча квалифицированных европейских рабочих сумела бы в более короткий срок выполнить работу двух тысяч негров. Конечно, переполняющие Европу безработные пошли бы даже в адские условия тропического климата. Но… белый рабочий примерно раз в десять дороже рабочего-негра. Поэтому выгоднее согнать с окрестных деревень десятки тысяч негров, угрозами, подкупами и обманом завербовать целые племена, окружить их хорошим нарядом полиции и местных, все равно бездельничающих войск.
А выгода для белого человека – все! Там, где он может опустить в карман несколько десятков лишних франков, там он ни перед чем не остановится. Великая вещь франк!
Можно было, конечно, провести железную дорогу в обход. Можно было сделать небольшой крюк с тем, чтобы обойти эти проклятые болота. Но инженеры, планировавшие стройку, точно рассчитали, сколько миллионов попадет в их карманы при засыпке болотистой полосы, а мосье Дюпоне, вчера содержавший притоны в Париже, а сегодня занимающийся спекуляциями в Африке, так ловко и так нахально закупил десятки акров тропического болота, что ни о каких обходах разговора быть не могло. Дорогу вели прямиком, сквозь леса и заросли, через реки и полные тысячами болезней низины.
Конечно, болото – пустяк для современной, вооруженной до зубов техники. Мало ли машин и сооружений предназначено для того, чтобы в кратчайший срок осушить любую лужу, даже превосходящую по своим размерам территорию самой Франции? Все, что раньше падало на людскую рабочую силу, теперь может быть возложено на эти гигантские паровые и электрические механизмы, и человеку останется только нажимать рычаги да кнопки, предоставляя блестящим ковшам землечерпалок проделывать грязную работу.
Но и здесь не повезло неграм! На свою негритянскую беду они оказались значительно дешевле, чем машины и применение их труда давало экономию. Поэтому машины так и не увидели берегов Африки, или увидели их в самом ограниченном количестве; а негры по колено, а иногда и по горло в воде, прокладывали путь через болота французских колоний.
На этой работе негр является чем-то вроде универсального американского ножика с двенадцатью приборами. Он заменяет ковши землечерпалок, на своей спине вытаскивая железные ящики с болотной тиной, он изображает лошадь, впрягаясь в тяжелую стальную рельсу и под бичом надсмотрщика волоча ее по вязкой почве; он катит тяжелый каток, утрамбовывая, параллельную железной, шоссейную дорогу и, наконец, он в свободное от работы время обслуживает белых, воздвигая им жилища около линии нового пути.
Там, где белые люди строят что-нибудь, всегда валяется мною свободных, несчитанных, всяческими способами наворованных денег. А где есть деньги, там немедленно строятся городки, вырастают рестораны, кафе-шантаны, игорные дома, притоны разврата, словом, все, в целом громко именуемое строительным городом. В момент постройки, – это бессистемная, наскоро распланированная кучка домов, населенных отборнейшими мерзавцами и аферистами, обманывающими, обсчитывающими и обкрадывающими друг друга.
Придет время и эти аферисты превратятся в почтенных граждан-старожилов. Они будут заседать в городском управлении и судах, от них будет исходить высшее толкование нравственности и закона. Мэр города с негодованием станет ловить на улицах выброшенных за борт жизни женщин и награждать их желтыми билетами, забывая, что несколько лет тому назад ему принадлежал первый в местности дом терпимости. Городской судья присудит к каторжным работам голодного, обокравшего кассу ювелирного магазина и, вероятно, не вспомнит о том, что было время, когда он сам по дороге к городу (тогда еще поселку) укокошил почтальона и отобрал у него всю почту, содержавшую в себе немало хороших, настоящих франков.
Придет время… А пока вся эта публика очень громко, откровенно и нагло хвастается своими аферами, играет в рулетку и баккара, кутит, развратничает и нимало не беспокоится о том, что смертность среди негров, дающих им возможность предаваться этому милому образу жизни, растет с каждым днем. Как истые французы, да притом еще французы-колонизаторы, они следуют в своей жизни любимой пословице – «После нас – хоть потоп!»
И поэтому, вечерами сходятся и съезжаются они в самому шикарному и богатому зданию поселка, к ресторану, носящему громкое название «Утехи любви». На экипажах и на автомобилях, верхом и на своих двоих, обутых в высоченные болотные сапоги, во фраках и смокингах, в грубых кожаных костюмах, в распахнутых до пределов приличия рубашках наполняют они залы этого ресторана и начинают там соревнование в трате денег, пьянстве и обжорстве.
В «Утехах любви» можно получить все, что угодно. Лучший повар, работавший в Париже у самого Максима, приглашен предприимчивым ресторатором. Для хранения продуктов выстроены прекрасные ледники и специальное сооружение поддерживает в них полярный холод. Правда, обед в «Утехах любви» стоит раз в десять дороже обеда в самом роскошном парижском ресторане, – а об ужинах, винах и специальных, по карточке и вкусу заказываемых, кушаньях и говорить нечего, – но это никого не смущает.
И в «Утехах любви» задорно гремит музыка, льются в бокалы чудовищно дорогие вина, уничтожаются изысканные кушанья и среди столиков, переполненных чавкающими, потеющими от обжорства людьми сплетаются в фокстроте обнаженные пары.
Негры на постройке питаются несколько иначе. В два часа, иногда в три, а иногда и вечером, вереницы рабочих сходятся к складам и получают там свою дневную порцию мясных консервов и какой-то не то вяленой, не то копченой рыбы. Раздатчики торопливо отсчитывают банки и рыбу, выдавая сразу на десять человек и совершенно не считаясь с правилами арифметики. Негры не смеют возражать и вступать в пререкания, так как надсмотрщики стоят рядом и подгоняют бичами замешкавшихся в очереди. Таким образом, и без того недостаточная порция дневной дачи уменьшается еще раза в полтора и несчастные рабы, измученные дневной работой, наскоро проглатывают пищу, чтобы заснуть тяжелым лихорадочным сном до следующего утра, – утра, наступающего в середине ночи.
И в довершение всего, даже те две банки консервов, которые попадаются на троих здоровых и зверски голодных негров, в огромном большинстве случаев совершенно непригодны в пищу. Раздутые бока этих банок открываются с зловещим шипеньем и вонючие газы, результат долгого гниения, прорываются наружу.
На постройке железной дороги зарабатывают не только те, кто стоит непосредственно около дела. Сотни капиталистов там, в Париже, наживаются на поставке недоброкачественных продуктов по весьма доброкачественным ценам. И негры вынуждены пожирать эту гниющую дрянь, пухнуть от голода и болезней и работать; работать так, как будто они съедают пуды первосортной пищи.
Границы человеческого терпения крайне неопределенны. Иногда они почти безграничны, иногда они до смешного узки. Границы негритянского терпения относятся к разряду первых. Ни раздатчики пищи, ни надсмотрщики, ни посетители «Утех любви», ни поставщики гнилых консервов не думали о том, что может настать момент, когда консервная банка вместе с пучком рыбы полетит в лицо раздатчика, а надсмотрщик, взмахнувший бичом, будет смят разъяренной толпой. Так долго и так много терпели негры, так покорны были они, что полиция и войска совершенно забыли о своих ружьях, а жители города насмешливо читали телеграммы о волнениях и забастовках в Европе…
И когда раздатчик Франсуа выплюнул пару зубов и десятка два отборнейших ругательств, он еще не думал, что это серьезно. Сверкнувший в его руке револьвер казался совершенно надежной защитой против напиравшей толпы чернокожих и при первом же выстреле он счел себя победителем. Но выстрел, хотя и попавший в цель и уложивший на месте одного старого негра, произвел совсем обратное обычному действие. Негры не отхлынули назад, не бросились врассыпную с криками боли и испуга, они ринулись на раздатчика, сбили его с ног, растоптали его босыми ногами, перевернули вверх дном охраняемый им склад и перекинули вспышки восстания к другим складам, где другие последовали за ними.
Местная полиция не смогла, даже в течение пяти минут, оказать сколько-нибудь серьезного сопротивления, а войска, – славные колониальные войска бежали в панике, оставив все оружие в руках восставших.
Командир батальона, герой Соммы и Марны, носивший на груди и английский крест Виктории, и ленточку Почетного легиона, совершенно растерялся, увидев черную толпу, двигающуюся к его дому. Он едва успел вскочить на свою лошадь и, всадив ей в бока шпоры, бешеным карьером помчался по направлению к городу.
На окраине города он на секунду остановил взмыленную лошадь, как бы раздумывая, куда направить путь, а потом решительно повернул в ту улицу, на которой сверкал огнями дуговых фонарей подъезд ресторана «Утехи любви».
Мосье Дюпоне сделал дело. Вчера он получил свыше миллиона франков за болотистые участки, вошедшие в полосу отчуждения. Сегодня он поэтому случаю кутил; кутил так, что даже видавший виды содержатель ресторана от времени до времени протирал глаза, желая убедиться, не спит ли он. Весь зал ресторана напоминал собой что-то вроде Дантовского чистилища. Несколько десятков посетителей валялись под столами и просто под ногами танцующих и десятка два полупьяных полуголых пар кружились под звуки невероятной музыки в каком-то совершенно невероятном танце.
Сам Дюпоне сидел за столиком, уставленным бутылками, и занимался чрезвычайно важным и серьезным делом. Он выкупал в ванне с шампанским полдюжины танцовщиц и теперь, разбавив эту ванну абсентом, коктейлем, виски и ромом, предложил пять тысяч франков тому, кто, нырнув в эту смесь, проглотит дюжину устриц, не захлебнувшись и не опьянев. Нашлось двое желающих, скидывавших с себя смокинги, и один из них уже приготовился к опыту, когда в зале появилась фигура военного, который расталкивая танцующих, переворачивая столики и опрокидывая батареи бутылок, ринулся прямо к кутящему спекулянту.
– Мсье Дюпоне! – заорал он так, что бокалы вздрогнули и серебристым звоном выразили свое негодование по поводу столь грубого поведения. – Мсье Дюпоне!
– А, капитан, – приветствовал Дюпоне военного. – Стакан смеси капитану!
– Мсье Дюпоне, я не буду, я…
– Стакан смеси капитану и – пейте, капитан!
– Мсье Дюпоне…
– Сорок лет Дюпоне! Чего вы волнуетесь?
– Негры, мсье Дюпоне. Негры…
– Что негры? Сдохли, что ли?
– Хуже. Восстали! Негры восстали!
Собиравшийся выиграть пари человек при этом известии поскользнулся в винной ванне и чуть-чуть не нырнул в нее головой. Несколько танцующих пар остановились; даже один из лежавших под столом попробовал приподняться. Только Дюпоне оставался спокойным и словно не слышал сообщенной ему новости.
– Да вы выпейте, капитан, – настаивал он.
– Но, мсье Дюпоне! Они убили нескольких раздатчиков и надсмотрщиков, они разоружили войска и полицию, они идут к городу, они…
– Вы мне надоели! А на ваших негров я – плевать хотел!
Плюнуть Дюпоне не успел. Раньше, чем он уговорил капитана выпить и успокоиться, негры ворвались в город и ринулись к ресторану. Не прошло и часа, как Дюпоне плавал в винной ванне с размозженной головой, а остальные участники попойки, с визгом, криками и руганью, пытались бежать через окно и крышу пылавшего здания. Восстание росло, охватывая все новые и новые районы постройки, а к утру перекинулось на всю область.
Разбитая голова Дюпоне, растерзанные надсмотрщики, голые танцовщицы, уведенные в глубь тропических лесов, сгоревший поселок и остановившиеся работы, все это вместе взятое отразилось на Парижской бирже: трансафриканские, вчера еще шедшие на повышение, сегодня с резвостью молодого теленка сделали совершенно неожиданный прыжок, стоивший много миллионов франков некоторым биржевикам. Перепуганные, взволнованные люди толпились в биржевом зале, ловили сплетни и слухи и бешено продавали трансафриканские акции.
До двух часов дня среди предложений не было ни одного голоса, выразившего желание купить. Люди метались как угорелые, торопя маклеров, маклеры тщетно искали покупателей и только к концу биржевого дня кто-то заявил о том, что он покупает трансафриканские в каком угодно количестве за одну треть их номинальной стоимости. Попробовали было сыграть на повышение, но едва один или два продавца запросили больше предложения, черная доска снова бросила цифры, возвещавшие о том, что акции стоят в одну четверть номинала. Кто-то играл на негритянском восстании, играл уверенно и спокойно.
Тайну этой игры следовало бы искать в кабинете военного министра в день описанной нами биржевой паники.
Вот уже больше часа военный министр беседует с высоким, крепким, но совершенно седым человеком. В их разговоре играют видную роль блокноты, испещренные карандашными записями, выражающимися в рядах шестизначных цифр.
– Вы понимаете меня? – говорит седой человек министру. – Я скупаю: скупаю все акции по той цене, какую даю я. Никто не осмелится попросить больше. Едва хоть один из продавцов поднимет цену, я прекращу скупку, и акции снова сделают бешеный прыжок вниз. От вас требуется одно! Задержать экспедицию до моего распоряжения и самым старательным образом раздувать опасность.
Министр колебался.
– Это рискованное дело, – говорил он. – Вы сами понимаете, что оно может стоить мне моей карьеры. Я имею распоряжение президента выслать экспедицию немедленно.
– Немедленно понятие растяжимое, дорогой. Послать эскадрилью аэропланов в Африку дело нешуточное. Приготовления могут занять более суток. А этого времени для меня совершенно достаточно. Акции будут в моих руках.
– По нас каждую минуту просят о помощи. Негры бушуют по всей территории и гибнут сотни белых.
– Каких белых? – Вся эта сволочь, которая работает там на постройке, немногим больше стоит, чем те негры, которых они надували. Если даже их всех перебьют, то неужели мы не найдем в нашей славной республике достаточное количество умных негодяев на смену? Полноте, господин министр! И кроме того, ведь то, что вы делаете для меня – вы делаете, разумеется, не бесплатно. Будем говорить откровенно. Я вам сейчас же передаю акции на сто тысяч франков. Это по сегодняшней цене. После ликвидации восстания они поднимутся в четыре раза. Полагаю, что дело сделано.
Строители дороги, бежавшие под защиту соседей-англичан, ничего не понимали. Отчего медлит метрополия? Отчего не идет помощь? Отчего никто не спасает их драгоценные жизни? Они не понимали, что там, в Париже люди, в тысячи раз более богатые, чем они, ведут крупную игру и что для этих людей они значат ровно столько же, сколько для них самих значили восставшие теперь негры.
Лейтенант воздушной службы де Лорм совершенно не подозревал, что помещенное в отделе «биржа» утренней газеты извещение о том, что продажа и покупка трансафриканских прекратились и что акции твердо стоят в одну пятую номинала, сколько-нибудь относится к нему. На бирже он не играл, предпочитая этому делу игру в клубе, и извещение прочел совершенно случайно, от нечего делать перелистывая принесенную лакеем газету. Он совершенно спокойно позавтракал в своем любимом ресторане на площади Этуаль, как всегда катался после завтрака верхом по аллеям Булонского леса, отдал пару-другую дневных визитов, перемешивая деловые с любовными, и ровно в десять часов вечера явился в клуб сыграть партию в баккара. В разгаре игры, когда де Лорм шел по банку в двадцать тысяч, к нему подошел лакей и протянул поднос, на котором лежал конверт с бланком военного министерства. Не прерывая игры, де Лорм небрежно раскрыл карты и, предоставляя партнерам сообразить, выиграл он или проиграл, вскрыл конверт.
Когда он прочел предписание немедленно прибыть на аэродром для того, чтобы утром следующего дня вылететь с эскадрильей в Африку, он вспомнил о прочитанном им в утренней газете.
– Я вынужден прервать игру, господа, – сказал он, обращаясь к партнерам. – Меня срочно требуют по месту службы. Я надеюсь, что вы извините меня. Через, – он остановился, что-то высчитывая, – через пять дней я буду здесь и мы сможем окончить партию. А пока…
Когда он повернулся, чтобы уйти, ему крикнули вслед:
– Да заберите ваши двадцать тысяч, де Лорм, – вы сняли банк!
Он спрятал в бумажник шелестящие банковые билеты, думая, что деньги всегда и везде пригодятся, даже в Африке.
Прямо от клуба автомобиль помчал его за город, туда, где широким квадратом раскинулся величайший в мире полувоенный, полугражданский аэродром. Оборудованный по последнему слову летной техники, он был особенно красив ночью, когда приспособления для ночных полетов заливали ярким светом всю его безукоризненно ровную, с помощью точной математики выверенную поверхность.
Машина на минуту задержалась у ворот, чтобы предъявить пропуск охране, и потом помчалась дальше, минуя освещенные пристани для пассажирских аэропланов, совершающих регулярные рейсы над страной. Слушая указания де Лорма, шофер пересек аэродром в западном направлении и через несколько секунд остановился у ряда ангаров, где уже копошились летчики и механики, выводившие, проверявшие и осматривающие машины.
В составе эскадрильи были аэропланы всех употребляющихся в воздушной войне типов. Де Лорм летал на истребителе. Он знал, что в африканской стычке с дикарями его игрушке, предназначенной для боев с аэропланами противника, делать абсолютно нечего и удивленно спросил начальника эскадрильи: зачем он должен лететь вместе с другими.
– Не забудьте, – ответил тот, – что мы пролетим над Гибралтаром и английскими колониями. Наше правительство уже получило разрешение на этот кратчайший путь. Надо показаться во всем своем блеске. Пусть знают, как мы выглядим в воздухе!
Это соображение де Лорм счел достаточно веским и с особым старанием приводил в порядок свою машину, почти до утра провозившись с ней.
На рассвете эскадрилья поднялась в воздух и над сонным Парижем двинулась по направлению к югу.
Начало полета не предвещало никаких неприятностей. Для де Лорма, да и для других участников этой экспедиции, она казалась чем-то вроде увеселительной прогулки и они превратили полет в учебно-маневровую вылазку. Аэроплан командира непрестанно передавал приказания и, послушные его голосу, остальные аэропланы перестраивались так же гладко и быстро, как хорошо обученные солдаты в роте. Погода стояла ровная и теплая, легкий ветер дул с севера, умножая скорость машин, моторы работали совершенно исправно и до самых берегов Африки ничто не нарушало хорошего настроения и спокойного состояния летчиков.
При приближении к африканскому берегу, начальник эскадрильи отдал распоряжение снизиться и все поняли, что делается это для того, чтобы лишний раз пугнуть еще не вполне пришедшие к повиновению племена пограничных с Алжиром областей.
Эскадрилья теперь летела так низко, что с земли можно было разглядеть не только очертания аэропланов, но и фигуры сидевших в них летчиков.
Сверху видно было, как в панике метались верблюды, сбрасывая груз и всадников, а один раз де Лорм разглядел в бинокль льва, вылезшего из какой-то расселины и посылавшего негодующий рев навстречу дерзким нарушителям его покоя. Один из аппаратов угостил царя пустыни дождем пулеметных пуль, но они не попадали в цель и только вырыли землю в нескольких шагах от животного. Лев стоял, волнуясь и рыча, нервно взрывая землю когтями передних лап. Потом внизу показались гордые и прекрасные туареги на своих огромных верблюдах. Эти люди, живущие в самом сердце пустыни, ничем не выражали своего волнения и только мельком взглядывали на аппараты, рассекавшие раскаленный воздух.
Того, что случилось несколькими минутами позже, не ожидал ни начальник эскадрильи и никто из летчиков. Любопытство и желание пугнуть обитателей Сахары заставило их снизиться еще больше и они не успели опомниться, как налетел вихрь, поднимая тучи песка и осыпая им людей и машины.
Самум! Он страшен там, внизу, где целые караваны гибнут под горами налетающего со всех сторон песка, где люди и животные задыхаются в его бурных объятиях. Он страшен для жителей городов и оазисов, не успевающих вовремя закрыть входы и окна своих жилищ, он страшен для птиц и пресмыкающихся, для страусов, верблюдов и львов.
Но он страшен и здесь, наверху, куда долетают взметенные им песчаные струи, он страшен для хрупких аэропланов, для их пропеллеров, теряющих точность своих оборотов, для их двигателей, во все отверстия которых набираются песчинки и мелкие камни. Скорей вверх! Скорей вверх – туда, где небо спокойно, где нет песка, нет злобных порывов урагана. Взять высоту!
Такое именно распоряжение было отдано с командирского аэроплана, – последнее распоряжение, которое слышал де Лорм. Его легкий и хрупкий истребитель более других машин был сломлен и сбит злобным вихрем. Он буквально застревал в тучах песка, его мотор давал перебой, его полет сделался неровным и колеблющимся и он отказался повиноваться руке летчика. На несколько мгновений перед де Лормом встал весь ужас падения, падения туда, в пустыню, в жерло самума, в тучи взволнованного песка.
Страшным усилием воли прогнал он надвигавшийся страх и заставил свой мозг напряженно работать в поисках выхода. А выход был один. Отдаться воле ветра и заботиться только о том, чтобы машина не опрокинулась, не пошла в штопор. Его руки приросли к рычагам, его мысли, его воля были направлены в одну точку, к одной цели. Некоторое время он еще видел невдалеке от себя один из аппаратов эскадрильи, также, как и он, боровшийся с бурей, но потом этот аппарат взял высоту и скрылся из глаз де Лорма.
Один в море песка, один в порывах страшного урагана! Его попытки подняться выше, чтобы выйти из опасной полосы, не приводили ни к чему. Аппарат не повиновался рулю высоты, хоть руль, по-видимому, не был сломан. Сперва де Лорм не понимал причины этого, но потом сообразил, что густые песчаные тучи не только мешают подъему, но даже все больше и больше снижают аппарат. Гибель казалась неминуемой. Вся надежда была на бешеную скорость, с которой увлекаемый мотором и ветром аэроплан мчался вперед. Точно учесть эту скорость летчик не мог, так как указатель отказался работать, но он чувствовал по тому, с какой силой врывается воздух в его готовые разорваться легкие, что эта скорость огромна и от нее, от этой скорости, ждал он спасения.
Между тем, остальные аппараты эскадрильи благополучно вырвались в слой воздуха, свободный от песка и урагана. Летчики с ужасом и волнением смотрели вниз, туда, где бушевало желтое море, туда, где со всех сторон налетавшие вихря сплетались в хаотическом танце. С командирского аэроплана произвели перекличку. На призывы откликнулись все, кроме истребителя де Лорма. Командир спросил остальных летчиков, но де Лорма никто из них не видел. Очевидно, он остался там, внизу, и только чудо могло спасти его. Авиаторы не верят в чудо, и поэтому все они были уверены, что летчик де Лорм пал жертвой самума.
Мало-помалу самум стал ослабевать и де Лорм стал различать землю сквозь значительно поредевшие тучи песка. Ему необходимо было спуститься и привести машину в порядок, прежде чем продолжать полег.
Не переставая прислушиваться к течению воздушных струй и скорее инстинктивно, чем сознательно, выравнивать машину, он одновременно рассматривал расстилавшуюся внизу местность и с удивлением и испугом увидел, что он летит уже не над пустыней, а над лесом. Это открытие повергло его в крайнее уныние, тем более, что мотор почти отказывался работать, давая все время опасные перебои. Нельзя же планировать на деревья!
Но всем остальном дело обстояло благополучно. Несколькими пробами он убедился, что никаких серьезных поломок в управлении нет и что только кое-куда набившийся песок мешает правильному полету. Запас бензина имелся в достаточном количестве и, если бы только удалось найти место для спуска, то он сумел бы нагнать эскадрилью. Пока что он попытался несколько подняться, чтобы иметь разгон на случай спуска и вместе с тем избегнуть тех воздушных течений, которые всегда бывают над лесистой местностью. Это ему удалось и, едва взяв пару сотен метров высоты, он увидел прекрасную полянку, достаточную и для спуска и для обратного подъема. Правда, могло оказаться, что эта полянка с болотистой почвой, и что подъем с нее окажется невозможным, но раздумывать и выбирать не приходилось. Он остановил мотор, и без того готовый перестать работать, и легко скользнул вниз.
Небольшая хвостатая обезьяна с наслаждением раскачивалась, повиснув вниз головой на ветке какого-то дерева. Ее довольно длинный хвост позволял ей брать значительный размах и она была на верху блаженства. При каждом удачном броске она скалила зубы и делала руками какие-то странные жесты, словно пытаясь поймать воздух. В ее маленьких черных глазах застыло выражение сладострастного блаженства, а ее ушки шевелились в такт раскачиванию. Какое наслаждение! Вероятно, наша любовь к качелям досталась нам в наследство от далеких наших праотцев, подобно этой обезьяне качавшихся на своих длинных хвостах в доисторических лесах.
Итак, обезьяна в тропическом лесу устроила аттракцион из своего собственного хвоста и ветки дерева. И устроила это как раз в тот момент, когда французский летчик де Лорм решил спланировать на полянке этого самого тропического леса.
Де Лорм, конечно, не заметил обезьяну. Его глаза слишком были заняты, чтобы обратить внимание на этот маленький, серенький комочек, мелькавший в зеленой листве. Но обезьяна, само собою разумеется, заметила и де Лорма и его аппарат, заметила, как только они появились в поле ее зрения, вынырнув из-за вершин окружавших поляну деревьев.
В ее маленьком обезьяньем мозгу мысли текли примерно таким порядком. Вот падает с неба какой-то зверь, который обязательно меня слопает. Поэтому мне надо во что бы то ни стало удрать. Но зверь этот мною еще невиданный и крайне интересный, поэтому мне надо его посмотреть. И поэтому, уйду я настолько, чтобы этот зверь меня не увидел и не слопал, но чтобы я его все-таки видела и рассмотрела.
Следуя этой мудрой диалектике, она скрылась в ветвях, раздвинула листья и внимательно смотрела за тем, что произойдет дальше.
Страшный зверь напоминал собой большую птицу с каким-то необычайным, быстро вертящимся клювом. Он легко сел на полянку и побежал по ней прямо по направлению к дереву, облюбованному обезьяной.
– Так и есть, эта огромная скотина хочет меня слопать, – решила та и приготовилась к бегству. Но в ту самую минуту птица перестала крутить своим клювом и остановилась в нескольких шагах от дерева. Обезьяна осмелела и осталась. Теперь она ясно видела, что это птица, птица с огромным кривым клювом, хвостом и крыльями. Но… бедная обезьяна чуть не забилась в истерике. На спине этой птицы сидела огромная обезьяна с коричневым лицом и страшно большими глазами. Будь что будет – она должна досмотреть до конца.
Обезьяна, сидевшая на спине птицы, соскочила с нее и первое, что сделала – протянула руки к своей безобразной голове и… бедная маленькая обезьянка завизжала от страха… обезьяна там внизу, у птицы, сняла свою голову! Обезьянка на дереве закрыла глаза, а открыв их через мгновение, увидела, что большая обезьяна успела приставить себе другую голову, уже не такую страшную, но и не похожую на обезьянью. Во всяком случае, это очень странная и достойная всякого уважения обезьяна. Маленькое четверорукое на дереве почувствовало себя таким жалким, несчастным и незначительным. Оно взяло свою голову в ладони рук и попробовало снять ее с шеи. Увы, ничего не выходило. Далеко ей до той большой обезьяны.
В это самое время летчик деятельно принялся за осмотр своей машины. Он подошел к пропеллеру, попробовал его ход и, не подозревая об этом, совершенно уронил себя в глазах наблюдавшей за ним обитательницы тропического леса. У него не было хвоста.
Маленькая обезьянка торжествовала победу.
Возня с машиной отняла гораздо больше времени, чем рассчитывал де Лорм. Когда он спустился на лесную поляну, было еще светло и только чаща леса, в который, может быть, ни разу еще не ступала человеческая нога, пугала темно-зеленым провалом.
Де Лорм не взглянул даже в направлении леса, не поинтересовался окружающей его природой. Он был занят своим делом и выбивался из сил, стараясь как можно скорее привести аэроплан в состояние, годное для полета. Однако, это было не так-то легко. Приходилось каждый паз, каждое соединение очищать от набившихся песчинок и маленьких камней, причем приходилось делать это одному, без помощи механика.
Время шло. Темно-зеленый провал леса стал еще темнее, сама поляна потонула в колеблющихся сумерках и когда, наконец, все было исправлено, перед де Лормом встала необходимость приготовиться к ночевке, так как лететь ночью над незнакомой ему, да притом еще лесистой местностью он не решался. Он зажег маленький электрический фонарь и, держа его в руке, в последний раз проверил состояние машины. Убедившись, что все в исправности, он намеревался уже влезть на крыло и вздремнуть до рассвета, как вдруг услышал шорох в ветвях одного из деревьев. Прямой и острый луч фонаря осветил маленькую длиннохвостую обезьянку, пугливо нырнувшую под прикрытие тяжелых, странной формы листьев.
Вид испуганного зверька толкнул мысли летчика в новом направлении. Он с невольной дрожью подумал о том, что в чаще леса бродят животные много серьезнее этого безобидного крошечного существа, испугавшегося его электрического фонарика. Невольно он прислушался и до его ушей донеслись тысячи шорохов и странных звуков, до сих пор мало тревоживших его.
Де Лорм был городским жителем и никогда не любил и не знал природы. Ее язык оставался для него чуждым и непонятным, и сейчас, оставшись один на один с многоголосой тишиной тропической ночи, он невольно поддался чувству странного беспокойства. В его мозгу мелькнули воспоминания о читанных в детстве романах, и он силился вспомнить те случайные уроки географии, которые запечатлелись в его мозгу. Какие чудовища водятся здесь? Какая опасность грозит ему, заброшенному в чащу западно-африканских лесов? Водятся ли здесь тигры, львы, слоны, пантеры? Опасен ли для человека слон и может ли слон вынырнуть из-за густых деревьев, окруживших поляну? Ни на один из этих вопросов он не находил в своей памяти определенного ответа, но инстинктивно чувствовал, что опасность есть, что за каждым деревом таятся хищники и что эти хищники далеко не доброжелательно настроены по отношению к нему и его машине.
Напрягая зрение, обостряя слух, он впился глазами в стену огромных деревьев, дышавших ему в лицо пряными, одуряющими ароматами. Вот какая-то тень мелькнула невдалеке и скрылась за стволом темно-зеленого гиганта. Вот кто-то крадется, раздвигая хрустящий сухостой. Вот чьи-то глаза желтым светом горят в кустарнике. Вот по ветвям ближе других стоящего к нему дерева ползет что-то продолговатое, внимательное и ловкое. Он не успевает поворачивать голову навстречу мнимым и действительным опасностям, он прижимается к кузову аппарата, стараясь уйти под защиту крыльев, и в его мозгу вырастает сознание того, что враги, привлеченные запахом человека, отлично видят своими кошачьими глазами его, беспомощного, жалкого и слепого, в этой непроглядной тропической ночи. Он перестает владеть собой. Ему хочется бежать, закрыв лицо руками и раздирая сплетающиеся ветви, бежать с диким животным криком о помощи. Он борется с этим желанием, но помимо воли крик срывается с его губ, а рука тянется к револьверу. Еще несколько мгновений пытается он привести в порядок свои нервы и найти какой-нибудь разумный выход, но мысли сбиваются в кучу, как стадо испуганных овец, и летчик де Лорм, выхватив револьвер, пулю за пулей выпускает навстречу тьме, сопровождая каждый выстрел нечеловеческим криком.
В кустах, неподалеку от аэроплана, припавший к земле ягуар бьет хвостом и, пугливо ежась, роет когтями землю. Маленькая обезьянка на ветвях дерева, парализованная страхом, охватив руками толстую ветку, прижимается к ней своим худеньким телом и вздрагивает при каждом выстреле. Пули врезаются в стволы огромных деревьев, и эхо выстрелов разносится тысячами перекатов в мрачных глубинах леса.
И вслед этому эхо несется душу раздирающий крик человека, готового сойти с ума от охватившего все его существо страха.
Первым откликнулся Фокс. Его тонкий собачий слух уловил отдаленный крик и звуки выстрелов. Он приподнялся, с трудом удерживая равновесие на круглом суку, и протяжным лаем ответил на долетевшие до его ушей шумы.
Бинги, разбуженный лаем, попробовал успокоить собаку, полагая, что она просто нервничает в непривычной обстановке, но, уловив грохот выстрелов и усевшись на скрещение ветвей, растолкал Виктора. Тот с трудом открыл глаза и недовольно зевнул.
– Стреляют! Стреляют!
Двое людей и собака, в глубине тропического леса, на ветвях огромного дерева, сидели, прислушиваясь к нервной стрельбе, которую стволы деревьев, перебрасывая друг другу, доносили до них.
– Это из револьвера, – сказал наконец Виктор.
– Это стреляет один. Ему никто не отвечает. Он нервничает. Он стреляет без толку, – прибавил Бинги, чуткий слух которого прекрасно разбирался в характере и значении всех звуков, наполнявших природу.
– Это, кажется, недалеко? – попробовал определить расстояние Виктор.
– Нет! – Бинги покачал головой. – Это порядочно.
– Не думаешь ли ты, что нам надо пойти туда? А, Бинги?
– Если ты не боишься! Ночью опасно идти лесом.
– Нас двое и Фокс предупредит всякую опасность. Там один человек и ему, по-видимому, надо помочь. Мы должны пойти, Бинги!
Они очень устали за день беспрерывной ходьбы. Виктор чувствовал себя совершенно разбитым, все тело его ломило, как после долгой болезни и странная слабость сковывала движения. Бинги тоже не мог похвастаться хорошим самочувствием. Несколько верст ему пришлось нести на себе бесчувственного Виктора, раньше чем местность позволила остановиться в полной уверенности, что преследователи не настигнут беглеца. На опушке леса негр привел в чувство спасенного им человека и немедленно тронулся дальше, на ходу знакомясь с Виктором и рассказывая ему свою историю. К вечеру оба были вполне осведомлены друг о друге и решили переспать на дереве, чтобы утром подумать, как быть дальше.
И вот во время отдыха звуки далеких выстрелов снова путают их карты. Что означает эта стрельба? Врага или друга встретят они, бросившись на стрельбу? Поможет им эта встреча или помешает? Все эти мысли уступили место одной – там человек борется с какой-то опасностью. Он один и, судя по характеру, стрельбы испуган и растерян. Надо поспешить ему на помощь. Двое людей, только что избегнувших смертельной опасности, не могли долго раздумывать над тем, как поступить. Чувство беспомощности и страха смерти хорошо было знакомо им обоим. На себе они испытали весь ужас одиночества в те минуты, когда помощь и поддержка необходимы более, чем когда бы то ни было. И сознание того, что кто-то нуждается в помощи, совершенно заслонило и чувство усталости, и рискованность ночной прогулки по тропическому лесу.
Первым соскочил на землю Бинги, за ним последовал Виктор. Фокс долго колебался и с визгом ерзал на ветке, не рискуя прыгнуть в тьму, расстилавшуюся у его ног. Виктору пришлось снять его. Пес взволнованно потянул носом, тявкнул на какое-то пресмыкающееся, выскользнувшее из-под его ног и побежал рядом с Бинги и Виктором, не рискуя ни отставать, ни вырываться вперед.
Как раз в эту минуту стрельба прекратилась, чтобы после короткого перерыва возобновиться с новой нервностью и неровностью.
– Он переменил обойму, – сказал Виктор, а Бинги остановился, вслушавшись в неверные раскаты эхо, махнул рукой по направлению к востоку и сказал:
– Это там, и это не так далеко, как я думал.
Когда они прошли еще шагов сто, стрельба снова прекратилась и уже более не возобновлялась. Ее нервную трескотню сменил новый звук, ровный и ритмичный, заставивший Виктора подпрыгнуть от изумления.
– Бинги, – вскрикнул он, – или я ничего не понимаю, или… бежим! Бежим, скорее!
Он бросился в чащу, увлекая за собой негра.
Де Лорм выпустил в оскаленную пасть тьмы последнюю обойму, находившуюся у него под рукой. Еще две были запрятаны где-то на дне маленького чемодана, лежавшего в аппарате, но он не в силах был сообразить это. О пулемете, укрепленном на передней части аэроплана, он вспомнил только затем, чтобы убедиться в том, что машина села, очевидно, от набившегося в ее сложный механизм песка. Он с ужасом подумал о смерти в когтях диких обитателей леса и ему казалось, что из-за всех кустов и деревьев, окружающих поляну, сотни блестящих глаз следят за его движениями. В паническом страхе он метнул острым лучом фонарика прямо перед собой и еще ярче ощутил свое полное бессилие, когда этот слабый поток света исчез в глубокой тьме, вырвав из нее какой-то диковинный куст, усеянный яркими, похожими на огромных пестрых бабочек цветами. На мгновение мелькнула мысль о костре, но необходимость возиться с его устройством испугала авиатора и он оглянулся кругом, ища какого-нибудь выхода из положения. Колеблющийся луч дрожавшего в его руке фонарика осветил передок аэроплана и отразился в блестящей полированной поверхности пропеллера. С решительностью отчаяния летчик бросился к мотору, пустил его в ход и быстро привел в движение искривленные плоскости воздушного винта.
Маленькая обезьянка наверху в жизни своей не слышала такого звука. Она знала много страшных ревов и криков. Не раз, прыгая по ветвям, видела она, как огромные, ломавшие молодые деревца слоны сталкивались с ловкими гибкими ягуарами и вступали с ними в бой. Она дрожала от ужаса, наблюдая эти дикие схватки. В ее ушах тысячью громов отдавался предсмертный рев побежденной лесной кошки, бившейся в хоботе огромного толстокожего, и торжествующий крик победителя. Путешествуя по лесной опушке, она слышала, как рычат львы, выходящие на охоту, а в теплые весенние ночи весь лес стонал любовными мелодиями, непередаваемо дикими и противными. Она привыкла ко всем этим звукам и, чувствуя себя в безопасности на ветке дерева, только вздрагивала, когда чье-нибудь страстное томление прорывалось в оглушительном вое, переходившем в протяжное мурлыканье.
Но сегодня она услышала звук, который превосходил все, доселе тревожившие ее уши. Гигантская птица, стоявшая под деревом, закричала так громко и так резко, неожиданно, что бедное животное со страху потеряло равновесие и упало вниз, прямо вовнутрь аэроплана. В испуге обезьянка заметалась, хватаясь лапами за какие-то палки и стальные полосы, и нервно потянула одну из них к себе. Аппарат вздрогнул и вместе с дрожавшим от смертельного страха животным побежал по полянке.
В это самое мгновение огромный ягуар, как разогнутая пружина, прыгнул с высоты толстого сука и сильным толчком своего мускулистого тела подмял под собою не успевшего сообразить, что с ним случилось, летчика. В одно мгновение животное запустило свои когти в грудь жертвы и острыми зубами перекусило ему горло. Потом ловким движением головы вскинуло бездыханное тело к себе на спину и скрылось в лесу.
С другой стороны поляны, навстречу бегущему по земле аэроплану, неслись две человеческие фигуры, под ногами которых, с визгом и лаем, кувыркался маленький Фокс.
– Держи его! – кричал Виктор, совершенно пораженный странным обстоятельством. Аппарат, без пилота, в глубине тропического леса. Такое событие могло привести в оцепенение самого спокойного человека, но Виктору некогда было разбираться в деталях раскрывшейся перед ним картины. Он весь был занят стремлением задержать аппарат, с бешеной быстротой мчавшийся навстречу деревьям и неминуемой катастрофе.
– Бинги! Хвост! Хвост! Бинги! – кричал он, забегая сбоку и вскакивая внутрь аппарата.
Негр сообразил, в чем дело и, упираясь ногами в землю, старался крепче держать хвост аппарата, который волочил за собой напрягавшего мускулы человека. Виктор с удивлением увидел, как спугнутая им обезьяна выскочила с жалобным визгом и бросилась к деревьям. Он ровно ничего не понимал и, машинально нащупав рычаги, остановил машину. Несколько мгновений аэроплан еще катился вперед, увлекая за собой Бинги и Фокса, вцепившегося в передник своего чернокожего приятеля. Наконец, движение ослабело и, повинуясь усилиям людей, стальная птица замерла в нескольких шагах от огромного дерева.
Виктор и Бинги долго соображали – в чем, собственно говоря, дело. Складывая в одну все подмеченное ими: выстрелы, обезьяну, сидевшую в аппарате, лужу крови и кусок какой-то ткани вместе с не остывшим еще мясом, обнаруженным Фоксом у того места, откуда, судя по направлению примятой травы, отъехал задержанный ими аэроплан, они пришли к выводу, что искать летчика совершенно напрасно и что аппарат принадлежит им по праву преемственности.
С первым их выводом было согласно и французское правительство: через неделю после описанного события, во всех газетах Парижа можно было прочесть объявление о том, что военное министерство с прискорбием сообщает о гибели летчика де Лорма, последовавшей во время перелета из Парижа в колонии. Со вторым – французское правительство вряд ли согласилось бы, если бы только господа из министерства могли видеть, как на рассвете одного из тропических дней негр, белый и Фокс поднялись на аэроплане французского военного ведомства над деревьями девственного леса и понеслись на восток, пересекая наиболее малонаселенную часть Африки…
– Надо постараться, чтобы поменьше глаз следили за нами, – сказал Виктор, с тревогой думая, не разучился ли он управлять машиной за последние несколько месяцев.
Глава шестая,
в которой совершается роковая ошибка
31 августа «Президент Рузвельт» вошел в прекрасную гавань Иокогамы. На пристани «Бунд» пестрая, своеобразная японская толпа; белая на добрых 50 % поглотила прибывших иностранцев.
Дикки сел в автомобиль отеля «Ориенталь» и через несколько минут, среди сотни других американцев, расписывался в книге шикарного, лучшего в городе пристанища для приезжих.
Каждый американец, вне зависимости от своих политических убеждений, любит комфорт; янки ценит усовершенствованный пылесос, электрическую зажигалку, миниатюрный радиоприемник и может целую вечность наслаждаться утренней ванной и шершавой мохнатой простыней, приятно раздражающей тело.
Отель «Ориенталь» в этом отношении мог удовлетворить самого высокопроцентного парня из страны долларов.
«Президент Рузвельт» освободился от живого двуногого груза в пять часов вечера. В шесть Дикки Ред гулял по городу и всматривался в необычайный для него колорит.
Иокогама грелась в лучах заходящего солнца и гудела, как хороший пчелиный улей, муравьиным зудом движения. В длиннополых кимоно и забавно подвязанных внизу у щиколотки широких шароварах, в цилиндрах, в плоских шляпах, плетеных корзинках вместо шляп и в кепках двигалась толпа японцев, корейцев и китайцев.
Но не нужно было удивляться и встрече с японским джентльменом в модном костюме, круглых роговых очках и прекрасном броссалино на голове. Здесь можно было встретить иностранцев из любой части света. Особенно много попадалось русских.
Иокогама – одна из важнейших гаваней Тихого океана. Сношения Америки с Азией происходят через этот милый порт, вмещающий неисчислимые тысячи тонн товаров и переправляющий их вглубь страны и на азиатский континент.
В связи со своим удобным географическим местоположением, Иокогама из небольшой рыбацкой деревушки преобразилась и причесалась под взрослый цивилизованный городок.
Городок засиял множеством электрических ламп. Улицы наперебой пестрели вывесками и экзотической рекламой.
Приятно радовали глаз чистые асфальтовые тротуары.
Среди деревенских строений с раздвигающимися стенами снаружи и ширмами, вместо комнатных стен внутри, попадались солидные железобетонные здания банков, американских торговых фирм и отелей.
Лошади отсутствовали, их заменяли терпеливые, худосочные, похожие на выжатые лимоны рикши, такси, мотоциклы и велосипеды.
До десяти часов Дикки слонялся по городу и ничего не делал, отложив все дела на другой день. Он обошел почти весь центр Иокогамы и, выпивая после ванны на ночь рюмку вермута, радовался предстоящему спокойному сну.
Как всегда, когда человек спит на новом месте, долго не засыпает и просыпается раньше, чем обычно, Дикки проснулся в семь часов утра. У него было достаточное количество дел. Нужно было получить данные о партийных и профорганизациях, взять пару интервью у иокогамских представителей Юай-Кай, посмотреть на работу комсомола и найти торгового представителя СССР.
Под окнами моросил небольшой дождь. Дикки думал, что в Японии дождик не такое частое явление, и немного обиделся, что он пошел именно в день его прибытия.
Дождик скоро перестал. Но небо, усеянное серыми тучками, все еще плаксиво хмурилось. К девяти Дикки приготовился к завтраку и приятно удивился резко изменившейся погоде.
Тучи исчезли. Небо голубое, чистое. Ни малейшего ветерка, жаркое солнце и стрекот цикад.
Дикки позавтракал и в десять тридцать вышел из отеля. Солнце здорово пекло. Потешные японские собаки с гладкой, безволосой кожей нежились у стен домов и изредка во сне повизгивали. Толпа обычными потоками расплывалась по всем направлениям и головы белых возвышались как маяки над низкорослыми туземцами.
В одиннадцать он нашел парней из профсоюза, а к пол-двенадцатому направился разыскивать торгпреда. Торгпред находился в Токио, но его заместитель был в Иокогаме.
Для встречи с ним Дикки пошел на Блеф, – место, разделяющее город на две половины.
Дикки узнал, что товарищ М. занимал небольшой деревянный домик и до двенадцати находился дома. Но небольшие неприятности, случившиеся с Дикки, с Иокогамой и с другими городами страны восходящего солнца, ему помешали.
Такси, на котором ехал Дикки, сделало небольшой скачок вверх, шофер вылетел в одну сторону, Дикки подбросило на крышу соседнего дома. С крыши дома, вместе с крышей, Дикки понесло куда-то вниз, хорошо стукнуло о телеграфный столб и зацепило его пиджак за большой, чертовски неудобный крюк.
Солнце потонуло в густой коричневой пыли, день преждевременно состарился и наступили сумерки.
Сначала Дикки отнесся к происшествию добродушно и даже с небольшим юмором, сравнивая свое положение с футбольным мячом. Но тряска не прекращалась и Дикки летал, ничего не соображая, ничего не видя, по каким-то чудовищным ухабам, уходящим в пропасть.
Земля, такая совестливая, честная, солидная земля, нарушила все создавшиеся о ней мнения, превратилась в самую настоящую пустозвонку, на которую ни в чем нельзя положиться и на которую ничего нельзя положить.
В первую минуту Дикки летал, соображая. Вторую – с ненавистью и проклятиями, а третью, четвертую и пятую – без того и другого, – мокрый, липкий, сладкий, изорванный, избитый и вонючий.
На него опрокинулась какая-то чаша с помоями, таз с вареньем, груда стекол, бревна и кирпичи. Но все же через пять минут Дикки понял, что он цел и даже не сломал ни одной косточки, а только так, кое-где поцарапался.
Он сел и насладился относительным спокойствием. Он понял. Понял, что произошло ужасное землетрясение и каким-то чудом он остался жив.
Как только земля под ним опять закачалась, он вскочил. Кругом, в сером, пыльном свете, обвеваемые сильнейшим злым ветром, копошились люди. Куда бы Дикки ни оглядывался, он не видел домов, он видел только груды навороченных друг на друга развалин. Издали доносились взрывы и по краям горизонта показались языки пламени.
Дикки отложил розыски замторгпреда на неопределенное время, а пока решил воспользоваться своим сносным состоянием для оказания помощи. Другие вылезали из-под груд кирпичей и леса и, как только вылезали, начинали яростно вкапываться в груды развалин и со стоном извлекали из-под них окровавленные трупы.
По улицам бежали грязные, очумелые толпы. Очень часто попадались голые люди, мужчины и женщины, с полотенцем или простыней, заменявшей все.
Подземные толчки продолжались, и то там, то здесь допадывали, долетали не упавшие и не слетевшие раньше стены, столбы, фонари, вывески. Но все же толчки становились слабее. Разжиженная, раскапризничавшаяся земля, кажется, решила вернуться к прежнему состоянию выносливости и благодушия. Для ломки и разрушения не осталось ничего.
Дикки казалось, что во всем мире земля проплясала свой шимми под джаз-банд. Иного впечатления и не могло быть у человека, кругом на многие мили наблюдавшего огни пожаров, обломки роскошных зданий и безумную, мчащуюся в неизвестность толпу…
А под ногами, – или Дикки уже привык к колебанию почвы и ему это казалось, – под ногами земля, щекоча нервы людей, кокетливо изгибалась и зло смеялась…
После всех землетрясенческих передряг приятно вспомнить про хорошую жуткую тряску. Его вещи сгорели в отеле. На руках у Дикки были документы, но и они вытряслись. Осталась одна полотнянка – удостоверение, сделанное на кусочке полотна и вшитое в пояс брюк. Оно годилось только для коммунистических организаций, а в настоящий момент ему пришлось изобретать. Он хотел послать радио Хираму Джонсону, найти замторгпреда тов. М. и уехать во Владивосток.
Первым делом Дикки стал помогать несчастным, попавшим в крепкие переплеты домов. Дикки пошел к отелю «Ориенталь».
Шикарное здание горело и по запаху можно было подумать, что недалеко средневековая кухня, в которой жарится стадо хороших быков и баранов.
Но, к сожалению, аппетитный запах жареного мяса исходил от сотни американцев, насмерть заваленных фешенебельными обломками отеля и жарившихся в собственном соку на пылающих развалинах.
В поисках воды Дикки забрел в какой-то разнесенный магазин и, пока копался в досках, ища уцелевшую бутылку лимонада, услышал интересный разговор.
На другой стороне улицы, рядом с развалинами магазина, когда-то стоявшего напротив, из обломков раздался крик о помощи, а пробегавший мимо высокий человек крикнул по-английски:
– Кто здесь?!
– Помогите! – отвечали из обломков.
Англичанин бросился на помощь и скоро из обломков появилась молодая девушка лет 18, побелевшая от перенесенного страха.
– Вы целы? – спросил англичанин.
– Да! – кивнула девушка.
Дикки нашел три бутылки рома и присоединился к ним.
– Вот, – сказал он, подавая англичанину и девушке по бутылке, – это вас подкрепит немного.
– Олл-райт, – ответил англичанин, – квайт велл! Послушайте, – обратился он к Дикки, – вы, может быть, проведете мисс, а я пойду отыскивать свою жену.
– Конечно, – с удивлением ответил Дикки, – но почему вы не сделали этого раньше?!
– Ох, – ответил англичанин, – она, – он показал на девушку, – жива и кричала о помощи, а моя жена, может быть, уже мертвая.
– Вы правы! – сказал Дикки, пожимая руку англичанину, и вместе с девушкой пошел отыскивать ее отца.
Девушка оказалась русской, дочерью одного из представителей Роста. На Блефе ее остановили знакомые, и она, поблагодарив Дикки, ушла с ними. Он решил вернуться назад в центр.
Во время таких несчастий сначала кажется все диким и неприятным; потом, если человек не потерял своей головы и находится в приличном, относительно, состоянии, все опрашивается в цвет заманчивого, очень романтичного приключения.
Так было и с Дикки. Он, в конце концов, потерял очень немного. Можно ли говорить о гибели пары костюмов и пишущей машинки, когда рядом входили в землю тонны человеческой крови?
На первых шагах Дикки пожалел об отсутствии своего фотоаппарата; но ему повезло. В обломках одного здания он наткнулся на какой-то железный ящик и в ящике обнаружил хороший аппарат и кучу пленок.
Толпы народа бежали в поле и к морю. Дикки решил заняться обследованием города. Приходилось совершать очень сложные пируэты. Огонь плотной линией приближался с севера и востока.
Как кошмарную мелочь, Дикки заснял труп наполовину сгоревшего японца, защемленного землей до половины груди. Рядом с японцем высились ноги собаки, у которой в щель ушла голова и передняя часть туловища.
Со стены какого-то дома на Дикки стрелой вылетела голая женщина. Концы ее волос горели. Из правой руки шла кровь. Она не знала, что ей делать и с воем бежала вперед, сжимая в левой руке полотенце.
Дикки догнал женщину. Потушил ей волосы. От полотенца оторвал кусок и перевязал ей руку. Когда женщина хлебнула рома из бутылки Дикки, она немного пришла в себя и покраснела.
– Ничего, не стесняйтесь! – предупредительно сказал Дикки и накинул на нее свой пиджак, – скажите, куда проводить вас?
– Не знаю, – отвечала женщина по-английски, – наш дом горит…
В это время из обломков показалась фигура китайца. Китаец подбежал к женщине, подал ей кимоно и туфли. Дом горел.
– Лю-Хо, – сказала женщина, – пойдем на Бунд, там сядем на пароход!
Женщина поблагодарила Дикки и скрылась с китайцем по направлению к морю.
Через короткие промежутки времени Дикки отмечал в своей записной книжке колебания земли.
Толпы народа уменьшились. Дикки захотел есть. И сумерки, настоящие сумерки спустились на город. Развалины горели, а со всех сторон, даже с моря, горизонт облизывался заревом огромного пожара. Где-то далеко взрывались баки с керосином, нефтью и бензином.
И в наступающих сумерках, за несколько миль от Иокогамы, антенны радио метались с призывами о помощи ко всем странам мира. Страна восходящего солнца погружалась в ужас и мрак.
В Сан-Франциско приняли сообщение через три часа после катастрофы, а через четыре – сухопарый адмирал тихоокеанских флотилий давал распоряжения о погрузке на одном из военных судов продовольствия для потерпевших.
Через четыре часа из Фриско снялась эскадрилья военных самолетов. Через пять – флотилия серо-зеленых американских красавцев, с развевающимися флагами, покинула военную гавань Фриско и горделиво пошла к Иокогаме. На борту одного из бронированных судов скромно приютились ящики с консервами, маисом и бобовой мукой, и на всех нагло смотрели вперед из своих люков задранные дальнобойные…
В далекой стране на запад от Японии, в стране, которую японский империализм обворовывал и грабил, несчастье японцев нашло живой отклик и сочувствие. Во Владивостоке образовалось общество помощи, а в Москве – красной столице мира – газеты надрывались от боли и рабочая страна собрала сотни тысяч золотых рублей на помощь рабочим Японии.
Из Владивостока вышел пароход в пять тысяч тонн; пассажирский пароход, груженый продовольствием и медикаментами для потерпевших. Пароход назывался «Ленин»…
Диктатор Америки, Доллар в тайниках своей души радовался несчастью соперницы по Тихому океану… Он радостно потирал жирные руки и предвкушал последствия катастрофы.
На мировых биржах иена, стоявшая так же высоко, как доллар, сломя голову, проделывая невозможные прыжки, полетела вниз. Японские представители поубавили пылу и надели траурный креп на свои радужные пальто и броссалино. В Москве, на сельскохозяйственной выставке, в потоках солнца и пестрой толпы, как-то растерянно открылся японский павильон, такой хрупкий, нежный и маленький.
В розовом, низком помещении гирлянды всевозможных флажков, маленькие безделушки с обязательным вылизанным вулканом Фудзи-Яма.
Тонкой работы слоновая кость в виде всевозможных маленьких фигурок, искусственные цветы, бумага, краска, тушь, резиновые вещи, шелковые изделия…
Розовый павильон скромно сжался, осиротел, обиделся. А рядом с ним блестели полированные четкие машины итальянской фирмы «Чекки».
Известие о землетрясении собрало у японского павильона много народа; здесь же начались сборы в пользу пострадавших. На сцене открытого театра выставки делались доклады…
Японские представители, маленькие, хитрые дипломаты, ходили, скромно потупив глаза и разбрасывали фразы о своем желании наладить добрососедские отношения с СССР.
На русском Сахалине, оккупированном японскими войсками, фирмы, субсидирующие партии японских аристократов, капиталистов и буржуа, выкачивали нефть.
В Японии дети и женщины, в не задетых землетрясением областях, продолжали работать по двенадцать и четырнадцать часов в сутки.
У власти – стояли аристократы, непосредственно грабили народ мелкие дворяне; рабочие работали в городах, крестьяне – по деревням…
Товарищ Сен-Катаяма делал доклады и разоблачал телеграммы японского телеграфного агентства о восстании корейцев.
Он сказал, какие корейцы восстали в Японии. В телеграммах говорилось:
«Воспользовавшись паникой, вызванной катастрофой, корейцы попытались захватать власть в свои руки. Восстание подавлено полицией. Бунтовщики расстреляны».
Товарищ Сен-Катаяма оказался прав.
Пересекая Тихий океан, шла военная эскадра Соединенных Штатов Северной Америки.
Вздыбливая волны Японского моря, огибало остров Ниппон судно «Ленин».
Дикки Ред здорово хотел есть. Он запарился. Скольким он помог выбраться из каши! Каких только ужасов он не насмотрелся! Но в десять часов ему определенно захотелось есть и стало невыносимо душно в атмосфере гари, грязи и пламени. Он решил пойти туда, куда шли все. Все шли в две стороны. К морю и к полю. На запад и на восток. Дикки решил, что будет умнее, если он пойдет в поле.
Земля значительно реже, но все еще продолжала трястись. В поле, куда выбрался Дикки, мелькали бумажные фонари. Люди искали своих родных. Часто слышались заунывные полоумные крики.
С юга по небу двигались черные тяжелые тучи. Люди приняли их за грозовые и спешно начали устраивать прикрытие из досок и жестяных листов, сорванных с крыш. Но тревога оказалась напрасной. Тучи были сгустками дыма от пожарища.
У одного китайца Дикки купил пучок моркови. Он съел ее, забрался в длинный ящик и, не обращая внимания на шум, заснул.
Утро 2-го сентября завоевало симпатии Дикки ласковостью солнца и голубизной неба.
– Точка, – подумал он, – сегодня я должен отправиться дальше.
Нигде и ни у кого в поле не было воды. Позже она появилась у всех. В городе было много ледников. Кое-как Дикки отмыл грязь с рук и с лица, отряхнулся, пожалел о своей кепке и пошел в город.
Там шла хитрая, серьезная борьба за пищу и лед. Водопровод сломался и пресной воды, утоляющей жажду, достать было очень трудно. Дикки усмехнулся, увидев свалку у остатков дома французского консульства из-за льда из холодильника.
В городе ничего не изменилось к лучшему. Только крепче пахло жареным. От дыма и запаха в глазах ходили неприятный крути. Дикки решил обратить свое внимание на овощи и вернулся в предместье. Там, в огородах, воздух был свежее и люди, особенно ребята и женщины, тщательно рылись в земле, вспахивая ее и извлекая пучки моркови, свеклы и лука.
Подкрепившись таким меню, Дикки приободрился. Он подумал о том, что перед поисками товарища М. ему можно кой-что поснимать и опять пошел в город. Совершенно случайно он нашел уцелевший гастрономический магазин. Маленький домик оказался перерубленным пополам каменной стеной и со всех концов заваленным кирпичами, стеклом и трупами. Но оставался маленький проход, откуда Дикки почуял очень вкусный запах и полез в эту дыру. В одной половине магазина он увидел раздавленного японца. В другой никого из мертвецов, но кучу всякой гастрономии. Он не стеснялся, чувствовал себя, как дома, набрал полные карманы тартинок и завязал в небольшой узелок запас провизии.
Чтобы пробраться к лавке, нужно было пересечь метров тридцать нагроможденных развалин.
Дикки побежал на Блеф к холодильнику, у которого шла свалка из-за кусочка, льда и повел людей за собой к лавке.
Толпа возилась над обломками. Дикки пригласил несколько человек, говоривших по-английски, организовать правильную раздачу продовольствия.
После недолгих переговоров все согласились и выбрали представителей, которые прошли внутрь, учли количество продуктов и стали их распределять. Со стороны подходили новые группы голодных людей. Дикки пошел дальше.
Встречавшиеся по городу люди представляли самое неожиданное зрелище. Каждый оставался в той одежде, в которой его застала катастрофа.
Попадались полунагие женщины и малоодетые, мягко выражаясь, мужчины. Какой-нибудь длинноногий англичанин горделиво расхаживал в коротеньких трусиках и в очках. Желтые щеголяли в изодранных кимоно.
Недалеко от пристани, в квартале гейш, особенно много женщин, испуганных и неодетых, слонялось у развалившихся домиков.
Наконец, на Блефе Дикки встретил знакомого организатора международного комитета пропаганды среди моряков, огромного рыжего ирландца – О’Прэн.
– Ба, парень! – крикнул он Дикки. – Как тебя занесла судьба и если уж занесла, то почему ты не потрясся?!
– Старина Прэн! – Я ехал в Совьет Рошен и остановился в «Ориентале». – Дикки показал в неопределенную пылавшую кучу. – Ну, и повертелся, как кусок мяса на вертеле. А как ты?
– Я? Да, как видишь, ничего, вывезло!
Они прошли к морю.
Прэн рассказал Дикки про кошмары, которые творились внизу, на Майн-стрит. Вся улица провалилась в несколько минут и со всех концов с суши загорелась. Люди бросились к пристани. На берегу невозможно было стоять. Ураганный ветер гнал огонь и дым к толпе. Люди не выдержали и начали кидаться в море на баржи, сампаны и даже отдельные бревна.
Как раз в это время загорелись прибрежные баки с нефтью и маслянистая жидкость потекла к морю и, волнами прибиваемая обратно, захватила в свои тиски мелкие суденышки, лес, баржи и лодки.
Тем временем огонь расползался и пополз по морю к берегу. Народ в паническом страхе подался обратно, но оттуда ветер гнал дым и пламя. Люди бежали во все стороны, давя друг друга.
Те, которые нашли прибежище в деревянных морских посудинах, раскаялись в своем поступке. Они были не настолько близко от берега, чтобы вернуться на него, а кругом на две, три мили горело море и все, что было на нем.
Воздух наполнился новыми ужасными воплями, новый дым, с примесью жареного человеческого мяса, обволакивал людей.
– Это противно, как перегорелая шерсть! – сказал Дикки.
– Да, старина, – ответил О’Прэн, – но ты не был в кварталах рабочих и не видел, что делается в профессиональных союзах.
– Что же там? По-моему, хуже, чем здесь, не может быть нигде!
– Хуже, да, но подлее…
О’Прэн повел Дикки к рабочим кварталам Иокогамы.
Не дойдя до них, они встретили полицейских, подлых японских полицейских, джэпов с кургузыми злыми лицами. Полицейские с оружием в руках шныряли по развалинам и подозрительно разглядывали всякого проходившего. Они не только ходили открыто, они скрывались в развалинах, прятались за свернутыми ветром столбами и за скрюченными жестяными вывесками.
Полиция радовалась возможности разделаться с рабочими организациями. Она провоцировала пожары, как поджоги, и выдавала их за работу корейцев.
Начальник полиции получил директиву свыше воспользоваться землетрясением, как поводом к принятию решительных мер.
Быстрое развитие Японии из азиатского государства в передовую капиталистическую державу, создало внутри страны массу противоречий. С одной стороны, у власти ближайшими советниками Микадо оставались аристократические фамилии, принадлежащие четырем кланам древних земельных собственников, с другой – быстро народилась из мелкого дворянства, самураев, промышленная буржуазия и, в связи с появлением городов, фабрик и заводов, – пролетариат, пришедший из голодной, измученной, непосильной арендой и адским трудом деревни.
Молодая японская буржуазия, такая же алчная и жадная к прибылям, как и всякая другая, выжимала соки из рабочих, привлекая на фабрики женщин и детей. На многих производствах процент женщин и детей оставил далеко позади себя процентный состав рабочих мужчин.
В то же время японские предприниматели понижали заработную плату рабочим, выплачивая своим акционерам дивиденды на сто и более процентов.
Рабочая семья в пять человек, работая круглый год в десять рук, получала меньше двух тысяч иен и голодала.
Свирепые рисовые беспорядки, когда рабочие, не выдержав, вышли на улицы требовать прожиточного минимума и восьмичасового рабочего дня, заставили капиталистов принять меры и на профессиональные союзы и политические партии посыпались гонения и всевозможные запреты. Часть особенно энергичных работников была объявлена вне закона и им пришлось бежать в Россию, Китай и Америку.
Рыжий Прэн напрасно пошел с Дикки в рабочий квартал. Такой великолепный ирландец, как Прэн, был знаком ищейкам Иокогамы так же хорошо, как крысам из Скотланд-ярда в Лондоне и Бюро Международной Охранки Нью-Йорка. Пуля японского полисмена пробила его славную огненную башку. Бедный рыжий Прэн! Дикки на первых порах не понял, в чем, собственно, дело, но когда вторая пуля пролетела под фалдой его пиджака, он метнулся влево, затем, не обращая внимания на пулю, пробившую ему правый подол пиджака, юркнул под какую-то балку и, наконец, выскочил к развалинам кирпичного дома и к трупу женщины с обуглившимися руками и почерневшим младенцем. Спереди, за стеной, Дикки слышал разговоры, крики, смех и стрельбу.
Дикки узнал смех; наглый, нехороший смех издевающихся людей. Он осмотрелся. Перед ним стояла стена. Вернее, две, – с небольшим промежутком в фут. Стена, находившаяся с его стороны, была устойчивее и шире. По ней Дикки кое-как влез наверх и посмотрел вниз, скрываясь за кирпичным выступом.
По другую сторону стены расположились несколько японских жандармов.
Под самой стеной, внизу, Дикки видел только блиноподобные верха фуражек, хаки, склонившихся над какой-то перевернутой бочкой. К этой группе то и дело подходили полицейские и что-то докладывали. Дикки не понимал что, – разговор шел по-японски.
Вдалеке раздавались короткие выстрелы.
По количеству металлических, железных и чугунных частей, нагромоздившихся вместе с железобетонным и кирпичным ломом, Дикки определил свое местонахождение, как район фабрик и заводов.
– Увы, парень, – думал он, – ты ловко засел здесь о этими тупоголовыми обезьянами.
Он был прав. Даже имея оружие, он не справился бы со сворой жандармов, один – против кучи, не зная ни города, ни языка…
Сделав такое пессимистическое заключение, он вспомнил о завтраках и тартинках. Удобно разместившись на комфортабельном выступе стены, он вытянул ногу на кусок чугунной балки и начал уничтожать тартинки, запивая их хорошим вермутом.
Несколько полицейских атаковали молодого рабочего, пробиравшегося по развороченной мостовой. Он ловким ударом выбил из строя одного, другого перекинул через голову, а у третьего перебил сухожилие на руке. Но четвертому и пятому удалось схватить его. Молодого рабочего звали Джико Сакаи, и он справедливо считался одним из вождей иокогамской группы – Родо-ундо-даитай-домех.
Полицейские поймали много парней с головами на плечах и поснимали у них головы. Теперь очередь дошла и до Джико Сакаи.
Джико привели к стене. Полицейские очень обрадовались. Сидевший посередине бочки, с расшитым золотым воротником, что-то бросил, и жандармы связали руки Джико. Потом они вскинули свои короткие карабины.
Дикки внимательно следил за сценой, разыгравшейся внизу за стеной.
Как жалел он о своем хорошем вороненом кольте! Как он жалел! Кольт остался в «Ориентале» в секретном отделении маленького кожаного чемодана вместе с путеводителем, бумагой, запасными ручками и другими дорожными вещами.
Он быстро распихал по карманам завтрак и, перекинувшись через стену, почувствовал, что смежная стена начала чуть-чуть покачиваться.
– В чем дело?.. – подумал Дикки, – прекрасно!
Он разворотил десяток кирпичей в стене и укрепился в ней.
За стеной полицейские вскинули на плечо карабины и джэп с золотыми погонами крикнул Джико:
– Беги!
Джико Сакаи не двинулся.
– Беги! – свирепо повторил полицейский.
Джико стоял, как вкопанный.
– Ну, беги, собака.! – крикнули все полицейские вместе.
– Ладно, канареечник, – выругался Дикки, – ладно!
И когда они взяли на мушку Джико, Дикки изо всех сил уперся в соседнюю стену…
Черт возьми, иногда, к сожалению, очень редко, землетрясение бывает самым полезным, самым верным сообщником, союзником и другом. Стена поддалась, а легкое сотрясение почвы сбросило Дикки с ее вершины, но и погребло в новой развалине полицейскую свору.
Дикки скатился вниз и кубарем подкатился под ноги убегавшего Джико. Толчок был очень силен и они оба покатились дальше, пока не наткнулись на какую-то чугунную часть. С расшибленным лбом, но очень довольный, Дикки кое-как поднялся и крикнул:
– Я коммунист, товарищ!
– Тем лучше! – на хорошем английском языке весело ответил Джико. – Будем друзьями, но для крепкого дружеского пожатия развяжите мне мои руки!
Смех, тартинки и вермут окончательно сблизили новых друзей.
– Теперь, Джико, тебе надо серьезно изменить внешность, иначе, прежде всего, нас, как рождественских гусей, нашпигуют свинцовым салом.
Он надел на Джико свой пиджак и перевязал ему лицо куском, оторванным от нижней рубашки. Джико стал неузнаваем.
Стемнело. Пожар в городе продолжался, но были места, где огонь съел все, что он считал съедобным.
Над городом реяли стаи пернатых хищников. Особенно они торжествовали у моря, где трупы не приходилось откапывать и где они, со стервятнической точки зрения, ужасно аппетитно воняли – на несколько миль вверх и во все стороны.
В одном месте Дикки окончательно убедился, за какими корейцами охотятся японские жандармы.
На Блефе, у одной из стен, под жестокие насмешки обезумевшей и отупевшей толпы, полицейские избивали бамбуковой палкой несчастного, оборванного, худого рабочего.
– Чего вы его бьете?! – с негодованием бросился Дикки.
Английский язык заставил полицейских, хотя и свирепо, на минуту оторваться от своей работы.
– Кореец! – презрительно бросил один из них, а затем процедил сквозь зубы, коверкая слова: – Жгут и грабят!
Толпа зло подлаивала.
– Рабочий! – шепнул Джико, – его зовут Нико-Ноо и он в комитете портовых грузчиков. Пойдем, ни черта не сделаешь! Эти обалдевшие черти верят во все.
Иокогаму объявили на осадном положении. Эта мера вызывалась целым рядом неприятных осложнений. Свои истязания над рабочими японцы выдавали за восстания корейцев и для большей важности, для вескости своего заявления они объявили осадное положение.
Общие принципы такого положения не были сохранены, так как невозможно ликвидировать бесприютность нескольких сот тысяч людей.
Последнее приостановило бессистемное бегство на суда, нетерпеливое ожидание прихода американской эскадры и «Ленина». Полиция, обеспокоенная появлением рассадника «красной заразы», удвоила террор по отношению к восставшим «корейцам» и плотным кольцом окружила город.
Иокогама на время очнулась от катастрофы. Никто не обращал внимания на небольшие подземные толчки. По городу появились отряды рабочих-кули, разбиравших развалины. Полисмены приводили в порядок население, восстановилось несколько отелей, не говоря уже о бараках, палатках и шалашах. Предприниматели вкладывали деньги в строительные конторы. Пожары постепенно утихали и даже появились газеты.
Настоящие, большие иллюстрированные газеты, – на улицах разрушенных городов, прибывшие на самолетах американские репортеры.
Оставаться дальше в лохмотьях и в таком безобразном виде Дикки и Сакаи не могли. Готовое платье продавали в городе по бешеным ценам и о покупке в магазине нечего было и мечтать.
Дикки разрешил вопрос так. Документов американского бизнесмена у него не осталось. У Джико же их вообще не было. У обоих имелись партийные удостоверения, по которым с удовольствием им отвели бы пожизненные места и казенные квартирки. Спрашивать о русском торгпредстве значило – подвергнуться той же опасности. Наводить справки о пароходах, отправляющихся во Владивосток, также нельзя было.
Решили купить дешевые японские кимоно и ходить в них.
Дикки смущенно оглядывал себя в длинном халате и корзиновой шляпе. Он купил две пары роговых очков и в таком виде Джико мог разгуливать по городу.
Приняв соответствующий вид, они спокойно расхаживали по бывшему Блефу и купили у пробегавшего мальчишки газету «Осаки Шимбун».
«Осаки Шимбун» была замечательна тем, что уцелела от землетрясения и первая выпустила в тираж катастрофу.
Дикки солидно развернул газету, бессмысленно глазел на строчки и слушал, как Джико переводил ему последние сообщения.
– «Сегодня в Иокогаму прибудет пароход из СССР с продовольствием и медикаментами для потерпевших»… – сообщала газета.
Затем шли подробности о вошедшей в гавань американской эскадре, цифры о потерях, корреспонденции из Токио, целая полоса, посвященная липовому восстанию липовых корейцев и даже фельетоны и впечатления.
Среди перечисленных в газете жертв значились: французский консул, серия американских граждан, в число которых попал и Дикки, семейства английского и американского консулов, колония русских, живших на Мейн-стрит, и семейство русского торгпреда Свидерского.
Дикки заинтересовался только сообщением о прибытии советского парохода.
– Джико, – сказал он, складывая газету, – Джико, хочешь ли ты поехать в Советскую Республику?..
Глаза Джико показали, хочет он этого, или нет.
– От нас зависит, – продолжал Дикки, – попадем мы туда или останемся здесь. Мы должны попасть на пароход, понимаешь, должны, и никаких испанцев!
Вечером того же дня в гавань Иокогамы вошел пароход «Ленин».
Прекрасное судно, в пять тысяч тонн, до отказа нагруженное продовольствием. В трюме парохода, кроме пшеницы, находились мешки с сахаром, крупой и ящики с медикаментами.
Команда парохода – серьезные, бородатые, бритые, старые и молодые моряки, – расхаживала по палубе и ждала разрешения от властей города сдать в питательные пункты продовольствие и отдать концы.
По грязным, протухшим волнам затхлой гавани еще попадались вспухшие, противные тела и плавали обгорелые части барж и сампанов.
Справа гавань заняли американские военные суда.
Грандиозные серо-стальные, защитного цвета гиганты блестели в позолоте нежных лучей и воспевали мощь бронированного кулака Северной Америки.
С дальнобойных морских орудий, очевидно, умышленно, сняли колпаки и черные дула зло и нагло высовывались из бойниц. Бравые, щегольские американские матросы то и дело съезжали на берег.
Адмиральское судно гордо возвышалось у наспех починенного мола.
Адмирал принимал у себя на борту высшую местную власть и еще неизвестно, кто в настоящий момент диктовал и приказывал.
Иокогамский представитель подобострастно жал руку адмиралу и докладывал ему. Благодарил за оказанную помощь.
Через некоторое время, сверкая орудийными дырками, одна из единиц Тихоокеанской эскадры пришвартовалась к берегу и началась разгрузка консервированного продовольствия.
Над городом реяли американские самолеты. Пахло дядей Сэмом.
В Токио американский дипломатический представитель показывал министру иностранных дел свежее иллюстрированное издание «Нью-Йорк Таймса» и иокогамскую «Осаки-Шимбун».
– Мы настаиваем, – говорил он, – настаиваем! Вы видите, как прекрасно выглядят наши милые крейсера. Как пикантны эти воздушные стальные голубочки. А присмотритесь внимательно к этой затейливой тени на стволике этого кроткого дульца. Самые лучшие художники, так прекрасно исполняющие пресловутую Фудзи-Яму, никогда не смогут наложить таких естественных бликов.
А разве не вкусны наши консервы? Самый лучший трест Либби-Мак-Нейл Компани отправил под залог китайских акций несколько тысяч банок. Знаете, я как-нибудь вам пришлю иллюстрированный еженедельник «Сатурдэй-Ивнинг-Пост» с рецептом, как из молока Либби-Мак-Нейл приготовить чудесный солнечный хлеб…
Министр иностранных дел и дипломатический представитель подписали какую-то бумагу и какие-то новые очень ценные акции появились на Уолл-стрите.
Токио тоже хорошо потрясся. Его улицы очень мало напоминали снимки в каталогах Бюро путешествий агентства Кука.
«Ленин» вошел в залив Иеддо. «Ленин» подошел к берегу. «Ленин» ждал разрешения разгрузиться. Но на борту «Ленина» не сверкали стальные, дальнобойные, борт «Ленина» не был зашит в бронированную юбку, пароход «Ленин» пришел только с добрыми намерениями, и к министру иностранных дел в Токио не приходили затянутые в дипломатические смокинги шантажисты и не показывали хороших снимков в иллюстрированных приложениях.
«Ленин» скромно стоял в порту, дожидаясь разрешения помочь бедным, голодным, обескровленным людям.
Дикки и Сакаи пробирались по улицам юрода к гавани. Они шли, зорко всматриваясь в лица проходивших, и особенно внимательно оглядывали русских. Они уже знали, что «Ленин» готовится к разгрузке, и надеялись пробраться на борт парохода.
Они пришли к разрушенной пристани. На берегу работали по восстановлению мола, а по заливу скользили сампаны, нанятые для очистки гавани. Постепенно залив очищался от непролазной затхлой грязи. На рейде заманчиво блестели антенны и трубы военной эскадры и любопытные коммерческие суда англичан и французов, зашедших специально из интереса к катастрофе в иокогамский порт.
Много купцов, почуявших залах хорошей наживы, привезли на своих шхунах продовольствие. Они со злобой смотрели на благотворителей, сбивавших им цену.
– Видишь, вон там красный стяг!
– Вижу, – ответил Сакаи.
Они видели своими глазами судно, пришедшее оттуда.
Вовсе не нужно знать русский алфавит и русский язык, чтобы прочесть одно слово на всех наречиях мира, произносимое только двумя интонациями. Эти пять букв наполнили сердца Дикки и Сакаи неиссякаемой дружеской теплотой и железной энергией.
Они, загипнотизированные своей волей, шли прямо к стягу с серпом и молотом. Каждый шаг на метр приближал их к желанной цели.
На борту судна бритый худой капитан и представитель Владивостокского Комитета Совета Рабочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов думали о другом. Им казались очень подозрительными поведение и долгое молчание японских властей…
– Стойте, ваш пропуск! – коротконогий, одетый в хаки полицейский солдат преградил карабином дорогу.
Дикки и Сакаи повернулись и пошли назад. Они хорошо запомнили место, где стоял «Ленин».
Худой капитан и представитель Владивостока беспокоились. Наконец, долгоожидаемые японские таможенники соблаговолили явиться. Спокойные, подозрительно косящие по сторонам своими бельмами, наглухо зашитые в серозеленые френчи.
Они ходили, осматривали, записывали, спрашивали. Таможенники, по инструкциям, полученным свыше, искали агитационную литературу.
– Мы будем принуждены, капитан…
– Да, пожалуйста!
– …просить вас распаковать по вашему указанию несколько тюков.
Капитан переглянулся с представителем Советов, секретарем профячейки и секретарем комячейки.
– Хорошо! – ответил он.
По указаниям начальника контроля из трюма на палубу вынесли несколько ящиков и тюков. Их разбили и расшили. Кроме продуктов, японцы, несмотря на колоссальную подозрительность и злобу, ничего не обнаружили.
Они о чем-то пошептались друг с другом. Начальник контроля опять обратился к капитану.
– Вы нас очень обяжете, показав каюты.
Опять капитан и все, внимательно следившие за желтой группой русские, переглянулись.
– Прошу! – бросил он.
Они отправились осматривать каюты. В каютах щупали вещи, просили матросов развязывать свой багаж, и они с едва скрываемым презрением слушались и показывали.
Осмотрев каюты, проверили кубрики, камбуз и переворошили все книги в библиотеке.
Не нашли ни одной бумажки на английском и японском языке. Все печатные произведения, попадавшие им в руки, были на русском языке, а на такую литературу запрещения не было. Правда, попалась книжка английско-японская, но очень безобидная, справочного характера.
Исчерпав всякую возможность придраться, оскорбив моряков, как никто никогда нигде не оскорблял людей, облеченных человеческими полномочиями благотворительности и помощи, таможенный контроль, не выдав никакого пропуска и не сказав ничего определенного, сошел на берег.
В управлении таможен контроль встретили два блестящих джентльмена, небрежно пускавших дым из своих трубок. Они что-то буркнули начальнику контроля, тот растерянно развел руками и сразу сбавил тон…
Через несколько дней, в Москве, газеты на первой полосе, в левом верхнем углу, под общим заголовком «Японская катастрофа» сообщали последнее радио:
– «Японское военное командование обвиняет пароход „Ленин“, пришедший в Иокогаму с грузом продовольствия для потерпевших, в антиправительственной пропаганде. Японское командование предложило капитану сдать продовольственный груз чиновникам таможни».
А в заливе Иеддо «Ленин», скрипя трапами, отошел на рейд и запросил по радио Владивосток.
На желтое лицо начальника таможенного контроля залива Иеддо одинаково хорошо действовали приказы, подписанные высшим начальством, иены, доллары и фунты. Поэтому нет ничего удивительного в том, что пароход в три тысячи тонн, принадлежащий английской компании «Джон Мидлтон», пришвартовался в берегу и начал разгрузку товаров, выгодно запроданных капитаном токийской торговой фирме.
Через два часа после липового осмотра двух таможенных чиновников, установленная лебедка начала разгрузку.
Работа на «Джон Мидлтон» продолжалась и вечером и ночью. Капитан хотел к утру закончить разгрузку и уйти к Индии. Он очень скептически относился к японским берегам.
– Эта желтая трясогузка себе будет стоить дороже, – говорил он штурманам, наблюдая за работой. – Как, вам по сердцу, парни, лапчатые дяди Сэмы? Вон те, что на рейде? Бьюсь на какое угодно пари, что они сделают здесь хорошее дело!
Когда ночь окончательно основалась в заливе Иеддо и сыроватым воздухом испарины окутала развалины города, Дикки и Сакаи приступили к действию.
Американцы на рейде или, как их метко заклеймил капитан «Джона Мидлтона», лапчатые дяди Сэмы от нечего делать и от избытка гордости пели песни. В воздухе звенели банджо, искрились на мачтах иллюминационные огни и красиво взлетали вверх разноцветные, махровые ракеты.
Они никуда не спешили, а для молодой матросни прогулка к берегам Японии была очередным фасонным маневром. Сейчас на палубах судов перемешивались с песнями, игрой на банджо, фейерверками лихие удары крепкого боксинга коренастых, дубленых здоровьем парней.
В смехе и шутках юго-востока, севера и запада, в воспоминаниях о девчонках, о белокурых Китти и чернооких Долорес, проскальзывали насмешки над косоглазыми джэпами. А в капитанских каютах, под пьяную лавочку, бритые янки обрадовались обилию и законности горючего и пропускали сквозь зубы:
– Ох, ослы, за один груженый трюм сделать такой бизнес! Наверное, после тряски джэпы растеряли мозги и отрастили уши. За два трюма маиса и молока!..
И они снова пили и снова грохотали.
Капитан «Джона Мидлтона» торопил грузчиков. Он хотел закончить скорее свое дело. Ему что-то было не по себе. Какие-то черти натерли чесноком сердце и кожу под веками глаз. Несчастный и забитый вид джэпов действует на нервы и превращает волю в тряпичное заведение.
– Итак, Сакаи, я тебе скажу одну истину, не занесенную на золотые скрижали: ни одна полиция не может прыгнуть выше своей головы, понимаешь!
– Не совсем! – сознался Джико.
– Вот наш путь на «Ленин», – Дикки рукой показал на лебедку, которая плавно переносила свой ковш с борта судна на прибрежную полосу, задевая зону, свободную от полицейской охраны.
Дикки предложил Сакаи снять кимоно и очки и сделал то же самое. Они прокрались к лебедке. Лебедка только что сбросила груз, быстро подхваченный грузчиками и уложенный в ровные ряды и, плавно раскачиваясь, потянулась обратно.
Дикки подпрыгнул с одной стороны, Сакаи с другой, и они прижались вдвоем с двух концов громадного ковша и слились с ним. Внизу промелькнули головы жандармов и Джико повторил про себя сказанную Редом фразу о прыжке и полиции.
Лебедка, дойдя до максимальной высоты, мягко пошла книзу, и Дикки заметил промелькнувшие трубы и верхнюю палубу парохода. Они погрузились в полумрак багажного спуска, а секундой спустя в нос ударили запахи складочного помещения и ковш лебедки стукнулся о что-то твердое. Дикки и Сакаи оттолкнулись от ковша и исчезли в темном трюме.
Капитан «Джона Мидлтона», к своему удовольствию, закончил разгрузку еще до рассвета и, проверив чек на английский национальный банк, попрощался с представителем японской фирмы. На палубе и в машинном отделении забегали матросы. Через полчаса «Джон Мидлтон» отдал концы и легким ходом разгруженного судна пошел в открытый океан.
В трюме к двум окошечкам прильнули четыре глаза. Слабый свет сигнальных фонарей орошал волны залива Иеддо. Вдруг четыре глаза широко раскрылись, и два голоса удивленно вскрикнули и сейчас же замолчали.
Дикки и Сакаи, на борту судна, мимо которого проходили, прочли пять букв…
Утром в открытом океане вахтенный услышал сильный стук в выходном из трюма люке. Мало сказать сильный, бешеный стук! Вахтенный подбежал к люку и открыл его. На него набросился Дикки.
– Какого черта вы не открываете дверь и заставляете двух джентльменов водить компанию с крысами?!!
Вахтенный отвел джентльменов к капитану.
– Кэптен, – сказал Дикки, – я и мой друг репортеры «Нью-Йорк Геральд». Проклятая тряска застала нас в иокогамской крысоловке и оставила без штанов и документов. Вы понимаете, весь знакомый двуногий люд зарылся в кирпичах на берегу, потерял головы и дар слова. Косоглазые джэпы абсолютно не хотели верить и пропустить на судно честным образом…
– Хорошо, джентльмены, – ответил капитан, – я вам верю, но вы можете продолжать путь или как рабочие, или, если у вас есть фунты…
– На нас чужие штаны, – вставил Дикки, – но работы мы не боимся… Куда идет судно, сэр? – сразу взял он тон подчиненного.
Капитану понравился веселый и дисциплинированный парень:
– В Индию.
– Есть, сэр. В Индию, так в Индию! – сказал Дикки и похлопал Сакаи по плечу.
Глава седьмая,
в которой дело обходится без них
– Ну, старая обезьяна, расскажи, как все это произошло?
– Великий господин мои Аллах еще никогда не был так жесток к своему рабу, как в этот день. Началось с того, что новая жена твоя, о Налинакша, отказалась одеть принесенные мной одежды.
– Отказалась? Ты, вероятно, пожалел мое добро, собака?..
– Я взял все лучшее, что нашел, о, господин! Шелка, которые я принес ей, были тоньше воздуха и ярче бабочек, порхающих в твоем саду. Шальвары струились, как волны голубой реки, кисея для чадры была легка, как дыхание ветра. Что еще может желать женщина?
– Драгоценности ты ей предложил?
– Я отобрал нитку жемчуга крупного, как глаза моего господина, я взял тяжелые золотые браслеты для рук и ног. Мои старые глаза никогда не видели более дорогих и роскошных нарядов. За все время в гареме твоем ни одна женщина не имела такого богатого и пышного костюма.
– Ну?!
– Она даже не взглянула на все это, о, господин! Она отвергла милость твою и преданного раба твоего назвала… о, господин, не осмелятся уста мои повторить сказанные ею слова.
– Говори!
– Бесполой обезьяной назвала она, раба твоего, о, господин! Бесполой обезьяной!
– И ты, вероятно, ответил ей дерзостью?
– Я был безответен, как золотая рыбка в бассейне. Я вторично повторил свое предложение от лица господина моего.
– Ты говорил с ней от моего имени?
– Да, господин, и она…
– Что она?
– Да простит мне великий Налинакша, но она послала моего господина к шайтану.
– Ты врешь, негодяй! Еще ни одна женщина не смела оскорбить меня!
– Она сказала это, господин. И когда я осмелился напомнить ей, что воля господина выше всего и что ей следует вооружиться смирением и послушанием, она толкнула меня в бассейн, о, господин. Там была очень холодная вода и очень злые женщины.
Чандер Рао с негодованием слушал рассказ евнуха. Его восточное самолюбие было оскорблено, как еще никогда в жизни. Он знал, что женщины там, в России, были особенными, что они считали себя равными мужчинам, но он не представлял себе, что где-нибудь на свете может найтись существо женского пола, которое не продаст себя за шелка, жемчуг и золото. Когда он увидел Женю на приеме у Ара-хана, он, утонченным чутьем человека, знавшего толк во всем, что касалось костюмов и нарядов, почувствовал ее кокетливое изящество и решил, что в его гареме она будет такой же смирной и послушной, как все остальные, вольные и невольные, его затворницы.
И вот теперь евнух своим рассказом, кроме гнева, возбуждает в нем невольное уважение к этой золотоволосой, темноглазой девушке, которая не только не соблазнилась предложенными ей нарядами, но даже мужественно ответила, на назойливые приставания этой… как она сказала?.. Бесполой обезьяны.
Налинакша расхохотался. Хорошо сказано! Ловко сказано, видит Аллах! Эта девушка, очевидно, за словом в карман не полезет. Первый раз в жизни женщина возбуждает в нем такой интерес к себе. Она во что бы то ни стало должна быть найдена и водворена в его дом. Он сумеет справиться с ней. Для него это вопрос чести. Пусть с ним, с Налинакшей, попробует она говорить так, как говорила с этим жалким евнухом! Он-то уж, во всяком случае, не бесполая обезьяна!
В гареме тоже с нетерпением ждали возвращения беглянок. Волна истерического гнева на евнухов и гаремную жизнь схлынула с этих ожиревших, обленившихся, неспособных на решительные действия и долгий гнев женщин. Зато боль от побоев и обида от оскорблений, которыми осыпали пойманных слуги – была еще свежа и требовала мести. Разбираясь в случившемся, все они единогласно сваливали вину на Женю и Фатьму, и беглянок ожидала хорошая встряска, в случае их возвращения в гарем.
Несколько дней и Налинакша, и евнух, и гаремные обитательницы только и жили разговорами о наказаниях, которые встретят непокорных, и каждое утро с волнением, любопытством и злобой ожидали известия о возвращении посланных в погоню слуг и несомненно пойманных ими девушек.
Однако уже третий день был на исходе, а о посланных не было ни слуху, ни духу, и Налинакша потерял всякую надежду на возможность усмирить непокорную пленницу, и предался сладкому времяпрепровождению в обществе оставшихся ему верными ста пятнадцати жен.
В учебнике географии, по которому эту крайне интересную науку крайне неинтересно проходят в школах второй ступени, вы прочтете в главе об Индии следующие, петитом набранные строки: «Мест, неудобных для жизни человека, в Индии мало. К ним принадлежит пустыня Тарр и тропические болота, джунгли, заросшие тростником и бамбуком. Самые обширные из них находятся у подножия Гималаев и называются Гераями; в них обитают лишь тигры, дикие слоны, носороги и другие звери».
В другом месте того же учебника вы прочтете, что англичанам никак не удается: «борьба с холерой, гнездящейся в джунглях».
А третье место скажет вам, что: «из хищников южной Азии самый крупный – тигр, живущий в тростниковых и бамбуковых зарослях».
То есть, все в тех же джунглях.
Уже по этим трем, наудачу взятым, выдержкам вы видите, что джунгли далеко не такое приятное место, как это воображают себе те, кто знаком с ними исключительно по романам, чрезвычайно охотно отправляющим своих героев в эту местность, ибо ее слабая исследованность предоставляет авторам безграничные возможности фантазировать сколько им вздумается и сколько позволяет размер предоставленного им в журнале места.
В самом деле, что приятного дает комбинация из тростника и бамбука, в меру сдобренная тигром, приправленная парочкой-другой носорогов и густо посыпанная холерными вибрионами? Вряд ли здравомыслящий и хорошо знакомый с географией человек добровольно полезет в эту кашу в поисках приключений и романтического времяпрепровождения. Только нужда да обязанности службы могут загнать вас в эту дыру, а если вы захотите обшарить эту малоизвестную местность с научными целями, то, конечно, двинетесь туда не налегке, а соберете солидную экспедицию, снабженную всем необходимым для противодействия зубам тигра, свирепости носорога и невидимым разносчикам холеры.
И если во время такой экспедиции вы натолкнетесь на двух безоружных девушек, прокладывающих себе путь сквозь гигантский тростник и бамбук, то можете быть уверены, что они убегают от чего-то, что страшнее холеры и тигра и опаснее носорога, а не прогуливаются здесь в поисках цветов и бабочек…
Когда Женя и Фатьма вырвались из гарема, они побежали куда глаза глядят, стараясь уйти как можно дальше от населенных слугами и работниками Налинакши мест и не боясь ничего, кроме возвращения обратно. Пока приехавший домой Налинакша разбирался в случившемся, пока слуги возвращали обратно бежавших жен, пока выяснилось отсутствие двух, самых ценных женщин гарема, пока четверо слуг выехали в погоню, – прошло около двух дней, и обе наши беглянки сумели пройти значительное расстояние и достигли подножия отрогов Гималаев, то есть того места, где начинаются джунгли и все населяющие их ужасы.
Ни Женя, ни Фатьма не знали как следует, где они находятся, и с трудом разбирались в направлении, по которому они двигались. Женя слышала что-то об искусстве определять направление по часовой стрелке, но при определении не была уверена в том, что проделала все, что следует и так, как следует, и только приблизительно определила направление пути, как южное.
Переход от пустынной афганистанской степи к южноиндийскому болоту совершается постепенно, без резких прыжков и скачков, как и все в природе. Двигаясь именно к джунглям, обе девушки руководствовались исключительно инстинктом самосохранения, невольно стремясь укрыться под защиту густых и высоких тростников и совершенно не подозревая, что вместе с ними в этих же тростниках ищут приюта – злость тигра, свирепость носорога и судороги холеры.
Правда, когда мучимая жаждой Женя нагнулась над какой-то лужицей, чтобы напиться, она, с чувством отвращения, сдержала свое желание. Вода была вонючая и очень грязная, что заставило ее прибавить шагу в надежде найти там, где заросли становились гуще, какой-нибудь свежий источник или ручеек и вдоволь напиться от его прозрачных струй. Иногда воображение рисовало ей картины таких ручейков, протекающих совеем близко, но, уже знакомая с миражом, она прогоняла от себя обман и, подбодряя Фатьму, двигалась все дальше и дальше…
Что касается Фатьмы, то она совершенно ослабела от долгого перехода. Привыкшая к гаремному безделью, никогда не двигавшаяся больше, чем это надо, чтобы добраться от тахты к бассейну и обратно, с подошвами ног, мягкими и нежными, как у ребенка, с шелковыми туфлями, изорванными в куски от ходьбы, она едва поспевала за Женей, которая еще не сдавалась и двигалась ровными мужскими шагами.
Костюм для верховой езды сослужил на этот раз Жене хорошую службу. Видя, как на Фатьме легкие, шелковые ткани превратились в лохмотья, а неудобные, слишком широкие шальвары путались и стесняли шаг, она получила наглядное представление о преимуществах мужского костюма. Ее высокие сапоги помогали ей ступать твердо и уверенно, в то время как босые почти ноги Фатьмы покрылись кровью от жесткого тростника и острых, режущих кожу трав, обильно покрывавших вязкую болотистую почву.
Еще несколько шагов и Фатьма зашаталась от усталости. Жене, до сих пор двигавшейся впереди своей подруги, пришлось подойти к ней и поддержать Фатьму за талию. Но это мало помогало делу и восточная, девушка с трудом поспевала за своей европейской подругой.
Джунгли сдвигаются вокруг них. Все гуще и гуще становятся заросли, все мягче делается почва, по которой ступают их ноги. Тростник настолько высок, что, даже вытягивая руки над головой, Женя не может достать его колеблемых ветром верхушек. Кажется, словно они идут по дну океана, и водные травы, перекатываемые волнами, шепчутся над их головами. Теперь Женя хочет только одного. Скорей, как можно скорей, достичь какой-нибудь полянки, на которой можно было бы прилечь и отдохнуть с тем, чтобы, набравшись сил, тронуться дальше.
Но куда? Женя совершенно не могла дать себе в этом отчета. Она твердо знала одно. Возвращаться назад нельзя ни в коем случае. За ними, без всякого сомнения, кто-нибудь гонится и Налинакша готовит им по-восточному жестокое наказание. Впереди, – не вечно же расстилается это тростниковое море? Где-нибудь, наконец, разорвется оно простором полянки и, вероятно, на этой полянке их встретит деревня с мирными, восточными, всегда гостеприимными жителями. Не может быть, чтобы в этой деревушке не нашлось ни одного европейца; а европейцы здесь все говорят по-английски и с их помощью Жене удастся завязать связь с Араханом или даже непосредственно с Россией. Так думала Женя и эти думы постепенно овладевали ею, охватывали ее, убаюкивали и она с удивлением ловила себя на том, что бредит с раскрытыми глазами.
Вдруг впереди, сквозь тростник, мелькнул просвет. Женя остановилась. Боясь миража, она хотела проверить себя, но просвет в кустах оказался самым настоящим. Там, в десятке саженей отсюда, была полянка. Настоящая полянка! Но почему оттуда не доносится никаких звуков, говорящих о присутствии человека? Почему мертвая тишина, лежащая вокруг, не нарушается ни каким шумом? Почему, наконец, над верхушками тростника не тянется дымок гостеприимной хижины? Неужели на поляне нет каких-либо следов человека, и за нею опять тянутся те же заросли?
Как бы там ни было, но это поляна, это гладкое, свободное от зарослей место, это – возможность собраться с мыслями, отдохнуть, может быть, даже поспать немного. Почему бы и не поспать, в самом деле?
Ни один опытный человек не решился бы спать в джунглях, не имея у себя под рукой хорошей винтовки. Ни один, самый смелый охотник не смог бы без страха подумать о возможности очутиться в джунглях без оружия в руках. Но Женя в этом отношении была неопытна, она совершенно не знала, где находится в данный момент, и это незнание давало ей возможность оставаться спокойной там, где всякий другой кричал и плакал бы от страха.
Надо дойти до полянки! Она раздвинула тростник и, сделав несколько шагов, остановилась. Оглянувшись, Женя увидела, что Фатьма лежит на земле и судорожными усилиями пытается встать на ноги.
– Что с тобой, Фатьма? – наклонилась она над ней.
Фатьма молча, кивком головы указала на свои израненные, окровавленные ноги и прошептала:
– Пить! Пожалуйста, пить!
– Ты не можешь идти сама, Фатьма?
Восточная девушка отрицательно покачала головой.
– Приподнимись и обопрись о меня.
– Я не могу! – как стон вырвалось у несчастной, измученной девушки. – Я не могу! Оставь меня и пойди позови кого-нибудь.
Но Женя знала, что раньше, чем она приведет кого-нибудь, Фатьма может умереть от жажды и голода, и не решилась бросить свою подругу. Она наклонилась над ней и сказала:
– Обними меня, – я попробую взять тебя на руки.
Худенькие, детские ручки с доверчивостью и лаской обвились вокруг Жениной шеи.
В первое мгновение Фатьма показалась Жене легкой, как перышко. Эта четырнадцатилетняя женщина еще не успела растолстеть на гаремных сластях и ее тело отличалось худобой и детской грациозностью. В гареме она, как котенок, переходила с рук на руки и в воде бассейна другие женщины часто как мячиком играли своей юной подругой. Но сейчас Фатьма была в полуобморочном состоянии и Женя уже через несколько шагов почувствовала это. Голова Фатьмы, лежавшая на ее плече, казалась тяжелой, как свинцовый шар, а все ее ослабевшее и опустившееся тело давило руку. Шаги Жени становились все более и более колеблющимися.
Она была вынуждена несколько раз останавливаться и опускать свою ношу на землю, чтобы набраться сил для дальнейшего пути.
Несколько саженей, отделявшие их от полянки, показались мучительно долгими и, едва выбравшись из чащи тростников, она почти сбросила свой груз на темно-зеленую траву и сама опустилась рядом без чувств.
Вы можете долго мучить свои глаза во мраке бамбуковых зарослей, но если вы не охотник и не привыкли к джунглям, вы никогда не разглядите подкрадывающегося к вам тигра. Его полосатая шкура делает его совершенно невидимым в колеблющемся ветром тростнике. Темные и светлые полосы на его боках в точности соответствуют стеблям бамбука и полосам света, придающим джунглям вечно меняющуюся, колеблющуюся окраску. Мягкие подушки его ступней делают шаги неслышными, а его ловкость помогает ему пробираться между рядами тростника, почти не задевая их своим телом. Днем и ночью рыщет он по джунглям, не зная равных себе по силе и ловкости, как единственный владыка этого огромного, поросшего высокой растительностью болота. В огромном большинстве случаев он питается падалью и из его рта несется отвратительный запах гнилого мяса и запекшейся крови. Но он никогда не откажется от свежего куска пищи и, где только возможно, ловким прыжком и сокрушительным ударом лапы приготовит себе еще трепещущий завтрак.
Если кого и боится эта огромная кошка, то только слона и носорога. Их он обходит как можно дальше, не желая знакомиться с их толстой кожей, длинным хоботом и острым рогом. Но если нужно, то и с ними тигр вступает в сражение, и не всегда удача бывает на стороне его противников. Безошибочный инстинкт, переданный от предков, поможет ему, увернувшись от удара рога или хобота, ловким прыжком попасть на спину гиганта и вонзить свои когти и клыки в плохо защищенное место на затылке, чтобы вместе с фонтаном крови выбросить навстречу тропическому небу жизнь животного. В минуты таких побед он долгим, протяжным и оглушительным ревом возвещает джунглям, что он их царь, и что его сила не имеет себе равной. В эту минуту все обитатели джунглей дрожат в испуге и спешат в свод логова и норы. И нет никого, кто бы осмелился принять вызов на бой, звучащий в раскате победного рева, – нет никого, кто рискнул бы посягнуть на жизнь грозного полосатого гиганта.
Только лишь кобра, спокойная и мудрая, как все змеи, равнодушна к этим выражениям гордости тигра. Она знает, что стоит только ей в эту минуту выползти из своего убежища и, приподнявшись на хвосте, уставиться недвижным взглядом в глаза гордеца, как он дрогнет, повернется и, поджав хвост, скроется, шурша тростником. Ибо в глазах кобры он прочтет угрозу тихой, незаметно подкрадывающейся и почти мгновенно убивающей смерти.
Правда, сама кобра не нападает. Но стоит ему, царю этих безграничных болот, неосторожно нарушить ее змеиный покой, как острые, наполненные ядом зубы доберутся сквозь густую шкуру до кожи и введут в кровь страшное свое содержимое. И поэтому, двигаясь на охоту, тигр очень внимательно смотрит себе под ноги и, почуяв запах свернувшейся неподалеку змеи, легкими шагами обходит ее логово.
Так было и на этот раз. Большой, уже немолодой тигр, извиваясь как змея, шел по своим владениям, потягивая ноздрями воздух и из тысячи запахов выбирая один, какой-нибудь особенно привлекательный. Он был очень голоден и его злые, узкие глаза недовольно щурились. Иногда он останавливался и, раскрывая пасть, рычал, как бы предупреждая о своем шествии, о своем голоде, о своем скверном настроении. Иногда он в ярости бил хвостом и рвал когтями болотистую землю.
Вдруг странный, острый запах долетел до его носа. Он остановился, оглянулся кругом и несколько раз втянул воздух в окрашенные темным ноздри. В его мозгу встало далекое воспоминание, которое болью отдалось в левой ноге, давно уже раненой пулей охотника. Рана успела зажить, но память о выстреле и боли ассоциировались с запахом человека, запахом, сейчас ударившим в его слизистую оболочку. Ярость охватила его. Он бросился вперед, туда, где заросли раздавались, образуя просвет поляны, и увидел двух девушек, уже оправившихся от обморока и сидевших спиной к наблюдавшему за ними тигру.
Зверь опустился на задние лапы и, изогнув свою отмеченную темной полосой спину, приготовился к прыжку. Проверив отделявшее его от намеченной жертвы расстояние и почувствовав, что оно велико, он коротким толчком перенес свое тело вперед, помня только о знакомом человеческом запахе и не чувствуя запаха кобры, свернувшейся клубком прямо на его пути.
Одна из его мягких, но тяжелых лап опустилась на узкое тело змеи, и потревоженное пресмыкающееся с угрожающим шипением вытянулось на хвосте и приготовилось к нападению, уставив свои немигающие глаза в узкие зрачки врага. Тигр на мгновение остановился, словно раздумывая – не пренебречь ли ему опасностью этой встречи, но затем отступил на несколько шагов назад и бросился легким прыжком в сторону, чтобы уже в новом направлении возобновить прерванную атаку.
Потревоженная кобра не осталась на прежнем месте, а быстро, шурша в траве, уползла на поиски нового, более спокойного убежища.
Беглянки успели уже несколько отдохнуть и осмотреться. Единственно, чаю их мучило, это недостаток воды; но сочные стебли какой-то травы несколько облегчили жажду. Правда, Женя не была уверена, что эта травяная закуска пройдет благополучно для желудка, а, может быть, и здоровья, но, что же делать, когда губы совершенно сухи, а язык тяжелым, распухшим комом едва поворачивается во рту. И они жевали траву, наслаждаясь кисловатой влагой, стекавшей на воспаленные десны.
Сколько времени обе пробыли в полуобморочном состоянии, они не знали. Браслетные часы Жени остановились и только по солнцу, которое стояло высоко, и немилосердно жгло своими прямыми лучами болотистую почву, – дышавшую парами, как дымка окутавшими лужайку, – можно было определить, что время полуденное и что в их распоряжении еще целый день.
Несмотря на усталость, они могли бы пройти за день большое сравнительно расстояние, спасаясь от жары в тени высокого бамбука, но вся беда, в том, что ни та, ни другая не знали, в каком направлении двигаться дальше. Поляна, на которой они остановились, вернее, на которую они упали, обессиленные долгим путем, была, по-видимому, совершенно глухой, редко посещаемой, а, может быть, и вовсе не посещаемой людьми. Ограничивающие ее со всех сторон заросли нигде не обнаруживали и признаков протоптанных ногой человека тропинок и, как ни старалась Женя напрягать свой слух, ей не удалось уловить каких-либо звуков, указывавших на близость человеческого жилья.
Положение казалось совершенно безнадежным, но Женя ни словом не выдавала своего подавленного настроения, отлично зная, что Фатьма твердо надеется на нее. И в самом деле, восточная девушка была твердо убеждена, что ее умная, храбрая и сильная подруга отлично знает, что делает, и рано или поздно приведет ее к месту, где можно будет отдохнуть, поесть и спокойно выспаться. Она внимательно следила за каждым движением Жени и наслаждалась отдыхом, иногда только вздрагивая от резкой боли, которой напоминали о себе ссадины ног.
Один раз, когда боль была особенно остра, Фатьма не смогла удержаться от стона; и Женя вспомнила, что ее спутница не может продолжать путь, если раны на ее ногах не будут перевязаны. Она быстро принялась за дело. Оторвав от широкой рубашки девушки кусок шелка, она вытерла им ссадины ног, которые уже начинали гноиться, и увидела, что необходима плотная и основательная перевязка для того, чтобы Фатьма смогла ступить на свои изрезанные травой подошвы. Из кусков шелка, из полотна своей рубашки Женя соорудила нечто, что придавало ножкам Фатьмы, которыми она так гордилась и которые так любил прятать в свои ладони Налинакша, сходство с ногами молодого белого слоненка. Девушка, с выражением комичного удивления, поворачивала белые обрубки и, встав, попробовала сделать несколько шагов. Оказалось, что безобразная перевязка дает ей возможность двигаться и что, опираясь о плечо Жени, она сможет проделать довольно значительный путь. Женя получила в награду за свое искусство град поцелуев и целый поток восточных благодарностей. Сама она была довольна тем, что самая трудная из стоящих перед ними задач так удачно разрешилась.
– Ну, Фатьма, – сказала она, – теперь мы отдохнем еще немного и, когда твоя усталость совсем пройдет, тронемся в путь. Брось прыгать и садись рядом со мной!
Но Фатьма вдруг остановилась, к чему-то прислушиваясь.
– Там кто-то шевелится в кустах. Какая-то птичка, – сказала она.
Женя тоже услышала шорох и внимательно следила за Фатьмой, которая тихо подкрадывалась к зарослям и вдруг быстрым движением рук раздвинула бамбук.
Большая кобра прянула в воздух и, поднявшись на хвосте, с грозным шипеньем выбросила свое жало навстречу опасности. У Фатьмы кровь похолодела и она как подкошенная упала на траву, пугая змею своим падением и заставляя ее нырнуть под защиту густого тростника. Женя скорей сообразила, чем увидела, что произошло и решительно кинулась на помощь, чтобы, в свою очередь, очутиться лицом к лицу со смертельной опасностью…
Перерезая ей путь, из зарослей на поляну вышел огромный тигр. Он двигался не торопясь, совершенно уверенный в том, что его жертва не успеет бежать и, конечно, не осмелится вступить с ним в единоборство. Его движения были упруги и соединяли в себе ощущение легкости и одновременно, тяжеловесности. Под полосатой густой шерстью, мускулы переливались, изгибаясь как змеи, перекатываясь как комья. Голова хищника была слегка приподнята кверху, зубы оскалены и из кроваво-красной пасти вырывался тяжелый запах падали. Окруженные перемежающимися светлыми и темными полосами глаза казались слегка прищуренными.
Женя вздрогнула. Одну секунду, казавшуюся бесконечно долгой, она стояла, не в силах пошевельнуться, потом закрыла лицо руками, повернулась и без единого крика, ничего не видя и не слыша, ничего не чувствуя, кроме панического страха, бросилась бежать.
Тигр ударил себя по бедрам тяжелым и гибким хвостом, потряс окрестность грозным рычанием и, сжавшись, как стальная пружина, приготовился к прыжку.
Виктор спокойно и уверенно направлял свой полет к границам Индии. Это была единственная безопасная воздушная дорога, на которой нельзя было встретить врага, ни воздушного, ни земного, ни морского; но оставалось только попытаться использовать все возможные пути, которыми из этой страны, страны вечно волнующихся и восстающих против угнетателей туземцев, можно завязать связь с Советской Россией. Самое трудное было – выбрать место, чтобы незаметно спуститься на землю и скрыть аэроплан от глаз населения. Все остальное было сравнительно легко. На аэроплане они нашли винчестер, который Бинги внимательно рассматривал, любуясь его чистой и аккуратной отделкой. Кроме того, в их распоряжении был револьвер летчика, оброненный им около аппарата, и запас пуль к нему, найденный Бинги в маленьком чемодане. Значит, на первое время они гарантированы от опасности встреч с дикими зверьми и случайными полицейскими.
Как всякий моряк, Виктор отлично знал географию и по очертаниям далеко внизу расстилавшейся земли, определил местоположение джунглей, которые, по его мнению, являлись самым подходящим местом для временного убежища. Оставалось выбрать место для спуска.
Острые глаза Бинги сослужили в этом отношении хорошую службу. Он быстро разглядел проплешину большой поляны и заорал в ухо Виктору, словно капитан корабля в рупор:
– Поляна! Поляна! Можно спуститься!
Виктор легко снизил аппарат и с первого же взгляда оценил все достоинство импровизированного аэродрома, над которым пролегал их воздушный путь.
– Хорошо, Винт, мы спустимся здесь!
Все остальное произошло с быстротой молнии.
Едва аэроплан коснулся колесами мягкой и вязкой почвы, Бинги и Виктор увидели картину, заставившую их пожалеть об опрометчивом решении. Поляна не была пуста.
На противоположном от места их спуска конце, у опушки зарослей, лежала какая-то женщина, а другая – быстрыми шагами направлялась к ней. Затем между двумя женщинами появился тигр, вторая женщина в страхе побежала от зверя, зверь могучим прыжком взмыл в воздух, потом…
Удивительно хорошо стреляет Бинги!
На мгновение тигр застыл в воздухе, словно оператор остановил кинематографическую ленту. Только на одно мгновение! В следующее мгновение животное уже лежало на земле, бессильное, слабо вздрагивающее коченеющим телом.
Женя не слышала выстрела, Женя не видела, как преследовавший ее хищник пал мертвым от меткого выстрела Бинги. Она бежала сквозь заросли тростника и бамбука, раздирая их своим телом; бежала, ничего не видя перед собой…
Когда, наконец, она пришла в себя и оторвала руки от побледневшего лица, то увидела себя в самой чаще болотных зарослей. Чувство облегчения от сознания того, что опасность миновала, сменилось чувством стыда за свой поступок и волнением за судьбу Фатьмы. Первым ее движением было – повернуть назад и вернуться к оставленной подруге, но, осмотревшись вокруг, она поняла, что из этого ничего не выйдет. Откуда она пришла и какой путь будет обратным, Женя не знала.
Вместе с тем, тяжелый день и пережитое волнение дали себя знать сильным головокружением и чувством сковывавшей все тело усталости. С большим трудом она поборола желание сейчас, тут же, лечь на вязкую почву и заснуть. Надо идти, надо вырваться из этого болота! И, повинуясь какому-то смутному инстинкту, она пошла прямо вперед, с трудом уже раздвигая густые, погружавшие местность в сумерки заросли.
Она не знала, как долго продолжалось это путешествие. Ей оно казалось бесконечно долгим. С каждым шагом головокружение усиливалось и, пытаясь объяснить себе причину слабости, она вспомнила, что уже двое суток ничего не ела и почти ничего не пила. Перед глазами все чаще и чаще мелькали красные круги, в висках стучало и, казалось, что последние силы покидают измученное тело, когда впереди, сквозь тростник, мелькнула полоса какой-то не то дороги, не то поляны. Собрав остатки сил, Женя отчаянным движением, почти прыжком, кинулась туда и, не достигнув окраины зарослей, как подкошенная упала на землю.
Четверо всадников ехали на роскошных полукровных скакунах. Дорога, по которой ступали копыта выхоленных красавцев, тянулась между двумя рядами зарослей. Всадники, по-видимому, не торопились. Кони шли ровным, спокойным шагом, а люди, сидевшие на них, полудремали и, словно нехотя, перебрасывались короткими фразами:
– Не сократить ли нам дорогу, Али? – предложил один из них.
Тот, к которому обращены были эти слова, был чем-то вроде предводителя группы. Его конь был выше и сильнее других, а одежды претендовали на некоторую роскошь.
– Ты предлагаешь ехать прямо через заросли?
– Ну да! Так мы сбережем часа полтора.
– А тигры?
– Вздор! Наши винтовки хорошо заряжены, да и тигровая шкура неплохой кусок для нашего брата.
Тот, кого звали Али, видимо, убежденный словами своего спутника, решительно свернул с дороги и почти с головой погрузился в зеленое море. Остальные последовали за ним.
Высокие, густые заросли совершенно скрывали коней и всадников. Это не мешало лошадям ступать уверенно и осторожно, а седокам отчетливо видеть каждую пядь почвы. При малейшем шорохе и кони, и люди настороженно вздрагивали, вытягивали шеи и осматривались вокруг.
Вдруг Али, ехавший впереди других, сразу осадил коня и, дав знак остальным остановиться, соскочил на землю. Он внимательно что-то осматривал, почти обнюхивал, и, наконец, выпрямился, держа в руке кусок белого шелка.
– Здесь недавно прошли две женщины! – сказал он. Одна – в шелковом платье, другая – в сапогах. Они пошли туда, – он сделал знак прямо перед собой.
– Если бы не ты, Али, говорил это, – я бы никогда не поверил, – покачал головой один из троих, сидевших на лошадях.
– Во всяком случае, нам не мешает поехать по их следам, – прибавил другой.
– Если их еще не съели тигры, то мы сможем заработать на этом деле, – плотоядно усмехнулся третий.
Али, не выпуская из пальцев найденного им куска материи, вскочил на коня и дал ему шпоры. Скакун сразу перешел на рысь и помчался вперед, не обращая внимания на растения, хлеставшие своими стеблями его нежное, но сильное тело.
Первым движением Виктора было – броситься вслед убегавшей девушке, но пока он останавливал мотор, пока он соскочил с аэроплана, она была уже далеко, и, ясный на поляне, след ее ног затерялся во мраке зарослей. Пуститься за ней в джунгли Виктор не решился. В конце концов, неизвестно, что здесь произошло и стоит ли эта беглянка того, чтобы из-за нее рисковать, может быть, даже жизнью. Лучше подумать о той, что лежит здесь в беспамятстве и от нее уже узнать, в чем дело.
Первым принялся за приведение Фатьмы в чувство Фокс. Он бегал вокруг нее с лаем и визгом и время от времени принимался лизать своим теплым языком ее побледневшее лицо.
Обморок Фатьмы был, однако, не из таких, которые проходят от легкого прикосновения. Не только испуг перед коброй свалил девочку с ног. Все волнения последних дней, усиленные голодом и жаждой, окончательно надломили ее слабые, почти детские силы.
К Фоксу присоединился Бинги. Он дул в лицо Фатьмы, прыскал на нее водой из фляги, тормошил, поднимал на воздух и встряхивал, как мешок – ничего не помогало и только слабое дыхание напоминало о жизни, не уступившей еще свои права смерти.
Наконец, за дело взялся Виктор. Он бросился к аэроплану и там, в чемодане летчика, нашел банку одеколона. Это средство оказалось более действительным, чем все остальные. Когда виски девушки были смочены несколькими каплями ароматной жидкости, она открыла глаза и что-то проговорила на непонятном ни Виктору, ни Бинги языке. Однако отрывистый характер произнесенных ею фраз и тусклые глаза не оставляли никакого сомнения в том, что спасенная ими незнакомка, одетая в восточный наряд, бредит и что ей нужен основательный отдых, внимательный уход и теплая постель.
Нельзя сказать, чтобы это открытие обрадовало наших героев. Перед ними стояла трудная задача позаботиться о самих себе и больная, ни слова не понимающая, по-видимому, на языках Бинги и Виктора, была слишком тяжелой обузой. Только Фокс не проявлял никаких признаков неудовольствия и ласково прыгал вокруг своих двуногих приятелей.
Виктор нахмурил брови и уже решил было покориться судьбе и взять на себя заботы об этом несчастном, неведомо какими путями очутившемся в джунглях существе, как Бинги вздрогнул и сделал ему предостерегающий знак.
– В чем дело? – спросил Виктор.
Негр внимательно прислушался к чему-то, чего Виктор, как он ни напрягал свой слух, услышать не мог.
– Тигр там, что ли?
– Хуже. Люди! Несколько человек, верхом.
Бинги прилег к земле и, словно читая книгу, сказал:
– Они еще довольно далеко, но едут хорошей рысью. И они едут сюда!
Первое, о чем подумал Виктор, это об аэроплане.
– Надо спрятать машину, Бинги, и… да уймись ты, проклятая собака! – прикрикнул он на не в меру разлаявшегося Фокса.
Бинги схватил животное и сунул себе под мышку, зажимая ему рог огромной черной рукой. Фокс несколько мгновений обиженно повизгивал, но потом успокоился и поняв, в чем дело, прекратил лай.
Закатить аппарат в заросли было делом нелегким. Здесь нельзя было действовать ни ножом, ни топором, так как нужно было сделать этот своеобразный гараж совершенно незаметным. Даже следы на траве, оставленные колесами, пришлось тщательно расправить и загладить. Но оба работали с утроенной энергией и все было кончено как раз в ту минуту, когда на противоположном конце поляны, над морем тростника показались четыре головы в огромных белых тюрбанах.
Первым ехал Али, и он первым заметил Фатьму, опять погрузившуюся в обморочное состояние.
– Эге! Девочка-то недурна, – сказал он, слезая с лошади и нагибаясь над ней.
– Ты думаешь, нам за нее что-нибудь заплатят? – спросил его один из спутников.
– Заплатят. И немало. Она молода и, по-моему, прекрасна.
– Какой шайтан занес ее в это болото?
– Ну, это меня совершенно не интересует!
Положим, Али врал. Как восточные люди, он страдал любопытством и сгорал от желания узнать, кто такая Фа-тьма и откуда она забрела сюда. Он оглядывался по сторонам, пытаясь ухватиться за какую-нибудь нить для решения вопроса, но его острые глаза нигде ничего не замечали. Он и не подозревал, что за каждым его движением следят три пары глаз, из которых две пары принадлежат людям, а одна собаке.
– Она легка, как перышко, – воскликнул Али, подымая девушку и перекидывая ее через седло. – Ей, наверное, не больше пятнадцати лет, – прибавил он, вскакивая сам.
– А все благодаря мне, Али! Если бы ты не послушался меня и не поехал короткой дорогой, девчонку съели бы тигры.
Четверо всадников скрылись в густых зарослях.
Бинги и Виктор подождали, пока шум тростника и мягкие удары копыт стихли вдалеке, и только тогда решились покинуть свое убежище. Обрадованный разрешением лаять Фокс выделывал на граве совершенно невероятные кульбиты и очень мало тревожился тем разговором, который вели между собой его двуногие товарищи. А разговор этот был очень важным. Бинги и Виктор решали вопрос о том, в каком направлении им продолжать свой путь и как держать себя при встречах с туземцами или, не к ночи будь помянута, полицией?
Глава восьмая,
или встреча принца с народом
Об Индии и индусах много источников и много разных изданий, начиная от географии Иванова и кончая германскими кинопостановками.
По Иванову Индия – это страна, занимающая южное побережье Азии по долинам Инда и Ганга. Страна, уходящая от океана к подножью Гималаев. В древние времена она населялась дравидами, черной породой людей, потом пришли какие-то нахалы, назвались индусами и парсами и выселили черную породу на острова.
Парсы кланялись по-мусульмански, индусы завели Браму, Вишну и Сиву и вообще считали себя буддистами. Любимым занятием у них было поклонение крокодилам, крокодильчикам, коровам и телятам. Крокодильчики их ели, у коров они пили молоко. Потом болели всеми болезнями и купались в Ганге.
Образовали сотни каст, что ни профессия, то каста. На черную работу создали отверженных созданий, париев, и радовались. Радовались до того момента, пока любопытные европейцы не пришли и не расчесали затылки пулями, огнем и вообще.
Так Индия оказалась во власти англичан. Постепенно она теряла свою экзотичность. На ее равнинах запестрели железные дороги, телефоны, телеграфы, появилось виски, газеты, чума, голод, всеобщее презрение и адский труд.
Боролись, устраивали восстания, расстреливались, рассовывались по тюрьмам и всегда триста тысяч англичан побеждали триста миллионов туземцев.
Далеко пронесся кровавый вихрь. Задел он и Индию. На востоке вихрь смыл подчистую всю старую рухлядь, и в стране от Индии на запад и от Лондона на восток появились другие люди с другими взглядами.
И все, что было в Индии честного, настоящего, обернулось на запад. И все преследуемые ненавистью бриттов скрывались за джунглями в великой стране…
Глухое брожение забродило в трехсотмиллионном человеческом уголке. Пришел тихий человек с хитрыми глазами, остренькими зубками, пушистыми усами и помог своим господам, направив в другое русло гнев своего народа.
Человечек проповедовал непротивление злу и звали человечка Махатма Ганди, что значит Великая Душа. Непротивленец извлек седую от древности страсть забитых всевозможными запретами индусов к собачьей покорности и стал наигрывать на этой струнке.
Он восстал против культуры, против машинизма, он сделал великодушный жест, сжег европейские ткани, объявил кампанию за ручную прялку и повел народ к отказу от сотрудничества с Англией. Он возвратил его величеству медаль за усердие, полученную им в бытность санитарным врачом в войне против буров. Он погрузился в мистику и за каждое неудачное непротивление в народе накладывал на себя посты, поклонялся всем драхмам, Гите, Упанишадам и вообще всему, чему можно поклоняться. В конце-концов бриттам надоел индусский Христос. Он сделал свое дело и мог уйти. Теперь англичане и сами могли бороться с народом, заведенным в тупик. Ганди арестовали и судили.
В конце этого странного, чересчур гуманного процесса начался рыцарский поединок между судьей-обвинителем и Махатмой Ганди.
– В Индии, вероятно, мало лиц, – говорил судья Брумсфильд, – которые искренне не пожалели бы, что вы сделали для правительства невозможным ваше оставление на свободе… Но это так. Я стараюсь воздать вам должное, не причинив ущерба интересам государства…
Он галантно советуется с подсудимым насчет того, какое наказание могло бы быть наложено на него. Он предлагает «Великой Душе» на усмотрение приговор, произнесенный двенадцать лет тому назад над другим вождем индусов Тиллаком: шесть лет тюремного заключения.
– Не признаете ли вы его неразумным? – говорит судья. – Если ход событий позволит сократить срок, не будет человека счастливее меня.
Ганди проявлял большую сговорчивость. Он считал высокой честью присоединение его имени к имени Тиллака. Легче этого приговора не мог бы вынести ни один судья, большего уважения к себе на протяжении всего процесса он не мог бы ожидать…
Легче этого приговора… Убийственной иронией звучат эти слова, когда в тот же день, в тот же час, в том же городе британцы расстреляли сотни индусов, подозреваемых в коммунистической пропаганде.
Карачи – порт в заливе Амана, недалеко от устья широкого плодоносного Инда. С севера и северо-запада к Карачи подходят Солимановы горы Белуджистана. С юга – омывают теплые белобородые воды залива, а с востока – широкие долины полей пшеницы, сады и, наконец, с запада – леса и джунгли.
В Карачи – губернатор, шеф полиции, несколько офицеров и несколько сот тысяч жителей, на восемьдесят процентов мусульмане и на двадцать процентов буддисты. Самое важное в Карачи – губернатор и шеф полиции. Губернатор – генерал Драйер, личность значительная, с мировой славой, облеченная доверием и почестями.
Карачи – одни из главных пограничных городок северо-западной границы, а северо-западная граница… Северо-западная граница Индии для англичан, если хотите, Ахиллесова пята, больше, – зеница ока. Поэтому-то на Карачи посадили генерала Драйера.
У генерала Драйера смачное кровавое прошлое, о котором никогда не забудут в Индии.
В 1919 году, 13 апреля, в большой индусский праздник Джалианвалла Багх, в первый харталь, объявленный Ганди, генерал Драйер прибыл в Амритсар, где за день до праздника произошли небольшие беспорядки.
В ночь на 13-е Драйер издал приказ, воспрещавший собрания и митинги. Но приказы, подписываемые ночью, к сожалению, не становятся известными достаточно быстро.
Утром 13-го громадная толпа собралась на праздник к храмам и внимала браминам…
Генерал Драйер подошел с пушками, настоящими пушками, и открыл по толпе огонь. Он занимался этим до тех пор, пока не истощился запас снарядов. Драйер наслаждался шумом выстрелов, запахом крови и беспомощностью толпы, стиснутой высокими стенами.
Ушли живыми только те, на кого не хватило снарядов. Снарядов оказалось меньше, чем людей. Генерал Драйер просчитался…
И тогда он давал приказы летчикам его величества засыпать бомбочками толпу сверху во время религиозных демонстраций.
Генерал Драйер был затычкой его величества, затычкой, которой затыкались кровоточащие раны. Немудрено, что досточтимый баронет пользовался широкой популярностью и дурной славой.
В 1923 году, пока Ганди сидел в тюрьме, индусы в значительной степени ушли из-под его влияния…
Были и такие, лелеющие мечты о прялке, долженствующей спасти Индию. Они скрывались в лесах, в таинственных развалинах буддийских храмов.
Генерал Драйер, губернатор Карачи, ожидал со дня на день визита будущего главы империи, молодого принца Уэльского. Генерал сидел в кабинете своей великолепной губернаторской пагоды с Эндрью Ретингемом – шефом полиции.
Перед ними на столе, кроме бокалов глинтвейна, лежала беленькая телеграмма. Жара распаривала тела у обоих, оба цедили слова сквозь зубы и обоим было лень.
– Завтра приедет принц Уэльский…
– Йесс, сэр!
– Будет огромное скопление народа…
Шеф полиции помедлил с ответом и взглянул на губернатора. Но потом решил не оспаривать.
– Йесс, сэр!
– Мы опасаемся…
Опасаться нужно всегда! Опасения – привычка колониального британца, такая же, как гордость, презрение, чувство расового и национального превосходства.
– Йесс, сэр!
– Устройте наряд полиции.
– Йесс, сэр!
Эндрью Ретингему надоело устраивать. Он все шесть месяцев только этим и занимался… Но разговор происходил в служебное время, в служебном кабинете и он представил себе, как хлопотно брать потную ручку телефона, будоражить пропотевших сержантов, заставлять их ходить, смотреть и думать. Но все же безропотно повиновался.
Гнерал Драйер закончил разговор, допил глинтвейн и пошел к себе, в свои частные покои, курить бесконечные трубки и не волноваться.
Так жарко, размаривающе жарко было в тот день в Карачи. В сентябре совсем не выпало осадков, свирепо кусались мухи, поспевали мангустаны и сладко целовались женщины.
Коров индусы почитают особенно здорово. Ухаживают за ними, целуют их, находят в коровьем хвосте олицетворение единения человека с животным, как единого живого существа, и намек на переселение душ.
Удивительная штука – города. Индусы, мистики, фанатики, пришли к машине, постепенно стали забывать об Упанишаде и тянуться к чему-то другому. Миллионы отверженных париев ищут спасение от презрения и высших каст и от притеснителей в пробковых шлемах. Только одно объединит их и спасет – машина. Напрасно мистицирующий «вождь» темной, забитой ужасом рабства трехсотмиллионной массы неизвестно из каких побуждений проповедует религиозный, непротивленческий самогипноз.
Что-то очень странное кроется за вежливым обращением британцев с этим новым «мессией». Придет момент, когда и Индия отойдет от мистицизма в стальные объятия кровавой революции.
Но пока в стране, на юге Азии, процветали идеи отказа от сотрудничества и бойкот в рабском проявлении.
На базарах Карачи, на живописных площадях, украшенных экзотическими пагодами раджей, домами браманов, мечетями парсов; на странных для европейца улицах с домашними слонами, ишаками и лошадьми, с типичными европейскими постройками, автомобилями, торговыми конторами фирм, мощных мировых банков и консульств; в торговой части города, у кофеен, в которых парсы заканчивали выгодные сделки на длинные волнистые караваны сырья из Афганистана, в узких улочках обывательской части города, в роскошных восточных магазинах; на пыльных площадях – выжженные солнцем, обветренные песком саманы; худые, черноокие, прошедшие много-много миль крестьяне; высокие, стройные и слабые женщины – приниженные, забитые; шикарные, уверенные в себе, расшитые шелками, жирные купцы и раджи; святые, умертвившие плоть, похожие на высохшие пергаментные свитки, браманы; все передавали со спокойствием, граничившим с ненавистью, одну фразу:
– Завтра приедет принц Уэльский… и отвечали одинаково, не думая, отливая буквы, тяжелые, как свинец, пронизывая империю убивающим взглядом:
– Будь проклят тот, кто завтра выйдет на улицу!
Первое, что говорило о чем-то необычайно торжественном, были тханы. Тханы – полицейские участки. Вы, конечно, не предполагаете, что увидите пухлых, серьезных, школенных бобби с дубинками, и хорошо делаете. Правда, полицейские очень корректны, затянуты в свои колониальные мундиры, на них эффектные белые тюрбаны и они очень красивы. У них стройные высокие фигуры, правильные черты лица, золотистая кожа и огромные черные глаза. Они все принадлежат к воинственному племени, сикхам и, соблазненные беспечной жизнью за счет своих собратьев, индусов, служат в гарнизонах его величества.
Еще бы им не затягиваться в мундиры… Его высочество принц Уэльский! Его высочество! Будущий властелин!.. Наследник величайшего из престолов!
И как замечательны полицейские сержанты! Какие у них рожи! Если вы их увидите, ваша голова закачается, как язык колокольного колокола в пасхальную заутреню… Ваша совесть улезет под ноготок в мизинец левой ноги. Вы едва ли будете жалеть о том, что вам не пришлось столкнуться с сержантами индусской колониальной полиции…
В городах, в других приличных городах, в притонах, среди коллекции темных личностей, достойных аппарата и дактилоскопического бюро, вы найдете милосердие, откровение и радостное спокойствие. Индусские колониальные сержанты – это квинтэссенция уголовной невозможности. Очень редко глаз отдохнет на двух-трех офицерских физиономиях, правда, вызывающих улыбки и добродушный смех, но и не приглашающих проехаться в столицу Латвии.
Все эти олухи торчали на панелях недалеко от своих частей. День выдался… да ну, вы, наверно, сами прекрасно знаете, если приезжает принц Уэльский, то день должен быть великолепный. Шум в городе подозрительно стих. На базарной площади чисто. Камни, как облупленные, теплятся на солнце и ничего не хотят знать.
В узких индусских кварталах все заснуло, затянулось плотной, черной как ночь завесой расовой ненависти.
В домах богатых парсов на всех половинах та же коварная сонливость одолела всех. Никто не показывался за форточку своего дома и ни в одну щель не высовывался ни один кончик хотя бы самого захудалого носа. На всех окнах были спущены циновки.
По пустынным улицам смело разгуливали голодные псы и занимались изысканиями насчет жратвы.
Сказки обычно говорят о том, что в такие дни за городом происходит поединок между красивым молодцом и драконом. Разные археологические раскопки о чем-то другом, а некоторые статисты-медики о чуме.
Ничего подобного. Ждали принца и готовились к ликованию. Во всяком случае, к ликованию готовились сэр Драйер и Эндрью Ретингем.
Они все переживали в своих искренних верноподданнических чувствах, стремились скорей налакаться виски до приезда начальника, как налакивались всегда.
И поэтому больше, чем почему-либо другому, хотели как можно скорее отмахать церемониал встречи царственной особы.
Рыжий айриш, черный испанец, лиловый негр, канареечный ходя, шоколадный каняк, шведы, бритты, французы, всего больше двухсот парней разноцветных, разношерстных, здоровых, хороших парней.
Дикки и Джико сразу стали в центре этой компании. Они работали в кочегарке, жили в кубриках и дышали свежим соленым воздухом на палубе.
В один прекрасный день они вошли в Калькутту. Дикки подумал, поговорил с Джико, и они вместе решили, что ни один черт из Британской Индии не сможет пробраться в Совьет Рошен. Дикки пошел к капитану.
– Сэр?
– Да, Смит!
Ред при первом разговоре с капитаном изменил свою фамилию.
– Разрешите подписать контракт до Лондона, сэр. Я слышал, «Джон Мидлтон» кончает Лондоном.
– Прекрасно, Смит!
– Благодарю, сэр!
Поэтому в Калькутте Дикки Ред и Джико Сакаи беспечно прогуливались по Главному проспекту и вглядывались в город, пытаясь найти в нем хоть кусочек прошлого.
Но город смеялся над романтизмом Реда. Город хохотал. Город издевался. Прекрасные асфальтовые серые ленты спокойно текли между стройными рядами каменных гробов и пагод. Трэмы, авто с наглостью бесплатных пассажиров шныряли по городу. Один миллион жителей в настоящем. Небольшая индусская деревушка в недалеком прошлом.
– В таком городе! В таком городе, наверное, есть отделение Коминтерна, – уверенно сказал Дикки, опираясь в своем предположении на шум и движение.
– Я думаю, – согласился Сакаи.
Но они только перебросились словами. Опасно! Рискованно и совершенно бессмысленно искать, чтобы наверняка напороться и сломать шею. Если и есть отделение Коминтерна и партком, то, во-первых, где-нибудь в прекрасно скрытых половицах пола, а во-вторых, – столько шпиков!..
Второй порт, где «Джон Мидлтон» остановился, чтобы взять еще кое-какого товарца в трюм, был Бомбей.
И, наконец, третий назывался Карачи.
По каким-то сложным коммерческим манипуляциям капитана, пароход остановился в Карачи на три дня.
С рейда, вернее, с палубы «Мидлтона» команда судна заметила на пристани очень большое движение и очень мало судов. Все суда, которые находились в гавани, прижались к левой половине мола и старались слиться с фоном города.
«Джон Мидлтон» пришвартовался. Дикки Ред и Сакаи первыми сошли на берег и удивились необычайному количеству полицейского элемента. С напряженным беспокойством белые тюрбаны обстукивали мостовые набережной.
– Какой бум, Сакаи! – сказал Дикки. – Если мы и открыты, то для нас это слишком много…
– Его высочество на горизонте!
Генерал Драйер затрепетал, поймав в поле своего тридцатидвухкратного призматика штандарт принцевской яхты.
– Ваше высочество… на горизонте… Карачи… – доложили принцу седые баки придворного лакея.
– Идите к черту, у меня болят зубы! – с мученическим видом отцедило его высочество, предполагая за своими словами способность к кульбитам через голову в рот собеседнику.
Но с исчезновением седых баков прошла и зубная боль. Принц Уэльский подтянул пояс на брюках и вышел из каюты. Хотелось пить.
Яхта принца Уэльского в свое время наделала много шума и обошла страницы всей прессы, кроме большевистской. Самое полное описание яхты было в «Таймсе». Желающий получить точные сведения может удовлетворить свое любопытство комплектом за вторую половину октября 1920 года. Можно сказать только одно: описание, перечисление находящихся предметов занимало в трех номерах три столбца нонпарели.
Во всех каютах распихалась придворная шантрапа. Все и всё принцу надоедали. Он ходил, скулил, подтягивал брюки, к обеду надевал смокинг. Больше всего ему надоели его суконные брюки. Он был бы рад какому-нибудь паршивому хавоку. То ли дело гонять собак в английских графствах. А сейчас в Лондоне золотой сезон и все, кому не лень, занимаются веселыми делами. Положительно, скучная выдумка быть принцем.
В уборной было так же, как в каюте. В каюте так же, как в смокинг-рум… Мэри чего-то дулась и не хотела прощать. Даже рубашка, его популярнейшая рубашка с расстегнутым вечно воротом не делала время принца веселее. К тому же под адским солнцем пот вылезал из кожи и под мышками образовалась целая Ниагара.
– Черт бы перетрепал наших чопорных дур! – думал принц. Мэри хорошая девчонка, но ей не к лицу капризы. Подумаешь, нельзя лишний раз позволить себе приличную вольность!
Принц стоял у люка в кабинете и, насвистывая, смотрел на приближающийся порт. В конце концов он перестал свистеть и решил переодеться, для чего направился к себе.
Дочь лорда Розбери, Мэри Эвелина Гортензия Розбери, блондиночка с надутыми губками, чуть не плача, потеряла хорошее настроение. И только предложение племянника лорда Керзона немного обрадовало ее.
Штрайк! Девчонки, придворные девчонки принца, об явили страйк. Забастовку! Они в знак солидарности с Мэри Розбер отказались сойти на берег в порту Карачи.
Генерал Драйер волновался. Царственная яхта входила в гавань. Полицейские были на своих местах. Толпы не было.
– Толпу, толпу, дайте толпу, толпу, – надрывался он с балкона своего дома стоящему внизу Эндрью Ретингему.
Горячка охватила британских джентльменов. Пройдет каких-нибудь десять-пятнадцать минут и его высочество сойдут на берег, его высочество сделают честь. Его высочество пожмут руки…
Эндрью Ретингем собрал старших полицейских.
– Слышите, сержанты? Пять минут, и толпа должна быть на месте!
Сержанты распластались по свою тханам и по набережной. Везде собрались кучки полисменов и выслушивали приказ.
– Криворотые шалопаи, – обычно барабанили сержанты. – Зубы – друзья желудка! Берегите зубы! Через пять минут сделайте толпу, иначе мы сделаем грэт хавук из ваших плевательниц.
Полицейские как зачумленные запрыгали по улицам, площадям и переулкам.
– Хорошее дельце, Джико, тут не иначе как чума! Из города убежали все живые, кроме этих полицейских чучел.
Дикки демонстративно сел на тумбу, Сакаи на другую.
– Есть парни, крой сюда!.. – послышались голоса из-за угла и не успели Дикки и Сакаи разобраться, в чем, собственно, дело, как их окружил рой полицейских.
– Мы граждане Соединенных Штатов, вы не имеете права прикасаться к нам! – гордо заявил Дикки.
Но на полицейских это мало подействовало.
– Будь по-вашему, граждане Соединенных Штатов, но мы вас просим только на пять минут, будьте любезны, – упрашивали они.
– В чем дело?
– Побудьте толпой.
– Толпой?! – не понял Дикки.
– Да, толпой, только на пять минут!.
Дикки недоверчиво оглядел рыжих архангелов, вспомнил всех земных богов, чистилище и Дантовский ад. Но кроме полицейских, он ничего не видел. Нужно было залезать в таинственный куль:
– А что мы должны делать?
Сакаи с не меньшим любопытством уставился на сержанта. Он что-то не припоминал случая, когда бы двух ребят упрашивали превратиться в толпу.
– Кричать! – ответил здоровый детина.
– Кричать?! – раскусил Дикки орех. – Почему нет? Во всяком случае, весело. Пойдем, Сакаи!
Первый троекратный пушечный выстрел раскатился по городу. За ним еще и еще. Насчет пушек в Карачи было устроено так, как надо.
Суда, отошедшие в левую часть гавани, выкинули на верхушки мачт флаги и почтительно приветствовали будущего монарха. На берегу, у разукрашенного цветами мола, ждал почетный караул и весь гарнизон Карачи во главе с губернатором. Яхта грациозно прижалась к молу, и скучный принц, сопровождаемый положенным этикетом двора количеством адъютантов и несколькими лордами, сошел на берег.
Оркестр грянул: «Боже, храни короля». Генерал Драйер сказал приветственную речь, принц ответил и процессия приготовилась к следованию до дома генерал-губернатора. Сэр Драйер ехал рядом с принцем.
– Ваше высочество, вы, надеюсь, скажете несколько слов своим подданным, – шепнул Драйер.
– Уэлл, – лениво ответил принц, и скучна я улыбка, не улыбка, а так, что-то растянутое, проскользнуло по его лицу.
Площадь перед пристанью была оцеплена полицией. Полицейские разбросались по углам всех улиц, выходящих к морю. Уэльский поинтересовался:
– Почему так пустынна площадь, сэр?
– Ваше высочество, приходится сдерживать толпу: если не охранять, то волна народной радости не дала бы нам возможности свободно следовать по улице.
Принц удовлетворился таким ответом. Адъютанты переглянулись. Лорды скучно зевали. Им, несмотря на хорошие белые колониальные шлемы, было очень жарко!
Наконец, торжественная процессия влилась на главную улицу Карачи, в конце которой находился генерал-губернаторский дом. Перед самым началом улицы принца встретил народ.
Темная масса людей сзади бесспорно напоминала людей в полицейских тюрбанах. Они подозрительно выпирали на первый план двух: одного белого и одного желтого. Оба, и белый и желтый, корчились от смеха и кричали. Черт их знает, что они кричали, но что-то они кричали.
Принц встал.
– Мой обожаемый народ, – начал он…
Сзади кто-то спросил шефа полиции:
– Скажите, Ретингем, почему у вас туземцы так сильно видоизменяются и большинство из них в полицейских тюрбанах?
Эндрью Ретингем немного запнулся, но потом достаточно спокойно сказал:
– Видите ли, драхма Брамы – переселение душ; а насчет одеяния, так это у нас мода.
– Понимаю, – многозначительно согласился спрашивающий.
Уэльский сел. Он кончил. Толпа кричала и приветствовала. Принц вынул шелковый платок и кокетливо помахал им.
Как только кортеж принца двинулся дальше, толпа полицейских во главе с Дикки и Сакаи исчезла в воротах ближайшего дома и вынырнула за следующим поворотом навстречу царственной процессии. Принцу пришлось встать.
– Мой верноподданный народ! – сказал он.
– Слушайте, – опять спросил Ретингема любознательный голос в свите, – почему у вас толпа похожа друг на друга, как два экземпляра одного номера «Стрэнда»?
– Климат и почва, – сухо оборвал шеф полиции и, решительно отказываясь продолжать разговор, повернул голову в другую сторону.
Через улицу, промелькнувшую вправо, Драйер заметил торжествующих полицейских и еще двух здоровых парней, из которых один был черный.
И в то время, как толпа № 1 огибала какими-то закоулками дома и полицейские упрашивали ее не выдавать их, – на что после долгих уговоров Дикки и Сакаи согласились, – другая партия полицейских подталкивала вперед – Виктора и Бинги…
Они спокойно вошли в город с запада и, измученные дорогой и приключениями, решили в этом городе найти организацию и попросить у нее помощи. Кроме того, им очень хотелось отдохнуть. У входа в город на них, как на диких зверей, набросились полицейские и сказали, что если они не будут повиноваться, то они их убьют.
Фоксик лаял и усиленно пытался попробовать на вкус ляжки полицейских, в частности красномордого сержанта.
У этой партии народа колеса были смазаны неважно. Что-то упорно у них не ладилось и особенно мешал попадавший под ноги пес.
Драйер оживился. Все-таки маленькое разнообразие! Он посмотрел на Уэльского. Уэльский, казалось, не замечал ничего. Его глаза устремились высоко вверх и застекленели.
Народ быстро приближался к принцу. Принц еще быстрее приближался к народу. Наконец, они столкнулись почти вплотную и Уэльский дернул за такой-то нерв свой язык:
– Мой обожаемый народ…
Теперь уже сам Эндрью Ретингем обратился к любопытному собеседнику из свиты:
– Ну, что же, милорд?
– Ничего, сэр, – ответил тот, – по некоторым, правда, может быть, и неточным сведениям, последние черные из Индии были вытеснены за тысячу лет до рождества Христова…
Фоксик добился своего! Он ухватил красномордого за ляжку. Так хорошо вцепились его остренькие зубки в мускулистое тело парня, и так здорово красномордый пискнул, что сделал бы честь любой вербной колбасе.
К счастью для всей процессии, кавалькада принца уже повернула в другую сторону, и скандал благополучно сошел с рук. Фоксик бегал от красномордого. Красномордый бегал за Фоксиком. Все преимущества были на стороне собачки и красномордый держался за укусанное место.
Народ № 2 решил прекратить внутренние распри и, предводительствуемый Фоксиком, на которого красномордый плюнул, свернул в один из проходов.
Мимо них промелькнул народ № 1.
– Джико, – сказал Дикки, – и нашего полку прибыло.
Когда они были против народа № 2, то Дикки крикнул:
– Вы тоже толпа?
– Мы… – начал удивленный Виктор.
Но народ № 1 исчез за углом, и они пересекли проход по направлению к другому проезду.
Из ворот выглядывали зловещие лица.
Их бедра были узки и только головной убор и повязка вокруг чресел прикрывали изнеможенные фигуры. Глаза горели знойными грозами, на пальцах рук были острые, длинные когти, а на лице, небритом за долгие годы, отросли длинные-длинные волосы.
Они шли прямо, скрестив руки на груди, смотря далеко вперед, пронизывая все, что встречалось – магнитом своих бездонных черных очей.
Ноги, иссохшие, покрытые струпьями царапин и ран, мягко ступали по земле и высокие тела плавно раскачивались… Губы на лицах плотно сжались. Возвышенный сильный дух, победивший и умертвивший плоть, победоносно горел над головами десяти саманов.
Обе партии полицейских, обе партии народа, свита принца, генерал Драйер и Эндрью Ретингем застыли от неожиданности. Даже любопытный собеседник шефа полиции настойчиво проглядывал свой монокль.
Саманы появились внезапно, скользнули по направлению к голове процессии, к принцу Уэльскому, со склоненными покорно головами и скрещенными руками.
Полицейский эскорт раздался по обе стороны, образуя коридор, по которому плыли саманы. У одного из углов поперечных улиц с любопытством смотрели Дикки и Сакаи. Настоящий народ приближался!
Когда саманы подошли достаточно близко, один из них, самый высокий, самый худой и самый истощенный, не человек, а вобла, отделился и протянул свои сухие длинные руки. Он отвесил низкий поклон и, когда подымал голову, то скрестил руки и опустил глаза к земле.
Саманы терпеливо выслушали речь принца и их сухие губы только плотнее сжались. А когда Уэльский кончил, Драйер и Ретингем немного поторопились с выражением восхищения…
Сухой, до ужаса четкий, режущий голос бросил:
– Да здравствует свободная Индия! Смерть ее палачам!
Что-то скользкое, блестящее, леденящее кровь показалось в руке самана. Парой выстрелов Ретингем свалил двух первых.
– Оперетта кончилась! – крикнул Дикки, разбил морды державшим его полисменам, выхватил у кого-то револьвер и бросился к индусу. Сакаи, ломая челюсти, побежал за ним…
Но они не успели приблизиться к процессии, как их перевязали, избили и вместе с саманами запихали в башню молчания.
Башня молчания!.. Башня мертвых!.. Башня судорог!..
Внизу, в воронке, лежали обглоданные хищниками скелеты. Толстые стены башни шли вверх; тяжелая чугунная низкая дверь на массивном засове и еще две таких же двери. Саманов, Дикки и Сакаи впихнули в эту башню. Все случилось так неожиданно и быстро… Саманы, лесные странники, люди, изжившие плоть, безмолвствовали. Казалось, что они могут вечно сидеть на одном месте и смотреть на одну точку.
Они небрежно устроили свои тела.
Сверху свисал ломоть призрачного неба и проходили дразнящие, легкие, перистые облачка. Только жара сухая, без малейшего ветерка, спускалась к ним и стены обдавали пылью тысячелетий…
Отчаяние не было в привычках Дикки. Он вспомнил, что в последнее время вел себя вообще страшно глупо. И ругался больше всего за невыдержанность в последний момент. Сакаи, подобно саманам, совершенно не волновался и осматривал стены башни. День близился к концу.
Неприятно действовали на нервы хрустевшие под ногами кости и черепа. Дикки вздрогнул.
В зажатом костяке руки, оторванной с запястьем от какого-то скелета, он увидел блестящий металлический значок. Что-то заставило его нагнуться и с легким отвращением поднять руку. Пальцы сначала не поддавались, потом сразу рассыпались и на руке у Дикки осталась звездочка с серпом и молотом. Он показал ее Джико, а потом пристегнул к своей рубашке.
Когда-то очень давно индийские владыки сажали в башню непокорных рабов. Позже в нее попадали эти же владыки, не желавшие подчиняться победителям-парсам. Парсы, покоренные людьми белокурых рас, сложили здесь свои кости. А теперь с особой ненавистью белые владыки кидали в башню смерти, вместе с фанатиками-индусами, индусских борцов, рабочих из городов, крестьян, не платящих налогов, и белых, шедших рука об руку с ними…
Начинало темнеть. Клочок неба розовел, и перистые облачка превратились в золотисто-палевые. Из розового небо постепенно серело, потом перешло в темно-синеватый блеск и, наконец, наверху ярко заблестели звезды. Невыносимо хотелось пить.
– Завтра, старина, мы будем чувствовать себя немного хуже! Я не думаю, что нас прикончат холодным или горячим оружием…
Дикки был прав.
Самым отрадным местом в их заточении был кусочек неба, но до него, по крайней мере, двести футов гладкой, сточенной временем стены. На саманов Дикки перестал обращать внимание. Саманы слились с сумерками, ушли в камни…
Глубокой ночью заснувший Дикки ясно почувствовал, что кто-то его зовет. Он открыл глаза.
– О, иностранец, – протяжным спокойным голосом заговорил с ним саман, – встань и слушай! Мы знаем, вы хотите идти в страну, лежащую далеко на севере. Саманы все узнали и они хотят вывести вас, о, иностранцы, из башни молчания. Как?.. скажешь ты. Но это не должно интересовать тебя и только об одном хотят предупредить саманы. Через два места, полных ужаса, пройдем мы. Хватит ли у вас, о иностранцы, силы духа, чтобы миновать их? Ты не можешь представить ужас мест, по которым пойдем мы к спасению. Спокойствие, – вот что спасет вас, о иностранцы!
– Веди нас, саман!..
Дикки, не колеблясь, согласился и разбудил Сакаи. Все равно, другого выхода не оставалось! Понимать, как они собираются вывести их из этой крысоловки, он не хотел. Говорят, значит, сделают.
Саманы встали и пошли за старым саманом, говорившим с Дикки. Старый саман начал размеренными шагами что-то отсчитывать, потом опустился на колени.
После пяти минут безмолвия, во время которого саманы молились, а Дикки и Джико тщетно старались рассмотреть, что они делают, старый саман заговорил.
– О, иностранцы, следуйте за мной! По моим стопам!
Дикки и Сакаи подошли и увидели, что одна огромная глыба сдвинулась в сторону и перед ними зияла черная дыра. Они пошли. Старый саман впереди, за ним Дикки, за Дикки – Сакаи, за Сакаи еще семь саманов. Руки старого самана простирались вперед. Он далеко забрасывал ноги и мягко ступал на землю. Они спускались по лесенкам вниз. Лесенка кончилась и пошла сырая, пористая почва. Всюду стояла одинаковая, абсолютная тьма. С одной стороны тянулась каменная неровная стена, с другой – пустота, и часто левая рука Дикки беспомощно висла в воздухе, обманутая в попытке найти опору. Они шли очень долго и хранили гробовое молчание.
Рыхлая почва два раза переходила в каменистую. Два раза они брали небольшой подъем. Два раза спускались с небольших спусков. Пустота слева и стена справа. Чем дальше они шли, тем тяжелее становился воздух. Он насыщался гнилой пряностью, затхлостью и слабо, но все же одуряюще, действовал на голову. Так расслабляет воздух в тропических оранжереях, в мангровых болотах перед грозой.
Внизу под ногами захрустели кости, а метрах в десяти засветилась призрачным светом вода. Тени расползались по шершавой каменной стене, и на пятьдесят футов вверх свет тоже пропадал, расплываясь в черном, гнилом воздухе. Вся развернувшаяся перед ними картина походила на открытую пасть колоссального чудовища. За несколько метров до воды старый саман остановился.
– Умеете ли вы быть рыбами в воде, о иностранцы?
– И неплохими, саман! – ответил Дикки.
– Я думаю! – подтвердил Сакаи.
– Тогда, – продолжал саман, – вы разденетесь и ваша одежда останется здесь. Только чресла ваши, о иностранцы, наподобие наших могут быть прикрыты.
Дикки разоблачился. То же сделал и Сакаи. На Дикки были короткие спортивные трусы. Сакаи сделал их из нижних штанов. Полотнянку и билет спрятали во рту.
– Теперь, – заговорил саман, – слушайте! Это подземное озеро. Оно сообщается с притоком могучего Инда. В нем священные аллигаторы.
– Ничего себе собака! – подумал Дикки. – Они не дураки насчет таких рыбок, как мы…
– Мы должны опуститься под тот хребет. – Саман показал на выступ стены, уходившей в озеро. – Под ним дыра, и там вода свежа и прозрачна. Готовы ли вы, о иностранцы?
– Как, Сакаи, полезем? – спросил Дикки, и когда тот ответил бесстрастным кивком головы, он сказал саманам:
– Да!
– Вы должны коснуться голубого дна, и когда ледяная вода арки охватит ваше тело, подымайтесь вверх, берите середину вон того угла и милостью Будды спасетесь. – Саман указал рукой на расщелину в выступе и нырнул в воду.
Тяжелые, маслянистые круги сомкнулись над его головой. Далеко от стены над водой показались подозрительные волны, плотные массы каких-то тел и в нос остро ударило гнилью. Дикки, а за ним и Сакаи, нырнули. После них четыре самана спокойно исчезли в воде. Остальных трех съели священные аллигаторы.
Неуклюжие, громадных размеров, спокойно воняя гнилью из огромных зубастых пастей, подплыли они к стене и уверенно поползли на индусов. Саманы не двинулись с места. Смерть в пасти крокодила – священна.
И в то время, как крокодилы не торопясь хрустели костями индусов, Дикки достиг голубого дна арки и ледяной воды.
Вода озера была тепла и нежна, как парное молоко, и совершенно непрозрачна, несмотря на бледный свет сверху. Дикки шел вниз головой, осторожно разгребая сильными ударами воду. И чем ниже он опускался, тем вода становилась холоднее и прозрачнее. Он ясно увидел нежное, зеленовато-голубое глинистое дно и оттолкнулся от него. Его сразу потянуло сильным течением вверх и вытолкнуло из воды на каменную лесенку.
Дикки, спокойный, бодрый, совершенно не чувствуя усталости и недомогания, стал ногами на ступеньки. Скоро показался Сакаи, а за ним и остальные четыре самана.
Ждали десять минут. Затем старый саман сказал:
– Их нет! Такова воля Будды.
Этим дело не кончилось. Для того, чтобы выйти на чистый воздух и пройти к городу с другой стороны, необходимо было миновать городок прокаженных.
Каменистая лесенка вела к коридору, коридор к лазейке, лазейка – в город прокаженных. У многих с ним связаны или тяжелые неприятные воспоминания, или вызванные фантазией жуткие образы, или привитые кинофильмами ужасы. Ничего подобного! Прокаженные – несчастные люди, загнанные в куток и обреченные на смерть. Они не щелкают зубами на попавшего в их логовище здорового человека. Они несчастны. И не жутко делается при переходе через их территорию, а бесконечно жалко.
Шли гуськом. У Дикки сердце разламывалось на ломтики от всего, что он увидел и, когда городок кончился, вздохнул с облегчением, но сохранил в памяти облик скопища прокаженных людей…
Любимым занятием принца Уэльского была верховая езда. Конечно, как британец, он занимался и другим спортом. Но верховая езда!.. С ней он сравнивал наиболее близкие моменты из жизни дорогих сердцу людей.
Уэльский классически сидел в седле и очаровательно вылетал из него. Вылетал довольно часто и с какими последствиями!.. Однажды он починил себе нос и вообще рожу. Стал похож на профессионального боксера после свирепой потасовки. В парламенте сделали запрос: прилично ли наследнику престола ломать шею и красоваться позорным пятном с неприличной рожей во всех иллюстрированных приложениях Америки и Великобритании?
И черт его душу знает! Не то ли принц чувствует, что ему престола, как ушей своих, естественным путем не увидеть, или у него в душе что-то человеческое есть… Принц ответил:
– Парламенту нет никакого дела до моей частной жизни. Я лучше откажусь от престола, но буду делать то, что я хочу.
Последнее происшествие произошло значительно позже описываемых нами событий.
Сейчас принц сидел, надуваясь, в своей величественной яхте и ничего не хотел делать. Он с завистью думал о том, как в метрополии его приятели гоняют собак…
Но на той же яхте любознательный лорд, задававший вопросы Эндрью Ретингему, хохотал и рассказывал девчонкам, в какую дырявую галошу сел принц и как хорошо накрылся зонтиком. Девчонки торжествовали. Мэри тайком пожалела Уэльского. Она по натуре была нежной девочкой, и вовсе не так уже неприятна последняя шалость принца…
Для нас и для наших героев принц потонул в тумане таким же недовольным каким мы его встретили. Он покорно ожидал мук от следующего церемониала.
Замученная Индия желала ему и его собратьям по династии и зверствам хорошей смерти, встряски и… только Ганди и гандисты не противились и отказывались от сотрудничества…
Глава девятая,
в которой лейтенант Сесиль что-то находит
Молодой лорд Арчибальд Монгомери Сесиль – пятый месяц в добровольном изгнании на границах Белуджей, Афганистана и Индии, между Кеттой и Келамом. Комфорт офицера его величества всегда остается комфортом. Сесиль устроился великолепно и почти не скучал. Он принял на себя ответственную миссию борьбы с бунтовщиками, и лорд Керзон считал молодого Арчибальда своим личным другом.
Арчибальд Сесиль безукоризненный англосакс. Что из этого следует? У него двести фунтов нервного тела, правильное лицо, холодные, жесткие, серые глаза и прямой, резко очерченный подбородок. Арчи пробивал шиллинг с двадцати шагов из среднего кольта, курил трубку, носил пробковый колониальный шлем, великолепно отутюженные брюки или симпатичные трусы с чулками до колен.
Он насчитывал за своей родословной четыре века и немного меньше четверти века самому себе. Каждый молодой, энергичный англичанин из хорошей семьи имеет мало дела в метрополии и очень много в колониях. Колонии – университет жизни. Он так же необходим, как и колледж, создающий воспитание, положение, знакомства, футбол и греблю.
Основной работой Арчибальда были, как уже сказано выше, революционеры. Он, как большой, жирный паук, устроился в своем логовище и протягивал цепкую паутину от границ к главному шпионскому штабу и к таинственной квартире в Кабуле.
Арчи Сесиль занимал очень важный для британского могущества пост и, надо сказать, исполнял свою работу не только безукоризненно, но и великолепно.
Таких, нужных империи людей британцы ценят, берегут и стараются обставить их работу всевозможнейшим комфортом. И в этом диком уголке, в котором, кажется, невозможна даже мысль об очаровательном гнездышке, мы встречаем прекрасный коттедж.
На стенах холла милые акварели, в столовой охотничьи картины, а в смокинг рум – уютные диваны и все приспособления для курения по всем способам, существующим в мире, всех сортов наркотиков.
Спальня лейтенанта и комната для гимнастики тоже были маленькими шедеврами. Каждое утро, после крепкого сна, час гимнастики, тренировки с мячом, гантель, турник, как и кофе с воздушной почтой, входили в обязательную для исполнения программу дня.
Арчи, в трусиках, влюбленный в свое тело, в каждый мускул, упражнялся на снарядах; после этого, взяв холодный душ, накинул пижаму и с наслаждением принялся за завтрак и прибывшую, как всегда – вовремя, корреспонденцию.
Утро напоминало прохладной свежестью холодящий вкус мангустанов и взывало к сердцу спортсмена-охотника. Арчи попросил слугу, красивого молодого сикха:
– Гавинда, приготовить мне крошку Джекки!
В то славное утро, похожее на золотистую сердцевину мангустана, мысль об охоте пронизывала колониальных офицеров. Вы, конечно, не думаете, что паутинка Арчибальда Сесиля была одинока. Пауки, такие же лощеные и чистые, в белых, немного палевых костюмах, с подбородками, выутюженными бритвой Жиллет, вымытые душистым мылом Пирса, любили джунгли, любили мангровые леса и любили границу.
И если у других пауков паутина не была похожа на рождественский пирог, то она напоминала индийские пагоды. На что бы они ни походили, в каком бы стиле ни выглядывали их окна, во всех было очень уютно и все отвечало вкусам и потребностям джентльменов.
Телефоны, самолеты, слоны поддерживали связь между бритыми пауками, а они, здоровые, молодые, очень красивые, очень сильные и очень подлые, любили хорошие дни проводить вместе, на охоте.
С четырех направлений к самому западному двигались четыре джентльмена на четырех слонах, с четырьмя сэвэджами и в хорошем настроении. Все четверо остановились у коттеджа.
Лейтенант Арчибальд Сесиль, старший сын знаменитого лорда Сесиля, встретил друзей так же спокойно, бодрым пожатием руки, как он это делал у себя, в Лондоне.
Они перекинулись несколькими словами о погоде и о том, что в такое время нельзя заниматься ничем другим, кроме как охотой. Гавинда привел крошку Джекки.
Хорошенькая «крошка» была маленьким слоненком. Уютным, с симпатичным хоботком, приличного метража, с зубами, приводившими в содрогание, ушами, похожими на плед, толстой твердой кожей и глазами, кроткими, как глаза стройной газели.
Прибывшие понимали толк в слонячьих фигурах. Они знали «крошку» Джекки так же хорошо, как любовниц своих друзей, но все же они приветствовали его и выразили восторг специалистов. Их слоны тоже не были плохи, но им было далеко до Джекки. Слоненок грациозно опустился и лейтенант занял свое место. Охотники пустились в путь.
Они разговаривали о впечатлениях от последних политических событий, о погоде, о солнце. Им не было скучно перечислять сотню лошадиных фамилий, принимавших участие в осеннем Дерби. Они наслаждались и загорались азартным спокойствием при упоминании о состязаниях Кембриджа и Оксфорда в гребле и в футболе. Когда исчерпались корзина светских и спортивных сплетен и плотный лес, они вошли в мангровые заросли.
– Дорогой Арчи, – спросил Берти Пендертон. – Вы твердо убеждены, что на тигровой тропе есть логово?
– Сто против одного, старина Берти! – отвечал Арчи.
Они перешли на тигровое логово в тот момент, когда влево повернула тропа, прозванная ими в честь диктатора джунглей. На тропе виднелись следы, протоптанные животным. Тропка пересекла дорогу и направлялась прямиком к черной реке.
Если забежать на полкилометра вперед, то можно было увидеть виновницу раннего путешествия молодых аристократов, симпатичную тигрицу, пушистую и потешную, похожую на породистого домашнего кота, уважаемого даже собачьим населением.
Тигрица забавлялась с маленькими котятами, поднимала свои лапки с затвердевшими пухлыми подушками и тыкала ими в мокрые и холодные носы котят. Котята ластились к ней, она их отшвыривала, они опять прижимались к земле, готовились к новому прыжку, забирались на спину и на голову к своей мамаше.
Носики у котят были черненькие. Мать не хотела большего блаженства и чувствовала себя как нельзя лучше. Ее семейный уют нарушался только ветром и даже самец заботливо скрылся в джунглях в поисках пищи для семейного ленча.
Но напрасно дожидалась верная жена самца, счастливого супруга и отца трех полосатых младенцев. Напрасно на ее пушистых щечках играло нежное подобие улыбки. Напрасно! Отец, претендовавший на престол в царстве джунглей, лежал бездыханный, уложенный пулей черного Бинги.
Крошка Джекки, ведший компанию джентльменов, своим тонким обонянием почуял близость тигра. Его хоботок взвился кверху и беспокойно заерзал, свертываясь и выпрямляясь, но не нарушая общей тишины и похрустывания сухих сучьев, валявшихся на пути.
– Джекки что-то почуял, парни, – обернулся Арчибальд к друзьям.
– Да, тигр близко, – согласился ехавший за ним Артур Тронтон, – и улыбнулся ослепительно белыми зубами.
Чем ближе подъезжали они к логову, тем больше нервничал Джекки и, в конце концов, он, а за ним и остальные четыре слона яростно затрубили.
– Та-та-та-та-та, – подумала тигрица и, схватив самого маленького и самого неуклюжего мальчишку, нырнула в заросли. Два полосатых младенца последовали примеру матери.
Но было поздно. Другое дело, если бы тигрица была свободной женщиной, не имела бы детей и т. д. Тогда она показала бы приличным охотникам неприличную часть тела и больше ничего. Но… среди тигров не додумались до искусственного производства младенческой шпаны и до освобождения женщины от рабского закона деторождения.
Все матери любят щеголять самопожертвованием и вставать в красивую позу. Тигрица приготовилась к прыжку отчаяния, думая своим безнадежно печальным и заранее предрешенным концом спасти ребят. Это ей удалось. То есть, она встала в красивую позу и сделала прыжок отчаяния.
Несколько часов назад ее мужа подстрелил черный, белый подстрелил ее теперь и сделал это не хуже черного. Вся разница была в величине дырки на лбу, пробитой пулями разного калибра.
Теперь, прежде всего, о настоящей женщине. Даже не так! Прежде всего, о камне, на который упала женщина или, что еще точнее, о колене женщины, которое разбилось о камень.
Женщину эту мы прекрасно знаем. Ее зовут Женей и описание всех ее достоинств вы можете найти в соответствующих строках на соответствующей странице романа. Когда мы ее встретили первый раз, она даже в своей фантазии не ждала таких ультраприключенческих эпизодов, сорванных с бесшабашно авантюрного киноромана.
Что называется, пройти через огонь и воду, гаремные коридоры, через ротики тигра и засыпаться в дурацкие однообразные высокие неприятные заросли. Пестрая рубашка, щегольские бриджи и классические верховые сапожки Жени, когда-то возмутившие евнуха и удивившие свору гаремных баб, потускнели. Ее волосы больше напоминали материал для заклепки лодок и щелей в бараках и крестьянских великорусских избах, чем волосы женщины. Колено Жени, смуглое, нежное, круглое колено изрубцевалось об острый нехороший камень. Ее рубашка посерела не только клетками, но и пустыми несимметричными дырами, а кожа на руках покрылась мрачной татуировкой…
Женя не думала о своей внешности и вообще не чувствовала ничего, кроме пустоты. Ее глаза плотно сомкнулись и только смуглое личико и губы говорили о том, что это настоящая, неподдельная Женя.
В способностях крошки Джекки никто не сомневался. Когда он своим длинным хоботом вытянул из зарослей одного за другим трех тигрят, все приветствовали его шумными криками удовольствия, а Арчи, как истый джентльмен, предложил друзьям после охоты устроить жеребьевку, причем любезно исключал себя из числа претендентов на котят, увеличивая таким образом шансы каждого из своих друзей, на выигрыш.
Индусы, на которых никто не обращал внимания, по всем правилам охоты прикрутили убитую тигрицу к длинному шесту.
На середине дороги, на тигровой тропе, Джекки сделал несколько движений хоботом и, подняв правую ногу, замер.
Арчи Сесиль увидел пыльные человеческие ноги. Крошка Джекки опустился на землю. Друзья Сесиля с нескрываемым любопытством следили за ним. А Арчи замер от неожиданности и, очарованный, смотрел на лежавшую перед ним красивую девушку. И только, когда Берти Пембертон насмешливо крикнул:
– Эй, старина, можно подумать, что ты наткнулся на женщину и не можешь отвести глаз от красотки! – Арчи оторвался от созерцания. У него в голове промелькнула мысль, как неприятно бы хрустнули кости девушки под пятой слона, и, он, смеясь, ответил:
– Да, Берти, от красотки и от какой?!
Женя заняла одну из спален и надела один из костюмов лейтенанта Сесиля. Четверо друзей лейтенанта Сесиля Арчибальда отказались от жеребьевки на рыжих котят и преподнесли их вместе с шкуркой тигрицы Жене.
Она приводила себя в чувство и нормальное состояние, а четверо друзей обещали приехать к вечеру, на чем сам Арчи абсолютно не настаивал, а даже совсем напротив. Его находка привела его в порядочное смущение и он совершенно, не знал, что нужно дать, предложить и сделать прелестной девушке.
Женя приняла ванну, почувствовала радость жизни, и забеспокоилась о судьбе Фатьмы, и облачилась в одну из пижам Арчибальда. Ее волосы стали ее волосами и больше не напоминали свалявшуюся паклю.
Арчи мечтал о том, когда он сможет заговорить с девушкой, и в его воображении сияло бодрое личико, задорное и хорошенькое.
Он отправил срочное требование в город о присылке ему, с ежедневным рейсом самолетов, комплекта всего того, что нужно для женщины, молодой, хорошенькой женщины. Гавинде Арчи приказал немедленно доставить лучшую из индусских девушек на служение к белой госпоже.
В душе он очень беспокоился о вечере и не знал, что предпринять для того, чтобы его друзья позабыли дорогу в коттедж.
Наконец, одно из его нервных, неотделимых от ума и тела желаний сбылось. Она вышла. Он уничтожен. Она была очаровательна.
Когда Женя привела себя и свои мысли в безукоризненный порядок, то начала обдумывать свое положение.
Она поняла, что попала в руки к цивилизованным зверям и что эти звери по-рыцарски обойдутся с белой женщиной.
– С белой, но не с красной, – вполне основательно решила Женя.
Золотые волосы Женя небрежно сколола у шеи, и они кокетливо расползлись в разные стороны. Глаза ее лучились лукавством.
Женя села в лонгшез на веранде и смотрела на лорда.
– Я Арчибальд Сесиль, мисс, и прошу вас доставить мне удовольствие, называя меня просто Арчи.
– Прекрасно, Арчи, – засмеялась Женя, – мой спаситель хорошо начинает. А я Джесси Ред, – вдруг неожиданно сказала она, – и разрешаю моему спасителю называть меня Джесси.
Арчибальд засиял от удовольствия.
– Я надеюсь, что вы не скроете от меня, каким образом вы очутились в джунглях в таком виде?
– Нет, Арчи, я с удовольствием расскажу вам все! – отвечала Женя, обдумывая в голове сказку для лейтенанта.
Она не хотела приделывать к себе мужа и решила, что к ее фигуре и лицу больше подойдет мифический брат.
– Очень просто, Арчи, я и мой брат Дикки выехали из Фриско месяц назад и наша маленькая прогулка затянулась немного больше, чем мы того хотели. В ваших джунглях, Арчи, столько интересного…
Сесиль не выдержал и перебил:
– Самое прекрасное в них – это вы!
Женя погрозила лейтенанту пальчиком и продолжала:
– влеченные джунглями, мы пробивались через мангровые заросли, и тут наши проводники-индусы…
– О… эти индусы! – с бешенством прошептал Арчибальд.
Женя сделала вид, что не слышала злобной фразы лейтенанта.
– Индусы ограбили нас и похитили моего брата. Бедного брата! Мне удалось бежать.
– Джесси, вы, вероятно, хотите дать знать вашему отцу? – спросил Сесиль, когда Женя кончила и посмотрела на него печальными глазами с веселыми мыслями.
– О Дикки? Нет, Арчи! Я не должна огорчать папу и маму. Я должна найти брата и думаю, вы мне поможете.
К вечернему чаю, ровно без пяти пять в уютный уголок явились четверо на четырех автомобилях. Арчибальд ревновал взгляды и улыбку Жени и нервничал. Женя не смущалась и была прекрасной Джесси Ред, дочерью какого-то промышленного короля. Какого, точно она сама хорошо не знала.
Все пять ее утешали и обещали возможно быстрее принять меры к розыску и все пять желали отдалить момент встречи сестрицы с братом. Четыре из пяти завидовали пятому, как облупленные. Пятый торжествовал, когда они остались снова вдвоем, хотя он находился в своей комнате, а она в своей.
Женя в саду перед коттеджем возилась с рыжими котятами. Лейтенант принял почту, приказал отнести все присланное для Джесси в ее комнату, взял из корреспонденции все, что ему показалось более интересным, и спустился вниз, желая похвастаться своей важностью, своей карьерой перед американочкой.
Он нарвал с клумб ярких пахучих цветов, подкрался к Жене и осыпал ее душистыми лепестками. Женя засмеялась и спросила, смотря на пакеты в руках Сесиля:
– Почта, Арчи?
– Да, Джесси! Я буду рад, если вы посмотрите газеты и журналы.
А так как Женя была тоже рада, то котята одни забегали по саду. Она увлеклась газетами и журналами, а он деловыми письмами, ища в них что-нибудь эксцентричное, специально для Джесси.
Наконец, его поиски увенчались успехом. Он разорвал пакет секретной канцелярии вице-короля Индии и, как бы нечаянно, бросил:
– Ох, эти бунтовщики!
Женя знала, что лейтенант будет искать материала для хвастовства, и она великолепно поняла, что эта незначительная фраза брошена для нее. Она с деланным, но совершенно непринужденным интересом оторвалась от газет и сказала:
– Бунтовщики? Ах, как это интересно!
Арчибальд Сесиль передал ей бумагу, на которой крупными буквами машинного шрифта значилось:
«Лорду Арчибальду Монгомери Сесилю, лейтенанту», и дальше:
«Дорогой Арчи!
Вы должны, в кратчайший срок, ликвидировать гнездо бунтовщиков, которое, по нашим сведениям, находится в вашем районе, в развалинах храма Вишну».
Блестящий план зародился у Жени.
– Храм Вишну? – спросила она. – Здесь есть развалины храма Вишну? О, Арчи, почему же вы молчали раньше?
– Простите, Джесси, но я не знал, что эта рухлядь может вас интересовать.
– Рухлядь, говорите вы, – да что же, кроме рухляди, интересует меня?
– В таком случае, я жалею, что я не рухлядь! – улыбнулся Сесиль.
Он вертел в руках какой-то пакет и его мысли разбегались. Он не мог понять, почему он так нервно настроен, вернее, он не хотел понимать. Случайным жестом он разорвал вертевшийся в руках пакет. Из пакета выпала зеленоватая палочка. Женю она заинтересовала.
– Что это? – спросила она.
– Фосфор, – ответил Арчибальд.
– Зачем? – не успокаивалась Женя.
– Я иногда занимаюсь химией.
– Покажите, – попросила Женя.
Лейтенант подал ей пакет.
Зеленоватые палочки, пористые палочки фосфора, взволновали Женю. Она сдерживалась и ей стоило больших усилий держать свои руки твердо, не позволять им трястись. Волнение подступало к горлу, волнение заливало сознание. Палочки фосфора вертелись в руках, проскальзывали сквозь пальцы, а губы Жени улыбались.
Она почувствовала на себе восхищенный взгляд, она понимала по тому, как смотрят на нее глаза британца, что они давно забыли о революционерах и о приказе и хотят другого…
Она представила, как жестоки эти глаза, как они безжалостно раздавят людей, на которых донес подлый провокатор, людей, близких ее сердцу. Женя играла палочками фосфора, Женя перебрасывала их с пальца на палец, не давая рукам остановиться и скрывая свое волнение перед обалдевшим лейтенантом. Постепенно кровь отхлынула от головы, и Женя справилась с собой.
– Итак, лейтенант, – сказала она, подавая пакет, – завтра мы едем к развалинам!
– Это будет очаровательно, – просиял тот.
И сегодня на файв-о-клок приехали друзья Арчи. Он почти что счел их приезд личным оскорблением. Те этого не заметили и упивались Женей в женственном костюме, присланном из города.
К поздней ночи, наговорив необозримое количество любезностей, они уехали. Женя простилась с лейтенантом и ушла к себе. У нее горела голова; ей было трудно дышать. На ее сознание, помимо всего прочего, действовала духота ночи. Она села у окна и долго, долго смотрела на небо. Несколько раз она вставала, затем садилась опять, снова вставала и почти бегала из угла в угол. Она давно скинула вечерний туалет, надела пижаму лорда с вензелями на карманах. Ей было душно, а мысли бегали, как пойманные в клетку мыши.
Вся сладость сказанных днем комплиментов и посланных улыбок ударили ей в голову призрачным неприятным ощущением, постепенно перешедшим в запах крови индусских бунтовщиков…
Несколько успокоило Женю холодное белье постели. Она уже не нервничала, легла на спину и думала, перебирая все, что могло ей помочь в исполнении вполне обдуманного решения. Она отбрасывала, как негодные, один план за другим. Ее глаза бегали по темной комнате, впиваясь в тьму. Сквозь плотные шторы окон слабо пробивались лунные блики. Женя, в сотый раз, восстанавливала в памяти записку, разговор и…
На тумбочке, около кровати, стояли блестящие круглые часы. Женя посмотрела, и ласковый, призрачно светящийся циферблат проскользнул в ее мозг…
Арчибальд Сесиль чувствовал себя не лучше. Его мозг, тело, душная ночь слились в одно. Он понял, что безнадежно влюбился в девчонку. Арчи наслаждался ее лицом, каждым штрихом ее фигуры, складками на платье. Ее плечи не хотели скрываться и уступали в воображении Арчибальда свое место маленьким ножкам.
Ее синие, темно-синие глаза и смуглая мордочка не уходили из сознания. Арчибальд не выдержал и ушел из дома. Он, как одержимый, не соображая ничего, пошел вперед по дороге. Он не заметил, как небо заволоклось над его головой и как за темными уродливыми облаками скрылась луна. Природа напрягалась до последней тучки и лопнула. Небо прорвалось, и страшный тропический ливень опрокинулся на землю. Вода лилась не так, как дождик, крупными или мелкими каплями, она опрокидывалась на землю плотной струей, толще обхвата человеческих рук. Деревья сопротивлялись ливню и молнии… Лес ругался с ветром. Дорога вздулась и потонула в потоках вод.
Молнии дико вспыхивали, нагло скатывался с неба гром, деревья трещали, гнулись, потоки воды устремлялись то в ту, то в другую сторону, ливень переходил в водяной смерч.
К утру Женя заснула, а лейтенант Арчибальд Сесиль, промокший до невозможности, вернулся домой.
Несколькими милями западнее, затерянные в лесах развалины древнего храма Вишну как бы ожили. В подземельях развалин сотни индусов работали по приему и упаковке литературы, решались важные вопросы, исполнялись задания.
Среди индусов находились люди другого происхождения, но несмотря на это, они чувствовали на себе симпатии туземцев и никогда бы в жизни не отнеслись к ним высокомерно. Работа шла вовсю, и никто не обращал внимания на ливень, происходивший далеко наверху.
О существовании таких штабов не могли не знать. Но где и что… нет, только донос подлеца мог выдать штабы с головой. Только донос! Скрытые в подземельях развалин, в глубине городских и деревенских тайников, пригреваемые участием всего населения, революционеры без предательства не могли бояться за себя. Вся индусская Индия, к какому бы она политическому лагерю ни принадлежала, горела местью к притесни гелям и любовью к революции.
Никакие козни непротивленчества не могли отстранить кровавой мести. Только ненадолго отсрочили они кошмарные минуты великолепных бриттов. Все это знали и лучше всех сами британцы.
Тюрьмы наполнялись вождями, шпионы английского капитала пролезали во все щели, следовали всюду за подозрительными людьми, накрывали, радовались и получали хорошую плату. Тратились огромные деньги на подкуп, продавались места, титулы, соблазняли решительно всем, чем можно соблазнить и требовали крови, крови и крови.
В бездонную пропасть уходили люди.
Стальные самолеты, начиненные воздушными бомбами и управляемые гладко выбритыми веселыми парнями со светлыми глазами, слишком здоровыми для того, чтобы понимать, ставили рекорды на количество сброшенных бомб и держали пари на поцелуи с нежными хрупкими созданиями, на число сраженных деревень и с особой доблестью кавалера считали скальпы с индусских голов…
А на западной границе…
Женя проснулась поздно. Лейтенант – тоже.
В кабинете Арчибальда, как она и думала, на его столе Женя нашла вчерашнюю корреспонденцию и разорванный пакет с палочками фосфора. Одну из них она спрятала в карман.
К часу дня подали верховых лошадей и Арчибальд, довольный и успокоившийся, думая, что ему все удастся и что он уже многое успел, помог Жене сесть в седло.
Через минут сорок они подъехали к развалинам. Некоторые части храма еще совершенно сохранились. То тут, то там валялись отдельные куски стен. В выбойках еще не высохла вода вчерашнего ливня. От всего веяло глубокой древностью и все покрылось зеленоватым налетом плесени. Никто не мог подумать, что ночью тут происходят какие-либо сборища и что под эти памятники древности уходят глубоко в землю ходы.
Об этом знают только немногие, и даже Жене не показал Арчибальд небольшой приписки, оставшейся в его руках. В приписке говорилось о существовании подземелья и о пути к несу. Не из каких-либо подозрений Арчи скрыл приписку от Жени. Он сделал это потому, что имел железную выдержку и дисциплину, переданную ему кровью предков.
Женя знала, чего добивалась. У одного из портиков, наиболее сохранившегося, она остановилась и запрокинула далеко назад свою головку:
– Ах, какая прелесть!
– Что? – поинтересовался Арчибальд.
– Вот тот верхний барельеф! Но, к сожалению, я не могу рассмотреть его.
– Если Джесси разрешит?..
– Арчи, вы очаровательны! Арчи, вы прелесть!
Сесиль, сияющий, бережно посадил Женю на плечо. Сейчас же ее лицо переменилось и стало серьезным. Она быстро вынула из кармана палочку фосфора и, твердо надавливая, что-то написала на стене.
– Спасибо, опустите меня, Арчи!
– О, Джесси, – ответил лейтенант, неохотно опуская на землю Женю, – тут еще очень много барельефов.
Вечером к молодому лорду приехали друзья. Женя успокоилась. Арчибальд отложил карательную экспедицию.
Ночью тени людей, скользившие через портик, сохранившийся лучше других, читали горевшие буквы:
– Опасность! Спасайтесь немедленно! Друг.
Глава десятая,
где никто ничего не понимает
Отделение общества по экспорту и импорту предметов роскоши в Курачи возглавлялось купцом Касавами. Общество экспортировало главным образом одушевленные предметы. Сам Касавами – персидский купец, необъятно толстый, жирный и волосатый. У него настоящая контора, очень веские счета в банках, клерки и много агентов. Сам он агент международной экспортной и импортной фирмы. Главное отделение фирмы, возглавляемое неким мосье Грокю, находилось в Марселе.
Фирма имела в крупных городах всех стран своих тайных агентов, которые высматривали добычу, а похитив ее, отправляли соответственно распоряжению главы отделения. Они поставили свое предприятие по системе научной организации труда и работали, как хорошо слаженный механизм.
В северных странах женщин с золотыми волосами, путем химических реактивов, превращали в темнокожих, создавая контрасты между цветом тела, волос и глаз. У женщин с черного континента они уменьшали темноту кожи, превращали черные волосы в полуседые и золотистые, а глаза – в синие. С островов Тихого океана они увозили золотистых богинь и делали дочерей солнца еще эффектнее.
Отремонтированные женщины попадали в новый распределитель и исчезали в тайных гаремах какого-нибудь миллионера-парса, турка или в фешенебельном притоне разврата, и никто не смог бы открыть и спасти украденную женщину. Никогда она не попадала в родную страну, оставаясь навсегда одинокой и беспомощной.
Касавами великолепно знал свое дело и главной обязанностью считал уничтожение всевозможнейших яств. Если он не ел, то он собирался есть, если не собирался, то думал о том, что скоро надо собираться.
Его трапезы представляли собой замечательно интересное зрелище. Слуги подавали одно за другим огромные блюда, а он сидел на подушках и уничтожал их содержимое. И так продолжалось бесконечно долго.
Однажды, во время его обеда, вошли четыре запыленных парса с Фатьмой на руках. Те самые четыре, которые подхватили ее в джунглях. Парсы сказали:
– О, Касавами! Ты согрешишь пред Аллахом, если не взглянешь сейчас же на жемчужину Востока.
Касавами шаром скатился со своих подушек и, вытирая руки и бороду шелковым платком, цинично оглядывал и ощупывал девушку. Фатьма находилась в полуобморочном состоянии.
– Жемчужина Востока, – бормотал он. – О, Аллах! Она, действительно, достойна быть дочерью твоей, о, Аллах!
Касавами понимал толк в женщинах и, хотя был страшно доволен приобретением, но выторговал у доставивших ему товар пять английских фунтов.
Как только запыленные парсы удалились, Касавами нажал кнопку звонка. В комнату вошли два свирепых типа.
– Правоверные отправят девушку к мирзе Али Мухамеду в Кабул и скажут, что жемчужина Востока должна пойти к господину Грокю. Поезд, – о, правоверные, – отходит в 2 ч. 40 м. Будьте осторожны, да хранит вас Аллах…
Парсы взяли на руки Фатьму и, поклонившись, удалились. Касавами продолжал есть. Теперь он дошел до шестнадцатого блюда. Только его повар умел запекать мозги молодых воробьев в плоды смоковницы.
События, перегруженные стремлением к концу, как налитые свинцом болванчики, безудержно стремились к одной точке.
Дикки и Сакаи попали к одному индусу, работавшему в подполье. Саманы довели их до самого дома, что-то сказали худому, строгому человеку и скрылись по направлению к лесу. Индус с распростертыми объятиями принял молодых людей, снабдил их всем необходимым, рассказал о положении дела в организации.
Он посоветовал на поезде доехать до западной границы, сказал, кого они должны там найти, и дал явки. Он показал им, как организован транспорт литературы. Он сказал, что с каждым годом Ганди теряет своих приверженцев и что в городах рабочие, а по деревням бедняки идут в их ряды.
На западной границе, – там, куда получили явку Дикки и Сакаи, – была подпольная типография. Туда прибывали все бумаги, инструкции, газеты и журналы. Там находились журналисты, переводившие все, что нужно, на индусский или парсидский языки, и там же были наборщики и печатники, набиравшие и печатавшие готовые материалы.
Индус рассказал много интересного, посоветовал вести себя как можно осторожнее и помог им принять безукоризненный вид джентльменов. Дикки и Сакаи получили белые пробковые шлемы, белые шелковые рубашки, синие пиджаки и слегка палевые длинные брюки.
Индус снабдил их небольшим, приличным для путешественников багажом: желтые чемоданы с парой белья в руках, бинокли и фотоаппараты на ремне через плечо. Сытые и бодрые, Дикки и Сакаи дружески попрощались с индусом.
– Итак, товарищи, – говорил индус, – не забывайте. Эти документы и явки вы дадите человеку, у которого будет вышит на тюрбане один желтый луч. Ваш поезд отойдет в 2 ч. 40 м. и вы успеете. Ну а теперь, разрешите пожелать вам всего лучшего.
Автомобиль, вынырнувший откуда-то, довез Дикки и Сакаи к вокзалу.
На путях отправления стоял поезд местного назначения, именно тот, который был им нужен. Они купили билеты и заняли одно купе для европейцев. И когда по часам Дикки стрелка показывала два тридцать семь, Сакаи вспомнил о газетах:
– Дикки, я сбегаю и куплю, – сказал он.
– Смотри, не опоздай!
Как только Сакаи вышел и исчез в здании станции, поезд тронулся и, проезжая мимо часов на платформе, Дикки увидел, что время отправления правильное, и что Сакаи бежит и садится в один из самых дальних вагонов. Он успокоился и сел, зная, что на первой остановке Сакаи перейдет в свое купе.
А тот вскочил на ходу в поезд и, входя в чье-то купе, извинился:
– Я перейду к себе на первой остановке.
Он уселся в угол и стал смотреть в окно. Против него на скамейке сидели два человека и полулежала женщина. Женщина была – Фатьма, а люди, – парсы, посланные Касавами. Они ее напоили каким-то снадобьем, и она, не приходя в сознание, погрузилась в транс.
Остановки не очень часты на пути из Курачи в Келал. Они нечасты и на пути из Курачи в Кетта. На второй половине мили поезда, следовавшие вплотную один за другим, разошлись. Один пошел западнее с уклоном к югу, а другой на запад, в сторону севера.
Уставший от потрясений и бессонницы Сакаи задремал. Его укачивал приятный ритм колес и прохладный ветерок, залетавший в окно. Ему не верилось в то, что они так счастливо выбрались из всех передряг и приближаются к заветной цели.
Солнышко нацелилось сбоку и наигрывало на белом шлеме японца пухлыми, радужными зайчиками, перебегавшими то на лицо, то на руки. Он морщился, но ленился открывать глаза, а тогда отмахивался рукой, думая, что его кусают назойливые мухи. На другой скамейке парсы, не видя ничего опасного в дремавшем иностранце, тоже сладко задремали и, по всей вероятности, заснули бы крепко. Но Фатьма начала приходить в себя, в ее памяти вставали пережитые кошмары: Женя, бегство из гарема, мучительный путь по джунглям, змея, тигр и, наконец… наконец тьма и… пропасть. Она ужаснулась, открыла глаза и вскрикнула. А когда два парса яростно встрепенулись и свирепыми рожами склонились над ней, она отчаянно рванулась вперед:
– Где я? Куда вы везете меня?
– Молчи, о, женщина, наказанная Аллахом! Молчи – прошипел парс.
Фатьма еще раз дико рванулась. Тогда они схватили ее за руки…
Сакаи сначала думал, что он слышит шум и борьбу во сне, но его глаза медленно открывались и от солнца, окна и противоположной стены перешли на спину ближайшего к нему парса, а после… после… платье Фатьмы, во время сопротивления парсам, распахнулось, и на одном из обшлагов костюма Сакаи заметил портрет…
И, как только заметил, дремота исчезла, а сила налилась в его мускулы.
– Стойте, – бешено заорал он. – Эту девушку защищаю я.
Ногой он привел в беспамятство одного из телохранителей Фатьмы, рукой он схватил другого и, несмотря на сопротивление, вышвырнул его за окно. За вторым последовал первый.
Бобби страдал неопределенностью. С самого начала своей жизни он делал неопределенные вещи, имел неопределенный вид и неопределенные способности. Когда он вошел в зрелый возраст, то все, кроме имени и вида, в нем определилось.
Его все звали Бобби. Если бы вы его не знали раньше, то стоило вам его увидеть, и вы начинали звать его именно так, и ни на буковку иначе. А его вид! Хотите видеть его семнадцатилетним юношей? – Извольте! Старцем, лишенным мужских доблестей? – Пожалуйста! Мужчиной средних лет? Когда угодно! Человеком с положением? Всегда! Бродягой? Ну, конечно!
Сам Бобби был просто сыщиком, и в настоящий момент находился в полном распоряжении лейтенанта Арчибальда Сесиля, перед которым смущался и робел, которому завидовал и которого боялся.
Он делал это в течение всей своей неопределенной жизни, начиная с возраста, когда он был карапузиком и кончая колледжем, который он, к своему великому недоумению, кончил. Как сыщик, Бобби неопределенно расплывался в глазах своего начальства и всегда делал или хорошие, или плохие вещи. Когда он делал хорошие, то это таяло, и слава переходила на других, когда плохие, то делалось то же самое. Его никогда никто нигде не замечал. Он напоминал медузу…
Все время Бобби присутствовал в доме лейтенанта, и никто, даже мы, его не заметили.
Не замечала его и Женя. А Бобби очень хорошо заметил Женю. Бобби опять нашел причину для новой зависти и почему-то уверил себя, что его лейтенант пользуется успехом у мисс Джесси. В конце концов, Бобби не удалось слиться с фоном коттеджа Арчибальда, – Сесиль вспомнил о нем и познакомил Бобби с Женей.
– Я очень рада, – неопределенно сказала она.
Бобби неопределенно вспыхнул. После этого он, как угорелый, носился по окрестностям и искал брата мисс Джесси. Он останавливался около всякого европейца, обдумывал, может или не может этот человек быть Диком Редом и, наконец, братом мисс Джесси. Он бегал везде: рыскал по деревням, ездил в город, спрашивал у знакомых и даже стал немного определеннее. Наконец, он решил остановиться на станции Келал. Бобби, с утра до вечера, вместе с начальником станции выходил к поездам и, проходя по составу, вглядывался в бритые лица и в пробковые шлемы.
Поезд сделал несколько остановок и, наконец, остановился в Келале. Дикки беспокоился и недоумевал. Сакаи не появлялся. На каждой остановке Дикки выходил из купе и осматривал столько вагонов, сколько успевал. В Келале ему нужно было выходить совсем. Глупая станция и глупое положение. Все явки находились у него, деньги – тоже. Дикки выскочил из купе и в последний раз решил поискать маленького японца. Теперь он начал осмотр планомерно и не пропускал ни одного места.
Красивый парень со всеми, присущими американскому малому, данными произвел большое впечатление на Бобби и сыщик, подняв воротник своего пиджака, погнался за Дикки.
Поезду надоело стоять. Поезд тронулся! Поезд уехал! Дикки ничего не оставалось, кроме злобы на самого себя. Он машинально вынул из кармана папиросу, откусил большую половину мундштука и бросил ее через плечо.
Папиросу, – очень ловко, движением, делавшим честь колледжу, в котором Бобби кончил университетский курс, – папиросу Дикки поймал сыщик. Он моментально извлек из какого-то кармана лупу и внимательно со всех сторон осмотрел ее, но папироса не представляла собой ничего особенного и была как тысячи тысяч других первосортных индийских папирос.
Но для Бобби было достаточно того, что недостаточно для всякого другого. Он растворился в бросившем папиросу человеке и решил, что только джентльмен, потерявший очаровательную сестру, может так нервничать и искать.
– Именем закона его величества короля, вы арестованы!..
Бобби направил небольшой кольт приблизительно в живот Дикки.
Дикки подумал, что все кончено, и решил повиноваться. Бегство было бы бессмысленно, но все же он поборол волнение и спросил:
– Чего вы хотите?
– Ваше имя?!
Под напором чьей-то неведомой воли, Дикки ответил:
– Дикки Ред.
Бобби улыбнулся. О, он докажет всем свою гениальность. Вслух, повелительно бросил:
– Следуйте за мной!
Арчибальд Сесиль работал в кабинете. Он составлял доклад об очевидно ложном доносе. Арчибальд был уверен в ложности доноса. Ни одного бунтовщика он не нашел в подземельях развалины. Арчи торопился как можно скорей кончить занятия, чтобы отправиться с Женей верхом.
В тот момент, когда он хотел поставить точку в конце последней фразы, распахнулась дверь и влетел симпатичный парняга, подталкиваемый сияющей головой сыщика. Арчибальд понял. Он понял, отчего может сиять Бобби, с таким таинственным видом вталкивая джентльмена. Арчибальд распахнул дверь в соседнюю комнату и крикнул:
– Джесси! Ваш брат!..
Женя читала книгу. Книга выпала из ее рук. Она, оторопев на мгновение, свистнула, что-то сообразила и, влетев в комнату лейтенанта, повисла на шее Дикки и покрыла поцелуями его лицо.
И в первый раз в жизни Дикки Ред ничего не понял.
Глава одиннадцатая,
или толпа, потерявшая терпение
В конце концов происшествие перестало быть смешным и стало попросту скучным. Полицейские были слишком грубы, рожа принца глупа, а жаркая погода совсем не располагала к болтанью по пыльным улицам. И Виктор и Бинги стали прицеливаться, как бы улизнуть от этого дела.
Но это было нелегко. Полиция крайне внимательно следила за всеми, с таким трудом согнанными ею для встречи принца людьми, и говорить о незаметном бегстве не приходилось. Оставалось одно: бежать совершенно явно и открыто, полагаясь на силу и выносливость своих ног.
Первым рискнул Бинги. Пользуясь тем, что полиция, желая кратчайшим путем пересечь дорогу высочайшего кортежа, повела их какими-то таинственными закоулками, он, изловчившись, дал хорошего пинка одному из бобби и, подножкой сковырнув другого, ринулся вперед, как черная стрела. Виктор, не колеблясь, вырвался из ряда сопровождавших его агентов и постарался не отстать от своего темнокожего товарища. Полицейские растерялись и, прежде чем началось преследование, наши беглецы имели уже несколько футов выигранного расстояния. Однако, Виктору дьявольски не повезло. Он споткнулся о какой-то валявшийся на дороге камень, упал и, едва поднялся на ноги, как почувствовал, что чья-то рука держит его за ворот куртки. Он успел крикнуть приостановившемуся Бинги:
– Беги!
И в мгновение ока сообразил, что надо делать.
Невыносимая жара не позволяла двигаться в застегнутом виде, и распахнутая куртка едва держалась на плечах. Одно ловкое движение, один пинок ногой, и Виктор уже снова мчится, поднимая облако пыли. Растерянный полицейский остается далеко позади и стоит, недоумевающе глядя на куртку, болтающуюся в его руке.
В погоню бросаются другие, предоставляя неудачливому блюстителю порядка, добросовестно обшаривающему карманы куртки, заняться своей добычей.
Перочинный ножик… блокнот… довольно грязный носовой платок… какие-то бумажки с текстом на непонятном полицейскому языке и…
– Ой!..
Красная комсомольская книжечка Виктора выпадает из пальцев испуганного полисмена и ярким пятном маячит на белом поле улицы. Блюститель порядка долго не решается нагнуться и поднять ее. Ему приходит на помощь вынырнувший откуда-то шпик.
– Что ты нашел? Что такое? Да это билет социалиста! Это!..
Он не доканчивает и машет руками какому-то человеку на белой лошади. Тот, не теряя своего достоинства, спокойно подъезжает к месту происшествия и, старательно укрепив в глазу монокль, рассматривает опасную находку.
– Откуда вы взяли это?
Полицейский рассказывает историю бегства Виктора и получает хороший нагоняй за то, что упустил такую опасную птицу. Шпик волнуется и как собака, тянет носом воздух. По приказанию человека на белой лошади он осторожно, двумя пальцами, надев предварительно перчатку, берет красный билет и, сопровождаемый двумя полисменами, впереди которых едет верховой, двигается по середине улицы к стоящему в стороне экипажу.
В экипаже восседает, откинувшись на эластичные подушки, какая-то очень жирная и, по-видимому, очень важная особа. При виде билета особа эта пытается сохранить хладнокровие, по ее жирное лицо покрывается багровыми пятнами и пухлые, выхоленные руки никак не решаются взять опасный документ. Наконец, билет удостаивается благосклонного осмотра. Важная особа вертит его в руках, осматривает и словно обнюхивает со всех сторон; пытается разобрать значение непонятного языка, потеет, пыхтит, тонким батистовым платком отирает лицо, снимает белый шлем, под которым обнаруживается солидная лысина, и, пожевывая губами, долго думает. Полицейский подвергается перекрестному допросу. Он в десятый раз должен рассказать, как выглядели убежавшие от него люди и каким образом в его руки попала куртка с таким опасным содержанием. От него требуется подробное описание роста, цвета волос и глаз Виктора и каждый раз, когда он не может дать исчерпывающего ответа, из уст важной особы сыплются не весьма благосклонные замечания об умственных способностях местной полиции.
Наконец, начинается совещание. В совещании, кроме важной особы, участвуют шпик и человек на белой лошади. Все трое по очереди изучают страшную красную книжку, испуганным шепотом сообщают друг другу свои впечатления. Слышны отдельные слова.
– Заговор… священная особа принца… проклятые большевики… агенты Коминтерна… большие неприятности…
Наконец, важная особа принимает решение. Она встает в коляске во весь рост и, пытаясь придать своему пискливому голосу властность, распоряжается:
– Немедленно! Самых расторопных людей! Не позже вечера! Я надеюсь!
Человек на белой лошади почтительно выслушивает столь важные приказания и, придерживая двумя пальцами выпадающий все время монокль, начинает торопить полицейских.
Те готовятся не на шутку. Внимательно проверяют заряды револьверов, прикидывают на руке тяжесть резиновых палок и рассыпаются по улицам и переулкам в поисках опасных преступников, так дерзко удравших от полиции его величества.
Тем временем Бинги и Виктор успели замести следы и скрыться в сети узких улочек, окружавших центральную – она же базарная – площадь городка. Фокс, как будто понимая, в чем дело, бежал, не лая и не оглядываясь, впереди Бинги, который, несмотря на свои здоровые легкие и богатырскую грудь, едва дышал от жары и усталости. Виктор чувствовал себя бодрее. Он много занимался спортом и теперь с благодарностью вспоминал скучные дыхательные упражнения и ежедневную тренировку. Но жара действовала на него еще больше, чем на негра, и он задыхался от набивающейся в рот пыли.
Двое помчавшихся за ними полицейских, стесняемые парадным обмундированием, скоро стали отставать, и мало-помалу совершенно бросили преследование, не зная еще истории с находкой билета и не считая беглецов за опасных преступников. Едва их тяжелые шаги и прерывистое дыхание перестали тревожить слух преследуемых, как Виктор остановился и крикнул Бинги:
– Больше нельзя! Так мы свалимся от усталости.
Бинги с облегчением последовал примеру своего белого товарища и тяжело перевел дух.
Они огляделись. В месте их остановки несколько узких и пустынных переулков сходились, образуя маленькую многоугольную площадь. Было совершенно нелепо выбирать и колебаться, так как ни Бинги, ни Виктору город не был знаком, и они свернули в первый попавшийся переулочек, чтобы через несколько минут остановиться у дверей харчевни, из которой тянуло вкусным запахом жареного мяса. Виктор сунул руку в карман брюк и нащупал там несколько английских серебряных монет. Бинги радостно улыбнулся, показывая все свои белые зубы, когда монеты зазвенели в руке его товарища. Оба они были очень голодны и решили, что у них хватит времени для того, чтобы наскоро перекусить, прежде чем продолжать путешествие. Да, наконец, харчевня, наполненная приезжими, была единственным местом, где они могли узнать все необходимое для дальнейшего пути.
Они вошли в открытую дверь и очутились в большой комнате, наполненной чадом вареного и жареного кушанья и запахом человеческого пота. Довольно большое количество индусов и несколько подозрительного вида европейцев сидели кто на низких плоских скамьях, служивших одновременно и столами, кто просто на полу, и уничтожали различного рода какое-то пряное и пахучее варево.
В глубине, у внутренней двери, на чем-то среднем между столом и стулом, сидел высокий, красивый индус с остроконечной смуглой бородой. Его белая чалма совершенно закрывала лоб и прямо из-под нижнего ее края два острых внимательных глаза рассматривали каждого входящего. При виде Виктора и Бинги он слегка качнулся вперед, но ни единым движением лица не выразил своих чувств.
Виктор осмотрелся кругом. Не было никакого сомнения, что эта харчевня была таинственным местом, местом, куда собирались люди, не рисковавшие заглядывать в более людные части города.
Какая-то компания, состоявшая из трех европейцев, одетых в полувосточные одежды, резалась в карты посреди общего зала. Вокруг них сгрудились индусы, молчаливо и бесстрастно наблюдавшие за тем, как белые надували и обыгрывали друг друга. Немного поодаль от этой группы двое роскошно одетых туземцев углубились в подсчет денег, грудой наваленных на их столике. Около дверей странствующий укротитель змей наигрывал на дудочке тягучие восточные мотивы и пара послушных ему пресмыкающихся, приподнявшись на хвосты, извивалась в отвратительном танце. В глубине, там, где еще две двери вели в какие-то внутренние покои, три женщины, накрашенные и нарумяненные, бесстыдно скалили зубы, предлагая посетителям свое тело. Поодаль от них трое желтых китайцев, неведомо как попавших в эти места, наслаждались опиумом, отравляя и без того спертый воздух.
Проклятия игроков, мотивы укротителя, спор двух делящих деньги купцов, взвизгивания женщин, – все смешалось в дикий хаос звуков, раздражающих непривычное ухо, но зато дававших возможность, не стесняясь и не боясь подслушивания, вести какие угодно разговоры.
Виктор учел это и смело направился к сидевшему у задней двери индусу, безошибочно угадав в нем хозяина.
– Привет тебе, – сказал он, кланяясь по-восточному, на что хозяин не замедлил ответить с чувством собственного достоинства.
– Привет и тебе! Войди в мой дом и требуй, чего хочешь.
– Я и мой спутник хотели бы поесть, но только в отдельной комнате.
Индус кристально взглянул на Виктора, потом скользнул взглядом по Бинги, не пропустил вертевшегося под ногами Фокса и ответил:
– Это будет стоить несколько дороже, мой гость. Прости меня, но ты не выглядишь богатым. Есть ли у тебя деньги?
Виктор извлек из кармана пару серебряных монет и хотел сейчас же передать их хозяину, но тот величественным жестом отстранил деньги, говоря:
– Мой гость сможет заплатить мне. Он заплатит, когда будет сыт, – и, с поклоном открыв дверь, около которой сидел, пропустил гостей в маленькую, но чистую комнату с одним-единственным окном. В комнате не было никакой обстановки, кроме низенького столика из какого-то твердого и ароматного дерева. Стулья заменялись циновками.
Едва Виктор и Бинги скрылись за дверью этого своеобразного отдельного кабинета, как одна из женщин, оставив своих двух подруг, подошла к хозяину:
– Может быть, эти гости пригласят нас?
– Я думаю, что они обойдутся без вас.
Женщина, состроив недовольную гримасу, повернулась и пошла на место; но хозяин окликнул ее:
– Постой!
– Ну, – лениво, по-восточному, повернулась она.
– Пойди во двор и сейчас же позови Ранди. Скажешь ему, чтобы бросил все и пришел быстро.
Женщина вышла, хозяин распорядился, чтобы слуга отнес в комнату, где сидели Виктор и Бинги, еду и снова уселся на свое место у двери.
Через несколько минут в сопровождении женщины через одну из задних дверей в комнату вошел молодой, высокий и стройный индус и с поклоном подошел к хозяину.
– Ты звал меня?
– Да, хорошо, что ты поторопился.
– В чем дело?
– Нужны твои глаза и твои уши. Сейчас пришли два человека. Белый и черный. У них очень плохой вид. Я думаю, их будет искать полиция. Когда полицейские придут, я задержу их разговором. Ты будешь слушать. И если ты узнаешь, что этих людей ищут за наше дело, то поможешь им.
– Как могут белого и черного искать за наше дело?
– Могут, Ранди! Сегодня произошли большие события. Сегодня покушались на эту королевскую собаку, которая приехала в наш город. Я слышал, что в покушении участвовал какой-то белый. Ты будешь внимательно слушать, Ранди.
– Мои уши будут открыты, и глаза мои будут, как острые стрелы!
И молодой индус присоединился к кругу любопытных, следивших за игрой европейцев.
Бинги и Виктор наслаждались отдыхом. Предусмотрительный и по-восточному гостеприимный хозяин прислал им в комнату воды и огромный таз, в котором не только двое людей, но и обрадованная прохладой собака смыли с себя едкую пыль улицы.
Теперь, вымытые и посвежевшие, они полулежали на циновках, с наслаждением уничтожая какое-то вкусное, пряное и ароматное кушанье, огромной горой наваленное в глиняную, украшенную причудливым рисунком, чашку.
Несмотря на то, что опасность далеко не миновала, они не спешили уходить и с трудом отгоняли от себя искушение развалиться на циновках и отдаться сну. Хождение по городу в качестве толпы, бегство от полиции, все это давало себя знать ломотой во всем теле и тяжелым туманом в голове.
Виктор разрабатывал план того, как похитрее и поневинней выспросить у хозяина все необходимые сведения о дальнейшем пути, и колебался между стремлением раскрыть пред этим молчаливым и, по-видимому, крайне преданным национальным интересам индусом свои карты и боязнью нарваться на агента полиции. Так или иначе, но что-то надо было предпринять, ибо положение становилось все более и более критическим. Дело шло к вечеру, а вечером в незнакомой местности, к тому же, по случаю приезда принца, наводненной шпиками, пускаться в странствование несколько рискованно.
Он уже встал, чтобы выйти и позвать хозяина для переговоров наедине, как вдруг в общем зале послышался шум тревоги, беготня людей, сдавленные, предупреждающие возгласы и громкий голос хозяина на английском языке, уверявшего кого-то, что он никого не видел и никого не принимал.
– К вам в харчевню проникли двое социалистов: один негр, другой белый. Они враги его величества короля и подлежат аресту, они у вас, – настаивал один из полицейских.
Хозяин был достаточно опытен в таких делах, чтобы сообразить, что полицейский совершенно не уверен, что нужные люди здесь, и просто идет на авось, а потому не торопился с ответом:
– В этой комнате много белых. Ты видишь сам. Но здесь нет и не было ни одного негра.
– А я говорю, что они тут, – настаивал уже не так уверенно полицейский. – Я сам своими глазами видел, как они только что вошли сюда.
Последняя фраза окончательно убедила хозяина в том, что полицейский ничего не знает. Только что! Негр и белый находились у него уже около часа.
Он сделал едва заметный знак своему молодому товарищу, и тот, быстро и ловко, за спинами полицейских, проскользнул в дверь отдельной комнаты. Хозяин, пуская в ход всю свою восточную изворотливость, продолжал задерживать полицию.
– Вы напрасно теряете у меня время. Вы здесь ничего не найдете, кроме тех, кого видите в комнате, да вот этих трех красивых женщин.
Повинуясь кивку его головы, женщины встали со своих мест и подошли к преследователям Бинги и Виктора медленной, дразнящей походкой.
Хозяин харчевни хорошо знал местных полицейских. Женщины способны были отвлечь их от самого важного дела.
– А не запрятались ли эти социалисты за вашими одеждами? – хихикал толстый полисмен, щекоча бронзолицых соблазнительниц.
– Посмотрим, посмотрим, – захлебывался от удовольствия другой, не встречая сопротивления со стороны облюбованной им гетеры.
Комната понемногу пустела, и скоро в ней остались только четыре европейца, продолжавшие свою игру, не обращая внимания на случившееся.
Хозяин снова занял свой пост у двери, и внимательный взгляд мог бы разглядеть легкую улыбку, змеившуюся но краям его тонких губ. Он казался погруженным не то в молитву, не то в коммерческие расчеты и, когда насытившиеся женским телом полицейские подошли к нему, чтобы предложить открыть двери отдельных комнат, он спокойными шагами направился прежде всего к той из них, в которой завтракали Бинги и Виктор.
– Смотрите, – сказал он, открывая дверь.
Комната была совершенна пуста. Ничего, что говорило бы о недавнем присутствии людей, не бросалось в глаза производивших осмотр. Маленький стол был совершенно чист, без всяких следов еды или питья. На полу чистые желтые циновки.
Когда взволнованный поднявшимся в передней комнате шумом Виктор подошел к дверям, он сразу понял, в чем дело. Ему оставалось решать, что лучше: выйти ли и добровольно отдаться в руки полиции, или же оставаться здесь и ждать, пока полиция соблаговолит сама произвести арест. Взвесив все за и против, он склонился в пользу первого решения и сообщил об этом Бинги, который отнесся к намерению Виктора вполне одобрительно.
Оставалось привести задуманное в исполнение, и Виктор смело двинулся к двери, как вдруг она приоткрылась, и в образовавшийся проход змеей проскользнул молодой индус.
– Я вам друг, – успокоил он гостей. – Доверьтесь мне и следуйте за мной!
Виктор осмотрелся вокруг. Кроме крошечного оконца, в которое даже Фокс не мог бы пролезть, он не видел никакого другого выхода. Куда хочет повести их этот статный красавец?
Но индус действовал. Он быстро ощупал циновки, покрывавшие пол, и уверенным движением приподнял одну из них вместе с куском пола.
– Прыгайте! Я пойду за вами.
Виктор прежде всего схватил за шиворот Фокса и сбросил его в образовавшееся отверстие. Собака слегка взвизгнула, но, очевидно, яма была не глубока, так как звук падения на землю последовал моментально. Виктор смело нырнул в дыру, за ним прыгнул Бинги, а за ними, медленно прикрывая за собой крышку, последовал индус.
Все трое очутились в полной темноте. В первую минуту Виктор решил, что это потайной подвал, но индус, уже не понижая голоса, сказал:
– Я пойду впереди. Один из вас будет держаться за край моей одежды, а другой за него. Идите осторожно и держитесь крепко. Тут есть ямы. Ходом давно не пользовались.
Итак, они попали в подземный ход. Куда он их выведет? Кому вручают они свою дальнейшую судьбу? Каковы истинные намерения этого индуса? Верить ли его дружеским словам и искреннему тону его голоса? Одно мгновение Виктор как будто колебался. Индус почувствовал нерешительность своих спутников. Он нащупал в темноте Виктора и, вложив ему в руку кинжал, сказал:
– Ты сможешь ударить меня им в спину, если я обману тебя. Не бойся!
Виктор ощутил холодное прикосновение стали и покраснел за свое недоверие. Он протянул оружие обратно.
– Я и мой друг верим тебе. Иди!
И они пошли. В абсолютной темноте, руководимые уверенно ступавшим индусом, подвигались они по узкому ходу, иногда задевая головой верхний слой земли. Из-под их ног то и дело выскакивали какие-то существа и Виктор, подумав о змеях, вздрогнул.
Индус почувствовал эту невольную дрожь и успокоил своего спутника:
– Это только крысы. Змей здесь нет.
Они шли уже около четверти часа, а впереди, как ни напрягал свое зрение Виктор, не было видно никакого просвета. Он хотел было спросить индуса, как далеко еще идти, но, подумав, что тот не захочет раскрывать тайну хода, смолчал.
Прошло еще около десяти минут, когда наконец их проводник не остановился.
– Вот мы и пришли! – сказал он. – Сейчас вы отдохнете, не беспокоясь ни о чем.
– Ты что-нибудь понимаешь, Бинги? – спросил Виктор своего товарища.
– Пока ничего, – ответил тот.
– Я – тоже. Кругом темно. Нет ни луча света, а мы, оказывается, куда-то пришли.
Индус усмехнулся:
– Сейчас будет и светло, и тепло, и мягко. Поверьте мне!
Потом он попросил Виктора нагнуться и, вскочив ему на спину, стал колотить руками во что-то деревянное наверху. Его стук не остался без ответа, чей-то голос сверху пропел несколько слов на непонятном Виктору наречии. Индус внизу в свою очередь ответил пением. Голос наверху повторил песню, индус внизу опять ответил. После третьего раза вверху что-то зашуршало, потом заскрипело, и вместе со светом лампы в отверстие упала веревочная лестница. Индус полез первым, Виктор и Бинги последовали за ним.
Они очутились в довольно большой и богато, по-восточному обставленной комнате. Ослепленные светом лампы, они некоторое время не могли разглядеть встретившего их человека, и только когда их глаза привыкли, увидели старого индуса с большой бородой, спускавшейся почти до пояса. Их проводник и спаситель что-то долго и горячо говорил старику, и когда тот выслушал рассказ, то протянул обе руки своим нежданным гостям:
– Враги Англии – мои друзья. Чем я могу помочь вам?
Виктор приготовился откровенно рассказать свою историю, но старик не дал ему открыть рта.
– Потом, потом. Вы прежде всего должны хорошо отдохнуть. Вы сможете пробыть у меня всю ночь и весь завтрашний день. Если надо, то вы можете остаться и дольше. Стакан вина и мягкая постель, – вот что вам надо прежде всего.
Где-то под полом послышался жалобный визг собаки. Старик предостерегающе приложил палец к губам, у Виктора мелькнула мысль о полицейских ищейках, но Бинги громко расхохотался:
– Мы забыли нашего Фокса! Бедная собака!
Пришлось снова открывать люк, и спустившийся вниз индус извлек животное, дрожавшее от страха и обиды.
Старый индус оказался европейски образованным человеком, и, когда Виктор после ужина поведал ему свою историю, а Бинги рассказал свою, он целый вечер засыпал их вопросами, говорившими о его большой начитанности и глубокой заинтересованности политической жизнью других стран и Советской России в особенности.
На следующее утро, когда Бинги и Виктор проснулись совершенно свежие, гостеприимный старик постучал в двери их комнаты.
– Доброго пробуждения, – приветствовал он их. – Был ли крепок ваш сон в моем доме?
Оба поспешили заверить его, что еще никогда в жизни не спали они так крепко и спокойно.
– Рад слышать это, – улыбнулся индус. – Полагаю, что мы можем уже говорить о вашей дальнейшей судьбе. Что вы намереваетесь делать?
– Я думаю, – сказал Виктор, – что нам бы следовало добраться до места из которого возможно будет завязать связи с Советской Россией.
– Это будет трудно в пределах Индии. Страна кишмя кишит английскими шпионами. Они рады будут сделать из вас агентов Коминтерна и, отправив вас к праотцам, настрочить длиннейшую ноту в Москву. Вряд ли вы захотите этого.
– Я еще никогда не был причиной международных осложнений, – юмористически произнес Виктор. – Я думаю, что надо постараться избежать этой истории. Но вся беда в том, что я даже не представляю, где мы сейчас находимся.
– Сейчас я объясню вам все и дам необходимые советы и указания. А пока не откажитесь принять от меня два костюма, обеспечивающие вам приличный европейский вид. В них вы, по крайней мере, не будете возбуждать лишних подозрений.
Ему не пришлось повторять своего предложения два раза. Оба наших героя с наслаждением скинули свои довольно грязные лохмотья и переоделись во все свежее, сшитое по последнему европейскому фасону. Видно было, что дом, в который они попали, прекрасно приспособлен для всякого рода переотправок людей, преследуемых правительством его величества короля Англии.
К завтраку они явились совершенно преображенными и заслужили несколько лестных замечаний по поводу своего внешнего вида.
– Теперь займемся делами, – сказал старик, вставая из-за стола и приглашая своих гостей последовать в его кабинет, где бросалось в глаза огромное количество книг на европейских языках.
Все трое склонились над картой, и индус подробно объяснил им, куда следует направиться дальше, чтобы достичь Афганистана, – единственной возможности вернуться в страну Советов. Они запомнили название станции, на которой должны были сесть в поезд, записали адрес и явку конечного пункта, откуда друзья их хозяина должны были переправить их через границу, и приготовились уже тронуться в дорогу.
– О нет, вам придется подождать до темноты. Я должен тайно доставить вас на станцию.
День прошел незаметно. Много времени ушло на изучение документов, врученных им. Индус, очевидно, опытный в таких делах, старательно экзаменовал и Виктора и Бинги, пока не убедился, что любой из них даже во сне назовет свое новое имя, год и место рождения. Не была забыта и финансовая сторона дела. Из рук индуса в руки Виктора перешел достаточно толстый кошелек.
– Я это даю вам в долг, – сказал старик. – Вы, конечно, не сумеете вернуть этих денег мне лично. Но я попрошу вас там, у себя в России, передать точно такую же сумму на то дело, на какое вы найдете нужным.
Когда стемнело, к дому старика подъехала двухколесная телега, нагруженная сухим бамбуком. Возница соскочил с передка, огляделся вокруг и, удостоверившись, что поблизости нет ни одной живой души, коротко свистнул. На его свист ответили таким же из дома, и через секунды три у калитки показались закутанные в белые бурнусы фигуры.
Одна из них отделилась и, подойдя к вознице, долго разговаривала с ним, потом внимательно оглядела повозку, пошарила руками внутри ее и, убедившись, что все в исправности, сделала знак двум другим.
– Лезьте сюда! Я не думаю, чтобы это было очень удобно. Там пыльно и душно. Вы можете чихать не стесняясь, пока возница не свистнет. Свисток с его стороны означает опасность. Тогда вам придется быть тихими, как трупы.
Когда Фокс первым забрался под аккуратно сложенный бамбук, возница неодобрительно качнул головой. Его, Однако, успокоили, сказав, что собака будет соблюдать строжайшую конспирацию и ничем не выдаст своего присутствия. Вслед за Фоксом, распростившись с гостеприимным стариком, последовали Бинги и Виктор. Они долго устраивались внутри, выбирая наиболее удобное положение и, наконец, кое-как приспособились к узкому, темному, пыльному и душному пространству.
– Однако, здесь можно задохнуться, – пробормотал Виктор.
Но чья-то заботливая рука снаружи порылась в стеблях бамбука и расположила их так, что струя свежего воздуха проникла внутрь. Бинги со всей силой своих африканских легких втянул воздух, а Виктор подставил лицо прохладной струе. Потом отверстие у их ног старательно завалили. Бамбук примяли, и телега двинулась, слегка, покачиваясь, по мягкой и пыльной дороге. Сквозь скрип колес и шорох бамбука они услышали ласковый голос:
– Да будет вам путь добрым и спокойным.
Путь был спокойным. Правда, несколько раз, по оклику каких-то людей, телега останавливалась, но остановки были недолгими и несколько вопросов, заданных вознице, решали дело. Во время таких остановок Бинги на всякий случай зажимал морду Фокса в своей огромной ладони, а Виктор исступленно щипал кончик своего носа, чтобы не расчихаться.
Наконец, колеса телеги попали на твердый грунт шоссейного пути, и через пару минут невыносимой тряски, скрипенья и тарахтанья возница, бежавший рядом с экипажем, шепнул в отверстие:
– Как только я остановлюсь, выскакивайте. Приехали!
Это была маленькая, но достаточно оживленная станция. Несмотря на ночное время, около десятка слонов работали но разгрузке вагонов, стоявших на запасных путях. Умные животные, послушные легкому прикосновению палки проводника, подходили к платформам, брали с них свежие, пахнувшие опилками и соломой доски, уравновешивали их в своих хоботах и шли с ними к месту, где длинными штабелями уже лежал ранее снятый груз. Положив принесенную доску на еще незаполненный ряд, они легкими ударами выправляли ее так, чтобы по длине она не выходила из общего ряда, и мерными спокойными шагами шли к платформе за новой ношей.
Наибольший интерес представляли молодые, еще не обученные животные, работавшие под наблюдением двух более опытных товарищей. Эти последние были скованы цепями с правой и левой ногой новичка, и довольно сурово наставляли его на истинный путь. Когда обучаемый артачился или оказывался туго понимающим дело, учителя пускали в ход свои обрубленные клыки и увесистыми пинками внушали несчастному правила добропорядочности.
Купив билеты и узнав, что до прихода нужного им поезда еще добрых полчаса, Бинги и Виктор присели на кучу камней и не спускали глаз с работающих слонов. Фокс отчаянно волновался. Он никак не мог попять, почему эти гиганты не обращают внимания на его лай и, наконец, решил зубами атаковать одного из них. Но увы. Собачьи зубы ничего не могли поделать со слоновой кожей, и бедный пес почувствовал себя окончательно обиженным. Он с тихим визгом устроился у ног Виктора и только искоса поглядывал на непонятных ему чудовищ.
Незадолго до прихода поезда слоны кончили свою работу. Один из них по приказу проводника поднял свой огромный хобот и громким криком предупредил остальных. Один за другим гиганты мягкими движениями хоботов подняли на спину своих хозяев и вместе с ними отправились на отдых. Проводники, сидя на их спинах, пели какие-то гортанные песни.
Поезд опоздал на пять минут. На станции Виктора предупредили, что он будет стоять не более двух минут, и наши друзья поспешили занять места, едва вагоны со скрипом и звоном остановились у платформы.
Купе, в которое они сели, оказалось занятым двумя странными существами. Это были мужчина и женщина.
Они сидели у открытого окна, причем женщина, положив голову на плечо своего спутника, спала. Виктор с удивлением рассматривал обоих. Мужчина был несомненно японец. Женщина напоминала турчанку. Европейское платье мужчины странно не вязалось с восточным костюмом женщины. Вид у обоих был утомленный, а лица их были странно знакомы и Виктору и Бинги.
– Где мы встречались с вами? – спросил наконец Виктор.
– Я, право, не знаю, но ваше лицо странно знакомо мне, – ответил японец.
Они назвали друг другу ряд местностей и городов, но ни в одном из них не бывали ни тот, ни другой. Все-таки факт оставался фактом. Оба они где-то видели друг друга. Но где и когда?
– Я бы не был так уверен в этом, – сказал японец, – если бы не ваш спутник. Мне нечасто приходилось встречать негров. А его лицо поражает меня. Я совершенно отчетливо помню, что встречал его где-то.
Разбуженная разговором женщина поднялась и движением руки поправила свою тонкую шелковую шаль. При этом японец испуганно поспешил закрыть мелькнувшее на ее груди изображение хорошо знакомого Виктору лица, но не успел. Виктор заметил портрет Ленина. Он улыбнулся и успокаивающим жестом отвел руку японца.
– Откуда у вас это? – спросил он женщину.
Та жестом объяснила, что она не понимает языка, на котором обращается к ней Виктор и, подумав, прибавила указывая на себя:
– Фатьма!
– Виктор, – в свою очередь отрекомендовался он, – это, – показал он на негра, – Бинги.
Бинги блеснул своими фарфоровыми зубами и кивнул головой. Фатьма удивленно подняла брови. Она никогда не видела таких черных людей. А может быть, он выкрашен? Ее детские пальцы потянулись к руке Бинги и несколько раз провели по ней. Потом она поднесла руку к своему лицу и внимательно ее осмотрела. Нет – рука осталась такой же чистой, как была.
Этот жест девушки вызвал общий взрыв смеха, и через две минуты Бинги, Виктор и Сакаи оживленно беседовали друг с другом. Правда, они благоразумно избегали щекотливых вопросов, но ведь на груди девушки был портрет Ильича, а в груди всех троих живым ключом били молодость и веселость.
В соседнем купе кто-то громко ругал беспокойных болтунов, но, даже перешедши на полушепот, разговор не стал менее оживленным. Только Фатьма сидела в уголке, нахмурив брови и не скрывая своего огорчения по поводу невозможности принять участие в общей беседе. Впрочем, когда ей надоедало молчание, она протягивала свои руки то к одному, то к другому и нараспев повторяла странно звучащие для нее имена:
– Бинги! Виктор! Сакаи!
Шофер Джемс считал себя совершенно непригодным для жизни в этом проклятом индусском захолустье. Какого черта ему делать здесь, в глухом уголке, расположенном на самой окраине джунглей, где единственное приличное существо – тигр, да и то, когда с него снята шкура. Шофер Джемс не может понять, что за ерунда запала в голову его хозяину? Молодой человек, богатый, интересный, и вдруг вбил себе в голову, что истинная жизненная правда хранится в учении индусских йогов и, забрав свои чемоданы, приехал сюда, захватив шофера Джемса. А шофер Джемс, как идиот, – да, как идиот, – соблазнился десятью фунтами в месяц и попер за своим идиотом-господином. И живут они теперь, эти два идиота, в местечке с неудобопроизносимым названием.
Хозяин шофера Джемса, по-видимому, не скучает. Он научился искусству сидеть, поджав под себя ноги и, смотря на свой собственный пуп, погружаться в нирвану, и проделывает это изо дня в день, прибегая изредка к паре трубок опиума. Шофер Джемс считает это занятие для порядочного человека неподходящим. Он неоднократно пробовал уговорить своего господина вернуться на родину, справедливо замечая при этом, что-де пуп такая вещь, которая одинаково хороша и в Индии, и на Пикадилли. Пожалуй, на Пикадилли даже лучше. Но господин в ответ нес ахинею о божественном сознании и необходимости самоопределения через духовное проникновение в таинство йогов. Он вернется в Англию только тогда, когда вполне проникнет в сокровищницу великих знаний и сможет нести свет и утешение другим страждущим душам. Ну что поделаешь с таким олухом?
Шофер Джемс был человек трезвый и поэтому он предпочитал напиваться пьяным и смотреть в горлышко бутылки, чем курить опий и уставляться глазами в свой собственный пуп. Господин Джемса против этого не протестовал и предоставлял своему шоферу сколько ему угодно пользоваться неведомо зачем прихваченным из Англии автомобилем для поездок на ближайшую станцию железной дороги – единственное место, где можно было достать виски и пива. Шофер Джемс пользовался этой возможностью широко и почти каждое утро пугал деревенских ребятишек ревом автомобильной сирены, а на обратном пути пробовал крепость шин на всякого рода живности, встречавшейся по дороге.
Так было и на этот раз. Господин с утра уселся на тахту и, выкурив две трубки опия, принялся изучать перспективный вид своего пупа, а Джемс вывел из наскоро сколоченного гаража машину и направил свой путь к станции. Там он оставил машину около маленькой харчевни, предоставив мальчишкам сколько угодно нажимать рожок, а сам уселся за столик и начал путешествие по винным запасам буфетчика. Любой йог позавидовал бы тому искусству, с которым Джемс вливал в себя совершенно невероятное количество опьяняющей жидкости. Его лицо из красного постепенно становилось темно багровым, и глядя на четыре порожних сосуда из-под виски, он радовался, что вылакал уже восемь штук.
Шум подходившего поезда не заставил его прервать свои занятия, так как Джемс любопытством не отличался. Пришел и пришел, черт с ним! Может, еще пара таких идиотов, как его хозяин, приехали. Наплевать!
– Эй ты, индусская морда! Еще бутылку!
Индусская морда, бывшая к тому же чистокровным ирландцем, не обижалась на главного посетителя своего буфета и услужливо подставляла все новые и новые посудины. Иногда Джемс ловил его за полу платья и приставал:
– Нет, ты скажи, индусская морда. Ты скажи, зачем смотреть на пуп, когда до этой самой нирваны можно добраться через бутылку? Правильно я говорю, а? Зачем на пуп? А?
Хозяин буфета соглашался, что на пуп смотреть незачем. Он был принципиальным противником погружения в нирвану домашними, бесплатными средствами. Джемс вдохновлялся хозяйским сочувствием и вливал все новое и новое количество алкоголя в свою глотку.
Проводник поезда любезно сообщил пассажирам, что поезд стоит пятнадцать минут, и что при станции имеется приличный буфет.
Бинги и Виктор в сопровождении Фокса – проезд которого, надо сказать, был оплачен особым, собачьим билетом – вышли из вагона и с наслаждением прогуливались по путям, вдыхая свежий воздух. Фокс несся впереди с лаем и визгом, подпрыгивая, кувыркаясь, кусая рельсы; словом, вознаграждая себя за все мучения предыдущих дней. Наконец, его собачье внимание привлек клочок какой-то бумаги, подхваченный ветром и крутившийся на шпалах.
Фокс стрелой прыгнул, чтобы схватить шуршащее и крутившееся существо, но бумага ускользнула в сторону. Фокс повторил свой прием, но опять неудачно. Тогда он прилег и стал внимательно следить за движением хитрой бумаги. Та то подкатывалась к самому его носу, то откатывалась обратно, и как раз в ту минуту, когда Фокс щелкал пастью, чтобы схватить ее. Собака злилась, ворчала и лаяла, и наконец всем телом прыгнула на неуловимый предмет. В один миг бумага была растерзана в клочья и один клочок, подхваченный ветром, покатился к Виктору и обернулся вокруг его сапога. Виктор нагнулся, чтобы смахнуть его, но едва успел разглядеть покрывшие бумагу строки, как бросился к Фоксу и, не обращая внимания на его протесты, вырвал у него остатки добычи.
– Бинги! – крикнул он. – Иди сюда. Бинги!
Бинги, не понимая, в чем дело, последовал приглашению.
– Газета, Бинги! Сколько времени мы не видали газеты?
– Я – очень давно, Виктор. На плантациях газета была редкостью.
– Ну, а я с момента крушения. Ничего, срок хороший. Для культурного человека столько времени не читать газеты – преступление.
– Ну, кажется мы в этом не виноваты.
– Надо собирать эти клочки. Давай присядем здесь, Бинги.
Они присели на насыпь, и Виктор принялся складывать потрепанные Фоксом клочья. Однако, он не довел своего занятия до конца, так как содержание одной из телеграмм заставило его вскочить на ноги.
– Бинги! В Германии что-то назревает. Читай, Бинги!
Телеграмма сообщала, что в ряде германских городов начались решительные бои между рабочими и фашистами, и что кое-где перевес на стороне рабочих.
– Надо внимательно разобраться, Бинги. Надо поискать еще.
Они оба лихорадочно рылись в клочках газетной бумаги и постепенно восстановили заголовок, давший им возможность определить дату сообщения.
– Это совсем недавно, Бинги. Там еще не кончилось дело. Эх, почему мы сейчас не в России?
Он рыскал глазами по строчкам и столбцам, стараясь из мелких случайных телеграмм восстановить общую картину положения дел. Газета была реакционная и, несомненно, преуменьшала значение событий, но даже в ее передаче значительность происшедшего била в глаза. Бинги едва успевал соображать, в чем дело. Он не отдавал себе ясного отчета в деталях случившегося, но он знал, где находится Германия, а слова Виктора о всемирном значении поведения германских рабочих было для него совершенно достаточно, чтобы с интересом разбирать текст сообщений.
– А вот тут еще что-то, – протягивал он Виктору подобранные им клочки. – И тут вот.
Они были в этот момент довольно далеко от поезда и стояли к нему спиной. Они совершенно забыли о поезде, и о цели своей поездки, и о своих спутниках, оставшихся в купе.
Англичане, как известно, народ очень хладнокровный. Они не способны увлекаться чем-нибудь до потери чувств, времени и пространства. Они точны, как хорошо собранные часы, и аккуратны, как члены лиги времени[2]. Поэтому англичанам не надо системы трех звонков и выкликиваний кондуктора при отправке поезда. В положенное время, минута в минуту, поезд трогается и человеку, упустившему четверть секунды, предоставляется полнейшая возможность бежать по рельсам и в отборных ругательствах проклинать точность и аккуратность железнодорожной администрации. Ему не воспрещается прыгать в вагон на ходу, но это сопряжено с неприятностями, за которые железная дорога и страховая касса не отвечают, так что единственное, что ему остается, – это постараться быть аккуратнее в следующий раз.
Ни Бинги, ни Виктор не были англичанами, и хладнокровием, доходящим до отсутствия способности увлекаться чем бы то ни было, они не отличались. Газета заставила их позабыть обо всем, кроме того, что было в ней напечатано и ни свисток кондуктора, ни гудок паровоза, ни крики Фатьмы и Сакаи не могли убедить их в необходимости поторопиться, так как никакие звуки внешнего мира не долетали до их ушей, слышавших громы баррикадных боев и победоносные песни германского пролетариата.
Поезд ушел точно по расписанию и исчез за поворотом, оставляя за собой полосу свивающегося клубами дыма.
Какой-то англичанин в белом пробковом шлеме, стоявший около путей, задумчиво посмотрел на поезд, потом перевел свой взгляд на Бинги и Виктора. Он заметил их как раз в ту минуту, когда кондуктор дал свой свисток. Он не сомневался, что этот джентльмен и этот негр, – негры, как известно, в глазах англичан не джентльмены – что оба они с этого поезда. Долг вежливости обязывал его предупредить их об отходе поезда, но тот же долг вежливости не позволял мешать их чтению газеты. Нельзя прерывать человека разговором, когда он занят. Голоса Фатьмы и Сакаи, высунувшихся из окна купе, несколько поколебали его в правилах хорошего тона, и он двинулся уже по направлению к Виктору, но тот в это время взял новый клочок газеты и весь ушел в его чтение. Нет. Положительно невозможно нарушить правила джентльменского обхождения. Придется дать этому человеку окончить чтение газеты. Однако, англичанин подошел поближе и старался легким покашливанием обратить на себя внимание. Это было не так-то легко. Виктор, по-видимому, не имел намерения прислушиваться к чему бы то ни было, а Бинги не менее его ушел в переваривание не вполне понятных, но таких радостных и бурных телеграмм.
Наконец назойливый кашель вежливого джентльмена привлек внимание Виктора. Он повернул голову и англичанин немедленно воспользовался этим жестом, чтобы крайне вкрадчиво и мягко побеспокоить его:
– Если я не ошибаюсь, то это ваш поезд ушел пять минут тому назад. Я считал невежливым прервать ваше занятие и…
Виктор посмотрел на запоздалого благодетеля, на легкий дымок, струившийся из-за поворота и, немного подумав, сказал по-русски:
– Дурак!
Англичанин не понимал русского языка и, расплывшись в широченную улыбку, ответил:
– Рад служить, сэр.
– Совсем идиот! – добавил Виктор.
– Сэр слишком любезен.
И, довольный столь удачно выполненной миссией и восхищенный обходительностью этого иностранца, англичанин пошел к станции. Виктор послал ему вслед еще несколько подходящих эпитетов, потом взглянул на Бинги и расхохотался:
– Оба, брат, мы с тобой дикари. Нам еще нужны звоночки, да не меньше как три.
– Что же делать, Виктор?
– Пойти на станцию и справиться, когда идет следующий поезд.
Так и сделали. Оказалось, что до следующего поезда придется ждать по меньшей мере около суток.
– Ну нет, на это я ни в коем случае не согласен, – запротестовал Виктор.
– А что же мы сможем сделать?
Бинги, готовый подчиниться факту, пробовал успокоить своего нетерпеливого спутника.
– Что будем делать? Мы уедем отсюда сегодня.
– Но как?
– Вот этого я еще не знаю. Во всяком случае, у нас есть деньги в кармане, а пока пойдем вон в ту харчевню и постараемся там устроить свое дело. Один раз нам уже повезло в харчевне.
– Один раз. Знаешь, у нас есть пословица: два раза хорошо – слишком много для негра.
– Ну, так или иначе, а визит в харчевню делу не помешает. Идем.
Шофер Джемс сидел на самом дне нирваны. Даже аккуратный хозяин потерял счет выпитым им бутылкам и, для простоты счета, считал одну за две.
– Если спутаюсь, так по крайней мере не в меньшую сторону, – здраво рассуждал он.
Со дна нирваны шофер Джемс не мог видеть ни Бинги, ни Виктора. Зато Бинги и Виктор отлично видели и пьяного шофера, и стоявший у дверей автомобиль, осыпанный, как мухами, голыми, темнотелыми мальчишками.
– Я говорил, что мы отсюда уедем, Бинги, – сказал Виктор и, когда Бинги недоумевающе пожал плечами, – добавил:
– Этот пьяный олух предоставит в наше распоряжение свой автомобиль. Надо только разузнать, он здесь один, или с ним есть еще кто-нибудь.
После заказанного солидного и дорогого обеда хозяин стал крайне любезен и разговорчив. Несколькими намеками Виктор свернул разговор на Джемса и узнал всю подноготную этого пьяницы. Оставалось действовать, действовать как можно быстрее, увереннее и энергичнее.
Через несколько минут, оставив Бинги одного и расплатившись с хозяином, Виктор вышел наружу и примкнул к толпе глазевших на машину ребятишек.
С несколькими из них, постарше и побойчее, он вступил в мимический разговор, причем стал показывать отдельные части автомобиля и демонстрировать их действие. Хозяин, заинтересованный добрым джентльменом, присоединился к компании, снабдив предусмотрительно Джемса новым запасом виски, и в свою очередь бросил несколько компетентных замечаний по поводу качеств этой машины. Виктор высказал уверенность, что у такого пьяницы-шофера машина, вероятно, поломана, и что пустить ее будет делом крайне трудным. Хозяин вступился за честь своего друга Джемса и уверял Виктора, что во всей округе нет машины, которая была бы в таком исправном состоянии; он не лгал, так как во всей округе это вообще была единственная машина. Виктор решил доказать ему правоту своих слов и, забравшись на шоферское сиденье, предложил хозяину пустить мотор в ход. Тот послушно раскрутил рукоять, отошел в сторону и дал Виктору возможность описать круг на маленькой площади. На втором круге из дверей харчевни вышел Бинги с Фоксом и, на глазах все еще ничего не подозревающего хозяина, сел в автомобиль. Третьего круга Виктор не сделал, так как сразу, как только к нему присоединился Бинги, он пустил автомобиль по шоссейной дороге.
Хозяин несколько минут стоял, смотрел им вслед, потом вдруг подпрыгнул на месте, призвал сто миллионов проклятий на свою глупую ирландскую голову и бросился приводить в чувство Джемса. Зная наперед, что последнее сделать очень трудно, не применяя чрезвычайных средств, он сразу схватил ведро воды и окотил бесчувственного, пьяного шофера. Тот вскочил, как встрепанный, что-то понял в бессмысленных выкриках хозяина и бомбой вылетел на крыльцо.
Если бы Виктор не пустил машину сразу полным ходом, то он, вероятно, услышал бы цветистую ругань стоявшего на крыльце Джемса. Больше всего доставалось йогам и нирване.
Но Виктор несся на предельной скорости и на вопрос полуудивленного, полуиспуганного Бинги:
– Куда?
Ответил:
– А черт меня знает.
И на самом деле Виктор не знал, куда он едет. Первым его намерением было держаться шоссе, шедшего параллельно железной дороге, и постараться догнать поезд, или просто на автомобиле доехать до нужной им станции. Но он вовремя сообразил, что собственник машины успеет предупредить по телеграфу все станции линии, поэтому счел за лучшее, свернуть в проселок. Будь что будет.
Во всяком случае, по маленьким местечкам он сможет путешествовать безопасно, выдавая себя за богатого иностранца, Бинги – за слугу.
Но вот уже полчаса, как мчались они по узкой дороге, а никакого местечка, даже никакой деревни не виднелось впереди. Маячившие на горизонте очертания чего-то напоминавшего частокол оказались опушкой джунглей, и Виктор, обернувшись, кликнул Бинги:
– Ну что ж. Будем тигров пугать, дружище.
Он не уменьшал хода машины, наслаждаясь быстрой ездой и, соображая, что ведь куда-нибудь да приведет эта дорога, и чем скорей они будут двигаться, тем скорей достигнут они этого «куда-нибудь». Бинги тем временем сделал открытие, что в кузове автомобиля имеется запас горючего в двух солидных баках. Все, таким образом, вопреки поговорке Бинги, шло хорошо.
И вдруг…
Виктор не успел уменьшить скорость, не успел воспользоваться тормозом, как увидел, что дорога впереди круто обрывается в какую-то яму. Он закусил губы и решительно повернул, одновременно пытаясь уменьшить быстроту хода. Раз…
Автомобиль запутался колесами в зарослях, налетел на какой-то камень, сделал скачок вверх, и они вместе с Фоксом вылетели из машины. Бинги и Фокс нырнули в море тростника, и бамбука и утонули в нем, а Виктор, к своему величайшему изумлению, очутился не более не менее, как на крыле аэроплана.
Три раза хорошо… Это слишком много даже для русского комсомольца.
От ушиба его спасла густая сеть растительности, сквозь которую он пролетел на своем пути и только легкие царапины лица и рук горели саднящей болью. Первым его порывом было узнать, что случилось с Бинги, но негр, предупредив его, крикнул откуда-то снизу:
– Алло, Бинги. Мы с Фоксом целы и находимся на твердой земле.
– Алло, – ответил Виктор. – Я тоже цел и нахожусь на аэроплане.
Скоро, пробираясь сквозь заросли, показался негр с собачонкой на руках. Фокс жалобно скулил и тряс поврежденной при падении лапой.
Виктор сидел на крыле, совершенно сбитый с толку появлением в джунглях аэроплана, да еще к тому же военного. Наконец, собравшись с мыслями, он слез с крыла и стал внимательно рассматривать воздушную машину.
– Бинги! – вдруг заорал он не своим голосом. – Бинги!
Бинги подскочил на крик и увидел, что Виктор держит в руке хорошо знакомый ему чемодан из желтой кожи. Да, никакого сомнения не может быть. Это аэроплан, доставивший их сюда из Африки.
– Да! да! А вот и полянка, на которой мы видели женщин, – сказал Бинги, встав на передок аэроплана. – Все в порядке. Мы можем лететь.
И они полетели…
Мы встречаем Виктора и Бинги на германской границе, где они опустились вследствие какой-то неисправности мотора. Они попали в местность, занятую рабочими отрядами. Рабочие встретили их дружелюбно и оказали всякую помощь для дальнейшего полета. Виктор, во что бы то ни стало, хотел достигнуть центральной Германии, где в то время шли наиболее горячие бои. Бинги тоже стремился посмотреть, как бьются за свою свободу его европейские братья по труду.
Через час после того, как мотор был приведен в исправность, а крылья, носившие на себе французские значки, перекрашены, наши герои поднялись и полетели дальше.
Глава двенадцатая
Четыре маузера и тридцать фашистов
Его задержали во время перехода через границу. Главным виновником провала оказался военный наблюдатель, паривший высоко в воздухе и внимательно разглядывавший раскинутую внизу равнину.
Он – индус, с грузом в кожаном мешке, перекинутом через плечо на спину и грудь, шел, ничего не подозревая и пробирался к тропе, приводившей туда, куда нужно.
Но наблюдатель испортил все дело. Наблюдатель проследил подозрительного туземца и опередил его радиосообщением в ближайший пограничный пункт.
Наблюдатель сверху наблюдал картину ареста. Он видел, как черные точки зашевелились. Как индус заметался, пытаясь укрыться в ту или другую сторону и как индуса схватили…
Но смотреть сверху на точки, шевелящиеся внизу, совсем не то, что быть самому на месте этих точек или одной из них. Индуса окружили полицейские пограничники и скрадывали его по всем правилам разведочного искусства.
Тюрбаны полисменов плотнее и плотнее сжимали в кольцо индуса. Индус шел и не подозревал о грозившей ему опасности вплоть до последнего момента. Индусу скрутили руки и потащили вместе с литературой, запакованной в кожаном мешке, в пограничную тхану. Пограничные тханы все – начиная с таможни и кончая правосудием. У сержанта пограничной тханы почти неограниченные полномочия… Начальник тханы – сержант армии его величества короля – подчинялся только старшим чинам и, если их не было поблизости, был вершителем судеб.
Режим для заключенных в тхане Келала был не хуже и не лучше, чем в других злачных местах. Пленника немедленно брали в работу. На молчание отвечали утюжением боков и спины чугунными и резиновыми плетками. Забивали до потери сознания. Потом бросали в темный подвал и ждали окончательного решения. Как добить? Повесить или расстрелять, отравить или скормить тиграм?
Все церемонии гостеприимного приема и вежливого, гуманного обращения, на которые способны только британцы, в полном порядке и последовательности были оказаны пойманному индусу. Сержант немедленно по вскрытии тюка позвонил лорду Сесилю:
– Лейтенант, честь имею доложить, что доблестные части нашей пограничной стражи только что задержали транспорт подозрительной литературы.
Сержант говорил в трубку и выразительно обводил глазами лежавшую перед ним груду книг и журналов.
– Немедленно пришлите ее ко мне, – отвечал лейтенант.
– А что делать с арестованным? – не унимался сержант.
– Повесить, – коротко отрезал в телефон голос Арчи.
– Повесить, – подумал сержант и припомнил, на каком тоненьком волоске жизни держится пойманный и избитый индус.
– Через пару минут литература будет вам прислана, – отчитался сержант и окончательно повесил трубку.
Сержант вызвал полицейского-сикха. Сикх увязал тюк, взвалил на спину и пошел. До коттеджа лейтенанта от пограничной тханы было не больше восьми минут ходу.
Сикх благополучно вошел в дом. Последняя дверь хлопнула по тюку и немного разворошила его. Из образовавшейся прорехи выскочила одна книжка и упала на пол. Сикх ничего не заметил и пошел дальше.
Из двери напротив показался Дикки. Он шел в кабинет лейтенанта за какой-то справкой об индусах: Дикки очень заинтересовался своим положением какого-то брата. Ему не казалась неприятной нежность прелестной девушки. Но он что-то хотел понять и, к сожалению, у него ничего не выходило.
Дикки только знал, что уйди он из коттеджа англичанина – и девочка погибнет, скомпрометированная его исчезновением. Он прекрасно понял одно, что его присутствие, как ее брата, необходимо.
Подходя к кабинету лейтенанта, Дикки увидел на полу, между двумя дверьми, хорошенький маленький журнал. На обложке, как на всех иллюстрированных ежемесячниках, красовалась занимательная картинка. Дикки подумал, что это обычный мегезин и поднял его. Но журнал оказался не английским, как сначала подумал Дикки. И это его очень удивило. Он знал, что только в Англии и в Америке умеют издавать такие занятные ежемесячники. Букв на обложке Дикки не понимал. Он остановился и открыл книжку на разворот. В самой середине журнала он увидел что-то, давшее его мыслям колоссальный толчок. На развороте журнала Дикки увидел портрет его «сестры». Портрет мисс Джесси. Тогда Дикки совсем по-иному, бережно сложил журнал и, улыбнувшись, эластичными шагами, насвистывая какой-то беспечный мотив, отправился в кабинет лейтенанта.
Арчибальд сидел в кресле и копался в кожаном мешке с книгами.
– Чем вы заняты, лейтенант? – спросил Дикки.
– Разбираю большевистскую литературу.
– Как она к вам попала?
– Попался один прохвост.
– Где, если разрешите?
– Далеко! Теперь повешен, – засмеялся Арчибальд. – Плюньте, Дикки! Скука. Вот сейчас кончу работу и мы сможем отправиться на прогулку.
Дикки немного побледнел. Если бы лейтенант поднял во время голову, то он увидел, как в нижнюю губу Реда впились верхние зубы, а глаза бешено заискрились. Но лейтенант не поднял вовремя головы. Дикки вышел из кабинета и пошел на веранду к Джесси.
Он подошел к ней сзади. Он чувствовал себя совершенно уверенно. Он все понял. Одной рукой Дикки легко облокотился на спинку кресла, а другой, развернув журнал, занес его к лицу Жени.
Женя даже не вскрикнула. Женя побелела. Ее портрет. Журнал, любимый Женин журнал – «Борьба миров» и громадный заголовок милыми, русскими буквами:
Таинственное похищение секретаря полпреда Арахана.
Что было написано дальше, Женя не могла прочесть. Буквы затанцевали в бешеной пляске и слились в одно. Она думала, что все кончено, боялась откинуть голову и взглянуть на разоблачившего ее человека. Жене показалось, что пробежала вечность, на самом деле прошло 2–3 секунды. Другая рука поднесла к глазам Жени истрепанный, милый кусочек полотна. Женя хорошо знала полотнянку. Очень хорошо. И она, чуть-чуть не заплакав, откинула голову назад.
– Значит, я не ошиблась, Дикки, вы мой?!..
Договорить она не могла, ее губы сами потянулись к губам Дикки.
За вечерним чаем Дикки Ред поблагодарил лейтенанта за гостеприимство и сказал, что он и его сестра собираются уезжать.
Поводом к такому конкретному решению послужили: во-первых, газеты, которые трубили о революции в Германии и во-вторых, совершенно определившееся между «братом» и «сестрой» положение.
И за вечерним чаем лейтенант немного оторопел. За вечерним чаем ноги Жени и Дикки смеялись под столом над растерянностью лейтенанта.
В тот же вечер Арчибальд заявил губернатору о своем желании немедленно использовать право на 3-месячный отпуск и в тот же вечер получил утвердительный ответ.
Женя и Дикки решили попасть в Германию. Они еще не знали, как они туда попадут, но они великолепно знали, что они должны там сделать. Газеты с телеграммами о Германии наполняли их души восторгом.
Получив разрешение на отпуск, лейтенант поспешил присоединиться к Жене и к Реду.
– Друзья мои, – сказал он, – я еду вместе с вами! Мне дали отпуск.
Такого финала они не ожидали. Дикки думал, что больше всего Арчибальд не любит смотреть на чужие революции.
– Хорошо, – сказал он, – но мы едем смотреть германскую революцию. Нас интересует курс марки.
– Рад слышать! Великолепный трехместный Викерс доставит нас туда быстрее, чем кто-нибудь, – расшаркался лейтенант.
Крыть было нечем. Карты Дикки и Жени оказались биты.
На другое утро машина, готовая к полету, красовалась на площадке перед коттеджем. Несколько человек хлопотали около нее, прилаживая снасти. Лейтенант с чем-то возился внутри машины и укреплял воздушные бомбы.
Дикки и Женя заинтересовались ими и спросили лейтенанта, зачем он берет их с собой.
– Маленький подарок красным негодяям в Германии! – коротко ответил лейтенант.
Дикки кивнул и что-то промычал себе под нос о культурности англосаксонской расы.
Давление показывало 2.000 метров. Скорость дошла до 200 километров. Самолет, овеваемый воздушными течениями, стремился вперед, откидывая назад сотни миль.
Женя сидела позади Дикки и лейтенанта. Лейтенант находился у руля. Дикки в любую минуту готов был сменить его, так как не хуже Арчибальда Сесиля знал самолет. На спинах всех троих приютились на всякий несчастный случай патентованные парашюты Викерса.
Через час после отправления Женя вынула из кармана кольт и приставила холодное дуло к затылку лейтенанта.
– Дорогой лорд Арчибальд Сесиль, если вы не хотите получить пулю в затылок, то передайте управление мистеру Реду.
В такие моменты не думают, почему и как. Наверное – не думали индусы, расстрелянные лейтенантом, или последний повешенный за транспортирование литературы, предварительно исполосованный ножами. Они наверное не думали! А какое нам дело, думал или не думал молодой лорд с нежным лицом, холеными руками и большой кровавой карьерой. Какое нам до него дело?
Сесиль послушно передал управление в руки Дикки.
– А теперь, лейтенант, – продолжала Женя, – проверьте парашют и прыгайте!
– Куда? – поинтересовался Сесиль.
– Туда! – сказала Женя.
Больше лейтенант не сказал ни слова. Он проверил парашют. Он прыгнул вниз и большой белый зонтик потонул в туманной низине вместе с человеком.
Надо отдать справедливую дань и врагу. Арчибальд Сесиль не был трусом.
Дикки снизил аппарат. Женя узнала в раскинувшейся под ними равнине Германию. Плотные щетки фабричных труб, аккуратные города, деревушки и хутора, похожие сверху на карточные домики. Снизил Дикки аппарат потому, что совсем рядом он увидел еще одну машину, услышал несколько выстрелов зенитного орудия и увидел само орудие, окруженное людьми с белыми повязками на руках.
Собственно, зенитное било по аппарату с красными кругами на крыльях, а не по самолету Викерса, на котором летели Женя и Дикки. Дикки заметил, что с красным аппаратом случилось что-то неладное и он неуверенно планировал.
Когда спуск благополучно кончился, из аппарата выскочили двое людей и одна собачонка. Двое встали, и в руках у каждого появилось по два больших маузера.
Сверху хорошо было видно, как от зенитного орудия полетели в стороны всадники и наконец, по направлению к полянке, на которую опустился красный аппарат, поскакали тридцать верховых фашистов с белыми повязками на руках.
Они вылетели галопом из жиденькой опушки леса и стремительно атаковали аппарат красных. Раздались короткие, сухие выстрелы и несколько всадников скувырнулись с коней. Но не это спасло двух мужчин и собаку, потерпевших аварию. Нет! Виктора, Бинги и Фоксика спасла бомба, бомба лейтенанта Сесиля, взятая им д ля красных негодяев.
Фашистские всадники смотались в клубок костей, дыма и крови. Дикки вовремя вспомнил о бомбах, а Женя здорово метко бросила на головы фашистам 3 штуки, одну за другой.
Глава тринадцатая,
где развязываются все узлы
Вы, вероятно, не раз бывали в зоологическом саду. Вы ходили по его аллеям от клетки к клетке, от зверя к зверю. Вы рассматривали прекрасные экземпляры львов и тигров, слонов и носорогов; любовались диковинным оперением райских птиц; смеялись забавным кривляньям обезьян.
Вам не раз приходила в голову мысль о том, как трудно доставать эти живые экспонаты природы; каких сил, средств и уменья требует охота за всеми этими зверьми. Гораздо легче путешествовать с ружьем в руках и, подстреливая диковинных животных, делать из них чучела, чем добывать их живьем, тщательно опасаясь всякого повреждения. Ну, кому нужен лев с хромой лапой или орел с отшибленным крылом? Зоологические сады требуют зверей во всей их природной чистоте и добывание этих зверей, само собой, является делом крайне ответственным, опасным, но вместе с тем и прибыльным. Существуют крупные фирмы и предприятия, занимающиеся этим делом, и из них всех самая крупная, – это германская фирма Гагенбека.
Нужно сказать, что это благородное дело, коллекционирование живых животных, построено на таких же эксплуататорских началах, как и все прочие торговые дела. Так же, как на любой фабрике, оборудованной по последнему слову техники, так и здесь, прибавочная стоимость, создаваемая тысячами наемных рабов, кладет основу благоденствия и процветания фирмы. Тысячи несчастных дикарей ломают себе шеи и гибнут в лапах разъяренных чудовищ во имя блеска имени Гагенбек и К°. Тысячи опытных, высоко оплачиваемых агентов, охотников и ученых руководят собранными из дикарей экспедициями. По всему свету рассеяны они и со всего света рычащий, мычащий, визжащий, щебечущий груз стекается в гамбургский порт, чтобы им дополнить главную коллекцию фирмы, находящуюся в гамбургском зоологическом саду, или отправиться по железным дорогам в другие страны материка.
Само собой разумеется, что во время войны работы фирмы сильно сократились, но после войны фирма Гагенбека, как и все другие крупные германские фирмы, начала восстанавливать свое доброе торговое имя.
Герр Клаус был агентом фирмы Гагенбек в Индии. Его специальностью являлось четвероногое, пернатое и пресмыкающееся население джунглей, и своей резиденцией он избрал маленький городок, к которому джунгли подходили вплотную. Хорошо оплачиваемый специалист, он без особой скуки обставил свою жизнь и не стремился вернуться в голодный и обнищавший фатерланд, предпочитая английские фунты и американские доллары – германским маркам.
Свое дело он делал исключительно умело и совсем недавно отправил своему патрону целый груз редчайших экземпляров. Он радовался удачной отправке, представлял себе, какой хороший процент перепадет ему с этого дела и ждал со дня на день крупного денежного перевода, как вдруг…
Все свалилось на его тевтонскую голову в один день. Прежде всего, утром ему пришлось отправить в отпуск своего шофера, который, получив разрешение, укатил с утренним поездом. Уже это было крайне неприятно. Машина у герра Клауса была совершенно особенная, им самим сконструированная, представлявшая неограниченные возможности передвижения по суше и на воде, и управление этой машиной являлось делом крайне сложным и ответственным. Сам герр Клаус, к сожалению, обладал слабым зрением и не мог заменять шофера, так что с его отъездом лишался возможности пользоваться своей машиной.
Это первое. Второе, – сегодня утром пришла телеграмма от патрона, в которой патрон сообщал, что он по непредвиденным обстоятельствам вынужден переехать из Гамбурга в один из городов центральной Германии, где находилось филиальное отделение гамбургского зоосада, и просил герра Клауса немедленно бросить все дела и вернуться.
Третье… третье было совсем неприятно. Утренняя почта принесла кипу газет, а газеты принесли известия о страшных событиях, развернувшихся в Германии. Старому буржуазному порядку, а вместе с ним и фирме Гагенбека, и с ней герру Клаусу, – угрожали большие неприятности.
Вот почему герр Клаус метался по комнате, как пойманные им тигры метались по клеткам зоологических садов. Вот почему герр Клаус, всегда сдержанный и спокойный, рвал в клочья газеты и топтал их каблуками сапог. Вот почему герр Клаус перебирал все известные ему немецкие ругательства, присоединяя к ним значительную долю изобретенных тут же на месте его разгоряченным мозгом. Что-то будет? что-то будет? Во-первых, что будет с грузом, который прибудет в Гамбург в разгар всей этой, крайне неприятной, истории? Во-вторых, как это он немедленно приедет в Германию – когда его машина, благодаря отсутствию шофера, не сможет оказать ему своих услуг? В-третьих… В-третьих, почему добрый германский бог не мог обрушить на его голову все эти беды постепенно? Зачем сразу, зачем в один день?
Он пытался найти какой-нибудь выход из положения, но положение, как назло, было совершенно безвыходным. С одной стороны, необходимо ехать в Германию, с другой – ехать нет никакой возможности.
Однако герр Клаус не такой человек, чтобы не найти выхода. Он немец, а немцы народ дошлый и умный. Герр Клаус найдет выход. Герр Клаус уже нашел выход. О, это выход, достойный настоящего немца! Он стучит кулаком по столу и орет:
– Джим! Джим!
Маленький, вихрастый мальчишка, нелепо затянутый в ливрею, появляется на пороге.
– Что угодно, сэр? – осведомляется он.
– Пива! – ревет герр Клаус, положивший себе за правило всегда сердито разговаривать с прислугой.
Джим исчезает и через мгновение приносит на подносе огромный кувшин пива и солидных размеров кружку. Герр Клаус приказывает ему поставить все это на окно, придвинуть к окну кресло и садится, погружаясь в пивную пену. В окно он видит чистый и широкий двор, а главное, – свою прекрасную машину под навесом. Он успокаивается и, не торопясь, методично затягиваясь сигарой после каждого глотка, принимается за наполнение своего желудка горьким и пенящимся напитком.
Сакаи и Фатьма искренне опечалились тем, что Виктор и Бинги пропали для них. Они почуяли в них хороших и крепких товарищей и теперь еще сильней почувствовали свое затруднительное положение. Собственно говоря, в отношении Фатьмы сказанное выше не совсем справедливо. Она не очень волновалась, так как не понимала всего того, что творилось вокруг. В Сакаи она видела сильного и мужественного спасителя и вполне полагалась на его дальнейшую помощь и поддержку. Не имея возможности словами объяснить ему всего, – она жестами и улыбками выражала свою благодарность, доставляя невыразимые мучения бедному японцу, ясно представлявшему себе все дальнейшие перспективы.
У обоих у них не было ни копейки денег. Явки и адреса остались у Дикки и единственной надеждой было то, что со следующим поездом он нагонит своего товарища. Сакаи не знал, что Дикки уехал в другом направления и, конечно, не предполагал, что его товарищ попался в руки глупого сыщика. Поэтому, когда они достигли нужной им станции, он сравнительно спокойно вышел с Фатьмой из купе поезда и справился в кассе, когда будет следующий поезд.
– Через сутки, – коротко сообщили ему.
Продержаться сутки было трудно, но не невозможно. За себя он ручался. Но вот Фатьма? Как объяснить ей, что они должны ждать Дикки и что до его приезда ни ему, ни ей не придется пользоваться пищей и постелью. Язык знаков далеко не в состоянии исчерпать всю сложность такого разговора. Пришлось обойтись без объяснений и, устроив девушку в одном из уголков станционного зала, самому остаться караулить Дикки. С затаенной надеждой следил Сакаи за всеми товарными поездами, которые проходили за эти сутки, ожидая, что Дикки приедет в котором-нибудь из них, – но напрасно. Дикки не было.
Фатьма начала волноваться, жаловаться на голод и бедный Сакаи кое-как, знаками, убеждал ее немного подождать. Ночь он провел без сна, то и дело прислушиваясь к шуму подходящих поездов и выбегая на платформу в поисках своего пропавшего спутника. Но Дикки не приехал и ночью.
Не приехал он и на следующий день, когда курьерский, прозвенев по стрелкам, остановился у станции. Дольше ждать было нелепо. Сакаи не стал ломать себе голову над придумыванием того, что могло случиться с его другом. Он постарался разрешить вопрос о своей дальнейшей судьбе и, в первый раз в жизни, почувствовал, что придумать ничего не может. Перспектива была безрадостной и безнадежной. Фатьма со слезами на глазах просила есть, а еду можно было только купить в буфете. Подойти, попросить? Но вся гордость японского рабочего возмущалась против такой возможности. Протянуть руку этому упитанному и жирному буфетчику затем только, чтобы получить наглый и пренебрежительный отказ? Нет, лучше уж умереть с голода. Но девушка? Имеет ли он право осуждать ее на голодовку? Не должен ли он побороть свою гордость, чтобы позаботиться о ней? Правда, он встретился с ней случайно, но она носит на груди портрет Ленина. Что же делать?
Не оставалось ничего другого, как пойти в город и обратиться к жителям. Восточные люди – гостеприимны и никогда не откажут в куске хлеба. Надо добраться до окраины, где живут люди победнее, и там, несомненно, товарищеская рука протянется с помощью. Он знаками объяснил Фатьме, что поведет ее поесть, и та доверчиво последовала за своим спасителем.
Они вышли на площадь перед станцией и, осмотревшись вокруг, Сакаи выбрал направление на главную, по-видимому, улицу, привлекавшую своей шириной и относительным благоустройством. По ней, прямо до тех пор, пока нарядные особняки не сменяются убогими хижинами окраины.
Сакаи, выносливый, как все японцы, шагал уверенно и твердо, несмотря на голод и бессонную ночь, но Фатьма едва передвигала ноги. Ему пришлось обнять ее за плечи и поддерживать своей худой, но сильной рукой. Она крепко прижималась к нему и шла молча, только изредка поднимая свои большие глаза и как бы спрашивая:
– Скоро ли?
Он ловил этот просящий взгляд и его сердце сжималось от жалости к этому маленькому, беспомощному существу, всецело зависящему от сообразительности и решительности его, Сакаи. Несколько раз он порывался постучать в окна богатых особняков, очевидно, населенных европейцами и местными купцами, но какая-то брезгливость всякий раз удерживала его руку.
И только на середине улицы, у раскрытых ворот одного дома, Сакаи, с легким криком удивления и восторга, забыв обо всем, перешагнул порог калитки. То, что он увидел внутри двора заслонило и чувство голода, и слабость, и усталость, и сознание своей беспомощности.
Там, в глубине чистого и аккуратного дворика, выкаченный из дверей гаража, стоял, сверкая своими частями, автомобиль герра Клауса, агента фирмы Гагенбек.
Недаром эта машина получила первый приз на всегерманской автомобильной выставке. Недаром такая знаменитость автомобильного мира, как некий русский автомобилист Шкловский, написал целую брошюру о знаменитом пробеге этого чуда автомобильного искусства: пробеге, входящем в настоящую главу нашего романа. Мы заранее предупреждаем читателя, что наше недостаточное образование по части автомобилизма заставит нас упустить детали этого единственного в истории пробега, и рекомендуем воспользоваться книгой товарища Шкловского[3]. В этой книге читатель найдет, кроме описания самого пробега, подробные чертежи и расчеты машины и удовлетворит свою справедливую жажду технических знаний. Что касается нас, то мы ограничимся чисто внешним портретом этой стальной красавицы.
Что вы скажете по поводу маленького домика из двух низеньких комнат – комнат, в которых можно только спать и лежать, – поставленного на колеса с гусеничным ходом системы Кегресса? Что вы скажете по поводу изящных окон с зеркальными стеклами и крыши из какого-то странного, белого металла, необычайно прочной и вместе с тем легкой? Как вам понравится низ, придающий этому сооружению форму лодки и дающий ему возможность плавать на воде с такой же легкостью, как и передвигаться по суше? Какое произведет на вас впечатление огромной мощности мотор, позволяющий автомобилю герра Клауса развивать скорость, превосходящую все доселе установленные рекорды? Какого мнения будете вы об окраске машины, окраске, делающей ее похожей и на песок пустыни, и на зелень поляны, и на волны моря?
Недурно, не правда ли? А ведь видя машину такой, как она описана выше, вы видите ее глазами профанов, глазами беллетристов, немного понимающих в премудростях машиностроения. А попробуйте взглянуть на нее как техник, как человек, до конца чувствующий красоту всякого винтика, всякой частицы этого стального тела. Попробуйте взглянуть на нее глазами человека, участвовавшего в процессе расчета, оттачивания, полирования и собирания отдельных рычагов, поршней, клапанов и передачи. Если вам дано это, если вы чувствуете не только внешнюю красоту машины, но и ее внутреннюю живую стройность, если для вас машина – не просто красивое сооружение, а живое трепещущее существо, созданное руками человека, тогда вы поймете, почему Сакаи забыл обо всем на свете, увидев машину герра Клауса.
Ему, долгие годы работавшему на машиностроительных заводах, ему, через чьи руки прошли сотни автомобилей и мотоциклов всех систем, ему, знавшему и любившему свое дело, вид этой машины доставил глубочайшее и волнующее наслаждение. Он забыл о всех неприятностях, забыл о своем критическом положении, забыл о Фатьме, недоумевающе следившей за ним, забыл о том, что нельзя переступать порог чужого дома и трогать чужую машину без особого на то приглашения, и бросился прямо к автомобилю.
Уверенными, привычными движениями он открыл крышку мотора и заглянул внутрь. Потом попробовал какие-то части, не оставил без внимания устройство колес и гусеничной передачи, заинтересовался роскошной внутренней и внешней отделкой; словом, в пять минут составил себе полное представление о всех качествах этого передвижного домика.
Герр Клаус следил за ним из окна.
Первым движением почтенного агента было крикнуть желтолицому бродяге, чтобы он убрался ко всем чертям; но едва открыв рот, он уже изменил свое намерение. Нескрываемое восхищение, написанное на лице Сакаи, и уверенные движения, которыми он обследовал механизм, выдавали человека, хорошо знакомого с делом, и подали герру Клаусу мысль о возможности заменить своего шофера.
– Эй, парень! – крикнул он, высовывая из-за подоконника свой четырехэтажный подбородок. – Эй, парень!
Сакаи вздрогнул и стоял растерянный, ожидая скандала, полиции и тысячи других неприятностей. Однако жирная рожа, смотревшая из окна, была далеко не зла.
– Эй, парень! Вы, я вижу, понимаете толк в машинах. Вы не шофер?
– Шофер, – ответил Сакаи, еще не соображая, чем кончится дело, но уже чувствуя, что все обойдется благополучно. – Шофер!
Герр Клаус никогда не занимался гимнастикой. Толстый и обрюзгший, он не отличался ловкостью. Но бывают минуты, когда самый неуклюжий человек способен на чудеса акробатики. Герр Клаус одним движением перемахнул через подоконник и стал против Сакаи. На всякий случай Сакаи отступил на несколько шагов и приготовился отразить нападение. Однако толстый человек нападать на него не собирался:
– Полторы тысячи долларов, если вы довезете меня!
Полторы тысячи долларов для человека, не имеющего гроша за душой, сумма значительная. При таких обстоятельствах, в каких находился сейчас Сакаи, за полторы тысячи долларов можно проехать в гости к самому дьяволу. Но он все-таки задал вполне естественный вопрос:
– Куда?
– В Германию, – ответил ему толстяк.
Сакаи с минуту переваривал и соображал. В его голове мелькнули представления о сумасшедшем доме, о джунглях, о пустынях, о тысячах верст. Однако чувство голода, невероятная легкость карманов и фигура Фатьмы, бессильно прислонившейся к воротам, решили все сомнения:
– Но я не один… – неуверенно еще ответил он.
– Вы согласны?
Герр Клаус больше ничего не хотел знать. Он готов был взять вместе с желтолицым всю его родню, включая кости умерших предков, лишь бы пробраться в Германию.
– Вы согласны?
И не дожидаясь ответа:
– Едем же, едем, без разговоров!
Сакаи уже не раздумывал. Толстяк вскочил обратно в окно, выбросил оттуда небольшой чемодан, вылетел сам вслед за чемоданом, отворил дверцу автомобиля, скрылся внутри кабинки и крикнул оттуда:
– Ну, пускайте машину! Скорей! Скорей!
Сакаи заразился этой торопливостью. Он молнией бросился к Фатьме, схватил ее на руки, бегом донес ее до машины, посадил на сиденье рядом с сиденьем шофера, раскрутил рукоятку, вспрыгнул за руль и…
Какая-то индуска тщетно посылала проклятие вслед дьяволу, раздавившему ее курицу. Большой и почтенный слон едва успел отскочить в сторону. Неосторожная собака потеряла под колесами свою лапу.
Как, когда и откуда вынырнула в улицы небольшого немецкого городка эта запыленная, грязная и достаточно помятая машина, никто не мог сказать. Она стрелой пронеслась по рабочим кварталам и направилась к другому пригороду, застроенному особняками богачей. Желтолицый шофер, повинуясь указаниям грязного и пыльного человека, кричавшего что-то ему на ухо, крутил по улицам и переулкам и наконец с легкостью и уверенностью опытного автомобилиста затормозил у палисадника, аккуратненького, прилизанного, как две капли воды похожего на соседний.
Из автомобиля выкатилось довольно толстое, помятое, запыленное, небритое существо и, поднявшись по ступенькам, принялось ожесточенно барабанить в лакированную дверь. На стук, продолжавшийся довольно долго, из дверей выглянула другая фигура, худая, в ночном колпаке и незастегнутом халате. Эта фигура держала в руке револьвер и угрожающе тыкала нм в лоб стучавшего.
– Патрон! – в изнеможении опускаясь на ступеньки, проговорил тот. – Патрон!
Человек с револьвером сделал широкие глаза и долго и пристально всматривался в неожиданного гостя.
– Патрон! Вы не узнали меня?
Человек уронил револьвер на каменные ступеньки и, в свою очередь, не то охнул, не то простонал:
– Герр Клаус!
Да, это был герр Клаус! Герр Клаус, перенесший дикую, бешеную езду, герр Клаус, принесший на себе целый интернационал грязи, герр Клаус, разбитый и усталый, но все-таки живой и достаточно еще толстый.
И патрон герра Клауса, один из представителей фирмы Гагенбек, не пожалел своего халата и заключил в объятия верного агента, прибывшего по его зову.
Они целовались, обнимались, вспоминали доброго германского бога, осматривали, ощупывали друг друга, совершенно забыв, что действие происходит на крыльце и что еще два человеческих существа с любопытством наблюдают за ними.
Первым пришел в себя герр Клаус. Он поднялся, отирая слезы волнения, и вдруг, что-то вспомнив, спросил:
– А мои звери, патрон? Мои звери?
– Звери? – Патрон пожал плечами.
– Звери, которых я послал вам? О, неужели они пропали? Такие милые тигры, такие ласковые слоны и, главное, кобры. О, патрон, какие там были кобры!
Увы! Патрон ничего не знал о зверях.
– Но, во всяком случае, мои комиссионные? Мои проценты за этих зверей?
Патрон не знал ничего и о процентах.
– Ох! Неужели мои проценты погибли?
– Ох, герр Клаус! Не только ваши. Что у нас творится, что у нас…
Но герр Клаус в это время увидел Сакаи и вспомнил, какой ценой был приобретен этот прекрасный, храбрый и опытный шофер.
– Одну минутку, патрон, – перебил он излияние бед и огорчений, – одну минутку. Во всяком случае, необходимо заплатить моему шоферу. Полторы тысячи долларов моему шоферу.
К слову сказать, патрон герра Клауса был в свое время известным и единственным в мире укротителем диких животных. Он мог без страха смотреть в глаза дикого льва, умел вплотную подходить к остервенелому тигру и не боялся когтей и ворчанья ягуара, только что доставленного из лесов Африки. Это был человек со стальными нервами, никогда не бледневший, не дрожавший, не терявший присутствия духа. И герр Клаус был крайне удивлен, когда после его слов о долларах знаменитый укротитель зверей в паническом страхе выпучил глаза и открыл рот, пытаясь выдавить из него хоть слово:
– По… по… как?… Как?.. Вы… сказали?
– Полторы тысячи долларов моему шоферу, – недоумевая, повторил Клаус.
– Полторы. Да, да, сейчас!
Патрон с быстротой кошки сбежал со ступенек лестницы и, подскочив к Сакаи, принялся вертеть его во все стороны:
– Это ему полторы тысячи долларов? – спросил он наконец.
– Ну да ему, и поторопитесь, пожалуйста.
– Поторопиться, да, да, я…
Человек в ночном халате и колпаке опустился на землю, не то рыдая, не то смеясь, его тело подергивалось нервными конвульсиями, а изо рта срывались нечленораздельные звуки. Герр Клаус растерялся.
– Воды! – заорал он как бешеный, обращаясь к дому, – воды!
На его крик выскочила не вполне одетая женщина и, всплеснув руками, набросилась на Клауса:
– О, что вы сделали моему Фрицу! Моему бедному Фрицу!
– Я попросил его заплатить моему шоферу полторы тысячи долларов.
– А… по… поо… по…
У ног Клауса и Сакаи, совершенно растерявшихся от недоумения, корчились в истерике уже две фигуры, одна мужская и одна женская. Фатьма, испуганная и бледная, забилась в уголок сиденья и наблюдала разворачивавшуюся перед ее глазами сцену.
Привлеченный стонами, криками и диким хохотом корчившихся на мостовой людей, подошел шуцман. Он с аккуратностью и педантичностью вынул записную книжку и попросил Клауса изложить ему все обстоятельства дела. Но едва несчастный агент заикнулся о долларах, как шуцман покачнулся, побледнел и замертво растянулся около тротуара. Положение становилось невозможным.
Как раз в эту минуту из-за угла показался мальчишка газетчик. Он бежал, размахивая свежеотпечатанным листком, и орал на всю улицу:
– Доллар стоит три триллиона марок. Доллар стоит…
Герр Клаус понял все. Он взглянул на Сакаи, на лежавшего в обмороке шуцмана, на корчившихся в истерике людей и, опустившись на приступочку автомобиля, залился тихим смехом помешанного.
В конце концов Сакаи больше ничего не оставалось делать. Обратиться в суд он не мог, так как обещание Клауса было только обещанием и ни в каких официальных бумагах не было зафиксировано. Правда, словам своего нанимателя о том, что финансовый кризис скоро пройдет, что мудрое правительство найдет выход из положения, что Пуанкаре не может же слопать всю Германию, – он, Сакаи, не особенно доверял, но сделанное ему предложение принял, в душе даже радуясь тому, что его просто не послали ко всем чертям.
А предложение заключалось в том, что ему и Фатьме, в ожидании конца головокружительного полета марки, предлагали место в зоологическом саду в качестве сторожей при зверях. Оба они, по своей внешности, крайне гармонировали с экзотикой охраняемых животных и патрон Клауса решил не скупиться на обещание хорошего и вполне гарантированного от падения оклада.
Новая их служба была несложной. В определенные часы они занимались уборкой клеток, в другие часы разносили своим поднадзорным запасы несвежей конины, а посреди дня были предоставлены самим себе. Помещение для жилья им отвели тут же при саде, и Сакаи отвечал за проникновение по ночам в сад воров и бродяг. Воровать в саду было, положим, нечего; а что касается бродяг, то Сакаи никогда не отказывал в приюте людям, которым решительно негде провести ночь, и через них скоро завязал связь с рабочей частью города. В результате, он почти каждую ночь исчезал из вверенного его охране сада, оставляя за себя бездомных заместителей, которые вместе с Фатьмой проводили время в своеобразных мимических беседах. Куда исчезал Сакаи, никто не знал, и даже привязавшаяся к нему Фатьма не могла бы пролить свет на его таинственные отлучки.
Он никогда, ни намеком, ни словом не выдавал ей своего секрета, а когда уходил, то не предупреждал никого. Просто он скрывался среди густых деревьев сада и возвращался только к утру, когда львы и тигры приветствовали восход солнца более заунывным, чем грозным рычанием.
Фатьма не спрашивала его о причине его ночных отлучек, хотя, надо сказать по совести, ее большие карие глаза заволакивались туманом слез, когда ее желтолицый приятель исчезал за ветвями вязов. За последнее время она так привыкла к его присутствию, что каждая минута, проведенная без него, казалась ей неполной, ненастоящей, тусклой. Как-то сама собой взаимная ласка стала обычным гостем их маленькой каморки, а от ласки выросло чувство более глубокое и волнующее, чем обычные товарищеские отношения. Фатьма не стеснялась высказывать свои симпатии к Сакаи, причем делала это по-восточному, целуя его руки и садясь у его ног во время минут отдыха. Сакаи смущался, отдергивал свои руки, заставлял ее встать и сесть на стул рядом, но однажды, когда ласки Фатьмы были особенно настойчивы и горячи, он, нагнувшись, взял ее голову своими узкими, тонкими пальцами и поцелуем в губы развязал все узлы.
С той поры ночные отлучки Сакаи стали еще более тяготить девушку.
Если вы подумаете, что в ее маленьком сердце родились подозрения и ревность, то этим вы обнаружите полное непонимание истинного положения вещей. Ревновать Фатьма не могла, подозревать – тоже. Для нее совершенно но существовал мир, лежавший за стеной сада, и она просто не знала, куда уходил Сакаи на ночь. Для нее он исчезал в чаще садовых деревьев, вероятно, имея на это какие-то причины, которые она не понимала, да и не пыталась понять, воспитанная в правилах абсолютного преклонения пред авторитетом мужчины.
Сакаи долго не замечал того огорчения, которое он причиняет ей. Но вскоре после того дня, в который его первый поцелуй обрадовал губы Фатьмы, он почувствовал при возвращении, как горячо и нежно заглядывала она в его глаза, словно желая прочесть в них что-то. Он понял ее и, собрав весь запас знакомых девушке слов и жестов, сказал:
– Я очень скучаю без тебя, Фатьма. Но так надо.
Сакаи сказал – так надо. Больше Фатьма ничего не добивалась. Еще Сакаи сказал, что он скучает. Проникнуть глубже в его ночные тайны, проследить его путь по аллеям и лужайкам сада она не пыталась.
Но авторы этого романа не Фатьма. Они очень любят Сакаи, они с большим уважением относятся к этому японскому пролетарию, но все-таки они ни в коем случае не могут предоставить ему право сохранять от них в тайне свои ночные похождения. Они взяли за него ответственность пред сотнями тысяч читателей и должны знать, где бывает их герой по ночам и почему он оставляет любимую им девушку одну в царстве зверей. Поэтому авторы романа, стараясь быть незамеченными, скрываясь в тени деревьев, крадутся за своим героем, когда он, уверенными шагами хорошо знакомого с местностью человека, направляется вглубь садовой аллеи. Они замечают, что он сворачивает в сторону от главной аллеи и ступает прямо на подстриженный газон, оставляя на нем следы своих ног. Он пересекает обширное пространство травы, темно-голубой в лучах луны, и подходит к высокой решетчатой ограде. Потом, с легкостью кошки, он перемахивает через ограду.
– Ну вот! Как видите, авторы были правы, предприняв слежку. От человека, который лезет через забор, нельзя ждать ничего хорошего. Надо следить до конца.
Авторы менее ловки, чем Сакаи, и когда они, наконец, перебираются по его следам, между ним и ими образуется значительное пространство. Им приходится ускорить шаги и, спотыкаясь о неровности довольно неопрятной площади, они проклинают день и час, когда им пришла в голову затея писать роман. Они чувствуют, что если могли оставлять своих героев на произвол читателя, когда те летали на аэропланах и ездили на автомобилях, то в данном случае это не совсем удобно. Мало ли в какую грязную историю может впутать читателя человек, лазающий через заборы.
Сакаи идет через площадь, то и дело оглядываясь по сторонам, и авторам грозит неприятность быть замеченными. Они стараются избежать этого и минутами просто ползут по земле. Дело облегчается, когда Сакаи достигает окраины города и ступает на тротуар. Теперь остается держаться стен домов, и все сойдет благополучно.
Сакаи быстро минует богатый пригород. Очевидно, он не собирается ограбить владельцев особняков. Он пересекает центральную торговую часть и погружается во мрак рабочих кварталов.
На его пути то и дело попадаются голодные, оборванные люди, которые заняты странным делом. Они, при свете луны, копаются в кучах сора, еще не убранного с мостовых, они шарят на ступеньках подъездов и около ворот и калиток. В большинстве случаев они ничего не находят и со вздохом идут дальше. Иногда они находят шелуху от картошки, или – о счастье, – кусок черствого хлеба, и тогда сейчас же засовывают находку в рот и съедают ее на месте. Некоторые из них останавливают Сакаи и просят его о чем-то. Он беспомощно разводит руками и спешит дальше, все глубже и глубже проникая в сеть грязных, кривых переулков, причудливо таинственных в свете луны.
Наконец он останавливается у ворот одного дома. Несколько раз проходит взад и вперед с невинным видом и насвистывает какую-то песенку. Из окна второго этажа ему отвечают тем же мотивом. Потом он подходит к дверям и стучит несколько раз ритмичным стуком. На стук ему отворяют и мгновенно захлопывают дверь. Сакаи исчезает из поля зрения авторов.
Ну и что дальше? – спросит читатель. Довели до порога, хлопнули дверью и все. А за дверью что? Ведь там-то самое интересное. Как мы проникнем туда? Как? Совершенно свободно! Мы полагаем, что у вас в кармане имеется книжечка, удостоверяющая вашу принадлежность к партии или комсомолу. Ну, конечно, есть. А раз так, то входите смело. Вы в хорошем месте. Сакаи не обманул вашего доверия.
Маленькая, бедно обставленная комната. Керосиновая лампа освещает неприглядную обстановку и несколько человек, склонившихся над столом. На столе во всю его ширину разостлан план, на котором вы увидите и зоологический сад, и площадь, и улицы, по которым вел нас сегодня Сакаи. Самое интересное на этом плане, что некоторые пункты его отмечены пятиконечными красными звездочками, а другие – черной фашистской свастикой. Человек с изможденным, давно не бритым лицом водит карандашом от пункта к пункту, и внимательно слушатели следят за каждым движением, ловят каждое его слово. Сакаи изредка вставляет свои замечания и что-то чертит пальцем около того места, где зеленым пятном отмечен зоосад.
– Слушай, Фридрих, – говорит один. – Ты уверен, что фашисты отступят именно сюда?
– Если они вообще отступят, – а этого, я надеюсь, мы добьемся, то им отступать больше некуда.
– А в эту сторону?
– Вздор! Там линия железной дороги, которая будет в наших руках. Они сообразят это. Им остается один путь, путь к зоосаду. А там…
– А там, – говорит Сакаи, – там они встретят хороший сюрприз.
– Смотрите, Сакаи, вы рискуете очень многим.
– Я? Я не рискую ничем.
– Но как вы выберетесь оттуда?
– А это позвольте от вас скрыть. Это уже будет мой сюрприз вам. Я все обдумал.
Сакаи говорил по-английски. Человек, являвшийся, по-видимому, руководителем собрания, переводил его слова остальным, и те ласково улыбались японцу.
Обсуждение вопроса занимает много времени. Порешив о зоосаде, они переходят к обследованию других частей плана. Видно, что эти люди обсуждают что-то важное, что-то такое, в чем надо быть крайне осторожными и вместе с тем решительными.
– Помните одно, – говорит человек в пенсне. – Мы начнем только после того, как они начнут. Это даст им некоторый выигрыш во времени, но это поможет нам повести за собой массы. Хуже всего то, что нельзя точно рассчитать день и час. От них можно ожидать всяких сюрпризов. Это может случиться и завтра, и через неделю. Мы должны быть готовы в любую минуту.
– В моем районе готовы всегда, – убедительно кинул огромного роста бородач.
– В моем тоже!
– И в моем!
– И в моем!
– Ну что же, если все готовы, то можно быть совершенно спокойными за успех.
– А как в других городах? – спросил кто-то.
– В других? Не везде хорошо. Кое-где положение крайне тяжелое. Вы должны знать, товарищи, что наша победа еще не решает всего. Она решит вопрос для нас и то, может быть, на некоторое время, и этим временем мы должны воспользоваться, чтобы подготовиться к решительной борьбе.
Он говорил много. Он рисовал перспективы революции, он призывал к осторожности и решительности, он давал распоряжения, указания и советы. Сакаи не понимал этой речи, произнесенной на чуждом языке, но он чувствовал ее смысл и вместе со всеми поднялся, чтобы почти шепотом пропеть гимн борьбы, песню революции – Интернационал.
Луна шла к горизонту, в комнате слабо коптела лампа, к голосам немецких рабочих примешивался гортанный голос их японского товарища.
Когда кончили, выходили по одному, через известные промежутки времени; последним вышел Сакаи.
Он полной грудью вдохнул свежий ночной воздух и двинулся знакомой дорогой обратно.
Уже светало, когда он достиг стен сада. За городом, с другой стороны, дымились гиганты-трубы, со станции железной дороги доносились свистки локомотивов. Где-то далеко тарахтела по шоссе телега. В саду – рычаньем, ворчаньем, щебетом и лаем встречали утро животные.
Сакаи уже занес ногу и спускался по решетке в пределы сада, когда от города донеслись до его слуха звуки револьверных выстрелов. Он прижался к решетке и прислушался. Выстрелы стали чаще, к револьверам присоединились винтовки; противно и резко затакал пулемет и, как будто ставя гигантскую точку, – бахнуло одинокое орудие.
Сакаи спрыгнул с решетки и бросился к своему жилищу. Там его встретила бледная, перепуганная Фатьма. Она бросилась ему навстречу и вскрикнула:
– Фатьма страшно! Фатьма страшно! Сакайя умер!
Сакаи крепко сжал ее в своих объятиях и крикнул:
– Сакаи только что начинает жить, Фатьма! Жить! Жить!
Начиная выступление, фашисты были совершенно уверены в своей победе: они старательно готовились к путчу и были вооружены до зубов. Весь городской центр находился в их руках, и ничто не предвещало зловещего исхода. Первые выстрелы подняли их воинственное настроение, а пулемет и орудие поддержавшие слабый огонь винтовок и револьверов, окончательно окрылили черные отряды. По-видимому, дело будет решено в два счета.
Главные силы выступивших ринулись в рабочие кварталы с намерением разгромить коммунистические организации и штабы рабочих сотен и, ринувшись, совершенно неожиданно для себя встретили организованное сопротивление. Они взяли легко две баррикады, слабо защищавшиеся, но бессильно остановились перед третьей, осыпавшей нападавших дождем пулеметного огня. Это внесло в ряды фашистов некоторое смятение. Они пробовали пуститься в обход, но боковые улицы были преграждены не менее сильными заставами, и эту попытку пришлось признать неудавшейся.
Начался медленный, упорный и жестокий уличный бой, бой, с которым не может сравняться никакая атака в открытом поле, тот бой, в котором враги – везде и нигде, тот бой, в котором каждый уступ, каждая крыша, каждый забор становятся важными стратегическими пунктами.
Первоначально рабочие придерживались исключительно оборонительной тактики. Они расчетливо распределяли огонь, предпочитая подпускать противника на расстояние постоянного прицела, чем беспорядочно обстреливать еще далекие колонны. Это внушало фашистам ложное понятие о недостаточности огнестрельных припасов в арсеналах пролетарских сотен и они, в свою очередь, повели дело «на истощение». Заняв позиции на крышах и верхних этажах господствовавших над местностью домов, они оттуда поливали свинцовым дождем защитников баррикад, не причиняя им, однако, серьезных потерь, так как на баррикадах всегда находилось лишь ограниченное количество бойцов. Иногда фашистам это занятие надоедало, и они пробовали произвести новые атаки, но тогда баррикады оживлялись, щетинились остриями штыков, опоясывались лентами огней и показывали хорошо отточенные и крепкие зубы.
Единственно, в чем преимущество было на стороне фашистов, – это в артиллерии. У рабочих не было ни одного орудия, у фашистов было одно, только одно, правда, но все-таки орудие, настоящее, легкое полевое. Пока фашистские отряды находились вплотную у баррикад, это орудие обстреливать баррикады не решалось и ограничивалось пусканием снарядов в воздух на предмет моральной поддержки своих и устрашения противника. Но такое занятие для артиллерии мало подходит и скоро командир батареи, если можно так назвать одно орудие, запросил штаб, когда ему разрешат приступить вплотную к делу.
В штабе посовещались, подумали и решили, что артиллерийская подготовка атаки баррикад может иметь решающее влияние на исход сражения, а поэтому намеренно распорядились, чтобы командиры отрядов отвели подчиненные им части на почтительное расстояние от предположенной к обстрелу местности и послали на батарею ординарца с приказом начинать.
Все, что случилось дальше, было совершенно неожиданно не только для фашистов, но и для рабочих отрядов. Первый же выстрел батареи снес шпиль центрального собора, а второй прямехонько угодил в расположение главных фашистских сил.
Чтобы понять, как это случилось, нам придется вернуться несколько назад.
Спасшись от одних фашистов, Дикки, Женя, Виктор и Бинги все-таки попали в руки других. Им пришлось спланировать в районе, занятом черными бандами, и выдать себя за иностранцев, бегущих из объятых восстанием районов. Все трое сошли за американцев, а Бинги, бедный Бинги должен был на время превратиться в черного лакея. Фашистский генерал, к которому доставили всю компанию, после крайне подробного допроса не усмотрел ничего подозрительного и предложил им свое фашистское гостеприимство. Наши герои пытались уклониться от этой чести и просили дать им возможность двинуться дальше, но генерал ответил, что он ручается за их безопасность только в своем районе и не советует в это тревожное время пытаться пробраться куда бы то ни было.
Посоветовавшись между собой, они решили, что и в самом деле лучше будет остаться на некоторое время на месте и попытаться завязать связи с местными рабочими организациями, после чего сообщили генералу, что не смеют оскорбить его отказом.
В дальнейшем главную роль сыграл Дикки. Когда он сообщил генералу, что он репортер американской прессы, тот положительно обомлел от удовольствия. Его подвиги в борьбе с красными будут расписаны на страницах заокеанской прессы! Кто знает, какую можно сделать на этом карьеру. Ведь Америке тоже нужны специалисты по усмирению всякой сволочи. И Дикки получил неограниченное право присутствовать на всякого рода совещаниях, собраниях и парадах. Он старательно узнавал и записывал все, что хотел показать ему генерал, прибавляя в этому также и то, что генерал рассказывать не собирался, но чего он не умел скрыть от ушей и глаз опытного работника американской прессы. В скором времени, в распоряжении Дикки имелось огромное количество сведений, и он старался придумать способ, каким можно было бы передать их рабочим организациям. Однако такого способа не подворачивалось до того дня, когда, проснувшись утром, Дикки услышал стрельбу на улицах.
– Эге, – сказал он остальным. – Дело началось, придется раскрыть карты.
– Придется просто перебежать на другую сторону баррикад.
– И попасть под пули, направленные тебе в спину?
– А как же иначе? Мы должны принять участие в борьбе и быть на стороне рабочих.
– Мы примем участие в борьбе, но только на стороне фашистов.
– То есть?
– Мы будем стрелять фашистскими снарядами из фашистских орудий.
– И разбивать рабочие отряды?
– Зачем? Разве на войне артиллерия редко лупила по своим частям?
– Значит?..
– Значит, я пойду и оборудую дело. В остальном положитесь на меня.
Положиться на Дикки можно было спокойно. Он отправился в штаб, нашел генерала, заявил ему, что желает дать подробнейшее описание этой битвы и просит у него разрешения, вместе со своими друзьями, из которых один фотограф, другая художница, а третий просто помощник, быть на батарее, которая несомненно займет удобное для наблюдения место.
Генерал согласился со всей генеральской любезностью и просил господина Реда не забыть, что его, генерала, фамилия не Мюллер, а Миллер и что именно он является душой сегодняшнего дельца.
Дикки поклялся, что он никогда этого не забудет, и, получив пропуск на четверых, отправился в сопровождении остальной компании на батарею.
Много ли людей надо к одному орудию? Да еще к легкому полевому. На батарее было всего три человека, включая и командира, которого Дикки сразу очаровал своими артиллерийскими познаниями, приобретенными в прошлую войну. Виктор оказался тоже понимающим в этом деле человеком, и они вдвоем дали пару выстрелов в воздух к великому удовольствию фашистов.
Дальше все шло, как по маслу. Дикки убедил командира, что сидеть ему без дела не годится, что он может сделать себе карьеру при умелой и меткой стрельбе, и вместе с ним пошел в землянку поговорить по телефону со штабом. Делом одной минуты было связать незадачливого артиллериста и крепко заткнуть ему глотку, а при наличии Бинги, совершенным пустяком оказалось справиться с двумя солдатами. А потом…
Потом фашисты дрогнули и в панике побежали. Рабочие отряды преследовали их, недоумевая, кому они обязаны удачной стрельбой по врагам, и скоро овладели всем городом. На батарее, к их величайшему изумлению, развевался красный флаг и четыре совсем не фашистского вида человека распевали Интернационал, приветствуя бойцов.
Раз дрогнув и побежав, фашистские отряды уже не могли остановиться. Рабочие преследовали их по всем улицам и переулкам; огонь единственного орудия громил базарную площадь, место, где можно было бы задержаться и привести себя в порядок. Посланная на линию железной дороги разведка донесла, что там все в руках пролетарских сотен, и штаб черных отрядов отдал распоряжение двигаться к зоологическому саду.
Генерал и его свита рассчитывали, что этот звериный парк, расположенный на естественном возвышении, окруженный солидной решеткой, окажется труднодоступной для противника крепостью. Они полагали, что цепь опытных стрелков, подкрепленная полдюжиной пулеметов, удержит рабочих на почтительном расстоянии, и ординарцы носились по району боевых действий, передавая: всем! всем! всем!
– К зоосаду!
Если жесток и труден уличный бой, то отступление но узким каналам, сжатым двумя рядами домов, поистине ужасно. Приходится бежать от угла до угла, пользуясь каждым подъездом, каждым выступом, чтобы, остановившись на секунду, послать никогда не достигающую цели пулю в преследователей. Град выстрелов, направленных на вас, кажется сильнее и опаснее, чем он есть в действительности, благодаря рикошетам и осколкам штукатурки, сбиваемой пулями. Вы бежите и не знаете, что встретит вас за первым поворотом – свои или чужие? Может быть, вы столкнетесь с такими же, как вы, разбитыми, убегающими людьми и, присоединившись к ним, почувствуете некоторое облегчение, но может быть и так, что успевший совершить обход, противник встретит вас смехом пуль и отрывистым лаем нескольких пар кольтов. Минутами вам кажется, что лучше не торопиться и двигаться как можно спокойнее, через каждые пять-десять шагов останавливаясь и не спеша прицеливаясь с колена. Раза два вам это удастся, но первая же прожужжавшая около вас пуля приводит вас в состояние отчаянной паники и вы, забыв о своем решении, кое-как подхватываете винтовку и летите, как вихрь, спотыкаясь о ступеньки парадных подъездов, поскальзываясь в лужах крови и с размаха налетая на водосточные трубы. Когда вы падаете, то никогда не знаете, сможете или не сможете встать. Порою вам кажется, что вы ранены и, лежа на земле, вы начинаете шарить руками по своему телу, боясь попасть в липкую и теплую струю крови. Порою вы действительно ранены, но совершенно не замечаете этого и несетесь вперед с бессильно повисшей рукой или делаете несколько твердых и уверенных шагов в то время, когда ваша нога уже перебита. Вдруг вы начинаете кричать. Ваш крик тонет в хаосе звуков, но он помогает вам бежать дальше. Иногда вам в голову, неведомо откуда, врезается когда-то слышанный мотив скабрезной песенки, и вы пытаетесь заглушить им поднимающийся внутри ужас.
Если вы знаете, за что вы сражаетесь, если бой – единственный для вас исход, – все это скоро пройдет. Вы подтянете себя, подбодрите своих товарищей, оправите свою амуницию и, смеясь над своим собственным ранением, ринетесь навстречу врагу, чтобы обратить его в бегство.
Но если бой для вас только бойня, не скрепленная никакими сознательными импульсами, если вы не твердо уверены в том, что вам необходимо стрелять, рубить и колоть, если только страх и дисциплина гнали вас в атаку, то паника решает дело. С первым поворотом назад, с первыми минутами бегства, над страхом дисциплины поднимается другой, более сильный страх, страх смерти, и никакой хлыст, никакие пулеметы не остановят вас.
Вот почему Красная Армия, часто совершенно разбитая, разгромленная, сведенная на нет, всегда находила в себе силы остановить отступление и дать отпор врагу, и вот почему войска белых проходимцев, раз сбитые нами с позиции, никогда не имели силы вернуться обратно.
Те, кто в будущей войне придает огромное значение технике, конечно совершенно правы, но те, кто перегибает в этом отношении палку, ошибается. Техника – много, но техника еще не все. За техникой стоит человек, и успешное применение техники на сто процентов зависит от того, не дрожат ли человеческие руки, не колеблется ли человеческое сердце…
Первый выстрел из орудия, обрушившийся на головы фашистских отрядов, решил дело. Он сказал им, что в их ряды вкралась измена и, неуверенные в себе, они видели эту измену всюду. Для них не существовало больше начальств, для них не было приказаний и распоряжений. И если фашистский генерал думал, что его отряды бегут к зоологическому саду потому, что таково его генеральское приказание, то он жестоко ошибался. Они бежали туда потому, что так приказывал им фактический командир и хозяин боя – противник. Выражаясь языком военным – инициатива перешла в руки рабочих.
Действуя по строго выработанному и точно рассчитанному плану, красные сотни так вели свое наступление, что черные, волей-неволей, двигались в направлении казавшейся их штабу неприступной, естественной крепости. Орудие, бившее по площадям и наиболее широким улицам, оставило свободной от обстрела площадь, лежавшую между последними городскими домами и деревьями зоосада. Правда, Дикки долго спорил по этому поводу с явившимися на батарею рабочими, а Виктор что-то ворчал себе под нос по поводу немецкой стратегии, но их новые товарищи только улыбались и говорили:
– Мы знаем, что делаем. Ни один из них не проникнет в зоосад.
Фатьма решительно не понимала, что затеял Сакаи. А между тем, он действовал с уверенным видом человека, отвечающего за свои поступки.
Прежде всего он взял револьвер, тщательно осмотрел и проверил его, потом принес из сарая длинную палку с крюком на конце, потом подозвал Фатьму и велел ей следовать за собой.
В городе дело принимало, по-видимому, серьезный оборот. Выстрелы становились все чаще и беспорядочнее, одинокое орудие через определенные промежутки времени ставило свои адские точки. Где-то горели дома, и дым столбами поднимался к небу.
Сакаи вместе с Фатьмой направился к огромной клетке, служившей тюремной камерой большому и немолодому уже слону и, открыв двери, окликнул животное по имени. Слон, предназначавшийся для катания посетителей сада, привык к Сакаи и, ласково помахивая хоботом, откликнулся на зов. Сакаи заставил его стать на колени, поднял Фатьму на широкую и шершавую спину животного, велел ей держаться за уши слона, вскочил и устроился сам рядом с нею. Умное животное встало и, покачивая своих пассажиров, двинулось на центральную аллею.
Посреди этой аллеи, окруженной клетками с самыми страшными и дикими экземплярами садовой коллекции, Сакаи остановил свой четвероногий экипаж и, обняв крепко прижавшуюся к нему Фатьму, внимательно прислушался к хаосу долетавших со стороны города звуков.
– Дело неважное, – думал он. – Можно и не услышать сигнала.
Но сигнал он все-таки услышал.
Как раз в ту минуту, когда беспорядочные толпы фашистов достигли окраины города, по рядам их преследователей был отдан приказ прервать стрельбу на пять минут. Стрельба стихла сразу, и фашисты были уже на полдороге между городом и садом, когда странную и жуткую тишину прорезал троекратный рев заводской сирены. И эта тишина, и этот таинственный сигнал еще более усилили панику в рядах отступающих. Они напрягли все силы, чтобы ускорить свой бег к решетке сада, казавшейся им спасительным и крепким убежищем.
Этот троекратный рев услышал и Сакаи. Он улыбнулся, приказал слону двинуться вперед и, держа его вплотную около клеток, стал одну за другой открывать тяжелые решетчатые двери. Слон шел рысью, палка с крюком помогала Сакаи доставать и поднимать тяжелые крюки запоров. Удивленные животные жались к стенкам и угрожающе ворчали, не решаясь воспользоваться предоставленной им свободой. Сакаи уже кончил свое странное дело и свернул с главной аллеи в боковую, чтобы открыть по дороге еще несколько дверей, когда лев первым выскочил на свободу.
Он остановился на аллее и с недоумением осмотрелся вокруг. Потом, словно проверяя действительность случившегося, прыгнул и, не ударившись грудью о решетку, торжествующе зарычал, сотрясая воздух. Львица и пара молодых львят последовали его примеру. Тихо и осторожно, играя мускулами, скрытыми под полосатой шкурой, выскользнули из своей тюрьмы тигры. Черная пантера в один прыжок очутилась на другой стороне аллеи. Ловкий и гибкий ягуар, как кошка, вскарабкался на дерево. Гиена пробежала, держась в стороне и обнюхивая землю. Белый медведь поднялся на задние лапы и потряс головой, подзывая свою, еще не решавшуюся выйти на волю, самку. Долгим и протяжным воем встретили освобождение волки. Носорог шел, тупо уставясь в землю и заставляя всех сворачивать со своего пути. Мелькнула желтой стрелой и скрылась в листве рысь, мягкими шагами крались леопарды. Пронеслись, ломая деревья и топча газоны, буйволы, а за ними, страшные и злобные, с хрюканьем последовали дикие кабаны. Не выпущенная на волю мелюзга подняла в своих клетках отчаянный визг, писк и клекот. Орлы бились грудью о решетчатый потолок, гиббоны, надувая защечные мешки, играли на них, как на барабанах.
Сакаи торопил своего толстокожего коня и направлял его вглубь сада к маленькой, ему одному известной калитке.
Со стороны города четкие и меткие, жгучие, как удары длинного бича, хлестнули по отступающим несколько ровных залпов. Пулеметы свинцовой струей торопили их добраться до садовой решетки. Первые толпы бегущих уже были в нескольких шагах от нее, и еще через пару минут ворота сада затрещали под напором человеческих тел.
И вдруг ряды пытавшихся проникнуть во внутрь сада отхлынули с криком ужаса. Задние не понимали, в чем дело, и напирали на передних, передние поворачивались и оружием прокладывали себе обратный путь. От города свинцовой струей неслась смерть. Со стороны сада леденящим кровь концертом доносились рычанье и мяуканье вой, лай и клекот.
Раз выпущенные на свободу звери не могли понять, что за новое препятствие отнимает от них эту свободу. Они пытались перепрыгнуть через ограду, но она была слишком высока и притом усажена остриями. При первой же попытке прыжка ягуар до крови разодрал лапу. Он упал на землю и с яростным визгом кинулся на вторичный приступ. Остальные последовали его примеру. Лев прыгал и повисал на решетке, цепляясь за нее зубами и когтями; тигры, как мячики, ударялись о железные прутья, отскакивали и наскакивали снова. Медведь, блестя злыми глазами, как руками, тряс препятствие лапами, носорог упорно и настойчиво долбил рогом фундамент. Люди, бившиеся о решетку с другой стороны, еще больше разъярили зверей, и те усилили свои старания разрушить преграду.
Фашистов объял ужас. Какой-то липкий, холодный страх пронизывал их, парализовал их голосовые связки, сковывал движения. Они перестали кричать, перестали рваться и биться. Они опустились на землю, закрывая глаза руками, поднимая руки с мольбой о пощаде, бросая оружие. Кто-то не потерявший окончательно рассудка, догадался привязать к своему штыку платок и поднять его над головой. Его примеру последовали другие и через несколько минут рабочие там, на окраине города, прекратили огонь.
С винтовками наготове, мерными, спокойными шагами, шли рабочие сотни к сдающимся, обессиленным и испуганным врагам.
Дикки, Бинги, Виктор и Женя, вооруженные револьверами, двигались в первом ряду и с удивлением прислушивались к звериному концерту, несшемуся ям навстречу.
– Это талантливо, – сказал наконец Дикки.
– Вам будет о чем писать в ваши газеты.
– О, я никогда в жизни не имел столько тем. Более неожиданного и сильного зрелища мне не придется, вероятно, увидеть.
Но он ошибался. Ему пришлось увидеть нечто совершенно необычайное, неожиданное и яркое. Ему пришлось увидеть огромного слона, шагавшего через ползавших у его ног фашистских солдат, слона, в хоботе которого была палка с привязанным к ней красным клочком материи. Ряды рабочих на мгновение остановились, пораженные этим зрелищем, потом кто-то крикнул – «ура!», кто-то запел Интернационал, а еще через мгновение, когда слон приблизился к рядам победителей, два человека с радостными криками бросились ему навстречу.
А. А. А. Е.
– Сакли! – орал как бешеный Дикки.
– Фатьма! – сжимала в своих руках потерянную подругу Женя.
Они собрались все вместе в последний раз. Они собрались по двум причинам. Во-первых, потому, что завтра некоторые из них должны были вернуться к себе на родину для новой работы, а во-вторых, потому, что Женя навсегда закрепила за собой имя Джесси Ред, а маленькая жена Налинакши стала Фатьмой Сакаи.
Они собрались все вместе.
На самоваре настоял Дикки. Он обязательно должен был видеть, как действует эта машина, и с уважением следил за Женей, наливавшей воду и насыпавшей уголья.
– Мы должны завтра перед отъездом купить такую штуку, – сказал он.
Женя улыбнулась и запачканной в угле рукой погладила его по щеке.
– Вот и у тебя черная кожа, – резюмировал Бинги.
Фокс тоже интересовался самоваром, от которого он за время своих скитаний отвык. Он быстро, однако, восстановил свои утраченные познания и вспомнил, что полированная поверхность этого пыхтящего зверя может причинить большие неприятности. Сакаи сравнивал самовар с действующим вулканом, а Фатьма спрашивала, нельзя ли из него курить, как курят кальян. В общем, все нашли, что это самая интересная штука, которую они видели за время своих странствований.
Когда самовар был готов, его с торжеством водрузили на круглом столике, и все шестеро заняли места вокруг весело кипевшей машины. Долго сидели молча. Каждый из них вспоминал все происшедшее за эти долгие месяцы, и Дикки первым прервал молчание:
– Я напишу большой роман, – сказал он. – Я расскажу в этом романе о наших приключениях. Я назову его…
Названия он никак, однако, придумать не мог. Остальные ему помогали, но дело не клеилось. Решили отложить название до тех пор, пока роман не будет написан.
Потом говорили, говорили по очереди и все сразу, старались высказать, как не хочется им расставаться друг с другом на долгие месяцы, а, может быть, и годы.
– Когда негры будут свободны, мы все съедемся в моей деревне, – приглашал Бинги.
– Советская Япония встретит вас с распростертыми объятиями, – уверил Сакаи.
– В Америке, сбросившей капиталистов, вы найдете прекрасный прием, – добавил Дикки.
– Когда все одна жена, – краснея, вставила Фатьма, – я дам вам много рахат-лукума Афганистан.
Все рассмеялись, совсем смутив девушку.
– Ничего, – сказал Сакаи. – Скоро она будет думать не только о рахат-лукуме.
Потом вспомнили и о Фоксе. Ему сунули под стол пирожное, и он перепачкав свою морду в сладком креме, сидел, свесив одно ухо, довольный собой и своими хозяевами.
Последнее слово было предоставлено Виктору. Он встал, серьезный и взволнованный.
– Если ты, Дикки, напишешь свою книгу, тебя спросят – в чем ее смысл? Зачем понадобилось тебе рассказывать о длинной серии мало связанных друг с другом приключений и событий? Критики будут искать в твоем романе основную идею и, не найдя, станут ругать тебя. Ты им сумеешь ответить, Дикки! Ты им сумеешь ответить! Есть основная идея, скажешь ты им, есть! И вот в чем она заключается. Шесть человек, разных по национальности, были брошены в водоворот приключений. Шесть человек исколесили весь земной шар, сталкиваясь со всевозможными опасностями. И эти шесть человек спаслись и невредимыми достигли Красной столицы Советской России. Почему? Только потому, что в каждой стране, в каждой опасности они находили поддержку у людей, связанных с ними общей ненавистью в угнетателям и общей любовью к далекой стране рабочих и крестьян. Только это помогло нам пройти свой ужасный путь, только это объединило, спаяло и спасло нас, нас, людей Азии, Африки, Америки, Европы.
– Знаю, – вскочил Дикки. – Знаю. А. А. А. Е.!
– Что? – вытаращили на него глаза остальные.
– А. А. А. Е. Мой роман будет называться А. А. А. Е.
– Почему? Что за странное название?
– Почему? Потому что Азия, Африка, Америка, Европа. Понятно?
Приложение
Ипполит и Виктор Кин. Литературный бульвар
– Эх, ты, – сказал Селифан, – да это и есть направо. Не знаешь, где право, где лево!
Мать, уходя из дому, сказала детям:
– Не играйте, дети, со спичками, не дергайте кошку за хвост и, ради Бога, не засовывайте в нос бобов…
Едва мать закрыла дверь, как любознательные дети принялись за развлечения. Спички и кошка были избитыми удовольствиями. Но предостережение матери о бобах возбудило их интерес. И когда мать вернулась, она нашла детей плачущими, – огорченные дети без успеха пытались вытащить друг у друга торчащие из носу бобы.
При беглом взгляде на комсомольскую литературу приходит на память эта поучительная история с бобами. Всюду – на съездах, в печати, в тезисах – мы отечески предупреждаем, боремся, порицаем ложную приключенщину, подаваемую под соусом красной романтики. Не щадя сильных слов, мы клеймим этот сорт литературы, как желтый, нездоровый вывих. И все-таки наши издательства непременно дарят нас все новыми и новыми перлами насквозь желтой, невыносимо бульварной приключенщины.
Нэп возродил к жизни бульварных фланеров, маменькиных сынков, создал советизированных хлыщей, которые ищут применение своей активности. В полуторамиллионный комсомол вкрапилась, тем или другим путем пройдя все рогатки приема, узкая прослойка этого чуждого элемента. Эта публика ищет свою литературу и находит ее. Это она создает спрос на ложную романтику. Мутный поток бульварщины широк и глубок.
Объективный смысл этой литературы заключается в том, чтобы отвлечь мысль и внимание от будничной советской действительности. Бульварному фланеру душно в суровой героике наших дней. Комсомольский значок для него не более, чем незначительная подробность костюма. Подмена подлинной, революционной деятельности дешевой шумихой, вздорной авантюрой, извращение обстановки и перспективы – вот в чем основной вред этой литературы.
На войне – по-военному. Лучше переоценить опасность, чем недооценить ее. Мы боремся с самогоном, с кокаином, даже с табаком. Тем более мы не можем пройти мимо этой литературы, отравляющей сознание молодежи. В советской стране начинают злоупотреблять свободой печати. Пора решительно топнуть ногой на незваных гостей.
– Довольно!
Побаловались…
Исключительным примером обнаженно-бульварной литературы является роман «АААЕ», принадлежащий перу А. Иркутова и В. Веревкина. Этот роман оставляет далеко позади все вышедшие до сих пор литературные произведения этого жанра.
Судите сами. Что является характерным для бульварного романа?
Прежде всего – сюжет. От него требуется безумная, безудержная авантюра, ошеломляющий трюк, море крови и… свадьба на последней странице.
Авторам оказалось мало револьверных выстрелов и холодного оружия, – в романе мобилизованы самум, шторм, землетрясение, небесные хляби и прочие безответственные явления природы. Роман влачит своих героев по Азии, Африке, Америке и Европе (Австралия несправедливо обойдена вниманием). Авантюра ведет нас из советского полпредства в гарем восточного человека, где московская комсомолка попутно пробуждает женщин востока: сто пятнадцать женщин секут евнухов и слуг, устраивают ради развлечения читателя потоп в доме сластолюбца и т. д. Полем революционной борьбы служат, кроме гарема, башня молчания, джунгли, город прокаженных, зоологический сад и даже дорожные чемоданы…
Бульварный роман всегда искал себе героев в определенной среде: принцев крови, князей, графов, самое меньшее, баронетов.
Конечно, графы и принцы крови у нас выведены из употребления. Авторы «АААЕ» остроумно заменили их советскими полпредами, ответственными партийными и комсомольскими работниками.
Впрочем, «высший свет» также допущен к участию, хотя на отрицательных ролях. Среди злодеев вы встретите принца Уэльского, сына лорда Сесиля, главного колдуна Нью-Йорка и т. д.
Авторы, вероятно, убеждены, что в «АААЕ» они подарили читающему миру полезную, коммунистически выдержанную книгу. Выдержанности, разумеется, нет ни на грош, зато благонамеренность авторов режет глаз. Сверх меры и разума усердные авторы не только снабдили капиталистов всеми смертными грехами, но даже не пощадили их внешности.
Вот, для первого знакомства, Боб Роджерс. Он – плантатор и эксплуатирует бедных негров. Само собой… «Он был кривым. На его толстом, лоснящемся от жира, вечно нечисто выбритом лице ворочался один-единственный глаз» (стр. 37). «Волосы были жесткие и почему-то не росли. На затылке местами сверкала плешь. Лоб был низкий. Густые, сросшиеся брови и один глаз» (стр. 52). Мало одного глаза – «и тот желтый. Белки глаза испещрены тоненькими жилками. Лицо бледное, с желтым оттенком. Пористая кожа и широкие, в минуты злобы свисающие губы» (стр. 52). «Его лицо и в спокойном состоянии не производило приятного впечатления», а «в припадке злобы все это делалось хуже. Лицо багровело, в углах рта показывалась пена. А единственный глаз наполнялся кровью»… (стр. 52). Не ограничиваясь столь отталкивающей внешностью, авторы через несколько страниц снова возвращаются к ней, чтобы лишить эксплуататора последнего достояния человека – рук. «Самым неприятным были его ненормально длинные руки, которые заканчивались (приятная неожиданность!) узловатыми пальцами с почерневшими ногтями».
Читатель после этого вполне подготовлен узнать, что любимые занятия «кривого черта» – избиение негров и насилия над женщинами.
Не уступают «кривому черту» и другие, самые хотя и незначительные негодяи. Появляющиеся на один момент перед читателями Санди, Рагор и Миндра выглядят так: «На лице каждого, словно на пластинке фотоаппарата, запечатлелись все человеческие пороки. У Санди не было одного глаза и половины левой щеки, причем уцелевшие части лица были покрыты какими-то темно-лиловыми нарывами, местами переходившими в желто-синие язвы. Волосы рыжие и какие-то бесцветные росли пучками». А нос, пугают авторы, «раздулся огромной картошкой, испещренной синеватыми жилками. Рагор отличался полным отсутствием лба и провалившимся в пропасть греха и разврата носом, а Мандра имел на своем лице столько шрамов, что совершенно нельзя было определить, чем он видит, говорит и ест».
Зато какова внешность коммунистов!
Взгляните, например, на Дикки Реда, американского коммуниста. У него – «волосы каштановые, откинутые назад; плотный румянец на загорелых щеках. Темные брови и глаза – серые, прекрасные глаза» (стр. 96).
Или героиня – Женя. У ней глаза «синие, темно-синие», «золотые волосы», «смуглая мордочка». Колено Женино и то – «смуглое, нежное, круглое» (стр. 220).
Свою любезность авторы распространяют на всех друзей и родственников героев. В одном эпизоде мелькнула Редова сестра, мимоходом, на четырех страницах. Авторы не упустили случая проявить свою галантность и сделали из американской комсомолки даму приятную во всех отношениях. Дали ей «прекрасный румянец, алые губы, под глазами естественная темнота кожи, брови почти черные, а щеки такие свежие и упругие» (стр. 103). «Глаза большие, глубокие, серые, такие же, как у него (Дикки), но куда лучше». Другие женщины «делают что-то со своими ресницами и становятся похожими на больную кошку, у которой слезятся глаза. У Жени густые, длинные ресницы».
В нашей литературе немало ляпсусов. В прошлом очерке нам приходилось говорить, что комсомольская литература списывает своих героев с плаката. Но никто никогда, кажется, не доходил до такой отвратительной пошлости, чтобы срисовывать героев с помадных банок и конфетных оберток, – в этом пальма первенства принадлежит, по справедливости, «АААЕ».
Благонамеренность авторов сквозит не только во внешности, но и переносится на флору, фауну и даже неодушевленный мир. Так, фашисты привязывают знакомого нам Дикки Реда к полотну железной дороги. Но симпатизирующий, очевидно, компартии паровоз лояльно свертывает на другой путь, не забыв пережечь искрами веревки, и Дикки спасен. Когда немолодой, но порочный тигр (инспирированный, надо думать, Антантой) прыгает на бесчувственную Женю, благонамеренные авторы направляют верного негра Бингу на аэроплане, и тигр убит. Зато другой тигр, противоположной ориентации, с успехом поедает вооруженного до зубов французского офицера.
Всего не перескажешь. Кто не верит, пусть читает сам.
Чем дальше в лес, тем больше дров.
Наряду с конфетными героями авторы уверенной рукой рисуют картины колониального, американского, гаремного, полпредского и всякого другого быта.
На стр. 12 внимательный читатель узнает, что «быть полпредом в Афганистане – это далеко не синекура». Очевидно, авторы полагают, что «быть полпредом» в остальных пунктах земного шара – явная синекура? «Отдыхать там вряд ли придется», – продолжают авторы. Конечно, это не Лондон, не Париж – там, вероятно, сплошной дом отдыха полпредов.
При первой встрече читатель застает афганистанского полпреда «товарища Арахана» (?!) в неприятном положении. Через два часа полпред Арахан должен выехать из Москвы «по месту своей службы», а пока что «мечется по комнате».
Но только на «месте службы» авторы развертывают свое знание полпредской жизни.
«У полпреда много неприятных и скучных обязанностей. Но из них самая неприятная – это обязанность принимать важных и нужных людей», «ни на одну минуту не надо забывать об обязанностях хозяина и старательно угощать гостей, нарочно с пустыми желудками приезжающих на такого рода вечера».
Арахан «встречал гостей в дверях парадного зала… отвешивал глубокие поклоны восточным гостям, крепко жал руки европейцам» и, радея, очевидно, о советских хлебах, «с тоской подсчитывал, сколько еще приглашенных должно пройти мимо него» (63–64).
Больше о работе полпредов ни слова.
Так рисовать занятия советского полпредства не позволит себе даже бульварная печать. Неумная попытка авторов оставляет самое неприятное впечатление. Пользу она может принести только белой агитации.
Известно, с какой жадностью хватается наша молодежь за всякую книгу, ведущую речь о героической работе зарубежных коммунистических организаций. Конечно, наши авторы спекульнули и на этом выигрышном моменте.
Здесь их постоянная развязанность переходит все границы. Они приложили руку к коммунистической рабочей газете Америки:
Каждый (ей-Богу!) репортер имеет автомобиль. Редакция имеет собственный большой семиэтажный дом. На крыше – два ангара со стальными самолетами и самолетами системы Райт, последние специально для репортеров. Двери редакции оборудованы по последнему слову большевистской техники, – опутаны плотной сетью электрических проводов, которыми в случае налета полиции можно в любом месте произвести частичный взрыв и т. д.
Откуда выдуманы «стальные самолеты», электрифицированные двери, когда наших товарищей привлекают к суду за употребление на сцене бутафорского оружия? Кто дал авторам право, кроме гонорарной ведомости, на такое чудовищное извращение действительности?
Авторы знакомы не только с правами заграничных советских работников. С такой же легкостью они преподносят читателю незаменимые с точки зрения исторического материализма сведения по отдельным странам и национальностям. Сославшись на географию Иванова, авторы с завидной эрудицией пишут историю Индии:
«В древние времена она (Индия, сиречь) населялась дравидами, черной породой людей, потом пришли какие-то нахалы, назвались (?) индусами и парсами и выселили черную породу на острова.
Парсы кланялись по-мусульмански, индусы завели (?) Браму, Вишну и Сиву и вообще (?) считали (?) себя буддистами.
Любимым занятием у них было поклонение крокодилам, крокодильчикам, коровам и телятам. Крокодильчики их ели, у коров они пили молоко. Потом (?) болели всеми болезнями и купались в Ганге.
Образовали сотни каст: что ни профессия, то каста, – порицают авторы индусов, – на черную работу создали отверженных созданий, париев и радовались. Радовались до того момента, пока любопытные европейцы не пришли и не расчесали затылки пулями, огнем и вообще (?).
Так Индия оказалась во власти англичан» (стр. 194–195).
Каких-нибудь 15 строк – и все сказано! Находятся же после этого чудаки, посвящающие томы изучению захвата Индии англичанами.
Попутно роман обогащает читателя полезными сведениями о восточном гареме. «На Востоке как-то сразу из девочки-ребенка вырастает женщина… раскрывающаяся (?) для любви и страсти… Едва почувствует она первое набухание груди, едва ее одежды первый раз окрасятся каплями крови, алыми вестниками зрелости»… и т. д. и т. п.
Ну, довольно! Хорошего понемногу!
Даже наша в общем снисходительная и добродушная критика была возмущена. Старейший из толстых советских журналов отметил две-три грамматические ошибки и пришел к выводу, что роман, кроме того, пошл и бездарен.
Если бы только пошл и бездарен!..
«Бывают, – говорил в свое время Писарев, – бездарности тихие, скромные, почти приятные по своей безобидности; но бывают и другие бездарности: лютые, буйные, изъявляющие притязания на смелость мысли, пылкость чувств, на ширину умственного развития, на свежесть и едкость юмора и на разные другие хорошие вещи, которые навсегда остаются для них недоступными».
«АААЕ» принадлежит ко второму роду бездарностей.
В обращении ко «всем», напечатанном на специальном листке, А. Иркутов и В. Веревкин с присущей им скромностью заявляют:
«Все недостатки романа авторам известны.
Пишите и говорите о том, что в романе хорошо».
Извольте. Хорошо в романе одно и только одно, то, что он собрал в себе, как в фокусе, всю пошлость, всю безграмотность и безвкусие бульварной романтики. «АААЕ» – прейскурант бульварщины.
Подобные книги вызывают досадное, тяжелое недоумение.
Мы знаем, с каким трудом дается нам политическое, особенно интернациональное, просвещение рабочего подростка. И тут же сбоку врывается насквозь желтая книга и, захлебываясь, лжет о революции, превращая суровую борьбу рабочего класса в нелепый фарс.
В одном месте авторы призывают читателя выйти после трудового дня «на бульвар» и подставить голову «южному ветру». Авторы с воодушевлением описывают преимущества «южного ветра», идущего из Африки, несущего к нам таинственные звуки негритянских тамтамов, лай гиен и рычание тигров.
Разумеется, для завсегдатаев бульварной романтики, в голове которых свободно гуляет «южный ветер», звуки тамтамов и лай гиен являются своего рода литературной программой. Они не видят подлинной реальной романтики нашего советского быта.
А между тем, сколько героических, захватывающих страниц раскрывает перед нами ежедневно серый газетный лист! Какими жалкими, дешевыми трюками кажутся нам похождения опереточных коммунистов из «АААЕ» в сравнении с суровым мощным героизмом нашего времени!
Нас не удивишь рычанием тигров, когда на нас вот уже 8 лет рычит буржуазия всего земного шара.
Мы не преувеличим, если скажем, что настоящей, революционной, романтической литературы у нас нет. Наши будущие авторы сейчас еще растут где-то по заводам и селам. Их место не по праву занимают развязные, неряшливые разбойники пера. И когда они, наши, нужные нам авторы, придут в литературу, они дадут подлинную, правдивую романтику советского героя, который, рискуя головой, под угрозой обреза, строит социализм в нашей стране.
Может быть, у нашего героя и не будет «каштановых, откинутых назад волос», «плотного румянца» и «серых прекрасных глаз». Возможно, что незаметная, будничная советская героиня не порадует Иркутова и Веревкина «темно-синими глазами» и «смуглыми, нежными, круглыми коленями». У одного из таких героев, у рабкора Григорьева, волосы отодрали вместе с кожей озверевшие бандиты. Для бульварной литературы, которая высоко ценит прическу героев, это будет большим разочарованием, но – что поделаешь!
Нам нужна полнокровная, реалистическая, правдивая романтика, отражающая трагизм и пафос нашей борьбы. Молодежь должна оттачивать свой гнев к эксплуататорам, свою готовность к бою на мощном граните рабочей революции, а не на рыхлом песке бульварщины.
1925 г.
Об авторах
Андрей Дмитриевич Иркутов (наст. фамилия Каррик, 1897–1937) – журналист, прозаик, драматург, поэт. Родился в Эдинбурге (Шотландия). Очевидно, внук одного из пионеров фотографии в России, шотландца В. Каррика. Окончил юридический факультет. Участник Первой мировой войны. В гражданскую войну был в рядах 1-й Конной Армии. Упоминается в одесском дневнике В. Муромцевой-Буниной в записи от 12 апреля 1919: «Группа молодых поэтов и писателей, Катаев, Иркутов, с острым лицом и преступным видом, Олеша, Багрицкий и прочие держали себя последними подлецами, кричали, что они готовы умереть за советскую платформу, что нужно профильтровать собрание, заткнуть рты буржуазным, обветшалым писателям. Держали себя они нагло, цинично и, сделав скандал, ушли. Волошин побежал за ними и долго объяснялся с ними. Говорят, подоплека этого такова: во-первых, боязнь за собственную шкуру, так как почти все они были добровольцами, а во-вторых, им кто-то дал денег на альманах, и они боятся, что им мало перепадет…»
Впоследствии А. Иркутов жил в Москве, принимал активное активное участие в деятельности общества «Безбожник», в организации пионерской работы и детского физкультурного движения, печатался в газетах.
Опубликовал около 60-и книг, в числе которых – детские и «взрослые» пьесы, стихи для детей, приключенческие произведения (сб. «Его отец», 1925, «Рассказы товарища Джонса», 1925 и др.), ряд фантастических рассказов («Коммунизатор мистера Хэдда», «Бессмертие», «Исход боя решается» и др.), роман «Тайна двадцать третьего» (1925). Практически все произведения А. Иркутова отличались неприкрыто агитационной направленностью.
В январе 1931 г. А. Иркутов опубликовал в «Литературной газете» программную статью «Нужен ли детский писатель?», в которой призывал будущих детских писателей к «огромной специализации и сознательному закреплению себя за детской литературой».
26 марта 1938 г. А. Иркутов был арестован по обвинению в шпионаже, 17 сентября 1938 г. приговорен к смертной казни Военной коллегией Верховного суда СССР и в тот же день расстрелян под Москвой. Реабилитирован в 1957 г.
Владимир Всеволодович Веревкин (1904–1938) – журналист, прозаик. Родился в Москве. Окончил реальное училище. Учился в институте журналистики. Много путешествовал, плавал матросом на советских торговых судах.
Автор приключенческих рассказов, повестей и романов: «Молодцы из Генуи» (1925), позднее как первая часть романа «Красное знамя победит» (1925), «Алданские шерифы» (1926), «Большой каботаж: Вокруг Азии летом 1925 года» (1926), «На своих на двоих» (1927) и др.
Отличался любовью к всевозможным авантюрам:
«Да, это была привычная комсомольцам любимая их газета. Очевидно, только что пришедшая на Волховстройку „Комсомольская правда“ от 31 июля 1926 года. <…> Среди других сообщений о новостях у нас в стране и во всем мире была напечатана вот эта самая, как бы обыкновенная заметка:
Нашумевший по всему миру план полета на Луну в ракете, очевидно, близок к осуществлению. Строитель ракеты американец Годдард собирается вылететь на Луну 10 августа. В Нью-Йорке нашлось желающих полететь на Луну 62 человека, тогда как ракета берет всего лишь 11. Наш советский писатель В. Веревкин, автор романа „АААЕ“, желает лететь на Луну в качестве представителя СССР. Сейчас он ведет через Всесоюзное общество культурной связи переговоры с Америкой по этому вопросу. Намерение В. Веревкина поддерживается Высшим советом физической культуры.
<…> Лиза даже видела где-то фотографию этого писателя – В. Веревкина. Красивый парень в клетчатой рубахе и галстук бабочкой» (Разгон Л. Шестая станция. М., 1971).
Сохранились также воспоминания Н. Богданова:
«Привел его <А. Некрасова> в редакцию неутомимый искатель новых авторов для своих любимых журналов «Мир приключений» и «Борьба миров» Владимир Веревкин, друг детства, товарищ странствий, правда не таких далеких. Володя увлекался нашим Дальним Востоком.
Искатели «женьшеня», контрабандисты, хищники-старатели, моющие золотишко в дебрях Уссурийского края и переехавшие с ним границу, беглецы из лепрозория. Тунгусский метеорит. Русская Америка, Аляска. Командоры, айны, алеуты.
Однажды он явился в редакцию с девицей, так закутанной в пушистые меха, что мы разглядели лишь ее крошечный носик, и уверял, что это знаменитая красавица эскимоска, из-за которой воюют два племени, живущих на разных берегах Берингова пролива.
И представил как жену…
А вскоре красавица-эскимоска исчезла, отбыв на остров Врангеля разводить завезенных туда легендарных овцебыков.
Через некоторое время исчез и Володя Веревкин, умыкнувший ее у двух враждующих родов.
Долго его не было. Это встревожило нас. И особенно Андрея Некрасова. Неугомонный Топс, грозный китобой Пляши-нога, хромой морской волк угомонился. И теперь в его друзьях были не топители кораблей, не бичкоммеры, а писатели – Пришвин, Паустовский, Арсеньев и друг-наставник Житков.
Ручищи, шуровавшие уголь в топках, направлявшие гарпунную пушку, потянуло к перу, перо – к бумаге. Времена «травли» с подоконника прошли, стал скуп на слова…
И скупо вымолвил, собираясь в дорогу:
– На остров Врангеля… Там эти, овцебыки… Удивительные, живут, размножаются среди снегов… Им ничего не страшно, лишь бы не было волков. Овцы, хоть и быки.
Так он уехал искать следы затерявшегося друга детства Володи Веревкина, приобщившего его к литературному братству. Возможно, он уже знал нечто такое, чего лучше бы и не знать.
Не помню, весна это была или осень, но явился наш Топс по-осеннему хмурый. И не взобрался ни на подоконник, ни на край стола, а уселся в редакционное кресло секретаря «Смены». Мы к нему по старой привычке, где да что, да как там быки на острове Врангеля. И все ждем про их хранительницу, красавицу эскимоску, и ее рыцаря Володю. А он: «К черту овцебыков и остров Врангеля, я только что от людоедов».
– Ой, опять треп, какие людоеды?
– Веселые, в ватниках и посмеиваются. «Вышка» им не грозит. Границу перейти не успели. В заспинных мешках, кроме вяленого мяса, трута и огнива, ничего – ни песку, ни самородков. А за то, что съели, оголодав в тайге, прихваченную из тюряги «корову», много не получат. Ведь это тоже был убежавший с ними уголовник.
Мы уже знали об этом страшном обычае уголовного мира и не удивились, что к своей коллекции удивительных приключений неугомонный Топс приобщил еще одно.
– Ну, а эта… красавица эскимоска и Володя?
– Они не знали, кого ели… Желая проникнуть в их подлый мир, Володя «заделался» в тюрьму под чужой фамилией. Меня вызвали для опознания. Из беседы с ними я убедился – округлое лицо, улыбчивый, полненький… знали, кого выбирали.
– И это им сойдет?
– Сойдет, нет доказательств убийства. Мог умереть просто как непривычный к лишениям… Ну, а воспользоваться трупом, чтобы не сдохнуть от голода самим, – закон тайги. – Топс замолчал, замолкли и мы…» (Богданов Н. С кого списан Врунгель, или Необычайные похождения Топса, по прозвищу Пляши-нога // Детская литература. 1989. № 12).
Роман «А. А. А. Е.» публикуется по первоизданию: Иркутов А., Веревкин В. А. А. А. Е.: Роман приключений. М.: Мосполиграф, 1924. Рецензия Ипполита (И. К. Ситковского) и В. Кина публикуется по изд.: Писатели комсомола: Сб. статей А. В. Луначарского, Д. Ханина, Ипполита и В. Кина. М.-Л.: Молодая гвардия, 1928. В текстах исправлены очевидные опечатки и ряд устаревших особенностей орфографии и пунктуации.
Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т. п.
Примечания
(1) Божества (Прим. авт.).
(2) Авторы убедительно просят не считать это сравнение иронией.
(3) В. Шкловский. Пробег Герра Клауса. Изд. «Без вех». Берлин, 1924 г. Стр. 375. Тираж 100000 экз.
